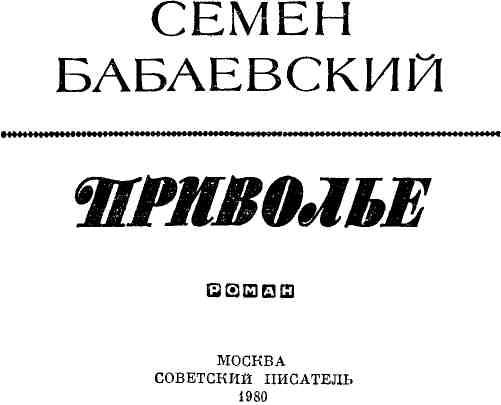Приволье


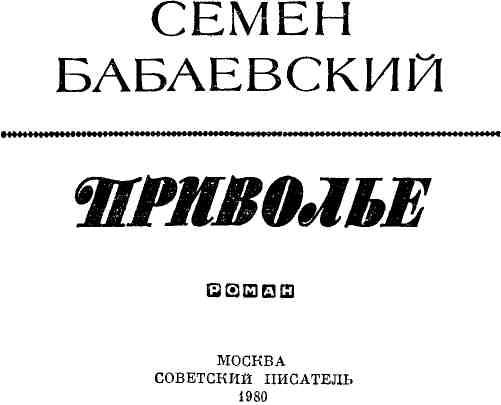
Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась…
А. В. Кольцов
Книга первая
ХУТОР В СТЕПИ
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
А. С. Пушкин

Часть первая
1
Стелется равнина, лежит просторно, свободно, открытая настежь всем ветрам. Раньше она славилась сенокосными угодьями, выпасами да вольным житьем овечьих отар. По весне и летом тут буйствовали такие травы, полыхало такое разноцветье, что когда проходила косилка, то следом за ней расстилалась точно бы уже и не трава, а ковер из цветов. Давно не стало в этих местах ни трав, ни цветов, вдоль и поперек погуляли плуги, и теперь во все стороны — глазом не окинуть! — стояла, колос в колос, пшеница. Только кое-где, на загривке огреха или на пригорке ранним июньским утром поднимался, как чудо, полевой мак, удивительно красный, похожий на затерявшийся в пшеничном царстве одинокий огонек, или на кургане подставляла ветру свои белые кудри ковыль-трава. Цепко держалась полынь, не умирала, сизым дымком курилась то близ дороги, то на выгоне возле села или хутора. Полукустарник из семейства многоцветных имел сильный запах и горький вкус, и степняки, знавшие толк в полыни, называли ее ласково то полынок мой светлочубый, то полыночка моя сизоокая, то быльник пахучий, то чернобыльник — всем травам дружок. Чабаны легко различали сорта полыни и по запаху и на глаз. Посмотрит степной житель, поведет носом, раздвигая ноздри, и безошибочно скажет: это полынь простая, у нее запах легкий, а эта — не простая, и пахнет она ровно и свежо, а вот та, что кустится на взгорке, — глистик, спаситель ото всех недугов; а вот это — святое божье деревце, рядом с ним — черная нехворощь. А вот как называют полынь ставропольские чабаны: и полёнёк, и степная чалига, и полынное курево — это в пору ее цветения. В народе немало сложено о ней поговорок: «Не я полынь-траву садила, сама, проклятая, уродилась», «Полынь после меду горше самой себя», «Чужая жена — лебедушка, а своя — горше полыни».
У моей бабушки — Прасковьи Анисимовны, первой чабанки на Ставрополье, с полынью связана давняя дружба. «Мишуха, внучек мой, та травка, шо дымком стелется по хуторской толоке, дюже пользительная для человека, — говорила она. — Полынь — растение от самого господа бога, и куда ее ни сунь, повсюду от нее имеется пользительность. Она и от блох годится — мрут, окаянные, от одного ее духа, и от комаров пригожа — появятся над нею и тут же, на лету, дохнут. Любую хворобу излечивает». Земляной, смазанный глиной пол в своей хате бабушка Паша устилала полынью, словно бы зеленым пахучим ковром. Идешь по такому ковру, а он потрескивает под ногами и пахнет. Шестеро ее детей — в их числе и мой отец Анатолий — родились в степи, под чабанской арбой, на постельке из свежей полыни, на ней и выросли. Если случалось, кто-то из детей заболевал, скажем, желудком или простуживался, мать-чабанка отваривала цветки полыни и этим настоем поила больного, и тотчас ребенок выздоравливал. Когда я учился в пятом классе, у меня заболело горло, и тогда я впервые отведал отвар цветков полыни — это была такая горечь, какой я никогда еще не знал, — и боль горла прошла. «Промыл горлышко, — говорила бабушка, — а теперь, Мишуня, положи на нос вот эти веточки с цветочками и хорошенько подыши ими». Я клал на лицо полынные, в цвету, веточки и дышал. И вот с той поры прошло уже немало лет, я всегда, особенно в те минуты, когда думаю о бабушке и о хуторе, чувствую такой привычный и такой приятный для меня запах полыни, и он, этот запах, словно бы невидимым магнитом каждую весну тянет меня туда, на приволье, где я вырос.
2
Мое отношение к Павлу Петровичу Зацепину, заведующему отделом в газете, где я работал, было хорошее, уважительное. Да он и заслуживал этого. Это был мужчина рослый, представительный, с глубокими залысинами и совершенно белыми, будто в пудре, висками. По натуре он был человеком добрым, вежливым, учтивым. Он предлагал мне сесть, а я, волнуясь, стоял перед ним, опустив руки, смотрел на свое заявление, лежавшее у него на столе, и ждал, что же Павел Петрович мне скажет. Мое знакомство с Павлом Петровичем было с виду простым и обычным. В прошлом году я окончил литфак в Московском университете, и хотя, желая казаться постарше, отрастил рыжеватую, мелко курчавившуюся бородку, по годам я годился Зацепину в сыновья. Еще в студенческие годы мне часто доводилось бывать в редакции и даже печатать короткие рассказы из деревенской жизни под общим названием «Сельские этюды». Это были зарисовки главным образом о степи с ее травами и цветами. Один из таких этюдов под названием «Полынь» Павел Петрович даже похвалил на летучке. Очевидно, и сам я, и мои «Сельские этюды» так понравились Павлу Петровичу, что он пригласил меня на работу в свой отдел. Как я полагал, ему нравились и моя скромность, мое трудолюбие, и в особенности то, что я не отказывался ни от каких поручений и любую работу выполнял быстро и добросовестно. Я замечал: Павла Петровича радовало еще и то, что его отдел пополнился литературным сотрудником, которому можно было поручить любое дело, а теперь огорчало то, что я вдруг написал, как сказал Павел Петрович, «это странное и совершенно непонятное заявление».
— Эх, Чазов, Чазов, горюшко ты мое, — говорил он. — Что тут поделаешь — молодость! Да ты садись, чего вытянулся, как солдат.
— Ничего, постою. Какой будет ваш ответ?..
— Что ответ? Что? Понять тебя надо, Чазов. А я, хоть что хочешь, не могу понять — ни тебя, ни твое странное желание. Честное слово, и рад бы понять, а не могу!..
— Павел Петрович, что вам непонятно?
— То мне непонятно, дорогой Михаил Анатольевич, что нельзя же так, ни с того ни с сего, бросать работу и уезжать из Москвы. И куда уезжать? На хутор. Кому нужно, извини, это твое чудачество? Никому! Литфак окончил, государство обучало тебя, а ты…
— В своем заявлении я подробно изложил причины.
— Читал, читал. Какие это причины? Так, одно легкомыслие.
— Уезжаю-то я ненадолго, ну, самое многое — на год.
— И на этот срок просишь командировку?
— Надо же мне как-то там жить.
— Смешно! Кто же тебе даст командировку сроком на год? Любая бухгалтерия заартачится. Да и суть вопроса не в командировке.
— Ну, сохраните зарплату. На жизнь.
— Чтобы получать зарплату, необходимо каждый день приходить на работу, — строго сказал он. — Об этом все знают.
— Я же буду присылать очерки, зарисовки. Можно, к примеру, под общим названием «Письма с хутора». Или как-то по-другому. Я уже купил толстую тетрадь в зеленой, под цвет травы, обложке.
— Пойми, Михаил, какая уважающая себя газета станет из номера в номер печатать очерки об одном и том же хуторе? Кому это интересно будет читать? Подумал ли ты об этом?
— Павел Петрович, если вы не можете мне помочь, попросите за меня главного, передайте ему мое заявление.
— Нет, Чазов, уволь! Сам передавай, ежели желаешь. Но я, как сыну родному, не советую тебе обращаться к главному, ибо он скажет тебе в точности то же, что сказал и я, только иными, более неприятными для тебя словами. Миша, не позорь себя. Ты же славный парень. И что за дурь влезла тебе в голову?
— Это не дурь, вы напрасно так, — говорил я, потупив глаза. — Верите, какая-то сила тянет меня туда, на хутор. А тут еще этот запах полыни. Помните, я вам уже говорил, что чувствую этот запах повсюду. Не знаю, может, я похож на скворца, который по весне торопится в родные места. Не могу понять, что со мной. Но нельзя мне не уехать, понимаете, нельзя.
— А надо ли уезжать? И к чему такая поспешность? Необходимо хорошенько, не спеша обдумать, взвесить все «за» и «против» и тогда принять какое-то решение. Ежели тебе хочется, как скворцу, побывать в родном хуторе именно теперь, перед весной, то можно дать командировку, скажем, на десять дней.
— Вы же знаете, мне нужны не десять дней.
— Я понимаю: ты едешь туда на год для того, чтобы, как написано в заявлении, изучить жизнь хуторян? Так?
— Да, так…
— А зачем ее изучать?
Я не знал, что ответить, наклонил голову и молчал.
— Я отвечу за тебя: для того чтобы написать о своих земляках книгу. Правильно я отвечаю на вопрос?
— Может, и правильно… Только об этом еще рано говорить.
— Ну, от кого скрываешь, Михаил? Я же насквозь тебя вижу. Мечтаешь стать писателем, и это твое желание, как тебе известно, я одобряю. Да, у тебя есть, как говорится, искорка божья, об этом говорят и твои «Сельские этюды». Но, дорогой мой Михаил, стать писателем проще и легче не на хуторе, а в столице. Здесь и Союз писателей, и Литфонд, и журналы, считай, под рукой, и в Доме литераторов общение с известными писателями. А ты уезжаешь в глушь, на хутор. Где же логика? Не вижу логики.
— И все же я уеду, и никто меня не удержит. Только прошу вас, Павел Петрович, поговорите обо мне с главным, объясните ему все, как нужно.
— Заранее скажу: из этого моего разговора ничего не получится.
— И все же попробуйте. Я очень вас прошу. Скажите, что я каждую неделю буду присылать очерки.
— Ладно, Чазов, попробую помочь только ради моего доброго к тебе отношения, — сказал Павел Петрович после долгого молчания. — Доложу. Но только не главному, а заместителю главного. Иван Ефимович, ты его знаешь, человек он добрый, отзывчивый, к людям внимательный. Как-то он сказал мне: а этот Чазов хорошо природу описывает, мастерски. Может, Иван Ефимович что-нибудь придумает для тебя. Только вот что, Михаил: будешь с ним говорить, смотри, ни слова ни о скворцах, ни о запахе полыни. Он эти художества не любит. Скажи, что бабушка больная или там еще что придумай. Я буду говорить с ним не специально о тебе, а так, при удобном случае вставлю словечко. Постараюсь это сделать на той неделе. Подожди недельку. Все ясно?
— Да. Благодарю вас, Павел Петрович, — сказал я и вышел из кабинета.
Как же медленно тянулась неделя, а еще медленнее вторая… Очевидно, у Павла Петровича не было удобного случая для разговора с Иваном Ефимовичем, и я не знал, как же мне быть. Ждать? Но сколько еще пройдет дней? Или махнуть на все рукой, взять билет на самолет и улететь, попрощавшись только с одной Мартой.
Я ни на что не мог решиться, все эти дни был угрюм, молчалив, работал без желания, не так, как раньше, мало ел, совсем плохо спал. К Марте приходил поздно ночью, на ее вопросы, где я пропадал, что со мной, почему у меня такое плохое настроение, я не отвечал, поглаживал курчавую бородку и кривил в горестной улыбке губы. Мысли мои были там, на степных дорогах, и я видел себя то на просторном, лежавшем на высоком плато ставропольском аэродроме, то на попутном, несущемся по полю грузовике, то уже на знакомой хуторской улице.
3
Все же дождался. Утром, когда я только что пришел на работу, неожиданно, как это всегда случается, зазвонил телефон и милый женский голос сказал:
— Товарищ Чазов? Срочно к Ивану Ефимовичу!
В ту же минуту, не воспользовавшись лифтом, по лестнице бегом поднялся на четвертый этаж и, запыхавшись, не вошел, а вбежал в кабинет заместителя главного редактора. Иван Ефимович был мужчина невысокого роста, борцовского телосложения, с полным, чисто выбритым и, казалось, постоянно и без причины улыбающимся лицом. Он стоял у столика и говорил по телефону, не обращая на меня никакого внимания. На нем был темно-синий, отлично сшитый костюм, белый воротник рубашки с красивым цветным галстуком хорошо оттенял его крепкую коричневую шею. Он носил короткую стрижку мягких, гладко причесанных, не седых, но слегка только побуревших волос, голова у него была большая, с маленькими, будто детскими, ушами. И был он, как мне показалось, рад моему приходу, потому что перестал говорить по телефону, подошел ко мне и, доверительно, как другу, улыбаясь, обнял меня за плечи, словно бы укрыв тяжелым крылом, и спросил:
— Что так запыхался? Бежал? Ну, присаживайся, отдышись.
Иван Ефимович усадил меня на диван, взял со стола пепельницу, похожую на глубокую, испачканную сажей и дымом тарелку, и сам присел рядом. На свое высокое и широкое в кости колено положил пачку сигарет и коробку спичек, говоря:
— Прошу!
— Спасибо, не курю, — смутившись и чувствуя, что краснею, ответил я.
— Что так?
— Как-то не получилось… не научился.
— Похвально, похвально. — Иван Ефимович зажег спичку и прикурил сигарету. — А я без табаку не могу. Привычка… Ну, дружище, так с чего же мы начнем?
— В своем заявлении я все написал и прошу…
— Ну и додумался же ты, Чазов, а? — перебил Иван Ефимович, раскурил сигарету и улыбнулся так приятно, словно бы желая порадовать меня теплой своей улыбкой. — Но, признаюсь, я несколько удивлен и озадачен. Чем? Твоим, извини, легкомыслием. Ответь мне, бога ради, что происходит в твоей юной голове?
— Я прошу… Я хочу пожить на хуторе. Там моя престарелая бабушка. Вот и все.
— Так-таки и все?
— Да, все.
— Ну как же так? — Иван Ефимович развел сильными руками. — Что получается? Современные молодые люди, и это общеизвестно, нынче рвутся в города, спешат обосноваться в культурных центрах, а тем более в столице. А ты? Уезжаешь в степь, чтоб жить на чабанском хуторе. Зачем? Ничего не понимаю. Объясни, прошу тебя.
— Что тут объяснять? Тянет меня туда… Приволье там такое — дух захватывает. Да и хутор называется Привольным. Хуторок, верно, степной, чабанский, но красивый, вокруг него раскинулось такое раздолье, что и глазами не обнять.
— Ты что, в Привольном родился?
— Я родился в Париже.
— В Париже? — искренне удивился Иван Ефимович, и крепкая его шея налилась кровью. — Это как же понимать? И почему в Париже?
— В том году, когда я родился, мои молодые родители сразу же после учебы были направлены на работу во Францию.
— Значит, выходит, ты парижанин? — Снова та же приятная улыбка озарила добродушное лицо Ивана Ефимовича. — А в Париж тебя, случаем, не тянет?
— Нет, не тянет. Из Парижа меня увезли, когда мне не было и трех лет. Париж я помню, как сон, очень смутно. — Я не знал, что еще сказать, и молчал. — Затем родители работали в Новой Зеландии. Там мы прожили четыре года, а потом, когда мне надо было поступать в школу, отец привез меня в Привольный, к бабушке Паше. В Привольном я вырос, окончил десятилетку, оттуда приехал учиться в Москву. Вот и вся моя биография… Иван Ефимович, поймите меня, мне обязательно надо пожить в Привольном. Тянет меня туда, как магнитом, особенно весной. Да и личные планы, я сознаюсь вам, тоже связаны с Привольным.
— Какие же они, эти личные планы, ежели не секрет? — А приятная улыбка на лице Ивана Ефимовича как бы говорила: «Планы планами, а мне так хочется, чтобы и тебе было так же радостно, как и мне». — Знаю, знаю, можешь не говорить. Собираешься написать роман или повесть о чабанах? Угадал? Ну что же, это похвально. — Иван Ефимович многозначительно поднял палец. — Между прочим, история уже знает весьма примечательными случай, когда один юноша, кстати сказать тоже Михаил, твой тезка, в одно прекрасное время бросил столицу и уехал жить в станицу. — Тут Иван Ефимович важно пожевал толстыми губами и снова заулыбался своей очаровательной улыбкой. — Но то был, во-первых, случай исключительный, что называется, из ряда вон выходящий, когда миру явился истинный талант, а во-вторых, тот Михаил, насколько лично мне известно, не просил для себя ни суточных, ни зарплаты.
— Этот исторический факт звучит для меня как обидный упрек. — Я поправил спадавшую на лоб шевелюру и резко поднялся. — Хорошо, считайте, что мне тоже ничего не надо, и завтра я уеду.
— Не кипятись, Чазов, о твоем тезке я сказал так, к слову. — Иван Ефимович перестал улыбаться и тоже поднялся. — Беда, дорогой мой, в том, что все хотят быть писателями и их, сочинителей, развелось столько, что хоть пруд ими пруди. А где талантливые книги? Где новый «Тихий Дон»? Где новый «Разгром»? Их нет. Но ты не бычись, я ни в чем тебя не виню. Хочешь уехать — держать не станем, уезжай, твое дело. — И опять затеплилась ласковая, ободряющая улыбка на его полном, чисто выбритом лице. — И поверь, я и рад бы помочь тебе, но не могу. Специально наводил справки в бухгалтерии, консультировался с юристами. Как на беду, нет такого закона, чтобы давать командировку на год или сохранять зарплату за теми, кто фактически на службе не бывает. Закона нет, понимаешь?
— Понимаю, — ответил я. — Ну что ж, нет так нет.
— И все же кое в чем можно тебе помочь. — Тут уже улыбка снова засияла и на губах, и в глазах. — Дадим тебе удостоверение, в котором будет сказано, что Михаил Чазов является внештатным нашим корреспондентом, и не только по Привольному, а по всему району. С этим документом ты сможешь поехать в любое хозяйство и взять там нужный материал. Будешь присылать очерки, хорошо бы, конечно, проблемного характера, и без этого, без степной лирики. Сколько там, на селе, нынче возникает и решается важных, самой жизнью подсказанных проблем. Напиши, к примеру, о проблемах комплексного животноводства, или о проблемах межрайонного кооперирования, или о проблемах орошаемого полеводства. Обещаю платить повышенный гонорар — вот тебе и выход из положения. Ну как? По рукам? Да ты не дуйся, смотри на жизнь повеселее.
— Обещаю присылать очерки под общей рубрикой «Письма с хутора Привольного».
— И об этом Павел Петрович мне говорил, — ответил Иван Ефимович, не в силах сдержать свою сладкую улыбку. — Но зачем рубрика? Не нужна рубрика. Давай злободневные проблемы, без всяких рубрик.
— Значит, я могу уезжать?
— Да, конечно, — ответил Иван Ефимович, напоследок подарив мне совсем уже восторженную улыбочку. — Напиши заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. Будет приказ, получишь удостоверение, и все в порядке. Так что желаю, как говорится, ни пуха ни пера.
Иван Ефимович пожал мне руку, и я быстро вышел из кабинета.
4
Взять бы да и уехать, без хлопот и без забот. Нет, оказывается, все это не так-то просто. Пока я ждал приказа о своем увольнении, пока готовилось и подписывалось удостоверение, прошло больше десяти дней, затем дня четыре я ходил в бухгалтерию, где со мной производили расчет. А тут еще беда — Марта донимала слезами. Плакала она тихонько, по-детски шмыгая носом, и не говорила ни слова. А я-то знал, что у нее на душе.
С Мартой я познакомился, еще будучи студентом, на вечеринке у своего московского однокурсника. Марта нравилась мне и тем, что была не то чтобы красива, а по-своему, по-особенному мила, и тем, что с нею всегда было хорошо. Я стал часто бывать у Марты, в ее небольшой уютной комнате на улице Расковой, ночевал у нее на правах любовника, а завтракал и ужинал почти что на правах мужа. Мы говорили обо всем, что приходило на ум, но почему-то не говорили о том, что нам давно надо было бы сходить в загс и зарегистрироваться, хотя и я, и, в чем я был уверен, она частенько втайне думали об этом и в душе считали себя мужем и женой.
Марта работала машинисткой-стенографисткой в Министерстве тяжелого машиностроения, и она, пожалуй, одна знала, что я помимо «Сельских этюдов» написал две повести — «На просторах» и «Весна-красна». Знала она и о том, что обе эти повести я переделывал много раз, исчеркивал рукопись так, что с нее, что называется, кровь текла, и каждый раз Марта переписывала исправленный текст на машинке. Она говорила мне с нескрываемой радостью, что ей нравилось и то, о чем я написал, и особенно то, как я писал.
— Миша, и как ты все это можешь придумать? — спрашивала она.
— Я не придумываю, я пишу только о том, что сам видел и хорошо знаю.
— Ну, и я кое-что видела в жизни, а как все это описать?
Она огорчилась, может быть, больше, нежели я, когда узнала, что обе мои повести не были приняты к печати. Только одна Марта знала о том, что «На просторах» и «Весна-красна» побывали в трех журналах. Те сотрудники журнала, которые возвращали мне рукописи, говорили со мной вежливо, извинительно, наверное, им не хотелось меня обижать и сказать правду в глаза, и говорили они почти одно и то же: повесть, в общем, неплохая, а для их журнала она не подходит. Одни рецензенты давали мне советы, как и что необходимо переделать, исправить, другие говорили о моих повестях, как мне казалось, с чувством сожаления. «И зачем ты, парень, берешься за такую непосильную работу», — можно было прочитать в их взглядах. А отзыв на повесть «Весна-красна» кончался даже такими словами: «Непонятно, зачем все это написано». Эти слова больше всего обидели меня. Вечером я пришел к Марте мрачный и злой, показал ей отзыв. Она прочитала его, ласково посмотрела на меня своими большими, всегда и непонятно чему удивленными глазами, улыбнулась чуть приметной на губах улыбкой:
— Миша! Милый, ну и что? Чего злишься?
Как это свойственно только душевно щедрым женщинам, Марта умела найти такие простые, ободряющие слова, которые всегда помогали мне и успокоиться, и снова приняться за переделку рукописи. Только ей было известно и о том, что повесть «На просторах», набравшись смелости, я отнес на квартиру Никифору Петровичу, известному романисту и лауреату. Прошло уже месяца четыре, а ответа от лауреата не было и я уже потерял всякую надежду получить его.
Известно Марте было и о том, что мои родители в настоящее время находились в Конго, что вместе с ними жила моя десятилетняя сестренка Оля и что я, как казалось Марте, больше родителей любил свою бабушку Пашу с хутора Привольного.
— Миша, а почему ты называешь ее геройской бабусей?
— Если бы ты знала, какая это удивительная женщина, — отвечал я. — Ну ничего, мы как-нибудь побываем у нее в гостях, и, я уверен, она тебе понравится, и тогда ты сама узнаешь, почему я называю ее геройской бабусей.
Я тоже знал о Марте почти все. Знал и о том, что у нее была несчастная любовь и теперь в деревне, близ Москвы, у ее матери с младенческих лет живет ее теперь уже трехлетняя дочурка Верочка, и когда однажды мы вдвоем поехали навестить ее, я был удивлен, что эта прелестная девочка свою бабушку называет мамой Настей, а свою мать — тетей Мартой. И Марта, спокойно слушая это детское — «тетя Марта», смеялась так, будто это говорила не ее родная дочь и не о ней и смеялась тем нарочито веселым смехом, каким обычно смеются, когда слезы острым комком перехватывают горло. Я знал, Марта мысленно и радовалась и благодарила меня за то, что я ни разу не спросил, кто же отец Верочки и где он сейчас. Даже когда мы возвращались в электричке в Москву и Марта, улыбаясь и показывая свои мелкие и острые, как белые пилочки, зубы, спросила, как мне понравилась Верочка, очевидно, сама желая начать разговор о том, кого она когда-то любила, я ответил, что девочка — прелестное создание, да вот только плохо, что родную мать называет тетей, и сразу же перевел разговор на другую тему, стал рассказывать новый сюжет для своих «Сельских этюдов».
Отношения у нас были, я бы сказал, вполне хорошими. Вдвоем мы никогда не скучали, не ссорились, умели и поговорить всласть, и по душам поспорить, и вволю посмеяться, пошутить, и песню спеть. Марта задушевно пела песню «Темная ночь», а я подтягивал ей. Тот, кто увидел бы нас впервые, ничего о нас не зная, непременно подумал бы, что это и есть настоящие, любящие, во всех отношениях примерные супруги. Мы ни разу не объяснились в любви и постоянно жили мыслями о том, что мы любим друг друга, о нашем неясном будущем, радовались и своей близости и тем обычным супружеским отношениям, к которым мы с каждым днем привыкали все больше и больше. Раньше я лишь изредка приходил к ней, а теперь стал жить у Марты, как у себя дома. Был же я прописан в отцовской квартире, которая ввиду длительной заграничной поездки ее хозяев была опечатана. Иногда нам казалось, что наша жизнь так и останется спокойной и счастливой, и нам необходимо было придать ей, хотя бы формальности ради, лишь законный характер — пойти в загс и зарегистрироваться. И вдруг, как снег на голову среди жаркого лета, этот мой неожиданный отъезд на хутор. По всему было видно, Марта терялась в догадках, она никак не могла понять, почему я собрался уезжать именно теперь, в самом начале весны, когда даже московские бульвары, за зиму так старательно закопченные, уже начали покрываться робкой бледной зеленью. Я знал, Марта привыкла ко мне, как и я к ней, она называла меня «гривастым бородачом с белесыми бровями», по-детски радовалась каждому моему приходу к ней, и ей трудно было, я это понимал, даже представить себе, как она останется одна, без меня.
— Марта, об одном прошу: не распускай нюни, не шмыгай носом, как простуженная, — сказал, я, придя вечером к Марте и видя ее в слезах. — Ну чего плачешь? Провожаешь-то не на войну?
— Миша, милый, как же я без тебя?
— А как я без тебя?
— Ты же мужчина, тебе легче…
— Знаю, и тебе несладко будет, и мне нелегко. — Я нарочито прошелся по комнате широкими решительными шагами. — Мы связаны, как веревочкой. По себе вижу: я не то что привык, а словно бы присох к тебе. Ты отлично это знаешь. Мне приятно и видеть тебя, и говорить с тобой.
— Вот и не уезжай.
— Не могу. Надо ехать. Непременно!
— А как же веревочка?
— Не бойся, она не разорвется. Она крепкая.
— А я боюсь. — Она смотрела на меня, и по ее щекам текли слезы. — Миша, не уезжай. Живи, как жил. Разве тебе плохо? Скажи, что тебе еще надо?
— Об этом я уже говорил, и не один раз. Мне надо что-то сделать, чего-то добиться. Не забывай, Марта, мне уже двадцать четыре. А что я сделал в жизни? Окончил с отличием литфак, устроился на спокойную должность и на удобную жизнь у тебя под боком. Написал несколько газетных рассказиков, две плохие, непригодные для печати повести. Мало, очень мало.
— А что сделаешь там, на хуторе?
— Я сам еще ничего не знаю. Но пойми, Марта, не ехать туда я не могу. Все уже решено. Помнишь, один рецензент не постеснялся обидеть меня и написал жестокую правду: «Непонятно, зачем все это написано». Я много думал об этих горьких для меня словах и давно уже пришел к мысли: рецензент-то был прав. В самом деле, зачем написаны мои повести? Что они несут в себе? Что я сказал в них своего, нового?
— Ты же отнес повесть «На просторах» известному писателю, лауреату, — сказала Марта, глядя на меня полными слез глазами. — Подождал бы его ответа. Что он скажет?
— Слишком долго приходится ждать. Я был у него с повестью еще в прошлом году зимой. А сейчас уже весна. Старик наверняка потерял мою рукопись и давно забыл о моем существовании.
— Прости, Миша, но я скажу то, что думаю: хороший ты парень, а совершенно ненормальный, — говорила Марта, глотая слезы. — Зачем тебе целый год жить на этом степном хуторе? Да и как же можно так необдуманно поступать? Ты бросаешь работу, Москву, наконец, меня… Может ли это сделать человек нормальный?
— О том, что я сякой-такой, ненормальный, я уже слышал, и не только от тебя. — Я снял пиджак, повесил его на спинку стула и сел. — Точно так же, как ты сейчас смотрели на меня мои добрые начальники, которым я письменно и устно старался объяснить причину своей поездки на хутор. Правда, они не плакали, как ты плачешь, говорили со мной вежливо, я бы сказал, любезно, а в душе, это я видел, считали меня придурком, не от мира сего. Я могу понять: они прижились на одном месте и теперь, в свои уже немолодые годы, поступить так, как я, не могут и потому меня считают ненормальным. Но как же мне понять тебя, мою сверстницу, мою добрую, хорошую Марту? Как?
— Разве это трудно? — спросила она, глядя на меня мокрыми, виновато мигающими глазами. — Я теряю тебя, Миша, вот это и надо было бы тебе понять. Еще одно горе свалилось на мои плечи. Выдержат ли они?
— Да что ты? Я же вернусь.
— Когда? Что с нами будет через год? Нет, еще раз убеждаюсь, все вы, мужчины, эгоисты.
— Ну хорошо, чтобы нам не расставаться, поедем вместе. Поедем, а? Поживем у моей геройской бабуси. Ну как, Марта? Поедем?
— Да ты что? Как же мне можно ехать?
— А почему нельзя? Все можно, ежели пожелать. Сядем в самолет и улетим, как птицы небесные.
— Что я стану делать там, на твоем хуторе? Стенографистка чабанам, надо полагать, ни к чему. — Марта хотела улыбнуться и не смогла, молчала, покусывая губы и сдерживая слезы. — Значит, стану находиться на твоем иждивении. А тебе самому жить там будет не на что.
— Да, к сожалению, это так, — согласился я с грустью. — Те, кто увидел во мне человека с придурью, в моей просьбе о деньгах отказали. Так что теперь одна надежда — на гонорар. Буду писать очерки, статьи.
— Для этого и купил зеленую тетрадь?
— Да, ты угадала. В тетрадь я буду записывать все, что увижу и что услышу, без разбора. — Порывисто, как я это делал часто, я обнял Марту, приподнял ее, чувствуя ее легкое, упругое тело. — Да не кисни ты! Поедем вместе, и все! Перебьемся, вдвоем всегда легче жить. Сперва поживем у моей геройской бабуси, как гости. Вот ты и увидишь эту чабанскую мамку. Потом что-нибудь сообразим. Знаешь, есть поговорка: голь на выдумку хитра. Напечатаю очерк в краевой или районной газете. Там само дело покажет. Главное — уехать вместе.
— Нет, Михаил, поезжай без меня. — Марта отошла от меня, через силу улыбнулась, показывая свои белые мелкие зубы-пилочки. — Видно, наша женская доля такая: то любить, то страдать.
— А если хорошенько попрошу, поедешь?
— Нет, нет, не надо, Миша, мне и так больно. — Она отстранила мои руки. — Из Москвы я никуда не уеду. Я тут родилась, выросла, у меня есть любимая работа, свое жилье. Что еще нужно одинокой женщине? Да и кто я тебе? Попутчица? Или любовница? Ну, не смотри на меня угрюмо. Я буду ждать тебя долго и терпеливо… Трудно мне будет, Миша, но что поделаешь. Надо. Женщинам в войну было и потруднее ждать своих любимых…
— Время пройдет быстро, только ты жди меня. Помнишь в песне: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» Будешь очень ждать?
— Буду…
— И все же, Марток ты мой ясный, нам надо хоть теперь, перед моим отъездом, объясниться, а лучше сказать — признаться друг другу.
— В чем?
Большие ее глаза смотрели на меня с мольбою.
— В самом главном. В том, что я люблю тебя.
— Я и так знаю. — Она потупила глаза. — Зачем говорить? Сердцем знаю, знаю.
— Как ты узнала? Я же не говорил тебе. Все у нас было, а вот этого разговора не было.
— Миша, настоящая любовь — это не слова, не разговоры. Без твоих слов, без клятв я давно узнала, что ты любишь меня, знала по твоим глазам, по твоему прикосновению ко мне… Миша, у нас, у баб, есть свое особое чутье насчет любви, так сказать, свой природный и безошибочный барометр. — Улыбка погасла на ее лице. — Но бывает, что ошибается и барометр. Вот тот, кто насмеялся над моим девичеством, как клялся в любви, а не любил меня. Жаль только, что узнала я об этом слишком поздно.
— Ты-то меня любишь?
— Миша, глупенький, как тебе не стыдно? Еще спрашиваешь… Да и тебе же все видно, и никакими словами не высказать все то, чего нельзя скрыть. Разве я пустила бы тебя в постель к себе, если б не любила? Люблю, и давно люблю… Поезжай, Миша, спокойно, управляйся с делами и возвращайся. А я буду тебя ждать и все время думать о тебе.
— Спасибо, Марток… Вот и посветлело у меня на душе. А сейчас бери мой чемодан и готовь-ка меня в дорогу, как жена мужа.
— Давай сперва поужинаем. Пойдем на кухню, там все готово.
— Самолет улетает завтра в восемь утра. Так что рано утром, еще до работы, проводишь меня на аэровокзал. Проводишь?
— А как же? Обязательно. — Она задумалась и замолчала. — Миша, я хотела было сказать тебе что-то такое важное, необычно важное, особенное, и в последнюю минуту передумала.
— Почему? Говори.
— Лучше скажу потом, когда вернешься.
— Значит, целый год буду мучиться, думать, что же ты скрыла от меня? Пожалей меня, Марта, и скажи.
Марта отрицательно покачала головой и, ничего не сказав, ушла на кухню, вытирая фартуком слезы.
5
Пожалуй, ничто нас так не радует и ничто нас так не волнует, как встреча с отчим краем. Вот он весь перед тобой, раскинулся во все стороны, от одного горизонта до другого, смотри на него и радуйся, радуйся и смотри. И сколько я ни ехал в глубь степи, сколько ни всматривался в распахнутую настежь даль, а насмотреться так и не мог, и странное чувство тревоги, смешанное с чувством радости, всю дорогу не покидало меня. Да и что может быть прекраснее вас, родные весенние поля под высоким южным небом! Вы не стареете, над вами не властны ни события, ни время. Сколько помню вас, вы все такие же, родные и милые моему сердцу, и все так же живописно изломаны ложбинами, которые неведомо откуда шагнули сюда и размахнулись косым крылом. То там, то тут вставали те же глубокие буераки, разрубленные как бы шашкой наотмашь, и на их отвесных кручах все такими же солнечными бликами отсвечивала желтая глина, а по верхушкам знакомым парубоцким чубчиком курчавился лесок. И повсюду вдоль шоссе извечными стражами вставали давно, еще в детстве, увиденные мною курганы, над ними незаметно проплывали и дни и века, а они, ничего не замечая и ничем не интересуясь, были все такие же сурово-молчаливые, ко всему безучастные. И все так же, как во все времена, от подошвы и до вершины их укрывала ковыль-трава, как белая бурка укрывает всадника, и все так же на самой макушке торчали кустики полыни и в них восседал орлан, когтями вцепившись в суслика, зорко стеклянными глазищами косясь на грузовиками шумевшую внизу шоссейную дорогу.
Мимо уплывали древние курганы, их уже не было видно, и снова, как волна на волну, одна отлогая ложбина накатывалась на другую, один буерак поднимался следом за другим. Полынное, сизого оттенка, лежало взгорье, ветерок доносил густой горьковатый запах, и то там, то тут, как огоньки, радовали глаз полевые маки. Текучее марево било в лицо, манило к себе, казалось, что сразу же за селом или за овечьей кошарой, не более как в пятистах шагах, поднимались то плавни, заросшие камышом, то покачивались натуральные волны или разливалось во все стороны настоящее море, и ни за что нельзя было поверить, что это был всего только мираж. Из этих плавней или из озер вдруг выкатывалась, как само привидение, одинокая кибитка в верблюжьей упряжке. Худой и высокий верблюд шел размашисто, покачивая торчмя стоящими горбами, поскрипывали оглобли, глухо ступицами отзывались колеса, а в тени, под арбой, лениво переступал седой кобель. И чем глубже в степь я уезжал, тем дальше и дальше от меня отодвигалось марево со своими озерами и камышами, заросшими плавнями, и тем чаще встречались кошары, похожие на приземистые скирды прошлогодней соломы, с темневшими в них воротцами, с длинными корытами для водопоя, с повисшими над колодцем бадьями величиной с добрую кадку. Вокруг колодца по утрамбованной стежке устало плелся, вращая колесо и поднимая бадью с водой, старый гривастый конь на кривых ногах с завязанными косынкой глазами, чтобы не кружилась голова у бедняги. Изредка попадались идущие попасом отары, еще непривычно беленькие, с которых, очевидно, только вчера были сняты тяжелейшие шубы, почти на каждой овце мостился скворец и, опираясь на крыло, что-то отыскивал для себя в свежей стрижке. Близ отары изнывали от безделья волкодавы, все до единого корноухие и куцехвостые, все лобастые и широкогрудые и все бурой масти. Сидели они на задних лапах, сонно поглядывая на знойное небо и сладко позевывая, а в сторонке стоял, как изваяние, чабан в остроплечей бурке и в нахлобученной на лоб папахе, опираясь на ярлыгу, как уставший путник на посох.
Все это можно было увидеть в степи, и еще не так давно. Теперь же на смену кошарам из соломы пришли овцекомплексы из железа и бетона, и редко можно встретить отару, идущую попасом, и чабана в бурке и в окружении волкодавов, а вместо арбы в бычьей или верблюжьей упряжке летят, как ветер, встречные грузовики. И только небо в этих местах ничуть не изменилось, оно было такое же высокое, синее, с оттенком голубизны — чудо, а не небо! Как и степь, оно удивительно просторное, слегка укрыто дымкой, смотришь на него, и тебе кажется, будто оно соткано из легчайшего шелка, и просторная степь под ним лежала точно бы под светлым шатром.
6
Въехав в Привольный, грузовик притормозил, замедлил бег, я на ходу выпрыгнул из кузова и зашагал по хутору с чемоданом в руке. Меня встречали, словно бы улыбаясь мне, и те же белостенные хаты-мазанки, похожие на стаю опустившихся в степи гусей, и те же стройные тополя, что поднимались вдоль дворов, они намного подросли, темнее и гуще стали их молодые, только что родившиеся листья. Школа, в которой я учился, смотрела на меня с удивлением, как бы говоря: «Да кто он, этот бородач? Неужели Миша Чазов? Нет, это не он, ни за что не поверю…» До мельчайших подробностей знакомый мне школьный двор все так же, как и когда-то, был полон шумной детворы — школьники, наверное, выбежали на большую перемену и им не было никакого дела до того, что тот, кто когда-то тоже вот так бегал по двору, теперь шел с чемоданом по улице.
А улица радовала меня тем, что вся она была залита асфальтом, еще свежим, со смолистой чернотой, и Привольный, если бы взглянуть на него с высоты, казался бы нанизанным на ровный, как пика, Ставропольский тракт. И еще я заметил новшество: рядом с тополями вытянулись тротуары, так что окна хат-мазанок, стыдливо прикрытые кружевными занавесками, как девичьи очи ресницами, смотрели и на проходящих мимо хуторян, и на меня, и на проносящиеся по тракту — кто их знает, куда и зачем? — грузовые и легковые автомашины. А как меня порадовали милые моему сердцу крылечки. Ох уж эти привольненские крылечки! Где еще можно их увидеть? Были они примечательны тем, что выходили не во дворы, а прямо на улицу, словно кем-то были выставлены напоказ, и были выкрашены в яркие цвета, а по ступенькам нарисованы узорчатые коврики так красиво и правдоподобно, что по ним хотелось пройти, и казалось, что всем, кто проезжал или проходил по тротуарам, крылечки эти говорили: «Люди добрые, да вы не стесняйтесь, смелее, смелее заходите в любую хату, и вы увидите, какие в них живут радушные хозяева…» Эти слова, разумеется, были сказаны и мне, потому что крылечки не признали во мне своего земляка, им было невдомек, что приезжий, рыжебородый парень с чемоданом, — свой, привольненский, и что он уже издали облюбовал одно, самое милое его сердцу крылечко, быстро поднялся по нарисованному на ступеньках коврику и крикнул:
— Здравствуйте, бабуся! Доброго вам здоровья!
— Ой, лышенько мое, Мишуха! Чи ты, чи не ты? — говорила бабушка, обнимая меня своими ласковыми, мелко вздрагивающими от волнения руками. — Ну, як все одно из неба свалывся! Батюшки, Мишуха, да у тебя бородка! Родная мать не признает. И патлы отрастил, на молоденького попика смахиваешь! Якый ты смешной, будто и не мой внук… Ну, слава богу, шо приихав, шо не забув свою бабушку.
— Не то что не забыл, а спешил, летел на крыльях.
— Мишуха, серденько мое, як же я рада…
И старая женщина всплакнула, прикрыв фартуком глаза. А я с нескрываемой радостью смотрел на нее, слушал ее украинский говорок, и мне казалось, что если бы эта худенькая, совсем седая старушка вместо «шо» сказала бы «что», а вместо «як» — «как», то это уже была бы не она. Никогда еще моя милая бабуся не казалась мне такой родной, хуторской, что ли, какой она показалась мне сегодня. И в ее ласковых, обсыпанных мелкими морщинками глазах, и во всем ее облике виделось мне что-то от самого степного простора, что так открыто, для всех, расстилался вокруг Привольного, и что-то от седой полыни в пору ее осеннего увядания, и что-то от каспийского суховея, и что-то от негнущейся долу ковыль-травы. На ней были старомодная, с напуском, кофтенка, рясная, подхваченная фартуком юбка — на хуторе бабы одевались так испокон веков. Седые ее косички были на затылке собраны в кулачок и пахли — о чудо! — полынью! Она успела и обнять меня, целуя в щеки, и сказать, что все еще не верит, что перед ней я, ее внук, а потому и слезы не может сдержать. Она поставила на стол хлеб и крынку молока, запаренного в печке, с коричневой, подсмоленной корочкой, почему-то пахнущей не дымком, а все той же полынью. И в том, как она усадила нежданного гостя за стол, и в том, как сама присела на табуретке в сторонке и, положив на колени темные, узловатые ладони, пригорюнилась и не сводила с меня заплаканных глаз, — мне опять виделось в бабусе моей что-то степное, необычное, чего нигде не встретишь, и что-то такое свое, что пришло к ней с годами и что сделало ее такой, какая она есть.
— Потчуйся молочком, Мишуха, оно хорошо запарено. Ставила в печку крынку, и душа моя чуяла, шо ты придешь.
Я выпил стакан чуть теплого, ароматного и удивительно вкусного молока, полотенцем не спеша вытер губы, спросил:
— Своя у вас корова?
— Та ты шо? Ни, не своя, соседка, спасибо, приносит молоко. Коровка у нее хоть и молодая, первестка, а славная, молочная. — Бабуся пододвинула табуретку ближе к столу. — Мишуха, а надолго до меня в гости?
— Потянуло на хутор, так что поживу у вас подольше.
— Оцэ добре! — обрадовалась бабуся. — И мне будет веселее. А то одна я в хате, як та зозуля в поле. А твоя комнатуха все еще тебя поджидает. — Она вытерла кончиком фартука сухие старческие губы, улыбнулась. — Оно и понятно, тянет к своему, родному. Вот и мой сынок, а твой батька Толя живет на чужбине, як он там, бедняжка. Тоже скучает, мается. — Она наклонилась ко мне, понизила голос — Шо, Мишуха, там в Москве, случаем, не женился?
— Пока еще парубкую.
— Шо так?
— Невеста где-то затерялась, — попробовал я отшутиться. — Никак не могу ее отыскать.
— Печаль невелика, у Привольном мы ее враз отыщем, — смеясь и показывая стертые до-десен нижние зубы, ответила бабуся. — У нас тут, считай, в каждой хате сидит красавица. Выбирай любую! Ить и твоя двоюродная сестренка тоже выходит замуж.
— Катя?
— Она самая.
— Сколько же ей уже?
— Девятнадцать. Такая славная стала девушка — залюбуешься.
— И кто же ее жених?
— Соседский, из
хутора Мокрая Буйвола, Андрюшка Сероштан. Управляющий над всем хутором — шишка! Да ты его не знаешь. Он в Ставрополе обучался и вернулся до дому. Мабуть, чуток постарше тебя, но парняга деловистый и собой славный.
— И когда же свадьба?
— А насчет свадьбы — беда.
— Что такое?
Бабуся махнула рукой и сказала:
— Ладно, про невесту мы еще побалакаем. А зараз хочу спросить: шо слыхать про батька и про мать? И про внучку Олю? Як воны там, в той Конге?
— Я недавно получил письмо от отца. Живут, работают и на жару, как всегда, жалуются. Жарища у них там стоит круглый год, куда там той, какая бывает летом в Привольном.
— А як же Оленька, внученька?
— Ей что? Привыкла к жаре.
— Я не про то. В школу ходит?
— А как же.
— Чего же она, як ты, не приехала учиться в Привольный?
— Там есть школа.
— Чужая, и язык ненашенский. Як же Оленька лопочет по-чужому, бедняжка?
— Научилась. Не беспокойтесь, ваша внучка, а моя сестренка, наверное, и русский позабыла. Ежели когда заявится к бабушке в гости, вот как я, а разговаривать вы с нею не сможете.
— Не-е, быть того не может, шоб мы не смогли побалакать. Свой, материнский, язык не забывается. — Бабуся вынула из сундука письмо, старательно завернутое в платочек. — Я тоже получила весточку от Толика. Кличет сынок до себя в гости. Вот читай. Кажеть, приезжайте, мамо, беспременно, хоть билого свиту побачите. А то всю жизнь ютитесь в степном хуторе.
Я прочитал вслух коротенькое письмо отца. В нем он сообщал, что выслал вызов, и просил мать приехать к нему погостить.
— Бабуся, Конго — это же далеко, — сказал я. — Туда надо лететь самолетом, и не один час.
— Мишуха, а поясни мне по-нашенскому, по-простому, шо воно такэ — Конго?
— Государство на юге Африки. Расположено на большой реке Конго, на самом жарком месте.
— А яки там люди живут?
— Такие, как всюду, только черные.
— Мабуть, почернели от жары?
— Нет, такие они от природы.
— И чого увижается мне по ночам то Конго? Думками я будто бы там, у Толика, и все, на шо ни гляну, чужое, непонятное, а какое оно, не могу себе хорошенько представить, — мечтательно говорила бабуся. — Ох, далековато от Привольного до Конго, и в мои-то годы, верно, нелегко подниматься с насиженного места. А все ж таки дюже було б гарно побачить и билый свит и черных людей. Да и просит же сынок, уговаривает, дажеть бумагу прислал. Вот и повидала бы и Толю, и Настеньку, и Оленьку. Они же не приедут до меня на хутор, вот как приехал ты. Так шо надо мне до них полететь. А як ты, Мишуха, советуешь, ехать в ту Конгу? Али як?
Я не знал, что ответить бабусе, и стал ходить по комнате, чувствуя под ногами — о чудо! — настил полыни.
— Бабуся, как я соскучился по такому мягкому полу, — сказал я. — Только почему запах слабый?
— Так ить она, красавица, еще молоденькая, потому и душок от нее не бьет в нос. Да ты возьми-ка веточку.
Я взял нежную, с липкими листочками, веточку, прижал ее к лицу и, ступая, как по лужайке, подошел к окну. В это время по улице один за другим катились грузовики с таким гулом, что вздрагивали стекла. Не дождавшись от меня ответа, бабуся завернула в платочек письмо, снова положила его в сундук, села на табуретку, концом фартука вытерла мокрые глаза и, глядя на меня теми же ласковыми глазами, сказала:
— Мишуха, диву даюсь: як же ты сильно скидываешься на своего дедушку Ивана. Гляжу на тебя, а, веришь, вижу живого Ивана. Вот таким и он был, як ты, когда я проводила его на войну. Шо тебе рост, шо тебе плечи, шо тебе русява чубрина. Только бородки у него не имелось.
Из того же сундука, куда она недавно спрятала письмо, достала пожелтевшую, с потертыми краями фотографию и передала мне.
— Ось якый вин був, Иван Чазов! — радостно сказала она. — Геройский парубок! А обличием ну в точности як ты. Не довелось ему побачить своего внука, погиб на войне.
На меня смотрел с хитроватым прищуром глаз белобрысый парень с зачесанным набок чубом. Белая рубашка с незастегнутым воротником была подхвачена узким кавказским пояском, на ногах — чабанские чобуры из сыромятной кожи, в руках — ярлыга. Посматривая на Ивана Чазова, моя бабуся то счастливо улыбалась ему, то повторяла свое: «Обличием ну в точности як ты!» Ей так хотелось, чтобы я не только признал в этом хуторском парне с ярлыгой своего дедушку Ивана, а и увидел бы в нем какие-то неотразимые черты сходства с ним. А я ничего этого не видел, мне казалось странным и смешным то, что дедушка на вид был моложе своего внука. И все же, чтобы не обидеть бабусю, я уверенно сказал, что на то и внук, чтобы быть ему похожим на своего деда, и что это сходство особенно видно в прищуре глаз и в цвете волос. Я вернул бабусе фотографию и спросил, что нового в жизни Привольного и как вообще живут хуторяне, и бабуся моя взгрустнула, поняла, что я нарочно заговорил о хуторе.
— А шо у нас нового? И шо про нашу житуху сказать? Живем да хлеб жуем, — ответила бабуся. — Жалобов на текущую жизню нету, а вот у меня лично жалоба имеется на родного сына, а на твоего дядю Анисима Ивановича Чазова. Никак не думала и не гадала, шо мой старший станет таким злодеем для своей дочки. Горе с Анисимом.
— А что случилось, бабуся? — спросил я участливо. — Поясните.
— Пояснение простое — не хочет Анисим отдавать Катю за Сероштана, вот и все пояснение. Так и сказал, шо такой зять ему не требуется и шо родичаться с Сероштаном никогда не станет. Уперся, як бык перед воротами.
— Почему? Наверное, есть же у него какая-то причина?
— Заноровился, и в норове вся его причина. Знущается над дочкой, лишает счастья родного дитяти. Это же какой позор на весь хутор!
— Я понимаю так: если Катя любит своего жениха, а он любит ее, то и пусть женятся.
— Ты так понимаешь, и я так понимаю, а Анисим понимать так не желает. О женитьбе и слышать не желает, — гневно ответила бабуся и тут же, успокоившись, пояснила: — Анисим тоже, як и Сероштан на своей Мокрой Буйволе, главарь на нашем Привольном. Ну, шось по работе между собой не поделили, а дочка, бедняжка, должна страдать. Все эти дни Катя была в слезах. И Андрюха опечален. Погляжу на них — жалость берет. Молодые да дурные: влюбиться влюбились, а як пожениться — не знают. Через то и к бабушке прибежали за советом. Пришлось подсобить, выручить из беды. — Сказав это, бабуся наклонила к себе мою голову, прижалась к моему уху шершавыми губами, таинственным шепотом добавила: — Он украдет ее, як горянку.
— Это как же — украдет? — искренне удивился я.
— Очень даже просто, возьмет да и увезет, уворует. — С хитринкой в глазах бабуся смотрела на меня, дескать, знай наших, мы все умеем. — А шо делать? Ежели родители по-хорошему, по-доброму не желают, изнущаются над девушкой, то у жениха выход один — увезти невесту. Андрей будет действовать по старому черкесскому обычаю.
— Но то черкесы, а то мы, русские. — Я снова зашагал по комнате, топча мягкий, горьковато пахнущий полынью пол. — Однако в этом есть что-то особенное, какая-то искорка. Романтическая история на хуторе Привольном! Молодец Андрей Сероштан!
— Хто молодец, еще неизвестно, — вставила бабуся. — А смелость у Андрюхи имеется, это верно, и раз он задумал, то своего добьется. Он такой, решительный!
— Бабуся, а когда произойдет похищение невесты?
— Молчать умеешь?
— Безусловно.
— Як раз сегодня все и свершится, — все так же таинственно и тихо говорила бабуся. — А шо и як свершать — они знают, бо есть у них бабуся, яка смогла всему этому их обучить. Надо же было подсобить молодым людям!
— И все же, как он, этот храбрый Сероштан, украдет Катю? — допытывался я. — Посадит на быстрого, как ветер, скакуна и умчится в степь? Так, что ли?
— Вовсе не так, — с гордостью ответила бабуся. — О чем толкуешь, яки там ще скакуны? Во всем Привольном и во всей Мокрой Буйволе имеются два старых поганых конька. Разве на них невесту украдешь? Все дело свершится на технике. У Андрюхи имеется свой «жигуленок», бегает лучше всякого скакуна. — Она погрозила мне темным и кривым в суставах пальцем. — Мишуха, только помалкивай, будто ничего не знаешь. В таком сурьезном деле требуется тайна да еще тайна. А то, чего доброго, Анисим разнюхает секреты и всю нашу обедню испортит.
ИЗ ТЕТРАДИ
Так вот какая новость встретила меня в Привольном — похищение невесты, и как раз в день моего приезда. Я стану невольным свидетелем старого горского обычая. Интересно! И в том, что Катю украдет жених, и в том, что, как только я появился в бабушкиной землянке, под ногами услышал мягкую траву и ощутил горьковатый запах полыни, было что-то для меня и новое и необычное. А бабуся уверяла, что никаких новостей в хуторе нет, дескать, живем да хлеб жуем. А в жизни без новостей не бывает. Как все, оказывается, происходит просто: не отдают невесту добровольно — ее берут силой. И это в наш-то век космоса и компьютеров? Значит, что же? Любовь поступает так, как сама она находит нужным, и то, что было раньше, осталось и теперь.
7
Тут, на хуторе, мне удалось установить некоторые подробности о первых поселенцах Привольного. Это были мои далекие предки, скотоводы из Таврии, раньше их так и называли — тавричанами. Приехали они сюда еще в середине прошлого века на мажарах в бычьей упряжке. Мажары, а по-нашему арбы, имели высокие боковые гряды и были доверху загружены домашним скарбом. Приехало всего пять семей: три брата Чазовых и два — Сероштановых. Один из братьев Чазовых, Антип, самый младший, и является моим прапрадедом. Вместе с пожитками привезли сюда ораву детишек — мал мала меньше, пригнали стадо коров с телятами, на тех же мажарах привезли с десяток, на развод, грубошерстных овец. Место теперешнего Привольного братьям Сероштанам сразу не понравилось. Они уехали и поселились поблизости, на хуторе Мокрая Буйвола, где были родники и крохотное, высыхавшее летом соленое озерцо, и Чазовы остались здесь одни.
Недолго думая, братья Никита, Федор и Антип вырыли три землянки, оглянулись, посмотрели во все стороны — а была пора ранней весны, степь не только цвела и зеленела, а и наполнялась птичьими голосами — и сказали: приволье! Лучшего места и желать не надо! Так с того дня новый хутор с тремя землянками и стал именоваться Привольным. Вскоре его имя было узаконено записью в книге земельного отдела Ставропольской губернии. И теперь, в наши дни, когда в Привольном уже было около ста дворов с залитой асфальтом улицей, школа-десятилетка, магазин, клуб, — все тут, на что ни взгляни, к чему ни обратись как в самом хуторе, так и вокруг него, смотрело на тебя весело, задорно, как бы похваляясь: а я — привольное, а я живу на приволье, нигде — ни в горах, ни в лесах — ничего подобного не встретить, не найти.
Да и в самом деле, и в Привольном и вокруг Привольного все было особенным, необычным. Если степи, то уж настоящие степи, и расходились они во все стороны так свободно и так размашисто, что, сколько ни смотри, все одно не увидишь, где им начало, а где конец. Если небо, так уж небо настоящее, не то чтобы чересчур высокое или чересчур глубокое, а какое-то легкое — голубой шатер, да и только. Оно словно бы чьими-то руками приподнято и специально раздвинуто: летом, в жару, ложись на высокую, пахнущую теплом траву, и над тобой откроется такая синь, что сколько ни смотри на нее, а насмотреться все одно не сможешь. А когда наступают в Привольном лунные ночи? Какие это прекрасные, ни с чем не сравнимые ночи! Можно поручиться: ничего подобного нигде не встретишь. А какие они светлые, а какой дымчатой голубизной укрыты на горизонте, — таких лунных ночей на всем свете нет и не было! На исходе ночи, ближе к рассвету, на траву ложится роса, розовая, как молозиво, и тогда густеют запахи степных цветов, смешанные с острым запахом овечьего пота, и плывет над еще спящей землей та необыкновенная, слегка порозовевшая кисея, какую можно увидеть в полнолуние лишь в Привольном. А когда взлетит над степью песня, то это уже не песня, а целый хор певучих голосов и подголосков, и слышны они за много верст в окрест хутора. Тут, в Привольном, если люди, так это уж люди самобытные, и рождаются они, не будет преувеличением сказать, только в одном Привольном: они и труженики безотказные, и воины отважные, и весельчаки, каких поискать, и балагуры настоящие.
Какого-нибудь развеселого дядьку или тетку я часто встречал в Ставрополе, к примеру на Верхнем базаре. Бывало, не успеешь как следует и разговориться с ним, а тебя уже так и тянет спросить:
— Да вы, случаем, не из Привольного?
— Из него. А что?
— А то, что я сразу вас узнал.
— Як же ты нас признал?
— Чутьем. Да ведь это и не трудно. Привольненца можно узнать издали, а вблизи — тем более.
Побеседуешь с такими дядьками и тетками и невольно подумаешь: да, что там ни толкуй, а есть, есть и в обличии и в характере этих степняков что-то свое, природное, что пришло к ним все от того же безбрежного простора. Само название чабанского поселения — и нынче никто уже в этом не сомневается — оставило отпечаток не только на характере привольненцев, на их приметной внешности, а и на названии овцеводческого совхоза. Посудите сами: в пяти верстах от Привольного на высоком плато разбросало свои улицы старинное, типично ставропольское село Богомольное. Сразу же после гражданской войны в Богомольном был создан овцеводческий совхоз, и хутор Привольный стал отделением этого совхоза. Только что назначенные директор совхоза и секретарь партячейки, еще ходившие в длиннополых кавалерийских шинелях и в буденовках, еще носившие на поясах маузеры в тяжелых деревянных кобурах, долго думали-гадали, какое дать имя новорожденному детищу, и никак не могли придумать. Обычно совхозы назывались так же, как и село, в котором они создавались. Но разве можно было, к примеру, назвать: овцесовхоз «Богомольный»? Получалось как-то нехорошо, не по-революционному. Звучало как насмешка. И вот тогда-то директор и вожак коммунистов мысленно обратились не куда-нибудь, а к Привольному, и тотчас было решено назвать молодое хозяйство просто и красиво: овцесовхоз «Привольный».
Главная контора так и осталась в Богомольном, а хутор Привольный, давший имя совхозу, стал вторым отделением. С той поры прошумело немало лет, многое изменилось и в селе и на хуторе. Привольный разросся, удлинился, в нем были построены школа-десятилетка, в которой я учился, клуб, где каждый вечер либо показывали кинокартину, либо устраивали танцы под баян. Не забыли привольненцы и о своей, отделенской конторе. Это был двухэтажный домик под железной крышей — она была выкрашена в зеленый цвет и виднелась издали, как лужайка, с широкими окнами, с кабинетами и телефонами: поговорить можно было даже со Ставрополем. Улица блестела асфальтом, особенно после дождя, и тротуары черными кушаками вытянулись вдоль тополей. Однако то главное, по словам моего дяди Анисима Ивановича, «извечное, свое, кровное», что обычно отличало всякий чабанский хутор от иных степных поселений, в Привольном осталось неизменным, и вот по какой причине. Мой дядя Анисим Иванович — человек по натуре консервативный, не любивший ни перемен, ни новшеств. И когда он стал управляющим отделением, то сказал всем запомнившиеся слова:
— Наше овечье дело машиной не попрешь. Каким оно было испокон веков степным и ручным, таким и останется. Нам, чабанам, техника без надобности, потому как машинами шерсть не взрастишь и механической ярлыгой овцу не изловишь. И пусть что ни вытворяет Сероштан там, на своей Мокрой Буйволе, а ничего, окромя посмешища, из этой его затеи не получится. Пусть себе Сероштан умничает, а мы пойдем своей, близкой нашему сердцу дорогой.
Вот почему вблизи Привольного так же, как во все года, застаревшими скирдами соломы темнели кошары с узкими лазами-воротцами и все так же, как и в старину, кружил вокруг колодца с высоким срубом кривоногий конь с косынкой на глазах, и все так же, как во все времена, плескаясь водой и громыхая, опускались и поднимались огромные бадьи. Так же, как и десять или двадцать лет назад, можно было встретить на виду у Привольного попасом идущую отару, чабанов в кудлатых папахах и с ярлыгами на плечах и даже арбу в верблюжьей упряжке, потому что дядя Анисим Иванович, как завзятый чабан, держал в хозяйстве одного верблюда только для того, чтобы и этим отличиться от сероштановской Мокрой Буйволы.
— А какая чабанская арба без верблюда? — спрашивал он и сам же отвечал: — Да никакая! Назло Сероштану сохраню горбатого работягу, пусть украшает общий вид наших отар.
Ходили возле отар и скучающие от безделья волкодавы, и варились где-нибудь в ложбине чабанские шулюмы — супы на костре из крупных кусков баранины, — словом, в Привольном овцы остались овцами, а чабаны чабанами, и мой дядя этим гордился.
Анисиму Ивановичу хорошо было известно, что у соседей, на хуторе Мокрая Буйвола, где управляющим был Андрей Аверьянович Сероштан, за последние годы вся чабанская жизнь так переродилась и так обновилась, что и узнать ее нельзя. Недавно окончив сельскохозяйственный институт, факультет овцеводства, Андрей Сероштан вернулся в Мокрую Буйволу и занялся переустройством хозяйства. Он нашел поддержку у нового директора совхоза Суходрева Артема Ивановича, тоже молодого, энергичного, любившего, как и Сероштан, все новое, передовое. Прошло немного лет, и на Мокрой Буйволе не стало ни кошар под серыми соломенными крышами, ни колодца с бадьями, ни верблюжьей упряжки, ни волкодавов. По отлогому взгорью, недалеко от Мокрой Буйволы, протянулся овцеводческий комплекс. В ту пору еще никто не знал, как надо было строить такого рода сооружения, и поэтому Сероштан предложил свой проект комплекса, который состоял из двух кирпичных зданий с просторными базами. В одном здании содержалось маточное поголовье, в другом — молодняк. Кошары эти вместе с базами были обнесены высокой изгородью, в них дневали и ночевали двадцать две тысячи голов овец, и ни в кошарах, ни в базах не было видно ни чабанов с ярлыгами, ни подпасков, ни сакманщиков или третьяков. Начисто перевелись и волкодавы. Только у старого чабана-пенсионера Силантия Горобца еще сохранились от отар три собаки из породы волкодавов — людям напоказ.
Как же содержались животные в этом овцекомплексе? По строгому, научно обоснованному распорядку. Посредине обоих базов, из конца в конец, двумя рядами тянулись кормушки, над ними легкими крыльями поднимались шиферные навесы, которые надежно защищали животных от солнца и дождя. Водопойные ячейки походили на небольшие железные блюдца: как только овца ткнется мордой в это блюдце, сразу же появится вода — чистая, родниковая, пей, сколько душе угодно. Андрея Сероштана радовало то, что животные быстро отвыкли от знакомой им степной жизни и так же быстро привыкли к тому распорядку, который был установлен на комплексе, особенно привыкли к звукам моторов, и теперь, как только трактор где-то еще издали подавал урчащий голос, овцы сразу же настораживали уши и бежали к воротам — условный рефлекс срабатывал точно и безошибочно. Трактор тянул прицеп с кормами, автомат равномерно клал в кормушки мелко иссеченную траву, и когда эта работа завершалась, открывались ворота и все стадо серой массой наваливалось на кормушки. Говоря иносказательно, в Мокрой Буйволе ярлыги взяли в свои руки не чабаны, а умные машины, и поэтому там, где раньше работало, к примеру, сорок чабанов с подпасками и третьяками, теперь управлялись четыре-пять мужчин, и именовали они себя уже не чабанами, а овцеводами-механизаторами. Одних удивляло и радовало, других, как, например, Силантия Горобца, сильно огорчало то, что в Мокрой Буйволе больше не существовало тех степных бродяг, кто, вскинув на плечо ярлыгу, беспечной походкой двигался следом за отарой, на многие месяцы уходя далеко за горизонт. Теперешний овцевод ночевал дома, в тепле, с семьей, не стыл под степным осенним ветром, а грелся у жены под боком, не мок под дождем во время непогоды. К тому же на комплексе для него были столовая, и общежитие, и газеты, и радио, и телевизор.
Вскоре и я понял, что именно эти перемены в Мокрой Буйволе и стали причиной той ненависти, которую питал мой дядя Анисим Иванович к Андрею Сероштану. Стало мне известно и о том, что самым ходовым словом в Мокрой Буйволе сделалось слово «комплекс». Правда, не сразу, не вдруг. Поначалу, когда Андрей Сероштан, объясняя чабанам свой план перестройки овцеводческого хозяйства, первым назвал это слово, оно показалось хуторянам каким-то чужим, нескладным в произношении, оно как-то неловко, неудобно ложилось на язык, и все же привыкли к нему быстро. Теперь можно было услышать:
— Эй, дружище, это и есть Мокрая Буйвола?
— Проезжий, запомни раз и навсегда: это уже не Мокрая Буйвола, а овцекомплекс.
— Чудо! Что ж оно такое — овцекомплекс? И с чем его едят?
— Не прикидывайся дурачком. Разве не видишь те строения, что стоят по бугру?
Или:
— Кирюха, куда собрался так рано?
— Известно, поспешаю на комплекс. Через час заступаю на смену.
— Ну-ну, поспешай, на комплекс опаздывать нельзя. Там все расписано по графику. Это тебе не степное гуляние с ярлыгой на плечах.
Значительно позже, когда я уже несколько раз побывал в Мокрой Буйволе и осмотрел детально сероштановские нововведения, я как-то спросил молодого овцевода-механизатора:
— Ну как? Привыкли к комплексу?
— Ого! Еще как привыкли! Дело подходящее.
— Как же с ярлыгами на комплексе? Все еще имеете? Или уже сдали в музей?
— Ну как же без ярлыги? — ответил овцевод-механизатор. — И незачем ее сдавать в музей, себе пригодится. Хоть мы зараз вроде бы и обезоруженные, то есть находимся, можно сказать, не при ярлыге, а при моторах и уже не кладем ее, нашу разлюбезную подружку, на плечо, не гуляем с ней по степи, а все ж таки без этого важного житейского инструмента и на комплексе не обойтись. Допустим, вам надо изловить нужного барашка или нужную ярочку. Как? Каким манером? Берем за ногу ярлыгой, действуем простым дедовским способом, то бишь без всякой механизации.
— А как же на комплексе с волкодавами? — поинтересовался я. — Что-то их тут не видно.
— Вот без волкодавов обходимся, — ответил молодой овцевод-механизатор. — Отжили свое собаки, стали ненужными.
— Куда же они подевались?
— Кто их знает, степь-то широкая. А что? Нынче четвероногие охранники нам без надобности. — И тут же молодой овцевод-механизатор пояснил: — Одно — то, что в наших местах волков давно уже нету, а другое — то, что отары на комплексе так надежно обнесены железной изгородью, что никакая зверюшка, даже двуногая, к ним не залезет. А ежели вы хотите посмотреть волкодавов, то пойдите к деду Горобцу. Старик приютил в своем дворе целую троицу, любуется ими, разговаривает с ними, будто с разумными существами, потому как старый чабан сильно привык к собачьей дружбе.
8
Самым примечательным местом в Привольном была обыкновенная водоразборная колонка. На середине хутора стояла невысокая чугунная тумба с ручкой, до блеска натертой ладонями — только нажми ее, и вода потечет, как из родника. Появилась она на улице недавно, можно сказать, вместе с асфальтом. Раньше воду в Привольный, привозили на быках — занятие нелегкое и канительное. Ездили к Птичьему роднику, версты за три, ведрами наливали воду в бочки и потом развозили ее по дворам. Теперь же из того Птичьего родника вода торопилась в Привольный сама, по трубам.
Возле водоразборной колонки, как близ деревенского колодца, всегда можно было встретить двух-трех баб с ведрами и коромыслами, узнать от них хуторские новости, такие, к примеру, как кто на ком женился, кто с кем развелся, что сказала бабка Фекла и что говорил дед Корней. Место это было всегда людное, говорливое, шумное, потому что сюда не только приходили хуторяне с ведрами, а и подруливали все автомашины, какие только проезжали по тракту, и тишину Привольного частенько нарушали то гул моторов, то голосистое попискивание тормозов. Каждый день ровно в двенадцать к водоразборной колонке подворачивал автобус, старый, как столетний дед, с побитыми крыльями, с рыжими, густо завьюженными дорожной пылью боками. Этот шоссейный трудяга спешил из Ставрополя в село Апанасенковское, чтобы ровно в шесть часов уже вернуться из Апанасенковского, направляясь в Ставрополь. И шофер и пассажиры хорошо знали водоразборную колонку, радовались случаю, чтобы возле нее малость размяться, отдохнуть, попить воды, умыться.
А сегодня это людное место стало невольным свидетелем несколько необычного для Привольного происшествия: исчезновения моей двоюродной сестренки Кати. Это случилось среди бела дня. Многие привольненцы видели, как к колонке подкатил новенький «жигуленок» цвета ковыль-травы и как он резко затормозил — колеса заплакали в голос и поползли по асфальту, оставив на нем черный след. Как раз в это время возле колонки никого не было, стояла, опустив к ногам ведра с коромыслом, одна Катя. Из соседних дворов видели, как молодцеватый на вид шофер открыл дверку и сразу же ее захлопнул. В ту же секунду «жигуленок» цвета ковыль-травы рванулся с места, как табунный пугливый конь, и не покатился, а, казалось, птицей полетел, не касаясь колесами земли, и Катю точно бы сдуло ветром: возле колонки, где она только что стояла, остались ее ведра да коромысло на них.
Час и два отец с матерью поджидали дочку с водой, а она не приходила. Наступил вечер, а Кати все не было. Всполошились не только родители, а и хуторяне, терялись в догадках, не знали, что и подумать, ибо такого приключения в Привольном еще никогда не было. Анисим Иванович, матерясь и проклиная белый свет, оседлал мотоцикл и в ночь укатил в Богомольное к участковому милиционеру. Разумеется, разгневанный и опечаленный отец не знал, что в тот самый час, когда он, волнуясь и часто повторяя «некоторые из которых», рассказывал участковому о странном исчезновении своей дочери, тот же «жигуленок» цвета ковыль-травы вернулся в хутор с потушенными фарами. Вблизи колонки незаметно, по-воровски вкатился во двор и остановился возле крылечка с нарисованными на нем ковриками. Из «Жигулей» проворно вышла Катя, оправила смятое снизу платье и, постучав в дверь, негромко сказала:
— Бабуся, открой… это мы…
Я находился в соседней комнате, и мне было слышно, как звякнула щеколда, открылась дверь и моя бабуся певучим голосом сказала:
— Ой, внученька, голубонька моя! Совсем заждалась вас. А где Андрюша?
— Бабушка, я тут, — отозвался басовитый голос.
— Ах, разбойник-разбойник, куда ж ты внучку мою укатил, — ласково говорила бабуся, когда к ней подошел Андрей. — И чего так долго не приезжали? Я уже думала, шо вас милиция изловила. Ну, проходите в хату, милые вы мои беглецы.
— Изловить нас не так-то просто, — пробасил Андрей, переступив порог. — Мы — неуловимые.
— У нас колеса быстрые, — смеясь ответила Катя.
— А батько твой тоже на быстрых колесах умчался в Богомольное, в милицию жаловаться.
— Что ж ему делать? Пусть жалуется, — сказал Андрей.
— Где же вы так долго пропадали?
— В Кизиловой балке, — так же весело ответила Катя. — Поджидали темноту.
— Эх, Кизиловая балка, Кизиловая балка, — мечтательно говорила моя бабуся. — Частенько я вспоминаю Кизиловую балку, а вместе с нею и свою молодость. Давненько это было, еще задолго до войны. В Кизиловой балке находилась наша стоянка. Красивое место. — Было слышно, как она обняла Катю и Андрея и спросила: — Ну, неуловимые, якие у вас теперича намерения?
— А что намерения? — переспросил Андрей. — Какие были, такими и остались. Завтра поедем с Катюшей в Совет, распишемся и отправимся ко мне, в Мокрую Буйволу. Мои старики давно нас ждут.
— Такое ваше намерение, дети, никуда не годится, — строго сказала бабуся. — Да ты шо, Андрюха? Али ненормальный? Як же можно увозить Катюшу в свой дом без родительского на то благословения? Нельзя, неможно. То, шо ты прокатил ее на «Жигулях», — еще не самое главное. Требуется согласие батька и матери.
— Так вы же согласны, бабуся? — смутившись, тихо сказала Катя. — Вы и благословите нас с Андреем.
— Нельзя мне. Было время, всю свою шестерочку благословляла, а вас не могу.
— Вы же и Андрюшу научили, как меня увезти, — тем же тихим голосом говорила Катя. — И мы все сделали так, как вы нас учили.
— Хорошие мои, якие вы послушные… Ладно, пособлю вам еще. Утром мы вместе пойдем к Катиному батьке. И хоть я знаю, сынок мой дюже брыкается и зараз он еще и злющий, як зверюка, а уговорить его все ж таки надо.
— А маму? — спросила Катя.
— С твоей мамой поладим, у нее серденько отходчивое. — Бабуся повеселевшим голосом добавила: — Ну, а теперь открою вам важную новость. Знаете, кто у меня зараз находится в хате?
— Не знаем, — ответила Катя. — А кто?
— Ни за что не угадаете.
— А вы скажите.
— Чего сказывать-то, сами зараз побачите. Эй, Мишуха, выходи!
Я показался в дверях, глупо улыбаясь, и Катя с криками «Ой, Миша! А борода! Неужели это ты?!» бросилась обнимать и целовать меня.
— Катерина! Как ты выросла! — говорил я, чувствуя жаркое дыхание сестры. — Не узнать! Была девчушкой, а теперь…
— Подольше бы не заглядывал в хутор, так и совсем бы меня не признал, — смеясь и блестя глазами, ответила Катя. — Ой, мамочки, у нашего Миши борода! На попа похож, честное слово! — Она ласково, без улыбки смотрела на Андрея. — Миша, познакомься. Это Андрюша.
— Твой жених?
— Ой, Миша, да ты все уже знаешь?
— Знаю и радуюсь за тебя.
Передо мной стоял коренастый, крепко сбитый парень с белесым, мягко вьющимся чубом. Шея у него, словно бы отлитая из красной меди, выступала над белым расстегнутым воротником рубашки. Мы поздоровались, я почувствовал жесткую силу его руки и невольно спросил:
— Наверное, занимаешься боксом?
— Что ты, какой бокс? — искренне удивился Андрей. — Мой бокс — овцы. У меня их больше двадцати тысяч, так что заниматься боксом некогда.
— Миша, как же хорошо, что ты приехал, — радостная, возбужденная, говорила Катя. — И как раз к нашей свадьбе. И как ты мог узнать, что я выхожу замуж?
— Очевидно, помогла телепатия, — ответил я. — Веришь, Катюша, все эти дни меня тянуло в Привольный. Не мог понять: почему? Я даже чувствовал запах полыни. А теперь все понимаю: потому меня тянуло в Привольный, что моя милая сестричка выходит замуж. Как же я мог не приехать?
— Ну, молодежь, набалакаться еще успеете, будет время, а зараз всем пора спать, уже поздно, — строго сказала бабуся. — Ты, Андрюха, отправляйся на своем бегунке в Мокрую Буйволу, хорошенько поспи дома, а утром приезжай. Да смотри являйся пораньше и не опаздывай.
— А Катя? — спросил Андрей. — Как же без нее?
— Твоя Катюша переночует у меня, — ответила бабуся спокойно. — Ничего с нею не случится.
— Катя, без тебя я никуда не поеду. — Андрей виновато двинул плечами. — Да у меня и бензин в баке кончился. До Мокрой Буйволы не доеду.
— Андрюша, послушайся бабушки. — Катя с мольбой в глазах смотрела на Андрея. — Раз бабуся советует…
— Андрюха, сынок, поезжай, — говорила бабуся. — Только смотри не проспи.
— Михаил, поедем со мной, — обратился Андрей ко мне. — Дорога между нашими хуторами отличная, прокачу тебя с ветерком. Да и посмотришь, где и как я живу. Поедем, а?
— А бензин? — спросил я.
— Минуту подожди тут, в Привольном у меня друг-шофер, я возьму у него бензин, — сказал Андрей, направляясь к выходу. — Я быстро.
Катя проводила Андрея до машины и минут через пять вернулась в хату тихая, грустная, припала к бабушке и заплакала.
— Эх, девичество, какое оно слезливое, — говорила бабуся, положив ладонь на голову внучки. — Ну, чего слезы?
— Он сел в машину и уехал, а мне стало страшно, — сквозь слезы говорила Катя.
— Нечего тебе страшиться, разлучаешься-то не навеки. Да и впереди их, этих разлук, сколько еще будет. Помню, и у меня были разлуки, и мне казалось, шо без своего Ивана и дня не смогу прожить. — И бабуся взгрустнула. — Потом пришла самая страшная разлука — проводила Ивана на войну. Не знать бы тебе, девонька, той разлуки, яку я познала…
— Бабуся, я не могу без него… Вот при Мише скажу — не могу.
— Так сильно полюбила? — спросил я и вспомнил свою Марту.
— Угу…
— Ничего, Катюша, все будет хорошо, — говорила бабуся. — Вот Мишуха и Андрюха уедут, а мы ляжем спать. Утром пойдем к батьке и матери. Самое важное для тебя теперь — надо хорошо выспаться.
— Я ни за что не усну.
— Да неужели? — искренне удивилась бабуся. — Так-таки и не уснешь?
— Ни за что! — уверяла Катя. — Да и как же можно спать?!
— Глупенькая, можно, и еще как можно. — Бабуся подняла Катину голову, вытерла ей глаза. — Вот и Мишуха то же скажет. Как, Мишуха, можно Катерине спать?
— Мне трудно сказать, — ответил я. — Но спать надо.
— Ты небось голодная?
— Что вы, бабуся! — Катя смотрела мокрыми, счастливыми глазами то на бабушку, то на меня. — Андрюша, знаешь он какой?
— Какой же он? Обыкновенный.
— Что ты! Он заботливый. — Катя загадочно улыбнулась мне, как бы говоря: «Вот у меня какой жених, и ни ты, ни бабушка не знаете Андрюшку». — В машине все у него было припасено: и хлеб, и колбаса, и свежие огурцы, и даже ситро. В Кизиловой балке мы пообедали прямо на траве, и нам было так хорошо, что мы не заметили, как и ночь наступила.
— Ну, будем спать, — сказала бабуся, — уже поздно.
Не дожидаясь возвращения Андрея, бабушка постелила на диване, и когда Катя в коротенькой ночной рубашонке, с распущенной косой, похожая на девочку, юркнула под одеяло, она присела у ее поджатых ног, поправила на плечах одеяло, сказала:
— Ну вот и спи.
— Ни за что! — решительно заявила Катя. — Вот так, не сомкнув глаз, и пролежу до утра.
— А ты постарайся уснуть, — настаивала бабушка. — День-то завтра будет трудным.
— Бабуся, а почему отец не хочет, чтобы я стала женой Андрея? — спросила Катя, подтягивая одеяло к подбородку. — Мама согласна, а отец никак…
— Враждует он с Андрюхой, вот в чем беда.
— Почему же Анисим Иванович враждует? — спросил я. — Что он не поделил с Андреем?
— Кто его знает, — ответила бабуся, поджав тонкие губы. — Видать, по-разному они живут.
— Если Андрюша любит меня, а я люблю его, при чем же тут вражда?
— И я так думаю, шо вражда тут ни при чем, а получается, вишь, не так. — Бабуся помолчала. — А еще батько твой хотел, шоб ты кончила институт.
— Он же знает, я ездила в Ставрополь, хотела поступить учиться и провалилась на экзаменах. — И снова на глазах у Кати появились слезы. — Бабуся, ты же в институте не училась, была женой чабана и даже сама чабановала. И ничего…
— То я, а то ты, — ответила бабуся грустно. — Мы с тобой хоть и родные, а совсем разные. Ить верно, Мишуха? Да и время ныне другое. Про учебу мы тогда не думали, а теперь вы устремляетесь в институты или еще куда.
— Бабуся, а как ты выходила замуж? Расскажи. Вот и Миша послушает.
— У нас с Иваном все было проще, нежели у вас с Андреем. Иван, твой покойный дедушка, ух, геройский был парень. Таких теперь нету.
— А Андрюша?
— Ну разве шо Андрюша, — согласилась бабушка. — Иван был наш, хуторской, полюбил меня, а я полюбила его. Пришел он со сватами к моей матери — батька у меня не было, погиб в гражданскую. Мать благословила нас. Сыграли свадьбу, зиму пожили у нас, а по весне, когда зазеленела степь и отары оставили кошары, чтобы пойти на подножный корм, мы уехали с арбой следом за овцами. Так а началось мое замужество. Была я для Ивана и женой, и хозяйкой при отаре, сказать, арбичкой, и матерью наших детишек. А они, голубята мои, зачали плодиться одно за другим, почитай, каждый год, и пошла, покатилась, как катится чабанская арба под гору, наша степная житуха. И все было бы хорошо, ежели б не проклятая война. — Бабуся тяжело вздохнула, помолчала, услышав тихое посапывание. — Ну вот, моя бессонная, уже готовенькая, спит. А как клялась, шо нияк не заснет. Шо тут скажешь, молодечество, оно с бессонницей не дружит. — Бабуся прикрыла одеялом голое Катино плечо. — Вот в мои-то годочки пока дождешься того сна, так обо всем успеешь передумать, всю свою жизню переберешь в памяти… А вот и жених вернулся. — Бабуся шепотом обратилась ко мне: — Не надо будить Катю, иди к нему, поезжайте, а завтра пораньше возвращайтесь.
9
От Привольного до Мокрой Буйволы «Жигули» катились спокойно, Андрей не спешил, на пригорках слегка притормаживал, наверное, нарочно, чтобы отсюда, с возвышенности, показать своему гостю и ночную, укрытую сизой дымкой степь, над которой, скучая, одиноко парубковал полнолицый месяц, и шоссе, что широкой лентой улетало под колеса, лоснясь и поблескивая в лучах фар. Был он грустен и молчалив, на мои вопросы отвечал несвязно и кратко, и когда я так, лишь бы не молчать, похвалил машину и спросил, давно ли она куплена и трудно ли здесь вообще купить «Жигули» или «Москвич», Андрей не ответил, казалось, ничего не слышал. В это время «Жигули» свернули с шоссе и, покачиваясь и подпрыгивая на мягких рессорах, поехали по проселку. На взгорье, в лунном сиянии, показалась Мокрая Буйвола — хутор не больше Привольного, а дальше и еще выше, на выгоне, был виден сероштановский овцекомплекс — темнели приземистые здания с базами и между ними ровными строчками подмигивали фонари.
— «Жигули» я не покупал, у меня и денег таких нет, — наконец ответил Андрей. — Это — подарок, вернее — премия.
— Кто ж ее тебе дал?
— Видишь вон те огни на пригорке? — вместо ответа спросил Андрей. — Наш овцеводческий комплекс. Так вот за него я получил премию, вернее сказать, за свой почин. То, что я первым сделал в Мокрой Буйволе, понравилось многим, ко мне приезжали перенимать опыт из соседних районов, и теперь уже немало хозяйств, где такое жилье для овец сделано намного лучше, нежели у нас. И все же я как зачинатель получил премию, — заключил он и снова замолчал, внимательно глядя на гравийную, побитую грузовиками дорогу.
— А что же Привольный отстал от Мокрой Буйволы? — спросил я. — Мой дядя живет рядом, а опыт соседа еще не перенял?
— Твой дядя, а мой будущий тесть — это разговор особый, — сухо ответил Андрей, когда «Жигули» остановились у ворот. — Ну, вот мы и приехали.
Дом Сероштана находился на главной улице, и среди мокробуйволинских хатенок-мазанок, точно таких же, какие я уже видел в Привольном, отличался тем, что возвышался на фундаменте, сложенном из камня-известняка, и имел большие окна с наружными ставнями. В нем было четыре комнаты, кухня и застекленная веранда — тоже новшество для этих мест. Покрыт он жестью, и в прошлые годы, бывало, каждую весну крыша зеленела, как луг после майских дождей, и всяк, кто сворачивал с шоссе и направлялся в Мокрую Буйволу, уже издали по зеленой крыше угадывал сероштановское подворье. В последнее же время крыша не красилась и стала темно-серой, с грязными подтеками. Надобно сказать, что дом этот строился с расчетом на большую семью. Аверьян Самойлович Сероштан, потомственный чабан, более сорока лет проходивший по степи с отарами, и его супруга Клавдия Феодосьевна не пожалели ни нажитых за многие годы денег, ни труда и построили дом еще тогда, когда их пятеро детей только-только начинали подрастать и старшему сыну Григорию шел тогда четырнадцатый год. Думали родители так: сыновья и дочери скоро подрастут и под родительским кровом для всех хватит места. Оказалось же, думки с делами не сошлись: дети подрастали и улетали, как птицы из гнезда, из родительского дома. Первым оставил отцовское гнездо Григорий Сероштан. Ушел в армию, да там и остался. Писал, что окончил офицерское училище и стал пограничником и теперь вместе с женой Анной и сыном Алешей живет на заставе. «Видно, ничего, мать, не поделаешь, выходит так, что не всем пасти овец, кому-то нужно и границу оберегать», — рассудительно говорил Аверьян Самойлович, успокаивая не столько жену, сколько себя.
Старшая дочь Елена вышла замуж в Краснодаре, еще когда училась там в медицинском, и в настоящее время с мужем и двумя дочками живет в Иркутске и работает в больнице. О своем родном хуторе даже в письмах не вспоминает. «Я тебе, батько, так скажу, — вытирая платочком слезы, говорила Клавдия Феодосьевна, — нету в нашей Мокрой Буйволе больницы, вот через то Леночка к нам и не приехала, а была бы больница, как в том Иркутске…» Младшая, Ниночка, поступила в техникум, тоже вышла замуж и в Мокрую Буйволу даже в гости не приезжала: жила в Сочи, работала медицинской сестрой, писала, что у нее родился мальчик, назвали его Петром. «Все находятся при деле, у всех рождаются детишки, и на кой бес им наша Мокрая Буйвола, — с той же тоской в голосе и так же рассудительно говорил старый Сероштан. — И ты, мать, не плачь, слезами нашему горю не поможешь».
Средний сын Николай уехал на строительство автомобильного завода, стал там шофером, женился на какой-то Асе и написал отцу и матери: «Тружусь на самосвале, зарабатываю хорошо, недавно получил квартиру — две комнаты с кухней, и уже в новой квартире у нас родился сын, а ваш внук Александр Сероштан. В гости меня не ждите, нету свободного времени, а отпуск мы проводим в заводском пансионате…» Погоревали и над письмом Николая, мать даже всплакнула в кулак. «И у этого никакого интереса нету к овце», — заключил отец. Мать о своем, не только о детях, а и о внуках: «Аверьян, а сколько у нас развелось внучат? — спрашивала она, и слезы катились по ее морщинистым щекам. — И счет им потеряла. Хоть бы переписал всех их на бумаге по именам. Ить и они нас не знают, да и мы их в глаза не видали…»
Старики опасались, что в Мокрую Буйволу не вернется и самый младший, Андрей, и уже начинали подумывать, как же им поступить с этим, никому не нужным, домом. Жить-то, оказывается, в нем некому. Клавдия Феодосьевна, женщина в житейских делах опытная, советовала мужу продать все подворье и уехать доживать век поближе либо к какому-либо сыну, либо к одному из зятьев. «Я им бы внучат нянчила», — заключила она. «И кому мы там нужны, старые, будем только в тягость молодым, — сердито возражал старик. — А к тому же, не забывай, что я чабан, и через потому со своего родного хутора никуда не поеду: тут я зародился, тут растил овец, тут и помру. А насчет того, что большой дом остался никому не нужным и нам, старикам, жить в нем сумно и скушно, так мы можем пустить в него квартирантов, чтоб веселее жилось. Приезжают же к нам молодые зоотехники, а жилья у них нету, вот пусть и живут, ежели свои дети не хотят с нами жить».
И как же старики обрадовались тому, что
после учебы сын Андрей не только вернулся в Мокрую Буйволу, а и прирос, что называется, пуповиной к своему степному хутору.
— Чуешь, батько, все ж таки есть бог на небесах, — крестясь, говорила Клавдия Феодосьевна. — Это он, всевышний, направил к нам Андрюшку, повелел ему возвернуться. Жаль, что церковь далеко, а то пошла бы помолилась.
— Ошибаешься, мать, скорее всего наш Андрей возвратился в хутор не по велению бога, а по партийному приказу. В партии как? Вызвали, приказали, и готово, дело сделано. Подчинись, и все, никаких излишних разговоров, — пряча в жестких усах улыбку, заключил Аверьян Самойлович.
Когда же Андрей объявил отцу и матери, что женится на Катюше Чазовой, старики все эти дни только и жили мечтой о скорой встрече с невесткой. Им казалось, что когда Андрей приведет жену, то с приходом молодой хозяйки оживет и их опустевший дом. А там, гляди, появятся внучата, те, какие станут жить рядом с бабушкой, а вместе с ними придут и непривычные и радостные хлопоты.
Андрей попросил меня открыть ворота. В ночной тишине запищали ржавые петли, и «Жигули» неслышно, по-воровски вкатились в просторный темный двор. Машина была поставлена не в гараж — во дворе его еще не было, — а под навес, как раньше ставили к яслям верховых, потных, только что расседланных лошадей, и мы с Андреем направились в дом.
— Мои старики давно спят, — сказал Андрей. — Не станем их будить, пройдем не в крыльцо, а через веранду. У меня есть ключ.
Пройти же через веранду нам не удалось. В этот поздний час мы еще раз убедились в том, что все старые люди спят по-куриному чутко, а старики Сероштаны тем более, потому что они и в эту ночь поджидали сына, и не одного, а с невестой. Поэтому, когда запищали ворота и по двору почти неслышно прошуршали колеса, мать первая уловила знакомые звуки и радостно сказала:
— Батько! Андрюша и Катя приехали!
Старики заторопились. Мать накинула на плечи шерстяной полушалок, отец надел — ради невестки! — еще днем старательно отутюженный костюм, который надевал в особо важных случаях и по большим праздникам. Мать зажгла свет во всем доме, желая показать молодой хозяйке, что здесь давно ждут кого-то дорогого, и, обрадованная и взволнованная, пошла через крыльцо встречать сына с невестой. Увидев рядом с Андреем не Катю, а какого-то бородатого мужчину в шляпе, она развела руками и спросила:
— Сынок, шо ж ты и сегодня без Кати?
Не успел Андрей сказать слово, как перед нами появился высокий костлявый старик с колючими и бурыми, засмоленными табаком усами. С любовью отутюженный костюм сидел на нем как-то уж очень просторно, седой жесткий чуб был смочен то ли одеколоном, то ли водой и кое-как приглажен набок.
— Что ж так, сынку? — вслед за матерью спросил он. — Обещал же. Или, может, дело у вас расклеилось?
— Дело, батя, не расклеилось, — уверенно ответил Андрей. — Завтра мы поедем в Совет, распишемся, а оттуда — домой. — Андрей повернулся ко мне. — Это — Михаил Чазов, двоюродный брат Кати. Приехал из Москвы.
— Далече поразбрелись Чазовы, — сказал старый Сероштан. — Дошли аж до Москвы. А я близко знал одного Чазова, Ивана Тимофеевича.
— Это мой дедушка, — сказал я.
— Гарный був парняга, Ванюшка Чазов. — Старик покрутил ус, щуря глаза и внимательно приглядываясь ко мне, наверное, отыскивал сходство внука с дедом. — Вот только Ваня бородкой не баловался… Мы с ним и тут, на хуторах, и на войне были дружками. Геройски погиб Ваня под Ростовом, когда мы с ним переправлялись через реку Дон. А ты чей же сын?
— Анатолия Ивановича.
— А, это самый младший Чазов. Где же зараз твой батько?
— В Конго. Есть такая страна в Африке, — пояснил я.
— Ишь, и туда, в Конгу, добрались Чазовы. Молодцы ребята, — с улыбкой глядя на меня, говорил старик. — Все Чазовы — народ бедовый! Да и Сероштаны, слава богу, поразбрелись по белу свету, вот только Андрюшка наш — молодцом, прижился в родительском доме.
— Мама, нам бы с Мишей чайку, — попросил Андрей, не слушая отца. — И чего-либо перекусить.
— Зараз, сынок, зараз.
И старуха, сняв с плеч полушалок, захлопотала с той проворностью, с какой наседка хлопочет вокруг своего единственного птенца, стараясь, чтобы он не был голодным и чтобы его, упаси бог, не унес коршун. В большой комнате она раскинула на столе скатерть. Появились не только чай и вишневое варенье, а и пышные, еще теплые ватрушки, пирожки с мясом и творогом, словом, было подано на стол все, чем будущая свекровь собиралась попотчевать свою молодую невестку. Отец же, видя, что ему тут делать нечего, потоптался на месте, помял в жмене жесткие усы, хотел еще что-то спросить у сына и, ничего не сказав, ушел в свою комнату.
— Мама, и вы идите, спать, — сказал Андрей, наливая в стакан чай. — Мы и сами…
— Я тут, в стороночке, посижу да погляжу на вас, молодцов, — ответила мать и, скрестив на груди сильные, трудно гнущиеся в локтях руки, присела на табуретке. — Андрюша, ты все в бегах, дома почти не бываешь. А теперь ездишь на машине, так и вовсе про дом позабыл.
— Вот женюсь и стану домоседничать, — весело ответил Андрей. — От молодой жены ни на шаг.
— Когда же это будет?
— Я уже сказал: завтра.
— Не верится, сынок. — Тоскливые глаза матери с упреком смотрели на Андрея. — Может, нам с батьком, как бывало допрежь, взять паляныцю, рушники и пойти к Чазовым свататься? Быстрее дело кончим.
— Обойдусь, мама, без сватовства… Идите, идите спать.
— Хоть чуток посижу.
— Чего же вам сидеть? Ложитесь отдыхать.
— Твоему дружку я постелю в угловой комнате, — говорила мать, не собираясь уходить. — Там ему будет спокойно.
— Постелите и идите спать, — настаивал на своем Андрей. — Ведь уже поздно.
— Прогоняешь мать?
— Не прогоняю, а прошу. Мы с Михаилом и сами почаевничаем.
На глазах у матери выступили слезы, и она, не вытирая их, ушла.
10
Мы остались одни, пили чай, молчали. Желая хоть как-то нарушить затянувшуюся паузу, я стал расхваливать ватрушки и пирожки, сказал, что мать у Андрея — женщина удивительно добрая и сердечная. Андрей не ответил и, позвякивая ложечкой в стакане, даже не взглянул на меня, голова его, наверное, была занята другими мыслями.
— И тебе не надо было бы ее обижать, — добавил я. — Ну пусть бы посидела с нами. Что тут такого? А то ведь ушла со слезами. Нехорошо получилось.
— Ты не знаешь моих стариков, а я их отлично знаю, и мне известно, почему мать так хотела посидеть вот тут, на табуретке. — Андрей встал и, вскинув головой и поправив спадавшие на лоб волосы, прошелся по комнате, плечистый, сильный. — Начала бы расспросы, и все о том же, о моей затянувшейся женитьбе. Надоели мне эти расспросы да советы. Не маленький, без чужих подсказок знаю, что делать. Хорошо еще, что отец ушел сам, наверное, тебя постеснялся. Тоже большой охотник поучать и читать мораль. Между прочим, это характерная черта всех старых чабанов. Они считают, что раз за многие годы хождения за отарами у них было время не спеша и обстоятельно обо всем подумать, то они и имеют право поучать других, а тем более своих детей. Отец, например, считает, что я живу неправильно, то есть не так, как следовало бы мне жить, и это «живу неправильно» состоит, по его глубокому убеждению, главным образом в том, что мне уже под тридцать, а я еще не женат. Да, сознаюсь, с женитьбой малость припозднился, но для этого были свои причины. И одна из этих причин — это та, что в те годы я не встретил девушку, которую мог бы полюбить, как полюбил твою сестренку. Но разве это могут понять ворчливые мои старики? Им вынь да подай. Отец не раз упрекал: дескать, нормальные мужчины все делают вовремя, и то, что я женюсь так поздно и, как он уверен, «не по-людскому», для него и есть ненормальность. А что ему до того, что Катю я ждал четыре года?
— То есть как — ждал?
— Очень просто, как обычно ждут. Полюбил ее еще школьницей. — Понуря голову и придерживая чуб рукой, Андрей медленно шагал по комнате, а я молчал, хотелось услышать, что же он еще скажет. — Дождался, невеста выросла, и все было бы прекрасно, если бы не упрямство твоего своенравного дядюшки. А тут еще дело осложнилось этим дурацким похищением. Послушался доброго совета бабушки Паши. А ведь, посуди сам, воровство невесты в наши дни — это же чистейшая глупость, смешной анахронизм, никчемная затея. Бабушка Паша посоветовала, а я, дурак… — Он не договорил, подсел к столу, как-то странно улыбаясь. — Что это мы все обо мне да о моей женитьбе. Миша, что у тебя? Какие планы в Привольном?
— Никаких планов.
— Ну-ну, так-то я тебе и поверю.
— Просто приехал к бабушке в гости. Хочу пожить в Привольном на приволье, вспомнить детство.
— Не верю. Я же читал твои «Сельские этюды».
— Ну, и что скажешь? Понравились?
— Хороши, только бы надо как-то пошире, покрупнее. — Андрей смутился, покраснел, как девушка. — Наверное, сам знаешь, что степная жизнь на одной ковыль-траве и на полыни не сходится, и частенько она бывает позначительнее полевого мака.
— Так что же, по-твоему, важнее и значительнее степного мака? Ковыль-травы и полыни?
— Многое, — помолчав, нехотя ответил Андрей. — Ну, хотя бы тот же Анисим Иванович Чазов. Тебе известно, когда-то он был знатным чабаном, гордился своими наградами и своей славой. Потом его назначили управляющим. И оказалось, что он привык не только к славе и почестям, а и к тому, что испокон веков делалось раньше и делается теперь в Привольном, и ни о чем ином и помышлять не желает. То, что в Мокрой Буйволе отары переведены на стационарное содержание, он считает величайшей глупостью и что повинен в ней я, Андрей Сероштан. После этого как же ему любить и уважать своего будущего зятя? А тут еще на общесовхозном партсобрании я выступил с критикой, сказал и о его примитивных соломенных кошарах, с которыми он никак не может, да и не желает расстаться, и о том, что в этих кошарах чабаны хранят никем и нигде не учтенных овец… А теперь вот еще — украл Катю. Так что у твоего дядюшки есть веская причина не выдавать замуж за меня свою дочь. — Андрей склонил чубатую голову над столом и долго молчал. — Эх, заменить бы всех стариков людьми молодыми, образованными, энергичными, и это в первую очередь относится к твоему дядюшке. А то ведь что у нас получается? Анисим Иванович и ему подобные остановились и стоят, как пни на дороге. И через то трудно, очень трудно расти молодым руководителям.
— Преувеличиваешь, Андрей, — сказал я. — Как же тебе, такому молодому, и уже удалось стать управляющим?
— Во-первых, двадцать восемь годков — не молодость, а во-вторых, мне помог случай, — сказал Андрей. — Как известно, до меня управляющим здесь был Силантий Егорович Горобец. Старейший чабан, колоритнейшая фигура. Киношники, фотокорреспонденты так и липли к нему. Дважды Герой, седые усищи, высокий, несколько согбенный. Он родился в Мокрой Буйволе, и ему, как имеющему две Золотые Звезды, здесь, перед клубом, недавно поставили бронзовый бюст. Ничего не скажешь, заслужил старик. По натуре он — типичный степняк, страшный поборник старины и кочевой житухи. В Мокрой Буйволе лучше Горобца, к примеру, никто не может сварить шулюм. Ты когда-нибудь пробовал настоящий шулюм — чабанский суп?
— Как-то не приходилось.
— Ну как же так! — искренне удивился Андрей; он снова встал и, заложив сильные руки за спину, пошел по комнате. — Шулюм — кушанье особенное, я бы сказал, благородное, и надо, чтобы именно Горобец попотчевал тебя шулюмом. При отаре он был человеком незаменимым, а вот отделение оказалось ему не по плечу. Великий мастер шулюма дело вел неумело, по старинке. При нем я был младшим зоотехником, насмотрелся. Когда-то меня приглашали на работу в главк. Отказался, поехал в Мокрую Буйволу. Потом, разругавшись с этим колоритным дедом, хотел все бросить и уехать в главк. И вот тут подоспел случай. В это время в «Привольный» прибыл новый директор — Артем Иванович Суходрев. Всего на три года старше меня, а какой боевитый, сколько в нем ума, энергии! Неужели ты еще не знаешь Суходрева? Ну, брат, это настоящий директор. Обязательно побывай у него, познакомься. Вот он, Артем Иванович, и назначил меня управляющим в Мокрой Буйволе, вернее, не назначил, а сделал очень умно: провел выборы управляющего. Для тайного голосования было выдвинуто две кандидатуры — моя и деда Горобца. Перед своими избирателями мы выступали с речами, каждый говорил, как он, если его изберут, будет вести хозяйство. За меня проголосовали почти все хуторяне. Силантия Егоровича после этого проводили на пенсию, с почестями, как и полагается. Но он обижен, и особенно на меня. Демонстративно ходит по хутору с тремя волкодавами, на колени становится перед своим бюстом, говорят, шепчет или какую-то молитву или заклинание. Да ты что, и деда Горобца еще не знаешь? Ну ничего, узнаешь, он сам к тебе заявится с собаками, будет проклинать комплекс и Андрея Сероштана.
— Да, с таким чабаном грех не познакомиться, — сказал я. — Но мы ушли от главного, от женитьбы. Надо же завтра получить согласие Катиных родителей.
— Мне нужна жена, а не согласие ее родителей. — гневно, резким голосом ответил Андрей. — К тому же, будет получено это согласие или не будет получено, в наших личных отношениях с Катей — это я тебе говорю доверительно, как мужчина мужчине, — ничего не изменится. Катя — моя жена, я — ее муж, она любит меня, я люблю ее, а через восемь месяцев — это я тоже говорю тебе сугубо доверительно — она подарит мне сына или дочку. Запомни: не через девять, а через восемь… Так какое же еще нужно согласие родителей?
— Она уже беременна? — спросил я. — Так надо понимать?
— А чему ты удивлен? — Андрей дружески хлопнул меня по плечу. — Эх ты, бородач! Все тебя удивляет. А удивляться-то нечему. Как бы ни злился твой дядюшка Анисим, какие громы к молнии ни метал бы, а изменить что-либо в судьбе своей дочери он уже не может.
— Твои слова «мне нужна жена», согласись, можно понять, как «мне нужна вещь», то есть моя собственность, — заметил я несмело. — Понимаешь, звучит как-то не в духе времени.
— Зачем же меня так понимать? Мне нужна не вещь и не собственность, а именно жена, причем жена любимая, желанная, без которой жить нельзя и которая обязана заниматься только тем, чем ее одарила природа, то есть — рожать детишек. — Андрей остановился и долго, улыбаясь, смотрел на меня блестящими глазами. — Вот Катя этим и займется, и, я уверен, она с честью справится с такой нелегкой и благородной женской миссией.
— Значит, моя сестренка будет домохозяйкой?
— Не домохозяйкой, а, повторяю, матерью наших детей и моей женой, — твердо сказал Андрей. — Быть же настоящей матерью и женой — обязанность, как я ее понимаю, не из легких. Мы и так под видом равноправия иной раз перегружаем наших милых подруг и служебными долами, и работой на кухне, по дому, так что жена у иного мужа частенько бывает, что называется, и жнец, и швец, и на дуде игрец. Моя же Катя будет только матерью своих детей и только моей женой. От всех же прочих житейских забот я освобожу ее.
— Когда же свадьба? — спросил я, не желая вступать с Андреем в спор.
— Никакой свадьбы вообще не будет, — ответил Андрей, как о чем-то давно решенном. — Ни к чему это бесшабашное разгулье, пьянка, эти крики «горько», приправленные плоскими шуточками. Да, признаться, на свадьбу у меня нет ни денег, ни времени. В отделении столько дел. Надо как следует подготовиться к чабанской страде — стрижке. Миша, а известно тебе, что такое современная стрижка овец? Нет, ручаюсь, ничего тебе неизвестно! Удивительно красивое зрелище, есть на что посмотреть. А какие у нас стригали? Куда там привольненцам. Настоящие мастера своего дела. Машинки в их руках не стригут, а словно бы слизывают руно, эту кучу шерсти, снизу белую, с жировым розоватым оттенком, а сверху черную. Одна стригальщица выделяется особо, есть у нас такая — Евдокия Нечипуренко, золотые руки у девушки. Советую посмотреть, как работает Евдокия. — Андрей взглянул на часы. — Ого! Заговорились, скоро начнет рассветать. Пойдем, покажу твое жилье, и на боковую. Миша, а ты поживи у меня, места в доме хватит, — вдруг ласково сказал он, когда мы вошли в комнату с одним закрытым наружной ставней окном, со столом, на котором светилась под зеленым абажуром лампа, и кроватью с уже постланной постелью. — Будешь моим гостем, а?
— И рад бы, да бабушка обидится, — ответил я. — Она уже сказала, что та комнатушка, где я жил, когда учился в школе, все эти годы поджидала меня.
— А ты живи по очереди: то у меня, то у бабушки.
— Так, пожалуй, можно. — Я вынул из кармана пиджака зеленую, согнутую вдвое тетрадь и положил ее на стол. — Андрей, ты ложись, а я еще посижу, мне надо кое-что записать.
— Да, да, я понимаю, садись к столу и пиши.
И Андрей вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь.
11
Стол, раскрытая тетрадь, мягкий свет лампы на чистом листе. Полуночная тишина, какая бывает только на степном хуторе вдали от дорог, и вдруг послышался близко, казалось, рядом, за стенкой, гул мотора. Я прошел в зал, посмотрел в окно и увидел выезжавшие со двора «Жигули». Машина свернула вправо и, озаряя улицу ярким светом и набирая скорость, улетела в темноту ночи. «Значит, Андрею не спится, — подумал я, вернувшись в свою комнату. — Куда же это он умчался? Неужели в Привольный, к Катюше? Видно, не стерпело сердце молодецкое».
Я взял шариковую ручку, попробовал записать какие-то факты, услышанные и увиденные сегодня, и у меня ничего не получилось. Странно и непонятно. Отчего в моей голове пусто, ни важных мыслей, ни нужных слов. Долго я размышлял, а вразумительного ответа так и не нашел. Может быть, ответ следовало искать в том, что сразу, в первый же день, мною была получена слишком большая порция впечатлений? Тут и долгожданная встреча с бабусей, все такой же милой и доброй старушонкой, и это, на мой взгляд, ненужное, никчемное похищение невесты, и эта моя неожиданная ночевка здесь, у Андрея Сероштана, и разговор с ним, из которого я понял только одно: как же, оказывается, я мало и мелко знаю жизнь чабанского хутора. Надо полагать, все то, что я увидел и услышал сегодня, и все то, о чем рассказал мне Андрей, должно было, прежде чем попасть в мою тетрадь, как-то отлежаться и отстояться во мне самом и чтобы я не спеша, обстоятельно мог все это осмыслить, понять, взвесить и оценить. А для этого требуется время. Чтобы записать что-то нужное, хотя бы, к примеру, о Горобце и его волкодавах, необходимо повидаться с этим оригинальным старцем и с его псарней, а чтобы сказать что-то свое о директоре совхоза Суходреве, тоже необходимо было познакомиться и поговорить с ним.
Однако мне виделась и вторая, на мой взгляд веская, причина, не давшая ни слова записать в тетрадь, и она, эта причина, показалась мне посложнее и поважнее первой, — это сам Андрей Сероштан. И во внешнем облике — широкие плечи, курчавый, светлый чуб, и рассудительный тон в разговоре, и улыбка на чисто выбритом лице, и в том, как он относился к делу и к людям, — я увидел в нем что-то такое свежее и новое, чего раньше, бывая в этих краях, не встречал и не видел. И, наверное, поэтому невольно, сам того не желая, я то и дело ловил себя на мысли: в чем-то я по-хорошему завидую этому управляющему на хуторе Мокрая Буйвола. Мысленно я ставил себя рядом с Андреем, приравнивал, примерял себя к нему и огорчался: каждый раз убеждался, что эти сравнения и примерки были не в мою пользу. То, что имел он и что меня удивляло и радовало, не имел я, и того, чего мне недоставало, у него хватало с избытком. Я еще не знал, хорош ли он как хозяин и как управляющий, но в том, что он был человеком слова и дела, сомневаться не приходилось. Он первым поставил отары на стационар, и что бы там ни говорили его недруги, и в их числе мой дядя Анисим Иванович, построенный Андреем в Мокрой Буйволе комплекс — это новая страница в развитии тонкорунного овцеводства. И не случайно инициатива Сероштана подхвачена овцеводами всего Ставрополья, а сам он получил в награду «Жигули». Это и есть живое, осязаемое дело. Я же только еще мечтаю что-то сделать, а что именно — толком и сам не знаю. Он любит свою Катю какой-то своей, особенной, несколько грубоватой любовью и ради Кати не остановится ни перед чем, даже перед ее похищением, — мне бы так любить Марту. Он говорит то, что думает, заявляет, не стесняясь, без всяких обиняков: «Мне нужна жена». Эти обыденные слова почему-то показались мне обидными для Кати, мне они были неприятны даже после пояснения: жена любимая, желанная, без которой нельзя жить… А что? Теперь, подумав, я понимаю: правильно сказал Андрей, да, ему нужна именно жена в самом прямом и в самом высоком понимании. А кто нужен мне? Марта, у которой я живу, можно сказать, как у господа бога за пазухой, и которую не могу назвать своей женой? Или мне нужны те странные, а лучше сказать, ложные отношения, которые с нашего молчаливого согласия установились между нами? Он ждет от Кати детишек, да побольше бы, и уже с какой законной отцовской гордостью говорит о своем первенце! А чего я жду от Марты? Квартирных удобств? Половой близости? А вот теперь буду ждать от нее письма. Неужели у нас с Мартой нет того, что есть у Андрея и Кати? Если нет, то почему? А может быть, именно у нас с Мартой и есть как раз что-то большее, возвышенное, чем то земное и обыденное, о чем так убежденно говорил Андрей. До встречи с ним я как-то об этом не задумывался. Может быть, и так: у них одно, у нас другое, они — одни, а мы — другие. Но почему Марта была неискренна в день моего отъезда? До сих пор не могу понять, почему она, пожелав сказать мне что-то очень важное, что, судя по выражению ее лица, тревожило ее, вдруг ничего не сказала? Намекнула и умолкла. А почему умолкла? И почему я не заставил ее сказать мне то, что было у нее на уме? Сел в самолет и укатил на хутор Привольный, а какая боль мучила ее, какая тайна осталась у Марты на сердце, так и не узнал, и не узнал потому, что не пожелал узнать. Андрей Сероштан, я в этом уверен, поступил бы в данном случае не так, как поступил я. А как? Не знаю, но не так…
В эту ночь я так и не притронулся к моей зеленой тетради.
На другой день, когда я вернулся к бабушке, она рассказывала мне, как проснулась на зорьке, быстро, через голову, накинула юбку и, желая узнать, спит ли Катя, открыла дверь. Замерла на пороге и только руками развела: Катя спала, а у ее ног, на кончике дивана, сидел, пригорюнившись, Андрей.
— Та ты шо, парень, чи и дома не був?
— Только что приехал.
— А в хату як забрався?
— Через окно.
— Ах, разбойник! А где же Мишуха?
— Спит у меня дома. Ему спешить-то некуда.
— Чего ж ты его не привез? Может, в чем подсобил бы…
— Мы не пойдем просить благословения, — не слушая бабушку и не отвечая ей, сказал Андрей. — Все одно из той затеи ничего хорошего не получится. Да и зачем оно, это благословение?
— Это почему же не получится? Обязательно получится.
— Прасковья Анисимовна, идите одна, поговорите со своим сыном, успокойте его, а мы с Катей сядем в «Жигули» и улетим, как на лихой тройке, в Богомольное. Там распишемся, и делу конец.
— Не дури, Андрюша. Як же можно без родительского благословения. Нияк не можно. А свидетели у тебя есть?
— Не беспокойтесь, бабушка, свидетели нас уже ждут.
— Ты вот шо, Андрюха, Катя пусть еще позорюет, а мы пройдем в мою хату, потолкуем, обсудим, як нам надо действовать. Без родительского согласия нельзя, счастья в жизни не будет.
Никакие уговоры не сломили Андрея. После завтрака он усадил Катю в «Жигули», сам сел рядом, и от резиновых колес и след простыл. Пришлось старой женщине одной идти к сыну. Она приоделась по-праздничному: надела цветную, с оборками снизу, юбку, ту кофтенку, которая была знаменита тем, что весь ее перед был увешан орденами и медалями, повязалась красной косынкой и вышла со двора.
Анисима, как на беду, в тот час дома не было. Уехал на кошары еще ночью, когда, угрюмый и злой, вернулся от участкового. Елена, мать Кати, женщина немолодая, полнолицая, с добрыми, ласковыми глазами, развешивала белье на веревке, которая была натянута туго, как струна, через весь двор. Елена увидела свекровь и поняла: раз Прасковья Анисимовна пожаловала в красной косынке и в кофточке с наградами, которую обычно надевала только в особых случаях, значит, приход ее был не случайным. Побледнев, Елена поставила на табуретку тазик с бельем, не в силах держать в ослабевших руках, и спросила упавшим голосом:
— Мама, а где Катя? Может, вы знаете…
— Знаю, — твердо ответила Прасковья Анисимовна. — За этим и пожаловала.
— Где же она?
— У Андрея Аверьяновича, у своего суженого. Где же ей быть?
— Ах, ирод, увел-таки девушку!
— Не увел, а увез на «Жигулях», — спокойно говорила Прасковья Анисимовна. — И с ее, Катиного, согласия.
— Разбойник! Как же он посмел? Вот милиция возьмется за него!
— Лена, не кляни Андрюху, — сказала Прасковья Анисимовна своим твердым голосом. — Парень он славный, и надо радоваться, а не кручиниться. Такого зятя нынче поискать надо!
— Как же не кручиниться? Это же позор! Такого в хуторе еще не было, чтобы дочь убегала от родителей. И с кем? Анисим же их и на порог не пустит.
— А Катя никуда не убегала, она ушла к любимому. К любимому, Лена! Можешь ты хоть это понять?
— Не могу! И не хочу…
— Плохо. А вот я, старая, понимаю Катю.
— Значит, и вы с ними заодно? — побледнев, спросила Елена. — Помогали им, да?
— А як же, подсобляла. Хто ж им, сердешным, поможет, коли не бабуся. Да ить Катя-то для мне не чужая, своя кровинушка. — Прасковья Анисимовна повернулась так молодо, что ее награды, попав под лучи солнца, разом заблестели. — Погляди на Катю и на Андрея не как чужая тетка, а как матерь родная. Любят же они друг дружку! Как же тут можно суперничать им?
— Да я что, я согласна, — шмыгая носом, сказала Елена. — А как же с Анисимом? Он же озверился…
— Попробуем утихомирить Анисима Ивановича. А шо? Там, где две бабы вошли в сговор, никакому мужику не устоять, сломаем. Вдвоем возьмемся за Анисима и уговорим. Ить он же не железный.
— Сильно обозлился на Катю и на Андрея.
— Ничего, отойдет, успокоится. Я-то своего старшего знаю, характером попер в Ивана, и сердце у него такое, как у покойного батька: вспыльчивое и отходчивое. — Тут Прасковья Анисимовна еще разок показала солнцу все свои ордена и медали и вместе с ними сама засияла, заулыбалась, показывая низкие, сработанные зубы. — Лена, кончай развешивать бельишко, пойдем в хату, обсудим совместные действия. А тем временем, гляди, и Анисим Иванович заявится.
12
В тот же день, уже в сумерках, Андрей привез в дом молодую жену, чем немало обрадовал своих стариков. Свекровь и свекор встретили невестку ласково, Клавдия Феодосьевна поцеловала Катю в обе щеки, всплакнула тихо, по-бабьи, старик же только прикоснулся колючими усами к Катиному лбу и сердито сказал, обращаясь к жене:
— Клавдия, чего разнюнилась? Радоваться надо, а не плакать. — И обратился к сыну: — Ну, сынку, бери свою суженую об руку и веди к столу, зараз мы выпьем по чарке за ваш законный брак, как все одно поставим свою родительскую печать.
Старики не сердились на сына за то, что он наотрез отказался от свадьбы. Да и как же можно было на него сердиться, когда вот она, сидит за столом, молодая и желанная хозяйка дома. Они жалели ее, как родную дочку, рано утром не будили, по хозяйству и на кухне управлялась одна Клавдия Феодосьевна. Андрей же, надо полагать, про себя давно решил, что в жизни у него главное уже свершилось, та, которую он столько лет любил, стала его женой, и так усердно занялся делами комплекса, что из дому уезжал на рассвете, вставая тихонько, чтобы не разбудить Катю, а возвращался поздно ночью. Оставаясь одна в большом и ей еще не знакомом доме, Катя была грустна, молчалива, слонялась из угла в угол или подсаживалась к окну и часами смотрела на пустую улицу, и глаза ее частенько застилали слезы.
ИЗ ТЕТРАДИ
Мой дядя Анисим Иванович — мужчина грузный, из тех, кого называют тяжеловесами. Ходил же он быстро, в движениях был проворный. Молча смотрел на собеседника, щурился, моргал веками, будто его ослеплял яркий свет, — у него, наверное, болели глаза. Когда злился, то говорил отрывисто, крикливо, содрогаясь широкой спиной, а когда смеялся, то сперва совсем неслышно, одним покачиванием живота, а потом, разойдясь, хохотал весело и громко. Любил выступать на собраниях с поучающими речами, говорил длинно и скучно, при этом мясистое лицо его краснело и выражало самодовольство, он нарочито гундосил и, делая паузы, кривил в усмешке губы, как-то по-особенному сжимая их. «Э! Погодите, от меня еще и не такое можете услышать, дайте только время», — говорили и его улыбка и его сжатые губы.
Любимая поговорка дяди Анисима: «Некоторые из которых».
УСЛЫШАННОЕ ОТ ДЯДИ АНИСИМА ИВАНОВИЧА:
— У тебя этот проект решения в полном соответствии или по собственной инициативе?
— По собственной… А что?
— Что, что? А то, что не пойдет, не годится. Надо, чтобы было в полном соответствии.
— Я «не» — это понятно, а почему он «не», а? Почему?
— Что же касается танцевальных дел на нашем втором отделении, то тут хоть сам танцуй.
— Как-то приехал в отары, увидел безобразия, покритиковал матом — помогло.
— Для меня было совершенно неожиданно то, что райсельхозуправление отрицательно одобрило нашу просьбу. Мне звонит начальник управления:
— Это Чазов Анисим Иванович?
— Он самый.
— Мы вашу просьбу одобрили отрицательно.
— Личность и еще раз личность. Перед личностью я готов встать на колени и перекреститься. А каковой личностью является Сероштан? Так, одна сплошная безличность, и ничего больше.
— На наше второе отделение приезжал лектор из Ставрополя и авторитетно заявлял: в Индии — верь или не верь — семьсот богов. А на что нам те боги? У нас и своих трудностей полно.
— На хорошем базаре и бык стельный.
— Ты, баба, не дерзи!
— А я, Анисим Иванович, не держу, откуда ты взял, я просто режу тебе в глаза правду-матку.
УСЛЫШАННОЕ НА СОБРАНИИ В ПРИВОЛЬНОМ:
— Товарищи! Тихо, товарищи! Так как же мы порешим?
— А чего решать? Открывай, и все!
— Открыть-то можно, а имеется, ли у нас кворум или кворума не имеется? Вот вопрос.
— Сперва поясни людям: что оно такое — кворум?
— Не иначе — ругательство.
— Ну, тогда кворум имеется!
ЗАГОЛОВКИ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ КОММУНЫ»:
«Конкурс на лучшего живого ребенка».
«Безбожники безбожно спят».
ИЗ ПРОЧИТАННОГО:
У Н. В. Гоголя: «Моя радость, жизнь моя, песни! Как я люблю вас!»
Как-то месяца через два я приехал к Сероштану. В доме, как всегда, застал одну Катю, заплаканную, опечаленную, с полушалком на плечах.
— Что с тобой, Катюша?
— А ничего. Со мной все хорошо.
— Отчего слезы?
Она не ответила. Тогда я попытался поговорить с нею откровенно, по-родственному. Мне хотелось узнать, что с нею случилось, почему моя развеселая сестренка так переменилась, ее словно бы подменили. Она не смотрела на меня, не отвечала на мои вопросы, все время поправляя рукой полушалок, спадавший с ее плеча, и щеки у нее то бледнели, то краснели.
— У тебя какое-то горе? Почему же молчишь?
— Миша, мне нечего сказать, да и некому.
— Скажи мне.
— Не поймешь. — Тут она смело подняла на меня тоскливые, полные слез глаза. — И потому не поймешь, что я сама ничего не понимаю и не могу ответить на свой же вопрос: зачем вышла замуж?
— Так ведь это так просто и так понятно, — нарочито весело сказал я. — Природа свое требует. Ты любишь Андрея, он любит тебя. Вы женитесь, вы обязаны были жениться. Что же здесь неясно и что непонятно?
— Нет, Миша, не спеши с ответом, а сперва выслушай меня, как брат сестру. — Она, поправляя на плече полушалок, снова опустила голову, и теперь я видел, как пунцовели крохотные мочки ее ушей. — Да, я люблю Андрея, люблю давно, и мне казалось, что когда мы станем мужем и женой, то это и будет самым настоящим и большим счастьем моим и его. А что получилось? Где оно, это счастье? Пропало, растаяло, как мираж в степи. Сижу одна в этом доме, как в тюрьме. Ему овцы нужны, их у него двадцать две тысячи, а я, жена, одна. Когда мы не были мужем и женой, то встречались чаще, чем теперь. Он даже в воскресенье не бывает дома. Со своего овцекомплекса возвращается к полуночи, когда я, вволю наплакавшись, давно лежу в постели. Обычно приезжает усталый, измученный, сразу засыпает, а я лежу возле него и думаю: зачем? Эта страшная мысль не покидает меня всю ночь. А утром, когда я просыпаюсь, Андрея рядом со мною уже нет, он умчался на овцекомплекс. И так каждый день. А что дальше? Пойдут дети, и что же ждет меня впереди? Можешь ли ты ответить? Миша, ты умный, образованный, в Москве учился, в газетах печатаешься, объясни мне на простом и понятном языке: зачем девушки выходят замуж?
— Дура ты, Катюша. Вот мой ответ.
— Верно, была дура, ничего не знала. А теперь уже набралась ума.
— Какого еще ума? Милая Катюша, выбрось из головы, как бы это выразиться помягче, глупости. Андрей же не может все свое время и все свое внимание отдавать только тебе? Не может. Надо понять и Андрея. Быть женой — обязанность не из легких. Пойми это и примирись.
— Не могу ни понять, ни примириться! — сердито сказала Катя. — И не хочу.
— Тогда хоть запомни простую вещь…
— Прости, но мне запоминать нечего, — резко перебила она. — Это не жизнь, а какая-то бессмыслица. Посадил в дом, как куклу, и забыл. — Она прижала ладони к пылающим щекам. — И давай прекратим разговор. Ты хотел видеть Андрея? Отправляйся на овцекомплекс.
Не простившись, Катя ушла в свою комнату.
13
Андрея на овцекомплексе я не застал. Его еще утром вызвали в район. Мне ни с чем пришлось вернуться в Привольный. И вот снова передо мной пологая крыша, заросшая пыреем и сурепкой так обильно, что впору брать косу и устраивать сенокос. Я знал и раньше: это неказистое сооружение только с виду казалось невзрачным. Внутри же хатенка была просторная и собой уютная, хорошо приспособлена для жилья и в зимнюю стужу — в ней всегда было тепло, а в летнюю жару или в палящий зноем суховей в ней всегда было прохладно. Стояла она так, что ее крылечко с нарисованным ковриком и ее серая, изрядно поклеванная дождями и побитая градинами стена были обращены к улице. Помимо сенец и чулана, где стояли кадки и на стенке висели ведра с коромыслом, хатенка имела три вполне приличные комнаты, правда, с потолками несколько низковатыми. В одной комнате стоял диван с низкой спинкой, тот, на котором перед своим замужеством ночевала Катя, тут же — обеденный стол, шкафчик для посуды, газовая плита с двумя конфорками. (Газ в Привольный, как, впрочем, и в Мокрую Буйволу и в село Богомольное, привозился в баллонах.) Во второй комнате, где проживал я еще в то время, когда был школьником, меня встретила та же, хорошо знакомая мне кровать с пружинной сеткой и с высокими спинками, украшенными белыми эмалированными шишками. Та же толстая, всегда напущенная перина была застлана цветным покрывалом, пуховые подушки — бабушкина слабость! — двумя курганами поднимались чуть ли не до потолка, снизу большие, затем чуточку поменьше, а на самом верху — смешные, совсем крошечные подушечки, старательно обшитые кружевами. Необходимо сказать и о том, что бабушкина хата была примечательна тем, что даже в самый знойный полдень, какие бывают в этих местах в июле, когда от жары и палящего солнца на дворе совершенно негде спрятаться, в ее стенах хранится большой запас прохлады, такой, какой она бывает разве только в глубоком погребе.
Подслеповатые оконца на все лето занавешивались плотной материей, поэтому и в самые знойные часы в комнатах прочно залегал мягкий полумрак, и во всякое время суток под одной из занавесок жалобно плакала и отчаянно билась о стекло муха, потерявшая всякую надежду выбраться из неволи. Немаловажная деталь: земляной пол смазывался глиной, замешенной для прочности на свежем коровьем помете, и покрывался, как читателям уже известно, полынью и чабрецом. От этого зеленого коврика исходил запах только что скошенного луга. И еще одно бесценное ее достоинство: бабушкина хата была очень удобна для отдыха. Помню, не раз бывало, придешь уставший, изнуренный летней духотой и зноем, упадешь на диван и уже чувствуешь, как на твое тело наваливается приятная прохлада. И только-только щека коснется свежей, чуточку прохладной подушки, и ты уже засыпаешь под монотонный звук все той же, бьющейся о стекло мухи, вдыхаешь сладкий, ни с чем не сравнимый запах полыни и чабреца и спишь таким непробудным сном, каким никогда позже спать мне уже не доводилось.
— Чуешь, Мишуха, звенит, бедняжка? — спросила бабуся, прислушиваясь к жалобному жужжанию мухи под занавеской. — Еще и лета нету, а она уже мается. И як могла запорхнуть в хату? Ума не приложу. Известно, муха — существо вредное, а мне ее жалко. И раньше, бывало, сколько разов ловила и выбрасывала за дверь. Надо бы ее убить, а я не могу. Думаю, нехай живет. Не ее вина, а ее беда, шо не может выбраться из хаты. Придется и этой подсобить. — Бабуся осторожно, пальцами, прижала занавеску, поймала муху и, держа ее в жмене, отнесла за дверь. — Нехай себе гуляет на воле… Моя соседка Анфиса Твердохлебова, да ты ее знаешь, она моих годов…
— Жива еще тетушка Анфиса?
— Бегает, як и я… Так вот, Анфиса по секрету мне сказала, это залетает до меня вовсе не муха, а душа моего Ивана, — говорила бабуся, и чуть заметная грустинка теплилась на ее губах. — Анфиса так считает: когда воин погибает в бою, то его душа остается и живет в каком-нибудь существе. И хоть я не верю бабским выдумкам, а все ж таки, скажу тебе по секрету, и у меня иной раз думки бывают: а шо, может, и в самом деле это мой Ваня до меня является?..
— Бабушка, а трудно вам теперь одной без детей?
— А шо диты? — И в ее ласковых глазах я снова увидел так хорошо знакомую мне грустинку. — Диты давно стали батьками та матерями, а спокойствия в моей жизни, по-честному скажу тебе, Мишуха, як не було с дитьми, так его нема и без дитей. От взрослых дитей пошли внуки, и им бабушка нужна. — Бабуся шепелявила и оттого прикрывала косынкой рот. — Вот и с Катей, сам знаешь, шо було. Як же тут обойтись без бабушки? Одна я тогда пошла хлопотать за внучку, а Анисим так обозлился, шо на родную матерь было пошел с кулаками. Да я не испужалась. Кричит, шо и в райком пожалуется и в суд пойдет. А я ему: иди жалуйся, а дочку замуж выдавай. У тебя одна она, а у меня их было шестеро. И всю шестерочку взрастила. Пятеро тут, вблизи матери живут, один Толя удалился от меня. — Она тяжело вздохнула и заморгала повлажневшими глазами. — Эх, и встал бы Ваня да поглядел бы на своих деток да и на меня, старую, горемычную. Нет, не встанет Ваня, и мухой до меня не заглянет. — Кончиком косынки прикрыла рот и, смутившись, сказала, что никак не соберется поехать в Богомольное, чтобы вставить зубы. — Так посвистывает промеж них, шо аж самой себя слухать противно… — Она помолчала, вытерла платочком губы. — Росли мои детки сами по себе, як произрастает тот бурьян опосля весеннего дождя. Шо ни год, то и повзрослеют мои сыночки и дочки. Трудно было и прокормить галчат, обуть и одеть, та еще в то военное лихолетье. Всего пришлось испытать и изведать. Про ту мою житуху и написать невозможно, бо тому никто не поверит. Знаешь, як волчица оберегает своих детенышей? Ничего не страшится, кидается напропалую… Так кидалась и я. Нынче сама удивляюсь, як мне удалось взрастить всю шестерочку. Якось приезжал на хутор один писатель, нашенский, из Ставрополя. Интересовался моей жизнью, расспрашивал. Рассказала ему, як довелось испить горюшка. И телом своим согревала воробьят, и грех на душу брала, шоб их накормить, шоб они выжили, сердешные. Только про одну свою тайну я писателю не сказала.
— Расскажите мне, бабуся.
— И тебе, Мишуха, не скажу.
— Почему?
— То был мой тяжкий грех, и никому не надо знать про то, як все это у меня получилось.
— Бабуся, прошу вас, поведайте мне, вашему внуку, ту свою тайну.
— Поклянись, шо нихто от тебя ничего не узнает.
— Ну что вы, бабуся, я же не маленький, понимаю.
— Тот мой тяжкий грех, Мишуха, был в том, шо я двух мужиков убила. Старого и молодого.
— Вы? Как и когда?
— Давно. Еще в войну.
— Каким же образом? Расскажите, бабуся.
— Один человек знает всю правду, ему, як господу богу, все сказала. А тебе не могу, и не проси.
— Кто же он, тот человек?
— Следователь, каковой меня допрашивал… А тебе, Мишуха, расскажу, як я растила свою шестерочку, — сказала она, желая переменить разговор. — Дюже подсобил мне совхоз, спасибо ему. После войны в Богомольном открыли ентернат для чабанской детворы и для солдатских сирот. При нем школа, жилища, столовка. Зимой вся моя орава жила там, в ентернате. Старшие мои хлопцы до грамоты были не дюже охотники, учились так себе, ни шатко ни валко. Кой-як кончили пять классов и айда в степь, до меня, в отару подпасками. По овцам и Анисим, и Антон, и Алексей сызмальства кумекали, любили ходить с отарой. Ну летом, само собой, брала в степь и девчушек, тоже подсобляли матери. Пошли у нас приличные заработки, жизня наша полегчала. Один Толик, твой батько, не тянулся к овцам, а тянулся к грамоте. Дюже прилично учился и в Богомольном и в Москве и, вишь, покатил по заграничной линии, на разных чужих языках научился калякать. Послухаешь, як вин тараторит, руками разведешь — чудно! До чего же непонятно, не по-нашенски лопочет, будто и не мой сын. — Бабуся усмехнулась, прикрыв ладонью рот. — Якось приезжал в Привольный, один, захотелось мать проведать. За обедом, так, шутейно, зачал со мною по-каковскому калякать. Смех и горе! Гляжу на него, и мне становится страшно: будто и не мой Толик сидит за столом, як какой-ся чужестранец… В том же ентернате жили и мои дочки. Кончили пять классов, выросли, повыходили замуж. Твоя тетя Анастасия — в Богомольном, несчастливое у нее получилось замужество. Зараз живет со старшей дочкой Таисией, а младшие — Надя и Вера — учились в техникуме и там повыходили замуж, так что в Богомольное не возвернулись. А с мужем Анастасия развелась давно. Тетушка Анна — в Мокрой Буйволе, муженек ее работает на грузовике, живут ладно, при достатке. Детки выросли, старший сын, Никита, недавно женился… Так и поднялась вся моя шестерочка. Зимой находились в ентернате, а летом — со мной, в отаре — свои и подпаски, и третьяки, и арбички. Толик, твой батько,
тоже одно лето ходил в подпасках, — добавила она с гордостью и вдруг оживилась, мелкие, спутанные морщинки у ее глаз посветлели. — Так як, Мишуха, советуешь мне ехать в Конгу до Толика?
— Трудно советовать. Слишком далекое путешествие. Не боитесь?
— Одному тебе сознаюсь: побаиваюсь. Но на людях и виду не показываю. Хоть оно и страшновато, а хочется погостить у младшенького. А то, не ровен час, и не увидимся.
— Увидитесь, — бодрым голосом сказал я. — Не вечно же отцу жить в Конго.
— Что-то нездоровится твоей бабусе, Мишуха, — сказала она грустно. — Видно, отгуляла свое Прасковья Чазова, отходила по степу… Был же у нас на хуторе случай. До Евдохи Прозоровой недавно приезжал сынок Федя из Краснодара. Да ты знаешь Евдоху Прозорову, помнишь тетю Дуню, такую веселую курносую бабу? Ох, как она в девичестве умела отплясывать страдание под гармонь — лихо! И танцевала босиком, чтоб было удобнее. А Гриша Прозоров, ее будущий муженек, тогда еще парень, шутник и разбышака, — погиб, бедолага, в войну. Так этот Гриша, так, шутейно, бросил Дуне под ноги верблюжьи колючки, сухие, думал, шо остановится и перестанет страдать. Куда там! Она их и не почувствовала, те колючки. У Дуни так затвердели подошвы, шо колючки только потрескивали у нее под ногами… Так это я к чему? До Евдокии недавно приехал сынок Федя на своей машине. С ним жинка и дочурка. Хотели забрать старуху к себе в Краснодар, чтоб у них жила. Евдокия была малость помоложе меня и собой такая завсегда веселая, хоть и теперь подавай ей гармонь. Ну, собралась она на жительство к сыну, уселась в машину, радостная и счастливая. Не успел Федя вырулить за хутор — хлоп, готовая наша Дуня, померла. В радости скончалась баба, вот какая бывает хорошая смерть. Так что, Мишуха, приходится и мне задумываться, и через те свои думки тянет меня к Толику. И хочу попросить у тебя один совет. Как мне лучше прибыть к Толику? С наградами на груди или без наград?
— По-моему, лучше с наградами, — не задумываясь, ответил я.
— И по-моему, так. А мои сыны твердят мне, шо там, в Конго, награды показывать не надо, никто в них ничего не поймет. А Толя и так знает, какая у него геройская мамка. — Глаза у старухи потемнели, она долго молчала, не глядя на меня и о чем-то думая. — Анисим твердит: поезжай, мать, без наград, дескать, Анатолий и без них встретит тебя радушно. Я этого знаю. Толя встретит меня с радостью, он от природы ласковый, не то что Анисим. И все ж таки хочется прибыть с наградами. Хоть внучке Оленьке покажу, пускай поглядит на бабушкины награды.
— Много ли их набралось? — поинтересовался я.
— Порядочно. Для удобства я приспособила их на кофточке. Хлопотно каждый раз прицеплять их на груди. А теперь, как только надо пойти на какой праздник или в президиум — меня туда частенько сажают, — так я сразу надеваю кофточку, и готовая, блестю, как все одно икона. Наш новый директор, молодой и такой собой чудаковатый, как увидит меня в этой кофточке, так и зачинает креститься, а потом и говорит: «Прасковья Анисимовна, вы як икона божьей матери…» Такой чудак!
Она открыла шкаф, с вешалки сняла кофточку и поднесла ее поближе к свету, тяжелую, как кольчуга, и блестевшую орденами и медалями. На ее левой стороне, поближе к отложному воротнику, красовалась Золотая Звезда с серпом и молотом, чуть пониже, выстроившись в ряд, играли своими разноцветными ленточками ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», а вся правая сторона была сплошь покрыта медалями, большими и малыми: и теми, которые Прасковья Анисимовна получила в Верховном Совете, и теми, какими она была награждена на ВДНХ и других выставках, и среди них как-то особенно выделялась военная медаль — «За отвагу». Прасковья Анисимовна повернула кофточку к окну, награды подали тихий голосок, как бы говоря: «Так, так, на свет нас, на свет, поближе к солнцу…»
— Ну, як, Мишуха? Есть на шо поглядеть? — спросила бабуся, и лучинки морщинок у ее глаз засветились еще больше. — Не знаю, як станет смотреть на мои почести внучка моя Оленька, потому як растет дитя на чужбине и в нашей жизни, по всему видать, мало шо смыслит. Но для меня эти награды, веришь, як живые зарубинки на сердце. И у каждой такой зарубинки сохранилось шо-то свое, памятное, такое, чего и забыть уже нельзя. Вот и для тебя, допустим, эта медаль — «За отвагу» — серебряный кружочек, а для меня — самая первая и самая глубокая зарубинка, и легла она на мое сердце в тот горестный военный год, когда мне одной, без Ивана, довелось с отарой и с детишками блуждать по степу… Вот тогда, Мишуха, я и приняла тот грех на душу… Или вот, «Знак Почета». Слова-то какие хорошие, ласковые. С виду орденок тихий, незаметный. А для меня он — еще одна памятная зарубинка, и легла она рядом с первой в том же тяжком военном году. Тогда я уже знала о гибели Ивана, а только верить — не верила. И эти три ордена Ленина. На вид они такие же, як все ордена Ленина, а только для меня не такие, як все, а особенные, памятные… Самая же дорогая и самая памятная зарубинка, по счету десятая, — эта звездочка. Когда на нее ни взгляни, она завсегда блестит, усмехается и будто бы говорит мне: «Ну как, Паша, живешь-поживаешь на свете?»
— За что вы ее получили?
— За старание. — Бабуся вытерла платочком заслезившиеся глаза. — В том году я опередила чабанов-мужиков и по настригу шерсти и тем, шо в моей отаре каждые сто маток народили по сто пятьдесят восемь ягнят. Это же рекорд! И всех ягнят, до единого, я сберегла и взрастила. В те годы я, баба, одна была чабаном на весь край, и мужики-чабаны, когда случалось мне приезжать в район на совещание, посмеивались надо мной, говорили: дескать, хорошо Паше Чазовой, она в прошедшем времени сама была настоящей мастерицей рожать и вынянчивать детишек, вот у нее и овцематки следуют ее наглядному примеру… Шутники! Но я им тут же в ответ: а вот вы, як и ваши племенные бараны, сильно плохо старались, а через то и поотстали от меня. Смеются, понимают шутку… В том же году, впервые в своей жизни, побывала в Москве. В Кремле Николай Михайлович Шверник вручал мне эту звездочку. Вот тогда я и у Сталина вечеряла.
— Как же это было, бабуся?
— Было, Мишуха, было. — Она снова стала вытирать платочком мокрые глаза, помолчала. — Перед вечером, когда уже начинало темнеть, меня и еще двух чабанов-героев повезли на машине. Сказали, шо едем до Сталина в гости. Ехали мы, ехали, а куда приехали — не знаю. Только гляжу, а кругом, як стена, стоит лес и горят фонари. Зашли мы в помещение. Ну, сам понимаешь, хуторяне, степняки, всего сильно стесняемся, чувствуем себя дюже неловко. Иосиф Виссарионович поздоровкался с нами за руки, культурно пригласил повечерять. Меня задержал, спросил: «Як вам, Прасковья Анисимовна, живется в столице?» — «Хорошо, — отвечаю, — живу, только жизня тутошняя дюже не похожа на нашу, на степовую». А он: «Мне передавали, будто бы вы женщина собой видная, гроза всем чабанам, а вы — обыкновенная». — «Они, — говорю, — наши чабаны, и такую меня побаиваются». — «Вот так и надо, шоб побаивались», — сказал Сталин и усмехнулся в ус. А за столом, помню, уже сидели Михаил Андреевич Суслов, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный и еще какие-то люди, больше военные. Сталин похвалил меня первую. Давайте, говорит, выпьем грузинского вина за здоровье и за успехи Прасковьи Анисимовны, геройской женщины. Так и сказал — геройской. Это хорошо, говорит, шо и в таком трудном деле, яким является чабанство, ставропольские женщины не отстают от мужчин, а кое в чем дажеть их опережают. Вот и товарищ Суслов, хорошо знающий ставропольских овцеводов, может подтвердить мои слова. И Михаил Андреевич тоже меня похвалил, сказал, шо я переняла опыт от своего геройски погибшего на войне, мужа.
— Поверь мне, Мишуха, — продолжала бабуся, — я и робела, и краснела. Молодая была, сильно стеснительная. А Михаил Андреевич сидел рядом со мной и, спасибо ему, все подбадривал меня. Он же наш, ставропольчанин. Прасковья Анисимовна, говорит, не тушуйся, ить все правильно: ставропольские бабы ни в чем не уступят мужикам. Я-то, говорит, их знаю. И верно. Михаил Андреевич давно знал и меня и моего Ивана, когда еще работал в нашем крае, и мы все его знали. Собой — молодцеватый, по натуре из тех, из горячих да проворных. Дома не засиживался. Частенько к чабанам заезжал. Нашу отару тоже навещал не один раз. Бывало, приедет, по-хозяйски побеседует, обо всем расспросит. В овцах толк знал. Посмотрит на пасущуюся отару и скажет: «А овцы-то воды хотят. Давно поили?» Иван, твой дедушка, глаза в землю, молчит. А шо скажешь, коли правда? Отару-то пускали на водопой еще утром. А як вин любил шулюм. Ну, Паша, угощай чабанским супом. И шоб подавала в чабанской глубокой миске, да шоб с чесночной приправой… Заезжал он до меня и уже после того, як я осталась без Ивана. Як же ты, спрашивает, сердешная, управляешься и с детишками, и с отарой? Трудновато, отвечаю, а все же управляюсь… Чудно вспоминать! Все одно як сон. Самой не верится, шо все это было. А ить было же. И Михаила Андреевича потчевала шулюмом, и у Сталина вечеряла, и зарубинки на сердце остались. И сегодня, веришь, Мишуха, все то, шо было со мною, становится еще памятнее. Бывают минуты, останусь одна в хате, возьму из шкафа кофтенку, погляжу на награды и припомню все, як воно було в жизни, и Ваню своего вспомню, и свою горькую вдовью житуху, да наплачусь вволю, навзрыд, по-бабьи. Оно и полегчает на душе.
14
Могут, и не без резона, спросить: почему наше повествование, как речка от своего изначального родничка, отошла не от села Богомольного или, к примеру, не от Ставрополя, а от этого чабанского хутора и от этой, с виду мало чем примечательной, землянки? Вопрос не простой, и так как ответ на него может затянуться, то нам лучше всего на время оставить и Привольный с его живописными крылечками и водоразборной колонкой, и Мокрую Буйволу с молодоженами, — пусть Катя и Андрей покамест привыкают к семейной жизни, — и приступить к рассказу о Прасковье Анисимовне Чазовой, моей бабусе и хозяйке невзрачной хатенки с зеленым парубоцким чубом на крыше.
Когда-то это была просто Паша, единственная дочка погибшего на гражданской войне буденновского конника Анисима Дронова. Девушка подрастала, хорошела с каждым днем, с тяжелой, пшеничного цвета косой, которая спадала по ее стройной спине до самого пояса, — таких красавиц не так-то просто встретить не только в глухом степном хуторе, а даже в самом Ставрополе или в людном Пятигорске. Хочу заметить: в те годы дроновская землянка стояла на самом краю хутора и по счету была десятая, а о шоссе и о водоразборной колонке никто и не помышлял. В этой землянке и расцвела Паша Дронова, и как-то так неожиданно, как в солнечное тихое утро вдруг расцветает степной мак. Расцвела девушка и полюбила молодого чабана Ивана Чазова, парня хоть куда, молодца-молодцом. И так как Иван тоже полюбил Пашу, то ждать было нечего, и осенью сыграли свадьбу. Родителей у Ивана не было, и он до весны жил в зятьях. Когда же пригрело солнце и с юга потянуло теплым ветром, молодые муж и жена оставили, в землянке одну Пашину мать и на все лето ушли с отарой: Иван — старшим чабаном, а Паша — арбичкой, то есть хозяйкой чабанской арбы.
В августе у них родился первенец, и случилось это среди дня, как раз во время переезда на другую стоянку. Паша лежала на арбе, быки, круторогие тихоходы, поскрипывали ярмом, лениво переступая по траве. Паша застонала, позвала Ивана и попросила остановить быков. Иван без слов догадался, чем была вызвана ее просьба, и не только остановил быков, а и поспешил отослать подпаска, мальчугана лет четырнадцати, к отаре, — не хотелось ему, чтобы подросток видел роды. Сам же Иван, не зная, что ему нужно делать, как помочь Паше, обрадовался и испугался. На счастье, первые роды на редкость были легкими, а новорожденный таким горластым, что в жаркий полдень и степь окрест, и отара, тырловавшая на взгорье, и стоявший близ овец подпасок без труда узнали, что на свет появился недюжинный мужчина.
Дали ему имя Анисим, в память о покойном деде-буденовце. Колыбелью Анисиму были пахучие травы да чистое августовское небо, а повитухой — сам отец: из Пашиной шелковой косынки Иван выдернул нитку и неумело, но покрепче, понадежнее перевязал ею пуповину сына. Вблизи, как на счастье, оказался степной колодец. Иван развел костер и согрел в ведре воду. Паша поднялась усталая, измученная, как после тяжелой работы, и с веселыми, счастливыми глазами человека, который доволен своим трудно исполненным долгом, искупала Аниську в жестяной ванночке. Перед тем, как опустить младенца в купель, она подержала сопевшего мальчугана на ладони, как бы взвешивая его на руке и желая показать и мужу, и вечерней заре, и самой себе, какой у нее родился первенец. После этого, по-матерински строго, осмотрела новорожденного со всех сторон — так придирчивый мастер осматривает свою работу, чтобы убедиться, все ли сделано так, как нужно, — и со счастливой улыбкой взглянула на мужа.
— А погляди, Ваня! Во, какой степняк! Жаль, что нету у нас безмена, чтобы взвесить мальца, — говорила она, не переставая любоваться ребенком. — Тяжелый, из тех, из богатырей. А обличием, глянь-ка на него, ну, вылитый Иван Чазов!
— А шо ж! Славный хлопчик, — охотно согласился Иван, сияя от счастья. — Паша, зараз я и для тебя воды согрею.
И снова Иван, перед тем как искупать жену, отослал подпаска к отаре.
— Иди, иди, парень, пригляди за овцами, — говорил он.
После купанья Паша еще больше поздоровела, расчесала косу, заплела ее и колесом закрутила на затылке. Набрякшей, тугой грудью покормила жадно сосавшего Аниську.
— Слышишь, Ваня, а сын-то твой к еде жадный, знать, работник будет хороший, — говорила она, не сводя глаз с сосавшего сына.
Когда младенец вволю насосался и уснул у матери на груди, Паша положила его под арбой, в люльку из полыни и полости, сама прилегла рядом, хотела полежать, отдохнуть, да и не услышала, как уснула. Проспала до зари, и еще бы спала, да запищал под боком Анисим.
Год пролетел незаметно. Снова побрели Иван и Паша следом за отарой, сонно переступали быки, постукивая ступицами, катилась арба. На стоянках Аниську снимали с арбы, и он в коротенькой, выше пупка, рубашонке уже бойко семенил ножками вокруг арбы, держась то за колесо, то за дышло. Иван с любовью смотрел на первые шаги сына, говоря:
— Ну, ну, смелее шагай, чабан! Расти, расти батьке на подмогу!
Во второе лето, тоже под палящим летним небом, Паша родила еще одного сына, и теперь для молодых отца и матери роды показались уже привычными. Мальчика назвали Антоном, и опять, как и в прошлом году, строгими, придирчивыми глазами мать осмотрела новорожденного, невольно подумала, что второй сынок даже получше первого, и ей, как и при осмотре Анисима, трудно было сдержать радостную улыбку.
— Погляди, Ваня, и этот — ну, копия ты! — говорила она. — И глазенки твои, и этот носик, и этот лобик. Як и Анисим, настоящий Чазов!
— Они оба Чазовы, — это ты верно подметила, — сказал Иван. — Да и на кого же им быть похожими, як не на своего родителя.
Семья спала под арбой, на сухой траве, застланной полостью и шерстяным одеялом. Сквозь одеяло трава мягко вгибалась, чуть слышно потрескивая под боками. Ночь южная, темная. С востока под арбу тянуло прохладой и запахом овечьего пота. Небо, густо усеянное звездами, казалось, нарочно поднялось над степью широченным черным шатром. Под боком у матери лежали Анисим и Антон, младший поближе, у самой груди, старший подальше, и Паша, просыпаясь, чтобы покормить Антошу, замечала, как малец, пососав грудь, таращил свои глазенки в небо и, что-то соображая, смотрел и смотрел на звезды. Паша потрогала за плечо еще не спавшего мужа, сказала:
— Ваня, а наш Антоша, мабуть, будет звездочетом.
— Чего это тебе взбрело в голову? — спросил Иван.
— Глянь-ка на него, лежит и глазенки, сорванец, пялит в небо, шось в голове уже маракует. Не иначе, быть ему ученым.
— Удивляюсь на тебя, Паша, зачем же быть ему ученым? — рассудительно спросил Иван. — Пусть шагает по родительскому следу. Ить житуха-то у нас вольная.
Иван обнял Пашу, ласково привлек к себе, поцеловал.
— Ваня, может, третьего не надо? — робко спросила Паша, не отстраняя его рук и сама прижимаясь к нему. — А то что же это мы заспешили, что ни лето, то и дитё?
— И хорошо! — ответил Иван. — Рожай, Паша, пока рожается, пусть растут Чазовы на земле. Ты же у меня молодчина, настоящая мастерица насчет детишек. Каких славных пареньков родила.
— Ваня, я только к тому говорю, шо, может, малость повременить? Сделать хоть малую передышку.
— А чего ради откладывать дело? Зачем делать передышку? — весело спрашивал Иван. — Родишь третьего, и прекрасно! Есть же поговорка: бог троицу любит. Такшо нечего нам временить и медлить. Надо во всяком деле поторапливаться.
Казалось, сама южная природа, безлюдная ночная степь да простор так щедро позаботились о том, чтобы у Паши каждый год рождались дети. Не прошло и восьми лет, а на кочующей чабанской арбе образовался свой, чазовский детский сад: самому старшему, Анисиму, шел седьмой годок, и это уже был шустрый, разбитной парнишка, настоящий помощник отцу и матери, умевший и отару пасти и костер разжечь. Самый же младший, Анатолий, еще качался в люльке, подвешенной к дышловине. Между ними как бы неровной лесенкой выстроились Антон, Анастасия, Алексей и Аннушка.
— Ваня, а ты замечаешь, як у нас ладно получилось, — как-то сказала Паша, прижимая к себе детей, как наседка цыплят. — Имена-то у нашей шестерочки начинаются на одну букву. Будто мы и не подбирали, а якось получилось само по себе.
— Это хорошо, шо так получилось, — ответил Иван. — Буква-то какая? Первая! Вот и дети наши в жизни должны быть людьми не последними.
— Дай-то бог.
Как-то во время стрижки овец досужие на язык стригальщицы спросили у пополневшей и по-женски раздобревшей Паши, как это она в свои молодые годы ухитрилась произвести на свет белый свою шестерочку, словно бы по заказу, одного за другим.
— А шо тут удивительного? — смеясь, спросила Паша. — Вы же бабы и должны понимать, шо тут хитрость невелика. Да к тому же и ноченьки в степу, як вам известно, сильно темные, под арбой ничего не видно, хоть глаз выколи, и, мы с Ваней вдвоем на всю степь.
— Удивляет не то, что ноченьки в степу темные, а то, что родила-то без акушерки и без медицины, — сказала немолодая баба. — Теперь же без медицины нельзя.
— Муж у меня — лучше всякой медицины, — гордо ответила Паша. — Он так изловчился принимать новорожденных, шо только поспевай подавать ему младенцев, любую акушерку может заменить.
— Родились детишки на арбе, как цыганята, а какие славные растут ребятишки, — позавидовала бездетная статная молодайка. — Паша, ить ты же героиня, честное слово!
— Ну, уж так-таки и героиня. — Паша весело смеялась, показывая подковку своих красивых, белых и густо посаженных зубов. — Дело-то нашенское, бабское, сказать, и привычное и сподручное. Да и в степу мы с Ваней як у себя дома. — И со свойственной ей скромностью добавила: — А детишки, хоть они, верно, родились на арбе, сказать, под чистым небом и без медицины, а такие же сорванцы, як у всех. Дети як дети. Разве то в том их отличие, шо батько у них — природный степняк, мать — степнячка, а они, стало быть, степнячата.
15
Горькая судьбина выпала на долю этих степнячат. Довелось им расти без отца, не вернулся Иван с войны. Когда она началась, степнячатам пришлось бросить школу и уйти с матерью в отару. Они хорошо помнят, как прощался с ними отец. Да и Прасковья Анисимовна свои воспоминания о тех днях всегда начинала с рассказа о прощанье с мужем.
Иван отпросился в военкомате и уже в военной форме, с пилоткой на чубатой голове, стройный и совсем не похожий на чабана, заскочил на мотоцикле в отару. Обнимая присмиревшую шестерочку и плакавшую жену, он сказал:
— Пригляди, Паша, за детьми, сбереги их. Я обязательно вернусь, и чтобы они были целенькими. — Отдельно обнял сурово смотревшего на него Анисима. — А ты, сынок, уже совсем большой, подсобляй мамане, управляйся с овцами.
— Батя, не беспокойся, — сказал Анисим, — мы все станем подсоблять мамане.
— Вот и молодцы. И мне там, на войне, будет на душе спокойно.
Иван поцеловал жену и детей, еще раз сказал:
— Непременно, Паша, сбереги их всех, чтоб были целенькими.
Он поправил на голове пилотку, подтянул армейский пояс, уселся в седло мотоцикла и прибавил газу. Умчался, удаляясь от жены и от детей, а они смотрели ему вслед, пока он не растворился в текучем мареве, как в морских волнах. Паша упала на арбу, завыла, заголосила на всю степь, а дети, взявшись за руки, стояли возле арбы и все еще смотрели в пустую степь, им, наверное, и в мареве все еще виделся летевший на мотоцикле отец.
Так с той поры на попечении Прасковьи Анисимовны и остались не только ее неугомонная шестерочка, а и отара с арбой и быками. Непривычно было: муж взял в руки автомат, а жене передал ярлыгу. Тут, в степи, вместе с идущими попасом овцами, прошла и ее нелегкая жизнь. За многие годы своего чабанства Прасковья Анисимовна частенько всматривалась в степь, глаза ее слезились, плохо видели, и всегда ей казалось, что вот-вот в том же сизом, слабо качавшемся мареве поднимется солдат в пилотке, в подпоясанной гимнастерке и помашет ей рукой. Не верила она раньше, не верит и теперь, что Ивана нет в живых. Вот и муха частенько залетает в хату. Отчего бы? Все закрыто — и окна, и дверь, а муха как-то появляется и подает голос. Могли же по ошибке прислать ей похоронную? Могли. Может, Иван находится в плену, скитается по чужеземным странам и никак не может оттуда выбраться. Она каждый день думала о нем, ждала его, прислушивалась то к гулу мотора: казалось, что он едет на мотоцикле, то к конскому топоту: может, скачет на коне. В уме уже приготовила слова, какие хотела сказать ему при встрече:
— Ваня, вот она, наша шестерочка, — целехонькая, всех взрастила и сберегла.
Хуторяне знали, как трудно Прасковье Анисимовне живется с детьми в степи, и не раз говорили ей, что чабанство — дело не женское. Советовали ей оставить отару и возвращаться с детьми в хутор.
— Отару не брошу, Ваня не велел.
— Так Ивана же нету в живых.
— Неправда! Он живой, я точно знаю. Так шо останусь я с отарой. Ваня с нею гулял по степу, а теперь погуляю я… Побуду еще лето, а там, гляди, и Ваня возвернется.
— Ты же на все Ставрополье единственный чабан в юбке.
— А шо? Мы, бабы, тоже не лыком шиты, — говорила Прасковья Анисимовна.
«Куды они меня кличут? — думала она, глядя на пасущихся овец. — Там, на хуторе, без этого простора и без овечек и совсем пропаду с тоски. А тут мне, в степу, со своими детишками, с отарой та с далью вокруг, все як-то спокойнее на душе…»
ИЗ ТЕТРАДИ
На четвертом отделении все амбары — без замков, нет сторожей, и не было ни единого случая воровства. Замки поснимали и, развесили в клубе — напоказ, дескать, смотрите, какие они теперь ненужные. В совхозной столовке нет ни кассира, ни официанток. Сам платишь деньги, сам берешь сдачу, затем идешь и выбираешь те блюда, за которые заплатил, и обедаешь спокойно. Об этом узнали в районе, сказали:
— Очередное чудачество Суходрева. Позвоните, пусть приедет. Надо с ним говорить всерьез.
Вскоре Суходрев, директор «Привольного», был вызван в район. Ему велели повесить замки на место, ввести в штат столовки кассиршу и официанток.
— Замки не повешу, от них уже отвыкли, и обойдусь без кассирши и официанток, — ответил Суходрев. — И сторожей держать не буду.
— В авангардизм ударился? Выговора захотел?
— Мы же люди, и когда же начнем доверять самим себе? — говорил в свое оправдание Суходрев. — И то, что на четвертом люди обходятся без замков и сторожей, а в столовке нет кассирши, — хорошо, их похвалить за это надо. Ничего не буду менять.
И настоял на своем.
Сторож на сырзаводе: в теплой стеганке и в резиновых сапогах, голенища повыше колен, а на дворе — летний зной и под ногами — мягкий от жары асфальт.
— Почему деньги храните в кубышке? Положили бы в сберкассу, получали бы проценты.
— Эх, милай, нам чужого не надо.
Рослый мужчина, с могучими плечами, вышел на трибуну, не спеша снял с запястья большие, величиной с детский кулак, часы, положил их перед собой, накрыл листами — своей написанной речью. Взял первый лист, наклонился к нему, стал читать глухим голосом, часто переступая с ноги на ногу, будто стоял на горячей плите, иногда умолкал, отыскивал в бумагах часы и задумчиво смотрел на них.
Есть истории обыкновенные, какие встречаются часто и повсюду. Тогда все, что случается там с людьми, случается только так, как в жизни. И есть истории, которые являются необычными, даже необыкновенными, и тогда то, что происходит в них с людьми, хоть и похоже на правду, но только на правду исключительную.
Он нехотя разговаривал с людьми, называл их просителями, при этом в мясистых ладонях держал пучок остро отточенных карандашей, и когда нервничал, то сжимал карандаши, и они потрескивали.
ИЗ ПИСЬМА МАТЕРИ К СЫНУ
«Юрочка, сыночек, я люблю тебя, жить без тебя не могу и прошу внять моему материнскому голосу: повинись, Юрочка, перед своим начальником, признай свои ошибки, ведь по молодости годов кто их не делает, и Дмитрий Андреевич, я знаю, простит тебя».
ИЗ ОТВЕТА СЫНА
«Подумайте, маманя, что вы такое говорите? Поступить так, как вы советуете, — это же подло. Даже при всей моей сыновней любви к вам я не могу принять ваш совет. Что значит для меня, как вы пишете, повиниться и признать свои ошибки, которых за мной нету и не было? Это значит, что я должен в угоду кому-то пойти против своей совести и своих убеждений. Нет, маманя, и не просите меня, я никогда этого не сделаю, даже под пыткой… А то, что виноват не я, а мой начальник Дмитрий Андреевич, я еще докажу, непременно…»
Озеро в степи сооружено людьми и казалось необыкновенным, как бы приподнятым над равниной. Вода в него поступала из кубано-калауского канала по трубам, а не самотеком. Ее нагнетала мощная насосная станция, работавшая днем и ночью, а уходила вода на посевы и к водопоям тоже по трубам, но уже без помощи насосной станции, — стоило только открыть шлюзы. Берега высокие, спускались к воде отлого, насыпаны из глины и так утрамбованы и укатаны катками, что стали прочнее бетона, а к тому же их надежно укрывал, как зеленой шкурой, густой и сочный пырей. Своей формой озеро напоминало огромный, несколько удлиненный ковш, а гравийная, тянувшаяся к нему дорога была похожа на ручку, — бери ее и поднимай ковш, только поосторожнее, чтобы не расплескалась вода.
Если описывать жизнь, увиденную мною в Привольном или в Мокрой Буйволе, то лучше всего не скрывать ни настоящих имен и фамилий, ни настоящего места. Тогда не будет ни упреков, ни нареканий, и никто не скажет: все это выдумано: и эти чабанские хутора, и их названия, и люди, в них живущие. Возможно, какие-то хутора, которые не будут названы, тоже чем-то похожи на Привольный или Мокрую Буйволу, а какие-то люди, о которых ничего не говорилось, такие же, как, к примеру, моя бабуся, как Андрей Сероштан или как мой дядя Анисим. Надобно не забывать: увиденная природа, настоящие, невыдуманные хутора и села, настоящие, живущие в них люди — это одно, а вот все то, что потом ложится на бумагу, бывает совсем другим.
Часть вторая
1
В то памятное лето август дышал зноем. На стеклянно-синем небе — ни тучки, ни разорванного облачка. Со стороны Каспия каждый день, с утра и до вечера, тянуло горячим сквозняком, казалось, гигантский вентилятор гнал и гнал воздух по раскаленной докрасна трубе. Никли, падали ниц травы, тускнели их краски, и все чаще то там, то тут дымком курилась пыль, пахло овечьим потом и прогорклым дымом. Куда ни посмотри, повсюду, подпрыгивая волчьим скоком, торопилось бог весть куда перекати-поле, светлее становились полянки ковыля — совсем седые чубчики подрагивали на ветру, непокорно клонясь к земле. Даже неприхотливая, привыкшая к каспийским козням полынь и та, не успев отцвести, быстро огрубела, навострив свои щетинистые листочки. Давно пересохли пруды и болотца, на еще влажном дне зияли трещины, и пауки-работяги, желая сохранить для себя влагу, уже успели старательно заткать их паутиной. Овцы паслись только в ложбинах и только ночью или на рассвете, по холодку. Днем же, отворачивая головы от горячего сквозняка и подставляя солнцу свои спины, они сбивались в круги, образовывая грязно-серые островки в этом бескрайнем степном море, и так, тыча морды в землю и часто дыша, простаивали часами.
Доставалось в суховей и собакам. В отаре их было семь — надежная стража: четыре серых, поджарых, истинно волчьей стати кобеля да три суки. Одна была рыжая, с темной шалькой-загривком, молодая, еще не щенившаяся, другая — пегая, с темными подпалинами на груди, с двумя щенятами, третья — совсем уже старуха, темно-бурой масти, с тусклыми, постоянно слезившимися глазами, вокруг которых живой сизой оборочкой лепились степные мошки, и с отвисшими темными сосками, похожими на лоскутки замши. Изнывая от жары, скучая от безделья, собаки бродили тут же. Те же, кому не хотелось находиться возле сбившихся в кучу овец, либо скитались близ колодца, отыскивая под длинными корытами сырое и прохладное место, либо ложились в холодке под арбой, блаженно вытянув ноги.
Ночью овец пасли Анисим и Антон, старшие сыновья Паши. Одному было четырнадцать, а другому тринадцать, и с ними находился дед Яков, высокий и тощий старик с закопченными табачным дымом жиденькими усишками. Когда начинало вечереть, чабаны уводили подальше от стойбища отару и собак. Отара серым полотнищем расползалась по низине, а собаки усаживались на пригорке недалеко от чабанов, готовые всякую минуту исполнить их приказание.
С наступлением темноты «каспийские вентиляторы», как правило, вдруг останавливались, будто чья-то сильная рука решительно выключала рубильник, и тогда до самого рассвета стояла та особенная тишина, ощутить которую в полной мере можно было только тут, в степи, и только ночью. Однако вместе с темнотой прохлада, как на беду, не приходила. Душно было и ночью, детишки спали голышами: Настенька и Аннушка — на арбе, а Толик и Алеша — под арбой, на войлочной полости. Паша сперва прикрыла девочек своим платком, потом наклонилась к мальчикам и, убедившись, что ее младшие уже спят, отошла от арбы. Ничего не говоря матери, она направилась к корыту, там умылась теплой, за день хорошо нагретой водой. На душе у Паши было тревожно. Она не знала, где сейчас находился фронт. Имевшийся в отаре портативный приемник, которым умело пользовался Анисим, как на беду, перестал работать, не годились батарейки, и чабанская арба, словно одинокая лодчонка в океане, осталась отрезанной от всего мира.
Еще месяц назад приезжал на грузовике хромой завхоз Нестеренко, привозил продукты — муку, сахар, печенье, вермишель. Припадая на левую, укороченную ногу, он отвел Пашу от арбы, и понизив голос до хрипоты, сказал:
— Беда, Прасковья.
— А шо такое?
— Война уже наползает на Ставрополь.
— Да неужели? Хто казав? Откуда тебе известно?
— Сорока на хвосте принесла, — хотел отшутиться Нестеренко. — Говорят, что это правда. Сам я там, вблизи Ставрополя, не был, в точности, конешно, поручиться не могу. Но в хуторе ходят такие балачки…
— А ты им не верь, балачкам.
— Хотелось бы не верить. Дюже хотелось бы… На всякий случай готовься, всякое может случиться.
Нестеренко сгрузил продукты и уехал, а Паша стояла, словно бы окаменев, не могла двинуться с места. «Шо цэ такое? — думала она, провожая глазами удалявшийся завхозовский грузовик. — Знать, война уже близко, возле Ставрополя? А может, в этот час она уже накатилась и на наш Привольный? Может, и мой Иван где-то тут, близко? Стоять на месте и чего-то ждать? Или уходить заблаговременно? Но куда уйдешь? Где спрячешься?»
Сразу после отъезда Нестеренко Паша не решалась заговорить о том, что ей сообщил завхоз, ни с матерью, женщиной молчаливой, скупой на слово, ни со старшими сыновьями, ни с дедом Яковом. Так прошла неделя, и как-то вечером, убедившись, что младшие уже спят, а старшие находятся возле отары вместе с дедом Яковом, Паша подошла к матери, отвела ее от арбы. Они подошли к корыту, Паша плеснула воду на горячее лицо, утерлась фартуком. Не понимая, зачем она понадобилась дочке, старуха присела на краю корыта, сказала:
— Стих ветродуй. Пора и нам спать.
— Не до сна, мамо.
— Чего ж так?
— Потолковать бы нам надо… Хочу спросить вашего совета и не знаю…
— Чего умолкла? Спрашивай.
— Ежели случится, шо сюда, до нас, заявятся немцы? Шо нам делать?
— Ты шо выдумываешь? Откуда тебе известно, шо они сюда припожалуют?
— Я так, предположительно. Ежели вдруг будет такое… Ума не приложу.
— Ежели, не дай бог, такое случится, то шо же тут долго думать? — ответила мать. — Оставим отару и будем спасать свои души. — Старуха говорила спокойно, как можно говорить о чем-то простом и обыденном. — Впряжем быков в арбу и подадимся с детьми в беженцы. Приютимся всей своей оравой на каком-нибудь неказистом хуторке и, бог даст, переждем, переживем. Это хорошо, дочка, шо в такую тяжелую годину мы все тут, вместе.
— Отару, мама, бросать нельзя, — негромко, но твердо сказала Паша. — Я так думаю: надо нам послать на хутор Анисима. Пусть все разведает, шо там и як.
— Доберется-то як туда?
— Пешком али на попутной машине.
— Шо-то попутных машин в степу не видно. И мальца от себя не отпускай. Такое ненадежное времечко.
— Який же вин малец? Шо вы, мамо? Анисим — парень хоть куда, смышленый прямо-таки не по годам, да и Антоша — мальчуган бедовый, — с любовью говорила Паша о своих старших. — Вот двоих их и послать. Видели, як воны чабануют? Молодцы! Всю ночь возле отары, дед Яков ими не нарадуется. Растут, говорит, настоящие чабаны. Вот и пусть они смотаются на разведку.
— Пасти овец, дочка, — это одно, а ходить в такую даль — совсем другое, — как всегда, рассудительно возразила старуха. — Да и времечко-то ныне не подходящее для хождения… Паша, а погляди! — вдруг воскликнула она. — Огни мельтешат. Никак кто-то на машине до нас катит…
2
На аспидно-черном горизонте заполыхало зарево, то взлетая и освещая добрый кусок неба, то падая на землю, будто желая отыскать в траве след, становясь все ближе и ближе. И вот уже фары обласкали колодец с нацеленным в темноту журавлем, корыто с запламеневшей в нем водой, ослепили Пашу и ее мать, и грузовик, молодцом остановившись возле арбы, стряхнул со скатов дорожную пыль и умолк. Погасли фары, сомкнулась темень. Из кабины поспешно вышел мужчина в военной форме, гимнастерка затянута ремнем, на ремне — кобура, и сказал нарочито громко:
— Ну, наконец-то отыскали!
Паша сразу узнала Николая Семеновича Пономарева, директора «Привольного», и обрадовалась, как ребенок, Пономарев солдатским, четким шагом направился к Паше, на ходу оправляя под поясом гимнастерку и сдвигая на бок кобуру, протянул руку:
— Ну, Прасковья Анисимовна, здравствуй! — Говорил он быстро, словно бы давая понять, что у него мало времени и что он торопится. — Насилу тебя отыскал. Должен был побывать у тебя еще засветло. Да шофер не потрафил.
— Николай Семенович, як же вы в родной степи могли заблудиться? — сочувственно спросила Паша. — Все ж тут свое, каждый бугорок, каждая ложбиночка.
— Видно, черт попутал.
— Да и ехать-то к нам просто, — как бы оправдываясь в том, что ее стоянку так долго пришлось отыскивать директору, сказала Паша. — От Привольного, вы знаете, дорога лежит прямо до озера, а от озера — рукой подать. Там, близ озера, имеется косая ложбинка, так от нее надо поворачивать направо. А тут и наша арба.
— Повернули, да по всему видно, не в том месте. — Пономарев положил руку на кобуру, как бы желая показать Паше, что и он уже при оружии, и добавил: — Моя речь зараз не о том, как мы заблудились. Пусть шофер пока сгружает продовольствие. Кое-чего подбросил тебе из продуктов… Отойдем-ка в сторонку, надо поговорить.
Они ушли в темноту. Проходя мимо грузовика, Паша увидела в кузове мужчин, женщин и детей. Сидели они кучно, на каких-то узлах, молчали и, по всему было видно, сходить на землю не собирались. «Не иначе, убегает Пономарев, и эти с ним», — подумала Паша, стараясь не отставать от директора. Остановились они так далеко, что отсюда уже не было видно ни колодца с лихо поднятым журавлем, ни грузовика, ни брички.
— Паша, да фронте наши дела очень плохие, — заговорил Пономарев тихо и так же быстро. — Вчера немцы вошли в Ставрополь, а сегодня утром фашистских автоматчиков видели вблизи села Петровского. — Он сердито посопел носом. — Все это случилось неожиданно, поэтому в этой спешке и с эвакуацией ничего не получилось. Все оставили на произвол судьбы. Насчет скота и отар есть указание райкома: упрятать в степи… Паша… Прасковья Анисимовна, твоя боевая задача — спасти отару. Уведи ее подальше в степь, в самые буруны, и там пережди… А мы скоро вернемся.
— Знать, упрятать овец в степу?
— Угони отару подальше от дорог и от людских глаз.
— Николай Семенович, а сами вы куда же?
— Приказано держать курс на Моздок, — ответил Пономарев совсем глухо. — В Моздоке находится штаб ставропольских партизан.
— А кто те, шо в кузове?
— Моя семья и две семьи учителей.
— Як же теперь мне? — вырвалось у Паши, как стон. — Дажеть подумать страшно.
— Я уже сказал: есть указание райкома, и твоя боевая задача — укрыть овец в степи и переждать там месяца два-три. — Пономарев помолчал, посопел, успокаивая дыхание. — Мы скоро вернемся…
— Я не про то, я не про себя, — сказала Паша. — Я про овец. В степу просторно я овец спрятать бы можно. А як же быть с водой? Без воды овца долго не проживет.
— Проживет, — уверенно сказал директор. — Овцы умеют утолять жажду и росой и сочной травой. Посоветуйся на этот счет с дедом Яковом. Он вырос в этих местах, по памяти знает, где тут есть колодцы, где пруды или озерца. Вот туда и держи путь. Дед Яков — человек степовой, овец перегонять ему не впервой… Но мы скоро вернемся, — быстро и как-то виновато повторил он свое обещание вскоре вернуться. — У тебя какой транспорт?
— Быки да конь в придачу.
— Быки — это надежно.
— Имею еще дойную корову.
— Корова — отлично, свое молоко для детишек. Как они тут, в отаре поживают? — участливо спросил Пономарев. — Не болеют?
— Чего им? Бегают… А старшие при деле, овец пасут.
— Но мы скоро вернемся, — еще раз повторил Пономарев, теперь уже каким-то чужим, совсем упавшим голосом. — Значит, так: молоко для детишек у тебя имеется, продуктов я привез, хватит месяца на три. Как директор, разрешаю пользоваться бараниной. Маток, конечно, не губи, а валушков смело пускай в ход… по акту. И еще: привез я тебе оружие…
— Яке оружие?
— Автомат и к нему три диска с патронами.
— Зачем оно мне?
— На всякий случай, может пригодиться.
— Шо вы? Не надо… Стрелять-то я не умею.
— Научишься. Наука не трудная.
— Зачем же мне учиться стрелять?
— Затем, что война рядом. Мало ли чего…
— Мы — чабаны — люди мирные.
— Напрасно так думаешь. Нынче все мы — военные. — Пономарев положил руку на кобуру и с трудом сдержал тяжелый вздох. — Вот что, Прасковья Анисимовна, от автомата не отказывайся. Пригодится. Отару уводи спокойно, без паники, и уводи подальше от людских глаз… А мы скоро вернемся, — добавил он, и теперь Паше показалось, будто ему нравилось повторять эти слова. — Мы скоро вернемся… Ну, поеду. Задерживаться никак не могу, и так уже припозднился, надо поспешать. А ты сейчас же, не мешкая и не дожидаясь утра, собирай свой табор и трогай в путь. Иди на восход солнца. Перед отходом хорошенько напои животных и уходи подальше, в самую степную глубь. Запомни: чем дальше заберешься в степь, тем безопаснее будешь жить. И не беспокойся, мы скоро вернемся…
Пока они говорили, шофер успел снять с грузовика три мешка и два ящика с продуктами, поставил их возле арбы, ведерком зачерпнул из корыта воды, вылил ее в горячий радиатор, шумно захлопнув крышку капота, как бы говоря этим: все уже сделано, можно ехать. Вернувшись к грузовику, Пономарев взял в кабине автомат и брезентовую сумку с патронами.
— Коля, скоро ты там? — послышался женский голос.
— Скоро, скоро, — быстро ответил Пономарев и крикнул: — Степан! Включи на минутку фары. — И обратился к Паше: — Подойди поближе к свету. Вот смотри и запоминай нехитрую мудрость. Я покажу вкратцах, в общих, конечно, чертах, как надо обращаться с этой огнестрельной штуковиной. Один диск с патронами, вот он, уже вставлен. Как это делается? Вот так. Берешь его пальцами, нажимаешь до отказа, чтобы послышался вот такой сухой щелчок. Затем, смотри сюда, ставишь курок на боевой взвод и в ствол посылаешь патрон. Вот так. После этого достаточно нажать на гашетку, вот на эту штуку, и автомат заработает, застрочит, как хорошая швейная машинка. Все просто, ничего сложного и непонятного. Ну, конечно, надо потренироваться…
— Эх, Николай Семенович, губите вы меня. — Паша тяжело вздохнула. — Лучше бы обойтись без этой железяки. Не бабское занятие.
— Верно, не бабское, — согласился Пономарев. — Но что поделаешь, война… Бери, бери оружие, привыкай. А насчет того, что я тебя погубить хочу, не права. Напротив, с оружием ты станешь сильнее…
Паша осторожно взяла автомат, чувствуя в ладонях тяжесть металла и какой-то странный, идущий от него холодок.
— Ну, все там на месте? — крикнул Пономарев тем, кто сидел в грузовике. — Я готов!
— Давно бы пора, Коля, — послышался тот же женский голос, — давай ехать, пора уже…
Пономарев проворно и крепко пожал Пашину руку где-то выше локтя и быстро уселся рядом с шофером. Грузовик сдал назад, развернулся, обдал бричку вонючей гарью, глазищами-фарами рассек темноту, еще раз, как бы на прощанье, осветил колодец с корытом и с торчмя нацеленным в небо журавлем и пропал в темноте. Паша стояла возле арбы, впервые в своей жизни держа в руках автомат, и не знала, что же с ним делать. Она все еще смотрела в ту сторону, куда умчался грузовик, и так задумалась, что не услышала, как к ней подошла мать.
— Прасковья, о чем ты с ним секретничала?
— Так, поговорили…
— Так, да не совсем так. О чем, а?
— О том, мамо, шо опасно нам оставаться на этой
стоянке, — ответила Паша. — Директор велел двигаться с отарой в глубь степи. Это, мама, приказ. Немцы уже в Петровском.
— Сам-то он куда умчался? Немцев бить?
— К партизанам…
— Ему хорошо приказывать, — гневно говорила мать. — Забрал чемоданы, посадил в грузовик своих домочадцев и дралала, только его и видали. А нам тут жить, и удирать нам некуда. Да и незачем.
— Так шо же, по-вашему, надо делать? Ждать немцев?
— Ждать их нечего — не гости, — сердито ответила старуха. — Я уже придумала, шо нам надо делать.
— А шо, мамо? — Паша насторожилась. — Упрятаться в захолустном хуторке?
— Не, не то я придумала, — решительно ответила мать. — Чего нам прятаться на чужом хуторе? Мы не воры.
— Шо ж делать? Не трогаться с места?
— Оставим овец в степу, они не наши, и нечего за них держаться, а сами подадимся не на чужой хутор, а на свой, до своей хаты. Хто нас там тронет? Кому мы нужны? — Старуха помолчала, покосившись на дочь. — Две бабы да детишки… Так и будем жить.
— Мама, я уже сказала, отару не брошу, — глотая слезы, ответила Паша. — И в свой хутор не поеду. Умру тут, возле овец, а их, родных, не оставлю на произвол судьбы.
— Дура ты, Прасковья, вот что я тебе скажу. Кому нужно твое старание? Ить рухнуло все, за шо станешь держаться? — Старуха невесело, через силу усмехнулась. — И эту цацку чего держишь в подоле, як грудного детеныша?
— Директор вручил, вот и держу.
— Брось ее в колодец, от греха, и все, — советовала мать. — Зачем оно тебе, бабе, оружие?
— Так надо, мамо. И ты не злись.
Паша сняла с себя фартук, завернула в него автомат и диски с патронами, бережно, осторожно, и все это сунула под солому, рядом со спавшими девочками.
— Схоронила? — ехидно спросила мать. — А шо дальше? Али воевать станешь? Хватит с нас и того, шо Иван воюет.
— Пусть лежит в арбе, — спокойно ответила Паша. — Хлеба оно не просит.
— Так куда же думаешь податься? К черту на рога?
— В степи много места. Да и дорога у нас зараз одна, дюже просторная.
— А хто там, в степу, тебя ждет? Кому ты там нужна?
— Пойду посоветуюсь с дедом Яковом, — не отвечая матери, сказала Паша. — А ты ложись спать. До утра с места не тронемся.
3
Еще муж Иван учил: прежде чем тронуться в путь, надобно хорошенько подготовиться, обдумать, куда, в какую сторону ляжет твоя дальняя дорога и будет ли на том пути встречаться вода. Вспомнив об этом совете мужа и пожалев, что рядом с нею Ивана не было, Паша направилась к деду Якову. Понимала: без подсказки старого чабана, хорошо знавшего степь, теперь ей не обойтись. И хотя по должности она была старшим чабаном, а дед Яков всего лишь сакманщиком, Паша и раньше, не стесняясь, частенько обращалась к старику. То нужно было узнать, как отыскать богатое травами пастбище, то хотелось посоветоваться, как лучше сгруппировать сакманы, то есть отобрать маток с ягнятами одного возраста. И в других делах не раз требовался совет деда Якова.
Старик и Паша сидели на бугре. Над степью нависла черная и душная ночь — суховея будто и не было. В тишине разыгрались сверчки, и тягучие, тоскливые их голоса слышались всюду. Сверчки словно бы пели: «А нам так хорошо, а нам так весело…» «Да, им хорошо и весело, а нам-то як», — думала Паша. Внизу, совсем близко, паслись овцы, было слышно, как они с характерным хрустом скусывали траву, и хотя ветра не было, а от них тянуло бьющим в нос запахом пота и серы. А вокруг, куда ни обрати взгляд, раскинулась равнина, вся укрытая широченным темным пологом.
— Дедушка Яков, до нас докатилась беда, — тихо сказала Паша, словно бы не решаясь нарушить музыку сверчков. — Через то и пришла до вас за советом.
— А что случилось?
— Немцы прут…
И Паша коротко поведала о приезде Пономарева, о своем разговоре с ним, об автомате пока умолчала и напоследок сказала, что отару велено упрятать в степи.
— Когда зачнем трогаться? — без лишних слов спросил дед Яков. — Упрятать отару — это не то, что бросить иголку в скирду сена. Тут нужна смекалка.
— Можно и завтра, пораньше. Время-то не ждет.
— Сурьезная, скажу тебе, Паша, закавыка.
— Трудно будет укрыться, дедушка?
— Сказать, не то что трудно, а хлопотно придется с животными. Все наше передвижение следует хорошенько обмозговать. — Старик стянул с лысой головы войлочную шляпу, наклонился к коленям и долго тер ладонью голое темя. — Дорога, Паша, ляжет тяжелая… Суховей всю воду выпил, траву и ту изжарил…
В это время, рисуясь на темном фоне ночи ярлыгами и широкими, как и у деда, войлочными шляпами, подошли Анисим и Антон в окружении собак. Присели возле матери, прислушались.
— Ребятки, идите к овцам, приглядите за ними, — сказала Паша. — У нас с дедушкой есть важное дело, нам надо потолковать.
— А что? Аль секрет? — не поднимаясь, ломаным баском спросил Анисим. — Зачем же секретничать?
— Допустим, шо не секрет, а все ж таки разговор старших вас не касается, — строго ответила мать. — Малые еще. Ступайте к овцам. И уведите собак.
Анисим и Антон не встали, не ушли.
— Нехай молодцы остаются, — сказал дед Яков. — Секретничать, верно, от них нам нечего, свои они, да и не малые уже. Нехай все знают, им же придется отару вести. — Старик тяжело поднял голову и снова озабоченно потер ладонью лысину. — Знайте, хлопцы: беда навалилась на нас, немец уже близко. Нам с овцами надо уходить. — И старик обратился к Паше. — Самым трудным в нашем продвижении, Прасковья, окажется, сама знаешь, безводье. Сколько, по-твоему, может прожить овца без воды?
— Не знаю, — глухо ответила Паша. — Не приходилось…
— А вот теперь придется все узнать.
— Дедусь, я слыхал от старых людей, что без воды овца может прожить и месяц, — уже совсем как взрослый сказал Анисим. — По утрам овцы росу пьют.
— Это верно, пьют, — согласился дед Яков. — А ежели росы нету? Суховей пожрал не только росу, а и травы. Так что в такую засуху овца может продержаться без воды самое многое неделю, не более. А что тогда? Погибель?
— Знать, остаться тут, при колодце, мы никак не можем? — серьезно спросил Анисим, и Паша удивилась: голос-то у сына басовитый, ну в точности, как у Ивана. — Это так, маманя?
— Так, сыну, так… Никак нельзя нам тут оставаться, — ответила Паша. — И сниматься надо побыстрее. Харчей у нас хватит, а воды для овец и для себя как-нибудь раздобудем.
— Как-нибудь, Прасковья, нельзя, — сказал дед Яков.
— Дедусь, вы же знаете здешние места, — снова вмешался в разговор Анисим, и снова ёкнуло у Паши сердце: говорил Иван да и только. — Как вы считаете, дедусь, должны же быть в степи колодцы или запруды? Вот и подскажите, куда нам направить отару?
— Верно, сынок, когда-то, когда я был помоложе тебя, я хорошо знал те сакмы, по каковым лежал перегон овец. — Дед Яков помолчал, что-то вспоминая. — Да ить с той поры сколько прошумело годочков? Давненько я не ходил по степу, и вот еще вопрос: смогу ли по памяти отыскать те сакмы, по каковым безошибочно можно направлять отару хоть через все Черные земли али хоть до Каспия? С годами все перезабылось. Да и неведомо, имеется ли на тех сакмах нынче вода, как она имелась в те годы? Да и лето зараз сухое, каспийские ветродуи все запруды и все колодцы повылакали. И все ж таки, Прасковья, я так полагаю: раз надо, другого исхода нема, то будем двигаться. Прасковья Анисимовна, давай нам приказ, как своим солдатам.
— Погодите, дедусь, с приказом, — тем же ломающимся баском возразил Анисим. — Маманя, и вы не спешите. Надо все как следует обдумать и все рассчитать. — Паше опять показалось, что рядом сидел, нахлобучив войлочную шляпу, не Анисим, а Иван. — Маманя, дедусь, я считаю, что нам надо продвигаться перегонами, от стоянки до стоянки. Так, дедусь?
— Э, погляди-ка на него, какой башковитый растет у тебя сынок, Прасковья, настоящий сын Ивана Чазова, — не отвечая Анисиму, сказал дед Яков. — А насчет нашего продвижения по степу, то я сужу так: там, когда тронемся, само дело покажет, как и что. Заглавное для нас — заиметь водичку.
— Маманя, а как же ягнята? — спросил все время молчавший Антон. — Еще маленькие, ить уморятся в дороге.
— Антоша, помолчал бы, — прикрикнул на брата Анисим. — Нельзя быть таким жалостливым. Да и вообще без твоей подсказки обойдемся.
— Не кори братеня, — сказал дед Яков. — Антон разумно подает мыслю. И хоть ягнята уже подросли и от матерей своих не отстанут, а все же для них придется устраивать привалы. — И старик обратился к Анисиму: — Вот и ты, Анисим, правильно сказал: ежели поведем отару по заранее обдуманному пути, то пройдем благополучно. А как его, тот путь, обдумать?
— Дедусь, а можете вы назвать стоянки, где может быть вода, и расстояния между ними, хотя бы приблизительные? — тем же своими радостным для матери, баском спросил Анисим. — Жаль, что у нас нету карты. Так что придется двигаться по памяти, а память имеется только у вас, дедусь.
«Боже мой, як Анисим вырос и яким стал смышленым, — думала Паша о сыне, чувствуя сладкий холодок в груди. — И як толково рассуждает, як все одно Иван. Вот бы батько обрадовался, увидав такого себе помощника… Эх, батько, батько, где ты зараз?»
— Как это говорится: на память надейся, а сам не плошай, — сказал дед Яков. — Да и память у меня зараз, как решето, состарилась, поржавела. Но что-нибудь сообразим. Как я себе осмысливаю наш переход в глубинную степь? Перво-наперво двинемся на Три кургана — село такое, тут недалече, думаю, суток за двое доберемся, ежели будем двигаться безостановочно. Когда-то там, вблизи Трех курганов, помню, зеркалами сияли настоящие пруды. Что там теперя — не ведаю. Передохнем там, а от Трех курганов прямая сакма ляжет до Осотного, тут расстояние порядочное. Возле этого села, помню, имелся артезианский колодец. Тоже клади на переход суток трое, а то и четверо, не меньше. Из Осотного наша сакма устремится на хутор Забурунный. Еще потребуется суток трое. А когда доберемся до Забурунного, осмотримся, поглядим, покумекаем, куда податься, потому как от Забурунного стелется две сакмы: одна уходит на Элисту и в глубь Черных земель, а другая — на Каспий. — Старый сакманщик долго о чем-то думал, все молчали, ждали, что же он еще скажет. — В Забурунном будем кумекать: яка сакма ляжет на душу, по той и направим отару. Так что, Прасковья Анисимовна, давай приказ своим солдатам, то бишь нам, и мы зачнем двигаться.
4
Мне не терпелось поскорее узнать: научилась ли моя бабуся стрелять из автомата или не научилась. Но я не перебивал ее, не торопил. Только в том месте, где она заговорила о приезде Пономарева и о том, как он уговаривал ее взять автомат, а потом показывал, как с ним надо было обращаться, я невольно вспомнил известное чеховское ружье, которое в первом акте пьесы и повешено на стенку только для того, чтобы во втором выстрелить. И так как в чабанском таборе неожиданно появился автомат, то мне хотелось узнать не столько о том, как отара была укрыта в степи, сколько о том, как, при каких обстоятельствах моя мирная бабуся применила огнестрельное оружие. А она, как на беду, ничего об этом не говорила. Слушая ее рассказ, я видел и чабанскую, двигающуюся по степи арбу, и своего отца, и детей — моих теперешних дядьев и теток. Видел укрытую черным пологом душную степь, мою бабусю, тогда еще совсем молодую женщину, и все время не переставал думать об автомате. Не случайно, говорил я себе, бабуся так старательно завернула его в свой фартук и надежно упрятала в арбе. И если оружие появилось в чабанском таборе, то должно же оно было сделать что-то важное, нужное. Думая об автомате, я был уже уверен: с ним как раз и был связан тот, еще не известный мне, «грех», который взяла на свою душу моя бабуся и о котором она все эти годы никому не рассказывала. Поэтому, в том месте, когда Пономарев при свете фар показывал молодой женщине, как обращаться с оружием, у меня невольно вырвалось:
— Так как же, бабуся, изучили вы автомат в деле?
— Изучила, ишо як!
— В кого же вы стреляли и когда?
— Не забегай вперед, — нехотя ответила бабуся. — Первые дни мне было не до автомата. Я про него позабыла. Лежал себе мирно под сеном на арбе. В уме у меня тогда была путя-дорога… Как мы тогда двигались, вспоминать не хочется.
— Значит, автомат так и пролежал на арбе без дела?
— Какой ты нетерпеливый. Об нем, об деле, рассказ впереди, — ответила бабуся, скривив в улыбке рот. — Потерпи маленько… Ты молодой, и тебе, я вижу, не чается узнать, як же эта степовая баба научилась орудовать автоматом? — И с улыбкой добавила: — Научилась, за мое почтение! До горя дойдет, всему обучишься. Говорят же: ежели хорошенько постараться, то даже зайца можно обучить запаливать серники. А я не заяц, а людына, и мне тогда надо было спасать и овец и детишек, да и себя и свою матерь. Так шо я знаю, як эта железяка дергается в руках, як вона толчет тебя в живот, аж трепещет, все одно як живая. Но лучше бы ничего этого не знать…
Я слушал ее, смотрел на нее, как на незнакомую мне старушку, и мне не верилось, что все, о чем она мне поведала, могло случиться в степи с нею, такой худенькой и малосильной. Мне казалось, что там, в степи, была другая женщина. И, возможно, поэтому, когда она говорила «…а Толя, твой батько, такой был шустрый хлопчик», я никак не мог себе представить этого «шустрого хлопчика» своим отцом, как не мог себе представить свою бабусю, стреляющую из автомата.
5
САКМА́
Сакма́ — след или брод по траве, по росе, путь, которым прошли пешие или конные.
В. И. Даль
Только-только начинал прорезаться рассвет, едва-едва на востоке, по всему горизонту поднялись красные полотнища зари, а Паша уже начала будоражить, поднимать свой табор. Младших детей пришлось разбудить, и они, хныча и не понимая, зачем их так рано подняли, сидели голышами под арбой, похожие на выпавших из гнезда воробьят. Паша птицей припадала к детям, обнимала всех четырех, и слезы навертывались у нее на глаза.
— Ах, птенчики вы мои, — говорила она. — Бедняжки, не выспались.
— Маманя, а чего ты плачешь? — спросил Алеша.
— Лешенька, сынок, шо ты? Вовсе я не плачу. — Паша насильно улыбалась, с трудом глотая слезы. — Видишь, смеюсь, я совсем веселая.
— Это ты нарочно веселая, да? — спросила Настенька.
— Настюня, ты бы помолчала. — Паша обратилась к Алеше: — Лешенька, ты самый большой, поведи братика Толю и сестричек до корыта, и там умойтесь… А то скоро придут овцы и всю воду выпьют. Да и ехать нам пора.
— Маманя, а куда мы поедем? — за всех спросила Аннушка, девочка тихая и ласковая.
— Далеко, девонька, далече, — ответила мать.
— И куда — далече? — спросил Толя.
— Толя, и тебе надо знать? Поедем вон туда, где та заря.
— Ну, чего сидите? — подражая матери, строго спросил Алеша. — Али не слыхали, шо маманя велела? Пошли к корыту умываться.
— А где Аниська и Антоша? — спросила любознательная Настенька. — Почему они не умываются?
— Вон, погляди, они отару ведут к водопою, — ответила мать, а для себя добавила: — Анисим и Антон всю ночь не прилягали, сердешные… Мама! — позвала она мать. — Я сама сложу постель, а вы подоите корову да покормите младших. Анисиму и Антону тоже оставьте молока.
Алеша выполнил поручение матери, сводил брата и сестренок к корыту, сам умылся и помог им умыться, и когда они вернулись к арбе, чистенькие, с капельками на бровях и на ресничках, Аннушка сказала:
— Маманя, погляди, какие мы теперь хорошие.
— Ах, славные вы мои! — похвалила Паша. — Только носики вытерли плохо. — Она взяла полотенце и начала вытирать детские лица. — И чего это у вас носики такие сопливые? И бровки мокрые.
— И не сопливые мы, — за всех ответил Толя. — То вода у нас в носах.
— А глазенки как блестят! — говорила мать ласково. — И спать вам уже не хочется?
— Маманя, а куда мы поедем? — теперь уже спросила Настенька. — На хутор, в свою хату?
— Доченька, все-то тебе хочется знать, — не нашлась что сказать Паша. — Придет время, подадимся и до своей хаты.
— А когда? — допытывалась девочка.
— Когда будет надо, — сердито ответила Паша. — Ну, быстро, быстро взбирайтесь на арбу, бабушка даст вам поесть.
В это время подошла отара и принесла с собой запах трав, смешанный с запахом пыли и овечьего пота, овцы окружили корыто серым, качающимся войлоком. Водопой длился долго, кривоногий конь с бельмом на глазу ходил по кругу, вытаскивал из колодца новые и новые бадьи с водой, дед Яков опрокидывал их в корыто, и когда живой серый войлок, напившись вволю, отвалился наконец от колодца, корыто было пустое. Пока длился водопой, Пашина мать успела накормить сидевших на возу умытых, наскоро причесанных ребятишек. Анисиму и Антону оставила молока в крынке, и они, усевшись на траве, завтракали вблизи отары.
Небогатое чабанское имущество уместилось на арбе, там же, как цыганчата, кучей сидели присмиревшие дети. Дед Яков подвел к дышлу быков, сказал знакомое, привычное для них «Шею, шею!», и рогатые тихоходы покорно подставили ярму свои мозолистые, со стертой шерстью, шеи. Гривастый конь с бельмом, закончив свое хождение вокруг колодца, был привязан ременным поводком к арбе, рядом с коровой, поглядывал на нее и смешно подмигивал белым глазом. И так как отъезд почему-то задерживался, то привязанные к арбе конь и корова успели не только обнюхать друг друга, а и поговорить о своих житейских делах. Конь, подмигнув бельмом, сказал корове, что он уморился, — не в его годы и не с его больными ногами гулять по кругу.
— А что поделаешь? — сочувственно ответила корова. — Без воды нельзя, и если бы не походил ты, не поднял бы бадьи, то все мы остались бы без воды.
Потом она, как другу, пожаловалась, что у нее с каждым днем убывает молоко.
— Почему бы это? — так же сочувственно спросил конь.
— Нету сочной травы, — с грустью ответила корова. — А без травы где же взяться молоку. Да оно бы и ничего, мне-то зачем оно, молоко, да вот детишек жалко, им без молока как же…
Наговорившись вволю, конь и корова стояли понурив головы, готовые следом за арбой тронуться в путь. Они видели, как дед Яков снял со своей плешивой головы войлочную шляпу, повернулся к востоку, подставил лицо заре, которая своим красным пламенем уже охватила полнеба, и тайком, чтобы никто не видел, перекрестился.
— Ну, як, Прасковья, можно трогать? — спросил он, держа в руке шляпу.
— Можно, — ответила Паша.
— Ну, в добрый час — Дед Яков еще раз перекрестился, теперь уже ни от кого не прячась. — С богом, клешаногие! Тронулись помаленьку. — И крикнул подпаскам: — Анисим, Антон! Отару подворачивайте к ложбине. Мы поедем по бугру, а овцы пусть идут по низине, еще вчера я там примечал добрый корм. Пусть движутся попасом, пока еще держится холодок и нету ветродуя.
Грязной серой массой отара поползла по отлогой, с зелеными пятнами типчака, ложбине, шла не спеша, попасом. Впереди, сдерживая передних, нетерпеливых валушков, своими войлочными шляпами маячили, как два одуванчика, Анисим и Антон с ярлыгами на плечах, рядом — собаки, встревоженные тем, что табор и отара тронулись с места. Над степью изредка потягивало порывистым, еще не окрепшим ветром, наверное, чья-то неопытная рука включала рубильник и никак не могла включить. Далеко окрест этот робкий ветерок разносил разноголосое блеянье ягнят, потерявших своих матерей, и тревожные голоса овец-маток.
Если смотреть на отару издали, с какого-нибудь степного бугра и особо не приглядываться к ней, то может показаться, что вся эта серая масса стоит на месте. Однако к восходу солнца, когда над степью раскинулись первые лучи, как багряно-красные знамена, и когда наконец-то рубильник был включен и каспийские вентиляторы заработали в полную силу, овцы ушли так далеко, что давно уже скрылись и знакомые, облысевшие косогоры, и знакомая низинка, поросшая типчаком, и белоголовый, укрытый ковылем курган, и колодец с корытом и нацеленным в небо журавлем.
Куда ни глянь, повсюду расстилалась бескрайняя равнина, незнакомая, чужая, и смотреть на нее было тоскливо и больно. Впереди арбы шел дед Яков. Он держал в руке налыгач и не спеша переступал хотя уже и старыми, но еще крепкими ногами, обутыми в сыромятные, набитые сеном, чобуры. Глухо постукивали ступицы, как бы выговаривая: «…А куда это мы? а куда это мы?» Одноглазый конь, наверное, все еще думая о своем памятном разговоре с коровой, оступился и, не рассчитав шаг, грудью толкнул арбу, так что ярмо поползло по мозолистым бычьим шеям и застучало о рога.
— Прасковья! — крикнул дед Яков. — Попридерживай этого одноглазого черта! Чего он наваливается на арбу?
Паша не ответила. Что ей одноглазый конь? Она не видела ни коня, ни корову. Шла следом за арбой, опустила покрытую косынкой голову и бесцельно смотрела под ноги на нескончаемую сакму — чуть примятую траву, на две свежие колеи, и мысленно, вслед за ступицами, повторяла: «…А куда это мы? А куда это мы?» От этих мыслей к сердцу подступала тупая боль, ей хотелось расплакаться, и Паша, чтобы удержать давившие горло слезы, стала смотреть на арбу, в которой сидели ее мать и присмиревшие дети.
6
Если кому-либо из вас, читатель, не довелось видеть отару в пути, то вам, безусловно, нелегко будет представить себе то размеренное, как бы нарочито замедленное, движение идущих попасом овец и тот горячий ветер, который как бы невидимым шатром повис над степью, и тот особенный, я бы сказал, терпкий, ни с чем не сравнимый запах, который постоянно плыл над овечьими спинами. Трудно будет увидеть вам и то, как на необозримом, под высоким знойным небом, просторе вытянулось чазовское хозяйство и как оно не только двигалось неведомо куда, ни на минуту не останавливаясь, а и как каждая овца успевала на ходу отыскать для себя самую сладкую травинку и, не замедляя шаг, поспешно скусывала ее и снова торопилась, боясь отстать от своих товарок. Юные подпаски знали свое место — Анисим находился впереди отары с тремя волкодавами, а Антон с четырьмя волкодавами — сзади. Они действовали, как заправские чабаны — один шел спиной к овцам, другой — лицом, Анисим сдерживал самых нетерпеливых, для острастки показывая им ярлыгу, Антон подгонял, тоже ярлыгой, отстающих, ленивых, посматривал, не зазевался ли где ягненок.
Ах, эти пареньки, Анисим и Антон! И что это, в самом деле, за молодцы! В свои-то годы все они умеют делать, и как хорошо изучили нехитрое чабанское искусство! Даже не глядя на этот ползущий по ложбине косматый войлок, Анисим и Антон понимали, так ли, как нужно, идет отара, ибо научились узнавать ее движение по тому, как похрумывала на острых овечьих зубах трава и как постукивали о землю тысячи овечьих копытец. Мать радовалась сыновьям. Если они уже теперь такие славные подпаски, то какими же чабанами они станут, когда вырастут? Радовался и дед Яков. «Славные у Ивана Чазова сыновья», — не раз говорил он.
Путь был долгий, арба, постукивая ступицами, катилась и катилась, и нередко в отаре случалось, что какой-нибудь шалунишка ягненок замешкался и отстал от стада, а его мать, как на беду, недосмотрела за ним, не вспомнила о нем, не подала ему голос. А чабан — на то и чабан! — обязан все помнить и все видеть. Поэтому Антон, шедший за отарой, увидев отставшего ягненка, позвал к себе волкодава и сказал ему басом знакомое, привычное, словно бы на каком-то особом собачьем языке, «Го-о-йё!» — и тот, поняв, что от него потребовал Антон, помчался к замешкавшемуся малышу. Умная собака подталкивала ягненка носом, как бы говоря ему: «А ну, иди, иди побыстрее!» Ягненок не подчинялся, сопротивлялся. Тогда волкодав поступил с ним в точности так, как поступает заботливая кошка со своим беспомощным котенком: зубами, осторожно, брал непослушника за загривок и относил к матери. Принимай, дескать, свое чадушко! И после этого отара, а следом за нею и арба с конем и коровой, продолжали свое движение, все дальше и дальше углубляясь в степь и оставляя за собой сакму — заметный след на траве. Этот след тянулся на сотни верст, выщипанный овечьими зубами, вытоптанный копытцами и усыпанный желтым овечьим горошком, — казалось, что тут прошли не овцы, а прокатились какие-то особенные катки.
Неторопливо уходил в степь этот заметный след, и совсем медленно тянулось время. Третьи сутки двигалась отара Паши Чазовой, все так же не ускоряя и не замедляя свой ход, и перед взором чабанов в ветреном, полуденном пекле покачивалось марево, одна за другой открывались то размашистые низины и балки, такие, что и не окинуть глазом, то вставали там и тут отлогие бугры, желто-бурые, дотла выжженные палящим солнцем, то изгибались глиняные откосы, вылизанные ветром и сплошь побитые сурковыми норками.
Ночью было легче. Утихал ветер, все небо в звездах, и казалось, будто от них, от их мерцания, на земле становилось прохладнее. Плохо было только то, что степь в темноте как бы суживалась, горизонт был чуть-чуть приметен, и двигаться приходилось словно бы на ощупь. Зато в темноте отчетливее слышались и стелющийся по земле шорох идущей попасом отары, и глухое постукивание колес, и плачущее поскрипывание ярма. В полночь устраивали короткий привал, чтобы животные и люди могли отдохнуть и хоть немного поспать. С рассветом же табор поднимался и двигался дальше, и все повторялось сызнова, все было точно так, как и вчера, дул и дул горячий ветер, на все стороны пласталась равнина, и вокруг ни колодца, ни озерца, и так же серым пятном темнела отара. И так же, как и вчера, сегодня молчаливая Паша спросила:
— Дедушка Яков, как по-вашему, правильно мы движемся?
— Ежели судить по моим мыслям, то бишь по тому, як я вижу местность, то мы держим такое направление, каковое и нужно, — с достоинством, рассудительно отвечал старик. — Но скажу тебе, Прасковья, правду: старых, знакомых мне примет что-то вижу маловато. Может, перезабыл? Ить давненько я тут не бывал. Но все же кое-какие приметы имеются. Погляди вон на ту балку, ее я припоминаю хорошо. Помню, мы проходили тут с отарой, когда я еще был парубчуком…
— Отчего же нам не встречается вода?
— Должна бы повстречаться, да вот чегось не встречается.
— А где же те Три кургана?
— Шут их знает, куда они запропастились. По моим расчетам скоро должны быть, а нету. Может, лежат вон за тем взгорьем? Потерпи, Прасковья… Чабанское занятие без терпения не получается.
И без подсказки Паша понимала, что ей ничего не остается, как только терпеть и ждать. Понурив голову и отворачивая лицо от ветра, она плелась следом за арбой, ни на минуту не забывая о воде. Всматривалась в текучее марево, ей так хотелось увидеть блеск хотя бы крохотного озерца, и ничего, кроме убегающих сизых, горячих волн, ничего не видела. Не показывались и Три кургана, хотя Паше все время казалось, что они лежали где-то в стороне и отара прошла мимо них. Чтобы не думать о воде и о Трех курганах, Паша вспомнила о спрятанном на арбе автомате, и в голову полезли сказанные Пономаревым слова: «Так оно само стреляет, только нажми эту штуковину…»
На четвертый день пути было особенно ветрено и знойно, солнце, казалось, замерло в зените и уже не двигалось. Горячий, будто из духовки, ветер гулял по степи. Паша подняла над арбой парусиновый шатер, ветер дул в него, и он хлопал концами парусины. Под шатром, в тени, усадила, как скворчат в гнезде, своих младшеньких. Мальчуганы сидели смирно, на мать поглядывали не по-детски серьезно и помалкивали. А Настенька и Аннушка попеременно канючили:
— Маманя, воды хочу…
— Недавно вас поила, — отвечала мать, не глядя на детей. — Потерпите, нельзя же так часто пить.
— Маманя, дай воды…
— Замолчите! — прикрикнула мать. — Знаете, шо бывает от воды? Не знаете?
— А шо?
— Пузо вырастет, вот шо…
После этих слов девочки неожиданно присмирели. А Паша, еще ниже опустив голову, поправила косынку, натянула ее на лоб и на щеки, смотрела на свои стоптанные, зеленые от травы чобуры, сшитые еще Иваном. Опять, не желая думать о воде и о Трех курганах, она мысленно повторяла: «Так оно само стреляет, только нажми эту штуковину…» И так же мысленно она уже не раз брала в руки автомат, уходила с ним куда-либо за бугор, подальше от арбы и от овец, и там, ничего не боясь, смело нажимала «эту штуковину». И странное дело: автомат ее не слушался, не стрелял. Иногда ей казалось, что из дула без выстрела выскакивали пули и тут же падали на траву. Она тяжело вздыхала, понимая: в мечтах всякое бывает. А как же все это может получиться наяву? Вот бы попробовать. И ей захотелось откопать в арбе оружие и самой на практике убедиться, как же оно стреляет. «Не сумею, не обучена, — думала она, шагая за арбой и боясь поднять голову и посмотреть на детей. — Эх, был бы рядом Иван, он обучил бы… Ваня, Ваня, где ты зараз?»
7
Только на четвертый день пути в предвечерних сумерках наконец-то показались долгожданные Три кургана, пока еще одни, без села.
Высокие, они от подножья до макушки заросли ковыль-травой и издали были похожи на три папахи из белого курпея. И когда отара и арба приблизились к курганам, между ними в глубокой балке заблестело — нет, это уже не текучее марево, а настоящее озерцо! Оно было наполовину высохшим, с отлогими, затвердевшими берегами, обнесенное, как лицо молодой бородкой, курчавой зеленой ряской. Увидев озерцо, Паша забыла обо всем и об автомате. Надо было поить овец. Почуяв воду, отара, поднимая пыль и разноголосое блеянье, не пошла, а с радостью побежала и с ходу припала к озерцу. Дальше всех забрели собаки. Они стояли по животы в воде и своими длинными языками жадно лакали. Подвели к водопою и быков, и подслеповатого коня, и корову. Обрадованные, прибежали к воде дети. Животные пили не спеша и долго, с каким-то особенным наслаждением, казалось, что они вот-вот осушат все озерцо. Но озерцо было глубокое, воды в нем хранилось много, и поэтому Паша, не раздумывая, объявила по табору.
— Привал! Тут, возле озерца, заночуем и заднюем, а завтра под вечер с новыми силами тронемся снова в путь. — Она подошла к деду Якову, который только что умылся и полой рубашки вытирал заросшее седой щетиной лицо. — Дедусь, на ужин освежуйте валушка. Повечеряем сегодня як следует.
— Хлопцев можно взять с собой?
— Возьмите Анисима и Антона. Нехай старшие приучаются.
— Актировать станем? — спросил старик. — Ить валушок не свой.
— Ой, господи, дедусь, яке там ще актирование, — с грустью ответила Паша. — Берите ярлыгу и ловите валушка, да шоб покурдюстее. А я зачну растапливать огонь, шоб нам до захода солнца успеть повечерять.
Освежеванного валушка несли Анисим и Антон. Следом шел дед Яков, вытирая тряпкой кривой чабанский нож. Паша с радостью и с удивлением смотрела, как Анисим взял топор и умело разрубил тушку на мелкие куски. «И это мой Анисим уже умеет делать, — подумала она. — Где, скажи, успел обучиться? Наверно, у деда Якова…»
— Дедусь, а хто зарезал валушка? — спросила Паша.
— Анисим Иванович, — ответил старик. — Дюже добрый отыскался мне помощник. Свежевал тоже он, а ему подсоблял Антон.
— И сумел Анисим?
— Еще как сумел! Ловко действовал, як настоящий чабан, — похвалил дед Яков стоявшего рядом Анисима. — Парень что надо, молодчина!
Вскоре в цыбарке вскипел, заправленный перьями степного лука и чеснока, тот, настоящий, без подделки и прикрас, чабанский шулюм, истинный вкус которого можно было познать только на такой степной стоянке. Всему табору хватило и крутого, пахучего бульона, и отлично сваренного мяса. Как матери Паше хотелось, чтобы вволю поели ее младшие, и она сама положила в их тарелки самые лучшие куски баранины. «Ешьте, ешьте, мои славные, баранинка вкусная», — говорила она ласково. По законам чабанской жизни за ужином не были обделены и собаки. Им достались кости и требуха, и они, сытые и довольные, отошли от арбы, уселись в сторонке и, смежив усталые глаза, самодовольно облизывались.
— Дедусь, а где же село Три кургана? — спросила Паша.
— Оно чуток дальше, в низине, отсюда не видно, — ответил дед Яков. — Помню, порядочное было село.
— Может, переночуем в селе?
— Нечего нам там делать. Тут, в степу, спокойнее, — ответил дед Яков. — Да и нечего нам показываться на люди. Начнутся расспросы, то да се…
Постепенно ветер стих, на степь наваливались сумерки, запламенел закат. Отара, вволю напившись, отошла от озерца, и тут же, на берегу и по пригорку, уставшие овцы и ягнята, разбившись на небольшие круги, улеглись отдыхать. В эту ночь Паша дала выспаться Анисиму и Антону, освободив их от ночного дежурства. Мальчуганы как улеглись под арбой сразу же после ужина, так и проспали до утра. Отару стерегли посменно Паша и дед Яков. Пашина смена началась с полуночи. Степь вокруг была темна и пустынна, Паша то ходила возле озерца — посматривала на спавшую отару, то задумчиво стояла на пригорке, видела силуэты курганов и слышала, как посапывали овцы. И о чем бы она ни думала, а в голове: «…только нажми эту штуковину». Уж и утро заполыхало, и незаметно ожил ветер, и овцы, поднявшись, снова припали к озерцу, а это — «…только нажми эту штуковину» — не оставляло Пашу, тревожило ее. И тогда она, выждав, когда возле арбы не было ни детей, ни матери, раскопала в арбе автомат, завернула его не в фартук, а в свою старую юбку — так заворачивают в одеяльце младенца — и позвала деда Якова. Тот подошел охотно, довольный тем, что в своих предположениях относительно Трех курганов не ошибся. Гордо поглаживая жесткие, как пересохший типчак, усишки, он сказал:
— Ну, слава богу, овечки успокоились. Ишь как — поспали хорошенько и опять к воде. Теперь пусть пасутся, силы набираются. Вечером еще попоим и тогда тронемся в дорогу.
— Я не за тем вас позвала.
— А зачем же? Скажи.
— Пойдемте, дедусь, вон туда. За тот дальний курган.
— Это чего же ты, девонька, закликаешь меня до кургана? — глядя на Пашу, старик, наверное, вспомнил свою молодость, игриво, по-парубоцки скосил подслеповатые, заслезившиеся глаза. — Кажись, шастать по-за курганами я уже припозднился, а? Сказать, для такого геройства не гожусь, а? Но когда-то дюже годился. Было, было дело, геройствовал, и еще как! Помню, когда я еще парубковал, в нашу отару понаехало бабочек-стригальщиц, и одна красивше другой! Залюбуешься! Вот тогда были у меня грешки, и еще какие! И по-за курганами шастать довелось!..
— Оставьте, дедусь, при себе эти свои воспоминания, — нахмурившись, сказала Паша. — У меня до вас есть важное дело. — Она понизила голос. — И секретное, понимаете?
— Ну, коли секретное, то так бы и сказала… Пошли!
Старый греховодник вмиг преобразился, его наигранную парубоцкую улыбочку точно бы ветром сдуло. Сморщенное, давно не бритое личико сделалось суровым, брови торчали, как сухие верблюжьи колючки, и он, хмуря их, старательно подтянул широченные, замызганные снизу штаны, все время сползавшие с него, потому что очкур был чересчур слабый. Пропитанную потом и пылью сорочку без единой пуговицы он старательно вобрал в штаны. Паша шагала с ним рядом, искоса поглядывая на него. Старик шел молча, смотрел на курган, к которому они приближались, и ждал, что же скажет ему Паша.
— Жизня моя, считай, прошляховала тут, в степу, а налюбоваться этими красотами, веришь, никак не могу, — мечтательно заговорил старик, когда они подошли к кургану. — Завсегда тут красиво, а главное — тихо, куда ни погляди — ни души, пусто. А я люблю безлюдье. Помню, в молодости…
— Дедусь, вам надо очкур поправить — слабый он у вас, и пуговицы на рубашке пришить, — сказала Паша. — Я скажу матери, чтоб занялась этим.
— Эта что? Твой секрет, да?
Паша не ответила, только как-то по-особенному, внимательно посмотрела на старика, затем умело, рукой подобрала подол юбки и присела на потрескавшуюся землю, на которой уже до корня повысох ковыль. Посидела, осмотрелась, нет ли кого вблизи, и как-то излишне торопливо развернула автомат, положила на свои колени и погладила, как гладят котенка, его матовый черный ствол. И тут дед, не ждавший увидеть такое, осенил себя мелким крестом, не зная, что ему говорить.
— Это шо за игрушечка? — наконец спросил он упавшим голосом. — И где ее подцепила?
— Пономарев привез.
— Зачем?
— А хоть бы и на волка.
— Двуногого, да?
— А хоть бы и на двуногого.
— Для всякого зверья у нас имеются добрые собаки. Такие волкодавы, шо никому спуску не дадут. Чего же тебе еще? Ответствуй, Прасковья. Не молчи, а скажи правду, за каким таким хреном тебе понадобилось оружие? Ты шо, али на войну собралась?
— Чего расшумелись, дедусь? — спокойно спросила Паша. — Может, пригодится ружьишко. Сами знаете, время-то какое.
— Прасковья, мы же не на войне. Овца, известно, животина категорически мирная, а мы при овцах.
— Дедусь, я позвала вас сюда, за курган, не для балачки.
— Тогда без обиняков скажи, зачем я тебе понадобился? Вот когда я был парубком…
— Шо вы все про свое парубоцтво? — перебила Паша. — Помолчали бы… Я пригласила вас сюда, чтобы спросить: умеете ли вы стрелять из этой штуковины? Вы же мужчина.
— Да ты шо, сдурела? Я умею стрелять? — старик нервно усмехнулся и потрогал пальцем свои колючие усы. — Прасковья, вижу, шо ты не при своем уме. Я же всю жизню топчу эту степь и завсегда пребываю возле отары. Об этом всем известно, а тебе тож… А ты — умею ли я стрелять?
— Вы же, кажись, воевали в гражданскую?
— Шо из того, шо воевал? И когда это было? И какое оружие мы тогда имели? — оправдывался старик. — Винтовка да шашка. А энтот, вишь, какой куцехвостый красавец, як пидсвинок, и, видать, дюже злющий. Да я первый раз в глаза его бачу.
— Тогда нам придется научиться стрелять. — Паша смело взяла автомат, повертела его в руках: осмотрела со всех сторон. — Пономарев говорил, шо ничего хитрого тут нету. Надо только нажать эту штуковину, и готово, он сам застрочит.
— Ну-ну! Куда дуло поворачиваешь? — испуганно крикнул дед Яков. — Не нацеливай на меня эту вражину. Он же может так, сдуру, пульнуть.
— Испужались, дедусь?
— Я-то не из пужливого десятка, — вставая, гордо ответил старик. — Но кому, скажи, охота помирать так, не за понюшку табаку и без всякой надобности? Ежели жизню отдавать, то тут требуется идейность. Ну-ну! Не балуй, Прасковья! Отверни дуло. А лучше всего, знаешь шо?
— А шо? Говорите, дедусь.
— Заверни эту железяку сызнова в свою юбчонку, да и понесем мы ее обратно. А еще лучше — закопаем тут в землю и позабудем о ней. Нехай лежит в земле.
— Нет, дедусь, об этом и не думайте. Зачем же нам закапывать автомат и забывать про него? — Паша решительно посмотрела на своего сакманщика. — Пока нас тут никто не видит и никто не слышит, давайте, дедусь, испробуем эту штуковину, малость подучимся, поглядим на практике, як вона ведет строчку. А после этого завернем в юбку, унесем и схороним на арбе. Пусть себе лежит. Ну, шо вы глядите на меня такими перепуганными очами? Берите автомат в руки, як вы есть мужчина, и пробуйте, учитесь.
— Ну ее к лешему, эту оружию, — ответил дед Яков, отодвигаясь от Паши. — Сама, коли желаешь, испробуй. А я всю жизню пребываю человеком безоружным, таким и останусь до самой смерти. Ярлыга — вот мой автомат.
— А трусоватые вы, дедусь. — Паша усмехнулась, поведя озорными глазами. — Ну ничего, и сама испробую, не испужаюсь.
Она направила короткое дуло прямо в грудь кургана, целилась, прижимая ложе к животу, а дед Яков отполз подальше и там прилег, закрыв уши ладонями. И вдруг, сама того не желая, Паша нажала на спусковой крючок. В ту же секунду автомат ожил, застрочил четко, громко и сердито, толкая Пашу в живот и трясясь, словно желая вырваться из рук. Паша держала его крепко, видя, как возле дула вспыхивали синеватые огоньки, и пули, невидимо выскакивая из ствола, под корень срезали ковыль-траву и поднимали пыль. И когда Паша так же неожиданно отпустила спусковой крючок, автомат словно бы захлебнулся и умолк. Стало тихо-тихо. По земле тянуло густой пороховой гарью, и в ушах еще долго стоял лязгающий звон. Наконец и дед Яков поднял голову и, выбирая из своих усишек травинки, сказал:
— Страхолюдие, прости господи…
— А ничего, славная штучка, — весело сказала Паша. — И до чего же старательный, чертенок! Да и сердитый, як зверюка! Ну вот, теперь, дедусь, я убедилась, железяка эта — безотказная работяга. Так шо не зря мы возим его на арбе, пригодится. Пойдемте в табор, там нас ждут. Да и в дорогу пора собираться.
8
На другой день во время завтрака, когда бабушка наливала мне чай, я, словно бы продолжая наш вчерашний разговор, спросил:
— Ну хорошо, вы сами испробовали автомат, убедились, что стреляет он лихо, а затем снова спрятали его на арбе? Так?
— Нет, Мишуха, совсем не так.
— А как? Что же было дальше? Оружие все время находилось с вами? И что же произошло потом? Помогло оно вам или не помогло?
— Я уже казала тебе про тот грех, какой случился со мною, — спокойно отвечала она. — Бери сахар, ты же любишь сладкое.
— Так что же было потом?
— Эх, потом, потом по кобылке кнутом, а она рысью. — Бабуся тяжело вздохнула, задумалась. — Як раз потом и было то, шо я убила двух человеков, и через то и до сей поры мучает совесть.
— Отчего же вы мучаетесь?
— И сама не знаю. Может, не надо было их убивать? Не бабское дело людыну лишать жизни.
— Как же все это произошло?
— Як-то само по себе, — после долгого молчания ответила она. — Да и зачем тебе знать? Ты же из тех, из сочинителей, еще, чего доброго, зачнешь описывать. И тетрадка у тебя есть для этого.
Я не мог обещать ей ничего не заносить в свою тетрадь из того, о чем она мне расскажет, и моя бабуся сразу заговорила о соседке, как та продавала корову с теленком. После завтрака я отправился в свою комнату и занялся своими делами, а она осталась на кухне. Примерно через час вошла, увидела, что я сижу за столом и что-то записываю в тетрадь; она постояла возле меня, ласково потрепала мою чуприну, спросила:
— Ну, вот, все шось малюешь?
— Малюю.
— Не можешь без этого?
— Не могу.
— А шо ж ты малюешь?
— Так, записываю кое-что, чтоб не забыть.
— Такой молодой, а уже забывчивый? — удивилась бабушка Паша. — Я совсем уже старенькая, а все, шо пережила, шо выстрадала, помню и никогда не забуду. — Она подсела к столу, ладонями обняла свое сухое, в мелких морщинках лицо. — А шо хочешь не забыть?
— Так, разное, — уклончиво ответил я. — И не забыть хочу, а узнать побольше.
— Шо ж ты
хочешь узнать?
— Ну, хотя бы о том, как вы стреляли из автомата. И как убили тех мужчин.
— Ну, Мишуха, ладно, не стану от тебя утаивать. Запиши то, шо я тебе открою. — Она смотрела на меня добрыми, грустными глазами. — Я рассудила так: чего хранить тайну, ить все это было давно. И кому об этом знать, як не тебе, моему внуку. Следователю открыла всю правду, открою и тебе.
— Я слушаю вас внимательно, бабуся.
— Не знаю, як тебе поведать, шоб получилось покороче и поскладнее, — начала она. — Сперва скажу, шо та наша сакма тянулась по степу недолго.
— Почему недолго? Вы же направлялись в степную глубь.
— А вот слушай и не перебивай. Возвратились мы тогда с дедом Яковом до своей арбы, а мои старшие бегут к нам без ярлыг, плачут и кричат: «Маманя, наших овец угоняют!» Гляжу, отара уже выползла на пригорок, а возле нее какие-то два мужика. Торопят овец ярлыгами, а их же, сам знаешь, быстро не угонишь. Тут дед Яков, не говоря ни слова, сорвался с места и опрометью, як все одно молодой, побежал на выручку. И вот тут, Мишуха, все страшное и случилось. Я увидала, як дед Яков выхватил ярлыгу у того, шо був помоложе и в картузе, и потянул его через спину. А старший, видя такую решимость деда Якова, выстрелил в него из пистолета. В последний раз в своей жизни дедусь выронил из рук ярлыгу, сперва присел на корточках, согнулся, хватаясь руками за живот, а потом повалился ничком на землю. Когда я подбежала, то ворюги стояли передо мной рядком и усмехались, а тот, шо был постарше, процедил сквозь зубы: «А, тут еще есть и степная красотка, сама припожаловала, шоб я ее, любезную, приголубил средь степного ковыля. Ну шо ж, красотка, цэ можно…» — А сам, вражина, усмехается и тянется до меня руками.
Бабушка Паша вытерла кулачком слезу и долго смотрела в окно. Я не торопил ее.
— Вот тут, Мишуха, все и решила якась секунда, — продолжала она, не переставая смотреть в окно. — Теперь, по прошествии времени, я думаю так: тот, старший, какой уже тянулся до меня руками, не успел разглядеть, шо у меня было под фартуком. А была у меня под фартуком та железная лялька, я подняла ее и, не думая, нажала курок. Веришь, Мишуха, бачу все, як зараз: не успели ворюги дрогнуть, як через ихни груди пролегла строчка из черных дырочек, и сразу же в те дырочки цивками хлынула кровь, и оба они рухнули наземь. Оборвались выстрелы, стихла степь, мирно, як будто ничего и не было, паслись овцы да стонал дед Яков. Прибежали мои хлопцы, обняли меня, а я вся трясусь, як в лихоманке, зуб на зуб не попаду. Поплакала я, успокоилась малость и подошла к тем, кого только шо скосила. Лежали они голичерва, пиджачки и рубашки прострочены пулями и залиты кровью. Тот, старший, может, лет пятидесяти, тот, каковому захотелось меня приголубить, с куцыми рыжими усиками, чисто побритый, раскинул ручищи, оскалил зубы и смотрел в небо уже ничего не видящими стеклянными очами. Дажеть не успел закрыть их, сукин сын… А младший, як удалось узнать опосля, був его сынком, молоденький, чуток постарше моего Анисима. Глаза у него голубые, як у девушки, тоже еще не успели закрыться, глядели на меня, як все одно живые. Смерть была такая быстрая, шо еще не смогла их застелить, и верхняя губа у него, помню, усеяна темным пушком и оттопырена, як у мальчугана. Гляжу на него, на окровавленного, и мне слышится: «Маманя, за шо вы меня жизни лишили?» — Бабуся снова смахнула слезу, помолчала. — Ох, давненько это было, состарилась я, а шось и до сей поры лежит у меня на душе, як каменюка. Парнишку того часто вижу. Веришь, жалко мне, шо сгубила молодую его жизню…
— Напрасно жалеете, — сказал я. — Не вы их, так она бы вас. Да и убили вы потому, что они хотели угнать вашу отару, да к тому же еще и стреляли в деда Якова. Подумайте сами: если бы вы тогда на какую-то долю секунды промедлили и не нажали бы спусковой курок, не сидели бы мы с вами тут, в хате.
— Оно-то так, Мишуха, я понимаю, а все ж таки грех лежит на моей душе. И теперь еще вижу того паренька с пушком на губе, его живые глаза…
— Что ж было потом? — спросил я.
— Шо могло быть потом? Известно, беда приходит не в одиночку, а гуртом. — Бабуся загрустила и долго молчала. — Со своими старшими кое-как вырыли яму для убитых, предали их земле.
— Кто же они? Откуда заявились?
— Тогда я не знала, кто они.
— Документы при них были?
— Не искала, не до того мне было… Опосля следователь казав, шо те грабители из Осотного села хотели поживиться в войну.
— А дедушка Яков выздоровел?
— Помер, бедолага, в дороге. С трудом мы положили его на арбу и тронулись в путь ночью. Весь он подтек кровью и к утру скончался. — Бабуся еще раз и очень быстро вытерла темным, сухим кулачком слезу. — Похоронили старого чабана, царство ему небесное, на высоком степном холме, на самой макушке, так шо степь, яку вин дюже любил, завсегда с ним рядом, и степные орлы до него частенько прилетают, проведывают… Ну, похоронили дедуся своего, поплакали и дальше поехали одни. Кое-как добрались до села Осотного. У колодца попоили отару, сами поужинали и тут же, возле колодца, переночевали. А когда стало рассветать, гляжу — едут до нас верховые. Все в военной одежде, в картузах, один при шашке, у другого обрез болтается на боку. Спешились возле арбы, вежливо поздоровкались, и тот, шо при шашке, мабуть, ихний начальник, начал спрашивать, як идет перегон отары. Отвечаю, шо трудно с водою, но помаленьку передвигаемся, а сама с перепугу слова не выговариваю. Тот, шо при шашке, сказал: мы, дескать, прибыли из партизанского штаба. И я, дурная баба, поверила ему. «Оружие, — говорит, — при себе имеешь?» И тут я, дуреха, совсем дала маху: вынула из арбы автомат и отдала. Тот, шо при шашке, повесил автомат себе на плечо, усмехнулся. А я трясусь от страха. «Больше ничего огнестрельного не имеешь?» — «Не имею». — «А где патроны?»
— Шо тут поделать, отдала ему и патроны, дуреха несусветная. А он усмехается и говорит: «Отару мы угоняем». «Як же так? — спрашиваю я, а сама до того перепугалась, шо и на ногах не могу стоять. — Отара, — говорю, — не моя, а совхоза «Привольный», и я обязана ее стеречь». «Ничего, поберегла, и хватит, — отвечает тот, шо при шашке, а сам усмехается. — Теперь отара принадлежит нам. Берем и бричку, а с нею быков, коня и корову. Ты же со своей детворой и со старухой поселяйся в Осотном и жди там своих освободителей, только знай: не дождешься…»
Так я, Мишуха, потеряла отару. Пожили мы в Осотном до зимы. Мать моя вскорости захворала, с месяц пролежала и померла. Осталась я со своей шестерочкой, голодные и холодные. Надо, думаю, як-то подаваться до Привольного, в свою хатыну. Спасибо, нашелся в Осотном добрый человек, отвез нас на подводе в Привольный. Это было в самом начале января, а вскорости и наши пришли. И вот тут, Мишуха, и хлебнула я с детками горя по самое некуда. — Она долго вытирала ладонью мокрые щеки. — Лучше про то и не вспоминать…
9
Разрозненные, уставшие воинские подразделения, направляясь на село Петровское, прошли через Привольный без боев и без остановок. Вместе с войсками в Богомольное вернулся и Пономарев, пока что один, без семьи, и вот тогда-то и началось то горе, которого еще в молодости моя бабуся, по ее словам, «хлебнула по самое некуда».
На другой же день в Привольный приехал нарочный и сказал, что ее вызывает к себе Пономарев. Когда Паша вошла в кабинет, то заметила, что Пономарев еще больше похудел, что лицо его со впалыми щеками было опалено морозом и почернело. Был он зол и мрачен, наверное потому, что вернулся, можно сказать, на пустое место: от совхоза, который он оставил пять месяцев назад, уцелела лишь пустая, с выломленными оконными рамами контора. В кабинете было не топлено. Пономарев стоял у окна в армейском полушубке, подпоясанном широким ремнем, в каракулевой шапке, закутанный шарфом. Сухо поздоровался и, не пригласив сесть, спросил:
— Ну, Прасковья Чазова, помнишь мой приезд в отару в конце прошлого лета?
— Як же не помнить, всю жизнь не забуду.
— А что я тебе говорил тогда? Говорил, что мы скоро вернемся?
— Было такое, было…
— Вот мы и вернулись.
— Бачу, шо вернулись…
— Мало видеть. Надо отвечать: где отара?
— Пропала…
— Как то есть пропала?
— Якись верховые угнали.
Она коротко и сбивчиво рассказала, как лишилась отары. Ей хотелось похвалиться и тем, как она, не струсив, убила двух грабителей и как геройски погиб дед Яков, но промолчала — слезы сдавили ей горло, не дали говорить.
— Кто они, эти верховые?
— Сказали, шо партизаны.
— Голову байками не морочь! — крикнул Пономарев. — Какие еще партизаны? Говори правду, куда девала отару?
— Я все уже сказала. И ты на меня не кричи, у меня муж на войне. — Паша заплакала. — Детишки с голоду попухли. Хоть бы о них спросил. Харчишками подсобил бы…
— Какие тут еще харчишки? Видишь, все разрушено.
— Так ить дети же… Погибают от голода…
— Детьми не прикрывайся, Чазова, все одно придется держать ответ перед райпрокурором. — Пономарев с трудом отдышался и, сопя носом, добавил: — Не ты одна, а все, кто не сохранил стадо или отару, предстанут перед райпрокуратурой. Милиция уже начала розыски скота и овец, и ежели твоя отара не отыщется, запомни: тебе не поздоровится…
— Ить детишки совсем ослабли… погибают…
— А то, что совхоз погиб? Это как? А где тот автомат, что я тебе отдал?
— Забрали те же верховые.
— Опять верховые? Учти, и за автомат ответишь.
Не в силах сдержать слезы, Паша отвернулась и хотела уйти.
— Погоди, Чазова, разговор еще не окончен. — Пономарев долго кашлял хриплым, простуженным кашлем, а Паша стояла и тихонько плакала. — Прошу тебя пока присмотреть за приблудными овцами. В Привольном их отыскалось десятка четыре или пять, никто точно не знает. Может, отыщутся еще. А учитывать их и присматривать за ними некому. Сидит там, у кошары, столетний дед. Так ты, пока суд да дело, словом, пока прокуратура будет вести следствие по делу, а милиция — розыски твоей отары, займись этими овцами. Днем выгоняй их за хутор. Зима нынче бесснежная, овцы отыщут корм под ногами, а ночью держи их в кошаре. Что молчишь? Чего в землю глядишь? Что, аль стыдно?
Пономарев не понимал, что не от стыда, а от горькой обиды Паша молчала, не в силах поднять голову.
— Ладно, пригляжу за приблудными… А як же детишки? Погибнут же…
— Насчет детишек, и не только твоих, позаботится совхоз, — сказал Пономарев. — Был же у нас до войны интернат, вот откроем снова. Но не все вдруг, в один день. Надо сперва хозяйство поставить на ноги, пропавшие отары и гурты собрать.
— Долго ждать. Когда же это будет?
Не дожидаясь ответа, Паша вышла из кабинета и направилась не по дороге, а напрямик, через выгон. Ее пугал не предстоящий разговор с прокурором… Голодные дети! Спеша и спотыкаясь о сухой бурьян, о мерзлые кочки и кротовые бугорки, она мучительно думала о том, как же ей спасти свою шестерочку. Позавчера сжалилась соседка — насыпала чашку кукурузной муки. Славные получились лепешки, разделила всем поровну, по одной лепешке. И вот уже второй день в хате не было ничего съестного. Анисим и Антон крепились, еще держались на ногах, лишь изредка, глотая слюну, молчаливо поглядывали на мать грустными, по-стариковски ввалившимися глазами — все понимали. Молчал и Алеша, тихонько плакал, вытирая кулачком глаза. Девочек же и Анатолия голод так одолел, что они, бедняжки, лежали рядочком, укрытые грязным тряпьем — не было сил подняться — и только слышно было: «Маманя, исты хо́чемо… Маманя, исты хо́чемо». Паша и тут, на выгоне, слышала эти их скулящие голоса и видела их исхудалые, обтянутые желтой кожицей личики — такие они жалкие, что хоть бери и клади в гробик.
Как-то, поправляя одежонку, которой они были укрыты, Паша увидела их ноги, опухшие от колен до пяток, — ткнешь пальцем, и на мягком желтом теле останется след. И тогда Паша решилась на самое страшное — украсть гуся. Видела днем: с десяток гусей (чьи они, она не знала) паслись белой стайкой на выгоне, недалеко от ее хаты. Но как украсть гуся среди белого дня? Птица горластая, поднимет крик, услышат в хуторе, сбегутся люди. Однако мысль о том, чтобы принести в хату гуся, была так навязчива и так беспокоила ее днем и ночью, что Паша, подобно голодной волчице, идущей на охоту, пошла на выгон, поближе к добыче. Ходила, делала вид, что собирает стебли, сухой коровий помет, нагибалась только для того, чтобы было похоже, будто она занята делом, а сама не сводила глаз с гусей. Время тянулось мучительно долго. Видимо, Паше помогли смелость и решимость: когда она незаметно приблизилась к птицам, ей удалось поймать довольно крупную гусыню. Паша сжала ей горло, чтобы не закричала, дрожащими руками завернув ее в фартук и спрятав под полу шубенки, упала и поползла в ложбинку. Там, в кустарниках боярышника, просидела с задушенной гусыней до конца дня, отдышалась, подождала, пока совсем стемнело и какая-то девочка угнала гусей. Только после этого, боязливо переступая в темноте ослабевшими ногами, она пошла домой.
В ту ночь в ее землянку заглянуло само счастье. Гусь был сварен в цыбарке вместе с потрохами. Паша так была рада, что и к еде не прикасалась, забыла, что и она голодна, а все смотрела и смотрела, с какой радостью ее шестерочка съедала бульон и нарезанную небольшими кусочками гусятину. Как она ни делила бульон и мясо, как ни старалась растянуть еду подольше, а бульон и гусь были съедены за три дня, и теперь снова в хате, вот уже третий день, не было ни крошки хлеба, ни горсти кукурузной муки и для нее все так же самым главным было — накормить детей. Но как их накормить? Чем? Второго гуся уже не принесешь. И тут она вдруг вспомнила о тех приблудных овцах, которых ей доверили охранять, и еще быстрее заспешила к кошаре, а в голове: «Маманя, исты хо́чемо…»
Возле кошары сидел, опершись на посох, Потапыч, древний старик в длинной шубе и в шапке-ушанке, со слезящимися, как у слепца, глазами. Старик обрадовался, когда узнал, что директор велел Паше сторожить овец. Тяжело опираясь на посох, он с трудом поднялся, хватаясь рукой за согнутую поясницу и говоря:
— Ну, спасибо тебе, Парася, выручила… Не в мои-то годы встревать в караульные. Да и хворый я.
— Сколько же их тут, овечек-то? — спросила Паша.
— Никто, милуха, не считал, — ответил старик. — Загляни сама в кошару, сколько узреешь, все наши. Попасти бы их надо. С утра сидят без корма, я их не выпускал, силов у меня нету гулять за ними. Может, выпустишь в поле?
— Выпущу, дедусь, обязательно выпущу.
Как только Потапыч вручил ей ключи от замка и, выставляя вперед посох, заковылял в хутор, Паша сразу же выпустила овец. Она не успела снять замок, как дверь сама распахнулась и голодные животные, опережая друг друга, лохматой кучей рванулись из кошары. В этой сутолоке Паша никак не могла их сосчитать. Уже в поле, когда овцы припали к сухой травке, пересчитала — их оказалось пятьдесят две овцы. Пока они паслись, старательно отыскивая прошлогоднюю, иссохшую и прилипшую к земле траву, Паша, глядя на них, ни на минуту не переставала думать — нет, не о том, что ей предстояла встреча с райпрокурором, и не о том, сколько перед ней паслось овец, а о детях. Знала, они ждали ее и верили: если мать ушла из хаты, то непременно принесет им еду, ибо на то она и мать, и в ушах ее снова возник слабый голосок: «Маманя, исты хо́чемо…»
Как же Паша обрадовалась, когда неожиданно рядом с мыслью о голодных детях родилась мысль по сути своей удивительно простая: из пасущегося стада надо взять всего только одну овцу, всего только одну, и дети останутся живыми. Нужна всего-навсего одна овца! Это же так мало и так много… Останется не пятьдесят две, а пятьдесят одна, и что же? Какая разница? Было, верно, пятьдесят две, а осталась пятьдесят одна. А кто об этом знает? Никто. Овцы приблудные, несчитанные. Только одна овца… Но зато в Пашину землянку, как луч солнца в оконце, снова заглянет само счастье, и какое! Да пробудет оно в хате не два и не три дня, как тогда, с гусем, а недели две. А если взять овцу покрупнее, да еще с увесистым курдюком, и съедать мясо понемногу, то может хватить недели на две или на три, а то и на месяц.
Как только такая простая и такая исключительно важная мысль утвердилась в ней, вдруг, словно бы на беду, перед ней встала другая Прасковья Чазова. Как сестра родная, похожая и непохожая, и стояли они, эти сестры, гневно глядя друг на друга. Первая Прасковья была решительная, смелая, она-то знала, что значит быть матерью, и поэтому была готова хоть сегодня, как только стемнеет, увести с кошары овцу, и пусть останется их не пятьдесят две, а пятьдесят одна — ее это мало беспокоило. Рассуждения у нее были ясны и логичны, и, наверное, на ее месте каждая мать поступила бы точно так же. Ибо что означает какая-то одна овца из приблудного стада, если в это время в землянке детишки опухли от голода? Первая Прасковья была требовательная, она предлагала не рассуждать, а действовать и ради спасения детей идти на все. Дети, говорила она своей сестре, только они, только их жизнь и их благополучие, и ничего больше… А ее сестра, другая Прасковья Чазова (и откуда она явилась?) возражала, правда, не резко, не решительно, но возражала упорно. Она говорила, что ей не то что боязно украсть овцу, а как-то совестно брать то, что принадлежит всем хуторянам, в том числе и ей. Как бы желая доказать, что права она, а не ее старшая сестра, вторая Прасковья говорила: «Паша, милая, есть же у тебя совесть? Ну взяла чужого гуся — та птица была неизвестно чья, просто чужая, не общая, и бог с нею. И хотя всегда грешно и совестно брать чужое, но взять гуся — это не так грешно и не так совестно, как брать совхозную овцу».
Пока две Прасковьи продолжали свой спор о том, как им поступить с овцой, наступил вечер, хутор скрылся из виду. Первая Прасковья, как ей казалось, без особого труда доказывала свою правоту, она видела немощных, до крайности худых детишек, и в ее ушах постоянно слышалось: «Маманя, исты хо́чемо…» Особенно ей было жалко Толика. Он стал таким слабым, что уже не мог сидеть на кровати и все лежал. Вспомнила, как она наклонялась над детьми и плакала навзрыд. «Да ты погляди на них, сестра, какие они немощные, неужели сердце у тебя такое каменное, бесчувственное». Вторая же Прасковья не хотела видеть голодных детей, нарочно отворачивалась от них.
— Паша, а я не твоя сестра, я — твоя совесть, и потому говорю: не смей, Паша, брать чужое! На всю жизнь опозоришь себя.
— А детишки?
— Ничего, як-нибудь выкарабкаются. А ежели опозоришь себя, то позор так и останется на тебе.
— Ничего я не боюсь, а спасать их, несчастных, надо, и я их спасу.
— Тебя же прокурор ждет. Заодно с пропащей отарой пришьет тебе еще и воровство.
— Какая же я мать, ежели не спасу своих кровных малюток!
— А совесть?
— Яка? Дети — вот моя совесть. Материнская!
Когда совсем стемнело и стадо было загнано в овчарню, первая Прасковья взглядом успела облюбовать как раз ту, крупную и с тяжелым курдюком, овцу, какая ей и была нужна. Но тут опять все дело испортила вторая Прасковья: снова заговорила о том, что дети как-нибудь выживут, что надо пойти в дирекцию и попросить хлеба или муки, и сама повесила на двери замок, а ключ положила в карман и ушла домой. В землянке, при слабом свете каганца, Анисим и Антон смотрели на мать теми же глубоко ввалившимися, старческими глазами, и строгий их взгляд как бы спрашивал: «Маманя, есть что-нибудь?»
— Сыночки, чего вы не спите?
— Маманя, где ты была так долго? — спросил Анисим.
— Младшие спят? — не отвечая сыну, спросила Паша.
— Чегось Толик долго плакал… Недавно умолк, наверно, спит.
— Ложитесь и вы. Я тоже лягу…
— Маманя, ничего не принесла? — спросил Антон.
Паша глотнула слюну и промолчала. Как ответить? Что сказать? И вдруг она увидела: второй Прасковьи в землянке не стало, она незаметно исчезла, и теперь первая Прасковья взяла каганец и, не раздумывая, поднесла к кровати. Хотела посмотреть младших и убедиться, живы ли. В слабом, мигающем свете увидела их восковые личики с закрытыми глазами, веки будто бы прилипли, и испугалась: ей показалось, что все четверо были мертвые. Она наклонялась то к Аннушке, то к Толику, то к Алеше, то к Настеньке, своими губами улавливала их слабое, чуточку теплое дыхание… Значит, еще живые… Не видя второй Прасковьи и уже ничего не соображая, она чуть не уронила каганец — подхватил Анисим, и, не взглянув на старших, вышла в сенцы. Там, в темноте, она отыскала обрывок веревки, в кулаке зажала ключ от замка и выскочила из землянки. В темноту, вслед ей послышался голос Анисима:
— Маманя, ты куда?
— Зараз вернусь, — не останавливаясь, ответила она. — Схожу к соседке, на минутку.
Она не шла, а бежала, и не к соседке, а по выгону. В темноте не заметила канаву и упала, больно ушибла коленку, бурьяном исцарапала щеку. Поднявшись, она, не обращая внимания на боль в ноге, не вытирая кровь на щеке, снова ускорила шаги, и ей казалось, что и теперь, как тогда, возле Трех курганов, если она промедлит какую-то долю секунды, произойдет что-то страшное. Подбежала к кошаре, дрожащими пальцами открыла замок. И тут перед ней вдруг выросла из темноты вторая Прасковья и заслонила собой дверь.
— Ты куда лезешь? А совесть?
— Пусти!
— Ни за что!
— Як же ты смеешь, сестра-злодейка? Нет, теперь по-твоему не будет.
Первая Прасковья с силой оттолкнула вторую и вошла в чуть приоткрытую дверь. В кошаре было темно, хоть глаз выколи, и пахло тем особенным приятным теплом, к которому Паша давно привыкла. Не зная, кто к ним пришел и зачем, животные шарахнулись в угол и сбились там в кучу. Паша на коленях подобралась к ним и, протянув руки, начала на ощупь отыскивать овцу покрупнее, искала долго, казалось, что ей в руки попадались какие-то валушки и ярочки-однолетки, и наконец она нашла то, что искала. Она обняла за шею крупную овцу с тяжелым курдюком и невольно подумала, что держала за мягкую шею как раз ту, какая ей тогда, когда стадо входило в кошару, попалась на глаза. «Вот ты, голубушка, мне нужна, — радостно подумала Паша. — Пойдем спасать моих детишек…» Так, обнимая овцу, Паша просидела с нею минут пять, немного успокоилась, потом накинула на ее шею веревку и начала выводить из кошары.
— Ну-ну, моя хорошая, иди, иди…
«Моя хорошая» сопротивлялась, не хотела уходить от своих товарок, а у Паши не было силы подтолкнуть ее ни коленкой, ни руками. Кое-как, с большим трудом она все же вывела овцу из кошары, закрыла дверь, повесила замок, а в голове: «Сколько же их теперь там осталось? Пятьдесят одна? Может, я тогда ошиблась на одну? Их и осталось не пятьдесят одна, а пятьдесят две… Они несчитанные, сколько осталось, столько и осталось…» На выгоне, по пути в хутор, овца сопротивлялась еще больше, упиралась всеми ногами так, что никак ее нельзя было сдвинуть с места, вертела головой, будто говоря: «Не хочу, не пойду… И зачем меня тянешь? И куда? Не пойду…»
— Ну, хорошая моя, ну шо ты мучаешь меня? Ну иди же, иди. Ласковая моя, иди, иди…
Один раз овца так рванула назад, что Паша, не удержавшись, упала и чуть не выронила веревку. Полежала немного, отдышалась и опять всеми еще имевшимися у нее силами начала тянуть и подталкивать овцу… И вот наконец-то землянка, ступеньки крылечка, перила. Обессилевшая Паша подошла к дверям, звякнула щеколдой. Возле крыльца, уже не сопротивляясь и все еще не ведая, куда и зачем ее привели, стояла овца с веревкой на шее, привязанная к перилам. Вышел Анисим, увидел измученную мать, а возле крыльца — овцу, удивился и спросил:
— Что это, маманя?
— Разве не бачишь, сынок, шо? Овечка.
— Чья она? И откуда?
— Ничья… Приблудная. Сама до нашей хаты приблудилась… на наше счастье.
— Куда же мы ее?
— Зарежем… Сумеешь, Аниська? Когда-то, в отаре еще, учил тебя покойный дед Яков.
— А когда надо?
— Поскорее бы… Чего ждать… Уведи ее, сынок, в сарайчик и там… Сумеешь, а? Не испужаешься?
Сама бы Паша не сумела зарезать овцу. Не хватило бы ни силы, ни умения, ни отваги. И она ждала, что же скажет ее старший. Неужели откажется?
— Маманя, ежели надо, то сумею, — строго, как взрослый, ответил Анисим. — Пока подержите ее возле себя, а я возьму ножик.
Мать обрадовалась и испугалась: неужели это ее Анисим отвечал так спокойно и так уверенно: «Я возьму ножик», — думала она. — Як же он быстро вырос, як возмужал без батька…
— Маманя, а брусочек у нас имеется? — по-деловому спросил Анисим. — Ножик надо поточить. Дедушка Яков завсегда так делал.
— Брусочек должен быть, — ответила мать. — Поищи в сенцах.
— Потребуется посудина для крови, — тем же деловым, уверенным голосом, совсем как взрослый мужчина, сказал Анисим. — Дедушка Яков говорил: кровь можно поджарить на сковороде, тоже питательно.
— Возьми ведро.
— Лучше бы тазик. Он пошире ведра.
— Тазик стоит в сенцах.
10
В этом месте бабуся посмотрела на меня своими добрыми старческими глазами, тяжело вздохнула и сказала:
— Боже мой, до сей поры не могу понять, откуда в те его годы Анисим все это знал и умел? Видно, всему обучился не у своей матери, а у покойного деда Якова да у нашей степовой житухи.
— Как же он выполнил поручение матери?
— Лучше и не надо. Исполнил, як и следовало. И шкурку снял, освежевал умеючи, и кровь собрал в тазик. А як ловко подтачивал брусочком ножик! Мастер!
— Надолго хватило баранины? — спросил я.
— Дотянули аж до марта. И, знаешь, як после этого пошли на поправку мои диточки? Сразу и поздоровела и повеселела моя шестерочка. Шо значит — мясцо.
— А прокурор вас допрашивал?
— Прокурор не вызывал, а следователь приезжал до меня сам, — ответила бабуся. — Мужчина пожилой, из себя спокойный, вдумчивый, все больше молчал да меня распытывал. Увидал мою ораву, мое житье-бытье, узнал, шо мужик мой на войне, и спросил так ласково, озабоченно: «Як же ты, сердешная, их растишь?» Трудно, отвечаю, а надо, ить я же им мать… Понравился мне следователь своей задушевностью, и через то я ничего от него не утаила, все порассказала, як воно було. И про верховых, як воны угнали отару с арбой, и про нашу житуху в Осотном, як мы там голодали, и про то, як добрались в Привольный и як меня тут встретили. Не смолчала и про гуся, шо изловила на выгоне, и про овцу, яку увела из овчарни. Никому не говорила, а ему сказала и про то, як скосила пулями тех ворюг и як погиб дед Яков. Следователь слушал меня, закрывши очи, не перебивая. Все мои слова записал на бумаге, прочитал мне написанное и уехал. И, веришь, не позабыл про мою шестерочку — прислал с человеком три буханки хлеба и немного сахару. После этого моя шестерочка и вовсе ожила. А вскорости следователь опять заехал и сообщил, шо те двое, яких я постреляла, были из села Осотного, старший — немецкий полицай, а молоденький — его сынок… «Смело, — говорит, — ты поступила тогда». Так и сказал. Вот за свою смелость я и получила медаль «За отвагу». А через месяц далеко от Привольного, аж на Черных землях, все-таки отыскалась моя отара вместе с быками и арбой. А конь и корова пропали. В нашем совхозе из шестнадцати отар нашлось четырнадцать. Две отары погибли. — Бабуся вытерла платочком давно слезившиеся глаза. — Так мы, Мишуха, и выжили, все, окромя деда Якова и моей матери. По весне дали мне отару, пару новых быков с арбой, и со своей шестерочкой я сызнова повела овечек в степь, по привычным путям-дорогам. Сызнова зачалась наша привычная кочевая житуха… — Мимо окна промелькнула тень. — А ось и сынок Анисим идет до матери. Давненько не заявлялся.
У дяди Анисима Ивановича поступь тяжелая, в родительскую землянку он вошел как-то боком, не спеша, увесисто ставя крепкие, обутые в сапоги и несколько раскоряченные ноги. Увидев сына, моя бабуся повеселела, лицом помолодела, в глазах затеплилась радость. Анисим Иванович поздоровался, снявши картуз, сказал, что пришел проведать мать. Бабуся ласково и с упреком в голосе сказала:
— Аниська, мой старшо́й, ты-то живешь рядом с матерью, мог бы и чаще заглядывать к родительнице. А вот Толику трудновато. Игде эта Конга, игде материнский порог? Як ему, бедняжке, мать проведывать?
— Всегда вы, маманя, чуть что, так сразу о Толике да о Толике.
— Так ить младшо́й он, да и далече находится.
— Ну, как поживаете, маманя? — спросил Анисим Иванович, широкой спиной заслоняя оконце. — Не хвораете?
— Слава богу, сынок, покедова еще двигаюсь… Да ты садись, здоровило, от тебя аж тесно в хате. Мы тут с Мишухой беседовали, вспоминала я про нашу житуху в степу и о похождениях с отарой. Як раз перед твоим приходом всех вас шестерых упоминала. И про то поведала, як ты еще мальчуганом мастерски разделал овцу. Помнишь, Анисим?
— Такое, маманя, разве забывается?
— Ить малой же был, а умел.
— Когда надо, так все сумеешь. — Анисим Иванович уселся на лавке, положил на колени крупные темные ладони. — Вы же знаете, маманя, по части овец я все умел раньше и все умею зараз. Это те, некоторые из которых нынче наговаривают на меня всякую небылицу. И консерватор я, и отсталый элемент. И то у Анисима Чазова не так, и это у него не эдак. — Он доверительно посмотрел на меня. — Брехня! Вот ты, Михайло, мой племяш, человек грамотный, в Москве учился, приходи в мой стригальный лагерь и погляди, как у меня налажено стригальное дело. Могу заранее поручиться: у меня завсегда стрижка проходит намного лучше, нежели у некоторых из которых брехунов, да и лучше, нежели у того же всеми расхваленного Сероштана. Я уже не говорю о стригалях. А какие у меня стригальщицы! Бьюсь об заклад, нигде таких не сыскать. — Он усмехнулся, озорно поведя глазами. — И в работе — огонь, и в невесты годятся. Красавицы девчата! Ить правда, маманя?
— Лучше бы подумал, сынок, про свои соломенные кошары, — сказала старая чабанка, строго посмотрев на сына. — Ломать их давно пора. Ить одним своим видом позорят хутор.
— Никакого позора не вижу, — ответил Анисим Иванович. — Вы что, маманя, забыли, как в прошедшем времени жили чабаны. Вот мы и живем по старому чабанскому обычаю, как жили наши отцы и деды.
— Ох, гляди, сыну, доживешься по старому обычаю, пока к тебе припожалует Артем Иванович Суходрев да устроит в Привольном тайное голосование.
— Не боюсь я никаких голосований.
— А ежели хуторяне тебя не изберут? Что тогда?
— Кого же им избирать? Некого! — уверенно заявил Анисим Иванович и снова обратился ко мне. — Так что, племяш, придешь в мой стригальный лагерь? Вот и убедишься в моей правоте. А с Сероштаном мы еще потягаемся. И тем, его защитникам, следовало бы спросить не Сероштана, а овец, где им лучше живется: в этих каменных загородках или у нас в кошарах? И еще надо спросить у овец, что для них вкуснее — природная травка, та, что под ногами, или посеченная машиной суданка в кормушках? Ну как, Михайло, придешь в мой стригальный лагерь?
Я согласился.
11
Место, именуемое стригальным лагерем, находилось вблизи соломенных кошар, и было оно похоже на необычную парикмахерскую, где шмелями жужжали машинки, которыми стригут волосы, только в воздухе носился не аромат духов и одеколонов, а какой-то особенный, спиртом бьющий в нос запах овечьего пота и шерсти. Помещение было стандартное, изготовленное на заводе, так что его можно было быстро собирать и разбирать. Тянулись две фанерные стены, между ними гуляли сквозняки, а над ними — легкая, из пластмассы, крыша — надежная защита от дождя и солнца. Во всю длину этих стен вытянулись широкие столы, а лучше сказать — нары, высотою в полметра, сбитые из прочных досок, хорошо оструганные и уже до лоска вытертые овечьими боками и спинами. Над столами — электроагрегат с двенадцатью шнурами, один от другого на расстоянии трех метров, на концах этих шнуров — стригальные машинки, такие же, как и те, которыми пользуются парикмахеры, только ручки у них потолще, поухватистее, а ладошки-ножи пошире.
Стригали и стригальщицы — это, говоря без преувеличения, виртуозы своего дела, они — в этом мне довелось убедиться воочию — в чем-то намного превосходят своих старших коллег — парикмахеров. Да и работенка у них была потруднее и посложнее. Мастера овечьей стрижки стояли в ряд, перед ними — двери входные, а за спинами — двери выходные. За той дверью, которая была перед глазами, толпилась порядочная очередь «клиентов». Со вчерашнего дня, готовя к стрижке, овец не кормили и не поили, потому что когда они накормлены и напоены, то кожа их выделяет большое количество жиропота, и тогда шерсть у них становится влажной, такую трудно срезать.
Впускали «клиентов» по одному. Молодые овцы, те, какие появлялись здесь впервые, входили нехотя, упирались передними и задними ногами, дрожали, боялись и непривычного для них треска моторчика, и шума голосов, и жужжания машинок, и необычной обстановки. Самых трусливых приходилось подталкивать и силой укладывать на нары. Старшие, для кого такого рода процедура была не в новинку, шли смело и, как бы желая поскорее избавиться от тяжелой шубы, сами прыгали на нары и ложились. Остриженные, до удивления беленькие, ставшие намного меньше и намного легче, смешные оттого, что казались словно бы раздетыми догола, теперь уже выбегали в общий баз, непривычно чувствуя на голой спине и теплоту солнца и свежесть ветерка. Особенно спокойно, с видимым достоинством вели себя старые, матерые бараны, медлительные и в движениях, с закрученными вокруг ушей рогами. Были они рослые, крупные, мясистые, носили на себе десятка полтора килограммов отличной шерсти. Входил такой молодец, спокойно поглядывая то на стригаля, то на знакомые ему невысокие нары с нависшими над ними шнурами. Ему чуть-чуть помогали, подталкивая сзади и приподнимая увесистый курдюк, и баран сам живо взбирался на настил и, перед тем как лечь, всякий раз дробно постукивал о доски желтоватыми копытцами, словно бы собираясь с радости приударить гопака.
Как только баран ложился, тяжело вздохнув, сразу же в свои права вступала машинка. Похожая на слегка выгнутую железную лопаточку, в руках стригаля она превращалась в живой механизм, казалось, не стригла, а прилипала к барану, как к магниту, шла по самой его коже так плавно и так легко, что от нее, как от плуга, отваливался пласт целины, отваливалось свежее руно, сверху грязное, темно-серое, а снизу чистое, белое до желтизны, и ложилось тут же, рядом. Машинка старательно, без устали поднимала и поднимала шерсть от головы до хвоста, барана уже переворачивали на другой бок, и он, издавая слабый стон и часто дыша, закрывал и открывал маленькие, заросшие шерстью глазки. Остриженный, он вскакивал, снова стучал о доски копытцами и, все же не решившись приударить гопака, живо спрыгивал со стола, а на его месте оставалась гора шерсти. И по тому, как баран смотрел на стригаля своими спокойными глазками и не спешил уходить в базок, как удивленно косился на то, что теперь вместо него лежало на нарах, нетрудно было понять его радость: наконец-то добрые люди избавили его от тяжелой и необыкновенно теплой ноши. Со столов шерсть попадала в руки сортировщиков, там определяли ее качество, прессовали в квадратные тюки, взвешивали и высокими курганами складывали на грузовики.
Мне было интересно смотреть на эту кропотливую работу, слышать хором гудящие машинки, ощущать непривычные овечьи запахи и видеть, как росли и росли тюки шерсти и как в общем базу все больше и больше становилось овец, чистеньких, беленьких. В этой необычной парикмахерской работало десять женщин и только двое мужчин. Оба коренастые силачи, в комбинезонах, дерматиновые фартуки от груди до колен, головы, как у палестинцев, повязаны платками. Один из них, занимаясь стрижкой, то и дело поглядывал на женщин, что-то подсказывал им, поторапливал — без сомнения, это был бригадир. Тут я невольно вспомнил слова моего дяди Анисима Ивановича: «А какие у меня стригальщицы! В работе — огонь, и в невесты годятся. Красавицы девчата!» И в самом деле, стригальщицы были как на подбор — и красавицы, и в работе проворные, и похожие одна на другую, может быть, потому, что одеты были в одинаковые темно-синие комбинезоны с черными, до колен, фартуками, и головы у них повязаны одинаковыми серенькими платочками, затянутыми на шее и на лбу, чтобы пыль не набивалась в волосы. Нетрудно было заметить: в руках у женщин машинки работали как-то проворнее, шерсть снимали они как-то мягче, нежели мужчины.
Мое внимание привлекла совсем молоденькая мастерица. Она была так тонка и так стройна, что если бы не ее ячменного цвета завитки, кокетливо торчавшие из-под платка, и не тонкие девичьи брови, то ее смело можно было бы принять за паренька. Я стоял возле нее и любовался движениями ее рук, тем, как она наклонялась над овцой и как уверенно и смело вела машинку, как решительно отваливала тяжелый клок руна, и мне почему-то казалось, что только эта девушка умела в совершенстве владеть искусством стригальщицы. Ее правая рука так точно и так уверенно направляла острие машинки, так умело и так легко отворачивала срезанную, промасленную снизу желтым жирком шерсть, что эта работа, казалось, выполнялась автоматически и без всяких усилий. Я нарочно, стараясь, чтобы девушка не заметила, засекал время, и если, к примеру, одновременно у нее и у ее соседки на помост ложились овцы, то девушка с соломенными завиточками на висках заканчивала стрижку на две-три минуты раньше. Даже грубую шерсть, росшую у овцы на ногах, на хвосте, между рогами, так называемую оборную, которая шла, как правило, последним сортом, девушка остригала быстро и чисто, и я, видя это, не мог понять, где и когда в свои годы она успела этому научиться. Признаться, мне нравилась не только ее работа, а и она сама. В ее лице с разлатыми, как бы чуточку удивленными бровями, с завитками цвета ячменной соломы, в ее голубых внимательных глазах угадывалось что-то такое необычное, чего у других хуторских девушек не встретишь. Мне захотелось узнать ее имя, и я, выбрав удобный момент, спросил, как ее зовут.
Она посмотрела на меня, только чуть покраснела щеками и сказала:
— А тебе-то зачем знать?
— Затем, что есть же у тебя имя? Вот и скажи.
— Меня зовут Чабанка, — смеясь, сказала она. — Запомнишь?
— Это не имя, а кличка.
— Не веришь? Тогда уходи отсюда. Чего стоишь, бородач, как столб? Или тебе все это в диковинку?
— Я смотрю на тебя…
— На меня смотреть нечего, — перебила она. — Не на выставку пришел.
— Чего такая сердитая?
— Не мешай работать, вот чего.
— Смотри, как легко и просто у тебя получается. Я так не смог бы, честное слово.
— Еще как смог бы, — уверенно ответила девушка, ни на секунду не отрываясь от дела. — Надо только захотеть. Да и что тут особенного? Бери машинку, вот так, как я. Ножи острые, сами входят в шерсть, только направляй их. — Она усмехнулась. — Хочешь — научу.
— Зачем же мне учиться?
— Тогда уходи отсюда, не мешай.
В это время, довольный успешно начавшейся стрижкой, к стригалям подошел Анисим Иванович. Без картуза, с засученными до локтей сильными руками, по-хозяйски строг и озабочен, он только что побывал на сортировке и прессовке шерсти, я видел, как он брал на руки руно, — так берут тяжелую шаль, словно желая определить ее вес, и говорил нарочито громко:
— А ничего себе шубка, вес имеет!
Или, осматривая тюки, уже лежавшие на грузовике, прикрытые брезентом, приказывал покрепче увязывать их веревками и так же громко, голосом хозяина, говорил:
— Ну, в добрый путь!
Стригалям он помогал положить на стол овцу, обращаясь к ней и говоря:
— Потерпи, полежи смирно, любезная! — И — к стригалям: — А вы старайтесь, старайтесь, ежели хотите заработать.
Не минул и девушку с приметными светлыми завитками на висках.
— Молодцом, Акимцева! — сказал он. — Вчера ты была первая. А как сегодня? Сколько остригешь сверх плана?
— Сегодня будет еще больше, нежели вчера, не беспокойтесь, Анисим Иванович, — ответила девушка, не прекращая работу. — Только пусть посторонние не мешают.
— Верно, Акимцева, справедливо, — согласился мой дядя. — Мешать делу нельзя. Пойдем, Михаил.
— Слыхал жалобу? — спросил он. — Дивчина права. Видишь, как она изо всех сил старается, а ты забавляешь ее разговорчиками.
— Интересно было посмотреть. Вы же сами просили.
— Ну-ну, толкуй, Михайло, кому-нибудь другому, — возразил дядя. — Знаю я вас, некоторых из которых, что вам интересно. Поглядывал-то не на работу, а на Ефимию Акимцеву. А я же тебе что говорил? У нас не стригальщицы, а красавицы. Убедился?
— Кто она? — спросил я дядю про обладательницу столь редкого имени.
— Зоотехник четвертой отары.
— И стригальщица?
— Подрабатывает.
— Местная, из Привольного?
— Не, чужая, сказать, приблудная, — ответил дядя. — Из города до нас прибилась, и ничего, прижилась. Второй год у нас. И зоотехник стоящий, и стригальщица — что надо. Залюбуешься! Две нормы дает. Напиши-ка о ней в стенгазету. Такой старательной мастерицы, ручаюсь головой, ни у какого Сероштана днем с огнем не отыскать. А у меня — вот она! И все стригальщицы у меня — девчата бедовые. Да и парни тоже. Так что, племяш? Теперь, верю, убедился в наглядности: сероштановскому стригальному лагерю далеко до моего, не дотянуться. Чего молчишь? Как? Убедился или не убедился?
— Чтобы сравнить, надо побывать у Сероштана, — сказал я. — Вот побываю в Мокрой Буйволе, тогда скажу.
— Ну-ну, побывай, побывай у Сероштана, не возражаю, — сказал Анисим Иванович. — А кто это к нам? Кажись, начальство. Да никак сам Артем Иванович Суходрев? Он и есть! Михайло, ты же еще не встречался с нашим директором. Пойдем!
Дядя быстрыми шагами направился навстречу подъезжавшему к лагерю запыленному газику, так что я с трудом поспевал за ним. Я видел, как из газика вышел среднего роста мужчина, еще молодой, наверное, немного постарше меня, собой заурядный, ничем не примечательный, похожий не на директора совхоза, а скорее всего на директорского шофера. Худощав, поджарист, как кавалерист, костюм поношенный, измятый — именно в таких костюмах шоферы и сидят за рулем, и ходят к друзьям в гости. Голова у него-была крупная, несколько не по росту, лоб широкий, выпуклый, пострижен низко, «под ежика», впереди, как у залихватского парубка, непокорно торчал русый чубчик. Лицо простое, типично русское, именно такие открытые, опаленные солнцем и ветром лица чаще всего встречаются в степях Ставрополья. Отличали его разве что энергичность, резкость движений и живость серых умных глаз, да еще хитроватая усмешка на твердых губах, которая, как мне казалось, и появлялась всякий раз для того, чтобы добавить к уже
сказанному: «Я-то все знаю, меня не проведешь, я только делаю вид, что мне что-то еще неизвестно, потому и спрашиваю, а на самом деле все давно известно…» С этой чуть приметной усмешкой на губах он и заговорил с дядей:
— Ну так что, Анисим Иванович? Чем порадуешь? Как разворачивается чабанская страда?
— Набираем скорость. Старт взяли хороший.
— Показатели? Сколько отправили шерсти?
— Шесть грузовиков. Сегодня еще не отправляли.
— Мало. Мокрая Буйвола отправила на фабрику двенадцать машин. Вдвое больше.
— Завтра увеличим.
— Зачем кормить завтраками себя и других? Шерсть надо отправлять каждый день.
— Так и будет. — Небритое лицо дяди то серело, то чернело. — Люди стараются, так что не беспокойтесь, Артем Иванович, план будет перевыполнен.
— Скажем гоп, когда перескочим.
Очевидно желая как-то смягчить разговор, Анисим Иванович обнял меня за плечи и сказал:
— Племяш, Михаил Чазов. Из Москвы приехал.
— Постой-постой, это, случаем, не тот Чазов, чьи очерки я читал в газете? — спросил Суходрев, и хитрая улыбочка задержалась на его губах, говоря: «Да я в этом и не сомневался, а спросить все же надо». — Назывались они, кажется, «Сельские этюды». Я не ошибаюсь?
— Нет, вы не ошибаетесь, — ответил я.
— Значит, из Москвы — и прямо в Привольный? — спросил Суходрев. — Ну, как там поживает столица?
— Шумит, как всегда.
— Отчего же сам припожаловал в степную тишь да глушь?
— Захотелось погостить у бабушки, пожить, так сказать, на приволье.
— Ну, чего-чего, а приволья у нас предостаточно, — сказал Суходрев, и в его голосе прозвучала гордая нотка. — Если и есть где приволье, то это у нас.
— Здесь, в Привольном, я вырос, школу кончил. Решил пожить теперь, посмотреть хуторскую жизнь.
— Пожить, посмотреть хуторскую жизнь? — переспросил Суходрев, и на его губах затеплилась хитрая улыбочка, как бы говорившая: «Ну и хитрун, ну и дипломат, да кто же тебе поверит, где отыщется такой дурень?» — Советую присмотреться к своему дядюшке. Может получиться презабавный фельетон об отсталом человеке. — И обратился с той же улыбочкой к Анисиму Ивановичу: — А что, неправда? Твои соседи давно шагнули в комплексы, а ты все держишься за свои дедовские кошары. Не тушуйся, Чазов, не красней, ведь говорю-то правду. Я и так чересчур снисходительно к тебе относился и к твоим кошарам, терпел, ждал, когда ты сам, по своей доброй воле, разрушишь эти скирды соломы. Вижу, терпению моему приходит конец. Придется и в Привольном прибегнуть к тайному голосованию. Пусть сами хуторяне скажут, нужен им такой управляющий или не нужен? Ну, пойдем, Анисим Иванович, посмотрим, какую шерсть дают твои овцы.
Они ушли, мой дядя с понурой головой, к сортировщикам. Я же снова подошел к Акимцевой, стоял поодаль от нее, смотрел на ее ячменные завитки, на ее проворные руки, слышал жужжание машинок, ощущал щекочущий в носу, ни с чем не сравнимый овечий запах, и уходить из лагеря мне не хотелось.
12
Прошло, наверное, месяца два. Над Привольным давно полыхало лето, в степи, куда ни глянь, плыло и плыло, покачиваясь, дымчатое марево. За это время я успел побывать во всех отделениях совхоза, районная газета напечатала два моих очерка. В одном из них — о стригалях — я тепло говорил об Ефимии Акимцевой как о лучшей мастерице этого дела. О нашей же встрече в стригальном лагере я уже не вспоминал. И вот однажды утром мимо окна моей комнаты прошла девушка в цветном платье, и по характерному ее профилю, по приметным, выбившимся из-под косынки ячменным завиткам я без труда узнал в ней мою знакомую стригальщицу. Ее неожиданный приход не столько удивил, сколько обрадовал меня. И так как дверь моей комнаты была слегка приоткрыта, я невольно слышал ее голос, когда она говорила с бабушкой, и узнал, зачем она пришла. Она хотела снять комнату, которая находилась рядом с моей и была свободна. Эту комнату, чтобы не скучать одной в землянке, бабушка сдавала девушкам или одиноким женщинам.
— Прасковья Анисимовна, нельзя ли мне поселиться у вас?
— Шо ж там, у Самсоновых? — спросила бабуся. — Али не пожелала у них жить? Али не поладили? Али еще шо?
— И хотела, и ладили, и люди они хорошие, — отвечала Акимцева. — Но у них сейчас стало тесно. Вы же знаете, дочка Варя вышла замуж, зятя приняли в дом, а недавно родился ребенок, и получилось две семьи. А мне сказали, что у вас есть свободная комната. Так вы сдайте ее мне.
— Она-то, таковская, верно, имеется, — сказала бабуся. — Только рядом, через стенку, проживает мой внук. Он все что-то пишет. Так я подумала: не помешаешь ли?
— Ой, что вы, Прасковья Анисимовна! Зачем же вам этого опасаться? Совсем не надо опасаться. Никому я не помешаю. Вообще я тихая, смирная, с утра до вечера нахожусь в отаре. Дома бываю только ночью. Переночую и утром снова ухожу на весь день.
— Ежели так…
— Так, так, Прасковья Анисимовна, — поспешно ответила Акимцева. — Утром ухожу, вечером прихожу.
— Вот мы зараз спросим. — Бабуся постучала ко мне. — Эй, Мишуха! Выдь-ка на минутку.
Я вышел. По смущенному выражению лица моей знакомой стригальщицы легко можно было понять, что она сделала вид, будто никак не ждала встретить меня здесь, и, удивленно поведя бровями, сказала:
— А! Бородач! Так ты что, тут живешь? Вот не знала.
— И испугалась?
— А я не из пужливых. — Ее глаза игриво заблестели. — Никак не думала встретить. — И, подобрев лицом и ломая узкие брови, с улыбкой добавила: — Теперь я знаю, кто ты. Михаил Чазов, тот, кто писал очерк о стригалях.
— А тебя сегодня не узнать.
— Это потому, что тогда я была в комбинезоне, больше смахивала на парня, — смеясь ответила Акимцева. — А теперь…
Она не досказала, красиво повернулась, словно бы желая показать не свое нарядное платье, расклешенное книзу, а то, как оно на ней сидело, и я заметил: покрытые белым пушком ее щеки, точно так же, как и тогда, на стрижке, пятнил румянец.
— Так вы шо, уже видались? — спросила бабуся.
— Случайно познакомились, — ответила Акимцева. — Еще на стрижке.
— Мишуха, так я хотела спросить, — заговорила бабуся. — Ефимия желает встать ко мне на квартиру. Не помешает новая квартирантка твоей работе?
— Нисколько, — ответил я, не задумавшись, и с радостью посмотрел на Ефимию, как бы желая сказать: «Видишь, какая недогадливая у меня бабуся, разве ты можешь мне мешать, я даже рад, что ты здесь». — Когда я узнал, как тебя зовут, то обрадовался: какое редкое поэтическое имя! Ефимия! Сейчас чаще встретишь всяких Наташ, Людмил, Ларис.
— Зови меня просто, как все зовут, Фимой. — Теперь ее щеки сплошь покрылись румянцем и в голубых глазах засветились искорки. — Нас три сестры, я самая младшая. Моим родителям почему-то захотелось, чтобы все мы имели необыкновенные имена. Поэтому старшая была названа Евлампией, средняя — Клеопатрой, а мне досталась Ефимия. — Она обратилась к бабушке. — Ну, так как же, Прасковья Анисимовна? Можно мне поселиться у вас?
— Ежели Мишуха не возражает, то можно. Поселяйся, дочка, и мне, старухе, будет веселее.
— Спасибо, бабушка. Так я сейчас же и переберусь.
Ефимия незаметно улыбнулась мне, и эта ее улыбка сказала: «Видишь, все получается так, как и нужно, и мы теперь будем всегда вместе». И она вышла из хаты. Во дворе еще о чем-то говорила с бабушкой, а часа через два пришла с чемоданом, открыла дверь и сказала:
— Вот и все мои пожитки.
Бабушка проводила Ефимию в ее комнату, а я ушел в свою. Сел к столу и принялся за работу, — надо было закончить очерк, который я писал для своей газеты. Стенка, разделявшая меня и Ефимию, была из фанеры, такая тонкая, что я, занимаясь своим делом, слышал и шаги новой квартирантки, и песенку без слов, которую она пела как-то в нос. Я откладывал карандаш и думал о том, что мне, оказывается, приятно было слышать и ее шаги, и этот ее миловидный голосок. Странное и непонятное чувство я испытал уже в этот первый вечер. Отложив в сторону недописанный очерк, я стал думать о том, что теперь эта стригальщица со своими ячменными завитками всегда будет находиться за стенкой, рядом со мной — и сегодня, и завтра, и все другие дни. «Ну и что? Чего я испугался? Пусть себе живет, какое мне до этого дело? Она не придет ко мне, а я не пойду к ней, а между нами стенка». Сам не зная для чего, я мысленно ставил Ефимию рядом с Мартой, сознавая, что делать этого не следует, а все же делал, и всякий раз видел, что у Ефимии, в ее броской внешности, в загаре лица, в смелом взгляде, было что-то такое, чего у Марты не было. «Нет, нет, и думать о ней нечего, и сравнивать с Мартой ни к чему, — думал я. — И то, что она тут, за стенкой, еще ничего не значит. Да и кто она мне, эта мастерица стрижки овец? У меня есть Марта, и то, что она не похожа на Ефимию, так и должно быть, и никого, кроме Марты, мне не нужно». Снова прислушивался к шагам за стенкой, и снова ловил себя на мысли: да, Ефимия — девушка необыкновенная, совсем не такая, как все, и не такая, как Марта. Где-то совсем рядом с этой мыслью рождалась мысль другая, она возражала, спорила, доказывала, в чем я не прав, в чем были мои заблуждения, правда, доказывала робко, неубедительно, и я, сам того не желая, все больше и больше осознавал свое неравнодушие к соседке за тонкой стенкой.
Кажется, на третий день вечером, вернувшись с работы, Ефимия смело постучала в дверь и вошла в мою комнату. Вошла свободно, запросто, и я, увидев ее улыбающееся, радостное лицо, все те же ячменные завитки, покраснел и подумал: да, эта девушка мне нравится, и я ждал ее прихода. А она без приглашения села на диван так же свободно и просто, как у себя дома, натянула короткую юбчонку на округлые, смуглые от загара колени и сказала:
— Миша, я пришла сообщить, что хорошо устроилась на новом месте.
— С чем тебя и поздравляю.
— Спасибо. — Она покосилась на меня смеющимися и что-то свое думающими глазами. — И комната мне очень нравится. Да, Миша, ты не беспокойся, обещаю вести себя тихо, ни в чем тебе не мешать.
Я молча смотрел на нее, и мне слышалось, будто она говорила: «Не верь мне, буду, буду мешать, да и пришла-то я к тебе не затем, чтобы сообщить, как я устроилась, а затем, что люблю тебя, и мне так хотелось повидать тебя и поговорить, и если бы ты знал не о том, о чем я сейчас болтаю, а о том, что я сейчас думаю о тебе…» И тут она ни с того ни с сего стала рассказывать о себе. Родилась в Кисловодске, и сейчас там живут ее родители: отец — главврач санатория, мать — врач-окулист.
— Квартира у нас в старинном доме, недалеко от Нарзанной галереи.
— Как же стала зоотехником?
— Сама не знаю. В медицинский не попала по конкурсу. В это время моя подружка подала заявление в техникум, и я тоже. В прошлом году окончила техникум и получила направление в Привольный.
— Почему в Привольный?
— А куда? Не возвращаться же в Кисловодск?
— Разве в Кисловодске плохо?
— Не плохо, но что там делать. — Она весело посмотрела на меня. — А в Привольном мне хорошо. Здесь широко, просторно! А я люблю простор.
— А как стала еще и стригальщицей?
— Надо же подрабатывать денежки. Мои родители — люди обеспеченные, могли бы дочке помогать. Но я с ними в страшной ссоре.
— Из-за чего?
— А! — она махнула рукой. — Разве старики могут понять то, что должны бы понимать. Хотели, чтоб я была врачом и жила бы с ними. А я вот — зоотехник и живу в Привольном.
— Довольна своей работой?
— Работа мне нравится, только зарплата небольшая. Выручает стрижка, и хорошо выручает. В прошлом году я смогла на заработанные на стрижке деньги купить себе зимнее пальто с норковым воротником и сапожки. В этом году заработала еще больше, а после твоего очерка меня даже премировали. Ну и расхвалил же ты меня!
— Не одну тебя.
— А ведь правда, я так научилась снимать с овец их тяжелую одежду, что вместо нормы семьдесят голов остригаю сто, а то и больше. Думаешь, это мало? Очень даже немало. — Ефимия сама ответила на свой же вопрос. — Вечером рук поднять не могу.
— А мне показалось, что у тебя получается все легко и просто.
— Если стоять возле стола, как стоял ты, и если глазеть, как глазел ты, то может показаться, будто из-под машинки руно отваливается само по себе. А на самом деле это непросто и нелегко.
Я смотрел на нее, видел ее наигранно смеющиеся глаза, и они говорили мне совсем не то, о чем говорила она. «Миша, я совсем же не то хотела тебе сказать, а болтаю все, что приходит на ум. Я хотела сказать, что ты мне нравишься, и понравился еще там, возле стригального стола, и я нарочно, чтобы видеться с тобой, попросилась на квартиру к твоей бабушке», — говорили ее глаза. И я, не слушая ее, мысленно говорил себе, какие у нее красивые глаза, оттененные этими ячменными завитками, и какие у нее серенькие, под цвет перепелиного крыла, шнурочки бровей, и какая она вся живая, непосредственная, совсем не похожая на Марту…
Собираясь уходить, она остановилась у дверей и, улыбаясь доверительно, вдруг сказала:
— Миша, а бородка тебе не к лицу.
— Это почему же?
— Она тебя старит.
— Да я уже и так немолодой.
— Ну-ну, скажи еще кому-нибудь, только не мне, — смеясь, ответила она. — По глазам видно, какой ты «старик». Годы никакая бородка не скроет. Да и чего ради подделываешься под этакого русачка? Своей курчавой русой бороденкой ты смахиваешь то на семинариста без рясы и без креста, то на Александра Невского. Надеть бы на тебя кольчугу да железный шлем, и готово сходство. Только людей смешишь. Человек должен быть всегда самим собою, его нельзя ни выдумать, ни показать таким, каким он не является от рождения. Или хочешь чем-то выделиться, чем-то отличиться? Но этого следует достигать, как я понимаю, не внешним сходством с семинаристом или Александром Невским. Правильно я говорю?
И, не дождавшись моего ответа, ушла, тихонько прикрыв за собою дверь.
В эту ночь я спал плохо, ворочался в постели, прислушивался, что там, за стенкой. Было тихо, Ефимия, наверное, давно спала. Я посмотрел на часы — было уже давно за полночь. По улице, мимо землянки, время от времени с шумом и ветром пролетали, полуночные грузовики и вместе с гулом моторов и колес бросали на мое окно косой и яркий свет фар. Я видел, как появлялись и исчезали на окне и на стене эти слепящие блики, а в голове у меня звучали слова: «Миша, а бородка тебе не к лицу… Человек всегда должен быть самим собою…» Я и сам, еще в Москве, помышлял расстаться с растительностью на лице. Марта не соглашалась, она, напротив, уверяла, что эта русая, чисто русская бородка мне к лицу. И все же в эту ночь я твердо решил завтра же сбрить бородку. Так и сделал. Утром согрел воду, в станок безопасной бритвы вставил новое лезвие, намылил как следует лицо и вот уже, пахнущий одеколоном, безбородым появился перед бабусей. Старушка обняла меня, похвалила, сказала, что вот теперь, без бородки, я настоящий Чазов.
— Ну, вылитый дед Иван! — с гордостью добавила она. — Гляжу на тебя, а вижу своего Ваню.
Вечером, вернувшись с работы, Ефимия, как всегда, заглянула ко мне. Остановилась в дверях, всплеснула руками:
— Миша! Да ты ли это? — воскликнула она. — Какой смешной!
— Сама же хотела.
— Да неужели?
— Забыла?
— Ах, да-да… Ну, что ж, давай поцелую такого смешного и чистенького. Разрешаешь?
Не дожидаясь моего согласия, она поцеловала меня в щеки, — так сестра целует брата, и я заметил, что губы у нее были сухие, твердые и пахли полынью. Этот запах я ощущал и позже, особенно в теплые осенние дни, когда над хутором гуляло «бабье лето», теплый воздух тоже казался мне настоянным на запахе полыни.
Шли дни, и мои встречи с Ефимией стали для меня не то чтобы привычными, а какими-то, я бы сказал, необходимыми. Если я не видел ее два дня, мне становилось тоскливо. «А не влюбился ли я? — спрашивал сам себя и не знал, что ответить. — Да нет же, не может быть… А почему не может быть? Все может быть, все. Да, так оно и есть — влюбился, и, кажется, по самые уши. Только боюсь сознаться себе в этом… А Марта? А что Марта? Я ей не муж, она мне не жена…»
13
В Богомольном жила моя двоюродная сестра Таисия. Из рассказов бабушки я знал, что отец Таисии, Кузьма Кучеренков, бросил жену с тремя малыми детьми — девочками: старшей — Таисии — тогда было лет семь. Девочки выросли, младшие уехали из села, а Таисия осталась с матерью. Моя тетушка Анастасия работала няней в детском садике, а Таисия — бухгалтером в «Привольном». Рассказывала бабушка и о том, что в личной жизни Таисия, как и ее мать, была несчастлива: замуж не вышла, а ребенка родила.
— Игдеся запропастился ее женишок, — говорила бабушка. — Через то наша Таюша и осталась ни девушкой, ни бабой: мужа нету, а ребеночка имеет, сынишку прижила от проезжего молодца, а от кого именно. — помалкивает, дажеть родной матери не созналась. Растет мой правнучек Юрик, ему уже три годика. Шустрый мальчуган!
Таисия, или как мы называли ее в детстве — Таюшка, была старше меня. Первый раз я увидел ее, когда учился в третьем классе. Как-то Таюшка пришла к бабушке в гости не одна, а с матерью. Была она по-мальчишески угловата, худенькая, с невероятно толстой, заплетенной темно-русой косой — коса лежала на спине, и бант, завязанный на ее конце, спускался до подола. Лицо у нее было не то чтобы некрасивое, а какое-то скуластое, с удлиненным подбородком, казалось, оно предназначалось для бойкого, хулиганистого паренька, а, как на беду, по ошибке досталось этой скромной девушке с косой на спине.
В те годы мы встречались еще несколько раз и подружились. Потом не виделись лет четырнадцать, и теперь, находясь в Привольном, я часто думал о Таисии, да все никак не мог поехать в Богомольное и навестить ее. А вчера пришло от нее коротенькое письмо, написанное мелким почерком.
«Миша, если ты еще помнишь свою сестренку Таюшку, — писала она, — то приезжай в субботу к нам, на мои именины. Мама тоже просит тебя приехать. Таисия».
Вот и подвернулся случай навестить тетушку Анастасию и повидаться с Таюшкой. К тому же как раз завтра ко мне на «Запорожце» должен приехать Олег, шофер Суходрева. Суходрев дал мне машину, чтобы я смог поехать в Скворцы, — мне надо было побывать в районной газете «Заря коммуны». И я подумал: мы переночуем в Скворцах, на другой день, в субботу, направимся не в Привольный, а прямо в Богомольное.
В Скворцах со своими делами я управился быстро, ночевать в районной гостинице мы не стали, и уже в густых, наползавших с поля, сумерках въехали в Богомольное. Я распрощался с Олегом и пешком отправился к Кучеренковым. Над притихшим селом повисла однобокая луна, в полумраке, как бы издали приветствуя меня, светились два оконца. По-осеннему пахло сухим, запыленным бурьяном. Низкая изгородь, давным-давно сложенная из тех каменных серых плит, какие здесь привозят со степных буераков, во многих местах была разрушена, не было ни ворот, ни калитки, а в забурьяневшем дворе — ни сарайчика, ни сажка. В глубине двора стояла хатенка под шиферной крышей, и когда я, пройдя по протоптанной в бурьяне дорожке, приблизился к дверям, то услышал ласковый женский голос:
— Юрочка! Посиди, мой ласковый, еще на горшочке! Посиди, деточка! Ну кому кажу — посиди!
— Бабуля, я и так уже долго сидю, — отвечал детский голос. — Надоело сидеть.
— А ты посиди еще. Ах, какой непослушный космонавт!
— Я послушный, а сидеть не хочу.
Я постучал в дверь и вошел в комнату. По всему было видно, моя тетушка Анастасия никак не ждала меня в этот час. Она оставила мальчика сидящим на горшке и молча повалилась на меня, обнимая слабыми руками и плача. Потом она отошла, удивленно посмотрела на меня со стороны, как бы все еще не веря, что это вошел я, и темными кулачками, по-детски, начала вытирать мокрые глаза, что-то говоря и заикаясь. Не трудно было понять ту ее радость и то ее удивление, которые она испытывала в эту минуту. Я же смотрел на плачущую женщину, и мне казалось, что я вошел не в ту хату, в какую надо было мне войти, и что это была совсем не та тетушка Анастасия, которую я знал, — стой поры, когда мы виделись в последний раз, она так постарела и изменилась, что ее трудно было узнать. Одетая по-будничному в старенькое платье, без косынки, совершенно седая, с сеточкой морщинок у глаз, она была похожа на тех еще молодых, но рано увядших деревенских женщин, о которых говорят: ее состарили не годы, а горе и нужда.
Белоголовый, большеглазый мальчик, — я уже догадался, что это был сынишка Таисии и правнук моей бабуси, — в коротенькой, повыше пупка, рубашонке, оставил свое место на горшке и сказал:
— Бабушка, я уже посидел.
— Ну и молодчина. Давай я тебя подотру. — Анастасия взяла тряпку и занялась внуком, говоря: — Миша, а это наш Юрочка, мой внучек. А тебе как он доводится, я и не знаю. Не иначе — ты ему двоюродный дядя, а он тебе двоюродный племяш. Так, а?
— Одним словом, родич, — сказал я. — Ну, здравствуй, Юрий!
— Привет, — сказал Юрий, смело подавая руку. — Меня звать Юрий. А тебя?
— Михаил, — ответил я. — Значит, мы с тобой родичи.
— Во-во, родаки, — за внука ответила Анастасия. — Такой растет баловник, такой шустряк!
— А я вовсе не баловник и не шустряк, — возразил Юрий. — Я — космонавт. А ты кто?
— Твой гость, — не зная, что ответить, сказал я. — Вот взял да и приехал к тебе в гости.
— И правильно сделал, что приехал, — серьезным тоном сказал мальчик. — Хочешь, и ты будешь космонавтом?
— Да что-то, признаться, не очень хочется.
— Боишься, да?
— Вот так всегда, чуть что — я космонавт, — сказала Анастасия, уже успокоившись и повеселев. — Имя ему дали, как у Гагарина, так он и считает себя космонавтом. Мы в детстве такое слово и слыхом не слыхали, а теперешняя детвора все слова знает наизусть. Я работаю в детском садике, так там такого от них наслышишься…
— Зато в детстве вы знали, как пасти овец, — сказал я. — Тоже дело непростое.
— Эту науку мы, верно, знали, — согласилась Анастасия. — Миша, как же хорошо, что ты приехал. И Тая будет рада. Она тебя ждала завтра, а зараз что-то задержалась на работе, наверное, на собрании. Но скоро будет. Ты пока посиди, я быстренько управлюсь с космонавтом. Ему пора спать. Ну, космонавт, моя радость, давай помою твои ножки, да айда в полет, то бишь в постель!
Пока моя тетушка занималась своим внуком, я сидел на табуретке и невольно рассматривал небогатое и неказистое жилье моих родичей. Хата была как хата, таких вековух на хуторах и в селах еще сохранилось немало, только покрыта не соломой, а шифером. Небольшая передняя комната с земляным чистым полом. Раньше тут обычно находились новорожденные телята, поросята, спасаясь от зимних стуж. Теперь же здесь ничего этого не было. Стояла газовая плита, выделяясь своими белыми, как у сороки, боками. Обеденный стол был покрыт узорчатой клеенкой, рядом с ним — деревянная лавка, на ней — ведро с питьевой водой, возле ведра — эмалированная кружка, привязанная, как собачонка, на тонкой цепочке. Высокие, тянувшиеся по лесенке, цветы в горшках запрудили оба окна, на стеклах — неяркие ситцевые занавески. Из передней одна дверь вела в ту комнату, где Анастасия приготовляла в «полет» своего юного космонавта, были видны две кровати с узкими проходами между ними, вторая — в комнату, в которой, наверное, жила Таисия.
Прошло какое-то время, и появилась Анастасия, тихонько прикрыла за собой дверь, села со мной рядом и сказала:
— Ну вот, и готов наш космонавт. Улетел!
— Уснул?
— Только положила в кровать, а у него и глазенки закрылись.
— Как поживаете, тетя? — спросил я, чтобы не молчать.
— Можно было бы жить и лучше, да уже некуда, — невесело улыбаясь, отшутилась Анастасия. — Не по-людскому сложилась моя жизнюшка, вот в чем беда. Была еще молодая — муж бросил, осталась с тремя малыми детишками, ну и хлебнула горюшка. Теперь все мои главные беды остались позади. — Она, как я заметил, нарочито говорила со мной весело, очевидно, желая показать, как она рада была моему приезду, и все же и в ее глазах, и на лице я постоянно видел какую-то странную, прочно заматеревшую тоску. — Все три дочки выросли, Надя и Вера рано повыходили замуж, и удачно. Славные достались им муженьки. У Нади — агроном, человек смирный, хозяйственный, не пьет, не курит, у Веры — учитель, собой мужчина уважительный. И Надя и Вера живут при достатке, в ладу, детишек позаимели. Они близко от матери, в нашем же крае. Надя в Кочубеевском районе, тоже в совхозе, а Вера — в Изобильненском, в самом райцентре. Квартира у нее как городская, вода горячая. А я тут, в Богомольном осталась со старшей да вот с космонавтом. Как говорится, ничего, живем-можем. Внучек Юрик — радость моя, славный растет парнишка, смышленый и хоть малость шустроватый, а ничего, послушный. Иной раз гляжу на Юрика, когда он называет себя космонавтом, и, веришь, Миша; думаю: «А что? Может быть, вот такой разбышака подрастет да и умчится на какую-то другую землю». Кто их знает, что у них в такую пору на уме. Его тезка, когда был дитём, ить тоже, сказывают, был большим разбышакой, не мальчуган, а пружина. И что свершил, а? — Заматеревшая тоска в ее глазах и на лице улеглась еще плотнее, и Анастасия спросила: — Как там поживает моя сердешная маманя? Оставили ее одну, горемычную. Пока подрастала ее шестерочка, то все мы находились близко, можно сказать, рядышком, держались за ее подол, а зараз осталась маманя одна. Анисим тоже на хуторе, а бывает у нее редко. А из Богомольного и вовсе не находишься. Видно, такая горькая участь всех матерей. И она больше всего тревожится не о нас, а о Толике. Мы-то тут, считай, рядом, а Толик — бог его знает где, аж в каком-то Конго. И чего он туда забрался?
Я сказал, что Прасковья Анисимовна собирается поехать к сыну в гости.
— Мой отец прислал уже вызов, — добавил я. — Но ведь дорога-то дальняя, я не советовал ей трогаться с места в ее-то годы.
— Миша, она так убивается о Толике, так тревожится о нем, — сказала Анастасия, и заматеревшая тоска еще прочнее и надежнее улеглась на ее лице. — И от чего? От какой причины? Я так думаю: от материнской жалости. По себе знаю, какую страшную боль приносит матери эта жалость. А мама, это все мы знаем, сильно жалеет Толика, души в нем не чает, много думает об нем. — Она встала, посмотрела в темное оконце сквозь листья цветов. — Месячно на дворе. Что-то наша Таисия припозднилась.
— Наверное, дела задержали. Она же завтра именинница, а я, как на беду, не успел купить для нее подарок. — Я чувствовал на щеках жар, знал, что покраснел, потому что сказал неправду: успел бы купить любой подарок, да ведь денег-то у меня не было. — Ну ничего, завтра я раздобуду букет полевых цветов.
— Не потребуются, Миша, ни цветы, ни подарки.
— Это почему же?
— Так она, Таисия, обманщица, — ответила Анастасия еще ярче показывая на лице свою застаревшую печаль. — Захотела тебя повидать, вот и придумала себе именины. А родилась-то она в январе, сразу после Нового года. — Анастасия посмотрела на меня грустными, виноватыми глазами. — Миша, если б ты знал, как ей хотелось повидаться с тобой. Она искала тебя еще в тот день, когда ты приезжал в Богомольное и приходил к Суходреву. Не нашла. Ты быстро уехал.
— У нее дело есть ко мне?
— Не знаю. Но догадываюсь, зачем ты ей понадобился.
— Зачем же?
— Наверное, хочет почитать тебе свое жизнеописание.
— А что оно, это ее жизнеописание?
— Толком не знаю, она мне не читала и не показывала, — ответила Анастасия. — Как-то я зашла вечером к ней и вижу: сидит за столом и что-то пишет. Ну, я, как мать, спрашиваю: чего малюешь, дочка? Смотрит на меня весело, зубы скалит и отвечает: свою счастливую жизнь описываю. Я подумала: «свою счастливую жизнь описываю», — стало быть, понимай, мать, навыворот. А она свое: счастливая у меня жизня, мамо, и надобно ее описать. Вот я и занимаюсь жизнеописанием. И смеется. Дура, говорю, над своим несчастьем знущаться грешно. Какая же у тебя счастливая жизня? Мужа нету, да по всему видно — и не будет. А она: у меня счастливая жизня. Мальчонку пригуляла. А от кого? Держит в тайне. Дажеть я, ее мать, про то ничего не знаю. Смеется: он у меня, говорит, от господа бога. И свое: а все ж таки жизня у меня счастливая, только этого моего счастья вам, мамо, никогда не понять… Не счастье у нее, а горе, вот что мать видит и понимает… Может, повечеряем? — вдруг спросила она. — А то, может, наша счастливая до полуночи не придет…
— Подождем. — Я посмотрел на свои ручные часы. — Еще рано.
— Если бы она знала, что ты уже у нас, — мигом бы примчалась.
— И много ею написано этого жизнеописания?
— Видела я тетрадки: штук пять, а может, и больше. А сколько написано — не видала. — Анастасия тяжело вздохнула. — Скрывает от матери, прячет эти свои тетрадки в стол и держит под замком… Иной раз гляжу на свою старшую и диву даюсь. Какая-сь она чудная, непонятная, будто и не земная. Таких непонятных баб у нас на селе еще не было и, может, уже и не будет. Ты же знаешь, красотой бог ее обидел еще в рождении. Младшие — Надя и Вера — может, это и нехорошо себя хвалить, а скажу: обе пошли в свою мать, — писаные красавицы. Через то и замуж повыскакивали мигом, в восемнадцать лет, и девичества, считай, у них не было. Со школы — в техникум, а там сразу и замужество. А Таисия лицом пошла в батька Кузьму, из-за этой ее некрасивости все мужчины обходят ее десятой стежкой. А о сватовстве и думать нечего.
— Так никто ее и не сватал? — спросил я.
— Как-то один плохонький женишок заявился, — ответила Анастасия, вздыхая. — Сам вдовец, с тремя малыми детьми на шее. Таисия и смотреть на него не пожелала, а когда он ушел, обняла меня, и первый раз я увидела слезы в ее глазах. Плачет и говорит: мамо, лучше петлю на шею, чем такое замужество… Ну, после этого никто к ней и не сватался. Ходила в девках, работала бухгалтером — она техникум окончила. А когда ей уже перевалило за двадцать пять, гляжу я на нее, а сама удивляюсь: что-то моя Таисия стала передом полнеть. Мать-то не проведешь, вижу что к чему. Спрашиваю строго: с кем гуляла? Ни о кем, говорит, просто ветром надуло. А сама веселая, смеется, как дурочка. Я в слезы: скинь, говорю ребенка, тебе, одинокой, это разрешат. Зачем же тебе быть матерью-одиночкой? Как она озверилась на меня — ну, тигрица! Мне, ее матери, позор, стыдно с сельчанами встречаться, а ей хоть бы что. Идет по селу, подняв голову и выставив вперед живот, да еще и усмехается: дескать, поглядите, люди, какая я… Ну, а когда Юрик родился, и я к мальчонке привязалась, то я к ней уже с лаской: скажи, кто батько Юрика? Молчит, сцепив зубы. Так до сей поры и хранит в себе ту тайну. Фамилию Юрику дали нашу, Кучеренковых, а отчество деда Кузьмы. Вот так и живет на свете Юрий Кузьмич…
— Ну, а вы, как мать, не догадываетесь, кто же отец Юрия?
— Догадываюсь, от матери ничего не скроешь. — Она вытерла платочком заслезившиеся глаза. — Да что толку от моих догадок.
— Ну, кто же он?
— Есть такой, Семен Яковлевич. Ее начальник, главный бухгалтер. — И опять платок потянулся к глазам. — Мужчина семейный, степенный, подумать только…
— Почему же вы считаете, что именно он — отец Юрия?
— Как-то прихожу из детского садика с работы, глянула в окно и вижу: этот Семен Яковлевич держит на руках Юрика — тогда ему еще и года не было — и чучикает его, и ласкает, а Таисия тут же, радостная. Они меня не видели, и в хату я не пошла. Ходила по селу, ждала, когда этот Семен Яковлевич уйдет… Захожу в хату, спрашиваю: «Кто тут был? Кто держал на руках Юрика?» — «Да вы что, мама, — отвечает, — никого не было, я одна». А сама полыхает, вижу, что говорит неправду. «А Семен Яковлевич был?» — «Какой Семен Яковлевич? Да вы что, мама, в своем уме? Вам что, привиделось?» Я же и осталась виноватой. — Анастасия тяжело вздохнула. — Эх, какое горе. А она твердит: моя жизня счастливая. Миша, ты человек грамотный, ну рассуди: где же тут счастье? В чем оно и где? Растолкуй мне…
Признаться, мне трудно было найти тот ответ, который хотела бы услышать от меня, «человека грамотного», моя печальная тетушка, и я умышленно молчал, делая вид, что обдумываю что-то. Как раз в то время, когда я молчал, распахнулась дверь, и Таисия, увидев меня, с порога крикнула:
— Батюшки, кто у нас! Миша! Ну, здравствуй!
Ко мне подошла и крепко, по-мужски, пожала мою руку та же Таюшка, которую я хорошо знал еще девочкой, с тем же удлиненным подбородком, только теперь она была полнее, не такая угловатая, как прежде, и глаза ее сияли взволнованно, а коса на затылке закручена была колесом.
— Миша! Как я рада! Давай на радостях поцелуемся по-родственному! — И Таисия, покраснев скуластыми щеками, поцеловала меня. — Вот ты какой чистенький. А мне говорили, что оброс бородищей. Где же она, твоя борода?
— Была, да вот уже нету, — сказал я. — А разве быть бритому мне не к лицу?
— Что ты, Миша! Очень даже к лицу! — воскликнула Таисия. — Ты такой молоденький. Даже не могу представить тебя бородатым. — Она обратилась к матери: — Мама, вы еще не кормили гостя?
— Тебя поджидали.
— Эх, если б я знала, что Миша уже пришел… А то сидела на собрании и скучала. — Я заметил: когда Таисия говорила, ее глаза словно бы излучали тепло, и в эти минуты лицо ее казалось не таким некрасивым. — Вы тут без меня уже вволю наговорились.
— Малость побеседовали, — сказала Анастасия многозначительно, покосившись на меня. — Дольше бы не приходила.
— О чем же вы беседовали?
— Так, о всяком текущем житье, — с улыбкой ответила Анастасия. — Я сейчас приготовлю ужин.
— А Юрик уже спит?
— Давно в полете, космонавт, — с нескрываемой шуткой и с улыбкой на все еще печальном лице ответила Анастасия. — Парень свое время знает.
— Миша, ну как мой сын? — спросила Таисия, и ее излучавшие тепло глаза и улыбающееся, счастливое лицо вдруг на какую-то долю секунды стали красивыми. — Поправился тебе Юрик?
— Хороший парнишка, — ответил я.
— Хороший — это для Юрика мало. Он просто прелестный мальчик, — с чисто материнской уверенностью сказала Таисия. — Ему еще только три годика, а он такой смышленый, такой умница, просто чудо! Ты поговорил бы с ним. Не по годам развитой ребенок… Ну, Миша, садись к столу… Пока будет готовиться ужин, я угощу тебя белыми сливами, из своего сада. У нас два сливовых дерева, но какие это деревья! Мама, ты нарвала слив?
— В сенцах, в ведре, — сказала Анастасия, управляясь у плиты. — Да помой их хорошенько.
14
После ужина, еще не убрав посуду, Анастасия поспешила включить телевизор и, как бы оправдываясь переде мной, сказала:
— Беда! Ну как все одно магнитом притягивает, никак не могу, чтоб не посидеть перед ним. Раньше, бывало, богомольные люди молились перед иконами, на коленях стояли, а мы зараз, выходит, молимся перед телевизорами. — На ее печальном лице показалось что-то похожее на улыбочку. — Иной раз спину ломит, в сон клонит, а я сижу и не могу оторваться… Зараз будут показывать эту… как ее, Монику.
— Вашу любимую актрису, — сказала Таисия.
— А что, и любимая. Заводная женщина… А разве вы не хотите посмотреть?
— Нет, мама, не хотим, — за себя и за меня ответила Таисия. — Мы посидим в моей комнате. А ты приглуши звук, а то Юрика разбудишь.
— Гляди, этого космонавта разбудишь, — с гордостью за внука ответила Анастасия. — Тут хоть из пушки пали, а он все одно до утра будет дрыхать.
В комнате у Таисии по-девичьи чисто, ничего лишнего. В углу — платяной шкаф, у окна — небольшой стол и стул, на столе — лампа с широким, как дамская шляпа, абажуром, из-под которого на стол и на край дивана падал зеленоватый свет. Низкая односпальная кровать была убрана цветным покрывалом, на подушке, как косынка на девичьем лице, кружевная накидка, на подоконнике гурьбой теснились и ползли по лесенкам те же цветы — в горшках и горшочках.
Мы сидели на диване, зеленоватый свет падал нам на лица, и Таисия, смущенно глядя на меня своими добрыми лучистыми глазами, сказала:
— Миша, прошу извинить меня.
— Что такое?
— Я написала тебе неправду. Насчет именин.
— Не извиняйся, я все знаю, — ответил я. — Поэтому-то, как видишь, и заявился без цветов.
— Ну и хорошо, что знаешь. — В глазах у Таисии появилось еще больше лучистой теплоты. — Мне так хотелось повидаться с тобой, Я искала тебя в тот день, когда ты приезжал в Богомольное, и не нашла… А ты был сегодня у Артема Ивановича? — вдруг и как бы ни с того ни с сего спросила она. — Заходил к нему?
— Я из Скворцов, и прямо к тебе. А завтра хочу побывать у Суходрева.
— Обязательно зайди к нему. У Артема Ивановича большая неприятность.
— Что случилось?
— Недавно приезжал в совхоз секретарь райкома Караченцев, — сказала Таисия. — После того как Караченцев уехал, Суходрев пригласил к себе членов нашего парткома. — Она понизила голос и добавила: — И меня, я тоже член парткома… Суходрев сообщил нам, что Караченцев запретил проводить выборы директора совхоза. Управляющие, ты, наверное, знаешь, были избраны тайным голосованием. А Суходрев хотел, чтобы и директора избрали так же. И будто бы Караченцев сказал: никому не нужна эта самодеятельность. Артем Иванович обиделся и нам сказал, что если не будет избран тайным голосованием, то он уйдет со своего поста. Я, говорит, хочу знать: хотят ли привольненцы, чтоб ими руководил именно я, или не хотят? Если я получу от них такое доверие, то и дело в совхозе пойдет еще лучше. Просил поддержки у членов парткома.
— Ну и что? Поддержали?
— Часа четыре спорили и ни к чему не пришли.
— Таюшка, а как ты считаешь? Прав Суходрев или не прав?
— Конечно же прав, — быстро ответила Таисия. — Только ни к чему эта его затея.
— Почему так считаешь?
— Ведь нигде, ни в одном совхозе этого нет. А зачем же нам делать то, чего другие не делают и что нам-то делать не велят? — Она пододвинула настольную лампу, как бы желая посмотреть на меня при большем свете. — Я очень уважаю Артема Ивановича, человек он умный, думающий, тактичный. Много читал Ленина, пишет о нем какую-то статью, и я не замечала, чтобы он делал что-то в каких-то своих корыстных интересах. И то, что он хочет, чтобы за него проголосовали наши люди, мне понятно. Непонятно только то, зачем ему лезть на рожон? Подскажи ему, Миша, может, тебя послушается. Ведь плохо будет, если Суходрев уйдет от нас. А он — человек принципа и может уйти. Без Суходрева трудно представить себе «Привольный». Такого директора у нас еще не было. Как он поднял хозяйство! А как при нем укрепилась трудовая дисциплина! А какие мы стали иметь прибыли! Миша, поговори с ним завтра, посоветуй.
— Ради этого и просила меня приехать?
— Да что ты! Это я так, вспомнила… Жалко мне Суходрева, может, эта жалость чисто бабская… Но не надо ему уезжать из совхоза.
— Думаю, и без моих советов, а тем более без моих подсказок Суходрев хорошо знает, что ему делать, а чего не делать.
Наверное, мой ответ не понравился Таисии, и она некоторое время сидела молча.
— Таюшка, оставим Суходрева в покое, — сказал я, желая переменить наш разговор. — Расскажи о себе. Как живешь-поживаешь?
— Как живу? — спросила она. — Хорошо. На жизнь не жалуюсь. Работаю, сын у меня растет. А как ты? Не сказал же о себе ни слова.
— Что сказать?
— Женился?
— Пока еще не обручался. Но у меня есть женщина, Марта, которую считаю своей женой.
— Любишь Марту?
— Она прекрасная женщина…
— Это не ответ, Миша. Прекрасных женщин много, а любимая — одна.
Мне так хотелось поведать своей сестренке, с милыми, излучающими тепло, глазами, и о том, что уже здесь, в Привольном, я познакомился со стригальщицей Ефимией Акимцевой и что теперь эта красивая девушка стала моей соседкой по квартире, и все же промолчал, сдержался.
— Так любишь Марту?
— Мне хорошо с нею…
— И это, Миша, не то, не ответ.
— Что ты заладила — не то да не то. Лучше бы сказала, кто же отец Юрия? — спросил я. — Можешь хоть мне сознаться?
— О нет! — Ее некрасивое лицо покрылось жарким румянцем. — Назвать имя отца Юрия я не могу. И не проси.
— Да почему же не можешь? Боишься?
— Нет, не боюсь. Не могу потому, что это — тайна из тайн моего сердца. Так она во мне и останется. Умру и унесу ее с собой в могилу.
— Ну мне-то сказать можешь? Клянусь, сохраню тайну.
— И тебе не могу, — ответила Таисия и загрустила. — Признаться, подобного рода вопросы я слышу не от тебя первого, они изрядно мне надоели. Каждому любопытно знать. А каково мне? Чего я только не натерпелась. А тут еще, как нарочно, когда я была беременная, подоспело время переводить меня из кандидатов в члены партии. У нас, на партбюро и на общем собрании, все прошло хорошо, никаких каверзных вопросов не было. Люди понимали. А потом меня вызывали в райком, на бюро. Не поехать — нельзя. Артем Иванович дал свою «Волгу», медицинскую сестру из больницы, и я поехала. Смотрю, а за столом только одна женщина, Мария Федоровна, секретарь по пропаганде. И еще до заседания, и во время заседания мужчины искоса поглядывали на мой живот, как на какое-то чудо, которого они никогда не видели. Знали же по анкете, что я — незамужняя. Но все говорили о том, что я служу примером на работе, хвалили за политическую учебу, а о моей беременности — ни слова. Ну, думаю, и тут обойдется, люди взрослые, серьезные, — понимают. И вдруг — Нефедов, тогдашний наш председатель исполкома, месяца через три его сняли с работы, между прочим, за многоженство. Так вот, этот Нефедов, поглаживая пальцем свои каштановые, молоденькие усики, с бесстыжим блеском в глазах и с усмешечкой спрашивает: «Все же членам бюро было бы интересно знать, как это вы, товарищ Кучеренкова, лишились девичьей талии?» Я краснею и молчу. Одному этому Нефедову я ответила бы. Запомнил бы мой ответ! Но тут же бюро. Опустила голову, не знаю, что сказать. Выручила Мария Федоровна: «Нам, членам бюро, хорошо известно, что вы, товарищ Нефедов, большой любитель насчет девичьих талий, — сказала она, и все члены бюро рассмеялись. — Но почему же вы ничего не сказали о том, что мы принимаем в партию не просто Таисию Кучеренкову, а будущую мать… Понимаете ли вы это, — мать!» Ну, и начала чистить. А тут ее поддержал Караченцев… Так что, Миша, многим хотелось заглянуть в мою душу и посмеяться надо мной, да только никому еще это не удалось и, думаю, не удастся.
— Ну хорошо, Таюша, имени его назвать ты не можешь, — сказал я. — Мне это понятно. Но можешь ли ты сказать: что это у вас было? Твоя девичья оплошность? Минутное горькое счастье? Или что-то пострашнее?
— Да что ты, Михаил! Или с неба свалился? И тебе не стыдно спрашивать?
Как ты мог подумать такое? — Таисия говорила с обидой в голосе, и в эту минуту ее добрые глаза затеплились так, что в них показались слезы. — Какая еще оплошность? Какое горькое счастье? Ничего этого я не знала и не знаю. Запомни: рождение Юрия — это рождение моей любви, первой и последней, и именно той, настоящей земной любви, перед которой все люди становятся на колени и о которой в народе слагают песни.
— А он-то, тот таинственный мужчина, кто дал тебе, как ты сказала, настоящую любовь, тебя-то любит?
— Глупый вопрос, вот что я тебе отвечу.
— Почему же он глупый?
— Потому, Миша, что меня об этом спрашивать не надо, — ответила Таисия, блестя заслезившимися глазами. — Если бы он не любил меня, то и Юрий не появился бы на свет… Тут одно без другого немыслимо.
— Но у других бывает же иначе, и не редко?
— Я не знаю и не хочу знать, что и как бывает у других.
— А известно ли е м у, что у него есть сын Юрий?
— Миша! Как ты можешь об этом спрашивать? — с той же обидой в голосе и с тем же блеском влажных глаз говорила Таисия. — Ну, конечно же, ему известно, что у него есть сын Юрий, и он как отец рад этому, как и я, любит Юрика, может быть, еще больше, нежели я. А как же должно быть иначе? Не понимаю.
— Вы и сейчас встречаетесь?
— Это что — допрос?
— Что ты, Таюша! Простое желание понять, что же с тобой произошло?!
— Извини, но твой вопрос — встречаемся ли мы? — похож на то, если бы я спросила у тебя: Миша, а ты каждый день обедаешь? Да, мы встречаемся, и часто. А видимся каждый день.
— И всегда тайно?
— Ты угадал. К сожалению, явно, открыто встречаться мы не можем. Но это уже не суть важно.
— Материально он помогает своему сыну?
— Миша, странные у тебя вопросы. Помогает ли сыну? Не это главное у него и у меня.
— Еще один «странный» вопрос — почему же вы не поженитесь?
— Вот это уже вопрос не странный. Не поженимся только потому, что нельзя. Есть на это важная причина.
— Какая? Или тоже секрет?
— Нет, не секрет. — Таисия наклонила голову и совсем тихо добавила: — Я не виновата, что у меня получилось так, как поется в песне: «А я люблю женатого…»
— Ну и что? Пусть разведется с женой. Не он первый…
— Нельзя.
— Опять — нельзя. Почему?
— У него своих трое, и каждый мал-мала меньше. На кого их, несчастных, оставить?
— Пусть возьмет с собой.
— А мать? Забрать у матери детей — значит убить ее.
— Она знает о том, что Юрий родился?
— Я об этом не думала. Наверное, не знает.
— Надо же вам искать какой-то выход из создавшегося положения.
— Он, выход, уже найден: у нас растет сын, мы оба счастливы. Чего же еще?
— Признаюсь тебе, сестренка, что-то счастье это кажется мне и странным и непонятным.
— А его, мое счастье, никто не понимает и, наверное, никто и никогда не поймет, в том числе и ты, — сказала Таисия, глядя на меня полными слез глазами, и этот ее взгляд как бы говорил с упреком: «Эх ты, а еще пишешь в газеты, а понять ничего не можешь…» — Миша, чтобы понять мое счастье, его надобно испытать и выстрадать, что называется, вкусить и испробовать: какое оно на вкус. Ведь даже родная мать не верит, что ее дочь счастлива. И я не знаю, как ей, а теперь и тебе, объяснить, какими словами доказать это мое настоящее, без прикрас, мое, бабье счастье. Сказать ей, что бабье счастье не в замужестве, она не поверит, хотя у самой это самое замужество было позорное и унизительное. Сколько она, бедняжка, выстрадала, сколько пролила слез. Да разве у нас мало таких женщин, кто, выйдя замуж, потом всю жизнь не живут, а мучаются и страдают. Я так выходить замуж не хочу и никогда не выйду.
Как и что можно было ей возразить? Или хотя бы ответить? Я не находил ни вразумительного возражения, ни подходящего ответа и молчал. И хотя все то, о чем я только что узнал от нее, являлось чем-то исключительным, как говорится, для обыденной жизни не типичным, не характерным, но я внутренне соглашался с Таисией: да, ничего не скажешь, по-своему она была права. И меня радовало, что даже то немногое, о чем она успела поведать мне, раскрывало ее внутреннюю сущность, ее душевную красоту, которой она, как бы взамен недостающей красоты внешней, была так щедро одарена от природы. Я верил, что именно вот такая, как Таисия Кучеренкова, умеет любить большой и сильной любовью и что можно по-настоящему полюбить и ее, и полюбить так, как любит ее тот женатый мужчина, кто является отцом Юрия.
Как это нередко со мной случалось, во мне проснулась любознательность журналиста. Мне захотелось узнать, что же моя сестренка записала в свои ученические тетрадки, которые хранила в ящике стола, под замком. Я заговорил осторожно, исподволь. Таисия молча слушала меня, и по тому, с каким удивлением посматривала на меня, было видно, что она никак не ждала от меня такой осведомленности.
— Странно и непонятно, — сказала она, сердито глядя на меня. — Откуда тебе известно об этих тетрадках?
— Ну, известно, и все, — ответил я. — Догадался интуитивно. Я подумал: не может же моя сестренка ничего не записывать. И в своей догадке не ошибся.
— Миша, по глазам вижу — хитришь, Ну как ты мог догадаться?
— Вот так и мог.
— Наверное, мать говорила.
— Мать или не мать — это сейчас неважно, — сказал я. — Важно — прочитать бы твои записи. Разреши, а? Ну, хотя бы взглянуть в некоторые тетрадки.
— А зачем их читать?
— Ну как же? Это интересно.
— Забудь, Миша, и думать об этом.
— Отчего же?
— То, что записано в тетрадках, очень личное, интимное, оно только мое. — Таисия скривила в горькой улыбке губы. — Что-то похожее на исповедь до безумия влюбленной бабы.
— Вот это-то и интересно бы прочитать. Разреши…
— Никогда! Они, эти мои записи, не для чтения.
— А для чего же?
— Так, пусть лежат… как откровение души. Если в будущем кому и дозволено прочитать, так это Юрию, да и то только тогда, когда он станет человеком взрослым. Пусть узнает правду о своей матери и о своем отце.
— А если я попрошу тебя, как брат?
— И не проси, Миша. И довольно об этом, — решительно заявила она.
15
В разговоре быстро прошло время, и мы не заметили, как к нам подкралась полночь. Анастасия давно распрощалась со своей любимой актрисой и, наверное, уже видела первые сны. В хате стало так тихо, что была слышна усердная работа дятла на шиферной крыше: постукивая и пугая какого-нибудь жучка, красноголовый работяга как бы выговаривал: а ну, выходи, любезный, тук-тук, а ну, выходи, мой дружок, тук-тук…
— Миша, пора и нам на отдых, — сказала Таисия, вставая. — Видно, в один вечер обо всем не переговорить.
— А нет ли у вас сеновала? — спросил я. — Люблю спать на сене.
— У нас и простого курника нету, — ответила Таисия. — Тебе, как гостю, постелю на своей кровати. Она немного мягче сена, — с улыбкой добавила она.
— Ну, сестренка, зачем же себя стеснять? — возразил я. — Мне бы по-солдатски, на сене… В крайнем случае, в передней на диване.
— Я в этом доме хозяйка, и я знаю, что делаю, — сказала Таисия, улыбаясь своими теплыми глазами. — Здесь тебе будет хорошо, покойно.
Таисия напушила мягкую, и без того пушистую подушку, сказала, что сама будет спать в комнате Юрия, пожелала мне спокойной ночи и ушла. Для меня же эта ночь выдалась неспокойной. Не знаю, может быть, причиной тому явилась и чужая постель, и чужая комната, и это старательное непривычное постукивание дятла на крыше, но уснуть я не мог. Или, возможно, потому мне не спалось в эту ночь, что меня всегда удивляли, а сегодня, после разговора с Таисией, удивляли еще больше все те люди, с которыми я успел повидаться и познакомиться уже после приезда в Привольный. Сколько же здесь, оказывается, людей оригинальных, совершенно самобытных и, я бы сказал, особенных, каких я нигде не встречал. Вот бери их такими, какие они есть, и описывай, что называется, с натуры! И часто их не замечают лишь потому, думал я, что в сутолоке повседневной жизни, какой она видится нам изо дня в день, привыкают к этим оригинальным, особенным характерам. В общей массе людей они как бы стираются, утрачивают свою самобытность и в обыденной жизни именуются просто: тот — чабан, тот — управляющий, тот — директор совхоза. Таисия, к примеру, бухгалтер, а Ефимия — зоотехник да еще стригальщица. Или их называют и того проще: сельские труженики. Какие избитые, будничные слова! Но стоит поближе узнать хотя бы одного такого сельского труженика да поговорить с ним по душам — и он сразу же предстанет перед тобой не таким уж простым и не таким уж обычным, каким видится с первого взгляда.
Почему-то все чаще и чаще я задумывался о цели своего приезда сюда, в Привольный. И в эту ночь мне не давала покоя все та же мысль: зачем я здесь, среди этих людей? Я понимал: мысль эта беспокоила меня потому, что еще в Москве, когда я учился, а потом работал в газете, во мне родилась тайная мечта — о ней-то и догадывался Павел Петрович, когда я уезжал на хутор. Никому, даже Марте, я не говорил о своей мечте: вот поеду в Привольный, поживу там, познакомлюсь с людьми, узнаю их жизнь, а потом возьму да и напишу о них повесть, и в то время эта моя мечта казалась мне простой и легко исполнимой. Теперь же, когда я прожил в Привольном больше полугода и познакомился со многими жителями хуторов и сел, и особенно после сегодняшней встречи с Таисией, меня не только не радовала, а пугала эта моя давняя мечта, она казалась мне наивной и несбыточной. Поэтому и ночью, оставшись один в чужой хате и прислушиваясь к стуку дятла, я не переставал размышлять не о том, как и что напишу о людях, которых здесь увидел, а о том, что вообще напрасно сюда приезжал. В голове моей все смешалось, переплелось, перепуталось, и та жизнь, ради узнавания которой я приехал в Привольный, стала для меня еще более непонятной, еще более неузнанной, чем она была непонятна и неузнанна до приезда на хутор.
Чтобы хоть как-то избавиться от сомнений и неуверенности, я мысленно обращался к тем, с кем познакомился на хуторах и селах, и обращался с одними и теми же вопросами: как же мне быть? Писать или не писать? Мне хотелось получить от них ответ: смогу ли я справиться с этим делом или не смогу? Хватит ли у меня силы и таланта описать их такими, какими их увидел и какие они есть в жизни, или не хватит силы и таланта? И сам же за них находил ответы.
Так, Таисия Кучеренкова на мои вопросы ответила отрицательно, откровенно и без обиняков. «Миша, не сможешь, — говорила она, радуя меня теплотой своих глаз. — Не знаю, как насчет других, а насчет себя скажу: описывать меня не надо». — «Почему, сестренка?» — «А зачем меня описывать? Об этом ты подумал? Кому интересно знать обо мне и о моей жизни? Да никому. Кто я? Чем знаменита? Да ничем. Мать-одиночка, тайно живу с семейным мужчиной и всем говорю: я — счастлива! На меня смотрят с ухмылкой, мне никто не верит, даже ты. Разве такое счастье в жизни бывает? Все скажут: не бывает! Люди как рассуждают: она ненормальная, вот ей и кажется, что она счастливая. Ведь все считают так: счастье женщины может и должно быть только там, где оно скреплено законом. А мое счастье беззаконное, вот в чем вся штука. Так что, Миша, прошу тебя, не пиши про меня и не помышляй про это. И тут дело не в том, хватит ли у тебя силы и таланта, а в том, что о Таисии Кучеренковой вообще нельзя писать. Прочитают и скажут: ну вот, придумал какую-то несусветную счастливую дурочку».
Затем я обратился к старому чабану, дважды Герою Социалистического Труда Силантию Егоровичу Горобцу. «Что сказать, какой дать тебе разумный совет? На мое усмотрение: лично про меня не пиши, не берись, не сумеешь. Ежели уж браться за это дело, то тут надобно заходить издалека, описывать человека с малолетства и до его преклонного возраста — всю его длинную жизнь, многолетние его хождения следом за отарой, и не одного этого чабана, а и всех его волкодавов, всю походную арбу, и тех волкодавов, каковые зараз при нем бездельничают. А это ох как трудно. Да еще придется тебе коснуться и того неживого Силантия Горобца, какового изделали из железа и поставили у всех на виду. Стоит он себе посреди Мокрой Буйволы и в ус не дует. Ить другие чабаны не стоят, а он стоит. Через почему стоит? Через потому, как я понимаю, что живой Силантий Горобец всю свою жизнь отдал овцам. Как переложить такое на бумагу, где взять столько слов? Да и душевного беспокойства доведется истратить немало. Так что не начинай, парень, не надо…»
«А вы, бабуся, как считаете? Писать или не писать?» — мысленно обратился я к бабушке. «Ой, внучек мой, Мишуха, ой, шо мне считать и шо не считать? Ты же знаешь, женщина я малограмотная, темная, в тех твоих писаниях ничего не смыслю. Тебе писать, тебе и кумекать. Поступай, Мишуха, як лучше. Як душа подсказывает, так и действуй. Известно, моя жизня у всех хуторян на виду, ее можно было бы описать, тут ничего лишнего не надо выдумывать или добавлять. В моей житухе, ежели до нее приглядеться, было всего с верхом ж вдоволь — и слез и радостей, и наград и нагоняев. А вот як все это изложить на бумаге — не знаю. Тебе, Мишуха, виднее, шо и як. Только я так скажу: не осилить тебе ту тяжесть, надорвешься. А почему я так сужу? Да потому, шо тебе известно про мою жизнюшку только то, шо я успела тебе рассказать. А ить этого же мало. Так шо лучше не берись за это дело…»
Андрей Сероштан сперва рассмеялся. Не ждал от меня такого вопроса. Долго чесал затылок, потом сказал: «Ах, черт возьми! Это даже заманчиво! И вопрос-то важный, не простой. Овцеводческий комплекс, конец степному чабанству — это же событие! Так что советую, Михаил, испробовать свои силы и свой талант. Рискни, прояви смелость. Теперешние овцеводы того заслуживают, ей-богу! Вообще, из личного опыта знаю: во всяком деле требуется смелость и риск. Разве я не шел на риск — ого-го, да еще какой! — когда затевал строительство овцекомплекса в Мокрой Буйволе? Так что рискни и ты, да берись за дело посмелее. А что? Ты что теряешь? Ничего! Получится роман или повесть — хорошо, пусть люди читают и знают про нашу текущую жизнь, а если не получится — ну что ж, так тому и быть. Только пиши, Михаил, не обо мне, не о моей персоне, этого делать не надо. Напиши про наших овцеводов, каковые уже не носят ярлыгу на плече и не шаблаются по степи, и про будущее овцеводческого края…»
Мой дядя Анисим Иванович на мой вопрос ответил, как ему и полагается, с твердой убежденностью: «Пиши! Некоторые из которых могут тебе не посоветовать, а я говорю: пиши! Дорогой племяш! А я-то, я допрежь, припомни, на что тебя нацеливал? Именно на это самое мероприятие! Говорил тебе и еще скажу: пиши роман! И пиши только про меня, Анисима Ивановича Чазова, потому как лучшего положительного героя на наших хуторах и на наших селах днем с огнем не отыскать. Да и писать-то про меня легко и просто: бери всю мою жизнь целиком и полностью, с моего рождения под чабанской арбой и до сегодняшнего дня, — все годы свои от овец не отлучался и на день. Бери все мои награды, всю мою славу, клади все это на бумагу, и клади смело, без всяких сомнений… Тут что самое заглавное, дорогой племяш? Самое заглавное — правда жизни, и ежели ты изобразишь Анисима Ивановича правдиво, то есть таким, каким он ходит по земле, какие в нем живут убеждения насчет овец, то вот тебе уже и готовый положительный типаж, и успех тебе обеспечен. И об моих соломенных овчарнях скажи правду, ту самую правду, каковая живет в душе настоящего чабана…»
Бессонница привела меня в село Скворцы, к начальнику райавтобазы Степану Ефимовичу Лошакову, с которым я познакомился недавно. Это был красавец мужчина, с светлыми, вьющимися волосами, молодой, стройный. Он внимательно выслушал мои вопросы, долго и пристально смотрел на меня, чуть заметно сгибая в удивлении тонкие брови, потом красиво улыбнулся и сказал: «Толковая задумка, очень толковая. И позволь мне понимать твои вопросы так: ты нацеливаешься на мою персональную личность? Так, а?» — «Допустим, что так». — «Хорошо, прекрасно! Я даю свое согласие, но при одном непременном условии». — «Какое же это условие?» — «Описание должно быть без очернения. Это первое. Второе: описывай правдиво, красочно, достойно, то есть, что называется, во весь мой рост, и пиши смело, сочными мазками, без боязни и без всякого зазрения совести. Тут нечего вилять хвостом и действовать с подковырками, черня и пачкая, как это сделал один наш местный писака. Ежели в голове твоей сидит фельетон и эдакое зубоскальство, то лучше забудь эту свою мысль, ибо к добру она не приведет. Я люблю справедливость, я поборник правдивого слова, и никакой клеветы на свою личность и всякой несправедливости не потерплю. Об чем и предупреждаю заранее…»
Совсем неожиданно и по-своему ответила на мои вопросы Ефимия: «Миша, милый мой дуралей! — говорила она, играя бесовскими глазами и поправляя над висками ячменные завитки. — И что за вопросы? И кому ты их задаешь? Да ведь меня надобно не описывать, Миша! Меня надо любить! Удивляюсь, как ты этого еще не понял? Вот и люби меня и ни о чем другом не думай. Пусть героиней твоего романа будет другая, а мое святое дело — любить тебя, а твое — любить меня… Неужели, Миша, тебе этого мало?»
16
Те же вопросы были заданы и Артему Ивановичу Суходреву, только уже не мысленно, а наяву. Было раннее утро, когда я подходил к конторе совхоза. Холодное осеннее солнце только-только поднялось над степью, озарив, словно бы отблеском пожара, полнеба и все село, заполыхало в окнах двухэтажного здания. Я поднялся по крутой каменной лестнице и вошел в просторную светлую комнату. Вдоль ее стен вытянулись диваны, в ряд выстроились стулья, и я понял, что это была та самая приемная, которая не имела ни стола перед директорским кабинетом, ни секретарши, и мне это показалось несколько непривычным и даже странным. Из пухлых дверей, надежно обложенных ватой и обшитых черным дерматином, выходили люди, одни с веселыми, радостными лицами, другие мрачные, чем-то озабоченные. Я тоже прошел в эту дверь и увидел Суходрева, пожимавшего руку какому-то лысому коренастому мужчине в куцем пиджаке.
— Ну, действуй, Василий Николаевич, — говорил Суходрев. — И действуй смело! Чтоб никаких отступлений и оглядок.
— Я понял тебя, Артем Иванович, — отвечал лысый мужчина, сжимая в руке картуз. — Все будет сделано!
Суходрев проводил лысого мужчину до дверей, увидел меня, протянул руку и сказал:
— Ба! Михаил Чазов! И без бороды!
— Вот побрился…
— И правильно сделал, что снял эту чудаковатую растительность. У нас тут юные бородачи не в моде. — Он взял меня под руку. — Какими судьбами? Проходи, проходи, рад тебя видеть. Но, признаться, не ждал в такую рань.
Я сказал, что ночевал у тетушки Анастасии Кучеренковой.
— Да-да, я и забыл, у тебя же в Богомольном полно родичей. — В глазах у Суходрева затеплилась знакомая мне хитрая улыбочка. — А Таисия доводится тебе двоюродной сестрой. Прекрасной души женщина, я бы сказал — удивительная! И эта ее таинственная, полная романтики любовь, и то, что счастливее Таисии Кучеренковой в Богомольном женщины не отыскать. Вот о ком бы написать повесть, а то и поэму.
— Артем Иванович, а я как раз об этом и хотел с тобой посоветоваться.
— Какой же нужен мой совет?
— Хочется мне описать, но не Таисию, а тебя, Суходрева, директора совхоза «Привольный». Как полагаешь, смогу?
— Ах, меня?.. Вот ты о чем. — Он щурил глаза, и в них блестела все та же хитрая усмешка. — Полагаю, что не сможешь. И не берись, не трать напрасно время.
— Почему?
— Ну хотя бы потому, дорогой Михаил, что жизнь-то наша только с виду кажется простой и обыденной. А приглядись к ней, да попристальнее. Она не стоит на месте и напоминает собой горную реку во время весеннего половодья, постоянно находится в бурлении, в движении, и сегодня она такая, а завтра, глядишь, уже стала совсем иная, со своими новыми берегами, глубинами и перекатами. И чтобы написать об этой жизни правдиво, искренне, необходимо из громадного бурлящего потока выхватить именно то, что нужно. А что нужно? К примеру, тебе известно? К тому же, тут никак не обойтись без показа нашего брата руководителя, таких, как я, как мои соседи. А показать нас — это не так-то просто. Опишешь нас такими, какие мы есть в действительности, а мы, прочитав написанное, скажем, что мы совсем не такие, и обидимся на автора. — Он посмотрел на меня, ухмылочка все так же светилась в его глазах, и нельзя было понять, что она говорила. — Не по этой ли причине некоторые ныне здравствующие литераторы так сдружились с временем давно минувшим, с милой их сердцу стариной-старинушкой? Там, во времени прошедшем, все давно улеглось, все как следует отстоялось, что было, то было, вставали на свое место и события, и исторические лица, — бери, описывай, и никто тебя ни в чем не упрекнет: нет живых свидетелей. А если описан день сегодняшний, то есть та самая бурная река в весеннем разливе, и если автор показал не только достоинства того или иного сельского вожака, а и его недостатки, то тут же уже возникают возражения. А если какой-либо вожак в отрицательном герое узнал самого себя, то он бросается в амбицию: как так?! На каком основании? Кто позволил? Я так не говорил, я не такой! А-ну, подавайте мне сюда автора! Почему посмел описать меня так, как ему вздумалось? Это же клевета! Ему разъясняют, растолковывают, что это описан не он, что тут даже фамилия другая.
А обиженный вожак не унимается: безобразие, этого я так не оставлю! — Суходрев наклонил лобастую голову, некоторое время молча покручивал пальцами светлый чубчик. — Степан Ефимович Лошаков, милейший товарищ — да ты же его знаешь! — как-то на досуге прочитал роман «Степные зори» и в отрицательном герое узнал себя. Вот тут наш смирный Лошаков и взбеленился, выступил на собрании районного актива и обвинил нашего местного автора во всех тяжких… А ты собираешься описывать меня. Я — не Лошаков, заранее говорю: обижаться не стану. Но если ты опишешь меня таким, какой я есть, тебе же никто не поверит, будь ты хоть самим Львом Толстым. Назовут выдумщиком, брехуном и будут правы. Где, скажут, автор увидел в реальной жизни такого директора? Выдумка! Нет таких директоров! Еще и потому нельзя меня описывать, что во мне нет ничего типического, то есть нет таких качеств, которые присущи современному руководителю совхоза. — Он снова помолчал, повертел пальцами чубчик. — Сообщу доверительно: по всему видно, мне придется покинуть этот высокий пост.
— Это что еще за новость?
— Да, новость, — грустно ответил Суходрев. — Пока что она известна одному мне, да вот теперь еще и тебе.
Я замечал: когда Суходрев волновался, то всегда отходил к большому окну. Подошел он к нему и теперь и, щуря глаза, молча смотрел на все еще полыхавший за селом восход.
— Недавно был у меня весьма серьезный разговор с Караченцевым, — глядя в окно, говорил он как бы сам с собой. — Караченцев запретил проводить выборы директора «Привольного» — ни тайным, ни открытым голосованием. Директор, говорит, лицо не выборное.
— Так оно и есть, — сказал я. — Все директора, как известно, назначаются.
— И мне это известно. — Суходрев долго смотрел в окно и молчал. — Все могут, а я не могу. Понимаешь, Михаил, я не могу руководить людьми, не получив от них на то полномочия, то есть не узнав, хотят ли они иметь своим директором именно меня.
— И чем же окончился ваш разговор?
— Тогда — ничем. А вчера Караченцев позвонил и предложил мне новую должность.
— Какую?
— Заведующего районным парткабинетом. — Суходрев скупо, нехотя улыбнулся. — По натуре ты, говорит, не хозяйственник, а пропагандист, и тебе надо заниматься не овцеводством, а вопросами партийного просвещения. Подумай, говорит, об этом хорошенько и позвони мне. Вот я и думаю до одури в голове.
— И что же надумал?
— Ровным счетом ничего.
И он, продолжая смотреть в окно, надолго умолк. Чтобы как-то нарушить затянувшееся молчание, я спросил:
— Артем Иванович, как обходишься без секретарши?
— Заметил?
— Так ведь нетрудно.
— Обхожусь… Можно сказать, помаленьку упрощаю жизнь.
— Ну и как, упростил?
— Сделаны только первые шаги. — По лицу Суходрева еще шире расплылась ухмылочка, как бы говорившая: «Нет секретарши — это что, мелочь, есть дела и покрупнее». — Какую мы имеем реальную выгоду? Не ту, что сократили несколько штатных единиц, хотя и это тоже выгода, а ту, что в Привольном покончено с тем социальным злом, имя которому бюрократизм. Верно, попервах всем нам казалось как-то непривычно, особенно моему заместителю, Илье Федоровичу Крамаренко. Он и сейчас, бедолага, мучается, никак не может без секретарши. А чего мучиться? Если ты в кабинете, то и нет нужды у кого-то спрашивать особого разрешения: можно ли к тебе войти? Сейчас ко мне, пожалуйста, входи всякий, кто желает. В том же случае, когда желающих набирается слишком много, то для этого в приемной комнате имеются диваны, стулья, можно посидеть, подождать, отдохнуть.
— И бывает так, что посетителям приходится ждать?
— Представь себе, после того как был снят запрет, не стало никаких очередей, — ответил Суходрев, а улыбочка на его лице как бы договорила: «Можешь записать, а потом проверить и убедиться, только не надо удивляться, ибо на деле все это происходит обыденно и просто». — Как это бывает? Скажем, приходят мужчина или женщина к директору по делу, — а без дела кто бы пришел? Открывай дверь и, пожалуйста, входи без всякого на то разрешения, садись к моему столу и говори, зачем пришел. Вот и все. Если у посетителя дело важное, он пробудет подольше, если же дело пустяковое — уходит сразу. Так что не бывает никаких очередей. А что здесь было раньше? Доходило до смешного! Чтобы попасть на прием к директору, надо было записаться в очередь, как обычно записываются, когда хотят купить узбекский ковер или хрустальную вазу. Неделями люди ждали своей очереди, ждали и проклинали директора. А кому такие, с позволения сказать, порядки нужны? Никому! Те искусственные преграды, которые со столами и секретаршами встают перед дверями многих кабинетов, на деле приносят один лишь вред, обозляют людей и усложняют их жизнь. В нашем же общенародном государстве — и в этом я убеждался не однажды, — тот, кому необходимо повидаться и поговорить с директором совхоза или председателем колхоза, своего обязательно добьется. Так зачем же заставлять человека нервничать, злиться? Я рассуждаю так: если со мною как с директором или просто как с Суходревом кто-то желает повидаться, поговорить или обратиться с просьбой, то как же можно препятствовать ему в этом? Вот почему теперь заведен у нас порядок: пожалуйста, заходи ко мне в любое время и без всякого спроса… Кстати, у Владимира Ильича в числе других достоинств руководителя на первом месте стоит одно из важнейших — его доступность, то есть возможность каждому и в любое время встретиться со своим руководителем и поговорить с ним. — Он улыбнулся своей хитрой улыбочкой. — Как-то заглянул ко мне мой сосед Тимофей Силыч Овчарников, председатель колхоза «Путь Ленина». Оригинал, каких мало. Вот кому, верно, без секретарши нельзя жить. Так вот, он приехал ко мне и сразу с упреком: «Артем Иванович, ты же форменный дурак. Зачем сам себя, добровольно, лишил надежной охраны? Да эти посетители, жалобщики, ежели их не сдерживать, оседлают тебя так, что ты потеряешь спокойную жизнь и погибнешь. Это я тебе точно говорю — погибнешь». А я вот живу, и ничего, чувствую себя нормально… О! Да ты посмотри, кто подкатил! — воскликнул Суходрев, глядя в окно. — Сам Степан Ефимович Лошаков! Ну и легок же на помине. Да ты подойди и взгляни. Ну, каналья, ну, умеет показать себя! А какая важность на челе! А какая осанка! А как вышел из автомобиля! Артист, честное слово, артист!
17
Вошел мужчина выше среднего роста, удивительно моложавый, ему не дашь и тридцати, лицо свежее, белки глаз чистые, эдакий сельский франт и красавец. В общении а людьми был по-приятельски прост, вежлив, излишне любезен, с каждым умел поговорить, что называется, на короткой ноге. По тому, как улыбалось его свежее молодое чисто, до синевы, выбритое лицо, по тому, как легко и свободно он ступал ногами, обутыми в щегольские сапожки с короткими голенищами и низкими каблуками, нетрудно было догадаться, что этот здоровяк не знал ни бессонниц, ни ночных раздумий. Голова у него была курчавая, как у деревенского парубка, светло-золотистые волосы имели такие мелкие и плотные завитки и завитушки, особенно на затылке, что они, казалось, уже не подчинялись никаким расческам. Широкие плечи, загорелая крепкая шея, как у штангиста полусреднего веса. На нем был костюм из тонкого немнущегося полотна цвета спелой полыни, с отблеском солнечного луча, — обычно такие костюмы носят в этих местах те, кому часто приходится иметь дело с дорогой и автомашиной. Брюки были вобраны в короткие голенища, образуя над ними небольшой напуск, на расстегнутой свободной куртке как-то уж очень наглядно оттенялись накладные карманы, пришитые по бокам и на груди.
Тех, кто близко знал Степана Ефимовича Лошакова, поражала одна особенная черта его характера: он умел исполнять любую должность, и поэтому решительно и с одинаковым желанием брался за какую угодно порученную ему работу, при этом говоря: «Я — солдат партии, и воля ее для меня закон». О нем говорили: Степана Лошакова в воду окуни, а он выйдет из нее сухим. В свои тридцать пять лет он ухитрился переменить четыре или пять должностей. Сразу же после окончания института молодого специалиста с дипломом агронома и с курчавой головой почему-то, по выражению самого Лошакова, «бросили» на «Водоканалтрест», и он принялся за дело с таким душевным порывом, что, казалось, и родился только для этой должности. Однако, не проработав в «Водоканалтресте» и года, Лошаков сумел оставить город без воды и по этой причине был срочно, и опять же не снят, не освобожден, а «переброшен», теперь уже на должность директора какого-то только что созданного научно-исследовательского института, который усиленно занимался наукой по удлинению шерсти тонкорунной породы овец. На этой должности Лошаков не только успел написать, а и каким-то образом сумел защитить кандидатскую диссертацию на тему: «Тонкая и длинная шерсть как фактор подъема экономики овцеводства». Но вскоре ученый-овцевод вдруг, ни с того ни с сего был «переброшен» — невозможно поверить! — на аптекоуправление, где, правда, проработал недолго, что-то всего недели две или три. После аптекоуправления руководил ремстройконторой, занимался ремонтом жилых и нежилых помещений и мелким строительством и за короткое сравнительно время построил для себя на живописной окраине Ставрополя небольшой и довольно-таки уютный домишко под железной крышей. Но и в ремстройконторе Лошаков надолго не задержался, потому что были выявлены какие-то финансовые нарушения. Не раздумывая, он быстро продал свой уютный домишко и был опять же «переброшен» на элеватор! Почему на элеватор? Почему, скажем, не на мельницу? История об этом умалчивает. И наконец, после элеватора мило улыбающийся курчавый кандидат наук был «брошен» в сельский район на должность начальника автобазы.
— А что, черт тебя побери! — сказал Лошаков приятным тенорком, крепко пожимая Суходреву руку. — Да без нее, без твоей прелестной Тонечки, слышишь, Артем, без этой канальи даже как-то эдак, забавно и удобно. И нет нужды беспокоиться насчет цветов, потому как их некому преподносить. Артем, ты же знаешь мою привычку: никогда не вхожу в приемную без цветов. А особенно, когда бываю у Овчарникова. У него Лидочка — не секретарша, а одна сплошная красота! Глаз нельзя отвести! Да и у тебя сидела настоящая прима! Тонечка — это же прелесть!
Справедливости ради следует заметить: несмотря на частые переезды и свои восторги женской красотой, Лошаков был примерным семьянином и однолюбом. Лишь иногда, желая прихвастнуть, говорил: «Эх, брат, по своей натуре Лошаков готов любить разом всех красоток, какие только проживают в нашем районе, а не может, потому что любил и любит одну только свою жену».
Глядя на его цветущий вид, на золотисто-курчавую шевелюру, никак нельзя было подумать, что Степан Ефимович обременен заботами о двух дочках и одном сыне и что дородная его супруга скоро подарит ему еще одного наследника или наследницу. Весь его веселый вид как бы говорил, что трех малышей вообще не существует на свете, а о предполагаемом рождении четвертого Лошакову пока ничего неизвестно, и потому-то он был так по-завидному жизнерадостен, так по-завидному обласкан тем оранжевым загаром, который бывает на лицах и на шеях у здоровых мужчин, отлично знающих, что такое теплота южного степного ветра. Он бодро прошелся по кабинету, мягко ступая сапожками с короткими голенищами и низкими каблуками, и уж никак нельзя было поверить, что этот курчавый добряк мог так рассердиться, прочитав роман «Степные зори» и узнав себя в одном из героев.
— Степан, познакомься, — сказал Суходрев, кивнув на меня. — Наш гость и земляк Михаил Чазов, из Москвы.
— Как же, как же! — крикнул Лошаков, протягивая мне обе руки. — Мы уже знакомы! Ну что, Михаил Анатольевич, все познаешь нашу жизнь, присматриваешься к ней со всех сторон? Если что нужно, то могу подсказать. — Не дожидаясь моего ответа, обратился с Суходреву. — Артем, я заскочил к тебе по делу, и по весьма важному.
— Погоди о делах. — Суходрев хитро сощурил смеющиеся глаза. — Лучше скажи мне и Михаилу, еще никто тебя не описал в романе?
— А, шут с ними, с романами, — нехотя, грустно ответил Лошаков. — Теперь я романы не читаю, даже в руки не беру. Зачем портить себе нервы? — Снова прошелся по кабинету, как бы желая показать свои красивые сапожки. — Ну так как, Артем, работали в Привольном мои грузовики на переброске шерсти?
— Отлично.
— Иного ответа я и не ждал. Но хочу уточнить: Привольный полностью рассчитался за транспорт?
— Давно, — ответил Суходрев. — Через банк перечислено.
— Ну, а свое личное обещание когда выполнишь?
— Это какое же обещание?
— Ах, какой забывчивый! Позабыл, да?
— Честное слово, не помню.
— Артем Иванович, мне как-то неудобно напоминать. Дело-то житейское. Неужели позабыл? Как же так? А я надеялся…
Лошаков поглядывал на меня, и я понял: о своих, житейских делах им лучше было бы поговорить без меня. Так как мне нужно было сходить в аптеку и взять для бабушки лекарство, то я встал и ушел. Когда вернулся, Лошакова уже не было. Суходрев стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на пустую улицу. Был он мрачен, лицо покрывала странная, пятнами проступавшая на впалых щеках бледность. На мой вопрос о Лошакове Суходрев махнул рукой и сказал:
— Умчался… Жаль, не слышал конца нашего разговора… А вот и еще гость! Подъехал на пикапе. Кто бы это?
В кабинет вошел парень, с черным, спадавшим на лоб вьющимся чубом, похожий на цыгана, словно бы из театра «Ромэн». На его широких мясистых ладонях — следы машинного масла, на мизинце — кольцо с ключами от автомобиля, пиджак смят на спине, наверное, от долгого сидения за рулем. Парень из театра «Ромэн» держался смело, к столу подошел тем уверенным шагом, который как бы говорил, что приезжий был не из робкого десятка. Позвякивая ключами, он сказал:
— Артем Иванович, вам личный привет и наилучшие пожелания от Антона Спиридоновича! И вот от него личная записка. — Он протянул Суходреву свернутый вчетверо листок. — Я специально приехал не на «Волге», а на пикапе, так что ваш транспорт не потребуется.
Суходрев развернул записку, читал ее почему-то слишком долго, хмурил брови, закусывал губу и, прочитав, ничего не сказал.
— Так какое будет указание? — спросил похожий на цыгана парень. — Какие дадите распоряжения?
— Никаких, — не глядя на гостя, ответил Суходрев. — Да, ни указаний, ни распоряжений не будет.
— Как же, позвольте спросить, мне доложить Антону Спиридоновичу? Какими, извиняюсь, словами?
— Разумеется, русскими.
— А какими? Где взять те слова?
— Доложи так: в Привольном дураков уже нету, — еще больше бледнея худыми скулами, Суходрев подошел к окну. — И поясни, если не поймет: дескать, были дураки, да все перевелись.
— Так ведь записка! — воскликнул похожий на цыгана парень. — Лично вам! Антон Спиридонович ни за что мне не поверит.
— Ничего, поверит. Обязан поверить, человек он неглупый, — повернувшись к окну, говорил Суходрев. — Если же не поверит, что в Привольном дураки перевелись начисто, тогда пусть мне позвонит. Все! Разговор окончен, можешь уезжать.
Парень из театра «Ромэн» подбросил ключи и, ловко поймав их, зло покосился на Суходрева и ушел.
— А! Вот и еще гость! — теперь уже с улыбкой сказал Суходрев. — Дорогой мой соседушка! — крикнул он в окно. — Тимофей Силыч, прошу, прошу! — И обратился ко мне. — Наш широкоизвестный и прославленный Тимофей Силыч Овчарников пожаловал. Давненько он ко мне не заглядывал.
И он направился встречать гостя. Вскоре в дверях появился высокий, худощавый старик. На вид ему было лет под семьдесят, голова совершенно белая, без лысины и даже без залысин, коротко остриженные волосы густо лежали белым тонким войлочком. Одет он был так, как в этих местах одеваются хуторские мужики: на нем был обычный, поношенный костюм, рубашка без галстука и с помятым воротником. Внешне Тимофей Силыч Овчарников почему-то показался мне похожим на бахчевника. Глядя на него, можно было подумать, что он только что ходил по бахче, выбирал спелые арбузы и теперь привез их Суходреву. Бахчевник еще у порога обнял Суходрева за плечи, тепло, по-дружески, как бы желая этим сказать, что арбузы привез отменные. Подойдя к столу, он уселся в кресло, важно, всем своим костлявым телом, совсем не так, как садятся бахчевники. Из кармана вынул не обычный носовой платок, а полуметровой ширины украинскую хустку, с какими-то яркими замысловатыми цветочками, и начал ею вытирать худощавое, красное лицо. После этого кивнул на меня и, все еще не переставая работать хусткой, спросил:
— Артем, кто это у тебя?
— Знакомьтесь, Тимофей Силыч, гость из Москвы. Михаил Чазов.
— Не родич ли здешних Чазовых?
— Внук Прасковьи Анисимовны и Ивана Тимофеевича Чазовых, — за меня ответил Суходрев. — В газете работает.
— А! Внук знатных чабанов! Это хорошо, — сказал Тимофей Силыч, глядя на меня в упор подслеповатыми глазами. — Прошу ко мне, в мои Беловцы, ежели, конешно, желаешь увидеть настоящий колхоз.
— Да, желаю, — ответил я. — И непременно побываю в Беловцах.
Наступила пауза, и Суходрев поспешил спросить:
— Тимофей Силыч, вы по делу?
— А без дела, как тебе известно, я никуда не езжу, — ответил Овчарников, снова пустив в работу хустку. — Имею к тебе кое-какие соображения делового свойства. — Он шумно высморкался в хустку с цветочками, сунул ее в карман. — Только не знаю… как бы это, чтобы мы одни.
— Говорите, говорите, Тимофей Силыч, — поспешил сказать Суходрев. — Михаил Чазов — человек свой. Так что не стесняйтесь.
— Дело-то у меня не секретное, стесняться нечего, — сказал Овчарников. — Я имею к тебе, Артем, соображения относительно твоего подчиненного. Сероштана. — Тимофей Силыч извлек из кармана хустку и старательно вытер ею лицо. — Запрети Сероштану встречаться с моим бригадиром Карантиным. Живут они, как известно, соседями, поле в поле, ну, частенько встречаются на меже и заводят там разговоры.
— Не понимаю, Тимофей Силыч, зачем же им запрещать встречаться на меже? — спросил Суходрев, пожимая плечами. — Ведь соседи же.
— Такие их встречи ни к чему, — твердым, начальственным голосом ответил Овчарников. — Прикажи Сероштану, чтоб не портил моего лучшего бригадира. — Это было сказано еще тверже, и теперь Тимофей Силыч уже не был похож на бахчевника. — Ить что получается? Своими разговорами Сероштан сбивает с панталыку моего Карантина, вталкивает ему в голову черт знает что!
— И что же он вталкивает ему в голову? — спросил Суходрев.
— Разную прочую чепуху мелет, — уже сердито сказал Тимофей Силыч, и сходства с бахчевником в нем совсем не стало. — Мне, говорит твой Сероштан, работается легко. Меня, дескать, вся Мокрая Буйвола выбирала, и не как-нибудь, а тайно, а ты, Карантин, на своем хуторе Каяла ходишь, дескать, в самозванцах. И еще такое говорил: ты, Карантин, дескать, служишь не твоим хуторянам, а Овчарникову. Это что за разговорчики, я тебя спрашиваю? И к чему моему Карантину эти ваши тайные голосования? Ни к чему. Чего забивать парню голову разными пустяками? И ежели Карантин хорошо служит мне, стало быть, Овчарникову, то этим самым он угождает своим каялинцам. А как же иначе? Иначе никак нельзя. Я сам, без тайного голосования, знаю, кому быть бригадиром. У меня их шестнадцать, я назначаю лучших из лучших, и завсегда точно и безошибочно… Так что, Артем Иванович, пусть Сероштан прекратит встречи на меже, пусть не сбивает с панталыку моего лучшего бригадира.
— Приказать не встречаться нельзя, — ответил Суходрев, пряча в глазах озорную улыбку. — Сами понимаете, не имею права.
— Как это — «не имею права»? — тем же своим строгим голосом спросил Овчарников. — Какой же ты директор после этого?
— Сами понимаете, неудобно, не демократично, — сказал Суходрев. — Люди свободны в своих действиях…
— Ну-ну, скажи кому-то другому, а не мне. — На сухом строгом лице бывшего бахчевника показалось что-то похожее на улыбку. — И без этого, без церемоний. Мы не в прятки играем, а руководим. Прикажи Сероштану своей властью, вот и будет полная демократия.
— Ладно, попробую что-то сделать. — По вдруг загрустившим глазам Суходрева я понял, что это было сказано только для того, чтобы поскорее отделаться от соседа. — Другие соображения, Тимофей Силыч, у вас имеются?
— Пока не имею.
— Вот и хорошо.
— Так ты не забудь, вызови к себе Сероштана и прикажи.
После этих слов Тимофей Силыч не спеша и тяжело поднялся, и теперь он уже снова был похож на старого бахчевника. Он как бы вспомнил, что ему надо быть на бахче, попрощался с нами за руку, еще раз пригласил меня в свои Беловцы и направился к выходу. Суходрев проводил гостя до его «Волги». Вернулся, уселся за стол и сказал, не обращаясь ко мне, а как бы говоря с самим собой:
— Вот оно что, старик испугался встречи своего бригадира с Сероштаном. А почему испугался? — Он не ответил на свой же вопрос и долго сидел молча. — А Лошаков-то приезжал ко мне знаешь по какому делу?
— Не знаю.
— Хотел заполучить валушка. Шашлык, свежая баранина, да еще и даром досталась. Вот она где суть. — Он потер ладонями впалые худые щеки. — Да,
трудноватая должность у директора овцесовхоза. — Он обратился ко мне: — А эта записка, которую доставил цыганковатый шофер? Возьми почитай. Ручаюсь, такого яркого сочинения нигде не встретишь.
Я взял записку и прочитал:
«Артем Иванович, и так и далее, ясное море, так что будь здоров, дорогуша, и чтоб без кашля, и пойми меня правильно, ибо шашлык как таковой — это же вещь, а проще — всего только один валушок и ничего больше, и я надеюсь, глубоко верю, что ты по-приятельски вручить надлежащее подателю сего, как и полагается, ясное море и так и далее…»
— Ну как «штиль»? — спросил Суходрев.
— На каком языке это написано?
— Послушай, Миша, не станем гадать, на каком языке написано сие сочинение, а махнем по отделениям, — вдруг сказал Суходрев весело. — Побываем на хуторах, в селах, пообедаем в столовке, где уже нету кассира, Посмотрим амбары без замков. Поедем, а?
Я согласился.
Часть третья
1
В разных местах их называли по-разному. То средним звеном, то, подражая военным, председательским корпусом, а то и просто — сельскими вожаками. Мне пришлось повидаться с ними и в Скворцовском, и в других районах, разговаривать по душам, присматриваться к ним, к образу их жизни, к их повседневной работе, и всякий раз эти сельские вожаки в моем сознании делились на три группы: молодых да пригожих, трудяг-середняков и широкоизвестных и прославленных.
В первую группу входили молодые да пригожие, кому не подошло и к тридцати пяти и у кого на голове по-парубоцки еще красовались роскошные шевелюры, — у таких молодцов все было впереди. Как правило, молодые да пригожие от других руководителей отличались главным образом не тем, что носили завидные шевелюры, а тем, что были энергичны, деловиты, имели среднее или высшее сельскохозяйственное образование. О них можно было сказать: люди образованные, начитанные, в делах проявляли горячность, свои мнения и суждения высказывали открыто, предложения вносили оригинальные, смелые. Любили разного рода новшества и нововведения, в хозяйстве что-то перестраивали, что-то изменяли, что-то вводили новое и упраздняли что-то старое.
Так, Артем Иванович Суходрев, как мы уже знаем, сразу же отказался от услуг секретарши, и только потому, чтобы к нему можно было войти кому угодно и когда угодно, а при помощи тайного голосования провел выборы управляющих отделениями, и все это не без пользы для общего дела. Иван Прокофьевич Вавилов, директор совхоза «Октябрьский», с наступлением весны переводил свою контору в полеводческий комплекс под тем предлогом, чтобы руководители служб до поздней осени находились бы поближе к производству. Андрей Лукич Дронов, председатель колхоза «Заре навстречу», запретил себе и всем, кому полагалась по должности служебная машина, пользоваться услугами шоферов.
— Хочешь быстро и удобно передвигаться — сам садись за руль и поезжай, — говорил он. — А шофера нам нужны на грузовиках, вот пусть они там и трудятся.
— А ежели кто не умеет управлять рулем, не научился?
— Стыдно не уметь, стыдно! Это же позор нам, молодым, сидеть рядом с шофером! Отныне устанавливается порядок: не умеешь управлять рулем — научись. Вот в чем задача.
На собраниях районного актива молодые да пригожие держались солидно, приходили не в картузах, а в фетровых шляпах, в новеньких костюмах, при галстуках. Слово в прениях брали первыми и, быстро поднявшись на трибуну, говорили не по заранее написанному, и, что тоже важно, говорили толково, дельно, горячо, не стесняя себя ни в критике, ни в самокритике. Обычно в президиум их не сажали, наверное, преднамеренно держали на почтительном расстоянии от этого места, желая этим показать, что до такого почетного стола они еще не доросли.
Несмотря на различие привычек и характеров, на разность методов руководства хозяйством, все молодые да пригожие в одном были схожи: в своем откровенном неравнодушии к сельским красавицам — что тут поделаешь, молодость! Но вот проходили годы, и у одних молодых да пригожих как-то сама по себе остывала былая горячность в работе, во внешнем облике появлялась эдакая показная солидность, у других, неизвестно почему, притуплялось желание, заниматься какими-то новшествами, реформами, и у всех постепенно исчезало неравнодушие к женской красоте. Кто-то из них уже успел поменять буйную шевелюру на порядочную, шириной в ладонь, лысину. У кого-то побелели виски, будто их прихватило изморозью. Так, с годами, одни молодые да пригожие пополняли ряды трудяг-середняков, других переводили в районное село на какую-нибудь второстепенную работу. На их же места приходили новые молодые да пригожие, чем-то и похожие на тех, кого они заменили, и чем-то на них уже не похожие.
Вторую группу сельских вожаков составляли трудяги-середняки, кому было уже под пятьдесят, а то и за пятьдесят и кто частенько приглаживал ладонью редкие волосы, желая ими хоть как-нибудь прикрыть лысину. Трудяги-середняки всегда находились в сторонке и как бы в тени: на людях они были застенчивы до крайности, на собраниях немногословны. Одевались просто, по-деревенски, в работе были старательные, исполнительные, частенько забывали и поесть и поспать. Свое суждение о текущей жизни или какую-то свою мысль о политике никогда не высказывали, услышанные смешные анекдоты им казались не смешными, они тут же про них забывали, и не потому, что боялись или стыдились смешную историю рассказать другим, а потому, что у них не было для этого ни времени, ни желания. В летнюю пору трудяги-середняки дома не ночевали, на сельских красавиц не заглядывались, всем своим существом входили в работу, ею и жили. Рассказывала, что один такой старательный трудяга-середняк, Петр Петрович Кривоносов, в суматохе повседневных дел месяца два провел в поле и на животноводческих комплексах, как-то неожиданно заглянул в свой дом. Жена, увидев мужа дома, страшно обрадовалась и сказала:
— Петя! Ну, наконец-то ты дома!
— Да вот заехал, — смутившись, ответил Петр Петрович.
— Петя, ты хоть сегодня заночуй дома. Заночуешь, а?
Петр Петрович долго не отвечал, тер ладонью сморщенный лоб, о чем-то мучительно думал.
— Не могу, Глаша, — сказал он, виновато мигая глазами. — Ведь надо же выполнять план. Не обижайся на меня, Глаша, работа у меня такая…
— Петя, а ведь я-то не Глаша, а Клава, — с грустью сказала жена, и на глазах у нее показались слезы, — Имя собственной жены позабыл.
— Да неужели Клава? — искренне удивился Петр Петрович. — Ах, проклятый склероз! Беда, запамятовал.
Для трудяг-середняков план — это вся их жизнь, и выполнить его, а то и перевыполнить нужно было во что бы то ни стало. Поздно осенью, перевыполнив все планы, они приезжали на собрание районного актива, чтобы поговорить об итогах года, и тут, держались не на виду, были молчаливы даже во время перерыва, когда фойе гудело голосами, на трибуну их не тянуло. Если же случалось, что кто-то из них получал слово в прениях, то говорил он мало, не использовав и половины установленного регламента. Были случаи, когда кого-то из трудяг-середняков, самого достойного, избирали в президиум, тогда он не лез к столу, на глаза всего зала, а примащивался где-то в глубине сцены, так что виднелась только ярко освещенная его желтая лысина. В благоприятные по погодным условиям годы им удавалось вырастить высокий урожай зерновых, перевыполнить планы по мясу, молоку, шерсти, яйцам и т. д. За эти успехи трудяги-середняки получали правительственные награды, и кто-то из них, надо полагать самый достойный, становился Героем Социалистического Труда и пополнял ряды широкоизвестных и прославленных. Большинство же трудяг-середняков, когда подступали их годы, уходили на пенсию, числились в ветеранах, занимались внуками и своими огородами или пчелами.
Наконец, к третьей группе сельских вожаков относились руководители широкоизвестные и прославленные не только в своем районе или крае, а даже и во всей стране. В большинстве своем мужчины пожилые, калачи, как говорится, тертые, житейским опытом умудренные, личности, как правило, удивительно яркие, самобытные, на вид представительные. Их портреты мастера кисти пишут непременно маслом и обязательно на фоне колосьев спелой пшеницы, скульпторы высекают из гранита их бюсты, газеты и журналы печатают о них очерки, фотографии. От молодых да пригожих, от трудяг-середняков, широкоизвестные и прославленные отличаются еще и тем, что избалованы вниманием, почестями и славой. За свой многолетний и безупречный труд они успели получить такие награды, какие только можно было получить, стали депутатами Верховного Совета, Героями Социалистического Труда, лауреатами. Они привыкли к своему особому положению: жили, что называется, в зените славы, как орлы живут в поднебесье, и с этой высоты смотрели на землю и на обыкновенных смертных то взглядом строгим, почти орлиным, то очами ласковыми, отеческими и покровительственными. Они были убеждены в своей незаменимости и потому, давно перешагнув пенсионный возраст, даже и не помышляли о том, чтобы уйти на заслуженный отдых.
— Ну хорошо, я могу оставить свой пост, могу, — говорили они. — Но как же вы без меня? Как, а?
— Да как-нибудь, — слышался робкий ответ.
— Э нет! Как-нибудь не пойдет! Без меня, хлопцы, ничего путного у вас не выйдет. Вот так-то! Правильно я говорю, а? Правильно?
Тут же, как говорится, под рукой, находились не то чтобы какие подхалимы или льстецы, а просто рьяные доброжелатели, они и отвечали дружным хором:
— Именно, именно, как-нибудь — не пойдет! Антон Никифорович, вы говорите совершенную правду. Мы без вас как без рук!
— Ну вот, дошло! А я-то вам о чем растолковываю?
В сравнении с молодыми да пригожими, с трудягами-середняками, широкоизвестных и прославленных в каждом районе было мало: два или три — не больше, а в Скворцовском, к примеру, только один — Тимофей Силыч Овчарников. Следует указать на одну характерную особенность: широкоизвестными и прославленными большинство из них стали не сегодня и не вчера, а еще при жизни Сталина. Многие годы они чтили его высокий авторитет, называли вождем и учителем, лично ему посылали рапорты о выполнении и перевыполнении плана и лично от него получали поздравления. То далекое время ушло, широкоизвестные и прославленные заметно постарели, но им и теперь казалось, что окружающая их жизнь осталась такой, какой она была: так же, как и в годы их молодости, им приходилось бороться за перевыполнение плана, посылать рапорты и получать поздравительные телеграммы; так же, как и раньше, проходили торжественные заседания, собрания районного актива, конференции, где их, как и раньше, избирали в президиум. И все же широкоизвестные и прославленные чувствовали, что в нынешней жизни вроде бы чего-то существенного недоставало, что изменилось что-то важное, значительное не только на ее поверхности, а и в ее глубинах, и до этой причине на образ их мышления легла печать какой-то неопределенности, смешения прошлого с настоящим. Больше всего это было видно на отношении широкоизвестных и прославленных к новшеству, к переменам, — отношения эти были не то чтобы консервативные или равнодушные, а какие-то, излишне рассудительные, с непременным желанием пофилософствовать и показать свое глубокое знание жизни.
— И зачем нам эти новшества, когда у нас и так вокруг новое? — говорили одни. — Зачем нам менять готовенькое, привычное на не готовенькое, на не привычное? Это же надо быть человеком легкомысленным, а то и круглым дураком.
— И зачем нам заниматься новаторством? — говорили другие. — Наше хозяйство и так новое, оно идет вперед и вперед, как ему и положено идти, и планы у нас завсегда перевыполняются.
— Можно сослаться на наглядный пример, — рассуждали третьи. — Грузовик исправно катится по асфальту, так и пусть себе катится, и водителю, ежели он не дурак, нет нужды притормаживать, или на ходу что-то менять в моторе, или, допустим, что-то переделывать в колесах. Или ускорять бег? Кому это нужно? Никому! Зачем нам переделки? Зачем ускорения? Кому они могут принести пользу? Никому! Вот ежели последует указание… Тогда другое дело.
Указание — это для них закон. Так было раньше, когда они еще были молодыми, так осталось и теперь. И поэтому, когда повсюду началось сероштановское движение за перевод овцеводства на стационарное содержание и всюду строились овцекомплексы, широкоизвестные и прославленные приняли это как указание и первыми последовали примеру Мокрой Буйволы, при этом сказав:
— Комплексы так комплексы, раз надо, значит, надо.
На собраниях районного актива они всегда были на виду, груди у них блестели орденами и медалями, в разговорах с людьми были общительны, любили поучать молодых, давать им советы, всюду держались просто, как у себя дома, за стол президиума садились уверенно, положив перед собой туго набитый портфель. Широкоизвестных и прославленных никто не критиковал ни в печати, ни с трибуны — считалось неудобным, неприличным. Сами они, как правило, давно забыли, что оно такое — критика и самокритика, в прениях выступали последними, речь, которую им заранее писали расторопные помощники, читали ровным, монотонным голосом. И еще в их характере отмечалось что-то похожее на боязнь. И хотя держались они независимо, даже гордо, ходили браво, любили послушать анекдот, пошутить, посмеяться от души и при случае выпить рюмку водки — все же всегда чего-то побаивались. Один, к примеру Тимофей Силыч Овчарников, избегал встреч с односельчанами и поэтому надежно охранял свой кабинет от непрошеных гостей, называя их крикунами и скандалистами. Другой не любил тех, кто, выступая на собрании, критиковал недостатки, — их он называл выскочками и склочниками. Третий побаивался тех общих собраний, где его переизбирали на новый срок. И хотя такие собрания проходили открыто и хорошо было видно, кто поднимал руку «за», а кто «против», хотя на таких собраниях всегда присутствовал представитель райкома, в задачу которого входило порекомендовать колхозникам переизбрать своего председателя, — несмотря на все это, в груди, где-то под самым сердцем, таился эдакий неприятный, пугающий холодок: а вдруг не поднимут руки «за»? Но этого никогда не случалось. Люди у нас сознательные, все поднимали руки «за», и дружно.
2
ПИСЬМО МАРТЫ:
«Милый и далекий мой хуторянин! Вот и осень уже на дворе, заполыхали, как в пламени, московские бульвары, зашуршали на асфальте сухие листья, а тебя все нет и нет, и когда приедешь, когда мы увидимся — не знаю, не ведаю. Если бы ты знал; как мне тяжело одной, без тебя. Нет, видно, мужчинам, и тебе тоже, никогда не понять тоски и горечи нашего бабьего одиночества. Живу мыслями о тебе да еще о работе. Ее, к счастью, привалило немало. Министр готовит доклад, диктует часами, вот уже вторую неделю, поспевай лишь записывать. Расхаживает по кабинету, говорит громко, будто произносит речь, а я думаю о тебе, плохо слышу его голос и часто путаю слова. А прихожу домой, и опять то же горькое одиночество, та же мучительная тоска и та же боль на сердце, а от тебя, как на беду, так редко приходят весточки. Я перечитываю те письма, из которых узнала, что в Привольный ты добрался благополучно, угодив как раз на свадьбу своей сестры, как ездил на соседний хутор, к какому-то Сероштану. А хотелось бы узнать поподробнее, как ты живешь? Что делаешь? И когда приедешь? Неужели ждать еще до февраля? Твои письма обычно скупы, из них нельзя ничего узнать, как проходит у тебя жизнь на чабанском хуторе. Чем ты занимаешься, пишешь ли очерки для своей газеты? Каждое утро я покупаю ее в киоске, ищу твою фамилию и не нахожу. Как-то в последнее воскресенье позвонила подруга, Нина Пономарева, сказала, что мельком, в метро, видела в газете рассказ, а кто автор — не запомнила: то ли Чазов, то ли Сазов. Как сумасшедшая полетела в киоск. Да, точно, рассказ напечатан, только подпись под ним не Чазова и не Сазова, а какого-то Вадима Чернова.
Миша, думаю, мое тоскливое одиночество тебя мало интересует. Ты ждешь от меня новостей. Есть ли они? Да, есть, ибо без новостей и жизни вообще не бывает. Только, боюсь, новости эти тебя не порадуют. Первая новость — старая, давняя, ее и новостью-то назвать нельзя. О ней я хотела сказать тебе еще тогда, когда ты уезжал, и не посмела, не хватило духу: эта новость, Миша, о том, что я беременна, и уже давно, еще с января. Мои сослуживцы удивляются. А я им: чего удивляетесь, у меня есть муж. Наверное, скоро пойду, как говорят, в декрет, и если ты в самом деле задержишься так надолго, как намеревался, то мы будем встречать тебя в Москве вдвоем с сыном и он тебя, разумеется, не узнает. Скажет: кто он таков, этот Михаил Чазов? Можешь спросить у меня: почему сын, а почему не дочь? Веришь, Миша, во мне живет свое, материнское предчувствие, и я верю, оно меня не обманет… Жаль, что не вижу твоего лица в тот момент, когда ты читаешь эти строки, и не знаю, что у тебя в эту минуту на душе — радуешься или огорчаешься. Но все равно, рад ты или не рад, а наш сын, несмотря ни на что, появится на свет, и скоро, — это случится, наверное, в конце сентября или в начале октября. Может, ты подумал: есть же способ избавиться от ребенка? Да, есть, вернее, был, потому что сейчас и думать об этом уже поздно. Но и раньше, когда было еще не поздно, эта страшная мысль и в голову не могла мне прийти. И если случится — а в жизни все может случиться, — что ты разлюбишь меня, и я не смогу дать мальчику фамилию его отца, и повторится то, что уже было с Верочкой, я ни в чем не стану раскаиваться. Значит, такова моя горемычная судьбина — второй раз быть матерью-одиночкой. Но я, Миша, верю в нашу любовь и этой своей верой живу. Не может же быть, чтобы то, что со мною уже было, повторилось еще. Что бы с нами ни случилось, я никогда не перестану любить тебя и верить в наше счастье…
Вторая новость — о повести «На просторах» — тоже не из радостных. Наконец-то известный лауреат соизволил прочитать рукопись и вместе с нею прислать свой отзыв. Отзыв пространный, двадцать шесть страниц машинописного текста через полтора интервала. Мне показалось, что во многом знаменитый писатель неправ, ибо, как мне кажется, меряет на свой большой аршин. Я решила не посылать тебе все двадцать шесть страниц, я перескажу их своими словами, а важные места перепишу. Начинает он, как, очевидно, и полагается, с похвалы, называет тебя «мой юный друг» и хвалит за то, что ты так хорошо знаешь жизнь и природу. Я подумала: если это так, то зачем же тебе надо было уезжать на хутор и жить там, когда эту самую хуторскую жизнь, по уверению лауреата, ты знаешь отлично. Например, он говорит: «Несомненным достоинством «На просторах» является то, что автор повести достоверно знает и жизнь и быт тех людей, о которых решил поведать читателям». Хорошо сказано! А помнишь, как ты все жаловался, что тебе как раз и недостает знания жизни и что поэтому тебе надо пожить на хуторе, среди людей? Значит, кто-то из вас ошибается: либо ты, либо лауреат. Далее он говорит так: «Со страниц рукописи на тебя смотрит одна сплошная достоверность. Если описана пахота или сенокос, то в точности так, как это делается в действительности. Если разговаривают чабаны, то совершенно так, как они говорят в жизни». Видишь, как он тебя хвалит? Так что я не знаю, Миша, зачем ты живешь на хуторе? А вот уже и критика: «Но зато во всей повести я не встретил и капли авторского вымысла или необычного, смелого авторского домысла, и потому твою работу, мой юный друг, следовало бы назвать
повестью документальной. Я читал ее и невольно думал: «На просторах» — это не художественное произведение, а
документ, основанный на точных жизненных фактах». Заметь, подчеркнуто не мною.
После этого он сказал, что ему не нравится название, оно, по его мнению, ни о чем не говорит. «Название не должно быть общим, обезличенным». Затем он сделал подробный разбор недостатков языка, стиля, сюжета, причем разбор строгий, придирчивый, с фактами и примерами, на мой взгляд, убедительными и неубедительными, — эти места я опускаю, зачем тебе расстраиваться. А вот это место я перепишу дословно: «Юный мой друг, ты только входишь в литературу, и тебе необходимо знать, что вся ее многовековая история, как прекрасное здание на прочном фундаменте, стоит на народном вымысле и на его творческой фантазии. От древних устных сказаний, басен, притч, анекдотов и до, скажем, «Левши» или «Воскресения» — всюду мы находим художественный вымысел и творческую фантазию, а вместе с ними и потребность художника поведать нам что-то свое, необыкновенное, чего другие не видят, не замечают. Был ли в реальной жизни такой Левша? Наверное, был, но не совсем таким, каким его описал Лесков, Был ли в обыденной жизни крепостнической России такой князь, как Дмитрий Нехлюдов? Возможно, и был, только совсем не таким, каким показал Нехлюдова Л. Н. Толстой. А какими выдумщиками были А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский! Любое произведение искусства и литературы тотчас увянет и зачахнет, как дерево без воды и воздуха, если в нем не будет вымысла, то есть той творческой фантазии, которой так щедро одарены великие писатели, музыканты, художники. М. Горький, тоже большой выдумщик, говорил: «Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ, — так мы получим реализм». В твоей же повести, как в газетном очерке, все достоверно и все сведено не к душе человека, а к перечню хозяйственных дел, с виду будто бы и нужных, важных, а узнавать о них читателю неинтересно, потому что в них нет души автора, его выдумки, которая привлекала бы наше внимание, радовала бы или огорчала нас. В повести «На просторах» люди что-то делают в точности так, как в обыденной жизни, а читателя ни эти их каждодневные дела, ни разговоры, ни споры не волнуют. Почему? Все потому же: ни в делах, описанных тобою, ни в разговорах и спорах твоих героев нет художественной выдумки. И не вина, а беда главного героя Никиты Кобцева, от имени которого ведется повествование, состоит как раз в том, что он, Кобцев, никакой не выдумщик, что он рассказывает нам о вещах всем давно известных, и рассказывает скучно. Например, Кобцев говорит: когда руководители колхоза забывают о ветеранах колхозного движения — это плохо; когда трактористы старательно пашут и сеют — это хорошо; когда на ферме нет кормов для скота — плохо, а когда они есть — хорошо, и т. д. Юный мой друг, рядом с отличным знанием жизни непременно должна идти, что называется в обнимку, выдумка, то есть то, что заставило бы читателя удивляться, или радоваться, или негодовать. В повести твоей есть одна-единственная выдумка: любовь Марфеньки к Никите Кобцеву, и она-то, эта выдумка, сразу же, как ярким пламенем в темноте, осветила и степной хутор, и эту милую девушку, и самого рассудительного и, в общем-то, скучного Кобцева. Жаль, что эта отличная выдумка, не успев родиться, тут же по воле автора умерла. А надо было бы усложнить эту робкую девичью любовь, заставить и Марфеньку, и Никиту Кобцева пострадать, подумать, поволноваться. Ты же, как явствует из повести, испугался как раз того, чего художник бояться не должен…»
А вот, Миша, что дальше: «Можешь, и не без основания, спросить: как же научиться выдумывать? К сожалению, этому великому счастью научиться нельзя, как невозможно человеку, лишенному слуха и голоса, научиться петь. Это тот дар, который дается только отцом и матерью, да еще и с дозволения самого господа бога, и в нем, в этом даре, и состоит, на мой взгляд, существенное различие между художником, у которого способность выдумывать живет в самом его существе, и просто грамотным человеком, который, как все грамотные люди, умеет писать, да к тому же еще и бойко…»
И вот еще, и в этом лично я с лауреатом согласна: «К числу недостатков повести «На просторах» следует обнести и то, что в ней не показано горе людей — и личное, и общественное. Я не верю, что у чабанов, месяцами живущих со своими отарами в степи, нет горя, что над ними одно безоблачное небо. В самом начале повести ты намекнул на какую-то заметную неприятность в личной жизни Кобцева и тут же, испугавшись этого намека, быстренько отвел от него беду. Немножко, чуть-чуть, заставил погоревать Марфеньку и тут же забыл о ее горе, сделал эту несчастную девушку счастливой. А ведь литература, и особенно русская, тем и обрела в народе такую благородную известность, что умела раньше и умеет сейчас показывать не только людское счастье, а и людское несчастье, не только любовь счастливую, а и любовь несчастливую. Примеров тому сколько угодно. Обратись к любому классическому образцу, будь то трагедия Ромео и Джульетты или Анны Карениной, героический подвиг Давыдова и Нагульнова или судьба целого казачьего сословия, гибель которого так правдиво показана в «Тихом Доне», — всюду, к чему ни обратись, рядом со счастьем соседствует несчастье. Можешь возразить: сейчас не средневековье, о котором писал Шекспир, и не царское время, в котором жила Анна Каренина, и нет классовой борьбы в стране, которую так глубоко и так верно показал наш донской современник. Но и наша жизнь не такая уж простая и не такая уж безоблачная. Есть удивительно искренняя и удивительно правдивая песня о ягоде сладкой и о ягоде горькой. В этой песне говорится, что на женскую долю всегда приходится слишком мало ягоды сладкой и слишком много ягоды горькой. А почему так? Да потому, что в повседневной нашей жизни порой хорошего намного меньше, нежели плохого. Горькой-то ягоды намного больше, нежели сладкой. Стало быть, горе — и личное и общественное — есть у людей и теперь, останется, надо полагать, и в будущем, и задача художника — увидеть и показать его таким, какое оно есть…»
Да, Миша, насчет горя и горькой ягоды я с лауреатом полностью согласна, потому что сама испытала и знаю, что оно такое — горе и какой на вкус бывает горькая ягода… Ну, а дальше опять идут примеры твоих стилистических огрехов и промахов, и я их опускаю. Между прочим, в заключении есть такое ободряющее место: «Обо всем этом я пишу не для того, чтобы раскритиковать повесть о Кобцеве и ее молодого автора. Свои замечания о недостатках твоей работы я высказываю, как говорится, с прицелом на будущее. Может быть, нелестные слова старого литератора западут в юную душу, произрастут там, как произрастает зерно после вешнего дождя, и впоследствии дадут желанные плоды».
3
В конце письма Марта снова уверяла меня, что родится непременно мальчик — «так я хочу, так и будет»; еще и еще говорила о себе, о том, что ей, женщине молодой, «уже довелось немало съесть этой проклятой горькой ягоды». Дочитав письмо, я тут же, не собравшись как следует с мыслями, принялся писать ответ. Ни повесть «На просторах», ни отзыв на нее меня не беспокоили, о них я забыл. Мои мысли были обращены к Марте. «Ай да Марта, ай да молодчина! — думал я. — Так вот о чем ты умолчала, моя радость, когда я уезжал. У меня будет сын?» Сама эта мысль приятно удивляла и радовала, казалась странной и непривычной. И письмо я начал со слов: «Так вот она, какая радость привалила — у нас будет сын! Да правда ли это? Если правда, то назовем его Иваном в память о погибшем на войне его прадеде — Иване Чазове. Как только родится, так и зови Иваном. Это моя отцовская просьба…» Мне хотелось сказать так много и так необычно, а на бумагу ложилось что-то обычное, будничное, совсем не то, что в эту минуту было у меня на душе. Я уверял Марту, ждать меня до февраля не придется: вот побываю у старого чабана, Силантия Егоровича Горобца, и сразу поеду в Москву, может, успею даже к ее родам.
И все же письмо получилось не таким, каким я хотел его видеть, и я, извинившись за то, что написал невнятно, наспех, запечатал исписанные листы в авиаконверт, чтобы быстрее дошло, и поспешил на почту.
Думая о том, когда же мое письмо может быть в Москве, я не вернулся домой, а направился к дяде Анисиму, так как еще вчера был приглашен к нему на обед. Тетя Елена, сильно похудевшая за последние дни, с тоскливыми, постоянно заплаканными глазами, была со мной ласкова, она по-матерински тепло пожурила меня за то, что я так редко у них бываю. Дома Анисим Иванович показался мне и рослее, и крепче стоящим на ногах, с могучими плечами и шеей, с мясистым небритым лицом. Он положил на мое плечо свою тяжелую руку и спросил:
— Племяш, отчего такой квелый? Али чего заскучал на нашем приволье? Али не выспался? — и, не дожидаясь моего ответа, обратился к жене: — Лена, а я-то знаю, отчего наш племяш затосковал! Оттого, что редко бывает у нас. Но на то у него имеется особая причина. Какая? А причина такая, что все дни Михайло то ездит по хуторам и селам, то околачивается в Мокрой Буйволе — сероштановской выдумкой любуется, и в Привольном почти не бывает. Ить верно, Михайло?
Я промолчал. В душе моей гнездилось безразличие ко всему, мне не хотелось начинать разговор ни о Сероштане, ни о новшествах в Мокрой Буйволе. Сегодня, после того, что я узнал из письма Марты, мне вообще не следовало бы приходить сюда, а надо было бы еще и еще раз, да повнимательнее, перечитать то, о чем она сообщала. Мне казалось, что еще далеко не во всем, о чем писала Марта, я разобрался так, как надо, и не обо всем написал ей, о чем необходимо было написать, и, может быть, поэтому у меня побаливало сердце и настроение у меня было прескверное.
— Ну, садись, Михайло, к столу, хоть разок пообедаешь у нас, — басом говорил Анисим Иванович. — Угостим тебя чаркой водки и шулюмом, некоторый из которого является собственного приготовления. Небось Сероштан голову морочил, нахваливал старого Горобца, будто никто во всем свете не может сварить чабанскую еду лучше этого белобородого старца. Брехня! Я первый могу! И хотя тот шулюм, некоторый из которых, мы зараз разольем по тарелкам и испробуем на вкус, приготовлен не в степу, не близ пасущейся отары, не на костре, не в закопченном ведре, а в кастрюле и на газовой конфорке, а попробуешь — и пальчики оближешь. Но сперва чокнемся и выпьем по чарке. Ну, племяш, за благополучие!
Я выпил рюмку водки, смотрел на дядю, слышал его тугие, как звуки бубна, слова, а о чем он говорил, толком не понимал, потому что в голове у меня было свое — Марта и ее письмо. Шулюм — этот горячий, как кипяток, жирный бульон с добрым куском разваренной баранины в тарелке, был приправлен зеленым укропом и чесноком. Мне он показался ничем не примечательным, я ел, не желая обидеть дядю и тетю, и слышал тот же бубнящий голос, а думал о письме Марты, мысленно перечитывал его то с начала и с конца, где она говорила о нашем еще не родившемся сыне, то с того места, где лауреат сказал о зернах, которые должны в будущем произрасти. И вдруг опять: сын! Мой сын, а чья же у него будет фамилия? Не моя… Как же так? Этого не может быть… В это время тетя Елена тронула мое плечо и сказала, чтобы я попробовал отлично проваренный кусок баранины. Ничего особенного, мясо как мясо… Брошу все к черту — и хутор, и то, что в хуторе, и завтра же уеду к Марте. Хватит играть в жмурки, мы станем законными супругами, и пусть родится хоть сын, и он станет Чазовым, хоть дочь, и она будет Чазова… А может быть, это шутка Марты? Вздумала разыграть меня? Нет, я хорошо знаю Марту, она шутить не стала бы… И почему она не прислала весь отзыв писателя? Чтобы я не волновался, не переживал. Эх, дурачок ты, мой Марток, как же мне не волноваться, как не переживать? Ведь и так из отрывков видное что повесть моя никуда не годится. И главный ее недостаток — это то, что в ней нет выдумки. Не повесть, а документ. А что такое выдумка? Вот вопрос. А мой сын? Это тоже выдумка или реальность? И что такое настоящая правда жизни, без выдумки? Значит, сын… Она в этом уверена… А это — все, это и есть невыдуманная жизнь.
Я очнулся и услышал тот же бубнящий голос.
— Э, Сероштан, я его знаю, хитрющая бестия! — говорил дядя Анисим. — Сперва что? Сперва спихнул старого Горобца. С Суходревом они устроили тайное голосование, чтоб старика не обижать, и — долой с места опытнейшего чабана. А после этого Сероштан соорудил кирпичные кошары, решил удивить людей тем, что овцу, как цепную собаку, заставил пребывать на привязи. А природа? Против природы, через некоторую из которых, брат, не попрешь. Тут никакая наука и техника не помогут. Насосами, некоторыми из которых, коров доят — другой резон, это можно. А как же оставить овцу без приволья, без степного ее передвижения? Как техникой-механикой шерсть растить? Этого сделать неможно. Природа не позволит. Природа требует, чтоб овца пребывала на воле и кушала бы не то, что ей привезут на тракторе и разбросают по яслям, а то, что она сама для себя отыщет, ту травку, некоторая из которых вкусна и самая пользительная. А как же иначе? Иначе никак нельзя. Вот, к примеру, мы, люди, любим вот этот шулюм…
Где-то пропали, как будто куда-то провалились, бубнящие звуки, и я уже видел Марту, ее лицо, то грустное, со сломанными стежечками бровей, то радостное, увидел ее круглые, большие глаза. Надо написать Марте еще и еще и сказать ей, во-первых, о том, что мы поженимся, как только я вернусь, и что наш малец будет Чазовым. Тут все ясно: я вернусь в Москву, денег на дорогу как-нибудь достану, и все, разговор, как говорится, исчерпан. Во-вторых, что-то надо написать ей об отзыве писателя. А что? Обидно читать такие отзывы. Напишу, что я все обдумаю, что называется, обмозгую со всех сторон, пойму то, что мне надо понять, и успокоюсь. Я напишу ей, что это только кажется, будто критический отзыв известного романиста причинил мне обиду. Если же хорошенько вдуматься в то, что он написал, то в его словах как раз и содержится не критика, а что-то такое важное и что-то такое нужное, чего я раньше не знал и что теперь обязательно должен буду знать.
— Михайло, не играй со мной в молчанку, и тебе как моему родичу необходимо знать, что Сероштан мне не зять, а мой истый вражина.
Я услышал дядю и подумал: о чем это он? Почему Сероштан — вражина? А как же мой сын? А как же Марта? А повесть «На просторах»? Вот что намного важнее Сероштана…
— И вражина не только потому, что украл мою дочку и лишил нас с матерью единственной радости, а и потому, что средь всех нас, извечных чабанов, изделался выскочкой и смутьяном. Он же насмеялся над законами и обычаями наших предков, отцов и дедов. Ну скажи мне, внук чабана Ивана Чазова, как же можно, чтобы овцы, эти благороднейшие животные, знающие толк в травах, кормились бы по часам, сбивались бы в кучу и ждали, когда загудит трактор и разбросает по кормушкам мелко иссеченную, воняющую гарью суданку?
— Да хватит тебе, Анисим, — в сердцах сказала Елена, мигая заплаканными глазами. — Завел, как граммофон, одно и то же. Надоел!
— А почему хватит? Нет, некоторые из которых, не хватит! — Небритое лицо Анисима Ивановича побагровело. — Это что же такое у нас получается? Безобразие получается, вот что! Овце дают суданку, а животное, может быть, в эту минуту как раз желает искушать не суданку, а молоденький типчак или свежую метелочку. Ить от той суданки, посеченной машиной, на версту вонь идет. А Сероштану это безобразие нравится. Куда там, герой какой, упрятал овец в кирпичные помещения и радуется! Вот ты, Михайло, в газеты пишешь, распиши-ка этого хвастунишку со всеми его дурацкими выдумками, наведи на него сатиру и юмор, чтоб все знали, какой гусь проживает в Мокрой Буйволе. Молчишь? Не хочешь рук марать? А почему не хочешь? Потому что боишься Сероштана. А я не боюсь ни Сероштана, ни черта с дьяволом, и не будь я Анисимом Чазовым, чтоб не вывел я этого хитруна на чистую водичку…
«Значит, горе и радость, ягоды горькие и ягоды сладкие, — думал я, уже не слыша бубнящего голоса дяди. — Вот она передо мной, горькая ягода — мой дядя Анисим Иванович и моя тетя Елена, бери эту горькую ягоду и описывай ее такой, какая она есть. Но как описать горе этих людей? Если рассказать обо всем, что случилось в их семье, что произошло в эти месяцы между хуторами Привольным и Мокрой Буйволой, ничего не прибавляя и ничего не изменяя, то мне никто не поверит. Могут сказать: это же досужая выдумка! Какие же это отец и мать, если они не желают счастья своей дочери? Во-вторых, в жизни нет таких ненормальных отцов и матерей. И почему, скажут, Анисим Иванович Чазов, старый и опытный чабан, является врагом того нового, передового, что уже родилось в Мокрой Буйволе? Кто мне поверит? Скажут: в жизни нет таких отсталых чабанов…»
— Все помалкиваешь, Михайло? — спросил Анисим Иванович, и я поднял голову. — Или не согласен со мной? Все одно не молчи, а скажи без обиняков все, что думаешь.
— Дядя Анисим, я не могу вас понять.
— Почему не могешь? И что именно понять не могешь? Ответствуй.
— Вы озлоблены на Андрея. Но что плохого он вам сделал?
— Погубил отары — это раз, украл дочку — это два. Мало, а?
— Катя — не ваша собственность, она любит Андрея. А то, что в Мокрой Буйволе овцы находятся в таких условиях…
— Что ты смыслишь и в овцах, и в условиях? — перебил меня дядя. — Ничего! Это тебе только с виду кажется красиво — кирпичные кошары, базы за высокой изгородью, кормушки под навесом, водопойные тарелочки, техника, механика. А что внутри? Гибель пришла для овец, вот что. И хотя отары в Мокрой Буйволе не мои, но все одно и не чужие, потому как оно есть достояние наше, общее. — Анисим положил на стол свои тяжелые, как две гири, кулачищи с волосатыми пальцами. — Ничего, Сероштан еще увидит мою правоту! Хоть у него и есть надежная защита — Суходрев, и хоть Суходрев и меня хочет подогнать под тайное голосование, а я так запросто не сдамся, своего я добьюсь. А ты-то, горожанин, чего ему веришь? Сам-то чего кумекаешь в чабанстве? Да ничего. Хоть ты и внук чабана, а живую овцу по-настоящему еще и в глаза не видел.
«Выдумка, фантазия, — лезло мне в голову, и я уже снова не слышал бубнящий голос… — Да, согласен, можно сказать — выдумывай, фантазируй. Сказать все можно. А как выдумывать, как фантазировать? Как описать другого, выдуманного Анисима Ивановича Чазова, совсем не такого, каким он сидит вот здесь, за столом, с этими его волосатыми кулачищами, одутловатым и постоянно небритым лицом, злым и нелюдимым? С этой его любимой поговоркой — «некоторые из которых»? Если описать все не так, как оно есть в жизни, то это и будет выдумка. Но что же из этой выдумки может получиться? Получится неправда, и ничего другого. Выдумка и неправда… Да, да, Марте надо и об этом написать, и ей надо верить. Если она говорит, что родится мальчуган, то так оно и будет… Что же я молчу? Почему ничего не слышу? Видно, зря сюда пришел. Дядя и тетя что-то говорят, а я, как глухой, ничего не слышу. После того, что я узнал из письма Марты, я оглох и онемел и мне не до разговоров…».
4
Сославшись на головную боль и на недомогание, я ушел. Вернулся к бабушке, закрылся в своей комнате и дотемна провалялся на койке. Хотел уснуть, забыться и не мог. Третий раз перечитывал письмо Марты, думал и думал. Мой ребенок… Сын или дочь… А какая разница? Вот отец из меня плохой, можно сказать никудышный, это факт. Ребенок — мальчик или девочка — потребует денег, и немало, а где они у меня? Я невесело усмехнулся. Ну ничего, не надо падать духом. У Марты имеется превосходная бабушка со своим хозяйством, с курами и кроликами, так что придется, пока мы материально не встанем на ноги, подбросить под ее теплое крылышко и вторую внучку или внука. А вот сидеть мне на этом хуторе нечего, это точно. Завтра же пошлю Марте телеграмму, пусть ждет. Как только раздобуду денег на дорогу, так и улечу. А как и где достать деньги? Этого я еще не знаю. Попросить у бабушки? Стыдно просить, а придется. Или взять взаймы у Андрея? Тоже как-то неудобно…
И я стал мучительно думать о том, как и где добыть нужные мне деньги, и о том, надо ли выдумывать, когда пишешь, и зачем, собственно, выдумывать, если сама жизнь уже отлично потрудилась за тебя, все придумала и все преподнесла готовенькое: бери, сочиняй и пользуйся. Или я дурак из дураков и потому ничего не понимаю из того, что так хорошо понимает известный писатель, или я бездарность несусветная, каких мало. Не могу понять, как же можно выдумать или придумать то, чего нет или не было в жизни? К примеру, как я могу выдумать свою геройскую бабусю не такой, какая она есть, а какой-то другой?
Я лежал на койке и смотрел в уже потемневший потолок, а думал о бабушке. Как же можно выдумать всю ее чабанскую жизнь, то, как она пасла отару, как растила свою шестерочку, придумать тот ее «грех», о котором она не хотела рассказать даже мне. Как выдумать эту ее землянку с густым запахом полыни, со звенящей мухой на оконном стекле, эту пологую, густо поросшую пыреем крышу, эту ее кофточку, увешанную орденами и медалями и похожую на кольчугу? Нет, что бы ни говорил опытный литератор, а этого выдумать невозможно. Это надо видеть, знать. Да и зачем выдумывать, когда есть готовое, невыдуманное? А любовь Андрея и Кати? Как ее по-иному придумать? Как ее показать? Допустим, я выдумал бы что-то другое, совсем не похожее на то, что было и что я знаю: Андрей не увозил бы в своих «Жигулях» Катю, потому что в этом не было необходимости, а Катины родители души бы не чаяли в своем будущем зяте. Анисим Иванович с восторгом говорил бы не только об Андрее, а и о его новшествах в развитии овцеводства, хвалил бы его: дескать, поглядите, какой у меня умный зять и какой он прекрасный овцевод. И моя выдумка кончилась бы развеселой свадьбой, пили и гуляли бы два хутора — Привольный и Мокрая Буйвола. А месяца через два я пришел бы к Кате и увидел бы ее не в слезах, не в горе, а все такую же веселую, беспечную… И что же? Это было бы лучше? Нет, не лучше. И снова я прихожу все к той же мысли: наверное, я что-то не понял из сказанного лауреатом. Может быть, он говорил о выдумке не вообще, а о каком-то своем, писательском чутье, которое соединялось бы то с воображением, то с тем, что происходит в реальной жизни и что пишущий хорошо знает.
Тут невольно на ум мне пришла встреча с известным писателем. Было это давно, и раньше я никогда об этом не вспоминал. Помню, я поднялся на шестой этаж, позвонил. Дверь открыла немолодая учтивая женщина. Она проводила меня в прихожую и попросила подождать Никифора Петровича, предложив сесть к столику, на котором лежали газеты и журналы. Кроме этого круглого, низкого журнального столика в прихожей стояли длинный, во всю стену, диван с изрядно потертой спинкой, три кресла с замасленными до черноты подлокотниками, телевизор. Я перелистывал журнал и не заметил, как из соседней комнаты вышел старый, с большой лысиной, с виду невзрачный мужчина. На нем были поношенные брюки, такой же поношенный пиджак. Лицо у него было помятое, желтое, наверное, от плохого сна или от больного сердца, глаза
несколько припухли и слезились. Если бы вошедший мужчина не протянул мне руку и не назвал бы себя Никифором Петровичем, я принял бы его за дворника дядю Антона, жившего в нашем доме. Мне казалось, что этот дядя Антон сейчас же узнает меня и скажет: «А ты чего здесь?» Он был так похож на знакомого мне дворника, что я подумал: он не станет со мной разговаривать, а возьмет свой фартук и метлу и пойдет заниматься своим делом. Я никак не мог смириться с мыслью, что передо мной стоял тот знаменитый романист, на книгах которого я видел портреты еще молодого, мило улыбающегося человека.
— Михаил Чазов? — спросил он. — Чем могу служить?
— Я принес повесть… «На просторах». Вот она.
Дворник присел к столу, развернул папку с рукописью, долго смотрел, напялив на нос большие очки.
— Никифор Петрович, я читал ваши романы… Сами понимаете, ваше слово для меня…
— А что мое слово? Да ничего. И что мои романы? — Дворник дядя Антон снял очки, посмотрел на меня добрыми, сильно уставшими глазами, и эти уставшие его глаза как бы говорили: «И чего заявился со своей повестью, что я в ней смыслю? Вот пойдем во двор, там я покажу тебе, как надо орудовать метлой». — Еще неизвестно, каким оно будет, это мое слово.
— Любой ваш приговор…
— Юный друг, оставь повесть, я прочитаю. — Он снова надел очки и посмотрел на рукопись. — Быстро прочитать не обещаю — нездоровье мешает, да и подоспели кое-какие свои дела… Но прочитаю обязательно. — Он по-отцовски ласково улыбнулся мне. — Честно скажу: не взялся бы, не в мои годы читать чужие творения. Но к этому у меня есть, как бы сказать, чисто спортивный, что ли, интерес. На старости лет хочется узнать, кто они, те молодцы, которые идут следом за нами? Как они видят жизнь и как ее понимают? Так что прочитаю обязательно, хотя и заранее прошу извинить, если это получится не вдруг.
Я лежал, вытянувшись во всю длину кровати. В комнате уже было темно, так что не видно было ни потолка, ни стен, и только слабым серым пятном оттенялось оконце. Дожидаясь отзыва от Никифора Петровича, я уже было забыл о повести «На просторах», потому что сам видел ее недостатки. Однако я никогда не думал о тех ее недостатках, о которых сказал мне старый писатель. «Во всей повести я не встретил и капли выдумки…» Вот в чем, оказывается, моя беда. А сын? Марта уверяет, что родится именно мальчик… Нет и капли выдумки. Слова и обидные и непонятные. Все время стараюсь понять их смысл и не могу. Беру живой наглядный пример: на дворе ночь, в комнате темно, прожекторы с тракта то и дело перечеркивают серое пятно моего оконца, и за каждым таким перечеркиванием слышится тяжелая поступь несущегося по улице грузовика. Это и есть невыдуманная жизнь, то есть то, что я вижу, что ощущаю и что имеется в действительности. А я, выходит, должен специально выдумывать и эту ночь, нависшую над хутором так же, как она нависала вчера, позавчера, и эти яркие летящие огни прожекторов, которые падают на мое оконце и тут же исчезают, и этот идущий под землею гул, и даже это свое возбужденное состояние. Но ведь лучше того, что я вижу и что чувствую, не выдумать. Да и зачем выдумывать? Или другой пример: кормление овец на комплексе в Мокрой Буйволе.
Да, что и говорить, дело новое, для чабанов непривычное. Я внимательно присматривался к тому, как автоматы разбрасывают по кормушкам мелко порубленную траву, как овцы подбегают к уже привычному для них месту, поедают корм, и все записывал в свою тетрадь. Это механизированное, хорошо налаженное кормление тысячи голов овец показалось мне похожим на огромную столовую. Значит, и это кормление отары, которое я много раз видел и записал, я должен выдумать заново? Нет, тут что-то не так… А мой сын? Это тоже, выдумка или не выдумка? Это я и Марта должны дать ему имя. Какое же имя мы ему дадим? Мы произвели его на свет, мы и дадим ему имя, и все тут не выдумано, все так, как есть… Одно из двух: либо похожий на дворника дядю Антона писатель уже выжил из ума и говорит сам не зная что, либо я тупица, что никак не могу понять то, что старику так понятно и так очевидно.
5
В центре Мокрой Буйволы, как раз перед Домом культуры, стоял бронзовый бюст чабана, всем известного в округе Силантия Егоровича Горобца. Скульптор поставил этот бюст несколько необычно: вместо постамента от плеч и до земли свисала широкополая чабанская бурка. Только на груди она была несколько приоткрыта, так что с левой стороны были видны две звезды, а с правой выглядывал крюк ярлыги, каким обычно ловят за ногу овцу, и на крюке лежали, одна, на другой, широченные ладони. Все, кто проходил близ несколько необычного бюста, больше всего посматривали не на бурку, а на ладони Силантия Егоровича, потому что лежали они так спокойно и так задумчиво, что это их спокойствие и эта их задумчивость невольно передавались и крупному скуластому лицу с шишкастым носом, и орлиному, в степь устремленному взгляду, и стрелами раскинутым усищам — наверное, скульптор и не знал, какую притягательную силу имели созданные им ладони, так удобно лежавшие на ярлыге. Хуторянам казалось, что чабан шел и шел следом за отарой, а потом поднялся на небольшой пригорок и вдруг остановился, слегка раскинув на груди бурку и положив на ярлыгу ладони. Бронзовое изваяние было так похоже на Силантия Егоровича Горобца, что мокробуйволинцы, проходя мимо него, непременно останавливались или замедляли шаги.
— Дядько Силантий! Дружище! — говорили одни. — Стоишь, ну как все одно живой!
— Поглядел бы ты на себя. Не человек, а картина!
Другие из уважения снимали шапки, здоровались:
— Доброго денечка тебе, Силантий Егорович! Чтоб ни тучки над тобой не было, ни ветерка.
И казалось людям, будто Силантий Егорович прятал в усищах улыбку и отвечал:
— А мне теперь не страшны никакие тучи, ни ветры, ни дожди. Да и бурка у меня надежная, укроет от непогоды.
— Ну, как тебе тут стоится?
— Ничего, стою, привыкаю. За свою жизнюшку вдоволь находился по степу, нагулялся на просторах с отарами, так что теперь можно и постоять, малость отдохнуть.
— И клумбочки с полевыми цветочками у тебя возле ног, как все одно в степу. Красивые цветочки!
— А как же без цветочков? — отвечал чабан. — Без них мне нельзя, я же к ним, красавцам, привык, когда еще водил отары по степи. Сколько цветов видели мои очи, и каких!
— Кто тебя смастерил, такого справдашнего? Каждый скажет: да ить это же Горобец!
— Разве не знаешь, кто смастерил меня? Своего дела мастер.
Мокробуйволинцы помнят, как в хутор приезжал худощавый мужчина в дорожном плаще, как он бывал и в доме у Силантия Егоровича, и в кошарах и как часами беседовал с ним, расспрашивал, не трудно ли ему быть управляющим. Прищурив глаза, приглядывался к нему то с одного боку, то с другого. Из глины лепил какие-то головки величиной с добрый кулак, и уже тогда было видно: каждая такая головка имела и нос, и усищи, и глаза — горобцовские. И когда на одну, самую большую, голову легла, тоже из глины, войлочная шляпа, в точности такая же, какую носят только чабаны — мягкие поля от ветра поднимались надо лбом, а по бокам спадали на уши, тут и совсем уж никто не сомневался, что это был портрет самого Силантия Егоровича Горобца. Приезжий мастер выбрал и место, сказав: вот тут и стоять Силантию Егоровичу вечные времена. Место было исключительно удобное тем, что отсюда, от Дома культуры, бронзовый чабан в бурке и в шляпе был виден с любого конца Мокрой Буйволы и даже со степи.
Сам же Силантий Егорович относился к своему скульптурному изображению не то чтобы равнодушно или холодно, а с чувством какого-то нескрываемого, я бы сказал, нарочитого, безразличия, может быть, потому, что тогда он уже был управляющим отделения. Проходя мимо бюста, он никогда, как это делали другие, не останавливался, хотя и не отворачивался. Он просто не смотрел на самого себя, делая вид, что вовсе не замечает стоящего перед Домом культуры чабана.
Соседи нарочно у него спрашивали:
— Ну как, Силантий Егорович, узнаешь себя? Или не узнаешь?
— А чего тут узнавать? — отвечал он, глядя себе под ноги. — Ить это же не я. Вот и все мое узнавание.
— А кто же?
— Известно, чабан, и все. Разве мало их, таких, у нас?
— Похож-то на кого, а?. На чужого дядю? Хоть ты зараз и стал нашим начальником, а ни в чем не переменился, как был чабаном, так им и остался. И этот каменный чабан похож на тебя, именно на тебя.
— И вовсе не на меня, — не соглашался старик. — Просто на чабана с ярлыгой. У нас, в Мокрой Буйволе, бери любого и каждого, ставь на это место — еще как подойдет! И тебя можно поставить.
— А чьи написаны имя, отчество и фамилия? А?
— Ныне люди грамотные, написать все могут.
Однако после того как в Мокрой Буйволе прошло тайное голосование и управляющим отделения был избран Андрей Сероштан, у Силантия Егоровича резко изменилось отношение к стоявшему посреди хутора бронзовому чабану. Теперь он уже не отрицал, что это он, Силантий Егорович Горобец.
— В нем не сам я, а моя душа, — говорил он. — А стоит и смотрит в степь потому, что привык жить с овцами там, на приволье. Так что зараз мне помирать никак нельзя. Надо стоять и поглядывать на степь.
И еще от него можно было услышать:
— А что смотреть да приглядываться? С какой стороны к нему ни подойди, как ты на него ни взгляни, а завсегда узреешь меня, Силантия Егоровича Горобца!
— А шляпа чья?
— И шляпа моя. Настоящая, будто снята с моей головы, — отвечал старый чабан. — На что моя жинка Феклуша женщина старорежимная, до сей поры в бога верует, так и она удивляется. Подумать только, говорит, ить ты стоишь не живой, а каменный, а какая на тебе имеется схожесть… А что тут удивляться? Ить мастер же делал… Тут что важно заприметить, — часто пояснял он, особенно молодежи, — не мое возвышение, а ярлыгу и мои руки на ней. Шляпу тоже не пропустишь, увидишь, но ярлыга и руки на ярлыге — поглядите на них — горобцовские. Тут мастер точно все подметил.
Иногда, подвыпив, говорил:
— Эх, жизнюшка! И чего ж ты, красавица, от меня отвернулась и повернулась к Сероштану? Ну ничего, все чабаны не помрут, вон один уже поставлен на веки вечные. И как бы Сероштан ни показывал свою ученость, как бы ни хвастался тем, что окружил овец изгородями, а все одно над всей Мокрой Буйволой возвышается не Сероштан — далеко ему до этого! — а я, Силантий Егорович Горобец. И что бы с овцами ни случилось, в каких закутках бы их ни держали и чем бы ни кормили, а горобцовская чабанская фигура никогда не забудется, потому как вот она, у всех перед очами стоит и будет стоять извечно. Моя богомольная Феклуша дажеть такое придумала: ты, Силантий, теперь изделался ангелом, самим богом ты данный. До чего додумалась старая, а? Тебе, говорит, теперь надо прямиком лететь на небо. Ну, что скажешь старой? Живой я и тут, на земле, стою не ангелом, а человеком.
Иногда, сильно разозлись на Сероштана, он обращался к нему, говоря:
— Слышишь, Андрюха, не очень-то выскакивай поперед других, не модничай с овцами, а то вот этот медный чабан от тоски да от давней обиды не сможет более устоять на месте, вскинет ярлыгу на плечо, шагнет к твоим загородкам и выпустит на волю все отары. Да еще и скажет: ну, пленницы, идите-идите, паситесь себе на свободе.
Дома Силантий Егорович приютил трех волкодавов, тех, какие когда-то были у него при отаре, а теперь, после строительства овцеводческого комплекса, остались, как и он сам, не у дел.
— Но я хоть пенсию имею, а вы должны существовать безо всего, — говорил он, лаская собак. — Но ничего, други мои, по старой дружбе будем жить вместе. Силантий вас не оставит в беде.
Следует заметить, что собаки из многих отар разбежались по хуторам — одни прижились в чужих дворах, другие стали бездомными, блуждали по степи, ловили хомяков, ими кормились и постепенно совсем одичали. Своих же волкодавов — Полкана, Молокана и Монаха — Силантий Егорович действительно не дал в обиду. Он относился к ним, как и прежде, с той особенной лаской, с какой могут относиться к собакам только настоящие чабаны. Один раз в сутки, как и полагалось, варил для них овсяную или ячменную похлебку, ходил по дворам и там, где забивали животину, просил костей или требухи. Словом, Полкан, Молокан и Монах жили припеваючи, только жизнь у них была чрезвычайно однообразная и скучная. Правда, по воскресеньям и для них находилась небольшая работа. Случалось это, когда на рассвете Силантий Егорович накидывал на плечи бурку, надевал на голову такую же старую, видавшую виды войлочную шляпу, на плечо клал ярлыгу и с собаками уходил к Дому культуры.
Начинало только-только рассветать, когда он становился на колени перед своим бюстом. Собаки по его команде садились на задние лапы, тут же, рядом с ним, скучающими глазами смотрели по сторонам, поджидая, когда хозяин скажет «у-а-а!». Старик не спеша, с достоинством расправлял стрелы седых усов, кланялся до земли и что-то шептал. А вот что он шептал в эти минуты? Точно никто не знал. Хуторяне терялись в догадках. Одни утверждали, будто вместе с поклонами он обращался к своему двойнику, говоря: «Эх, Силантий, роднушка ты мой! Ежели б ты знал, как меня обидели Суходрев и Сероштан. Отлучили меня от овец, и как мне зараз трудно живется без дела. Тебе-то что, стоишь героем, у всех на виду, а я хожу по земле и меня ноги от обиды не носят. Нет, Силантий, тебе моей печали не понять, потому как ты не живой, а каменный. Нету у тебя души. Вот и волкодавы вместе со мной не живут, а мучаются, бедняги. А через чего мучаются? Через мое безделье. Им бы овец стеречь, с волками бы драться, а они как неприкаянные ходят следом за мною, шалеют от скуки и все чего-то ждут. А чего? Нечего им ждать…»
Другие уверяли, что Силантий Егорович, кланяясь своему бюсту, нашептывал какие-то стихи, восхваляющие жизнь степных людей. Что это были за стихи, кто их сочинил? Никто не знал.
Наконец, третьи уверяли, что Силантий Егорович, когда кланялся, то крестился и читал какую-то молитву, якобы научила этому его жена Феклуша. Но опять же толком никто не знал, о чем эта молитва и с какими сливами старый чабан обращается к богу. Однако всем было известно, что эти поклоны и шептания продолжались минут пять, не больше, затем Силантий Егорович вскидывал на плечо ярлыгу своей сильной рукой и говорил собакам: «У-а-а!». Тут же, как по команде, три кобеля, подняв морды, завывали протяжным волчьим воем. После этого Силантий Егорович поднимался и, не оглядываясь, шагал домой, а впереди, него, как стража, важно шли Полкан, Молокан и Монах.
Как-то в Мокрую Буйволу приехал из Ставрополя молодой мужчина специально для того, чтобы побеседовать с Силантием Егоровичем Горобцом. На нем был темно-синий плащ, легкая шляпа, в руках пухлый коричневый портфель. Одни говорили, что этот мужчина собиратель фольклора, а другие узнали в нем переодетого в штатское милиционера из села Скворцы. Сам же говорил, что приехал узнать и записать и на бумагу и на магнитофон, что же старый чабан нашептывал, стоя на коленях перед своим бюстом, чтобы этим пополнить, как он выразился, «копилку народного творчества».
Собирателю фольклора Силантий Егорович сказал так:
— Это не я ему наговариваю, это он мне наговаривает.
— Что же он говорит? — поинтересовался приезжий. — Какие, слова?
— Так, разные, пустяшные… Видно, делать ему нечего, вот он всякое и мелет.
— О чем же именно? — допытывался собиратель фольклора. — Приведите хоть какой-то пример.
— Ну, к примеру, о том, как ему скучно и нудно день у день стоять на одном месте. В степь его тянет, а сойти с места не может.
— А вы, видать, хитрый старик, себе на уме.
— В мои-то годы можно малость и похитрить, — ответил Силантий Егорович и умолк.
На этом разговор и был окончен.
Еще приезжал местный поп Иннокентий из села Богомольного. Без рясы, в мешковатом пиджаке и в картузе, похожий на старого пасечника. Дошли, оказывается, и до него слухи о том, что старый чабан нашептывает какую-то молитву, и вот ему захотелось узнать ее. Тоже уехал ни с чем. Ему Силантий Егорович сказал, как отрубил:
— Батюшка Иннокентий, вы в наши, чабанские, дела не вмешивайтесь. Мы тут в своем доме, и сами как-нибудь разберемся.
Третьим, кто заинтересовался таинственным шепотом старого чабана, оказался я. Сперва мне пришлось поговорить с хуторянами и от них узнать: да, верно, каждое воскресенье Силантий Егорович со своими волкодавами приходил к бюсту, падал перед ним на колени, как перед иконой. Да, верно и то, что он будто бы читал какую-то молитву, хотя все в один голос утверждали, что в бога старик не верил. Да, верно и то, что он якобы рассказывал о себе, о своем пастушечьем детстве, о том, как пас овец. Находились и такие, кто уверял меня: старик вообще ничего не говорил, а только так, для видимости, шевелил губами, а потом подавал команду собакам, и те издавали недружное завывание.
Андрей же Сероштан сказал мне так:
— Ну чего ты удивляешься? По всему же видно: старик чудачествует, и все.
Не удовлетворившись этими сведениями, я отправился к самому Силантию Егоровичу. Представился как полагается, сказал и о том, что Прасковья Анисимовна Чазова — моя бабушка.
— Вот какой у меня гостюшка! — оживленно заговорил старик. — Так, выходит, Иван Чазов — мой дружок, а твой дедушка? Ну, скажу тебе, геройский был парень, и погиб как герой.
Может быть, потому, что я был внуком Ивана Чазова, в доме Силантия Егоровича меня приняли радушно, как гостя. Его жена, суетливая старушка Фекла, пригласила к столу. Для такого важного случая отыскался и графинчик с водкой, настоянной на каких-то лекарственных травах. И, вот тут, за обедом, на мои настоятельные просьбы поведать мне свою тайну старый чабан черкнул сухой ладонью по усищам, махнул рукой и сказал:
— Никому не станешь рассказывать?
— Никому, — пообещал я.
— Ну, лады, расскажу. Парень ты, вижу, славный, а к тому же еще и близкий родич Ивана Чазова, с каковым мы вместе уходили на войну. Будь по-твоему. Никому еще не открывался, а тебе откроюсь. Бери карандаш, бумагу и записывай…
Вот что я записал из его рассказа — слово в слово: «Друже мой и братуха мой, Силантий Егорович! Что же ты ответишь на мой больной вопрос: куда Сероштан уводит отары, в какую сторону он их заворачивает? Не отвечаешь. Молчал вчера, молчишь и сегодня. Али тебе нечего сказать? Эх, видно, вся беда в том, что хоть обличьем ты и смахиваешь на меня на живого, хоть хуторяне, проходя мимо, и снимают шапки, и показывают на тебя — вот, мол, поглядите на настоящего Горобца, с ярлыгой и с руками истинно горобцовскими, а я так скажу: никакой ты не Горобец, потому как нету в тебе человеческой задушевности. Сотворил тебя мастер из глины да из меди, поставил у всех на виду, а душу в твою грудь не вставил, и не то чтобы пожалел, а не сумел. А может, подумал: зачем ему душа? И ты стоишь спокойно, и не знаешь ни людской радости, ни людского горя. И то, что зараз у нас делается с отарами, тебя не беспокоит, потому что тебе неведомо, что оно такое — моя сердечная боль. А мне эта боль сильно известна, тут она у меня, на сердце, и я все дни и ночи думаю, что же будет с овцами в дальнейшем. Неужели все, чем жили мой дед и мой батько Егорий, чем жил я, — сгинет? Неужели и до овцы вместо людской заботы уже добрались моторы со своим вонючим дымом? Знаю, не бесконечно топтать мне землю, придет мой черед — помру. И кто тогда тут, в Мокрой Буйволе, останется вместо меня? Кто будет печалиться, болеть душой об овцах? Скажешь: Сероштан? Нет, Сероштана я знаю, для печалей он не годится. У него завсегда одна печаль-забота — комплекс. Придумал же словцо, к овцам оно никак не подходит. Машины завел, корм сечет, будто овцы беззубые, отары приспособил к городской житухе, поставил их в загородки и на паек. Вот почему я стою перед тобою на коленях и прошу тебя, Силантий Егорович: замени меня, друже мой и братуха мой, когда меня на свете уже не будет. Ить это вместо меня тебя поставили тут на извечные времена. Люди будут стареть и помирать, а ты так и останешься на этом видном месте. Как самого себя прошу, Силантий Егорович: оживи и пойди к Сероштану на тот его комплекс, поговори с ним, может, тебя послушается и окончательно не загубит овец машинами. Не можешь ожить? А ты поднатужься и смоги. Не можешь шагу ступить? А ты поднатужься и смоги. Каждое воскресенье вместе с волкодавами буду приходить к тебе и вот так, стоя на коленях, просить: оживи и пойди! Хоть попугай хорошенько Сероштана. Оживешь, а? Молчишь, Силантий Егорович. А я все одно не перестану ходить к тебе по воскресеньям и просить. Может, случится чудо и ты все ж таки оживешь? Пусть не сразу, не вдруг и не теперь, а тогда, когда меня уже не станет, ты все ж таки шагнешь к Сероштану на его комплекс и скажешь ему, черту, то, что не раз говорил ему и я».
6
Три волкодава — Полкан, Молокан и Монах — ей-же-ей заслуживают того, чтобы о них сказать еще хотя бы несколько добрых слов. Во-первых, читателям необходимо знать, что это были кобели-красавцы особенной низкорослой степной породы. Таких собак раньше можно было встретить только в отарах и только на Ставрополье: у каждого толщина шеи равнялась размеру головы, так что на таких могучих шеях ошейники не держались; ноги были короткие, сильные, с утолщенными коленями, и ступали они ими мягко, будто всегда к чему-то подкрадывались; лапы — комковатые, размером в кулак, и ложились они неслышно даже на сухую траву.
Во-вторых, морды у волкодавов были ласковые, с добрыми, послушными глазами, из-под черных, нависающих навсегда слюнявых губ выглядывал оскал сахарно-белых клыков. «Этими геройскими клыками хватать бы волка за шкирку, а они только белеют без всякого дела», — не раз как бы в назидание собакам говорил Силантий Егорович. Волкодавы были одинаковой бурой масти, под цвет иссохшей травы, и у каждого загривок темный и жесткий, как у дикого кабана щетина. Хвосты имели куцые, обрубленные еще в щенячестве, чтоб не мешали при встрече с волками. Все трое в схватках со зверем проявляли удивительную ловкость и редкое бесстрашие, применяли такие мертвые хватки, так впивались клыками в волчье горло, что даже голодные матерые волчицы, когда им надо было добыть пищу для себя и для своих волчат, никак не решались даже приблизиться к отаре.
И наконец, в-третьих, каждый кобель имел свою особую повадку, или, по выражению Силантия Егоровича, свою натуру. Полкан — нетерпеливый и непослушный, Монах — чуткий на ухо, даже когда спал, и то слышал. Молокан же был и послушным и терпеливым. Внешне их вполне можно признать за братьев-близнецов, а для Силантия Егоровича они решительно ничем не были похожи друг на друга: ни сизым оттенком щек, ни широкими челюстями ласковых морд, ни белым оскалом клыков, ни глазами с вертикальной желтинкой, ни настороженно торчавшими ушами, ни даже своими обрубками хвостов и своей поджарой статью.
Самым старшим и самым любимым псом считался Молокан, и вот почему. Наверное, лет десять назад Силантий Егорович — тогда он еще не был управляющим — как-то навестил на соседнем хуторе Молоканском своего знакомого чабана, и тот, желая прихвастнуть перед гостем своей породистой псарней, показал только что ощенившуюся суку Малютку. На просьбу Силантия Егоровича подарить ему щенка последовал решительный отказ. И тогда Силантий Егорович решился на крайнюю меру: выбрав момент, когда хозяин отлучился по какому-то делу, он сунул за пазуху еще слепого щенка и, сказав, что ему надо спешить в отару, ушел. И так как щенок был родом из хутора, где живут молокане, то ему и имя дали Молокан.
Слепого, тыкавшегося теплым носом в ладонь малютку Силантий Егорович кормил из рожка еще парным овечьим молоком — сам доил овец. Когда же Молокан малость подрос, Силантий Егорович давал ему свежий бараний фарш, и щенок вскоре не только расплющил желтоватые глазенки, а и заметно округлился и встал на свои упругие ножки и уже неотступно следовал за своим хозяином. Силантий Егорович так любил Молокана, что даже разговаривал с ним, как с человеком, по его умно сощуренным глазам, по оскалу молодых белых зубов, напоминавших веселую улыбочку, угадывал, что пес думал в данную минуту. От других собак Молокан отличался еще и тем, что был надежным в охране овец. Если у Полкана и Монаха были только схватки с хищниками, то Молокан на своем счету уже имел двух волков и одну волчицу — это много, если учесть, что на пастбищах в окрестностях Мокрой Буйволы было не так-то просто встретить волка, а тем более нападающего на овец.
Однажды, придя к чабану как гость, я застал Силантия Егоровича сидящим на самой нижней ступеньке крыльца. Он вытянул сухие, плохо гнущиеся в коленях ноги и, раскинув по бокам бурку, курил трубку. Я присел рядом с ним, и он, желая показать мне своих волкодавов, позвал их. Тем временем солнце уже поднялось над Мокрой Буйволой, светило по-осеннему голодно. Молокан первым отозвался на зов хозяина, подошел, сел на обрубок хвоста и, щурясь, сперва посмотрел на меня, а потом на залитое солнцем небо и шумно зевнул.
— Ну, примащивайся, — сказал Силантий. — Чего раззевался?
Молокан лег, положил морду Силантию на ногу и в сладкой дремоте закрыл глаза. Молокан хорошо знал своего хозяина, любившего беседовать с собаками, изливать им свое горе или радость, при этом приятно поглаживая им лобастые головы. Поэтому Молокан не стал медлить — все одно от этой беседы никуда не уйдешь. Полкан же и Монах сразу не последовали примеру своего старшего товарища, и не потому, что не знали о своем хозяине того, что знал Молокан, а потому, что от природы они были стеснительные и всегда, вертя огрызками хвостов, поджидали, пока их пригласят еще и еще. Поджимая короткие хвосты и моргая слезившимися глазами, они наконец приблизились к Силантию, то широко, во всю пасть, зевая, то сладко облизывая длинным языком свои слюнявые губы.
— Ну, чего стоите? Ждете особого приглашения? — строго спросил Силантий. — Поглядите, как удобно устроился Молокан. Ложитесь, кладите свои морды и вы.
«Ничего, мы и посидим, — одними глазами отвечал Полкан. — Оно как-то неудобно льнуть к тебе, мы же зараз не в отаре. Пусть лежит один Молокан, а мы и так, сидя, послушаем…»
— Кому я говорю — ложитесь! — прикрикнул Силантий. — Ну!
«Можно и лечь, отчего же не лечь, — так же, одними глазами, теперь уже отвечал Монах. — Мы привыкли к послушанию, да вот беда — живем без дела. А полежать можно, это нам всегда даже приятно. И послушаем тебя, мы к этому привыкли…»
И оба пса покорно легли и положили свои тяжелые головы на другую ногу Силантия. Лежали смирно, приготовились слушать.
— Вот и молодцы, — похвалил их Силантий, почесывая пальцами вокруг твердых собачьих ушей. — Ну как, Михаил, нравятся тебе мои волкодавы?
— На вид страшноватые, а так ничего, будто смирные, — ответил я.
— Ласковые и послушные существа, — сказал Силантий, продолжая чесать у собак за ушами. — Злыми они бывают, когда находятся на страже отары. Тут к ним чужой не подходи — беды не оберешься. — И обратился к волкодавам: — Погляжу на наше общее теперешнее положение, и, верите, горькая обида кольнет сердце. Задаю сам себе вопрос: для чего вас, таких мордастых да клыкастых, наделала природа? Исключительно для овечьего спокойствия. Овечки пасутся себе и пасутся, а вы тут, возле них, караульщиками. Глаз у вас востер, ноги быстрые, зубы вострые. Где ваше настоящее место? На степу, в отаре, близ овец. А вы где пребываете? Лежите на моих ногах и изнываете от безделья и от него же, от бездействия, духом и телом стареете и дряхлеете. Вот и ты, Молокан, состарился больше всех и стал таким лентяем. А ить ты таким не был. Я же тебя знал еще малюсеньким щеночком, когда ты мог свободно поместиться у меня за пазухой. А зараз ты каким стал? Извелся, особенно за последние годы. И глаза у тебя завсегда мокрые, как у старого деда, и шерсть на спине поредела, и того, острого, загривка нету. — И снова обратился ко мне: — Эх, Миша, горе в том, что собаки зараз никому не нужны. А почему не нужны? По причине тех сероштановских загородок. Когда это было на нашем хуторе, чтоб овца сидела взаперти и не паслась? Через то не только собаки не нужны. Изничтожаются, пропадают чабаны, подпаски, третьяки, арбички, сакманщики, и во всем повинен Сероштан. Придумал перепоручить отары машинам да моторам, овец стал кормить из яслей, суданку и люцерну измельчает и кидает ее в ясли. А зубы овце для чего даны? Ежели она не будет ими перемалывать траву, то они же повыпадают. Разве это порядок?
Было видно, что затянувшееся поучение Силантия Егоровича изрядно надоело собакам, но они делали вид, будто слушали, и только самый нетерпеливый из них, Молокан, не выдержав, приоткрыл мокрые крапленые глазки и ими сказал:
«Хозяин, и чего так сильно печалишься? И ругать никого не надо. Видно, время нынче такое, что без моторов не обойтись, а без нас, собак, обходятся… Как-нибудь проживем…»
— Закрой свои слезливые бельмы да помолчи, — сердито сказал Силантий. — Молокан, я тебя знаю, кобелюка ты умный, а вот встревать в чужие разговоры нехорошо. «Видно, время нынче такое, что без моторов не обойтись, а без нас, собак, обходятся». Это что, и тебя уже Сероштан сагитировал? Что значит — не обойтись? А как же раньше мы без моторов обходились, и еще как! И какие у нас были овцы без моторов, и какое давали руно! А о своей собачьей долюшке ты подумал? Вот вы все трое, кто вы есть зараз? Никто. В эту пору вам бы зверя выслеживать да за овцами приглядывать, а вы что делаете? Лежите, как господа, у меня на ногах и позевываете. А отчего позевываете? Оттого, что скучно. А отчего глаза позакрыли? Да оттого, что совестно. Ить из старательных трудяг вы стали лодырями, бездельниками, или как это еще? Тунеядцы, вот вы кто! Да в вашей внутренности уже нет никакой собачьей злости, вы дажеть гавкать поразучились. Это скажите спасибо, что взял вас к себе, сжалился. Жалко мне вас, все ж таки привык к вам, сколько годков бродили по степу вместе.
Силантий Егорович еще долго говорил своим ровным глухим голосом, поучал собак, рассуждал обстоятельно и обо всем, что приходило ему на ум, а кобели терпеливо молчали и слушали. Даже Молокан ни разу не открыл глаза и не шевельнул ушами. «Пусть себе поговорит, ему без этого нельзя, а наше дело маленькое — молчать да слушать», — наверное, думал Молокан. А вообще-то, надо полагать, волкодавы во многом соглашались со своим ворчливым хозяином, например, в том, что они были лишены прежней злости и что разучились как следует лаять даже на приблудного кота или на кур — ведь от правды даже собака никуда не уйдет. Но во многом они не соглашались со старым, знающим жизнь чабаном и считали, что в одном он был безусловно неправ: несправедливо было называть их лодырями, а тем более — тунеядцами. Этого они никак не заслужили. Правда, той большой и ответственной работы, которую они денно и нощно выполняли когда-то в отаре, у них сейчас не было. Но разве в этом их вина? Да и какие же они лодыри и тунеядцы, если и теперь без дела не сидят?! То прогоняли со двора чужого кота, который частенько подкрадывался из-за плетня к погребку, чтобы полакомиться там сметаной, то распугивали на огороде соседских кур, приходивших сюда портить грядки. А по воскресеньям — об этом знает вся Мокрая Буйвола — они сопровождали Силантия Егоровича к Дому культуры и там перед изображением чабана пели в три голоса — дело хоть и легкое, не собачье, а все ж таки важное.
7
В своем искреннем желании хоть чем-то угодить Силантию Егоровичу волкодавы однажды излишне переусердствовали, и случилось это опять же по вине Молокана. Как-то неожиданно, как часто это с ним бывает, на ум ему пришла идея уйти из дому и заняться настоящим делом. Полкан и Монах, собаки, в общем-то, безвольные и безынициативные, охотно с ним согласились, и на рассвете все трое покинули двор Горобца, прошли через огород, перемахнули невысокую изгородь, перепрыгнули канаву и направились в степь. Куда они пошли, по какому такому настоящему делу? Никто не знал. Утром Силантий Егорович, проснувшись, как обычно с трубкой вышел на крыльцо и привычно крикнул:
— Эй, ко мне!
Постоял, подождал, собаки не подбежали к крыльцу, словно бы и не слышали зов. Силантий Егорович не придал этому факту особого значения, подумал: мало ли куда могли отлучиться волкодавы, может, гуляют по хутору и скоро вернутся. Однако прошел день, за днем прошла ночь, потом снова наступил день и наступила ночь, и на третий день солнце уже заиграло в верхушках тополей, стоявших за хуторами, а собаки все еще не возвращались. И только уже в сумерках на четвертый день в открытую калитку неожиданно тихо и как-то бочком первым вошел Молокан, измученный, до живота забрызганный росой, и глазки его смотрели боязливо. Следом за ним в калитке показались не его дружки, а шесть штук овечек, и только после этого, замыкая шествие, появились Полкан и Монах.
Силантий Егорович услышал знакомое поскуливание Молокана и вышел из хаты; стоял на крыльце и глазам своим не верил: шесть овечек находились в окружении волкодавов. Без труда старый чабан заметил, что собаки были в степи, бродили по росистой траве; были они худые, с подобранными боками, забрызганные и грязные. Взглянув на собачью добычу своим наметанным глазом, Силантий Егорович сразу же определил, что это были молодые овцы окота прошлогодней зимы — две ярочки и четыре баранчика, которые отличались только тем, что на их парубоцки-курчавых головах уже заметно выглядывали воскового оттенка рожки. То, что в своем дворе он увидел овец, показалось ему таким непонятным и таким странным видением, что Силантий Егорович долго как очумелый покручивал головой, ломал в жмене длиннющие стрелы-усы и молчал, потеряв дар речи. Только после долгого безмолвия он от удивления развел руками и спросил осипшим голосом:
— Это что еще за чудасия? Где вы, окаянные, пропадали и откуда доставили овечек? И кто вам это разрешил, а? Молчите, разбойники?
Вместо ответа Молокан в ту же минуту припал к ногам хозяина, оскалил в жалкой улыбке зубы, скулил и что-то говорил и этим своим скулением и своими желтоватыми, полными слез глазами. А что он говорил? Нельзя было понять. Одно Силантию Егоровичу было понятно: овцы — чужие, не было сомнения в том, что волкодавы их угнали, а точнее, украли, и это сильно огорчило старого чабана. Силантий Егорович побагровел, сунул горящую трубку в карман, изменился до синевы в лице и так обозлился, что, толкнув припавшего к нему Молокана, как заводилу и выдумщика, заорал на весь двор:
— Ах, изверги! Ах, воры! Ах, мучители вы мои! Ах, прохвосты! Кто научил вас этому безобразию? Кто позволил самовольничать? Молчите, окаянные?!
«Хозяин, мы хотели как лучше», — только и успел сказать своими жалкими глазами Молокан, но Силантий заглушил его гремящим басом:
— Ах вот что? «Мы хотели как лучше»? Это ты, Молокан, придумал «как лучше»? Помолчи, Молокан, ишь, нашел оправдание. Хотел как лучше… А что получилось на деле? На деле получилось так, что хуже и не придумаешь. Вы же позор свалили на мою голову! Как я после этого стану смотреть людям в глаза? Что я им скажу в свое оправдание? Подумали вы об этом, разбойники? Овец надо сейчас же вернуть, слышите, казнокрады разнесчастные! А кому вернуть? Молчите? Ну, Молокан, друг ты мой любезный, никак не ждал от тебя такого безобразия! Ты чего ползаешь на животе? Все одно я тебе не прощу, ты еще ответишь мне за свои злодеяния!
На крик мужа из хаты вышла всегда спокойная Феклуша. Может быть, это ее спокойствие пришло к ней с годами, потому что на своем веку она немало повидала и познала и в житейских делах была намного практичнее своего мужа. Мне было известно, что вместе с Силантием Егоровичем они прошли всю их длинную, выбеленную ковылем дорогу, и там, в ковыль-траве, среди степи она рожала детей, там их и растила, и там исполняла обязанности арбички. И вот она, стоя рядом с мужем, тоже с любопытством и с недоумением смотрела и на овец и на собак. И так как она не хуже Силантия Егоровича разбиралась в овцах, то и имела право сказать:
— Славные овечки! Мериносовые и еще молоденькие. Силантий, они наши?
— Держи карман пошире, — зло ответил Силантий Егорович. — Какие там наши? Краденые!
— Собаки пригнали или сами приблудились?
— Молокан, прохвост, постарался. А с ним ходили и те два дурня. И не пригнали, а угнали, украли, подлецы!
— Вот потому они где-то пропадали четыре дня, — сказала Феклуша. — А знаешь, Силантий, через чего они затеяли эту историю?
— Через чего, по-твоему?
— Через то, что соскучились, бедняги, по овечкам, — уверенно ответила Феклуша. — А как поисхудали! Силантий, ты их накорми. Ить голодные.
— Как это — накорми? За что кормить воров?
— Так они же четыре дня жили без пищи… А овечек загони в сарай, пусть там побудут.
— Как же так — загони в сарай? Что мелешь, старая? — удивился Силантий Егорович. — О чем толкуешь, мать, куда, в какую преступность меня пихаешь? Знать, по-твоему, так: овечек мы загоним в сарайчик, как своих, и пусть они там находятся. Это что же получается? Это же наглядное воровство! Чужих овечек припрячем в сарайчике. Так, а? Позор на мою седую голову! Какое такое мы имеем право не своих овец загонять в сарайчик?
— А куда же их девать? — спокойно, по-житейски просто спросила Феклуша. — Не выгонять же на улицу. Пусть побудут у нас. Такие славные овечки…
— Краденые, а не славные, — все еще волнуясь, сказал Силантий Егорович. — По-твоему, мать, так: этих овечек мы сохраним в сарайчике, а стервецу Молокану прикажем, чтобы он со своими дружками завтра же не мешкая сызнова отправился за добычей, и, гляди, дня через четыре еще прибудут до нас ярочки и валушки. И таким воровским путем образуется у нас своя отара. И собакам была бы работенка, и нам одна выгода. Так, а?
— И не так же, — тем же своим спокойным голосом ответила Феклуша. — Дурочкой меня, не считай, знаю не меньше твоего. Я же тебе толкую: пусть овечки не навсегда, а покамест побудут у нас. Отыщется хозяин — отдадим. Нам чужого не надо. А собакам дал бы корму, вишь, как они, бедняги, извелись. Они же старались и никак не думали, что ты так обозлишься… Так что покорми их.
— Не корма им надо дать, а хорошего арапника, — гневно сказал Силантий Егорович. — Ну вот что, мать, ты тут сама, без меня управляйся как знаешь. Можешь спрятать овечек и накормить этих разбойников, а я поспешу к Сероштану.
— Чего ради на ночь глядя? Сходишь утром.
— Надо зараз узнать, может, овцы из его загородки.
— Ну, придумал! Собаки гнали их до хутора четыре дня и четыре ночи. Сколько это верст.?
Бывшая арбичка не стала подсчитывать, сколько верст прошли собаки, прекратила перебранку с мужем, потому что как раз в это время мы с Олегом на «Запорожце» подъехали к горобцовскому двору и фарами озарили дом с крылечком.
— Ах! Михайло, — сказал Силантий Егорович, встречая меня и Олега. — Что так припозднился? Обещал заехать днем.
— Задержался в хуторе Раздольном, — ответил я. — А это что у вас за овцы?
— Не овцы, а горе, — грустно ответил Силантий Егорович. — Да еще какое горе…
И он вкратце рассказал мне о проделках волкодавов.
— Дядя Силантий, а чего вы так горюете? — весело спросил Олег. — Пустите одного валушка под нож, вот вам и свежий шулюм. Вся округа знает, что лучше вас никто не умеет приготовлять шулюм.
— Какой там еще шулюм, что ты мелешь, — ответил Силантий Егорович и присел на крыльце. — Тут, брат, не до шулюма.
В это время, не вступая с ним в разговор, Феклуша препроводила собачью добычу в сарайчик, на огороде нарвала травы для них, а для волкодавов заварила кипятком пойло, засыпав его отрубями. Силантий Егорович все еще сидел на крылечке с горестно опущенными усами. Потом поднялся, пошел в хату, надел там чистую рубашку, костюм, желтые туфли, голову накрыл картузом и, снова появившись на крылечке, сказал:
— Михайло, а поедем со мной к Сероштану. Хочу спросить, может, это его овцы.
8
К дому Сероштана мы подъехали уже в темноте, вошли во двор, поднялись по ступенькам. В окнах горел свет, над входными дверьми висел фонарь, хорошо освещая черную, похожую на пуговицу от пальто кнопку.
— Видал, ты его, и дома у него выдумки — звоночек подстроил, без этого никак не может, — сказал Силантий Егорович. — Подлаживается под городской манер, наводит культурность.
Он нажал кнопку. Послышался звонок, и тотчас дверь распахнула беременная Катя с лицом бледным, обрюзгшим.
— Ах, это вы, — сказала она упавшим голосом. — И Миша! Входите.
На наш вопрос, дома ли Андрей, Катя не ответила, только удивленно, со слезами на глазах посмотрела на меня и ушла в свою комнату. В это время из соседних дверей появился старый Сероштан. Увидев Силантия Егоровича, своего кума и давнего дружка, с кем в молодые годы довелось парубковать в Мокрой Буйволе, а с ним и меня, дед Аверьян обрадовался нежданным гостям, увел нас на свою половину, говоря жене:
— Феодосьевна, а ну угадай, кто до нас пожаловал?
— Боже мой, куманек! — воскликнула Феодосьевна. — И Миша! Каким таким ветром?
— Попутным, попутным, Клавдюша, — отвечал Силантий Егорович. — Так нас сюда ветерком и подбило, аж до порога.
— Жаль, что редко дует тот попутный ветер, — сказал Аверьян Самойлович, давая понять куму, что тот не часто у него бывает. — Забыл дорогу до меня, Силантий.
— А ты до меня, Аверко?
— Да и я тоже.
— Чего без дела-то ходить?
— Разве зараз прибыл по делу?
— А как же! — ответил Силантий Егорович. — До Андрея Аверьяновича.
— Ныне у всех до него дела и дела, а его еще и дома нету, — с чувством материнской грусти ответила Клавдия Феодосьевна. — Видали, как Катерина понеслась открывать дверь, думала, Андрюша приехал. Ошиблась. Ить он такой злющий до работы, что на рассвете уходит из дома, а только в полночь заявляется.
— Что это невестка такая сумная? — спросил Силантий Егорович.
— А чего ей веселиться? День у день одна, в чужом доме. — Феодосьевна понизила голос. — Эх, кум, беда с ними, с молодыми. Хорошо, что старшие разъехались и как они там живут в отдаленности, родители не знают. А Андрюшка рядом, думали, женится, старикам полегчает. А он, не успев обручиться, так влез в свои дела, что и о жинке некогда подумать. Катя плачет, и мне ее жалко, а Андрюша злится. Каково все это родителям?!
— Ну, хватит, мать, люди они молодые, сами поссорятся, сами и помирятся, — рассудительно заговорил Аверьян Самойлович. — Садитесь, Михаил, Силантий, да поведайте, какие у вас дела до Андрея.
Силантий Егорович присел на стул, расправил усы, собрался с мыслями и коротко
рассказал о проделках своих волкодавов.
— Так ты, Силантий, считаешь, что овечки из нашего комплекса? — в упор спросил Аверьян Самойлович. — Так надо понимать?
— Была у меня и такая думка.
— Выбрось ту думку из головы и забудь, — уверенно говорил Аверьян Самойлович. — Сам посуди: как же могли собаки угнать овец из такой надежной загородки? Да там и рукастый вор ничего не сделает. Нет, это овцы не наши.
— Тогда чьи же они? — мрачнея, спросил Силантий Егорович.
— Я так думаю, что они из тех, каковые блукают по степу, — ответил Аверьян Самойлович. — Помнишь, когда мы чабановали, и у нас иногда бывали в отарах случаи, когда две-три овцы отбивались по недосмотру и терялись в степи. Видать, таких потерянных и отыскали твои разбитные волкодавы.
— И пригнали-то не куда-нибудь, а во двор, — соглашаясь с мужем, сказала Феодосьевна. — И до чего же разумные собаки у тебя, кум.
— Так что же мне с овцами теперь делать?
— Как что? — удивился Аверьян Самойлович. — Чудак человек! Оставь их у себя, и делу конец. Ить бесхозные, блуждали по степи, и раз они оказались у тебя, то, считай, твои.
— Не-е, Аверьян, так нельзя. — Силантий Егорович еще больше помрачнел. — Это будет не по-человечески, сказать, не честно. Чужое мне не нужно. Такой грех на душу не возьму. Собаки — это, одно, они животина, могут делать все, у них души нету, а мы — люди…
Затянувшийся разговор с Аверьяном Самойловичем, с его словоохотливой женой не успокоил старого чабана. Андрея дожидаться он не стал и дорогой, когда мы возвращались к нему домой, упросил меня и Олега переночевать у него, а завтра утром поехать с ним к Суходреву в Богомольное. Поднялся он рано, разбудил и нас. Жаловался, что всю ночь не спал, мысленно проклинал волкодавов. За завтраком поругался с женой, злой и нелюдимый, влез в «Запорожец», и мы поехали к Суходреву. Прославленного овцевода Суходрев встретил широкой улыбкой и радостными пожатиями рук, усадил к столу, в мягкое кресло, и спросил, что заставило его тащиться в такую даль. Выслушав короткий рассказ о том, как к нему во двор попали шесть овец, Суходрев с улыбкой посмотрел на меня и сказал:
— Вот, Михаил, что бывает в жизни. Напиши в газету — не поверят. Ну и волкодавы у вас, Силантий Егорович! Ну и молодцы!
— Какие же они, Артем Иванович, молодцы, — возразил чабан. — Это же настоящие разбойники. Изверги! Мучители мои!
— Но ведь надо же было сообразить, как найти овец и как их пригнать во двор? — смеясь говорил Суходрев. — Нет, что вы о них ни говорите, а молодцы! Но откуда же они их пригнали?
— В том-то и горе мое, что не знаю. Кабы знал, то и к тебе бы не приехал. Подсоби, Артем Иванович, отыскать хозяев. Душой изболелся…
— Как же мне вам помочь? — Суходрев вышел из-за стола, подошел, как обычно, к окну и посмотрел на улицу. — Силантий Егорович, а что, если мы сделаем так: я сейчас же дам указание зоотехникам, пусть они свяжутся с хозяйствами и по телефону узнают, у кого пропали овцы. — И, подойдя к столу быстрыми шагами, он снял телефонную трубку и сказал, чуть наклонясь: — Валентина, срочно свяжитесь со всеми отделениями и узнайте, у кого вчера пропали овцы. Шесть штук…
— Артем Иванович, все будет сделано, — послышался в трубке приятный женский голос.
— Только срочно, — сказал Суходрев и обратился к чабану: — Силантий Егорович, подождем немножко.: Но заранее могу сказать: у нас на комплексах такого рода собачье воровство исключено. За вычетом, разумеется, Привольного с его соломенными кошарами.
— А ежели в нашем совхозе хозяева овечек не отыщутся? — подавленным голосом спросил старик. — Тогда что?
— Дадим объявление в районную газету, — живо, ответил Суходрев. — Не исключено, что ваши разумные существа побывали у наших соседей. Ну и волкодавы! Ну и молодцы! Надо же додуматься до этого!
— Додумались на мою голову, — тем же подавленным голосом сказал чабан. — А ежели и после объявления хозяева не отыщутся? Тогда как?
— Значит, считайте, что овцы ваши, — ответил Суходрев. — Так сказать, подарок от волкодавов.
— Такое, Артем Иванович, не годится, это не подарок, а безобразие и позор на мою седую голову. — Двумя пальцами Силантий Егорович тронул свои длинные усы, насупил брови. — Никак не могу считать их своими. Может, отогнать Сероштану? В общую кучу, а?
— Чужие овцы и Сероштану не нужны. — Суходрев хитро улыбнулся. — У него и своих овец предостаточно.
— Так что же мне с ними делать? Выгнать на улицу?
— Зачем же их выгонять на улицу? — сказал Суходрев. — Пока храните у себя, а там видно будет.
Вошла та самая Валентина с приятным голосом, молодая, стройная, повязанная косынкой, и сказала:
— Артем Иванович, я лично звонила во все хозяйства и отовсюду получила один и тот же ответ: овцы не пропадали.
— А что сказал Анисим Иванович Чазов?
— Даже обиделся. У меня не то что овца, а клок шерсти из овцы не пропадет.
— Спасибо, Валя, вы свободны, — сказал Суходрев.
Валентина ушла той же своей легкой походкой, высоко подняв голову, и в кабинете наступило долгое молчание. Силантий Егорович низко склонил голову и, казалось, уже дремал. Суходрев не стал успокаивать старика, взял карандаш, лист бумаги и сказал:
— Напишем вот так: «В совхозе «Привольный» приблудились шесть молодых мериносовых овец — две ярочки и четыре валушка. Просим владельцев этих овец обращаться в контору совхоза, в село Богомольное». Ну что, Силантий Егорович, вы согласны?
— Согласный я, — ответил чабан, не поднимая головы.
— Сегодня же это объявление направим в газету.
После того как в районной газете было напечатано объявление о приблудившихся овцах, прошло больше месяца, а хозяева двух ярочек и четырех валушков так и не находились. А осень входила в свои права, с Каспия, как обычно, подули студеные ветры, клочковатые тучи свинцового оттенка укрыли небо. Пригнанные волкодавами овцы все так же находились в сарайчике, и что с ними делать дальше — Силантий Егорович так и не знал. Жизнь у него стала нерадостна, он уже перестал приходить к своему бюсту, на-собак своих не смотрел, не подзывал к себе и не разговаривал сними, как бывало раньше. От горя, от бессонных ночей старик совсем извелся, исхудал.
9
До отъезда в Москву мне еще раз довелось побывать у Силантия Егоровича, и, чтобы как-то пояснее и покороче изложить общий смысл моего с ним разговора, следует, наверное, упомянуть прежде всего о том, что старого чабана со временем перестали беспокоить и странные проделки волкодавов, и то, что хозяева угнанных овец так и не нашлись. Каждый раз Силантий Егорович начинал и кончал разговор лишь упоминанием о приблудных овцах и сразу же говорил, что на душе у него лежала давняя, застаревшая тревога и что вот о ней-то он и помнил каждый день.
— Что для меня эти шесть овечек? Так, пустяк, и ничего больше. Не отыскались хозяева, и не беда. Подожду еще с месяц, а потом пущу под нож валушка и буду угощать шулюмом соседей, пусть лакомятся, — говорил он, подбодрив ладонью свои усищи. — А вот моя главная беда, дорогой товарищ, что на старости моих годов жизня моя пошла наперекосяк, завихляла, закружилась. Много в моей жизни стало непонятного и непривычного, сказать, чужого. Рассуди сам. Того, неживого Горобца поставили перед Домом культуры, пусть-де стоит, как страж, а этого, — он положил сухую волосатую руку на грудь, — живого Горобца заставляют разувериться в том, во что он верует с малого детства. И через то, дорогой товарищ, и проистекает душевная тревога, и мучают бессонные ночи, и сидят в голове мои каждодневные, тяжкие, как гири, думы… А кто повинен? Андрей Сероштан, и никто другой. Не вернулся бы он в Мокрую Буйволу, и все, что тут устоялось за многие годы, как устанавливается в ставке вода, так и сохранилось бы нетронутым, а извечный наш чабанский порядок не был бы нарушен. А что у нас зараз получилось? Куда ни глянь, кругом одна безобразия. Вот у твоего дяди Анисима Ивановича во всем порядок, а у нас — во всем непорядок.
— Сгущаете краски, Силантий Егорович…
— А чего их сгущать? Прибыл к нам Сероштан и разорил готовое, все то, что до него тут построили наши хуторяне, и радуется, — продолжал изливать обиду старый чабан. — А тут надобно не радоваться, а плакать. Так иной раз бывает с муравейником в степу. Мирные трудолюбивые существа постарались и соорудили все так разумно, что лучшего и желать не надо. Один, человек умный, пройдет мимо муравейника, полюбуется тем порядком, каковой завели у себя муравьи, и пойдет себе своей дорогой. А другой? Так, сдуру, ковырнет палкой, и уже все привычное, установившееся нарушено… Вот точно так, дорогой товарищ, и поступил Сероштан в Мокрой Буйволе. Ковырнул палкой, и все тут. Построил для овец загородки — надо же такое придумать! Лишил животину свободы, а чабанов — их привольной житухи. А зачем? Кому нужно это овечье несчастье? Никому. Упрятал овец в каменный мешок и геройствует. И хоть возле тех мешков пристроил загороженные базы, но это же не степь, а всего только базы.
Мне не раз приходилось замечать: Силантий Егорович или не мог выговорить, или не хотел произносить слово «комплекс» и всегда говорил либо «сероштановские загородки», либо «овечье несчастье». Он уверял меня, что овцы, отлученные от пастбищ, от привычного для них раздолья, постепенно переродятся и погибнут, потому как по своей свободолюбивой природе они не то что, допустим, свиньи, не смогут вынести длительного затворничества. К тому же им нужен корм не тот, который секут и косят машины и который воняет бензином, а тот, который всегда находится у них под ногами.
— Она, овечка, знает, каналья, какую травку съедать ей утром, натощак, а какую в обед или вечером, — пояснял старик. — Сколько помню себя — от мальчуганства, когда еще мой батько первый раз взял меня с собой в отару, и до старости, — я знал, что овцы, как ты их ни приучай к иной житухе, а они без приволья, без того, чтоб перед их взором, куда ни глянь, повсюду стелилась трава и трава, это уже не овцы, а так, одна видимость. То же можно сказать и о чабанах: ежели они не ходят за отарой и уже позабыли, что оно такое, ярлыга, и как ее класть на плечо или как ею хватать овечью ногу, то это уже не чабаны, а одна насмешка над чабанами.
Себя же он считал настоящим чабаном, то есть человеком степным, у которого от рождения были задатки овцевода, дававшие ему право как-то по-особенному, не так, как другие, любить и понимать отару: он был уверен, что отару никто так не мог ни любить, ни понимать, как любил и понимал он, и этим гордился. Может быть, поэтому при всяком случае, а чаще без случая напоминал, что не зря же на его груди красуется не одна, а две Звезды Героя и не чья-либо, а его, Силантия Горобца, голова отлита из бронзы и поставлена в центре Мокрой Буйволы — пусть люди смотрят и знают, какие на свете бывают настоящие чабаны.
Как-то я попросил старика пойти со мной на овцеводческий комплекс.
— Удивляюсь на тебя, Михайло, — сказал он, хмуря брови. — Это за каким же дьяволом мне туда ходить?
— Просто сходим, посмотрим вместе.
— Глаза мои не могут глядеть на ту безобразию.
— Все же интересно посмотреть.
— Ничего там интересного нету. Есть одно знущание над животными.
И все же согласился.
Как только мы пришли на комплекс, издали почувствовав специфический запах кошары, и Сероштан, увидев нас, направился к нам навстречу, старик, вместо того чтобы поздороваться, спросил:
— Ну что, Андрюха, овцы еще не передохли?
— Все целенькие, — с улыбкой ответил Сероштан. — Можете посмотреть.
Старый чабан нарочито отворачивался от кирпичной, под белым шифером, кошары, во всем возражал Сероштану, доказывал ему, что содержать овец взаперти грешно. Сероштан же либо умышленно уходил от спора, отмалчивался, наверное, не хотел обижать старого человека, либо, поглядывая на усатого, с сутулыми плечами старца, вежливо отвечал:
— Силантий Егорович, я и уважаю вас и ценю ваши заслуги, но согласиться с вами и с вашей теорией никак не могу.
— Ответствуй, почему не можешь? Гордость не позволяет? Или что еще?
— Потому я не могу с вами согласиться, что со своими суждениями вы сильно приотстали от жизни, — все-так же вежливо говорил Сероштан. — И ничего в том удивительного нету. Так случается на дальней и трудной дороге, когда приходится преодолевать крутые подъемы и спуски. Немолодой путник теряет силы, отстает от тех, кто помоложе и посильнее, а сознаться в том, что он выбился из сил и потому приотстал, ему совестно. Вот он и тянется следом кое-как, и злится.
— Силы у меня еще имеются, и отставанием меня, слышишь, Андрюха, не попрекай, — возражал старик, сердито из-под насупленных бровей глядя на Сероштана. — Хоть грамотой, верно, я и не сравняюсь с таким грамотным, как ты, потому что обучался не по книжкам, а по степным путям-перепутьям. Но ты же годишься мне в младшие сыновья. И ежели хорошенько поразмыслить, то не я отстал от других, а ты сильно попер черт знает в какую сторону. Чего зубы скалишь? Скажешь, не так, да?
— Вот именно — не так.
— А я докажу, что так, — стоял на своем старик, и в эту минуту усатое его лицо было гневным. — Сколько разов спрашивал и еще спрошу: что лучше для отары — степь под чистым небом, травы, просторы? Или эти твои кирпичные загородки с кормушками? Раздолье и свобода в овечьем движении или их неволя?
— Не неволя, а стационарное содержание, — ответил Сероштан, не переставая улыбаться. — Да вы как опытный чабан взгляните на овец. Посмотрите, как они выглядят.
— И еще спрошу, — не слушая Сероштана и не отвечая ему, говорил Силантий Егорович. — Могут ли овцы кормиться из кормушек и по часам? Отвечаю ответственно: нет, не могут! Овца должна быть завсегда сыта, и не по часам, а сама по себе, сказать, по своему усмотрению, потому как корм у нее постоянно должен находиться под ногами. А ты как и чем кормишь их, разнесчастных? Зарядишь на всю неделю одну суданку и возишь ее на тракторах, пока всю делянку не перевозишь. Тебе же, человеку ученому, должно быть известно: лучшее питание для овец было во все времена и осталось — это разнотравье. Не оскаливай, Андрюха, зубы, а вникни в слова старших.
— Силантий Егорович, я слушаю, — сказал Сероштан, не в силах погасить улыбку.
— Так о чем я тебе толкую? О том, что на своем веку мне довелось насмотреться, как овцы пасутся, и подсчитать: за сутки каждая овца съедает более тридцати сортов трав, вот как! — продолжал старый чабан, сбив на лоб кубанку. — Ты же везешь овце одну суданку или одну люцерну. А овца, губа не дура, своим природным чутьем угадывает, и завсегда безошибочно, какую травку, допустим, съедать ей весной, какую летом или осенью, а какую зимой. Ежели для наглядности взять типчак и повилику, то овцы эти сочные травы поедают больше всего по весне, когда кормят своих малых ягняток молоком. А вот, допустим, чертыган кушают осенью, а, к примеру, шпорыш, березку узколистую хорошо поедают летом. А в твоей загородке есть такое разнотравье? Нету. И сегодня и завтра одна рубленая суданка али одна сеченая люцерна, и все.
— Почему же одна? — спокойно возразил Сероштан. — Нет, Силантий Егорович, далеко не одна, тут вы не правы. А концентраты? Приготовлены они специально для овец, на научной основе, и с успехом заменяют как раз тот подбор трав, о которых вы говорили.
— Не заменят! Не смогут заменить! — со злостью сказал старик и так тряхнул головой, что кубанка сползла на затылок. — Не мели чепуху! Полевые травы никакая химия не заменить. Для примера бери тот же шпорыш. Ить шпорыш как раз и содержит в себе все то вещество, каковое требуется для роста шерсти. Ты не ходил за отарой и не знаешь, что к чему. А я знаю. Мне всю жизнь довелось плутать следом за отарой, и сколько раз, бывало, замечал, с какой охотой овцы поедают шпорыш, когда набирают молодую шерсть. Или берем типчак. С виду растение-то неприметное, в рост не идет, а стелется по земле ковриком. А какая это незаменимая травка, когда животному требуется соль. Или обрати внимание на золототурган. Красивое название, и сама трава красивая. Но и по питательности она особо важная. Лучше ее ничего нету для овцематок, да и для ягнят в пору их роста. Идут малыши рядом с матерями и так сладко пощипывают листочки золототургана…
Андрей Сероштан терпеливо слушал старика, не перебивал, и чуть заметная улыбка ласкала его строгое лицо.
— Все это так, согласен, да и человек вы, Силантий Егорович, хороший, и чабан отличный, — сказал он. — Но свое вы отходили за отарами, и понять вашу тревогу я могу, а вот изменить что-либо не в моих силах. Вы помните о травах все, что нужно о них помнить чабану, и забываете, что тех степей, где росли эти травы, уже нет, они перепаханы, а тысячи голов овец содержать мы обязаны. Так где же выход? И как нам быть?
Он хотел еще раз напомнить старому чабану, что вокруг Мокрой Буйволы давно уже нет тех естественных трав, какие здесь были раньше, и там, где когда-то лежали привольные пастбища, прошли плуги и бороны и теперь растет, колосится пшеница, так что сама жизнь заставила перевести овец на стационарное содержание. Но Сероштан больше ничего не сказал. Не хотелось ему вступать в бесполезный спор со старым и всеми уважаемым человеком. Не хотелось потому, что Силантий Егорович и в самом деле был превосходным знатоком степных трав, и если он говорил, что в типчаке имеются нужные животным минеральные соли, то так оно и есть, и доказывать ему, что те же минеральные соли имеются и в концентратах, — напрасный труд. Старик и слушать не станет.
Силантий же Егорович про себя решил, что Сероштан умолк только потому, что в свое оправдание ему нечего было сказать.
— Ну что, Андрюха, сдаешься?
— Не совсем. Но лучше помолчу.
— Вот так оно будет справедливее.
Старик расправил свои сухие, сутулые плечи, гордо поднял голову и, поправляя кубанку, примащивая ее набок, по-парубоцки, сказал:
— Будем считать, Андрюха, что теперь ты понял мою правду. Молчишь? Знать, понял. — И он обратился ко мне: — Михайло, ежели хочешь, пойдем со мной, прогуляемся по пригорку. Земля, верно, вся перепахана. Но на межах и на пригорках все ж таки сохранилась овечья травка. Покажу ее в натуре. Да и давненько я там не ходил.
Он шел с видом победителя, подняв голову с посаженной «набекрень» кубанкой, шаг у него был широкий, я с трудом поспевал следом. Впереди нас бежали волкодавы, обрадованные тем, что наконец-то их хозяин, вволю наговорившись, направился в степь. По смышленым глазам Молокана я понял, что тот на ходу уже успел сказать Полкану и Монаху: «Радуйтесь, наш хозяин направляется не домой. А почему не домой? Да потому, что дома ему, как и нам, скучно, и я уже не раз замечал: всегда, когда он много говорит, да еще злится, то непременно уходит в степь, чтобы там побыть одному. Вот мы и сможем побегать на просторе и, чего доброго, изловить какого-нибудь зверька…»
10
Умный, догадливый Молокан не ошибся. Силантий Егорович и в самом деле направился не в хутор, а мимо приземистых кошар, сложенных из добротного красного кирпича и покрытых белым шифером, как полотном, — далеко видно! Он обогнул эти не милые его сердцу строения и: поднялся на отлогий, не тронутый плугом и потому густо синевший полынью пригорок.
— Присядем, Михайло, да отдохнем, — сказал он. — Как же хорошо, как же удобно сидеть на земле.
Он уселся по-чабански, согнув сухие, хрустнувшие в коленях ноги, — точно так, как, бывало, не раз, приморившись, усаживался близ отары или возле костра. Правда, для полноты былой картины весьма и весьма не хватало ярлыги, положенной на плечо или торчмя поставленной между ногами, и, разумеется, пасущихся невдалеке овец. Тут, на пригорке, волкодавы не обращали на своего хозяина никакого внимания. Знали по личному опыту: Силантий Егорович мог просидеть вот так, с согнутыми ногами, часа два, а то и три, и поэтому, не мешкая, отыскали нужную им норку и старательно занялись делом. Заработали сильные, пружинистые передние лапы, да так энергично, что мелкие кусочки сухой земли пулями летели вверх. Разрывая норку все глубже и глубже, собаки все еще никак не могли понять: то ли хорьком пахнет, то ли сусликом.
«Вот к чему привело нас наше долгое безделье, мы даже разучились определять запахи, — рассудительно, как всегда, говорил Молокан, не переставая работать лапами: — И все же я утверждаю: из норки попахивает молодым хорьком».
«И вовсе не хорьком, — возразил все время молчавший Монах, умело выгребая передними лапами землю. — Разве вы не слышите? Из норки так и прет суслячьим гнездом, там, надо полагать, суслята сидят и нас поджидают».
«А глубоко упрятались в землю», — сказал Полкан, и его передние лапы запружинили еще больше.
Силантия Егоровича, как я заметил, совсем не интересовали старания волкодавов. У него свое на уме. По мрачному лицу, по тому, как свисали его усы, было видно, что старику не было никакого дела до того, какой именно зверек прятался в норке и какой запах щекотал собачьи ноздри. Он задумчиво смотрел то на яркие зеленя озимых, то на черные полотнища пахоты. «А ить это все были пастбища, — думал он. — Где же вы теперь, травы, цветочки, ковыль-трава, маки полевые?» До самого горизонта уходили знакомые балки, ложбины, манили к себе, звали. Внизу же широко и привольно раскинулось то, что именовалось овечьим комплексом и что приносило старому чабану столько горя. Силантий Егорович смотрел и смотрел на стоявшие по отлогой равнине строения, так удивительно похожие на фабрику в степи: как бы желая особо подчеркнуть это сходство, торчала кирпичная, в точности фабричная, труба, и из нее синим лоскутком тянулся дымок. «Работает кухня, — думал Силантий Егорович. — Приготовляют те травы, каковых в природе уже нету…»
— Овечья фабрика, — сказал он сам себе, не переставая смотреть на трубу. — Нету чабанства, погибло. И как же теперь жить?..
Он перевел взгляд на белые, будто полотняные, крыши, на просторные базы, обнесенные дощатой изгородью, на овец, темневших в этих базах серыми, грязными кругами, и в его старческих подслеповатых глазах я увидел мутные слезы.
Чувствуя тупую боль в груди, старик плакал по-стариковски трудно, не всхлипывал, не шмыгал носом, плакал совсем не так, как обычно плачут.
— Что с вами, Силантий Егорович? — спросил я.
— Чегось на старости годов изделался дюже слезливым, — ответил он слабым голосом, и крупная слеза покатилась у него по щеке. — Думки слезу вышибают, мучат душу…
— Какие же у вас думки?
— Разное прет в голову. — Он закрыл костлявыми руками мокрые глаза. — Вот сижу тут, и видится мне вся моя жизнь — от ее зарождения до ее старения. Вся она прошла в Мокрой Буйволе и в степу. Ну и что из того? Зачем, думаю, жил, для чего старался?
— Ну как же, Силантий Егорович, — посочувствовал я. — Жизнь-то прожили не зря, сколько принесли людям пользы.
— А спроси Сероштана?
— И Сероштан скажет то же. Люди вас уважают…
— Люди? Уважают? А зачем те люди степь исковеркали плугами? — Силантий Егорович помолчал, тыльной стороной ладони вытер глаза. — Ить она, степь, для меня все одно как дом родной. Исходил я ее и в длину и в ширину, кажется, не отыскать такой ложбинки и такого бугорочка, где бы не ступали мои ноги… И может, через то вижу себя еще молодым, стройным парнем в бурке. Будто я сижу, вот как зараз, а вокруг меня лежат волкодавы. Вижу и пасущуюся тут же отару, и полуденный привал близ водопоя, ночной костер. Даже, веришь, Михайло, чую те особенные запахи дыма и сваренного в цыбарке мяса, каковые хорошо знакомы только нам, чабанам. Всю жизнь мне кажется, что ничего иного, окромя степи и овец, нету и быть не должно. И так же, как я сам прошагал по степу, протаптывая батьков след, может, где-то расширил тот след или удлинил, так, думалось, мне, обязаны были сделать и мои дети, и такие молодцы, как Андрюха Сероштан. А что получилось на деле? Степь пустили под плуг, а отары заарканили в загородки.
— Ну что поделаешь, надо, — говорил я, стараясь успокоить старика. — И Сероштан это же сказал. Земля нужна под посевы пшеницы, вот и пришлось перепахать целину.
— Что надо? Ить все то, что вошло в нашу жизнь, укоренилось и закрепилось в ней, в душу нашу вошло и должно было сохраниться навечно, — говорил Силантий Егорович. — А что у нас получилось? Безобразия получилась, вот что. Ну, пусть дети мои не стали чабанами, пусть. Душой переболел и давно с этим смирился. Но на смену старым чабанам пришли молодые люди, умелые, образованные, а лично мне на смену припожаловал Андрюха Сероштан, не какой-то там пришлый, а свой, мокробуйволинский, и к тому же еще и сын чабана. И люди избрали его тайным голосованием по заслугам, признаю. Так почему же этот Сероштан свернул с протоптанной стежки своих батьков? И почему мое умение растить и холить овцу оказалось ненужным? Вот, Михайло, оттого и плачу…
Вытерев узловатыми пальцами слезы, он вдруг спросил:
— Зачем все это было со мной, Михайло? Ты же ученый, объясни мне: зачем я так усердствовал? Зачем старался, ночи недосыпал? Ить мокробуйволинцы получили указание из района, не спросились у чабанов и пустили тракторы с плугами по пастбищам, посеяли пшеницу там, где испокон веков паслись овцы. А Сероштан и совсем доконал чабанство: соорудил эту фабрику и все зачал делать сызнова и по-своему, совсем не так, как делали Силантий Горобец и Аверьян Сероштан. Я часто думаю и думаю: что теперь будет с овцами? Вижу, ему, Сероштану, да и директору Суходреву нужны не отары, а овечьи фабрики. Заметил небось, как Сероштан безо всякого внимания слушал, когда я говорил ему, какое разнотравье требуется для овечьего питания. Молчал. А почему молчал? Да потому, что овечьей фабрике степная трава не нужна, ее заменяет химия, и Сероштану нечего сказать. Вот он и помалкивал.
Солнце давно закатилось за бугор, оставив на горизонте пылающий костер, и отблески от этого костра ложились и на крытые шифером кошары, и на кирпичную трубу. Со степи, густея, наползали сумерки, с востока тянуло свежим ветерком, доносившим нам овечьи запахи. Волкодавы, измученные работой, грязные, лежали возле пустой, до дна разрытой ими норки — не попалась добыча, и от этого испачканные пылью их морды были грустными. А Силантий Егорович все так же сидел, по-горски согнув ноги, смотрел и смотрел вдаль и, казалось, не видел ни пламенеющего горизонта, ни рядом лежавших волкодавов и не чувствовал ни срывающегося с востока ветерка, ни овечьего запаха, по его морщинистым щекам текли, рассыпаясь, крупные слезы.
11
Вечером, когда я вернулся от Силантия Егоровича Горобца, моя бабуся вручила мне телеграмму и, обнимая, поздравила с рождением сына и прослезилась.
— Радость-то, Мишуня, какая! Родился твой сынок, а мой правнучек, — говорила она, вытирая кулачком слезы. — А помалкивал, говорил, шо не женатый. И молодчина Марта, правильное дала ему имя, вот он, воин Иван Чазов, и сызнова живет.
Только в своей комнате, усевшись за стол, я прочитал телеграмму: «Дорогой Миша вот и родился мальчик назвала как просил Иваном целуем сыном Марта». Еще и еще читал и перечитывал эти скупые и точные слова, раскрыл тетрадь, хотел записать все-то, что меня волновало, и не мог.
В голове собралось столько мыслей, и, как мне казалось, все они были такими исключительными и такими важными, что я не знал, как, в каком порядке изложить их на бумаге. Необходимо было не только обдумать их, а и осмыслить, то есть правильно понять и точно записать.
Получалось же так: одна важная и нужная мысль наседала на другую мысль, тоже важную и нужную, цепляясь за нее, перемешиваясь с нею, или ни с того ни с сего прилипала к третьей мысли, да так плотно, что ее не оторвать.
Мне было так радостно, что я никак не мог сосредоточиться на чем-то главном, основном, что-то выделить и потом спокойно записать, и я, обнимая кудлатую голову руками, не притрагивался к тетради. Чтобы как-то не думать о Марте и о рождении сына, я вспомнил сидящего на пригорке плачущего старика и лежащих у его ног волкодавов с испачканными землей мордами. «А чего раздумываешь, внук чабана? Описывай все так, как оно есть, и не изображай Горобца не похожим на самого себя». И я снова подумал, и все о том же: значит, известный писатель сказал что-то не то, ибо при всем своем желании я не смогу выдумать ни другого Силантия Егоровича Горобца, ни других волкодавов, и если мне когда-либо придется их описывать, то опишу их такими, какие они есть, то есть такими, какими увидел и узнал. «…не изображай Горобца не похожим на самого себя». Да, старик прав, и эти его слова надо записать и запомнить. И опять, не в силах удержать себя, улетел, как на легких крыльях, в Москву, разговаривал с Мартой. Она показывала мне моего сына, уверяла, что он похож на меня, я соглашался и улыбался, сам не зная почему. «Значит, ты уже дала ему имя прадеда Ивана?» — «Как ты просил». — «Один Иван Чазов погиб на войне, и вот другой Иван Чазов уже живет на свете… Это же прекрасно!» — «Пусть живет Иван, имя-то красивое…» И вдруг, сам не зная почему, я прислушался, хотел узнать, дома ли Ефимия. Из-за стенки до моего настороженного уха донеслись слабые, знакомые мне шаги. Что-то загремело, наверное, упал стул. Значит, она дома. А ко мне не зашла. И правильно сделала. Ефимия — девушка умная, она понимает, что встречаться нам теперь не следует. Ни к чему хорошему эти встречи не приведут. И все же мне хотелось повидать ее сегодня. А почему хотелось? Я не знал. А возможно, и знал, да только не хотел в этом сам себе сознаться: «И вот еще вопрос: а как можно выдумать Ефимию, другую Ефимию, не такую, какая она есть? Да и зачем ее выдумывать? Если же выдумать другую Ефимию, то это будет неинтересно…»
В это время в мою комнату вошла бабуся в шлепанцах, тихими, неслышными шагами. Она принесла стакан чая, подсела ко мне.
— Попей, Мишуха, а то на всю ночь засядешь… А я завтра уезжаю в Конго, до Толика в гости, — вдруг сказала она, и ее глаза странно заблестели. — Так что к утру надо собраться в дорогу. Вот Толик обрадуется. И про внука Ванюшку ему расскажу.
Мне показалось, что моя бабуся пошутила, и я, боясь ее обидеть, начал вежливо советовать ей пока не думать о поездке к сыну.
— Мишуха, и ты, как все, не хочешь, шоб поехала до Толика, — с обидой сказала она. — А я поеду. Завтра же поеду. Ты еще не знаешь свою бабусю. Як сказала, так и будет!
Она неожиданно ушла, а через некоторое время вернулась, радостная, возбужденная, и в ее глазах, всегда спокойных и слезливых, снова я заметил странный сухой блеск. Подсела ко мне и весело сказала:
— Ну вот, Мишуха, ты не советовал, а я уже побывала в гостях у Толика.
В недоумении я пожал плечами и тут услышал нечто совсем непонятное.
— Ой, як же гарно погостевала! — говорила она, глядя на меня все так же сухо и странно блестевшими глазами. — И всю Конгу повидала. Гарно там у них, привольно, як и у нас. А Толик, сынок, як обрадовался. И про внука Ванюшку сам спросил. Мамо, а вы знаете, шо я тут, в Конго, роблю? Слыхала, отвечаю, от твоего Мишухи, а толком ничего не пойму. Шо тот Мишуха знает, ничего он не знает. А вы, мамо, знайте, говорит Толик. Я помогаю тутошним людям разводить овец. А шо, спрашиваю, у Конго нету овец? Разные, беспородные имеются, а тонкорунных, якие у нас, у них не было, говорит Толик, а зараз уже имеются, точно такие, як и у нас, а через то я тут действую за старшего чабана, подсобляю тутошним чабанам, опыт передаю. Частенько вспоминаю, як еще мальчуганом ходил за отарой… Пригодилось, мамо, то, шо було в жизни…
— Бабуся, вам это что, приснилось? — спросил я робко. — Вы же только что были у меня… Да такое может только присниться!
— Ой, шо ты, Мишуха, господь с тобой, який там сон, — ответила она и перекрестилась. — Вот святой крест — правда. Была, была я у Толика, гостевала у него. И еще, ежели соскучусь, поеду. Сильно мне понравилась Конга. Люди тамошние, правда, собой черные, як будто сажей выпачканы, блестят зубы да глаза, а ничем другим от наших людей не отличаются. И душевные, и приветливые. Внучку Оленьку обняла, приголубила. Славная растет девчушка. Только беда — лопочет не по-нашенскому, не по-руському. Смех! Я ей одно кажу, а она мне другое, а шо вона каже — не пойму…
Хрипло, неестественно смеясь, старуха на полуслове умолкла, поднялась и быстро ушла. Теперь я уже не сомневался, что с моей бабусей что-то случилось неладное, и направился следом за ней. Она шла, покачиваясь, и так, с ходу, повалилась на свою кровать, уткнула лицо в подушку и заголосила, как над покойником, причитая:
— Ой, Толик, ой, сыночек! И где же ты зараз, родненький мой! И помру тут без тебя, и глазоньки мои не побачут кровинушку мою!
Я остановился возле кровати, не зная, что мне делать. В это время подошла Ефимия, спросила:
— Есть ли в хате валерьянка?
— Не знаю.
— Ее надо чем-то успокоить. А то, что она плачет, — хорошо, слезы всегда успокаивают, — говорила Ефимия, ни к кому не обращаясь. — Я замечала: когда тебя не было дома, она часто плакала вот так же, в голос, с причитаниями. Как она тоскует по сыну Анатолию! Да это и понятно — мать. А чего твой отец живет в Конго?
— Послали на работу, — ответил я нехотя.
— Приехал бы, успокоил старушку.
— Значит, не может, если не приезжает.
Ефимия все же нашла какие-то капли, дала бабусе вылить, и она постепенно перестала голосить, только все еще всхлипывала взахлеб, как это делают плачущие дети. Когда она совсем притихла, мы с Ефимией положили на кровать ее тяжелые, словно бы одеревеневшие ноги, укрыли плечи одеялом. Ефимия принесла в стакане воды, дала ей попить. Бабуся отвернулась к стенке и лежала тихо, а мы постояли еще немного и разошлись по своим комнатам.
Снова я уселся к столу, ладонями обнял голову и к тетради не прикасался. Было не до записей. Я думал и о своем сыне, о поездке в Москву, и о невероятном рассказе бабуси о поездке в Конго. У меня уже не было никакого сомнения в том, что ее надо было показать врачам, хорошо бы специалисту-невропатологу. Но где его взять? Ни на хуторе, ни в Богомольном таких врачей не было. И я решил завтра же поехать в район, чтобы заодно послать телеграмму Марте и привезти, если удастся, врача… Я так погрузился в раздумье, что даже вздрогнул, когда услышал прикосновение к моему плечу чьей-то руки. Поднял голову и увидел Ефимию.
— Бабушка дышит спокойно, наверное, уснула, — говорила она, а мне казалось, что она пришла, чтобы сказать мне что-то совсем другое. — По всему видно, старушка серьезно заболела. Врача бы…
— Завтра поеду в район, зайду в поликлинику. — Я посмотрел Ефимии в глаза, она чуть заметно улыбнулась, и по этой ее улыбке я понял, что в эту минуту она думала не о враче и не о бабушке.
— Ты бы слышала, что она вот сейчас, перед тем, как расплакаться, говорила мне…
— О том, как ездила в Конго?
— Откуда тебе известно?
— Об этом же она и мне рассказывала, — ответила Ефимия, все так же загадочно улыбаясь. — По телевизору показывали Африку, я не помню, какую страну. Как бабушка радовалась, как, не отрываясь от экрана, говорила: «Смотри, смотри, это же мой Толик! Неужели не видишь моего Толика?» Я сказала, что не вижу. Бабушка обиделась. «Это потому ты не видишь, что еще не была матерью…» И в тот же вечер — тебя как раз не было дома — она и рассказала мне, как ездила в Конго к сыну в гости, а потом рыдала, как сегодня.
Ефимия пододвинула к столу табуретку, села рядом со мной, и я, чувствуя своей ногой ее ногу, немного отодвинулся.
— Миша, а я читала телеграмму, — сказала она наигранно весело. — Поздравляю с рождением сына.
— Спасибо.
— А бабушка говорила, что ты еще не женат.
— Она не знала.
— И ты молчал. Романтическая у тебя любовь.
— Вот приеду, и зарегистрируемся.
— Значит, уедешь из Привольного?
— Уеду.
— Миша, а ведь я зашла по делу, — так же наигранно весело говорила Ефимия. — И по делу важному.
— По какому же?
— Вот храню. — Из-за пазухи она вынула свернутую газету. — Ты уедешь, а память о тебе останется — это твой очерк «Руки стригальщиц». Только написан он так, что без смеха и читать нельзя.
— Это почему же?
— Все в нем неправда, за исключением имен, фамилий да еще названия хутора. — Ефимия обняла меня за шею. — Да ты не обижайся! Я давно хотела по-дружески сказать тебе, да все стеснялась.
— Так что же в очерке неправда? — спросил я и освободился от ее объятия. — Скажи, не обижусь.
— Миша, неужели живет на свете вот такая, как ты описал, девушка-стригальщица? Где она?
— Да вот же, сидит рядом со мной.
— Миша, эта девушка — совсем не та Ефимия Акимцева, о которой написано. Ты изобразил меня совсем не такой, какая я есть. Ты же всю меня придумал, Миша.
— Может, это и хорошо, что придумал?
— Что же в том хорошего? Ты пишешь, какие у меня проворные руки, как я держу стригальную машинку, как направляю ее и как от машинки по руке идет мелкая дрожь. А откуда тебе об этом известно? Разве ты держал в руках машинку?
— Не держал. Ну и что?
— А то, что никакая дрожь по руке не идет, — продолжала она весело. — Или ты пишешь вот здесь… Я прочитаю: «В те минуты, когда над овцой шмелем жужжала стригальная машинка и на стол сваливалось толстое, похожее на тулуп, руно, Ефимия думала…» И дальше пишешь, о чем я думала. Смешно! Миша, все это неправда. Если хочешь знать, о, чем в эти минуты думают стригальщицы, так это о том, как бы им побольше заработать. Или вот это: машинку называешь жужжащим шмелем. Какой же это шмель? Руно тебе кажется похожим на тулуп, а это всего-навсего клок шерсти, и только… Да, побольше заработать — дело-то сезонное, об этом мы и думаем, — повторила она. — А у тебя стригальщица, извини, какая-то святая. Зачем же ты дал ей мое имя? Вот через это она и получилась не живая, таких стригальщиц в жизни нет.
— А я хочу, чтобы была.
— Зачем? Миша, неужели я нравлюсь тебе такая, без плоти и без крови? — Она смотрела на меня ласковыми глазами, не улыбалась и вдруг крепко обняла меняй стала целовать. — А вот такая Ефимия Акимцева тебе нравится? Не та, тобой выдуманная, а эта, настоящая, нравится? Ну скажи, нравится?
— Ни к чему это, Ефимия. Ты же знаешь…
— Знаю, у тебя есть Марта и есть сын. — Она еще крепче обняла меня. — Ну и что? У кого не рождаются сыновья или дочери?
— Дело не в сыновьях и не в дочерях.
— А в чем же? В том, что любишь меня и тебе стыдно? В этом дело?
— Да, и в этом.
— Миша, давай потушим свет. Хочешь?
Не дожидаясь ответа, она выключила настольную лампу, темень сомкнулась, и комната как бы сузилась. Мне хотелось, чтобы Ефимия ушла, а сказать ей об этом я не мог, не посмел. Видимо, мы, мужчины, в такие минуты не находим в себе ни силы, ни решимости.
12
Куда ни глянь — равнина и равнина. Там протянулись ложбины — нет им ни конца ни края, там поднялись холмы, там встали курганы, и сюда, в это вечное степное безводье, пришли неиссякаемые истоки ледников. Люди прорыли каналы, сделали озера, лиманы, которые уже успели зарасти камышом. Все стало привычным, обыденным, и никто не вспоминал о том, как Кубань дважды и в разных местах сворачивала на Ставрополье: первый раз возле Невинномысска, пройдя через толщу горы Недреманной и наполнив до краев начисто пересыхавший летом Егорлык, а другой раз — близ станицы Усть-Джегутинской. Здесь Кубань свернула вправо и пошла, прошагала по степному раздолью не одну сотню километров. Теперь в ее водах свою удаль показывает не шустрая форель, а неповоротливые, хорошо откормленные в озерах серебряные карпы с тупыми носами, и в лиманах давно уже прижились и совсем медлительные раки. И ничего, не беда, что тут, вдали от Эльбруса, рядом с чабанскими селами и хуторами, Кубань все еще не может согреться на солнце — в зной своей прохладой она радует и людей, и животных. Снежный же великан со своими двумя белыми папахами отсюда совсем не виден — далеко стоит, а степь, которую он так щедро вдарил влагой, преобразилась, стала неузнаваемой. В тех местах, куда пришла ледниковая вода, все — и травы, и посевы, и коровы — стало не таким, каким оно было, когда Ставрополье еще не породнилось с Кубанью. Постаралась река, немало разбросала она по степи зеркал, и в солнечные дни они блестят и искрятся, маня к себе путника. Над ними и жаворонки поднимались выше, и пели голосистее, наверное, радовались, глядя на воду. А рядом с водой, в траве, голоса перепелок, казалось, были где-то рядом, и отзывались они не глухо, как бывало раньше, а громко, и каждая из них как бы выговаривала: «А я тут, а я близко…» Небо удивительно чистое, будто бы было старательно промыто и протерто до густой синевы, а жаворонки в небе, как точечки на синей кальке. Изредка птичьи голоса нарушала прошмыгнувшая в траве ящерица, а сонное жужжание пчелы заглушал всплеск серебряного карпа, который тут, в озере, на дармовых харчах вымахал в эдакую матерую рыбину. Все, к чему ни прислушайся, волновало, а все то, что вставало перед очами, входило в душу и радовало…
Меня же не радовали ни поля под низким, в тучах, осенним небом, ни озера с насыпанными берегами, ни лиманы в желтой оправе сухих камышей. От Привольного и до Скворцов мысли мои были заняты тем, что же случилось в прошедшую ночь. А случилось то, что над расчетливым рассудком, над доводами здравого смысла встало молодое, горячее чувство, полное силы и желания, встало и взяло верх.
Да и как же могло быть иначе? — спрашивал я и сам же отвечал: — Только так, и никак иначе. И нужно ли говорить, что Ефимия — это и есть тот дьявол, устоять перед которым никто не может? Нет, она не дьявол, она просто молодая и по-женски красивая. Это безусловно так, к все же я не могу понять, почему после ухода Ефимия мне стало не радостно, а стыдно, я не восторгался, а испытывал странную неловкость.
Почему с Мартой все было и естественнее и проще, все было, я бы сказал, благородно. И не потому ли мне кажется, что в эту ночь случилось что-то такое, что не достойно чести — ни моей, ни ее, и кто из нас в этом повинен больше, а кто меньше — сказать трудно. Да и не все ли равно — кто? Но тогда я так не думал, и теперь, когда прошло время и я успокоился, мне хотелось до конца понять: так что же это было? Большая любовь, на пути которой, как известно, преград не существует, или самая заурядная биологическая потребность, то есть то, что извечно сидит в каждом живом существе.
Как бы там ни было, а чувство стыда и странной неловкости не давало мне покоя. Мысленно я обращался к Марте, матери моего сына, видел ее лицо, всегда спокойное, в ее больших глазах — робкую улыбку, говорил ей то, что хотел сказать в
телеграмме. Наши отношения были просты и по-будничному обыденны. Мы никогда не клялись друг другу в любви и всегда были уверены и знали: та, невидимая наша любовь была в нас самих, в том, как мы относились друг к другу, — так зачем же здесь еще какие-то слова. Нам и в голову никогда не приходило, что, возможно, ее, любви, у нас вообще не было. Мы ее, любовь, видели в нашей каждодневной жизни, в наших привычках, поступках, в том, что мы вместе ужинали или утром пили чай, что мне всегда было хорошо с Мартой, а ей — со мной. Обычно я приходил к ней вечером, после работы, усталый, но всегда радостный и спокойный, зная, что Марта ждет меня, что и без моего звонка откроет мне дверь, хотя у меня и был свой ключ. И накормит ужином, и приготовит ванну, и даст чистое белье, и скажет ласковое слово. Утром таким же веселым и спокойным я уходил на работу. И то, что теперь рядом с нами появилось живое существо, именуемое моим сыном и нами уже нареченное Иваном Чазовым, — тоже плод нашей любви. Иван Чазов уже жил на свете, и ему не было никакого дела до того, о чем я сейчас думаю. Он ждет моего возвращения, и только. Жди-жди, Иван Чазов, я скоро приеду. Вот помогу бабушке в леченье, раздобуду на проезд денег и не уеду, а улечу. Умом и сердцем я понимал: все то, что осталось там, с Мартой и рядом с Мартой, — мое кровное, близкое и родное, то — всерьез и надолго, а это — так, пустячок, минутная забава…
Так почему же я т е п е р ь стал таким умным и таким рассудительным? И почему т о г д а вдруг потерял и этот свой ум и эту свою рассудительность? Я искал ответа и не находил его, мои мысли путались, одна опережала другую, в уме я составлял текст телеграммы, которую в Скворцах пошлю Марте, одно слово заменял другим, называл точную дату возвращения.
Быстро управившись с делами на почте, я сразу же направился в поликлинику. Меня Приняла Анна Филипповна, врач-невропатолог, женщина уже немолодая, с сухим, строгим лицом и задумчивыми глазами. Она выслушала мой сбивчивый рассказ о непонятных поступках моей бабушки и сказала:
— Так это же Прасковья Анисимовна!
— Да, она. А разве вы ее знаете?
— Кто же не знает Прасковью Анисимовну? — удивилась Анна Филипповна. — Стареет наша знатная мать чабанов, стареет.
— Это что, опасно?
— Видите ли, молодой человек, каждое заболевание по-своему опасно, — ответила Анна Филипповна. — Подобного рода заболевания чаще всего наблюдаются у людей пожилых, и именно тогда, когда они чем-то взволнованы или возбуждены. Не помните, были у Прасковьи Анисимовны неприятности в эти дни?
— Мне известно, что она много думает о сыне, моем отце, который находится в Конго, — ответил я. — Она получила от него вызов и все собиралась поехать к нему в гости. Но, сами понимаете, в ее возрасте… Никаких же неприятностей я не замечал.
— Разлука с сыном — тоже неприятность, и большая, — сказала Анна Филипповна. — Надо полагать, все то, что наболело у нее на сердце, она и выдала за действительность. Это случается. Но чтобы сказать что-то определенное о ее заболевании, мне необходимо повидаться с Прасковьей Анисимовной. — Она посмотрела на столе какие-то записи. — Наша «скорая» работает по средам — выезжает в села. Вот в среду я и приеду к вам.
Возвращаясь в Привольный, мы заехали к Тимофею Силычу Овчарникову. Пугая крикливых, зазевавшихся на улице кур и протянув длиннющий хвост пыли, наш «Запорожец» с ходу влетел в раскрытые, повалившиеся, старые тесовые ворота и остановился перед крыльцом, как скаковой конь перед препятствием. Двор зарос высокой, до пояса, пожелтевшей лебедой и был пуст. Стояла такая глубокая тишина, что и в этом доме, и во всем дворе, казалось, все живое вымерло. На что ни, взгляни, куда ни обрати взор, отовсюду лезла в глаза печаль поздней осени.
— Или дома никого нету? — спросил Олег.
— Хоть кто-то должен же быть, — ответил я. — Посигналь разок.
На тоненький голосок «Запорожца» из дома никто не вышел. А уже вечерело, сумерки грязным пологом наползали на село, и, может быть, поэтому большой овчарниковский дом выглядел угрюмо и по-сиротски одиноко. Парадный вход с двумя колоннами из желтого ноздреватого известняка смотрел на нас с удивлением, с деревянной пологой лестницы давно не сметали ни сухие листья, ни застаревшую пыль. На ее ступеньках не было видно никаких следов, две нижние доски сгнили начисто и провалились.
Большие окна были закрыты внутренними ставнями и подслеповато смотрели на нас, как бы говоря: «Эх вы, молодые люди, и чего так припозднились? Надо было приезжать сюда еще в те славные годы, когда хозяин был молодым, а мы светились огнями и когда в доме было людно и шумно. А что теперь? Пусто у нас стало, темно и тихо…»
Олег был человеком нетерпеливым, он посигналил еще, теперь уже частыми гудками. Прошло несколько минут, и не из парадного входа, засыпанного сухими листьями, а из какой-то боковой двери не вышла, а как бы выползла, как мышь из щели, какая-то старуха в стеганке и в валенках, с большой головой; закутанной теплой шалью. Приложив ладошку к глазам, старуха смотрела на нас, наверное, силясь узнать, кто же это заехал во двор, кто посмел потревожить ее, да так и не узнала. В сумеречном свете лицо ее было землисто-желтое, обрюзгшее, она еще долго смотрела на нас, а мы на нее, и наконец она сказала:
— Нету Тимофея Силыча, нету… И Евдокии Марковны тожеть.
— А где же Тимофей Силыч? — спросил Олег.
— Отходил свое, отбегал…
— Что с ним?
— Увезли Силыча, бедолагу, в Скворцы, в больницу, — ответила старуха, поправив на своей крупной голове толстую шаль. — При смерти свезли, чуть живого. Случился удар у него. В поле это приключилось, оттуда и увезли. Шел Тимофей Силыч по борозде следом за плугом, хотел показать трактористу, как надо пахать… Не показал. Упал в борозду, на свежую землю, и все… И жинка его, Евдокия Марковна, зараз с ним.
Как, оказывается, просто. Шел человек по свежей борозде, желая показать, как надо пахать, упал на сырую землю, и все.
Пустыми остались и дом, и заросший лебедой двор. Закрытые ставнями окна смотрели на нас, как слепцы. Что им до того, что в доме уже не было хозяина, — свое отходил, отбегал… Ненужными и смешными выглядели две желтые, из ноздреватого известняка, колонны, а то, что на парадной лестнице чернели прогнившие ступеньки, как бы говорило: нет, теперь уже не ступать по ним твердым, энергичным ногам Тимофея Силыча Овчарникова, и как бы в придачу к тишине и запустению стояла закутанная шалью и похожая на старую мышь старая и больная женщина…
ИЗ ТЕТРАДИ
Его похоронили в Беловцах, на сельском кладбище. Все жители села были опечалены. Не стало человека, к которому они так привыкли. Духовой оркестр, созданный по настоянию Тимофея Силыча лет тридцать назад — тогда молодой председатель мог лихо отплясывать гопака под медные звуки, — теперь играл ему прощальный траурный марш.
Речи были хвалебные, точно такие, какие обычно произносятся над покойником, когда он уже ничего не слышит и ничего не видит. Перечислялись многолетние заслуги Тимофея Силыча, говорилось о его характере, исключительно добром и исключительно внимательном. Представитель молодежи упомянул даже и о том, что покойник любил поговорить на тему о текущей жизни и всегда брал, как говорится, быка за рога, и начинал с вопросов: что в жизни хорошо, а что в жизни плохо? Как надо жить, чему следует подражать и как жить не надо и чему подражать не следует. Не забыто было и то, что покойник не жалел ни сил, ни здоровья для блага своего колхоза и своего села и, будучи уже широкоизвестным и прославленным, оставался таким же, как всегда, скромным, отзывчивым, требовательным к себе и к другим.
И, как на беду, никто не сказал о земле, которую усопший любил всю свою жизнь, и любил так, как, пожалуй, никто ее не любил. Видимо, в такую тяжкую минуту забыли, как семьдесят три года назад, в пору весенней пахоты, молодая женщина по имени Евдоха родила своего первенца, и родила-то прямо в борозде, и как мальчонка, появившись на свет, увидел взрыхленную, сырую и пахнущую теплом землю. После этого прошли многие годы, а тот, кто родился в борозде, ни на один день не разлучался с землей, а когда пришло время — кончил жизнь, и тоже в борозде, только, возможно, тракторный плуг тянул борозду и пошире и поглубже. Мне и сейчас слышался слабый голос женщины в стеганке, в валенках и в шали, похожей на мышь: «Шел по борозде… упал на свежую землю, и все». В борозде родился, в борозде и умер. Наверное, в этом было и что-то закономерное, и что-то свое, символическое…
13
Все дни, пока я готовился к отъезду, меня беспокоила болезнь моей бабуси. Как-то Анисим Иванович пришел проведать мать, а она и ему стала рассказывать о своей поездке к сыну Анатолию в Конго. Анисим Иванович молча и с грустью на лице слушал ее рассказ, потом сказал:
— Маманя, это хорошо, что вы ездили к Анатолию, одобряю. Только вы поменьше думайте о нем. Нехай он про вас думает.
— Як же про него не думать? — ответила мать. — Вы все шестеро для меня одинаковые, а Толик далече от матери. Я и о тебе, Аниська, часто думаю, и об Алешке, и об Антошке, и о Настеньке, и об Аннушке. Все вы — мои дети, и все вы тут, считай, рядом, а Толик аж в Конго. Вот через то я и ездила до него и еще поеду.
Уходя, Анисим Иванович позвал меня в сенцы и сказал:
— Видно, душой по Анатолию изболелась наша маманя. И хорошо, что ты побеспокоился насчет доктора.
Днем бабушка была веселая, разговаривала нормально, как все люди, занималась, как обычно, домашними делами, и глаза у нее, как и раньше, были ласковые, приветливые. Ночью же, оставшись одна, ложилась в кровать и чуть слышно плакала и так, со слезами, засыпала. В среду, как и обещала, приехала Анна Филипповна. Узнав, кто она, бабушка покосилась на меня и сказала:
— Милая дочка, понапрасну послушалась моего внука и приехала. Откуда он взял, шо я больная? Здоровая я.
— Прасковья Анисимовна, в том, что вы здоровы, никто не сомневается, — сказала Анна Филипповна. — Я приехала проведать вас…
— Ну спасибо.
— А заодно и спросить. Это правда, что вы ездили в Конго, к сыну в гости?
— До Толика? А як же, ездила, — не задумываясь, ответила бабуся, и глаза ее тревожно заблестели. — Добре погостила у сыночка. Толик же далеко от меня, як же я могла не поехать до него, не проведать. У тебя у самой небось детишки имеются?
— Двое, — ответила врач, все так же внимательно глядя на блестевшие глаза старой женщины. — Две девочки, обе школьницы.
— Люди кажуть: дочки, як цветочки. Знать, и тебе ведома печаль материнского сердца? — спросила бабуся. — Эх, каждая родительница думает о своих птенчиках, тревожится о них. Так заведено природой. И неужели через то всех нас, матерей, надобно считать больными? Ни, то не болезня, то боль материнского сердца, и без нее, без той боли, матерям не обойтись.
— Прасковья Анисимовна, прошу вас, посмотрите на кончик этой моей палочки, — сказала Анна Филипповна. — Вот так. Хорошо. Теперь посмотрите вверх, вниз, еще вправо, еще влево… Спасибо. Прасковья Анисимовна, полежали бы вы у нас в больнице, малость отдохнули бы.
— Милая дочка, а я не уморенная, и через чего ради мне отдыхать в больнице. — Моя бабуся с гневом посмотрела на меня. — Нечего мне делать в больнице. Мне и дома гарно.
— Может, подумаете и согласитесь? — спросила врач.
— Чего тут думать? Сказала, шо делать мне там нечего, значит, нечего. Прощевай, милая дочка.
Она еще раз зло покосилась на меня, вышла из хаты и не вернулась.
— Да, с характером чабанская мамка, — сказала Анна Филипповна. — А подлечить бы ее надо, и, разумеется, не дома. Но как уговорить лечь в больницу? И все же я попробую это сделать. Приеду к ней еще раз, а возможно, и не раз, и уговорю.
Я сказал, что уезжаю в Москву, уже имею билет на самолет, и если потребуется какая-то помощь, то это могут сделать сын Прасковьи Анисимовны Анисим Иванович или ее квартирантка Ефимия. Пообещав приехать в следующую среду, Анна Филипповна ушла к машине. Может быть, через час вернулась бабушка и с порога гневно спросила:
— Мишуха, як тебе не совестно? Чего наговорил докторше? Зачем понапрасну беспокоил женщину? Никакая я не больная. Як ты не можешь понять, шо я — мать и в том вся моя болезня.
Приближался день моего отъезда. И в хате, и на улице Ефимия избегала встречи со мной, я делал то же. Если Ефимия о чем-то говорила с бабушкой, я ждал, когда она уйдет, и только после этого выходил из своей комнаты. Вечером, вернувшись с работы, Ефимия что-то напевала, и, как я замечал, громче обычного, наверное, желая, чтобы я услышал.
Прислушиваясь к ее голосу, я опять — в который уже раз! — спрашивал себя: могу ли я вот так, не попрощавшись с Ефимией, не поговорив с нею, уехать? И отвечал утвердительно: да, могу. Зачем же нужна и ей и мне эта встреча? Мы же никогда больше не увидимся. И тут же сам себе возражал, что так поступить я не могу, нам надо и встретиться, и проститься по-хорошему… А вечером, в канун моего отъезда, своими легкими, неслышными шагами вошла Ефимия, упругими ладошками закрыла мне глаза и рассмеялась.
— Пришла?
— Чудак! Как же я могла не прийти? Ты же завтра уезжаешь.
— Ну и что?
— Не жалко оставлять меня одну?
— Если я скажу «не жалко»?
— Значит, скажешь неправду. Я же знаю, ты любишь меня, тебе нужны и я и этот степной хутор, и я верю — ты вернешься. Сейчас тебе надо поехать в Москву — поезжай! Без тебя мне будет горько и одиноко. Завтра я уже не услышу за стенкой твоих шагов, не смогу войти к тебе, как вот сейчас вошла. Но знай, Миша, я терпеливая, все стерплю, буду ждать тебя и дождусь.
— Не жди, я не вернусь.
— Наперед не загадывай. Ты еще вернешься сюда.
— Какие у тебя сильные руки!
— Не забывай, я же стригальщица.
Поднявшись, я отстранил ее руки.
— Ефимия, иди, иди спать. Уже поздно.
— Прогоняешь?
— Нет, прошу…
Закрыв лицо руками, она содрогнулась в припадке плача и, отворачивая голову и не в силах вымолвить слово, резко повернулась и убежала… Медленными шагами я ходил от порога к столу и обратно, прислушивался: за стенкой был слышен плач тихий, с частыми всхлипываниями…
На другой день, когда я был уже в небе, далеко от хутора, когда под самолетом в сизой, просвеченной солнцем дымке расстилалась бескрайняя равнина, исписанная дорогами и разукрашенная зелеными лоскутами озимых, я мысленно все еще находился в Привольном. Смотрел в оконце, прислушивался к ровному, тягучему гулу моторов, видел простор и простор под голубым холодным куполом, и передо мной, как живые, стояли то Таисия Кучеренкова со своими правдивыми, излучающими тепло глазами, и я слышал: «Кому интересно знать обо мне и о моей жизни?.. тайно живу с семейным мужчиной и с гордостью объявляю: я счастливая!»; то Артем Иванович Суходрев поднимался из-за стола с измученным, печальным лицом. «Нет, меня не сможешь описать… тебе никто не поверит, будь ты хоть самим Львом Толстым… назовут выдумщиком… во мне нет ничего типического». Видел и Силантия Егоровича Горобца, в узкоплечей бурке, в крылатой чабанской шляпе из мягкого войлока. Усатый старец стоял на коленях перед своим бронзовым бюстом в окружении Полкана, Молокана и Монаха. «Тут же надобно описывать не меня… а всю мою длиннющую житуху, все мои хождения следом за отарой…» Смотрел на таявшую в дымке землю, а разговаривал с Андреем Сероштаном и удивлялся: мой сверстник говорил только об овцеводческом комплексе, он ничего не знал и знать не хотел, забыл не только о молодой жене, а, казалось, обо всем на свете. «А что, черт возьми! Это даже заманчиво! Советую, Михаил, испробовать свои силы…»
Закрывал глаза и видел, как «скорая помощь» увозила с борозды полуживого Тимофея Силыча Овчарникова — в Беловцах остался опустевший и осиротевший, никому уже не нужный дом с каменными колоннами… Завидная жизнь, и необычная смерть… Шел и умер… А моя милая, ласковая бабуся и здесь, в самолете, не отходила от меня, и я слышал ее голос: «Все вы для меня — дети. И все вы тут, считай, у меня под боком, а Толик далеко, аж в Конго, через то я и ездила до него и еще поеду…» — «Да, с характером чабанская мамка… А подлечить бы ее надо…» В небе видел и Ефимию, смеющуюся, с ячменными завитками на висках, с блестящими, манящими к себе глазами. «Не забывай, я же стригальщица… Да ведь меня надобно не описывать, меня надо любить… Тебе нужны и я, и этот хутор. Самое важное твое дело остается здесь, в Привольном. И ты еще вернешься сюда…»
Что сказать? Не знаю, может быть, и вернусь. Все может быть. Ведь даже на таких быстрых крыльях, и то как же, оказывается, трудно мне оторваться от Привольного, видно, осталось там, на приволье, что-то мое, от меня неотделимое, наверное, крохотный кусочек самого моего сердца…
Не зря же в моей голове постоянно слышится голос Андрея Сероштана: «Рискни, прояви смелость, жизнь наших овцеводов того заслуживает…» А что? И рискну, и напишу. Вот встречу Марту, покаюсь перед нею в своих мужских грехах, чтоб не было совестно смотреть ей в глаза, повидаю сына Ивана — и сразу же за работу. И ничего наперед не стану загадывать. Без выдумки или с выдумкой? Напишу так, как на душу ляжет. Нужно — выдумаю, не нужно — так зачем же выдумывать, пусть выстраивается на бумаге все живое, увиденное…
Под самолетом все так же стадами гуляли кучевые облака, без пастухов и без присмотра, одни — маленькие, похожие на только что раскрывшиеся коробочки хлопка, другие — большие, напоминавшие собой белые, сверкающие на солнце острова. Плыли они спокойно, величественно, и откуда припожаловали сюда и куда держали путь? Никто не знал. Смотришь на них сверху — это огромные купола, пронизанные лучами, парашютный шелк, да и только! Им не было никакого дела ни до меня с моими раздумьями, ни до летевшего над ними самолета, ни до того, какое там, внизу, протекало время и какая там, под ними, на земле, складывалась между людьми жизнь.
Книга вторая
ЗАПАХ ПОЛЫНИ
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной…
А. С. Пушкин

Часть первая
1
ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
После того как была напечатана первая книга романа «Приволье», читатели в своих письмах просили ответить, во-первых, был ли я знаком с Михаилом Чазовым и, во-вторых, как попала ко мне его рукопись.
К сожалению, с Михаилом Чазовым я не был знаком. Четыре его толстые тетради с потертыми, бывшими в деле корешками, с выцветшими, помятыми, видавшими виды зелеными обложками принесла его жена Марта Николаевна. Вытирая платочком слезы и глядя на меня большими мокрыми глазами, она рассказала о своем муже примерно то, что читателям уже известно из первой книги «Приволья». От нее я узнал, что Михаил Чазов был знаком с известным романистом Никифором Петровичем Д. и что она носила тетради к этому писателю, не зная, что он недавно умер. Вдова покойного посоветовала обратиться ко мне, дала мой телефон и адрес. Марта Николаевна показала фотографию Михаила Чазова. На меня смотрело открытое юношеское лицо с задумчивыми глазами, с вихрастым, как у деревенского парубка, чубом.
— К несчастью, Миши уже нет в живых, — сдерживая слезы, сказала она. — Он погиб…
— Как? — вырвалось у меня. — При каких обстоятельствах?
— Говорить об этом мне очень больно. В тетради лежит письмо Олега, того шофера, с которым Миша ездил в последние дни. В письме все сказано… Вас же я прошу посмотреть Мишины записи.
Я взял тетради и сказал убитой горем женщине, что обязательно их прочитаю. Читались они трудно, потому что страницы были исписаны с обеих сторон мелким, торопливым почерком. Встречались записи совсем неразборчивые, сделанные, очевидно, в дороге, может быть, в автомашине, самолете, а возможно, и на арбе. Те же страницы, которые можно было прочитать, показались мне интересными, заслуживающими внимания, они представляли собой как бы заготовки какой-то большой, задуманной Михаилом Чазовым работы. Меня порадовало, что в тетрадях были запечатлены живые, непосредственные наблюдения над жизнью людей и над степной природой. Из всего записанного в тетрадях я отобрал лишь немногое, на мой взгляд, наиболее важное и значительное. Одни записи исправил, другие переделал, третьи отредактировал, четвертые переписал заново и все их расположил по своему усмотрению. Когда первую половину рукописи я показал Марте Николаевне, то она наотрез отказалась поставить на ней имя своего мужа, сказав, что Миша в этом романе пусть останется главным героем, и только.
С. Б.
2
В аэропорту Внуково моросил тот колючий, вперемешку со снежинками, дождик, какой бывает в Подмосковье только в ноябре, и особенно в те дни, когда и осень еще не ушла, и зима еще не пришла. Сквозь эту холодную дождевую сетку я издали увидел Марту. Она стояла у входа и держала на руках завернутого в одеяло ребенка, и я тотчас понял, что это и был мой новорожденный сын, которого я еще и в глаза не видал. И хотя я никак не ждал, что в такую даль и в такую непогоду Марта приедет не одна, в душе порадовался, что она была не одна. И пока я подходил к ней, невольно думал: а хорошо бы мать и сына увезти отсюда на такси. Но у меня, как всегда, не было денег. Придется ехать на рейсовом автобусе. Я подошел к Марте бодрым шагом, поцеловал ее — губы и щеки у нее горячие, мокрые, будто в слезах. Я подумал, что она приоткроет кружевное одеяльце и скажет: ну вот, Миша, и посмотри на своего наследничка. Она же, смеясь, спросила:
— Миша! Что с тобой?
— А что?
— Тебя же не узнать! Где твоя курчавая бороденка?
— А-а… Там осталась, в степи, — нехотя ответил я, заглядывая под одеяльце: мне так хотелось увидеть там то живое существо, которое вот уже второй месяц называется моим сыном — Марта, это и есть Иван?
— Кто же еще? — уже серьезно, без улыбки, ответила Марта. — Он самый.
— Ну-ка, дай подержать.
— Он спит.
— Ничего. Давай подержу. Ради нашей встречи.
— Не уронишь? — спросила она строго. — Бери осторожно.
Впервые в своей жизни я прижимал к груди завернутое в одеяльце что-то живое, легонько посапывающее и удивлялся тому, что оно, это что-то живое, посапывающее, было легкое и, наверное, потому лежало на моих руках так хорошо, так удобно.
— Марта, как же ты решилась поехать с ним в такую непогоду? — спросил я, от радости не зная что сказать и в душе все еще хваля ее, что она встретила меня не одна. — Ведь и далеко, и этот дождь со снегом… Ребенок может простудиться.
— Пришлось решиться, — ответила Марта, снова счастливо улыбаясь, и теперь, — я понимал, — ее смешило не мое безбородое лицо, а то, как я неумело держал ребенка. — Во-первых, Ванюшу не с кем оставить дома, а во-вторых, сын пожелал сам встретить отца. Не могла же я ему отказать?
Не слушая Марту, я приоткрыл уголок одеяльца, ожидая увидеть что-то необычное, а увидел обыкновенное личико спящего ребенка: слегка порозовевшие от сна щеки, на них светлый пушок, приплюснутый носик и закрытые, будто склеенные, глаза с синеватыми прожилками на веках.
Всю дорогу, сидя в автобусе, я держал на руках спавшего Ивана, поглядывал то на радостную, сидевшую напротив Марту, то на пассажиров. Мне хотелось, чтобы открылись слепленные глаза Ивана и посмотрели бы на меня, и тогда все, кто ехал в автобусе, поняли бы, что на меня смотрит мой сын. Иван же, не зная моего желания, проспал всю дорогу, и только когда мы вошли в квартиру и я осторожно передал Марте легкую, непривычную для меня ношу, малец вдруг подал пискливый голосок. Марта положила его на кровать, развернула одеяльце, и вот тут я увидел раскрытые, заспанные, ничего не смыслящие детские глазенки. По моему телу пробежала мелкая, как слабый электроток, дрожь, и я невольно подумал, что это, наверное, и есть отцовское чувство.
— Ну, Ванюша, поздоровайся с отцом, — обратилась Марта к Ивану, как к взрослому. — Скажи ему: здравствуй, папа! — И со счастливым взглядом обратилась ко мне: — Смотри, Миша, какой лупоглазый! И в кого, скажи, уродился?
— В свою мамашу, — сказал я, не отрывая взгляда от ребенка. — В кого же еще?
— Неужели я такая глазастая?
— В точности, — ответил я и попросил Марту: — А ну, распеленай-ка молодца, поглядим, какое мы с тобой сотворили произведение искусства. Как мы постарались? Хорошо или не очень?
В эхо время наше произведение искусства скривилось, как от лесной кислицы, запищало, раскрывая пустой беззубый рот, личико сморщилось и сделалось некрасивым. Марта тотчас наклонилась к Ивану и сказала:
— Батюшки, так ведь мы же голодные! Вот через то мы и голосочек подаем. Бедненькие мы, проголодались…
Очевидно, потому, что я еще не успел привыкнуть к своему отцовскому положению, меня удивляли и этот тоненький детский писк, и то, что Марта как бы нарочито говорила во множественном числе: «Так ведь мы же голодные», «Бедненькие мы, проголодались», «Мы голосочек подаем». Хотя она могла бы сказать просто: ребенок голоден, он голосок подает. Удивляло меня и то, как Марта голубицей припала к младенцу, как она умело распеленала его и тут же завернула в свежую пеленку, потом легко и просто, будто обучалась этому всю жизнь, взяла на руки и уселась на стуле; как она одной рукой приподняла перед кофточки, быстро расстегнула лифчик и, не стыдясь меня, открыла левую грудь, белую и полную, с темным пятачком и крупным и таким же темным соском с капельками желтого, как молозиво, молока, — так вот она какая — грудь матери! Удивило меня и то, что наш Иван сразу же перестал пищать и, закрыв глазенки и забыв о своем отце, жадно прилип к соску. Я же, сам того не желая, залюбовался кормлением ребенка, мне нравилось, как Марта, словно бы желая показать свои врожденные материнские навыки, сказала:
— Левая грудь нам больше нравится, она вкуснее.
— Как же правая? — спросил я.
— В другой раз. Дойдет и до нее черед, — отвечала Марта с сияющим лицом. — Тут у нас свой порядок.
Не без интереса я заметил, как у Ивана по губам и по подбородку текло молоко и как Марта легонько марлевым лоскутком вытерла их. Она не сводила глаз с сына, радуясь тому, что он так охотно сосал ее грудь, даже хватал ее ручонками, и она, целуя эти его цепкие, с пухлыми пальчиками ручонки, говорила не мне — для нее в эту минуту я не существовал, — а самой себе:
— Ах, как мы любим поесть! Ах, как нам нравится маменькино молоко! — Потом она подняла голову, ласково посмотрела на меня своими большими, как бы всегда удивленными глазами: — Миша, я уже писала тебе, что твой наследник любит поесть. Это хорошо, значит, вырастет силачом!
Когда же Ванюша насосался вволю и, не раскрывая глаз, отвалился от груди, Марта тем же лоскутком марля вытерла ему губы и сказала:
— Ну вот мы и сыты. И снова мы спим сладко, и никакой папаша нам сейчас не нужен.
Марта уложила Ивана в кроватку, сверху прикрыла одеялом и, улыбаясь мне, как бы говорила этой улыбкой: вот видишь, как все просто, как я легко управляюсь с материнскими обязанностями и теперь, когда сыночек спит и сыт, я вся твоя и готова слушать все, о чем станешь рассказывать. А я смотрел на ее счастливое лицо и думал: умелое исполнение материнских обязанностей — это похвально, накормить ребенка и уложить его в постель — дело тоже, видать, не мудреное. Но самое непростое и самое главное, что тревожило меня всю дорогу и продолжало тревожить сейчас, — это наше с Мартой будущее. Оно было так еще неясно и так еще неопределенно. Как мы станем жить завтра, если учесть, что Марта ушла с работы из-за ребенка, а я вернулся без копейки. И я был уверен: если не сию же минуту, то через час или через два она заговорит о том, что же нам делать и как нам жить. Так оно и случилось. Марта сказала, что я, наверное, голоден, и пошла на кухню, говоря:
— Миша, а у меня и покормить тебя нечем. Будем пить чай с сухарями. Другого ничего нет.
Я молча направился следом за ней. Что я мог сказать? Она зажгла газовую плитку и попросила меня рассказать, как я съездил на хутор, удачно или неудачно.
— Об этом после, — сухо ответил я. — Есть у нас разговор поважнее моей поездки на хутор.
— Что ты имеешь в виду?
— Многое. Первое — то, что нам надо узаконить Ивана, того самого Ивана, который так любит материнское молоко и собирается вырасти богатырем. Второе…
Марта перебила меня.
— Погоди. Мне непонятно: что значит — узаконить Ивана? Он твой сын, носит твою фамилию. Второй месяц на свете живет и здравствует Иван Михайлович Чазов, и живет хорошо. Что еще нужно? — На ее лице затеплилась прежняя радостная улыбка. — Я не писала тебе о регистрации. Когда в загсе я предъявила твою заверенную нотариусом телеграмму, где было сказано, что новорожденный — твой сын, регистраторша, женщина пожилая, в очках, долго смотрела то на телеграмму, то на меня, а потом сказала, что за все время своей работы в загсе она впервые получила такую телеграмму. И все же, когда выдала регистрационные метрики, не утерпела и спросила: «А добровольный папаша алименты платить будет?» Какие, говорю, алименты? Ведь он же отец!.. Извини, Миша, что остановила. Что там у тебя второе?
— Второе — это то, что нам надо идти в загс, — сказал я. — Завтра же пойдем и распишемся.
— Почему завтра? — спросила Марта с трудно скрываемой грустью. — Может, не будем спешить? Сколько жили…
— Так, как мы жили, теперь мы жить не можем.
— Успеем еще расписаться, — сказала Марта — Свадьбы у нас все одно не будет. Мы не так богаты, чтобы устраивать гулянье.
— Я не о свадьбе, а о том, что регистрацию нашего брака откладывать не следует. Мне надоело жить у тебя на правах вольного прихожанина. Пора мне стать твоим законным мужем и отцом нашего сына. И еще — это уже третье: Верочку мы удочерим. Пусть она станет тоже Чазовой.
— Вот уж этого делать никак не следует, — быстро и, как я заметил, зло возразила Марта. — Верочка была и останется только моей дочкой, Анохиной. Незачем ей быть Чазовой.
— Марта, тебя трудно понять. Что же тут плохого, если у девочки будет отец?
— Не забывай, что ей уже три года. Станет ли она называть тебя отцом?
— Станет, — уверенно ответил я. — Помнишь, в прошлую зиму мы гостили у твоей матери в деревне. Я взял тогда Верочку на руки, а она удивленно взглянула мне в лицо и спросила: ты мой папа, да? Я только кивнул. Что я мог сказать? А теперь отвечу: да, Верочка, я твой папа… А что? Будет у нас семья — дочь и сын.
— Ни за что! — резко ответила Марта. — Верочка будет жить у бабушки. — В больших ее глазах выступили слезы. — Ты же знаешь, Верочка — мой тяжкий грех, мое тяжкое горе… Как говорится, что случилось, то случилось, не вернешь и не исправишь. — Она налила мне чаю, сама подсела к столу, фартуком вытерла слезы. — Нам и с одним ребенком будет трудно. Я не работаю, ты тоже. Нам надо о себе подумать.
«Ну вот оно то, чего я ждал и чего боялся, — думал я, не притрагиваясь к чаю. — Неужели в первый же вечер поссоримся? Она права: об этом надо не только думать, а и говорить, и если не сегодня, то завтра. Только бы не поссориться…»
— Там, где живут трое, проживет и четвертый, — сказал я. — Ведь так же?
— Не будем об этом, Миша, — ответила она и посмотрела на меня своими большими, полными удивления глазами. — Ты вернулся какой-то странный. Я это заметила еще там, на аэродроме, и только что, когда кормила Ванюшу. Ты как-то странно смотрел на меня и на сына, с какой-то тревогой во взгляде.
— Ну что выдумываешь? Какая еще тревога? — Я стал пить чай и некоторое время молчал. — Я все такой же, каким и был, только без бороды. Но вот что ты должна знать: во мне опять проснулось желание видеть и замечать что-то необычное, удивительное. На аэродроме я впервые увидел тебя с ребенком на руках и удивился. Это ново, интересно. Дома я смотрел, как ты кормила Ивана, тоже удивлялся в думал: обязательно надо запомнить и эти твои полные, теперь уже не девичьи и все такие же красивые груди, и эти желтые капельки молока на темном соске, и то, как Ванюша прилип к груди. А лучше всего — записать увиденное, может, пригодится. А ты — тревога! Нет, Марта, тревоги никакой. Напротив — радость…
— А почему сказал — «опять проснулось»? — спросила Марта. — Разве там, на хуторе, ты уже избавился от этого своего желания видеть, удивляться и записывать?
— Хотел избавиться, да вот, вижу, ничего из моего хотения не получается. — И я, желая переменить разговор, спросил: — Хочешь знать, что меня сейчас тревожит?
— Да, хочу.
— То, что в моих карманах нет ни гроша, — ответил я, чувствуя, как краснеют мои щеки. — Поездка моя была неудачная, она ничего, кроме огорчения, мне не принесла, и повесть писать я не буду.
— Это почему же, Миша?
— Трудный вопрос. Отвечу как-нибудь в другой раз.
— Да, Миша, я и забыла сказать. Как-то позвонил лауреат, тот писатель, помнишь, Никифор Петрович, который написал отзыв на повесть «На просторах»? — Марта виновато посмотрела на меня. — Спрашивал о тебе.
— Как же он узнал твой телефон?
— Наверное, был в рукописи. Ты же оставил адрес и, возможно, телефон.
— Ну и что ты ему ответила?
— Сказала, что поехал к чабанам собирать материал и что скоро вернешься.
— А он?
— Похвалил и сказал, что придумал для твоей новой повести название. Знаешь, какое? «Ковыль». Нравится, а?
— «Ковыль»… Какое же это название? Известно ли лауреату, что эта шелковистая и на вид красивая трава — несъедобна? Ее даже овцы и козы не едят. Верблюды тоже.
— Сходил бы к нему, Миша.
— Некогда мне расхаживать, — ответил я. — Завтра надо устраиваться на работу. Хорошо бы вернуться на старое место. И зачем, дурак, уезжал?
— Возьмут ли?
— Должны бы взять. Пойду к Павлу Петровичу с повинной головой. Так, мол, и так, возвернулся блудный сын…
— Миша, а писать ты все же будешь.
— Почему так думаешь?
— Не утерпишь. Я же тебя знаю…
Я промолчал.
Ночью, уже лежа в постели, мы снова заговорили о своих житейских делах. Марта еще раз сказала, что оставила службу в министерстве только из-за сына. Не зная, что ей ответить, я посоветовал отправить мальчонку к бабушке хотя бы на какое-то время.
— Пусть внук растет вместе с внучкой, — добавил я. — В деревне Ванюше будет хорошо. У бабушки имеется дойная коза. Деньгами будем помогать.
— Миша, ты с ума сошел! — сквозь слезы сказала Марта. — Хватит с матери и того, что я уже подбросила ей Верочку. Но тогда нечем было кормить ребенка — у меня не было молока, да и сама я была еще девчушка. Теперь же молока у меня много и Ванюшу — ты это запомни! — никому не отдам! Даже тебе, отцу!
Марта была права, и я не стал возражать. Перед тем как уснуть, мы решили: Марта пока не пойдет на службу. Как-нибудь перебьемся. Пусть Иван подрастает, и тогда мы его определим в детские ясли. Я же должен устроиться на работу завтра, а в загс мы пойдем послезавтра. И хотя все наши планы были обговорены мирно, спал я в эту ночь плохо, меня тревожили, мешали уснуть неприятные мысли. Притворившись спящим, я лежал молча и слышал, как запищал Иван. Марта вскочила, взяла его на руки и, сидя на кровати, стала кормить грудью. Малец все так же аппетитно причмокивал губами. Потом она завернула его в свежую пеленку и положила в кроватку. Я же в это время думал о том, что в реальной жизни все бывает, к сожалению, совсем не-так, как в мечтах или так, как бы тебе хотелось. Примеров — сколько угодно. Я уезжал к чабанам с надеждой написать о них повесть, а вернулся с твердым намерением не писать ничего вообще. Живут же люди без этого, без литературных занятий, и живут неплохо. Мог бы жить и я. Мог бы… А смогу ли? Марта уверена, что не смогу. А тут еще, находясь уже дома, я узнаю: пожилой, широкоизвестный в стране романист, оказывается, звонил мне, интересовался моей персоной, даже придумал название для моей повести, которую писать я не намерен. А может, надо ее написать? Попытать счастья еще разок? Но на какие шиши стану жить? Ведь теперь я — отец семейства, у меня жена, сын. Или вот еще пример: когда мои отношения с Мартой были неопределенными — сегодня пришел, переночевал, завтра не пришел, — я был уверен, что другую девушку, лучше Марты, я никогда не встречу. И не встречал. Но стоило мне поехать к чабанам, и я там, на хуторе Привольном; встретил, на свое горе, Ефимию. Думал: уеду и забуду о ней. А она не забывалась. Марта стала матерью моею сына, я люблю ее еще больше, чем любил раньше, и мы послезавтра скрепим свой брак законом, а я почему-то нет-нет да и подумаю, вспомню о Ефимии. Еще бабушка как-то мне говорила, что в любви бывает присуха, когда девушка какими-то травами присушивает к себе парня и он бы рад не любить ее, да не может. Возможно, Ефимия меня присушила? Глупость! Но зачем же я и там, на хуторе, и теперь здесь мысленно, ставлю Ефимию рядом с Мартой? Хочу сравнить их и сказать самому себе: да, Ефимия красивее Марты. Красота ее какая-то странная, от земли, от степи, может быть, от полыни или от ковыль-травы. Ну и что же из того, что Ефимия красивее? Как говорит народная мудрость, с лица воду не пьют. Не в красоте счастье. А в чем же оно? Вот тут и разберись. Одно мне ясно и понятно: я не могу не думать о Ефимии, и если так будет продолжаться и дальше, то зачем же нам с Мартой идти в загс? А не идти мы не можем, у нас есть сын Иван… Какой-то заколдованный круг. Это — нельзя, это — невозможно. Так как же быть? Надо не писать и не думать о Ефимии. Все начать заново…
С этими запутанными мыслями уже под утро я и уснул.
3
Холодным осенним утром по давно исхоженной мною улице я отправился в редакцию. Как я и предполагал, мой неожиданный приход никого не обрадовал. Удивил же многих. Те, с кем я работал в отделе и кого считал своими друзьями, встретили меня молчаливо, неловко пожимали плечами, — обычно так встречают нежданного гостя, явившегося невесть откуда и неведомо чего ради. На лицах у них появлялись загадочные улыбочки, они как бы говорили: «В общем-то, мы, конечно, рады, видишь, даже улыбаемся, а только нам совершенно непонятно, зачем ты вернулся. Мы давно решили, что не вернешься, и вдруг, на тебе, вернулся». С теми же загадочными улыбками мне было сообщено о переменах в отделе: Павел Петрович, оказывается, получил повышение, стал заместителем главного, а на его место назначен хорошо мне известный Виталий Якунин, мой сверстник, которого мы называли Витюшей. Я знал, этот Витюша всегда неодобрительно отзывался о моих литературных опытах, и каждый раз при удобном случае старался подбросить шпильку и больно уколоть. Он почему-то относился к писателям с какой-то внутренней, давно застаревшей ненавистью. Ко мне тоже, хотя я и не был писателем. «И чего это ты свои обыкновенные газетные заметки величаешь «Сельскими этюдами»? — как-то спросил он. — Лучше назвал бы их стихами в прозе, как Тургенев, или романами. Солидно и красиво!» Я ответил, что то, о чем я пишу, имею право называть так, как хочу.
В отделе я пробыл немного. Мне противно было и выслушивать сожаления, и видеть эти сочувствующие улыбочки. Мне в один голос советовали:
— Миша! Да ты зайди к Виталию Семеновичу! Он же тебя знает.
— Ты наш, можно сказать, свой, доморощенный.
— Повидайся с новым начальством, поговори. Вреда от этого не будет.
— Обязательно зайди к Витюше!
— Только знай: теперь он уже не Витюша, а лицо важное, с усиками.
Деваться было некуда. Я зашел в тот же хорошо мне знакомый кабинет, в котором когда-то бывал частенько. Мне вдруг стало грустно оттого, что за столом, где я привык видеть седого, всегда по-доброму улыбающегося Павла Петровича, сидел молодой человек с худощавым лицом, на котором отчетливо выделялись черные, узенькие, старательно подбритые усики. Очевидно, они были отращены недавно. Своими молодыми подбритыми усиками, темным, как-то ловко, умело зализанным назад чубом знакомый мне Якунин казался похожим на адъютанта, который почему-то снял армейскую форму и надел темно-синий, элегантно сидевший на его тощей фигуре двубортный, наглухо застегнутый костюм. Мы поздоровались. Он не предложил мне сесть. Я поспешил сказать, что хочу снова вернуться в отдел, и тут Якунин быстро, по-адъютантски, поднялся и, не дав мне договорить, спросил:
— Значит, что, Чазов? Вернулся с романом или без такового?
— К чему эти глупые вопросы? — не отвечая, спросил я, уже ругая себя за то, что вошел в кабинет. — Я пришел…
— Они, мои вопросы, напротив, умные, — опять не давая мне договорить, сказал Якунин. — Ведь сейчас стало модой: всяк, кому только не лень, хочет стать романистом, своим, русским, Бальзаком. — Он и говорил не так, как раньше, а как-то так, как говорят те, кто привык исполнять чужие поручения и кто умел давать свои указания тем, кто находился в его подчинении: не говорил, а как бы бросал твердые, обкатанные, как морская галька, слова. — Что в настоящее время происходит в Союзе писателей? Безобразие! Понапринимали столько, что им, этим сочинителям, и счет уже потерян. Писателей развелось много, а где, я спрашиваю, современные «Война и мир»? Где «Братья Карамазовы»? Где, наконец, «Человеческая комедия»? Их нету и не будет. Так что мои вопросы далеко не праздные и, стало быть, умные.
— Я зашел не для разговора о литературе.
— Напрасно! Почему бы нам не поговорить о литературе? — четко печатая слова, говорил Якунин. — Наглядный пример. Беру себя. Кто я? Журналист, этим горжусь, и писателем быть не собираюсь. Просто не желаю. Правильно я поступаю?
— Тут уместно вспомнить народную мудрость.
— Какую?
— Вольному — воля, спасенному — рай, а сумасшедшему — чистое поле.
— Нельзя ли без грубостей?
— Можно. Я лишь хотел сказать: это твое дело — быть или не быть писателем.
— Да, мое! Что же касается тебя, то я все же хотел бы знать: там, на степном хуторе, роман уже написан? Или ты все это время сочинял сельские этюды?
— Зачем тебе об этом знать? Тревога на душе? Или простое любопытство?
— Хотя бы и так. Ну так что? Роман написан?
— Никакого романа не будет. Этюдов тоже. Это тебя успокоило?
— Я так и думал еще тогда, когда ты бросил все и уехал. — С заметной радостью Якунин прошелся по кабинету, четко ступая желтыми, до блеска начищенными туфлями, заложив за спину руки с длинными сухими кистями. — Вот видишь, Чазов, что получилось. И работу потерял, и роман не написал. А почему произошел такой прискорбный факт? Исключительно по твоему легкомыслию. Да, да, легкомыслию! Приходится лишь сожалеть, и удивляться тому, что некоторые
молодые люди, получив за счет государства высшее образование, спешат сделаться литераторами. А что их там ждет? Неудачи, разочарования…
— Я пришел не за тем, чтобы выслушивать…
— Да, понимаю, ты пришел узнать о работе, — так же бесцеремонно перебил он. — Но в моем отделе вакансии, к сожалению, нет. Так что по существу вопроса нам и говорить не о чем. — Он постоял, ногтем мизинца потрогал подбритую стежечку черных усиков, усмехнулся. — И все же нельзя не сказать о легкомыслии тех, кто вопреки всякому здравому смыслу становится на ложную и опасную стезю и вскоре сам в этом раскаивается. Извини меня, Чазов, великодушно: именно в твоем необдуманном поступке и видится мне эта ложная и опасная стезя со всеми ее печальными последствиями. Мой тебе совет, разумеется, на будущее…
— Ни в чьих советах не нуждаюсь, — резко сказал я. — А тем более в твоих, Витюша.
И я ушел.
Мне было неприятно думать и о моем, похожем на адъютанта сверстнике и о том, с каким презрением он говорил вообще о писателях, о каком-то моем легкомыслии, поучал меня, да еще и хотел дать совет. Какое ему, собственно, дело до меня и до моих намерений? С этими мыслями я постоял в коридоре, успокоился. Затем поднялся на четвертый этаж, решив заглянуть к Павлу Петровичу Зацепину. Признаться, в груди у меня побаливало, я боялся: а что, если у Павла Петровича меня ждет такой же прием? Тогда куда податься?
Опасения мои оказались напрасными. Павел Петрович встретил меня не то что приветливо или радушно — это не те слова! — а с той своей хорошо всем известной подкупающей улыбкой, которая и радовала и говорила: «Михаил! Я давно тебя поджидаю, так как хочу сообщить что-то важное, приятное, и теперь, увидав тебя, никак не могу скрыть свой восторг». Все такой же широкоплечий крепыш, с седыми мягкими волосами, с глубокими залысинами, он вышел из-за стола, обнял меня, как родного брата, потом пожал мою руку так крепко, как обычно жмут ее человеку, которого уважают искренне и давно, усадил меня на диван, сам сел рядом. Не стал расспрашивать, почему я вернулся раньше срока, удачно ли съездил, а, глядя на меня все с той же ободряющей улыбкой, сказал:
— Вижу, вижу внешние перемены, растительности на лице не стало, загорел по-степному. А как с переменами внутренними? Что-то глаза грустноватые. В чем причина? Сознавайся!
— Павел Петрович, я хочу вернуться в газету, — начал я без лишних слов. — Но в отделе нет места.
— Говорил ли с Виталием Семеновичем?
— Разговор у нас не получился. Все вакансии, говорит, заняты.
— Да если бы они, эти вакансии, и не были заняты, то с Якуниным ты все одно не сработался бы. Разные вы. Нет биологической совместимости, — с улыбкой добавил он.
— Извините, Павел Петрович, но я не понимаю, почему Якунина посадили на это место?
— И не пытайся понять, — грустно ответил Павел Петрович и указал пальцем на потолок. — У него там сильная рука. А человечек он дрянненький, это все знают. Но не о нем речь. — Павел Петрович дружески обнял меня. — Ну ничего, что-то придумаем. Если, к примеру, тебе предложить должность разъездного собкора? Как, а?
— Согласен, — не задумываясь, ответил я. — Мне лишь бы вернуться в газету.
— Учти, Миша, эта работенка чересчур беспокойная, всегда на колесах да на крыльях, а в кармане срочное задание.
— Меня не испугают ни поездки, ни полеты, ни срочные задания.
— Отлично! — сказал Павел Петрович вставая. — Тогда я завтра же поговорю о тебе с главным. Эту должность теперь занимает Ефим Иванович. Он тебя знает, относится к тебе хорошо. Думаю, поддержит мое предложение. — Павел Петрович прошелся по кабинету, остановился возле меня. — Ну, а как все же дела литературные?
— Пока никак.
— Не понимаю.
— Выходит, напрасно ездил на хутор. Случилось неожиданное: я увидел таких людей, о которых и мечтать не мог, и понял: не смогу описать их такими, какие они есть в жизни. А если говорить образно, то можно сказать: не подниму эту тяжесть. Не по моим она силам. В данном случае я похож на штангиста, который подошел к штанге, но не взял ее.
— Сравнение, в общем-то, понятное, — согласился Павел Петрович, с улыбкой глядя на меня. — Но штангистам, как известно, предоставляется право на три попытки. Ты же использовал только одну. — Ну что ж, это даже к лучшему, будешь отдавать все силы и умение газете. Штанга же, тобой еще не взятая, пусть пока постоит. В будущем, когда почувствуешь в себе достаточно сил, используешь второй и третий подходы. — Улыбка исчезла, лицо стало строгим. — А как с запахом полыни? Тоже все кончено?
— Да, кончено.
Я покраснел, потому что сказал неправду.
— Это, конечно, жалко, что запах полыни уже не чувствуешь, — с той же ободряющей улыбкой говорил Павел Петрович. — Так приходи ко мне завтра… Нет, лучше послезавтра. Думаю, сразу же приступишь к работе. Нам надо срочно посылать человека в Молдавию.
Я ушел от Павла Петровича с теплым, приятным чувством. Отчего бы? Оказывается, от простой и маленькой доброты. Вот оно какое лекарство — доброта. И как же трудно жилось бы на свете без нее, без доброты, и уж совсем невыносимо без тех, кто щедро одарен ею от природы, то есть без людей отзывчивых, сердечных… С этими мыслями я и вернулся домой. Настроение у меня было приподнятое, праздничное. Я охотно рассказал Марте о своем разговоре с Павлом Петровичем. Она же не слушала меня, потому что в это время купала Ивана. Наклонившись над ванночкой, она говорила:
— Миша! Как раз вовремя пришел! Вот он, наш купальщик, наша радость! Еще раз хорошенько посмотри, что у нас с тобой получилось. Чудесный парнишка!
— А зачем завернула в пеленки?
— Купать детишек так полагается, чтобы они смирно лежали, — со знанием дела ответила Марта. — А то, чего доброго, ручонками глаза себе поцарапает и воды нахлебается.
— Марта, меня удивляет, откуда тебе все это известно? — спросил я. — То полагается, это не полагается, одно можно, другое нельзя. Тебя что, специально обучали, да? Или прошла курс «маминой школы»?
— Чудак ты, Миша. — Марта смеялась тихо, не поднимая голову от ванночки. — Зачем нам обучаться! У нас, у матерей, все это в крови.
«Надо непременно записать, пригодится, — подумал я. — «У нас, у матерей, все это в крови». И просто и понятно». Меня потянуло к тетради, хотелось раскрыть ее и многое записать. Это желание пугало меня: значит, говорил я себе, во мне все еще не умерло то, чем я жил, чему радовался и отчего потом захотел избавиться. Однако я нашел в себе силы и удержался, не подошел к столу, а стоял и наблюдал, как Марта управлялась с малышом. Она подняла его над ванночкой, голого, похожего на лягушонка, держала на ладони, как бы желая показать мне и всему свету нашу кровинушку, а с лежавшего на руке розового тельца стекала вода. Другой рукой Марта взяла сухую, мягкую белую пеленку, и в нее быстро, на весу, завернула Ивана. «У нас, у матерей, все это в крови». Иван не плакал, а только покрякивал и в сладкой дремоте уже закрывал глаза.
— А теперь, после купанья, мы — бай-бай.
— Марта, это тоже так полагается: «мы — бай-бай»?
— А то как же? Полагается! — уверенно ответила Марта, укладывая в кроватку уже спеленатого Ивана, теперь похожего на шелковичный кокон. — Если иначе скажешь, то сыночек меня не поймет. А так он все понимает… Ну вот видишь, мы уже и спим, потому что мы всем довольны.
Опять меня что-то толкало к столу, к тетради, в глазах — зеленая, как спинка ящерицы, обложка. Она манила к себе, звала. «А я не пойду, не желаю, вот что хочешь, а не пойду», — твердил я. Удержаться и не подойти к столу, где лежала тетрадь, было нелегко, и все же я не подошел и на этот раз. Чтобы не поворачивать голову к столу и не видеть эту зовущую, зеленую спинку ящерицы, я начал заново, как можно подробнее, пересказывать свой разговор и с Якуниным, похожим на адъютанта в штатском, и с улыбчивым, по-отцовски добрым Павлом Петровичем. И Марта теперь слушала меня. Я уверял ее, что когда стану разъездным, а лучше сказать — «разлетным», собкором, то у меня вместе с авторским гонораром получится приличный заработок. К тому же при желании — а такое желание у меня было — можно экономить деньги на суточных. Так что Марта может не поступать на работу и спокойно заниматься только детьми — Иваном и Верочкой.
— А тебя снова дома не будет? — грустно спросила она.
— С этим придется мириться, — ответил я весело. — А что тут такого страшного? В войну и не такое жены терпели.
— То в войну.
— Я же буду уезжать ненадолго. — Я помолчал и спросил: — Так возьмем Верочку к себе?
— Зачем опять об этом?
— Верочке и Ивану вдвоем будет веселее. Да и тебе с ними.
— Я уже сказала: Верочка останется у бабушки, и довольно об этом… Да, Миша, совсем забыла. — Марта обрадовалась, что нашелся предлог переменить тему разговора. — О тебе снова справлялся лауреат.
— Что ему еще нужно?
— Не знаю. Просил позвонить ему на дачу. — Марта подала листок. — Вот здесь я записала его телефон. Позвони сейчас. Я ему сказала: как вернешься, так сразу и позвонишь. Позвони, а?
— Не буду. Зачем?
— Ну просит же человек. Миша, это же лауреат. Тебе что, трудно набрать номер телефона, да?
— Не трудно. А к чему?
— Ну что уперся? Прошу, Миша, позвони. Пойми, он же не каждого просит звонить ему. А тебя попросил.
Я уступил настоятельной просьбе Марты. Телефонный разговор был коротким. Я слушал и записывал на бумаге адрес дачи. Когда трубка звякнула, привычно ложась на свое место, Марта смотрела на меня своими большими удивленными глазами, ждала, что же я скажу. Я молчал, мне не хотелось говорить.
— Ну? Что он сказал?
— Просил завтра приехать.
— Зачем?
— Не дознавался.
— Ну что же ты, согласился?
— Вот адрес. Ехать на электричке с Белорусского. Сойти на платформе «Пионерская».
— Это совсем близко.
— Там еще лесом с километр.
— Поедешь?
— Завтра же мы собирались в загс.
— Успеем. Дольше ждали, а день подождем. Поезжай, Миша, завтра ты как раз свободен. Поезжай, я прошу. Побывать у такого писателя на даче — это же не каждый может.
— Да, все это так…
— А что не так?
— Ну, приеду. Ну, здравствуйте. А о чем станем говорить?
— Поезжай, а разговор возникнет сам по себе. Расскажешь ему о поездке к чабанам.
— Думаешь, ему это интересно будет слушать?
— Миша, он так о тебе заботится… Поезжай, Миша.
— Не торопись. Есть еще время подумать.
В эту ночь мне опять не спалось, и потому, что я не хотел, а думал о своей поездке к писателю. Я разговаривал с ним, и мысленно, как это часто бывает, разговор у нас получался дельным и таким хорошим, что лучшего и желать не надо. Думал я и о Марте. Она лежала рядом, ее мягкие волосы касались моей щеки и почему-то пахли полынью. Она спала крепко и так тихо, что даже не было слышно ее дыхания, и я удивился, когда она, услышав слабое попискивание Ивана, вдруг вскочила, будто и не спала. Не зажигая свет, чтобы не разбудить меня, она взяла из кроватки Ивана, положила рядом с собой и дала ему грудь. Сладкий запах молока смешался все с тем же идущим от ее волос запахом полыни. Мальчонка, как всегда, сладко почмокивал и от удовольствия легонько покряхтывал. Когда Иван насытился, Марта спросила:
— Миша, почему не спишь?
— Что-то не спится.
— Пусть Ванюша полежит между нами. Не возражаешь?
— Даже буду рад.
— Вот и получается: два молодых дерева, а между ними — росточек, совсем еще крохотный побежечек, — сказала Марта и, помолчав, добавила: — Наш росточек, наш побежечек.
— А этому росточку тут, между нами, не тесно?
— Что ты, Миша! — удивилась Марта. — Да ты погляди на нас! Мы уже от радости и ручонками заработали. Это он тебя хочет ударить кулаком. Хочешь, зажгу свет?
— Не надо… Значит, росточек?
— А как же! И какой славный. — Марта помолчала. — Миша, и все же скажи, почему не спишь?
— Думаю.
— Думай днем, а ночью спи.
— Хотелось бы, да не получается.
— А наш росточек уже притих. И ручонки сложил. Надо и нам спать.
Ну что ж, спать так спать. Попробую уснуть. «Два молодых дерева, а между ними — росточек, совсем еще крохотный побежечек». «Наш росточек, наш побежечек». Тоже надо бы записать или хотя бы запомнить. Да, многое следовало бы записать, а подойти к тетради я не могу. Она ждет меня и никак не может дождаться. Ну и пусть ждет. И об этом надо было бы записать: одна общая кровать, а на ней трое — семья. «Росточек, совсем еще крохотный побежечек». А где-то там, в степном чабанском хуторе, осталась Ефимия, и я нет-нет да и подумаю о ней. Сколько раз говорил себе: не надо думать о ней, как и не надо прикасаться к тетради, а не думать не могу ни о Ефимии, ни о лежащей на столе тетради. С Мартой мы давно уже как родные, а теперь уже и со своим росточком, вот он, между нами, а по закону мы еще не муж и не жена и никак не можем собраться пойти в загс. Выходит, и завтра не сможем пойти. А пойти надо, и давно бы… Но и к писателю необходимо поехать. Марта права: не каждого он приглашает к себе… И опять в голове: а на хуторе Привольном осталась Ефимия, а на столе лежит зеленая тетрадь. Что же мне делать? Как же мне не думать об этом? Не знаю. Может, рассказать Марте о Ефимии? Пусть она узнает все, что со мной случилось там, в Привольном, и тогда совесть моя перед ней будет чистая. Ну что ж, скажу, согрешил, с кем не бывает беды… А что потом? Нет, пусть это все умрет во мне. Во мне оно родилось, во мне и умрет. Не подхожу же я к тетради, удерживаю себя — умолчу и о Ефимии, да и перестану думать о ней…
4
Куда ни посмотришь — лес да лес. Всюду сосны, высокие, наискось пробитые лучами низкого осеннего солнца и объятые тишиной — не сосны, а корабельные мачты. Казалось, эта устоявшаяся тишина утра исходила и от самих стволов, глянцевито-красных на ярком свету, и от умолкнувшей, лежавшей на земле листвы, и от взлетевших к небу зеленых макушек. Отовсюду веяло прелью, увяданием и сыростью. В сторонке стояли, обнявшись, по-осеннему грустные березки в своих накрахмаленных ситцевых сорочках, им, наверное, было зябко, и они словно бы грелись под лучами нежаркого солнца. Земля пушилась листьями, сухими, легкими, дыхнет ветерок — и они полетят. Одни ярко-красные, шириной в ладонь, с бледными прожилками, другие — жухлые и уже скрюченные. Их нападало навалом, по ним приходилось не идти, а словно бы брести, поднимая тот особенный, уху приятный шорох, который как бы нашептывал: а ты иди еще тише, еще тише, куда тебе спешить, спешить-то некуда.
Отвесной скалой поднимался еловый бор, весь — от верху до низу раздвинут горящими солнечными столбами. Ели — одна в одну, стволы, от земли до верхушек, совсем голые, будто кто-то нарочно очистил их от веток и потом уже поставил таким густым и могучим частоколом. Дорожка проковыляла мимо бора, не зацепившись за стволы, и вскоре ее обрубил матерый дуб, мимо такого ни за что не пройдешь, так и хочется остановиться и посмотреть! Дубище был высок и широк, ему здесь жилось тесновато, и потому своими кривыми ветками, как согнутыми сильными локтями, он растолкал, раздвинул деревья и кустарники и образовал вокруг себя неширокую поляну, поросшую густой отавой, зеленой и свежей. Листья у дуба коричневые, жесткие и зубчатые, будто бы вырезанные из жести, и, наверное, только поэтому он никак не мог стряхнуть их со своих плеч. Корни толстые, они бугрились, поднимали травянистый покров, смотришь на них и думаешь: нет, ни свалить, ни покачнуть! Ствол — в четыре обхвата, кора на нем — рубчатая, черная, как заржавевшая кольчуга на воине. Казалось, что этот великан держался и за землю и за небо: от ствола в землю уходили корни, похожие на ветки, а вверх, к небу, — ветки, похожие на корни. И странно: чем дольше я смотрел на это могучее дерево, сверху уже облысевшее, а снизу все еще курчавое, тем больше оно походило на того старого человека, к которому я шел.
И в Никифоре Петровиче, и в этом дереве я видел завидную, давно устоявшуюся мудрость. Эта мысль снова и снова навещала меня и тогда, когда я уже отыскал дачу писателя. Это был низкий бревенчатый домик, покрытый шифером, похожий не на дачу, а на жилье лесничего, и прятался он, почти невидимый, в чаще леса. Его обступали те же голые ели, над ним стыла та же нетронутая тишина, и вокруг пушились те же жухлые листья, и только от калитки и до порога дорожка была старательно расчищена и подметена.
Если в первый мой приход к Никифору Петровичу, еще тогда, в Москве, он показался мне похожим на дворника: только подай ему метлу — и готов наш дядя Антон, то теперь же передо мной стоял — ни дать ни взять — лесничий: на нем была заячья шапка-ушанка, замызганный, подпоясанный веревкой полушубок, кирзовые сапоги с налипшими на носках листьями. И его жена Клавдия Яковлевна, немолодая, молчаливая женщина, закутанная шалью, тоже была похожа на лесничиху. Она пригласила нас в дом пить чай. В комнате, куда мы вошли, тоже было как в доме у лесника, — тепло, пахло березой, в печке потрескивали дрова. Никифор Петрович снял полушубок, шапку, сапоги, надел тапочки, куртку с потертыми локтями, и я снова увидел перед собой лесничего: он даже был похож на тот дуб, что так удачно облюбовал себе место в глубине леса. Это сходство с дубом виделось и в слегка раскоряченных ногах, и в крепкой, коренастой его фигуре. Он попросил меня раздеться, сказав, что в комнате тепло, и предложил надеть тапочки. Клавдия Яковлевна принесла чайник, поставила на стол чашки, вазочку с вареньем из черной смородины, сухарики, печенье, и Никифор Петрович, кивком приглашая к столу, сказал:
— Клава, удивительно, как быстро изменяются молодые люди. Давно ли мы виделись с Михаилом Чазовым, а я, признаться, не узнал его. Так переменился, будто мы никогда и не встречались. А вот старики не меняются, на них и время не влияет.
— Никита, вспомни, тогда же Михаил носил бородку, — ласково сказала жена. — А я сразу его узнала. Помню, бородка очень была ему к лицу.
— В самом деле, Никифор Петрович, может, вы не узнали меня потому, что я теперь без бороды? — спросил я, чтобы не молчать.
— Возможно, возможно, — согласился «лесничий», наливая чай. — Ну, так что на хуторе? Что там за люди? Как они живут?
Я коротко рассказал о своей поездке, о том, с кем встречался на хуторе, в частности о своей бабусе, о Суходреве, об Андрее Сероштане, о чабане Горобце.
— Да, всюду жизнь своя, неповторимая, — задумчиво сказал «лесничий», поглаживая свою лысину. — Слушая тебя, я вот о чем подумал: о повести «На просторах» я тогда написал как-то наспех, непродуманно и излишне резковато, а потому в чем-то и несправедливо.
— Вопрос не в резкости и тем более не в несправедливости.
— А в чем же?
— В том, Никифор Петрович, что я, — и об этом мне необходимо сказать вам без обиняков, — никак не могу ни понять, ни принять ваш совет.
— Это какой же мой совет? Что-то запамятовал.
— Вы советовали выдумывать жизнь и такую ее, выдуманную, описывать, — ответил я, краснея. — Я же могу описать только то, что сам видел, то есть и людей реальных, и события достоверные. Да к тому же если увиденное взволновало или удивило меня.
— Удивление и взволнованность — это же прекрасно! — сказал «лесничий», и старые его глаза молодо заблестели. — Писатель, которого уже ничто не волнует и ничто не удивляет, это уже не писатель. Он похож на парус в безветренную погоду.
— А как же быть с выдумкой? — спросил я. — Сколько можно привести примеров, когда выдумывать нельзя, а самый очевидный пример — это вы, Никифор Петрович. Да, вы!
— Ну, ну, допустим… Так что же?
— Предположим, я стал бы описывать вас как известного литератора, то ничего бы не стал выдумывать и нигде не отступил бы от натуры, то есть описал бы вас в точности таким, какой вы есть. И это была бы правда.
— Это интересно. Какой же я есть?
— Мне неудобно говорить…
— А ты говори. Не обижусь.
— Вы совсем не похожи на писателя. Вот что я написал бы о вас, Никифор Петрович.
— Так, так… На кого же я похож?
— Когда я увидел вас впервые, тогда, в Москве, когда приносил повесть, вы показались мне похожим на дворника.
— Да? Забавно.
— Здесь же вас можно принять за лесничего, — осмелев, продолжал я. — Так зачем же вас выдумывать, когда вы вот такой, придуманный самой жизнью. А как пишут картины живописцы? Не мне вам говорить. Они без натуры и шагу ступить не могут. А почему? Да потому что то, что увидишь своими глазами, невозможно ни выдумать, ни придумать. Да и зачем? По вашему же совету я обязан выдумывать каких-то людей, которых не видел, и их описывать. Так? Правильно я понял ваш совет?
— Правильно, да не совсем.
«Лесничий» закрыл усталые глаза, о чем-то думая, и мне показалось, что сейчас он посмотрит на меня и скажет: «А! Не надо ничего выдумывать, и лучше поговорим не о литературе, а о лесе, о породах деревьев. Вот тут, в лесу, точно знаю, ничего не надо выдумывать, природа сама постаралась и все придумала».
Он же, помолчав немного и не открывая глаза, сказал:
— Правда жизни и правда вымысла… Говори, говори, я слушаю.
— Или тот же запах полыни, — продолжал я. — Помните, я еще в тот раз, в Москве, говорил вам, что чувствую запах полыни там, где ее нет и не было.
— Да, да, помню.
— Ведь такое тоже не придумаешь?
— Ну, а как теперь, после поездки? — спросил «лесничий», снова закрыв глаза. — Там, на хуторе, не избавился от ощущения этого запаха?
— Хотел, пытался избавиться, да не смог, — ответил я. — Вам скажу правду: мне стало еще приятнее, еще радостнее, когда в носу или в горле я чувствую этот ни с чем не сравнимый горьковатый привкус. Дыхание полыни преследует меня всюду. Со мной происходит что-то странное и необъяснимое. Не могу понять: или у меня какое-то особенное, не такое, как у всех людей, обоняние, или что-то еще. И этот удивительный, слегка горьковатый запах я чувствую не всегда, а только тогда, когда думаю о том, что и как буду писать, или когда пишу. Вот и сейчас, в вашем доме, где, надо полагать, пахнет сосной и березой, мне кажется, будто я нахожусь в поле и рядом со мной растет полынь. Мне даже хочется спросить: Никифор Петрович, когда вы были молоды, когда только начинали свою литературную деятельность, было ли у вас ощущение какого-то запаха, как у меня? Или чего-либо подобного?
— Не было, — не задумываясь, ответил «лесничий», по-прежнему сидя с закрытыми глазами. — Ну, продолжай, продолжай. Я слушаю.
— А что еще сказать? Может, мне обратиться к врачу?
— Вот этого делать не советую, — ответил «лесничий» своим глухим голосом и посмотрел на меня. — Видишь ли, юный друг, человек не рождается писателем, он им становится — и всяк по-своему. Твои тревоги и сомнения как раз и относятся к процессу становления писателя как личности. И мне, пожившему и повидавшему, приятно сознавать, что в душе у тебя уже поселился тот бесенок, который не дает и уже никогда не даст тебе спокойно жить. И вот что парадоксально: без этого беспокойного бесенка нам, пишущим, нельзя обойтись, без него мы либо остановимся на одном месте, либо начнем задирать голову, зазнаемся и погибнем. Радуйся, Михаил, что в тебе уже живет такой бесенок, то есть живет сомнение, чувство критического отношения к себе. Это чрезвычайно важное чувство. А вот то, что ты чувствуешь запах полыни не только там, где она растет, а и там, где ее нет, — даже в городе или в лесу, — и чувствуешь этот запах, когда думаешь или говоришь о литературе, — мне думается, все это тоже от того же бесенка.
— Бесенок — образное сравнение, и оно мне понятно, — сказал я. — А как же быть с вашими советами?
— Что касается моего совета, который тебя так испугал, то тут, очевидно, я не совсем точно выразил свою мысль, — тихо говорил «лесничий», а мне хотелось, чтобы он сказал: «Что мой совет? Возьмем для наглядности, как пример, лес. Что мы в нем видим?» — Хочу пояснить: нет, я не советовал заново выдумывать ни людей, ни житейские факты, а советовал и советую домысливать, обобщать то есть уже виденное в жизни, уже осмысленное и познанное, увидеть все это своим, вторым, внутренним, что ли, зрением. Сошлюсь на известный всем нам пример. В ворота гостиницы губернского города могла въехать довольно красивая рессорная небольшая бричка, и подобного рода бричку писатель наверняка видел, и не один раз. Сомнений в этом быть не может. Но как эта бричка описана, как два русских мужика говорили о колесе этой брички, — тут уже мы видим авторскую выдумку, и какую! Залюбуешься! Мог писатель видеть, и наверняка видел, господина, который был не красавец, но не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. А вот то, что этот господин, умываясь, старательно тер мылом обе щеки, при этом поддерживая их изнутри языком, что затем он очутился во фраке брусничного цвета с искрой — заметь, не просто умывался, как написал бы всякий, а изнутри, языком, подпирал щеку, и на нем был не просто фрак, как написал бы писатель-невыдумщик, а фрак брусничного цвета, да еще и с искрой, — такое, черт возьми, мало увидеть! Все это должно пройти, если так можно сказать, через писательское сердце. А что за чудо — пейзажи у больших мастеров! Мы знаем, все люди видят и восход солнца, и туман над рекой, и блеск росы на траве, и лес в вечерних сумерках. Но не каждый грамотный человек сумеет увиденное показать другим с помощью слов, и показать по-своему, так, как это видит и чувствует только он один. Наглядный пример — вот этот: крутой восьмисаженный спуск меж замшелых, в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. Вдумайся, мой юный друг, в эти слова. Как, оказывается, просто и как осязаемо! Обрати внимание на слова: меж замшелых, в прозелени меловых глыб; перекипающее под ветром вороненой рябью, изломистая кайма нацелованной волнами гальки. Такое, брат, надобно не только увидеть, а и пережить, и к увиденному прибавить что-то свое, тобою пережитое и перечувствованное. Вот о какой выдумке я говорил в своем отзыве о повести «На просторах». Не могу понять, что же здесь могло тебя так испугать?
— Люди, люди, которых я увидел! — чистосердечно признался я. — Разве их можно выдумать? Да и нужно ли?
— Увиденные тобою люди взволновали и удивили — это же прекрасно, и тебе надобно не огорчаться, а радоваться, — все тем же тихим голосом говорил «лесничий», поглядывая на меня грустными глазами. — Без волнения и без удивления писателю жить нельзя! Но! Вот в этом «но» и вся загвоздка. Если, к примеру, опишешь свою бабушку, жизнь которой тебя и взволновала и удивила, ничего не взяв у других бабушек, чтобы взятое у других отдать твоей бабушке, то у тебя получится старушка как старушка, и только. Если опишешь чабана, который с собаками каждое воскресенье приходил к своему бронзовому бюсту, удивляя этим не только тебя, и опишешь его тоже без убавок и прибавок, то есть без выдумки, а лучше сказать — без того, что есть у других чабанов, то этот старый человек предстанет перед читателем обычным, ничем не примечательным старым человеком. То же самое может случиться и с Суходревом. Он удивил тебя тем, что был не похож на других директоров совхоза. Но чтобы ярко показать этот безусловно оригинальный характер, нужен домысел, необходима додумка, то есть надо обратиться к другим Суходревам, которых в жизни немало. Иначе получится не оригинальный характер, а одна голая схема. Выдумывая, ты обязан брать что-то нужное у других, обязан описывать не все, что видел, что тебе известно, а только самое главное, самое характерное, отделяя нужное от ненужного, отбрасывая прочь все лишнее, без чего можно обойтись.
— Но другие же пишут, ничуть не заботясь об отборе, о выдумке, о нужном и ненужном, — вставил я, не зная, что сказать. — И ничего…
— Да, пишут. — «Лесничий» открыл и сразу же закрыл утомленные глаза, долго молчал. — Да, пишут. И ничего. Недавно я прочитал объемистый, довольно пухлый роман. Написан он, в общем-то, прилично, языком чистеньким и гладеньким. Все в этом романе так, как и полагается, и никакого отбора, никакой выдумки. Начинается повествование с того, что два ответственных работника сидят в «Чайке» и едут, как говорит писатель, «в большой дом». Там они должны получить какое-то важное назначение. Какое? Читатель не знает. Едут же они «в большой дом» удивительно долго, автор описывает все подряд, что попадается ему на глаза, без всякого разбора и отбора: если встретилась улица, то подавай ее всю, от основания до исхода; если появились дома, то выстраивай их в одну шеренгу и описывай по порядку; если же «Чайка» выкатилась на бульвар с зеленым кушаком, то описаны весь этот бульвар и все растущие на нем деревья. А надо было бы сказать читателю главное: два человека подъехали к зданию, поднялись в лифте и вошли в кабинет, где их уже поджидали. И все. Автор же, до того как эти двое вошли в кабинет, исписал страниц двадцать, которые к сюжету, то есть к делу, никакого отношения не имеют. Можно возразить: так бывает в жизни — едут и по улицам, и по бульварам, едут долго. Да, верно, в жизни чего только не бывает. А нужно ли так подробно описывать, ничего не убавляя и ничего своего не прибавляя? Не нужно. Помнишь это простое и энергичное начало: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра». Все сказано. Как точно выражена мысль, ничего лишнего, и каждое слово — к делу.
Наш разговор затянулся до обеда. Пообедав, мы снова говорили о литературе и ни словом не обмолвились о лесе.
Уже в сумерках, провожая меня до калитки, Никифор Петрович протянул мне руку и сказал:
— Юный друг, а писать ты все одно будешь. От этой тревожной жизни тебе уже не уйти, как бы тебе этого ни хотелось. И ничего, что гложет сомнение, что временно утрачена вера в свои силы. Это прекрасно! Пусть болит душа, пусть беспокоят тревожные мысли, пусть мучают огорчения и пусть пока полежит на столе без дела твоя тетрадь — это тоже необходимо пережить. Когда же ты многое осмыслишь и сам, без чужой подсказки, поймешь, тебя непременно потянет к столу и к тетради. Обязательно потянет! И вот тогда принимайся за работу всерьез. Советую, как старший младшему, написать лирическую повесть, согретую твоим душевным теплом и теплом южного солнца, и назвать ее, к примеру: «Ковыль». И пусть тебя сейчас не огорчают, а радуют твои сомнения и твои горькие раздумья…
Я смотрел на него, слушал, понимая смысл его слов не столько умом, сколько сердцем. С невеселыми мыслями, еще больше взбудораженный и расстроенный, я поплелся к электричке. Встретился мне тот же еловый бор. Стволы теперь были темные, мрачные, они как бы поддерживали на себе сумеречную темноту, двигались на меня и говорили: «Ну зачем просидел там весь день? «Лесничий», мы-то его знаем, мастак на разговоры, его только послушай. Он может такое наговорить…» Не минул я и ветвистого дуба. В загустевшей темноте он показался мне еще красивее и величественнее. «Все хорошо, да вот беда, тесно мне, и как жить дальше в такой тесноте, ума не приложу», — как бы говорил он мне на прощанье. Не останавливаясь, я обогнул дуб и зашагал по чуть приметной, шелестящей листьями дорожке. Березок в их белых сорочках так и не увидел — поглотили сумерки.
Дома меня давно ждала Марта, глаза — навыкате, не смотрела, а молча спрашивала.
— Ну что ты хочешь? Съездил нормально, — ответил я на ее немой вопрос. — Видел лес, лесничего. Если бы ты знала, как Никифор Петрович похож на лесничего.
— О чем же вы говорили?
— Обо всем. А вот о лесе — ни слова.
— Что же он сказал?
— Чтобы я работал разъездным корреспондентом и побольше бы зарабатывал денег. Как-никак отец семейства. Положение обязывает.
— Не злись, Миша. Я серьезно.
— А если говорить серьезно, то к «лесничему» надо было бы не ехать.
— Почему?
— Только еще больше растревожил себя, — нехотя ответил я. — Ни к чему все это. Он уверял меня, что я все одно сяду к тетради. А я не сяду. Завтра стану разъездным собкором, и все, хватит с меня.
Марта смотрела на меня, и в ее больших, все еще что-то спрашивающих глазах показались слезы.
5
Только через месяц мы смогли прийти в загс. Взяли с собой и Ивана — дома оставить его было не с кем. Мы были уверены, что пройдет час или два — и мы вернемся уже как муж и жена. Однако этого не случилось. За покрытым кумачовой скатертью столом с цветами в двух вазах сидела молодая розовощекая женщина, и она сказала нам приятным голосом, что сперва надо подать заявление, а после этого придется подождать ровно тридцать дней.
— Так долго ждать? — невольно вырвалось у Марты.
— Неужели и тут очередь? — спросил я.
— Это, молодой человек, не очередь, это порядок, — спокойно ответила розовощекая женщина. — А порядок этот установлен для того, чтобы вы смогли еще и еще раз хорошенько и не спеша не только подумать, а и всесторонне проверить свои намерения и свои чувства. — Она поправила в вазе белую розочку и добавила: — А потом уже просим пожаловать к нам.
— Да вы взгляните на карапуза в одеяльце, это же наш сынок, а лучше сказать — наша всесторонняя проверка нашего намерения и наших чувств, — говорил я, указывая на Марту и на спавшего у нее на руках Ивана. — Ему уже три месяца. Разверните одеяло, и вы увидите, что у нас с Мартой давно все продумано и досконально проверено. О чем же еще думать и гадать тридцать дней? Что еще проверять?
— Порядок есть порядок, — заученно повторила розовощекая женщина. — И то, что у вас уже, до вступления в законный брак, родился ребенок, еще ничего не значит для записи акта гражданского состояния о браке. — Розовощекая женщина снова поправила ту же белую розочку. — Оставьте свои заявления. На столе лежат бланки-формы, вы запишите все, что нужно записать, и через месяц приходите. Лучше одни, без ребенка, и непременно со свидетелями: от жениха и от невесты. Вам все понятно?
— Еще бы, — сказал я грустно. — Вы так популярно и доходчиво разъяснили, что нам все понятно.
— Оказывается, нужны свидетели? — искренне удивилась Марта. — А мы и не знали.
— Теперь будете знать, — с улыбкой ответила женщина.
Впереди у нас было тридцать дней, времени много. И все же мы, вернувшись домой, сразу начали перебирать фамилии тех своих знакомых, кого можно было бы пригласить в свидетели. Мы решили, что Марта поговорит со своей подругой Людмилой Колечкиной, а я — со своим сослуживцем Николаем Роговым. Затем все наши мысли и разговоры были обращены к тому радостному для нас событию, что я со вчерашнего дня был зачислен на должность собкора и уже послезавтра, в пятницу, должен был лететь в Кишинев на республиканское совещание животноводов. В кармане у меня лежали командировочное удостоверение, билет на самолет, и деньги — суточные. Мне было приятно сказать Марте, что вот мы, считай, и выкарабкались из беды: часть командировочных денег я оставлю ей с Иваном.
— Марта, а когда я вернусь, то к тому времени, глядишь, подоспеет и получка, — весело добавил я.
— Миша, ничего мне не оставляй, — сказала Марта.
— Как же вы с Иваном?
— А ты как там, в командировке? Я-то дома…
— Я как-нибудь. Тебе же без денег нельзя.
— Проживу. Поеду на эти дни к матери. — Марта смотрела на меня печальными немигающими глазами, через силу, невесело улыбалась, показывая свои мелкие и острые зубы-пилочки. — Миша, поцелуй меня.
Голос у нее глухой, тихий, с оттенком скорби.
— Да ты что? Я о деньгах, а ты…
— Поцелуй, я прошу… И не так, как целовал раньше. Поцелуй меня, как жену, будто мы уже расписались.
— Пожалуйста, с превеликим удовольствием. — Я поцеловал ее мелко дрожащие губы и увидел в ее глазах слезы. — Что с тобой, Марта? Ты побледнела. И слезы…
— Мне страшно, Миша…
— Чего же ты боишься?
— Меня страшит предчувствие, — плача говорила она. — Мне кажется, я потеряю тебя.
— Ну что за глупость! И надо же такое придумать? Да выбрось все это из головы. И забудь.
— Не могу. Я загадала: если мы сегодня не распишемся, значит, не миновать беды… И мы не расписались. А ты веришь в предчувствие?
— Не верю и тебе не советую верить. — Я обнял ее, поцеловал ее мокрые губы, не зная, что ей еще сказать. — Глупость все это. Как можно верить в какое-то предчувствие?
— Нет, Миша, это не глупость. Не я чувствую беду, а сердце мое.
— Мы же не расписались сегодня только потому, что там у них свои порядки. — Я заглянул ей в лицо, она также через силу улыбнулась мне. — Подождем эти тридцать дней, больше ждали… А знаешь что? Поедем завтра к твоей мамаше? Переночуем у нее, а в четверг вернемся. Я давно не видел ни Анастасию Ильиничну, ни Верочку. Приедем и скажем твоей матери, что мы теперь муж и жена и что я прибыл к ней уже как зять. Пусть готовит угощение.
— Зачем же обманывать?.
— Это не обман. Через месяц мы распишемся. Так поедем, а? Поедем, а? Повидаемся с Верочкой, да и она пусть посмотрит на своего братца Иванушку. Ну, поедем, Марта? Зачем слезы? Я знаю, мать обрадуется…
— Слезы оттого, что обидно. Опять улетишь.
— Я же теперь разъездной, дома сидеть мне не полагается, — хотел я отшутиться. — Через неделю вернусь. Ну так что, поедем к матери?
Марта кивнула. По щекам ее катились слезы.
Ехать в деревню Быково, где жила мать Марты, было просто и удобно: от Белорусского на электричке до шестой остановки. От платформы до Быково — пешком, метров двести, не больше. Деревню было видно в окно электрички, хатенки ее мостились на взгорке, вокруг — ровное, по-осеннему неприветливое поле. Мы направились по знакомой, утрамбованной до звона дорожке, от нее во все стороны разбегались тоненькие березки-подростки. Место нам знакомое, мы с Мартой не раз проходили здесь, только теперь нас было не двое, а трое. Завернутый в одеяло и перевязанный у головы зеленым шарфиком Иван преспокойно спал у меня на руках и казался мне таким же невесомым, как и там, в аэропорту.
Марта шла впереди в коричневой, домашней вязки, шапчонке, махрок которой спадал набок и покачивался. По тому, как у нее была опущена голова и как нетвердо ступали ее ноги, обутые в порыжевшие, со стоптанными каблуками туфли, нетрудно было догадаться, что на душе у Марты было невесело. Она не оглядывалась, казалось, в эту минуту забыла и обо мне и о сыне — хотелось бы узнать, что у нее было на уме. Может, опять думала о своем предчувствии? Вспомнив ее вчерашние, как мне показалось, беспричинные слезы, ее слова «…я потеряю тебя», я почему-то подумал, что ей, наверное, уже что-то известно о Ефимии. «Меня страшит предчувствие…» Что означают эти ее слова? Не зря же они были сказаны? Но какое может быть предчувствие? Думая об этом теперь, я все больше и больше склонялся все к той же пугавшей меня мысли: Марта все знает о Ефимии. И поэтому нечего ждать, пока Марта сама скажет мне об этом, необходимо во всем признаться, повиниться перед ней, и тогда — тяжесть с души долой. Стыдно? Да, это стыд мужской, унизительный и страшный. Но что поделаешь, если надо. Только как и когда ей сказать? Надо найти подходящий момент. Наверное, лучше всего рассказать ей обо всем после возвращения из командировки. Зачем ее сейчас расстраивать? С моей стороны это было бы глупо. Вот вернусь, из Кишинева и все расскажу.
Мы подходили к деревне. Уже были видны дворы и изба моей тещи, и я подумал, что вот как раз и подоспела для меня пора изменить свою жизнь к лучшему. Я все больше и больше убеждался: жизнь моя и жизнь моей семьи должна быть спокойная, уравновешенная, такая, чтобы можно было с улыбкой ложиться спать и с той же улыбкой вставать и приниматься за дело. Мысленно я уверял себя: да, так оно и будет. Если подумать: что мне нужно? Только это. У меня есть любимая жена, через месяц она станет женой законной, на руках у меня — маленькое живое существо, мое, родное, любимое. Есть у меня работа по сердцу. Я буду иметь хороший заработок. Наконец, у нас есть жилье, правда, в одной комнате нам теперь тесновато. Зато жить мы будем хоть в тесноте, да не в обиде. А там, глядишь, заимеем и двухкомнатную квартиру. Отец вернется из Конго, попрошу помочь деньгами, вступим в жилищный кооператив. Но не это главное. Для того чтобы засыпать с улыбкой и с нею же просыпаться, мне необходимо выбросить из головы и забыть не только Ефимию, а и мои раздумья о литературе вообще. Ни то ни другое мне ни к чему. Зачем думать о Ефимии? Незачем. Нужно ли что-то сочинять? Нет, не нужно. Зачем записывать в тетрадь какие-то мысли, запоминать их, обдумывать, когда и без этого можно прожить, и неплохо. А что сказал мне Никифор Петрович? «Юный друг, а писать ты все одно будешь. От этой тревожной жизни тебе уже не уйти…» Неужели этот «лесничий» прав? А я возьму да и уйду. Но можно ли ничего не писать? Можно ли ни о чем не думать? Трудно, но, наверное, можно. Надо бросить обдумывать какие-то сюжеты, надо бросить записывать в тетрадь, и все. Бросают же курить заядлые курильщики, а пропойцы — пить водку. Нужно только захотеть и проявить твердость характера. Ведь что такое — жить радостно, счастливо? Если отвечать откровенно и по существу: вот она, моя радость и мое счастье, у меня на руках спит себе и ни о чем не думает, и еще мое счастье и моя радость идет впереди меня в коричневой шапчонке с качающимся на боку махром и с низко опущенной головой. И пусть никого не смущает то, что у этого счастья побитые, стоптанные туфельки, и ничего, что на плечах у этого счастья старое и холодное пальтишко. Все это не главное и все временное. Как только материальные дела наши поправятся, а это случится скоро и непременно, у моего счастья будут и новые туфельки, и теплое пальто с белым норковым воротником. Сейчас же для меня самое главное и самое важное — забыть Ефимию, забыть навсегда, будто ее вообще не существовало на свете, забыть мою поездку в Привольный, забыть зеленую тетрадь, забыть все, что мне не нужно, и в конце концов избавиться от запаха полыни. Думать, думать только о своей семье, о нашей уравновешенной, спокойной жизни.
Примерно так, в общих чертах, я сказал о своих житейских намерениях своей теще, и она обрадовалась. После этого мои, как мне тогда казалось, правильные мысли укрепились во мне еще больше. Улучив момент, когда Марта с Верочкой ушли к колодцу за водой, Анастасия Ильинична доверительно повела глазами и глухим, сдавленным голосом сказала:
— Мишенька, зятек ты мой милый! Все то, о чем ты поведал мне насчет устройства вашей с Мартой теперешней жизнюшки, очень дажеть разумно, очень дажеть верно и правильно. Спокойная жизня, а по-людскому, по-простому сказать — счастливая. Это же как раз и есть именно то, что
человеку требуется иметь на кажный божий день. Трудно вам будет с деньжатами? Ничего, попервах я подсоблю, чем смогу. У меня же свое хозяйство, не поскуплюсь для вас. К Новому году забью кабана, мясо, сало будет. А там, гляди, и сами встанете на ноги. — И, совсем понизив голос, она спросила: — Вы уже расписались?
— Подали заявление. Через месяц распишемся. За этим, мамаша, дело не станет.
— Да и я так считаю, — согласилась мать. — Было бы промеж вас согласие да любовь. А в этом, Миша, и есть людское счастье. Вот ты называешь меня мамашей — хорошо, молодец! Как приятно это слово отзывается у меня на сердце. Мишенька, славный ты парень, я полюбила тебя еще тогда, в первый твой приход.
Женщина она была немолодая, седая, а лицом еще моложавая и собой моторная, легко управлялась и с внучкой, и с домашним хозяйством. Раньше она держала корову, теперь козу. «Козье молоко и жирнее, и вкуснее, — говорила она. — Да и нам с Верочкой как раз хватает». Гладко причесанная, закрученная сзади в кулак коса — вся белая, а на полных щеках и возле глаз — ни морщинки. Она рано овдовела, муж, шофер Николай Анохин, попал в аварию, его чуть живого привезли в больницу, и там он умер, Марта тогда была маленькая, еще не ходила в школу. Живя одна все эти годы, Ильинична и не подумала найти человека и выйти замуж, и все из-за Марты. Когда же ее единственная отрада, дочурка Марта, окончила десять классов, а потом, в Москве, краткосрочные курсы машинисток-стенографисток, устроилась на хорошую работу и даже получила комнату, Ильинична, баба богомольная, перекрестилась на угол, где висела небольшая деревянная иконка, и сказала:
— Ну, слава те господи, не забыл и нас, сирот, милостивый.
Вскоре на ее голову свалилось новое горе — Марта родила. С зимы и до лета она не приезжала к матери, лишь писала, жаловалась в письмах, что у нее много работы, что не может вырваться даже в воскресенье. И однажды в светлую июльскую ночь вдруг заявилась, держа на руках завернутого в простынку ребенка. Мать покачнулась, хватаясь руками за косяк двери.
— Мама, не пугайтесь, а помогите мне, — сказала Марта, передавая матери ребенка. — Я из сил выбилась…
— Ой, доченька, и что же это такое? — завыла, запричитала мать.
— Это — ребенок, мама, — ответила дочь и опустилась на ступеньки крыльца. — Он голодный, плачет, а я не знаю, что с ним делать.
— Ой, святая богородица! Да что же тут знать? Сосок дай ему, сосок!
— Он не берет сосок… Молока у меня нету. Помогите, мама!
— О господи! Давай его, несчастного, мне… Может, спасу.
Так нежданная внучка попала к бабушке. Утром Ильинична поднялась совсем седая, с опухшими, ничего не видящими глазами. Внучку назвали Верой, и ее спасло от смерти коровье молоко и поистине материнская забота бабушки. Тогда у Ильиничны была еще своя корова — как она пригодилась! Молоко всегда на столе. Девочку кормили из рожка, и молодая, в одну ночь побелевшая бабушка, уже успокоившись, частенько говорила Верочке: «Ах ты моя искусница» вместо «искусственница». Корову Ильинична продала, когда Верочке исполнилось два года, и купила козу. По двору и по огороду все так же гуляли куры, в сажке похрюкивал кабан, тот, которого готовили к Новому году, в клетках резвились кролики. В погребке хранились и свое варенье, и свое соленье, так что многое из того, что имела старательная, трудолюбивая Ильинична, перепадало и нам: как поедет Марта к матери, так обязательно привезет то яичек десятка два, то курочку или кролика, готовых, освежеванных — Ильинична умела исполнять эту неженскую работу. Варенье на нашем столе — от Ильиничны, соленые огурчики, моченая капуста — от нее же. Когда в эту избу, имеющую две комнаты с подслеповатыми оконцами, я вошел впервые, Марта сказала матери, что я — ее знакомый, и ничего больше. Ильинична заполыхала щеками, недоверчиво покосилась на меня, потом посмотрела строго, настороженно, словно бы желая заглянуть в мою душу и там увидеть что-то для себя важное, необычное. Сейчас она уже забыла, как тогда встретила меня, а возможно, и помнила, да делала вид, что забыла.
— Чего это ты, парень, прильнул не к девке, а к бабе, у каковой дитё имеется? — при нашем знакомстве, в первый приезд, спросила она в присутствии Марты. — Может, с бабой проводить времечко сподручнее? Вольготнее? Не так ли?
— Нет, мамаша, не так, — сказал я.
— Какая я тебе мамаша? Ты лучше скажи при ней, при Марте, чего прильнул не к девке, а к бабе?
— Ну что ты, мама! — крикнула Марта, густо покраснев. — Что за глупые вопросы?
— Может, для тебя мой вопрос и глупый, а для меня самый умный.
— Могу ответить, — смело сказал я, видя злые глаза хозяйки дома. — Нравится мне ваша дочь, вот и весь мой ответ.
— А ее дочка? — спросила мать. — Тоже, скажешь, нравится? Али как?
— Прелестная девочка, — сказал я.
— Тебе что, парень, в Москве девушек мало?
— Там их, верно, много, а лучше Марты нету.
— Ох, смотри, парень, не сотвори дурную шутку, не бери грех на душу, — Ильинична все так же строго смотрела на меня. — Один такой влюбчивый уже приласкался к ней. А что-вышло?
— Да перестань, мама! — сказала Марта. — Зачем завела этот разговор? Или хочешь, чтобы мы ушли?!
— Не тревожьтесь, Анастасия Ильинична, ничего плохого у нас не будет, — уверял я.
— Ну, дай-то бог.
Сегодня же Ильинична была совсем другая, неузнаваемая. На щеках — девичий румянец, в глазах — молодой блеск и слезой тронутая радость. Да и как же ей не радоваться? Ведь не ждала нас, а мы — тут как тут, заявились. Сам внук Иван впервые пожаловал к бабушке в гости. Сдержанно смеясь, Ильинична с радостью взяла у Марты Ивана, распеленала его на своих пуховиках и, глядя на меня и на Марту счастливыми глазами, спросила:
— Ну что, Мишенька? Как тебе пригляделся сынок?
— Отличный парнище! — ответил я. — Как раз то, что надо.
— Выходит, моя Марточка пребольшая мастерица рожать славных детишек. — Ильинична увидела стоявшую у порога Верочку, у той было жалкое, испуганное лицо. — Веруня, подойди-ка сюда, не бойся. Погляди, какой у тебя славный братик. Ишь как грозится кулачками, по всему видать, вырастет парнем-забнякой. И уже ротик кривит, усмехается, наверное, будет насмешником.
— Мамаша, вы хотели сказать, что Иван, когда вырастет, будет юмористом или сатириком? — спросил я.
— Скажу одним словом: молодец! — ответила мать. — И мне радостно, что внучок у меня такой здоровячок и такой весельчак.
К Ивану робко приблизилась Верочка, несмело потрогала пальцем его поднятую ножку, потупила глаза и спросила:
— Живой?
— Живой, живой, Верочка, — сказала бабушка. — Каким же ему быть?
— Мама Натуся, а откуда он взялся?
— Ну как же — откуда? — весело отвечала бабушка. — Оттуда, с неба. Большая и умная птица принесла.
— А подержать его можно? — тихонько спросила Верочка. — Хоть чуточку.
— Нельзя, уронишь, — строго сказала Марта. — Верочка, ты же еще маленькая. Силенки-то у тебя мало.
— И чего там нельзя? — заступилась бабушка, завертывая Ивана в пеленку. — Можно, можно. Вот он теперь какой складненький, как куколка. Ну, Веруся, держи братика, да покрепче. А подрастешь, нянькой ему станешь.
Верочка зверенком покосилась на мать и, улыбаясь, худыми, цепкими ручонками взяла живую куколку, прижала ее к себе, задыхаясь от счастья. Немного подержала, отдала бабушке и спросила:
— А папка у него есть? Или папки у него нету?
Мы переглянулись. Не издали такого вопроса и молчали, потому что не знали, как же ответить. Тогда я посадил Верочку на свои колени, как уже однажды сажал, поцеловал ее пылавшие щеки и сказал:
— Есть у Ванюшки папка.
— А где же он?
— Я его папка. И Ванюшин папа, и твой.
— Ой, папочка! Ой, родненький! — завопила Верочка, оплетая мою шею тоненькими ручками и прижимаясь ко мне. — Я так и знала, что ты — мой папка. А где же ты так долго был?
— Да вот… все ездил. Ванюшку-сорванца разыскивал, — ответил я подчеркнуто серьезно. — Птица унесла его в лес. Так я поехал и отыскал Ванюшку.
— А ты умеешь искать, да? Умеешь?
— Так мы же вдвоем с мамой искали. Вдвоем легче.
Этот мой нарочито деловой, нарочито серьезный разговор с Верочкой развеселил и Марту, и Ильиничну, и в избе стало как-то светлее, по-семейному уютно, тепло. Верочка поверила мне и успокоилась. Теперь она нисколько не сомневалась, что тот, похожий на живую куклу, ребенок, которого она держала на руках, является ее младшим братом, и поэтому не отходила от Ивана, который уже успел уснуть на бабушкиных пуховиках. Она стояла возле него и смотрела, смотрела на сонное личико со смешно оттопыренной верхней губой, и глазенки ее блестели. Ильинична, все еще радуясь приходу гостей, собралась топить плиту и готовить обед. Нужны были дрова, и я, уже на правах зятя, взял в сенцах топор и через двор отправился в дровяной сарай, чтобы наколоть сухих березовых чурок. Следом пришла Ильинична в короткой теплой поддевочке из темного бархата, в шерстяной косынке.
— Мишенька, а я подумала: может, и не следовало бы тебе так обнадеживать девчушку? — спросила она, поправляя косынку. — Растревожил ты Верочку.
По ее серьезному лицу я понял: она заглянула ко мне только для того, чтобы поговорить о Верочке и о моем отношении к девочке.
— Это почему же, по-вашему, не следовало говорить с Верочкой?
— Да ить видал, как она, бедняжка, вся затрепетала, как тулилась к тебе, все одно как к родному.
— Так это же и хорошо! — сказал я. — Я и есть ее родной отец.
— Малая, что она смыслит. Ей скажи ласковое слово, она и поверит. А подрастет, узнает правду. Что тогда?
— Ничего она не узнает. — Я с маху расколол толстый чурбак, — Да и зачем ей узнавать? Я удочерю ее, дайте только срок, и будет она — Вера Михайловна Чазова.
— А на мое суждение, это с твоей стороны, конешно, благородно, но только пусть бы Веруся жила у меня. И она ко мне привыкла, и мне без нее будет невмоготу. — Ильинична взяла меня за руку, как бы желая сказать, чтобы я перестал колоть дрова. — Уж ты, Мишенька, не Верочке, а моей Марточке отдай всю свою жалость. Марта такая в жизни несчастная, прямо беда! То батько ее погиб, рано осиротела, а то над девичеством ее надругался какой-то мерзавец. Натерпелась она горюшка. По натуре она в меня — доверчивая, сердечная, да к тому же еще и влюбчивая. Такую только и подавай мужикам. Да ежели, не дай те бог, и ты еще ее обманешь, то этого она не перенесет. Она же дышит тобой, Мишенька…
— Мамаша, я вам уже сказал. — Я размахнулся топором и легко, со звоном, расколол сосновый кругляк. — За нас с Мартой не тревожьтесь.
— Мать без тревоги не может жить, — сказала Ильинична и задумалась. — Оно нынче как у молодых бывает? Чуть что — сбежались, ноченьки две-три поспали вместе и, глядишь, разбежались. А из всего этого на свет божий появляется дитё.
— У нас с Мартой так не будет.
— Дай-то вам бог счастья.
— Мы решили жить по-людски, как полагается, — заговорил я, отложив топор. — Правда, первые шаги всегда трудные. А тут еще я по своей дурости свернул с дороги, бросил все готовое и умчался искать чего-то. И ничего не нашел, вернулся. Теперь с этим все покончено. Есть у меня семья, Марта, дочурка Верочка, сынишка Ваня. Чего еще нужно? А Верочка, когда станет Чазовой, может, ежели сама пожелает, проживать у своей бабушки. Да и внук Иван, когда подрастет, тоже еще изрядно вам надоест.
— Ой, что ты, Миша! Я всегда буду рада оставить у себя Ванюшку. Ну, спасибо, порадовал. Отлегло от сердца.
И она ушла, на ходу поправляя косынку.
Я наколол дров и сел передохнуть. Ну вот, Михаил Чазов, и начала, наконец-то, сбываться твоя мечта. Вокруг тебя все довольны, у самого на душе настоящий праздник, живи и радуйся.
Я принес в избу охапку дров, и мне было как-то в новизну сознавать, что именно здесь, в гостях у тещи, когда мы все были вместе, я почувствовал себя совсем другим человеком, совсем не похожим на того Михаила Чазова, каким я еще недавно был в Привольном. Во мне росло, укоренялось и ветвилось что-то такое новое, важное, нужное для меня и для других, чего у меня раньше не было. Еще более приятно было сознавать, что и Марта, и Ильинична, и Верочка, и, наверное, еще ничего не смыслящий Иван понимали меня и разделяли мои добрые намерения.
Ощущение этой внутренней новизны не пропало во мне и на другой день, когда мы уже под вечер вернулись домой с Иваном и с набитой продуктами сумкой — хлопоты и старания Ильиничны. И Марта стала теперь не такая, какой она была прежде. Ночью прижималась ко мне своим молодым, упругим телом совсем не так, как вчера или позавчера, и я чувствовал всю ее, как самого себя. Со вчерашнего дня — и это меня больше всего поразило — возле меня не стало запаха полыни, исчез, пропал, как отрубило. Вчера, уходя от тещи, я спросил:
— Мамаша, у вас тут растет полынь?
— А где она не растет? Всюду растет. Травы нету, а полынь растет.
«Ну, все, ну, конец», — думал я, лежа на кровати. А Марта шептала над моим ухом что-то нескладное, неразборчивое сквозь тихий смех — боялась разбудить Ивана, и я уловил и понял только то, что теперь и она одобряет мой разговор с Верочкой.
— Пусть, пусть у нее будет отец, — шептала она, щекоча губами мое ухо. — И знаешь, Миша, она поверила. А как прилипла к тебе? Умница!
Утром я поспешил на аэродром. Наскоро выпил чаю и сказал Марте, чтобы не провожала и не встречала — из-за Ивана.
— Главное лицо — Иван, а не я. Поняла? Береги его.
— И ты лицо главное, — возразила Марта. — Мы поедем с Ваней, проводим тебя…
— Оставайся, я и сам.
В дорогу я взял пузатый портфель, бока которого изрядно поистерлись еще в те времена, когда я таскал его с книгами в университет, положил в него электробритву, мыло, зубную щетку. Марта сунула платочки, носки, свежую рубашку.
— Миша, а зеленую тетрадь не взял? — с улыбкой спросила она.
— Не надо, обойдусь! — умышленно весело ответил я. — Да ей и места нету в портфеле.
— Возьми, — просила Марта. — Как же без тетради? Придется что-то записать.
— У меня есть блокнот.
Я незаметно положил на стол, под блюдце, три десятирублевки, взял портфель и быстро ушел, довольный тем, что зеленая ненавистная мне тетрадь на этот раз осталась дома.
6
Было бы совсем превосходно, если бы все мои тревоги заключались только в том, осталась зеленая тетрадь дома или летела со мной. А то ведь тетрадь оставить дома можно, а мысли-то не оставишь ни на столе, ни в ящике стола, они всегда с тобой. Поэтому, когда самолет взлетел и, набирая высоту, начал сверлить клочковатые облака, похожие на мокрую вату, я уже думал о Ефимии и был уверен, что лечу не в Кишинев, а в Ставрополь, и эта странная уверенность не покидала меня всю дорогу. Мокрая вата давно ушла вниз, белела там бесформенными глыбами, а я смотрел на нее и думал: какие же, оказывается, умные ребята — летчики! Как это они догадались изменить маршрут? И мысленно я уже находился в Привольном. В оконце било удивительно яркое солнце, совсем не такое, какое оно видится нам с земли, и я ждал, что пройдет часа полтора, подсушенная жаркими лучами вата, так плотно сбившаяся внизу, разорвется, сквозь ее клочья я увижу знакомую мне ставропольскую равнину, а потом услышу голос бортпроводницы: «Граждане пассажиры! Просьба пристегнуть ремни, наш самолет подлетает к Ставрополю!»
Прижимаясь лбом к холодному стеклу иллюминатора, чувствую мелкую дрожь, идущую от моторов по всему самолету, и смотрю, смотрю на освещенную солнцем вату. Она, как на беду, не разрывается, земли не видно, бортпроводница молчит, а я, все еще не переставил корить, что лечу не в Кишинев, а в Ставрополь, уже мысленно то еду на попутном грузовике по нескончаемо длинной дороге, мимо хуторов и сел, мимо овечьих комплексов с белыми шиферными крышами, то в тумане вижу знакомое очертание Привольного, островерхие пирамидальные тополя вдоль дворов, то открываю плачущую дверь и вхожу в землянку моей бабуси. И в ушах моих слышится голос:
— Ой, Мишуха! Ой, внучок! Як же ты долго не приезжал. Я все ждала тебя, ждала, выглядывала на дорогу.
— А Ефимия? Она тоже ждала?
— Яка цэ Ефимия?
— Та девушка, помните, что у вас квартировала? Ну, Ефимия!
— Ах, цэ та, стригальщица.
— Вот-вот, она.
— Нема ее. Игдеся сгинула. Як ты покинул меня, так тем часом и она сгинула.
— Куда же она уехала?
— Хто ее знает.
— Неужели ничего не сказала?
— Сгинула, и все тут.
Потом всплыла, как в тумане, другая картина, и была она чуточку повеселее. Та же землянка, те же плачущие двери, и когда они открылись, то я увидел не бабусю, а Ефимию. На ее висках — те же ячменные завиточки, та же ее задумчивая улыбка. Так же ласково и просто, как это она умела делать, обняла меня и сказала:
— Ну вот и вернулся. Вышло в точности так, как я и говорила.
— А что ты говорила?
— Неужели забыл? Плохая у тебя память.
— Честное слово, не помню.
— И тебе говорила, и сама много думала, и все о том же: вернешься ты, и ты вернулся. Ну, заходи. Я так рада, Миша! И как же хорошо, что ты вернулся.
Еще увидел картину, теперь уже совсем радостную. Будто бы мы с Ефимией одни в степи. Вокруг — простор и простор и ни живой души. Перед нами возвышается курган — величавый степной страж, весь укрыт высокой цветущей полынью, как дымом. Мы взялись за руки и побежали, путаясь ногами в полыни, на вершину кургана. Уселись на макушке, полынь укрыла нас, курилась, поднимаемая ветерком, сизая пыльца, и, что меня поразило, я не ощущал никакого запаха.
— Вот это чудо! Ефимия, что же это со мной творится?
— А что? Ты о чем?
— Полынь в цвету, а я не чувствую ее запаха. Что же это приключилось со мной?
— Пахнет-то как! На всю степь! Да ты что, шутишь?
— Нисколько.
— Значит, плохи твои дела, Миша, очень плохи. Тогда зачем же ты вернулся?
— К тебе.
— Незачем было приезжать, если уже не чувствуешь, как пахнет полынь, да еще и в пору ее цветения. Оставался бы там, в Москве.
Какие невероятные картины и какие странные мысли. Желая ни о чем не думать и ничего не видеть, я стал внимательно рассматривать лица пассажиров. Вторым от меня, с краю, сидел немолодой мужчина; похожий на цыгана. Он спал, откинув назад большую голову и показывая из расстегнутого воротника цветной рубашки толстую, покрытую шерстью шею с крупным кадыком. Он так оброс черной, поклеванной сединами растительностью, что копна слегка вьющихся волос на голове сливалась с шерстью на шее и с бородой, начисто упрятав уши. Вместо уха выглядывала темноватая, толстая, как сосок, мочка, на ее кончике с застаревшей, с твердыми рубцами дырочки свисала серьга, крупная, очевидно из чеканного серебра. Рассматривая это удивившее меня украшение в ухе мужчины, мне захотелось узнать, есть ли такая же серьга во втором ухе, видеть которое я не мог. Пришлось подняться, будто по делу, пройти по самолету и снова вернуться: в таких же черных волосяных зарослях я не увидел ни уха, ни серьги. Снова уселся на свое место. Цыган все так же спал, посапывая, и теперь я увидел, что волосы у него росли и на переносице, сливаясь с бровями, и на груди — рубашка была расстегнута, и в ноздрях. И вот тут я невольно вспомнил оставленную на столе тетрадь и пожалел об этом. Надо было бы записать, чтобы не забыть: эти черные, вьющиеся, крапленные сединой волосы, эту мочку уха, похожую на сосок, эту давно зарубцевавшуюся дырочку и в ней увесистую, из чеканного серебра, серьгу.
Моей соседкой слева была круглолицая молодуха, одетая в легкое, мышиного цвета, пальтишко, повязанная красной косынкой. Она была удивительно похожа на ту проворную, старательную в работе доярку, какую чаще всего можно встретить на Ставрополье, в каком-нибудь захолустном хуторке, где стоит затерянная в степи молочнотоварная ферма. Как у всех круглолицых женщин, нос у моей соседки был несколько вздернутым, и на его кончике почему-то ютилась светлая, как слезинка, капелька. Доярка из ставропольского хутора прижимала к носу платочек, шмыгала и так, не двигаясь, сидела с закрытыми глазами. Когда же она отнимала платочек от носа, капелька, величиной со слезинку, опять появлялась на прежнем месте. Доярка снова, не открывая глаза, прижимала к носу платочек. В это время я хорошо мог видеть ее руку. И точно, это была рука доярки с утолщенными в суставах пальцами, натруженная многолетним доением коров. Иногда этими утолщенными в суставах пальцами она вытирала слезы в уголках глаз. И я снова подумал: если эта доярка из ставропольского хутора, то чего же ради ей лететь в Кишинев, а самолет, как я и был уверен, держал курс на Ставрополь.
Силой удерживая себя, чтобы мысленно опять не умчаться в Привольный, я начал придумывать биографии своим случайным спутникам. Сперва обратился к мужчине с серьгой. Он все так же спал, запрокинув кудлатую голову. Я внимательно всматривался в его курчавую, типично цыганского покроя, бороду, в серебряную, выглядывавшую из волос серьгу. Ему было за пятьдесят. Он, безусловно, цыган, но из тех, кто давно ведет оседлый образ жизни: это было видно и по его городскому костюму, и по новым, с короткими голенищами, сапожкам. Если же судить по рукам, имевшим затвердевшие темные мозоли на ладонях и застаревшие ожоги на пальцах, то он, надо полагать, работал кузнецом в совхозе или в колхозе, а возможно, и на заводе. Дома у него жена и шестеро детей. Почему шестеро, а не семеро? Я еще не знал, не успел придумать. Старший сын, Андрон, такой же, как и отец, плечистый здоровяк, жил отдельно от родителей, имел двоих детей — сына и дочку, так что внук и внучка частенько навещали дедушку и бабушку. И хотя внучата были смуглые, волосы имели смолистые, курчавые, а ничего такого, чисто цыганского, что отличало бы их от других ребятишек, у них не было. Они даже не знали ни одного цыганского слова, и это огорчало бабушку и дедушку. Андрон работал с отцом в одной кузне, но уже не носил ни бороды, ни усов, ни серьги в ухе, и когда уходил в гости или на какое-то собрание, то надевал шляпу, белую рубашку с галстуком. Младший сын, Игнат, находился в армии, писал родителям, что стал шофером, получил водительские права, и когда вернется, то будет работать таксистом. Была у отца и любимая дочь Зарема. Да, да, непременно Зарема! Настоящая цыганка, будто только что из табора, мастерица лихих плясок, умела петь и играть на гитаре. Вот ее-то, свою любимицу, так похожую на мать, когда та была еще девушкой, он и отвез в Москву и определил там в студию театра «Ромэн». Довольный тем, что Зарема будет артисткой, он со спокойной душой возвращался домой, где его ждала жена и младшие дети — мальчик и две девочки, совсем еще малолетние цыганята. То, что он носил типично цыганскую бороду, перстень на мизинце, кудлатую шевелюру, а в ухе — круглую серебряную серьгу, лишь говорило о том, что он все еще никак не мог расстаться с тем, к чему привык в таборе и что для него было родным и близким.
От цыгана мои размышления перешли к доярке из степного ставропольского хутора, и тут придумать чужую жизнь оказалось намного труднее. Прежде всего хотелось установить: отчего эта женщина такая грустная? Может, больная? И почему на кончике ее вздернутого носа появлялась эта светлая капелька? И это ее шмыгание, старательно заглушенное платочком. Как ни пытался я решить для себя, кто же она, откуда и куда едет, ничего правдоподобного придумать не мог. Возникали разные варианты. Когда она открывала глаза, излучавшие мучительную тоску, я охотно склонялся к тому, что эта круглолицая доярка недавно пережила какое-то страшное горе. Какое же? Может быть, она, оставив в деревне или на хуторе мужа с малыми детишками, ездила на похороны матери и теперь, убитая горем, да вдобавок еще и простуженная, больная, спешила домой, где ее заждался муж, который без привычки никак не мог управиться с малышами? Затем я уверял себя: эту круглолицую женщину, наверное, бросил муж, бросил не одну, а с гремя — мал мала меньше — детьми, уехал от нее, и она, отчаявшись, решилась полететь к нему в надежде вернуть беглеца не столько для себя, сколько для осиротевших детей, и вот возвращалась ни с чем.
Мне так хотелось придумать чужую, неведомую мне жизнь, а на уме у меня была моя тетрадь. Я видел ее, зеленую, сиротливо лежавшую на столе, и ругал себя за то, что оставил дома. Хорошо бы сейчас записать в нее все то, что я думал о цыгане и о доярке из степного ставропольского хутора. И тут же сам себе возражал: зачем записывать? Все одно не пригодится, не понадобится. Да и то, что я придумал, не похоже на правду. И вдруг слышу приятный голос: «Граждане пассажиры! Просьба пристегнуть ремни! Наш лайнер приближается к столице Молдавской Советской Социалистической Республики — городу Кишиневу!» Так вот оно что! Прилетели все ж таки не в Ставрополь, а в Кишинев. Доярка открыла глаза, тоскливые, горестные, с засохшими слезами в уголках, посмотрела на меня с укоризной, как бы говоря: эх, парень, не годишься ты в фантазеры, никакая я не доярка, никаких ставропольских хуторов не знаю. В это время проснулся цыган. Нехотя, с трудом открыл блестевшие белыми белками глаза, крутнул кудлатой головой, потянулся, как бы желая стряхнуть с себя дремоту, погладил бороду, отстегнул ремень и, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Превосходно соснул! У меня же вечером работа.
— Какая? — невольно вырвалось у меня.
— Даем концерт в местной филармонии, — ответил цыган, снова потягиваясь и шумно зевая. — Прошу, приходите. Мои коллеги улетели вчера, а меня задержало непредвиденное обстоятельство. Они успели отдохнуть, а я вот в дороге хорошо поспал.
Вот тебе и кузнец, вот тебе и шестеро детей и красавица дочка Зарема. И тут же, выйдя из самолета, я узнал, что круглолицая молодка в косынке и с печальными глазами — не доярка, мать свою она не хоронила, муж от нее не уходил. Ее встречали женщины с цветами, гурьбой обнимали ее, и я, проходя мимо, слышал:
— Маруся! Милая! Ну как погостила?
— Очень хорошо.
— Как тебя встречали ивановские ткачихи?
— Как сестру родную… Вот только беда — простудилась. У них же там уже холодно, не то что у нас.
— Поедем домой, мы тебя быстро вылечим.
— Срочно надо вызвать врача.
Я ехал в Кишинев на автобусе, смотрел на незнакомые мне поля, покрытые зеленой травой-отавой, на голые сады и думал: как же, оказывается, трудно не то что наверняка, а хотя бы приблизительно придумать жизнь незнакомого тебе человека. Вот я еще раз убедился наглядно в несправедливости совета Никифора Петровича: нет, жизнь нельзя выдумать, ее надо знать, и знать в самых мельчайших подробностях, что называется, самому пощупать ее руками. А возможно, Никифор Петрович и прав, только я выдумщик никудышный. Так что хорошо, что я все же не взял с собой зеленую тетрадь.
7
Но не надо было мне оставлять дома зеленую тетрадь. Я пожалел об этом на второй же день, потому что моя недельная поездка в Молдавию была исключительно удачной. Небольшой блокнот давно был использован, а увиденное и услышанное хотелось записать как можно больше. Особенно тетрадь пригодилась бы мне во время поездки по кооперированным районам, когда я знакомился с жизнью тех хозяйств, которые давно объединили свои машины, технику и уже накапливали те первые крупицы опыта, которые, если так можно сказать, утверждали силу и преимущество межколхозной кооперации. К своему удивлению, у молдаван мне пришлось увидеть не только то, что у ставропольцев лишь зарождалось, но и то, чего у моих земляков вообще еще не было, и тут мои мысли сами по себе отошли от Привольного куда-то в сторону. Мое воображение словно бы полонили и эти новые для меня места, и эти незнакомые мне села, совсем не похожие на ставропольские, и новые люди, чем-то похожие на ставропольцев и чем-то совсем не похожие. Все это для меня было так интересно, что помимо переданного по телефону обычного отчета о республиканском совещании животноводов я по своей инициативе написал очерк «Будущее — в настоящем» — о молдаванах и о первых ростках межколхозных объединений. Последнюю страницу дописывал уже в самолете, так что на обратном пути у меня не было времени ни любоваться спрессованными внизу, похожими на вату тучами, ни придумывать неведомую мне жизнь моих соседей по креслу, ни вспоминать о Привольном.
Очерк «Будущее — в настоящем» взял Павел Петрович и, внимательно глядя на первую страницу, сказал:
— Ну, ну, посмотрим, посмотрим, что ты привез. Название определенно нравится. «Будущее — в настоящем» — это оригинально. А каково содержание?
Он читал долго, не спеша и только в одном месте сделал карандашом пометку. Прочитав и держа листы в руках, он вышел из-за стола и стал ходить по ковровой дорожке к дверям и обратно, пальцем поглаживая свой совершенно белый висок и о чем-то думая. Я же смотрел на него и ждал, что он скажет.
— По очерку вижу, что молдаване тебя очаровали. Как, а? Очаровали?
Я не знал, что ответить, и сказал:
— Да, люди там прекрасные… Но, как вы говорите, очаровали, — это слишком…
— Не криви душой, Михаил! Если бы не очаровали, то так взволнованно не написал бы. Как, а? Не написал бы? Помню, ты о своих ставропольцах так не писал.
— Старался, — ответил я, понурив голову. — Дописывал уже в самолете. Там есть такой висячий столик для обеда. Писать на нем можно.
— Я так понимаю: увидел места и получше хутора Привольного? Как, а? Увидел?
— Не то чтобы эти места были лучшие, — ответил я, — а вот какая-то новизна бросается в глаза и радует. Это точно.
— А полынью там пахнет, а? — Тут Павел Петрович остановился и посмотрел на меня с теплой отцовской улыбкой. — Или пахнет виноградом? Как, а?
— Запаха полыни, верно, там не было, — ответил я. — Пахло яблоками, виноградом. У них много садов, виноградников. И села очень красивые.
— Ну вот что скажу об очерке: молодец, Чазов! Первый блин получился у тебя не комом — написал как раз то, что нужно. И название нашел подходящее. Именно будущая жизнь уже видится в жизни настоящей. — Он подошел к столу, положил очерк. — Маленький совет. В том месте, где описываешь девушку из садоводческой бригады… как ее?
— Мариэтта.
— Да, да, Мариэтта. Мой совет: поубавь там красок, восторженных слов и эпитетов. Иван Ефимович этого не любит. Ты же расписал эту Мариэтту так, что читатели, чего доброго, подумают, будто автор влюбился в эту красавицу.
— Павел Петрович, а она и есть красавица.
— Охотно верю, и я тебя понимаю, а Иван Ефимович не поймет… Сделай так, как я прошу. В остальном же — все хорошо. И проблема поставлена важная, и люди показаны зримо. Я сегодня же попрошу Ивана Ефимовича прочитать очерк. Так что поторопись с поправкой.
Совет Павла Петровича пришлось принять. Страницу о девушке из садоводческой бригады я переписал заново, убрал эпитеты. Через несколько дней очерк «Будущее — в настоящем» появился в газете, заняв почти всю четвертую полосу. Уже поздно ночью, забежав в типографию, я взял, прямо с машины, свежий, еще пахнущий краской оттиск газеты и, счастливый, сияющий, не пошел, а побежал домой. Запыхавшись, обнял Марту, показывая ей страницу. Пока она читала, я улучил минуту, подошел к столу и незаметно спрятал зеленую тетрадь в самый нижний ящик, чтобы не маячила перед глазами.
«Ну вот и все, — думал я, — не было у меня ни зеленой тетради, ни моей ненужной поездки в Привольный, ни встречи с Ефимией. А есть «Будущее — в настоящем». Это название подходит и к нашей с Мартой жизни. И у нас будущее видится в настоящем. А свое будущее я вижу в Марте — вот она, читает мой очерк и радуется, вижу в сыне Иване, который давно спит и ничего не знает о душевном состоянии своего родителя. Но я понимал: чтобы на сердце прочно и навсегда улеглось спокойствие, мало напечатать очерк о межколхозной кооперации и спрятать в ящик стола тетрадь. Для этого необходимо — и чем скорее, тем лучше — рассказать Марте о том, что у меня было с Ефимией, рассказать потому, что нельзя жить с любимой женщиной, храня от нее какие-то свои интимные тайны. Лучше всего это сделать именно сегодня, сейчас, сию минуту, ибо момент был как раз самый подходящий…
В ту минуту, когда я уже собрался с духом и хотел было начать свое покаяние, даже придумал начальные слова: «Марта, после того как ты прочитала мой очерк, послушай меня внимательно и спокойно. Я давно собирался склонить перед тобой свою повинную голову и вот, наконец, собрался», вдруг прозвучал ее радостный голос:
— Миша! Это же прекрасный очерк! Поздравляю! — Она обняла меня и поцеловала. — А сколько тебе заплатят?
Я никак не ждал такого вопроса и поэтому некоторое время молчал.
— Ты о чем?
— Ну как же! Ведь такой большой материал ты еще никогда не печатал. Я думаю, могут заплатить столько, что хватит на твое зимнее пальто. Скоро наступят холода, а у тебя осенняя куртка. Да и вообще, деньги сейчас нам очень нужны.
— Наверное, получу гонорар обычный. Его, надо полагать, не хватит и на воротник для зимнего пальто, — тихим и грустным голосом ответил я. — Похожу и в куртке. Холодов я не боюсь. А в самые трескучие морозы можно поддевать шерстяной свитер, тот, что ты связала. Он теплый… Так что, Марта, главное в данном случае — не деньги.
— Что ты говоришь, Миша? Ты же знаешь, как нам нужны деньги. — Марта каким-то своим, материнским чутьем услышала, что Иван проснулся, и подошла к кроватке. — Вот и этому карапузу нужны деньги. Как, Ванюша, нужны тебе денежки? Нужны. Миша, да ты погляди, как он улыбается, будто что-то и смыслит.
«А сколько тебе заплатят?.. деньги нам сейчас очень нужны… вот и этому карапузу нужны деньги…» — все еще слышался мне голос Марты, и у меня сразу же пропал всякий интерес к тому, о чем я собирался с ней говорить. А она со знанием завзятой хозяйки начала перечислять, загибая пальцы, на что именно нам нужны деньги и что нам необходимо купить в первую очередь, а что во вторую. У нее не хватило пальцев на обеих руках. Зимнее пальто для меня значилось первым. Наши хозяйские заботы заслонили собой все, пахнущая краской газета с крупным заголовком «Будущее — в настоящем» лежала на столе, как раз на том месте, где недавно находилась моя зеленая тетрадь. Мы стали говорить о том, как начнем экономить на всем и постепенно купим все, что нам необходимо. Я уже не возражал Марте, и мне казалось, что это и есть та жизнь, которая нам нужна.
Желая меня обрадовать, Марта взяла с кроватки заметно подросшего Ивана и вместе с пеленками положила мне на колени. Я видел, как мальчуган уставился большими, как у Марты, глазенками в потолок и ручонкой что-то ловил перед носом, и мне подумалось, что оно, мое счастье, на моих коленях, а я, дурак, хотел было склонить перед Мартой свою повинную голову: и начать этот неприятный, мучительный для меня разговор. Может, это и лучше, что я не открыл Марте свою душу? Зачем нарушать мир и покой нашей жизни? То, о чем я знаю, Марта не знает и знать не должна, а о том, что тревожит мою совесть, Марте неведомо, и пусть все так и останется. К тому же Ефимия не подавала о себе никаких вестей. Почему? Я мог только догадываться. Может быть, потому, что не знала моего домашнего адреса, или, возможно, потому, что жалела меня и не хотела причинять мне неприятность. Но она знала, в какой газете я работаю, могла бы написать туда. Не написала… Наклонившись над Иваном, я подумал: может быть, свои письма Ефимия адресовала до востребования и направляла на Главпочтамт?
На другой же день я побывал в большом, людном зале Главпочтамта. Подал в окошко паспорт, и девушка с черной, ровно подрезанной челкой вернула его вместе с письмом и на меня даже не взглянула.
Как это пришло мне в голову подумать о почтамте? Я смотрел на конверт, а от него — надо же такое! — пахло полынью. Я увидел степное раздолье и, читая обратный адрес — «хутор Привольный, Е. Акимцева», — все еще никак не мог поверить, что письмо было от Ефимии. Мне было и приятно и как-то тревожно. Конверт раскрыл не спеша, чувствуя, как щеки мои полыхают жаром и лоб покрывается холодной испариной. Что это? Радость или стыд? Я вынул письмо. «Значит, не забыла», — подумал я, и в груди у меня екнуло. Нарочно, чтобы никому не мешать, отошел в сторонку и стал читать. Письмо было длинное, написано широкими, криво ложившимися строчками, с недописанными словами, и я, пробегая глазами по страницам, что-то понимал и на чем-то останавливался, а что-то не понимал и оставлял, чтобы после перечитать заново, не спеша и потом уже вникнуть в смысл написанного.
ПИСЬМО ЕФИМИИ
Милый, хороший Миша! Это слова мои, и сказаны они не голосом, а сердцем. Славный мой Мишуха! Это слова твоей бабуси, и сказаны они были вслух, когда я стала писать тебе. В глазах у нее были крупные блестевшие капли, она не вытирала их и еще сказала: щось мой любимый внучок молчит, не пишет, весточки не подает. Улетел и позабыл про бабусю, видно, ближе своя семья, свои заботы, а через то и письмо не прислал. Не пиши и ты ему, не беспокой, да и не принижай себя, не надо. «Не пиши ему? — подумала я. — Не беспокой? Не принижай себя?» А почему? Может быть, как раз сейчас и время написать тебе? Время побеспокоить тебя? И время мне унизиться? И ничего, что я пишу первая, меня это не пугает.
Я мучительно думала над всякими вопросами и не находила на них ответов и по этой причине много дней никак не могла решиться взяться за письмо. И вот все же решилась. Видишь, какая я храбрая! Но я подбадривала себя тем, что мое послание до тебя все одно не дойдет, не станешь же ты искать его на главной московской почте! Послать же на редакцию, сознаюсь, побоялась. Побоялась потому, что это мое письмо показалось мне похожим на стук в наглухо закрытую дверь, когда я наверняка знаю, что в комнате тебя нет, мой стук никто не услышит и дверь мне никто не откроет. Стучи сколько угодно. И, может быть, поэтому этот мой «стук» получился таким поспешным, необдуманным и нескладным, да к тому же еще и растянутым. Если бы ты был рядом, в своей комнате, как в те святые для нас вечера, то не надо было бы никаких слов, я не стала бы стучать, а тихонько, без стука, отворила бы дверь и вошла бы к тебе, как, бывало, входила не раз.
Прошу, Миша, ради бога, не подумай, будто этими воспоминаниями о тех прелестных вечерах я хочу хоть как-то нарушить твой душевный покой там, дома, в семье. Мы так мало были вместе, что я, говоря языком деревенских баб, не успела от тебя затяжелеть (думаю, это обстоятельство тебя должно порадовать), а расстались мы навсегда, и теперь каждый из нас начнет жить по-своему, так, как ему вздумается и как он умеет. И все же после твоего отъезда, когда вокруг меня стало пусто и все, на что ни посмотрю, словно бы осиротело, мне захотелось сказать, как бы тебе вслед, о том, что я думаю. А думаю я все о том же, о твоей, Миша, ошибке. Да, ошибке! Не надо было тебе покидать Привольный, и не потому не надо, что с тобой мне было бы хорошо, а потому не надо, что именно здесь, в Привольном, осталось все твое и все то, к чему ты идешь и без чего — запомни мои слова! — счастья у тебя в жизни не будет. Всем известно: от самого себя не уйти, не спрятаться. Ты же хотел доказать, что сможешь уйти от себя и сможешь спрятаться. Ты улетел в Москву, не подумав о том, что твое место не в Москве, а тут, на хуторе, где проистекает как раз та жизнь, которая тебе нужна и которую никто не выдумывает. Жизнь, так тебе нужная, возникает сама по себе, в силу каких-то взаимно связанных обстоятельств, и ты обязан знать эту жизнь в натуре, видеть ее не издали, а вблизи.
Я помню, ты как-то говорил мне: жизнь надо выдумывать, и тогда это будет интересно. В то время, радуясь тому, что нахожусь с тобой, я не придала твоим словам никакого значения. Теперь же, думая об этом, я хочу возразить тебе и сказать: Миша, ты неправ! Помню, ты еще сказал, что так тебе советовал делать какой-то писатель. Миша, не слушайся чужих советов, ибо выдумать или придумать жизнь, которой не было, нельзя, как нельзя, к примеру, глядя в землю, видеть небо. Расскажу, что тут у нас случилось без тебя, а ты подумай: мог бы ты такое придумать? Недавно из Мокрой Буйволы к Прасковье Анисимовне пожаловал небезызвестный тебе Силантий Егорович Горобец со своими тремя волкодавами. Нагибаясь в дверях, чтобы не задеть плечами притолоку, он вошел в хату, поздоровался — сухой, сутулый, с длиннющими усами. Волкодавы, как стража, остались, за дверьми, уселись рядышком — с толстенными шеями, мрачными глазами, похожие на волков. Старик рассказал Прасковье Анисимовне вот о чем: своих волкодавов, как ты знаешь, он приютил у себя, когда на овцекомплексе они стали никому не нужными, и собаки, стараясь хоть чем-то отблагодарить своего хозяина и благодетеля — и это тебе тоже известно, — откуда-то пригнали в его двор чьих-то приблудных овечек. Но потом это повторилось еще два раза, и во дворе старого чабана собралось шестнадцать штук валушков и ярочек. Что с ними делать? Куда их определить? Никто не знал. Из района приехала комиссия, побывала у деда, специально приехал и Суходрев. Думали-гадали, что же делать с этой небольшой отарой. Составили акт, овец передали на мокробуйволинский овцекомплекс, а волкодавов, чтобы впредь они не охотились за овцами, решили уничтожить. Комиссия уехала, а через день из Скворцов прибыл милиционер и объявил деду Горобцу, чтобы тот, согласно приказанию, вывел волкодавов в степь, подальше от хутора, — на расстрел. Дед схитрил: он сказал милиционеру, чтобы тот шел в степь, в Терновую балку, и там бы поджидал его с собаками. Сам же взял своих волкодавов и на попутном грузовике прикатил в Привольный, к бабушке Паше.
— Заступись, Паша, — говорил старик глухим жалким голосом. — Ить это что же получается? Безобразие получается! Овечью стражу приказано вести на расстрел? Пусть лучше стреляют в меня, а собак я им не дам. Но один я не в силах охранить животину от смерти. Заступись, Паша. Ты же сама — природная чабанка, горе мое понимаешь, да и баба ты бедовая, районное начальство тебя побаивается. Подсоби, выручи собак от погибели.
— Смогу ли? — усомнилась бабуся.
— Смогёшь, — уверенно ответил старик. — Беспременно смогёшь. Надоть тебе пойти до самого до Караченцева.
Подумай, Миша, как такое можно выдумать или придумать? А что произошло дальше? Твоя бабуся проявила, такую настойчивость, какая, думаю, не была еще известна ее внуку. Она вызвала Андрея Сероштана с «Жигулями», сказала, что ей срочно надо ехать в район. «Я тебя выручила, когда ты воровал Катю, выручай-ка и меня». Она приоделась во все праздничное, надела ту кофточку, что вся звенит наградами, и поехала в Скворцы. Там она пошла прямо к Караченцеву. Какой был у них разговор — я не знаю. Но из Скворцов бабуся поехала не в Привольный, а прямо в Мокрую Буйволу, к деду Горобцу. Домой
вернулась вечером, довольная, улыбающаяся.
— Все обошлось благополучно, — сказала она мне, снимая звеневшую наградами кофточку. — Я была у Силантия и так ему и сказала: теперь твоих собак никто и пальцем не тронет. Сам Андрей Андреевич Караченцев сказал, шо не их собачья вина в том, шо они зараз не могут ходить за отарой и исполнять свои сторожевые обязанности. Это ихняя беда, ихнее горе. И по телефону дал указание милиции, шоб не трогали овечью стражу.
И еще она сказала:
— Выслушал меня Андрей Андреевич, пожал от удивления плечами. Шо тут, каже, для меня удивительное? А то, каже, удивительное, шо собаку, извечного и закадычного друга человека, решили было поставить под дуло винтовки. И хто решил? Наша же милиция! Вот шо удивительное! Вот после этих слов он взял трубку и позвонил в милицию. А Караченцев — мужчина хоть еще и молодой, а умный, понимающий, не то шо некоторые прочие, он знает, шо такое чабан и шо такое чабанские собаки. И в трубку так, спокойно, говорит: поймите, это же не какие-то бродячие псины, а волкодавы, разумные существа, они умеют приглядеть за овцами получше какого-либо чабана. А то, шо они приблудных овец пригоняют домой, то пусть там, в отарах, получше охраняют свое стадо. И уже строго: так шо прекратите эту безобразию! После этого вышел из-за стола, обнял меня, як сын родной: мамаша, спасибо, каже, шо вы до меня заявились и не дали собакам безвинно погибнуть. Поезжайте, успокойте Силантия Егоровича. Сам-то он чого до меня не приехал? Сильно, кажу, стеснительный старик. Какой геройский памятник воздвигли ему на хуторе, а сам он, веришь, як дитё, за себя постоять не может.
Вот это, Миша, как я понимаю, и есть то, что именуется жизнью и чего придумать нельзя — никакая фантазия не поможет. Я старалась описывать в лицах, нарочно записала рассказ бабушки Паши. И как же я жалела, что тебя здесь в этот час не было. Мой пересказ — это не то. Я подумала о тебе: где еще ты мог бы такое увидеть и услышать? Нигде! Нету на свете других таких стариков и других таких волкодавов. Да и Караченцева другого тоже нету… Или вот еще пример. Вечером, как всегда, я вернулась с работы. В хате, у своей матери, сидел Анисим Иванович и плакал, всхлипывая шумно, по-мужски. Попробую передать их разговор.
— Не реви, Анисим, не маленький, — строго сказала бабушка. — Сызмальства, помню, характером ты был покрепче, слезу, бывало, из тебя не выжмешь. А зараз разнюнился, як баба. И тебе не совестно?
— Изничтожают же кошары, — не переставая плакать, ответил Анисим Иванович. — Гибнут же помещения.
— Ну и шо? Хай изничтожают. Ить старье рушат. Все одно — плачь или смейся, а твоим соломенным закуткам пришел конец.
— Приехали из района строители, отвели землю, — говорил Анисим Иванович. — И меня не спросили. А я же тут кто? Хозяин или не хозяин? Может, мне виднее, какое надо отводить под строительство место? Я же в Привольном управляющий…
— А коли управляющий, так и не распускай нюни, не кисни, а езжай до Суходрева и скажи ему, шо думаешь про участок и як станешь действовать. Или махни к самому Караченцеву… А ты приплелся до матери и разнюнился.
И это, Миша, тоже жизнь, придумать которую никто не может.
Теперь поведаю тебе о нашем текущем житье-бытье. Что сказать? Живем мы хорошо. Погода у нас никак не зимняя. На дворе уже конец декабря, а дни стоят теплые, осенние, солнечные. На буграх, на припеках свежо зазеленела травка. О снеге мы и не думаем. Озимые лежат зелеными полотнищами — красиво! Анисим Иванович пасет свои отары по кукурузникам и по подсолнечникам, утрамбовал эти поля, как толоку. Есть еще одна новость, которая может тебя заинтересовать, — наша новая квартирантка. Она поселилась в твоей комнате. Иной раз слышу ее шаги, и мне кажется, что это ты ходишь. Имя у нее красивое, не то что у меня, — Лариса. Она ветеринарная фельдшерица, только что из техникума, ставропольчанка, дочка чабана, родом из села Кугульты. Посмотрел бы ты на Ларису — вот это настоящая хохлушка, а какая хозяйка — таких поискать! Бери ее такую, какая она есть, и описывай. Бабуся души в ней не чает, наверное, увидела в ней свою молодость, внучкой называет.
— Ой и гарна у меня внучка Лариска, на все руки мастерица, — говорила бабуся. — Шо значит из чабанской семьи.
— Прасковья Анисимовна, разве я плохая? — нарочно спросила я.
— И ты гарна, только ты горожанка. А Лариска не такая, як ты, она из нашенских, из чабанского роду-племени, за шо ни возьмется, любое дело изделает. Молодчина! Вот бы Мишухе такую жинку…
Я подумала: может, твоя Марта такая же хозяйка?
Как-то приехал к Ларисе ее жених, Павлик, мелиоратор где-то на канале. Родом тоже из Кугульты. С Ларисой он знаком с детства, вместе ходили в школу. Приехал-то Павлик к Ларисе, а стал ухаживать за мной. Вижу, моя соседушка губы надула, нахмурилась. Чуть было мы не поссорились.
— Твой Павлик мне и даром не нужен, — сказала я.
— А чего он с тобой такой веселый?
— Мне-то что до его веселости?
Лариса успокоилась. По секрету мне призналась, что скоро они поженятся и что Павлик хочет поступить на работу в «Привольный», он уже узнавал: мелиораторы в совхозе нужны.
Да, чуть было не забыла сказать самое главное: Катя-то родила двойню! Мальчика и девочку. В полночь Андрей отвез ее в Скворцы, сам днем и ночью находился возле родильного дома, ждал. А когда Катя родила, Андрей заехал к нам. Миша, если тебе когда-либо доведется описывать счастливого папашу, так вот надо было бы тебе посмотреть на Андрея — такого опьяненного счастьем человека я еще не знала… А в тот день, когда Андрей увозил из родильного дома Катю, сына и дочку, он специально заехал к бабусе, чтобы показать ей правнучков. И тут я увидела не только счастливого отца, который без улыбки не мог и слова сказать, а и гордую своим материнским счастьем молодую мать и, признаюсь тебе, немножко позавидовала ей. Бабуся посмотрела на сонные личики своих правнуков, обняла улыбающуюся Катю и в голос: «Ой, Толик мой родненький! Не побачу тебе, мое серденько…»
Только что Андрей и Катя уехали в свою Мокрую Буйволу, как из Скворцов на «скорой» прикатила Анна Филипповна. Все же она уговорила бабусю лечь в больницу. Бабуся связала в узелок какие-то свои пожитки, попрощалась со мной и с Ларисой, села в машину и сказала:
— Як справедливо жизня устроена: мои правнучки устремляются из больницы домой, шоб жизню начинать, а я поспешаю из дому в больницу, шоб умирать. У них всему начало, а у меня всему конец… Ну, дочки, живите тут без меня, хозяйнуйте, приглядывайте за землянкой, а я поеду помирать, — добавила она, улыбаясь. — Вот только жалко Толика. Не побачу сыночка. — И заплакала. — Ой, Толик, Толик, ой, чего ж ты залетел аж в Конго!
Мы остались в землянке вдвоем с Ларисой. Было скучно и грустно без бабуси. Сходились мы только по вечерам — посмотреть телевизор. Весь день были в отарах. И если ложилось на душу какое горе, то там, на работе, оно и забывалось.
Вот, кажется, и все. Написала много, а как закончить? Не знаю. По правилу надо было бы в конце сказать: обнимаю и целую своего ненаглядного! Не скажу так. Не хочу обижать свою же сестру — Марту. Написать же «до свиданья» — нельзя, потому что свиданья-то у нас уже не будет. Скажу просто: Миша, милый, будь счастлив! Ефимия.
8
Наконец-то пришло и наше время. Мы с Мартой побывали в загсе, расписались в регистрационной книге, следом за нами поставили свои подписи свидетели, нас торжественно поздравили с законным браком — все было обыденно и просто. Это случилось в четверг, на этот день мне пришлось отпроситься с работы, а Ивана отправить к бабушке. Через день, в субботу, мы устроили свадебную вечеринку, пригласили на нее самых близких наших друзей: на большую компанию у нас не было денег. Марта была в новом, специально сшитом сиреневом платье, в новых, тоже сиреневых, туфлях на высоких каблуках, с замысловатой прической, сделанной в парикмахерской ради такого случая, но без фаты. Не захотела надевать. А я не настаивал. Разумеется, не обошлось без «горько!» — обычай, что поделаешь. Целовались же мы ненатурально, а так, для вида. Я смотрел в счастливые глаза Марты, в этот вечер она казалась мне еще красивее и выше ростом, и сам я был счастлив. Танцевали под магнитофон, пели, как могли и что могли, и всем нам было весело. Воскресенье мы провели вдвоем, а в понедельник я удочерил Верочку. Жить она пока осталась у бабушки.
В этом году быстро и незаметно отлежала свое зима, улицы давно очистились от снега, часто поливали дожди с ветром, как бы желая поскорее смыть с крыш и с улиц накопившуюся там грязь. На бульварах и в скверах по-весеннему загалдели детские голоса. Может быть, это только для меня время прошло незаметно, потому что я часто выезжал в командировки: поездки были и близкие — во Владимир, в Вологду, в Курск, и дальние — в Грузию, в Таджикистан. Наш Иван к весне так подрос и так окреп, что уже становился на ноги и лихо отплясывал у меня на коленях. Вскоре мальчик был принят в детские ясли, и Марта снова стала работать в том же министерстве. Материальные наши дела с каждым месяцем улучшались. Марта даже завела на свое имя сберкнижку, разумеется, общую, для нас двоих, и у нас уже появились сбережения.
В комнате у нас царил тот уют и тот покой, какого я давно ждал и желал, и мне казалось, что вот и наступила настоящая, уравновешенная, как хорошо отлаженные весы, семейная жизнь, та самая жизнь, о которой я мечтал. И в этом я видел большую заслугу Марты, ее трудолюбие, ее умение быть необыкновенно старательной хозяйкой, милой и умной женой. И все же полного душевного покоя у меня не было, и почему не было — знал только я один. Не было полного душевного покоя потому, что я все еще не мог забыть свою зеленую, упрятанную в ящик стола тетрадь, все еще чувствовал запах полыни — и где? На шумных московских улицах! И я все еще не мог не думать о письме Ефимии: оно-то, письмо, написанное кривыми строчками, как раз и причиняло мне самую большую сердечную боль и наводило на грустные раздумья. Я нарочно сунул письмо в тетрадь — пусть лежат вместе! — и сверху прикрыл газетами. Вместе с письмом мне хотелось спрятать и мысли о нем. Оказалось же, что мысли спрятать невозможно: они всегда с тобой и в тебе.
Прошел еще не один месяц, а письмо Ефимии все так же беспокоило меня и дома, и в командировках, мешало нормально жить и работать. Бывает же так: то, нужное, что необходимо всегда помнить, знать, вдруг вылетает из головы, забывается, и мы сокрушенно говорим: ах, проклятый склероз! А то ненужное, что надо было бы забыть, помнится, не забывается, и тут самый застарелый склероз не помогает. Например, многое из того, что написано Ефимией, я не только помнил, а знал наизусть. «Милый, хороший Миша!» Зачем это? Или: «Не надо было тебе покидать Привольный, и не потому не надо, что с тобой мне было бы хорошо, а потому не надо, что именно здесь, в Привольном, осталось все твое и все то, к чему ты идешь и без чего — запомни мои слова! — счастья у тебя в жизни не будет». «И как же я жалела, что тебя в этот час не было». «Мы так мало были вместе, а расстались навсегда». «По правилу надо было бы в конце сказать: обнимаю и целую своего ненаглядного! Не скажу». И я не только помню эти и другие слова, а и думаю о них. Зачем она написала это письмо? Просто так, чтобы поведать о привольненских новостях, о Ларисе, о горе деда Горобца и дяди Анисима? И эта, с виду невинная приписочка: «…не успела затяжелеть… думаю, это обстоятельство тебя должно порадовать». К чему это признание? Зачем оно? Попробуй разгадай. И тогда, в Привольном, она не советовала мне уезжать в Москву, и теперь говорит то же самое. А зачем? Чтобы подразнить? Значит, и Ефимия о том же: известный лауреат, выходит, не прав. Но почему же после ее письма я все чаще подумываю: а не поспешил ли я уехать из Привольного? Может быть, в самом деле не следовало мне уезжать? Но и оставаться — зачем? «…Счастья у тебя в жизни не будет». Это мы еще посмотрим, может, оно, счастье, и будет. Да и чего ради она печалится о моем счастье? Лучше бы позаботилась о своем. «По правилу в конце надо было бы сказать: обнимаю и целую своего ненаглядного. Не скажу…» Значит, могла бы сказать, а не сказала, и только потому, что пожалела «свою же сестру», не захотела обижать Марту. «…Свиданья у нас уже не будет». Да, в этом она, безусловно, права. Ну, не будет, и пусть не будет. А зачем же об этом напоминать? Вот и получается: как ни переставляю запомнившиеся мне слова и фразы из ее письма, с какой стороны к ним ни подхожу, как их ни обдумываю, а получается одно и то же: письмо Ефимии нарушило мою спокойную жизнь, оно потянуло меня к тетради, заставляло делать записи. «Михаил, ну не упирайся, ну не насилуй себя, а бери тетрадь, садись и записывай», — слышался мне чей-то голос. И тогда выстраивались такие беспокойные мысли, избавиться от которых, как мне казалось, было невозможно, если их не изложить на бумаге. А для чего излагать на бумаге? Разве только для того, чтобы перестать о них думать. Я твердил себе: нет, надо устоять, надо не лезть в ящик стола, не брать тетрадь и не начинать записывать. Тетрадь-то я не взял, даже не дотронулся до нее, а тревожные мысли все одно не покинули меня. Я почувствовал, что снова начинаю жить той раздвоенной жизнью, которая была мне так ненавистна и от которой я так настойчиво старался уйти. И уже, как я полагал, ушел и зажил спокойной семейной жизнью, а тут вдруг — письмо Ефимии. Сам не зная для чего, я начал сравнивать, что было тут, в Москве, рядом со мной и что осталось там, в Привольном, и где было лучше — там или здесь. В голову лезли странные сравнения: здесь, в Москве, — я и Марта, мои дети, моя работа, а там, в Привольном, — моя бабуся, хутора, села, все то приволье, которому не было ни конца, ни начала, и Ефимия… Здесь — покой, обыденность, то, что именуется прозой жизни со всеми ее добрыми приметами, а там — душевная тревога, что-то похожее на поэзию или на песню, и Ефимия… Здесь, с Мартой, — обычные будни, устоявшееся озерцо нашей жизни, там же что-то необычное, что-то похожее на праздник, и Ефимия… Здесь, куда ни глянь, дома и дома, один повыше другого, улицы и площади запружены стадами машин, метро со своими подземными дорогами, и всюду люди и люди, как муравьи в муравейнике, — все чем-то заняты, все куда-то спешат: там же — степь да степь под высоким чистым небом, теплый ветерок с юга ласкает щеку, как ладошкой, тишина, нарушаемая разве что шелестом зреющих колосьев, и Ефимия…
Между этими двумя жизнями — я со своими странными мыслями стою один, в раздумье, как между двумя берегами. Почему же я не могу взойти на тот берег, который милее мне и ближе ко мне? Может быть, потому, что человек я слабовольный, нерешительный и сам виноват в том, что живу двойной жизнью? Давно собирался открыться Марте и тем самым сбросить с души тяжкий груз и все тяну, все откладываю, все никак не могу решиться. Боюсь? Да, возможно, и боюсь. Или, лучше, стыжусь? Скорее всего — стыдно перед Мартой. И все же пора мне набраться смелости. Ничего нельзя утаивать от Марты. Все расскажу ей, прочитаю письмо Ефимии, и тогда — долой тревогу, забуду все, что было там, в Привольном, и уже никогда о нем не вспомню, стану жить и радоваться только тому, что есть тут, рядом со мной.
Однако как же начать признание? С какой стороны к нему подступиться? Нельзя же завести такую серьезную речь вдруг, ни с того ни с сего, как говорится, с бухты-барахты. Тут необходимы и подходящее время, и соответствующая моменту обстановка. Знаю, для Марты это будет словно гром среди ясного неба, начнутся слезы, упреки, да и мое-то положение окажется не из приятных. Поэтому, подумав хорошенько, я пришел к выводу, что, во-первых, это следует сделать в воскресенье, и, во-вторых, непременно днем и в спокойной обстановке. Ночью, в постели, как полагал я, нужного разговора не получается. Днем я смог бы видеть лицо Марты, ее большие удивленные глаза и то, как бы она посмотрела на меня. Тут я невольно подумал: эту сцену, тягостную и неприятную для нас, следовало бы записать, и покраснел. Значит, не умер во мне тот бесенок, о котором говорил мне Никифор Петрович и который тянул меня к тетради, чтобы я все записывал, — дескать, на всякий случай, дескать, пригодится.
Произошел же этот разговор неожиданно, совсем не так, как я предполагал, и не в то время, в какое мне хотелось бы. Было уже за полночь. Я дописывал очерк о виноградарях Грузии, на столе лежал слабый свет от лампы, в комнате было тихо. Я сидел спиной к кровати, где спала Марта, и услышал, как сперва засопел, а потом запищал Иван. Марта быстро встала, чтобы покормить малыша, сидела на кровати, опустив на коврик босые ноги. Она взяла Ивана, и он, сладко причмокивая и издавая еле слышный довольный стон, сосал грудь. После того как это стонание и причмокивание утихли, Марта положила Ивана в кроватку и, все еще сидя на кровати, спросила:
— Миша, ложись. Ну сколько можно сидеть?
— Утром же надо сдать очерк. Вот и сижу.
— Скоро закончишь?
— Все! Готово!
— Ну ложись… Нам бы надо поговорить.
— Может, будем спать, уже поздно. А поговорим утром, а?
— Лучше сейчас. Что-то на душе у меня тревожно. Я ведь тоже еще не спала… Ты писал, а я лежала, смотрела на твой затылок и думала.
— Марток мой весенний, о чем же он думал? — нарочито весело, наигранно спросил я. — И почему он не спит?
Она не ответила. Отодвинулась на край кровати, уступая мне место. Когда родился Иван, она всегда спала поближе к его кроватке, а я у стенки. Я разделся, погасил свет, лег в постель и повторил свой вопрос. Она отвернулась и ничего не сказала. Я подумал: вот бы и начать свое покаяние, а решиться не мог. Не хотелось расстраивать ее и себя: ночь, считай, пропадет, а нам обоим завтра идти на работу. Лучше бы успокоить ее, чтобы она уснула. А как это сделать? Я не знал. Мы долго лежали молча.
— Миша, меня тревожат перемены, которые произошли в тебе, — наконец заговорила она, не поворачивая ко мне голову. — Почему ты стал не таким, каким был?
— Каким же я стал? Объясни.
— Тебя что-то мучает. Что-то лежит у тебя на душе. А что?
Я через силу усмехнулся:
— Марта, ты говоришь, как гадалка.
— Не надо смеяться, Миша. Я так тебя всего изучила, что мне нет нужды быть гадалкой.
— Так что же? Что ты хочешь сказать?
— Хочу только сказать: может, зря прячешь в столе свою тетрадь?
— Чего ради вспомнила о тетради? Я о ней давно забыл и рад этому.
— Неправда.
— Хочешь — побожусь.
— Не надо, Миша. Есть мудрая поговорка: от жены и от бога ничего не утаишь и ничего не скроешь. Не знаю, как насчет бога, а насчет жены поговорка правильная. Жена все знает. А как же? На то она и жена.
«Неужели ей известно о Ефимии, — подумал я, чувствуя холодок в груди. — Пока я собирался покаяться, а она все уже узнала. Но как? Неужели прочитала письмо?»
— Что же ты знаешь? — спросил я спокойно. — Говори не намеками и не поговорками.
— Я знаю лишь то, что тебе хочется снова поехать на хутор. Там у тебя бабуся… и вообще.
— Что — вообще?
— Ну, твои дела. И я советую: попроси командировку, ненадолго, и поезжай. Тетрадь непременно возьми с собой. Хватит ей лежать в ящике.
— Не понимаю, зачем мне ехать на хутор? Сейчас мне там делать нечего.
— Опять говоришь неправду.
— Нет, правду. Клянусь!
— Это еще к чему? Не надо, Миша. Мне и так обидно, когда ты кривишь душой. — Марта рывком повернулась ко мне, обняла мою шею голыми горячими руками и заплакала, прижав лицо к моему плечу. — Ну что с тобой, Михаил?
— А что?
— Ведь ты не только говоришь мне неправду, но и делаешь не то, о чем думаешь. Тебе хочется писать, а ты насилуешь себя и не пишешь. Помнишь, лауреат говорил тебе об этом же. А ты спрятал тетрадь со своими записями и отвернулся от них. Ты пошел сам против себя же, против своего желания.
— Я не иду против себя и против своего желания.
— И это неправда. Я же знаю. Как же так можно жить, Миша? Ты делаешь то, что тебе не мило, не по сердцу, и все время думаешь о другом, думаешь о том, что тебе мило, что тебя радует, волнует. Миша, ведь это похоже на то, как если бы жить с нелюбимой женой, а постоянно думать о другой, о любимой женщине.
— Что это за намек? Отлично же знаешь, для меня ты — жена, любимая и желанная. И ни о какой другой женщине я не думаю.
— Опять неправда. — Марта снова отвернулась, а потом легла на спину, закинула руки за голову. — А скажи только правду, кто такая Ефимия?
Я никак не ждал такого вопроса и, признаться, растерялся, не нашелся, как ответить, и вдруг глупым голосом спросил:
— Какая Ефимия?
— Не знаешь ее? Позабыл? Склероз? Так я напомню: та, что осталась в Привольном.
— Читала письмо?
— Читала… Зачем же так плохо спрятал?
— Поверь, Марта, я сам собирался и рассказать, что у меня было с этой девушкой, и прочитать тебе ее письмо.
— Опоздал.
— Выходит, так… Поверь мне, Марта, я не мог решиться, духу не хватило. А вот теперь все расскажу, ничего не утаю.
— Теперь? Не надо, ни к чему. Зачем мне знать, что у вас там было? Всем известно, что именно бывает в таких случаях. Да и в ее письме об этом сказано достаточно ясно. — Марта резко, до сухого хруста в суставах, сцепила за головой пальцы, и я почувствовал, как вся она напружинилась. — Значит, не решился? Побоялся, да? Думал, начну по-бабьи голосить, подниму скандал, стану рвать на себе волосы. Нет, Миша, напрасно ты так, думал. Видишь, ничего этого со мной не случилось… И потому не случилось, что в груди у меня что-то оборвалось. Ведь я верила тебе и верила в тебя, думала, что ты не такой, как все, и, выходит, ошиблась.
— Ну, случилось, с кем не бывает, — говорил я, понимая, что надо было бы сказать что-то совсем другое. — В жизни все бывает. Можешь ли ты хоть это понять?
— Конечно могу, — ответила Марта после короткого молчания. — И потому могу понять тебя, что все вы, проклятые бабники, одинаковые. Вам только покажи юбку… И ты, Михаил, такой же, как все. Вот что обидно. И как мы теперь станем жить, Миша? Вот о чем я думаю и думаю. Оборвалось, опустело, тяжело и больно, больно и тяжело…
— Ну прости меня, Марта, мой весенний Марток…
— Был весенний, да стал зимний.
— Но можешь ли ты простить меня?
— Простить бы можно, а…
Она умолкла и расцепила пальцы.
— Что — «а»? Договаривай.
— А как же быть с тем, что оборвалось в груди? Чем его заменить и как заменить?
— Я не люблю ее. И не любил. Пойми это. И тогда я еще не был твоим мужем.
— Какая разница — был или не был?
— Ну что тебе сказать еще?
— Скажи, зачем не изорвал письмо? Я ничего бы не знала и жила бы спокойно. А теперь? Да и спрятал письмо не куда-нибудь, а в тетрадь. Зачем в тетрадь? — И она заплакала, глотая слезы. — Ты все время думал о ней, так же, как и о своей тетради. Я давно это предчувствовала.
— Ни о чем я не думал.
— Неправда, Миша. Ты думал и о тетради и о том, чтобы снова уехать туда. — Она шмыгнула носом, отвернулась. — И поезжай. Хоть завтра. Удерживать не стану. Пережила один позор, переживу как-нибудь и другой. Мне, выходит, не привыкать.
— Плачешь, а понять меня не хочешь, — сказал я. — Или не можешь? Ведь я никуда от тебя не уеду. Я твой муж, ты — моя жена, у нас дети. Куда же мне уезжать?
— А как же нам теперь жить вместе? — спросила Марта, тяжело вздохнув. — Как смотреть друг другу в глаза? Как растить Ивана? Думал ли ты об этом?
Я не ответил. Не находил слов, и мы долго лежали молча.
9
Вот как оно бывает в жизни. Я много месяцев готовился к своему признанию, сколько раз мысленно разговаривал об этом с Мартой и почему-то ни разу не подумал о том, о чем она сказала так ясно и так просто: «Как же нам теперь жить вместе? Как смотреть друг другу в глаза?» С виду вопросы житейские, обыденные, а без ответа их не оставишь. А я ответить не мог, потому и лежал молча. До этих ее вопросов я обычно рассуждал, так: обстоятельно, спокойно расскажу ей о Ефимии, ничего не утаю, прочитаю письмо, покаюсь, как и полагается грешнику, повинюсь чистосердечно. Мне казалось, что Марта внимательно меня выслушает, в душе обидится, но простит, и этим все кончится. А что получилось? Получилось так потому, что я все эти месяцы думал и заботился только о себе, о своем благополучии и не думал, не заботился о Марте. «Как нам теперь жить вместе?» — в этом вся суть. Она не знает, и я не знаю. Такая, казалось бы, простая и очевидная мысль и в голову мне не приходила. Я полагал: как жили, так и будем жить. Оказывается, нет: так, как мы жили, жить уже нельзя. И вопрос-то возник почему? Исключительно потому, что разорвалась та нить, которая нас соединяла, сближала, роднила. Вдруг пропало, сгинуло то драгоценное чувство, которое именуется взаимным доверием. Не зря же Марта призналась: что-то оборвалось у нее в груди. А что именно? Она, наверное, еще и сама не знала и поэтому с такой болью спросила: «Как же нам теперь жить вместе?» Вот и явилось передо мной еще одно наглядное доказательство моей правоты и неправоты Никифора Петровича: даже в личной, интимной жизни его совет о выдумке никуда не годится. Да и в самом деле, как можно было придумать во всех деталях то, что произошло у нас с Мартой в эту ночь? Сколько времени я обдумывал свое признание, как тщательно готовился к нему, казалось, все выверил, все уточнил, подобрал нужные слова, обдумал их со всех сторон. А что получилось в жизни? То, чего я не ждал, о чем не думал. Был уверен, что разговор начну я, а начала Марта. Мне хотелось самому прочитать ей письмо Ефимии, а Марта, оказывается, прочитала его и без меня. А разве можно было заранее придумать ее вопросы: «А скажи, кто такая Ефимия?», «Как же нам теперь жить вместе?» Или ее упрек: «И ты такой же, как все?»
Ночь прошла без сна. Тянулась она, как на беду, невероятно долго. За окном горел фонарь, косой отблеск от него лежал на стене. Я и Марта делали вид, будто спим. На самом же деле ни я, ни она до утра не сомкнули глаз. Я смотрел на лежавший на стене косой фонарный свет и ждал, когда же наступит утро и погаснет фонарь.
Наконец в комнате посветлело. Марта встала, быстро оделась и, не сказав ни слова и не взглянув на меня, взяла Ивана и унесла в ясли, чтобы оттуда пойти на работу. Оставшись один, я кое-как побрился электробритвой, сунул в карман рукопись — очерк о грузинских виноградарях — и первый раз без завтрака отправился в редакцию. Да, признаться, в это утро мне было не до еды. По пути на работу я снова вспомнил наш неприятный ночной разговор, подумал и о том, как утром меня испугало лицо Марты — бледное, постаревшее, а глаза — горестные, тоскливые. В то время я еще не знал, что у молодых людей самая трудная пора их жизни бывает не тогда, когда они еще только влюбляются, а тогда, когда уже становятся мужем и женой. Сколько лет мы с Мартой встречались в этой же комнате — и ни разу не ссорились. Наша жизнь была светлой, на ней не было ни одного темного пятнышка. Теперь же, когда мы стали законными супругами, когда, казалось, мы должны наслаждаться счастьем и радостью, наша семейная жизнь сразу же преподнесла нам первое и нелегкое испытание.
В редакции меня поджидало задание: нужно было срочно вылетать в Целиноград (не срочно я вообще никогда и никуда не вылетал!), и я обрадовался случаю, что там, вдали от Марты, смогу наедине с собой обдумать и отыскать какие-то шаги к нашему примирению. На этот раз срочное задание состояло в следующем: надо было по телефону передать оперативную информацию о том, как комбайны, переброшенные с юга, главным образом с Кубани и Ставрополья, с ходу начали косовицу целинной пшеницы. Я побывал во многих хозяйствах, каждый день по телефону передавал небольшие корреспонденции, и случилось так, что, проезжая по пшеничному морю и занимаясь делом, я не только не придумал, как мне помириться с Мартой, а даже забыл о нашей ссоре. Некоторые из моих корреспонденции успели появиться в газете, одна из них называлась «Кубанцы и ставропольцы на целине».
В Москву я вернулся через десять дней, в воскресенье. Марта была дома, и я, желая показать ей, что на душе у меня спокойно, обнял ее так же, как обнимал раньше, взял на руки Ивана и обрадовался тому, что увидел улыбку на ее лице. По этой ее улыбке, по круглым, удивленным и повеселевшим глазам я понял, что и Марта хотела показать мне свое душевное спокойствие. Ласково, как это она умела делать, спросила:
— Ну как, Миша, слетал?
— Успешно, — ответил я. — Торопился домой.
— И хорошо, что торопился. А то мы тут с Ванюшкой совсем заскучали. Есть хочешь?
«Значит, простила», — подумал я.
— Я не голоден.
— Миша, а погляди, как наш Иван улыбается, рот раскрывает, радуется, что отец приехал, — говорила она. — Да ты хорошенько посмотри. Не только на его улыбку. Неужели ничего не заметил?
— Ничего. А что?
— Эх ты! Папаша! У него же зубик начинает прорезаться! Не заметил? Тебе не заметно, а мне заметно. Сейчас увидишь. — Она положила Ивана на кровать, пальцем оттянула его нижнюю губу. — Смотри, как белеет! И это случилось в дни, когда тебя не было. — И она, прижимая беленькое личико ребенка к своей румяной щеке, заговорила, как всегда, когда бывала в хорошем настроении: — Погляди, какие мы! Как мы быстро растем. У нас уже и зубик проклюнулся, мы уже и подпрыгиваем, и все соображаем, и мы знаем, что наш папка вернулся из командировки. — Разрумянившись еще больше, она обратилась ко мне: — Веришь, Миша, Ванюша в самом деле знал, что тебя не было дома: поведет по комнате глазенками, все тебя ищет. Не увидит и заплачет. Все, все, будто большой, понимает. А ведь малыш еще, а такой смышленый, такой умный.
— Марта, значит, мир? — спросил я.
Она нахмурила брови, помрачнела.
— Ну что ты, Миша? Я тебе о сыне, а ты о чем? Какой еще мир?
— А помнишь: «А как же нам теперь жить вместе?»
— Не надо об этом, Миша. То было, и то прошло. Пойдем на кухню, покормлю.
«Да, безусловно, простила», — снова подумал я.
На кухне, когда я ел, она смотрела на меня, держа Ивана на руках, и я заметил: ее глаза улыбались точно так, как они улыбались раньше. Она сказала, что вчера приезжала мать с Верочкой.
— Приезжала просто так, проведать, — добавила она, не переставая улыбаться глазами. — А Верочка, вот стрекоза, сразу, прямо с порога: а где мой папа?
— Что же ты ей сказала?
— То, что ты в командировке. Она так обиделась, что не увидела тебя. Верочка так тебя любит, так любит. Разговор только о тебе.
— Как у тебя на работе?
— Все хорошо. Записываю то, что мне диктуют, печатаю на машинке. Да, в газете читала твои заметки. Просто чудо: только что комбайны убирали хлеб на Кубани, и вот они косят пшеницу на целине. Еще будешь писать?
— Хочется рассказать об одном ставропольском комбайнере Иване Козыреве. Кстати, мой земляк, из нашего Привольного.
Марта все так же прижимала к своей пылавшей щеке беленькое личико Ванюши, говорила то о том, то о другом, и я понимал и ее волнение, и ее желание показать мне свое прежнее доброе ко мне отношение. А ночью, когда мы легли спать, Марта не отворачивалась от меня, она была по-прежнему мила и ласкова, и я снова почувствовал ее желание убедить меня в том, что все то горькое, обидное, что было у нас, надо и ей и мне выбросить из головы и забыть и что вопроса «А как нам теперь жить вместе?» вообще не было.
— Марта, ты меня простила?
— В старое время на такие вопросы отвечали: бог тебя простит.
— Бог-то простит. А ты?
— Ну что пристал? — Она усмехнулась, ткнувшись лицом в мою грудь. — Тут, без тебя, я вволю поплакала, много думала и своим бабским умом рассудила: будем жить так, как и жили. Миша, ведь не в том главное, что теперь наш брак скреплен законом. Главная суть нашей жизни, как я ее понимаю, состоит в том, что мы уже накрепко связаны одной веревочкой, и та веревочка, которую жалко и трудно рвать, — это наш Ванюша. Он-то ни в чем не повинен. Признаюсь тебе: у меня было желание не пустить тебя в квартиру. А что потом? Я узко не могу без тебя, Миша. Привыкла к тебе, присохла. А Ванюша? Оставить сына без отца, да теперь еще и дочку? Ведь Верочка нисколько не сомневается, что ты ее отец. И еще я тут, без тебя, подумала: семейная жизнь — это не только одна сплошная радость. И мы с тобой — не первые и не последние. Есть семьи, которые живут и потруднее нас, и живут. Хотя бы ради детей. Может быть, из ста семей отыщется только одна по-настоящему счастливая, где нет ни ссоры, ни горя, а у девяноста девяти есть свои — большие и малые — неприятности, свое горе и свои невзгоды.
— Умница ты моя, Марток!
— Миша, не умом я все это понимаю, а сердцем. А как станем теперь жить вместе? И об этом думала.
— И как же?
— Будем жить хорошо. Во всяком случае, не знаю, как ты, а я постараюсь, Чтобы и ты, мой муженек, и я, твоя женушка, были бы жизнью довольны, а наши дети счастливы. — Она приподняла голову и весело, неожиданно рассмеялась. — Мне приходится много записывать и переписывать на машинке, и я заметила: сейчас вошло в моду иностранное слово «альтернатива». Так вот, подумав наедине, без тебя, я пришла к такому решению еще и потому, что другой, этой самой альтернативы, то есть другого выбора, у нас с тобой нет и быть не должно. Согласен со мной, Миша?
— Марта, ты молодец! Святая женщина!
— Ничего святого во мне нет, такая же грешница, как и все, — сказала она, все так же весело. — Нам, бабам, видно, на роду написано: терпеть и страдать и жалеть своих мужей и своих детишек.
— А тебя кто же пожалеет?
— Как — кто? Ты, мой разлюбезный. Я тебя, а ты меня. — И она смеялась тихонько, боясь разбудить Ивана. — Другой альтернативы у нас нету? Нету! Вот и хорошо…
Так мы, делая вид, что жизнь наша наладилась и что нам весело, прожили осень, зиму и весну. Дни заметно удлинились, в Москве потеплело, даже как-то ночью прогремела гроза. Я давно уже вынул из ящика свою зеленую тетрадь и положил ее на стол, желая и этим показать, что все у нас было так, как и раньше. И все же мы с Мартой понимали, что та, былая теплота наших отношений так и не вернулась к нам. А тут еще, как на беду, с наступлением весны меня опять потянуло в Привольный, я засыпал и просыпался с мыслью об этой поездке. И опять, не желая думать о Ефимии, я все же думал о ней. Почему? Зачем? Чего она лезла в голову? Этого я понять не мог. Я начал заговаривать с Мартой о том, что мне необходимо хотя бы на несколько дней слетать к бабусе, увидеть привольненскую весну.
— Если надо, так и слетай, — сказала Марта.
— Не обидишься?
— Чего ради? Поезжай, бабушка по тебе соскучилась.
Мысленно я то уже входил в землянку с крылечком, то чувствовал тот же, так хорошо мне знакомый, горьковатый запах полыни, то садился к тетради, чтобы что-то записать.
— Чем думать да гадать, — сказала Марта, — попросил бы командировку. Дней на десять. Дадут же?
— Могут дать, а могут и не дать.
Я умышленно удерживал себя от поездки, не просил командировку, заранее зная, что посещение Привольного теперь ничего хорошего мне не сулило. А тут, как раз ко времени, пришло письмо на адрес редакции — нет, не от Ефимии, а от Ларисы, и теперь уже не поехать в Привольный я не мог. Марта прочитала письмо Ларисы и сказала:
— Ну вот видишь, Миша, с бабусей плохо, все может случиться. Обязательно поезжай. Возьми командировку в Ставропольский край. На десять дней. Как, хватит десяти дней?
Я молча кивнул.
ПИСЬМО ЛАРИСЫ
Михаил Анатольевич, письмо это от незнакомой вам Ларисы Бойченко. Я квартирую у вашей бабушки Прасковьи Анисимовны. Это она дала мне адрес и попросила написать вам. Бабушка передает низкий поклон и просит приехать к ней в гости. Вот ее слова — я их записала: «Мишуха, внучок мой родненький, и ты далече от меня, як и твой батько Толик. Бабуся твоя шлет тебе поклон и просьбу: ежели сможешь, то беспременно приезжай до меня, может, последний разок погляжу на тебя да порадуюсь. И еще прошу: напиши своему батьке в Конго, шоб непременно приехал с матерью попрощаться, а то, гляди, помру ненароком и мы с ним так и не побачимся».
От себя скажу правду: после того как Прасковья Анисимовна еще в прошлом году полежала в больнице, ей малость полегчало. Вернулась она хоть и не веселая, а сообразительная. А сейчас опять стало ей плохо, разговаривает так, что и понять ничего невозможно. Говорит, говорит, а смысла никакого нет. Своих хуторян и даже родственников перестала узнавать. Как-то пришли проведать ее все три сына — Анисим Иванович, Антон Иванович и Алексей Иванович. Поздоровались с матерью, сели на лавку, а она смотрит на них и машет перед глазами рукой. Потом спрашивает:
— Хто вы такие, мужики?
— Маманя, мы же ваши сыны, — за всех ответил Анисим Иванович. — Поглядите, это я, Анисим, старший, а это братень мой Антон, а это братень Алексей. Вот пришли все вместе проведать и узнать, как вы тут поживаете, может, чем надо подсобить.
— Не-е, вы не мои сыны, — отвечает бабушка и машет руками. — У меня сыночки не такие старые.
— Маманя, да вы приглядитесь, это же мы…
— Ежели вы мои сыны, то где же ваш братуха Толик? Куда вы его задевали? Чего он с вами не пришел?
Братья только переглянулись, тяжело повздыхали, посидели еще немного и ушли.
Однажды поздно вечером я вернулась с работы. Прасковья Анисимовна еще не спала. Смотрела телевизор — она смотрит телевизор только потому, что хочет увидеть в нем черных людей Конго, а среди них и своего сына Анатолия. Сперва она обрадовалась моему приходу, обняла, потом вдруг заплакала, запричитала:
— Ой, Оленька, внученька моя, як же я давно тебя поджидаю.
Я ей отвечаю:
— Бабушка, я не Оленька. Я Лариса, ваша квартирантка.
— Э, нет! Не обманывай меня, Оленька, не хитри, нехорошо так, бо я бачу, шо ты моя внучка. И чего это твой батько, а мой сынок Толик так долго до меня не приезжает?
Все же узнала меня и после этого легла на кровать и долго тихонько плакала.
Недавно ее снова увезли в больницу. Никак не хотела уезжать. Что ей ни говорили, а она свое:
— Мне надо быть дома, скоро сынок Толик приедет. Как же так можно — он придет, а меня не будет дома?
Тогда врачиха, женщина ласковая, обходительная, пошла на хитрость и сказала, что как раз в больнице ее ждет сын Анатолий. Поверила бабушка и согласилась ехать. Села в машину и сказала мне:
— Ну, девонька, ты тут побудь без меня, а я скоро вернусь, и не одна, а с сыночком Толиком.
Михаил Анатольевич, скажу вам еще правду: здоровье у вашей бабушки очень плохое. Может быть, вы смогли бы приехать навестить ее и привезти из Москвы лекарство, какого у нас тут нету? Она так хотела вас повидать.
Осталась землянка без хозяйки, сиротой, и в этой землянке я одна. По ночам страшно бывает. Знакомая вам Ефимия, которая, помните, тоже квартировала у бабушки, давно, сразу же после вашего отъезда, уехала из Привольного. Она вышла замуж, и куда, в какое село или хутор увез ее муж, я не знаю. Примерно через месяц приезжала навестить бабушку. Тогда она, уже будучи замужем, написала вам письмо, а о своем замужестве ничего не сказала. Мне прочитала письмо. Я спросила: почему не написала о том, что вышла замуж и уехала из хутора? Ему, говорит, знать о моем замужестве не надо. А сама смеется. Муж у нее, Кондратьев Саша, учитель. Он приезжал в Привольный на каникулы, здесь у него живет родная тетка. Ну и увез Ефимию. Свадьбы не было. В последний день я нарочно спросила Ефимию: куда, в какое село они уезжают? Она была сердитая, в глазах слезы. А тебе, отвечает, не все равно, куда мы уезжаем? Уезжаем, и все. Сама, говорит, еще ничего не знаю, потому как Сашу переводят на другое место, в какой-то степной район. Так я и осталась теперь одна в бабушкиной землянке. Если, не дай бог, с Прасковьей Анисимовной что случится — а все может быть, — то я тут не останусь, подыщу себе новое жилище. Но я пишу вам не об этом, а о том, о чем меня просила написать ваша бабушка. И о переменах в нашем совхозе и на хуторе, каковых имеется немало, тоже сообщать не стану, может, все это вам неинтересно. А если интересно, то приезжайте и сами, без меня, обо всем узнаете. С приветом к вам Лариса Бойченко.
…Утром я должен был улетать. Билет был куплен еще вчера. Я стоял у стола и собирал в дорогу свой объемистый, тот же, еще с университетской поры, портфель, рыжий, потертый, знавший, что такое пути-дороги. «Перемен в совхозе немало, — думал я, уже мысленно находясь в Привольном. — Много перемен. Но какие они? И что могло измениться там за это время? Разве только то, что Ефимия вышла замуж и уехала из Привольного? Писала мне, уже будучи замужем, и умолчала об этом. Ну и хорошо, что вышла замуж, что уехала, и не одна, а с мужем. Но почему же я думаю об этом? Почему не могу ее забыть?» В это время подошла Марта. Она только что покормила Ивана, застегивала кофточку, и от нее еще пахло тем особенным, знакомым мне, приятным запахом женского молока.
— Миша, может, в самом деле следует послать телеграмму отцу? — сказала она. — Пусть приехал бы. Надо же понимать горе матери.
— Да ты что! Лететь в Привольный из Конго? — удивился я, подняв голову от портфеля. — У отца дела, а тут я еще со своей телеграммой.
— Больна же старуха мать.
— Ничего, она поправится.
— А если наш Иван вот так же не приедет к тебе или ко мне?
— Ничего с нами не случится.
— Ты неправ, Миша. Мать-то как страдает, как печалится по сыну. Через это и заболела. Пусть бы приехал, повидался бы с матерью, — она, глядишь, и выздоровела бы.
— Зачем беспокоить отца? Слишком далеко он находится.
— Сам-то летишь в Привольный надолго?
— Всего на три дня, — ответил я и добавил: — Просил на десять дней — не дали. Летом, говорят, поеду на месяц, подменю уходящего в отпуск тамошнего собкора. А сейчас разрешили слетать, как говорится, туда и обратно. Проведаю бабусю и вернусь.
— Да, это верно: для того, чтобы только повидаться с бабушкой, хватит и трех дней. — Марта сказала это с насмешливой улыбкой. — И к тому же задерживать тебя в Привольном теперь некому: Ефимия уехала с мужем.
— Ну зачем ты об этом, Марта? — спросил я строго. — Хочешь подразнить? Или все еще ревнуешь?
— А что такого я сказала? Только и то, что Ефимия тебя там не задержит. Так это же правда. И ревности у меня нет.
— Ну пусть правда. А зачем вспоминать?
— Не задержит тебя никто, и хорошо. Чего вспылил? Что тут такого?
— А если задержит, к примеру, Лариса? — спросил я с той же насмешливой улыбкой. — Тогда что скажешь?
— Ничего не скажу, — наигранно смеясь, ответила Марта. — По ее письму видно: нет, Лариса — это не Ефимия, и она тебя задерживать не станет… Ну чего надулся? Даже пупырышки выступили на щеках? Я же пошутила. Пойми, Миша, ничего я не боюсь, а ревновать вообще не умела и не научилась. И я верю: через три дня мы с Ванюшей
будем встречать тебя, только теперь не в аэропорту, а дома… Когда твой самолет вылетает из Москвы?
— Ты знаешь, рейс тот же. В восемь утра.
— Да, я хорошо помню, как провожала тебя тогда.
Я положил в портфель полотенце, мыло, зубную щетку, электробритву, а Марта — мою зеленую тетрадь.
— Ее не забывай дома, — сказала она ласково. — Пригодится.
Я промолчал. Мысли мои были там, в степном хуторе, и я был рад, что не я, а сама Марта сунула тетрадь в портфель. Я все равно на этот раз без тетради не уехал бы.
10
Снова знакомое мне удивительное чувство радости и юношеского восторга испытал я в тот час, когда пустой грузовик, грохоча и подпрыгивая, уносил меня в открытую, как море, степь. Со мной ехали две женщины и мужчина с мальчуганом-подростком, — шофер взял их не в аэропорту, а на дороге. Они уселись на свернутые толстые брезенты, пододвинув поближе к себе свои чемоданы и узлы, были молчаливы, не смотрели ни на дорогу, ни на поля — наверное, все это они видели сотни раз. Одна женщина, в шляпке кофейного цвета, с рыжими, выбившимися на лоб и на затылок косичками, была помоложе, другая, в стеганке, повязанная шерстяным платком, — постарше. Я заметил: женщина в шляпке кофейного цвета была веселая, молодые ее глаза блестели и смеялись, она часто и, как мне думалось, без видимой причины улыбалась — очевидно, на уме у нее было что-то свое, необыкновенно веселое. Женщина же в стеганке и в платке, напротив, была угрюма, она уставилась в одну точку грустными заплаканными глазами, у рта залегли глубокие морщины — видно, ее тревожило какое-то большое горе, тоже свое, никому не ведомое. Мужчина с колючей седой бородкой часто вынимал из кармана плаща пачку сигарет и всякий раз, зажигая спичку и прикуривая, нагибался и крупными ладонями делал затишек от ветра. Когда курил, то отворачивался так, чтобы дым не попадал в лицо сидевшему рядом с ним подростку.
Положив перед собой портфель, я стоял, слегка наклонившись на кабину, опираясь ладонями о жесткую, потрескавшуюся от дождя и солнца парусину, и смотрел, смотрел на неширокое, вьющееся меж полями шоссе. Во все стороны открывался простор и простор, будто и знакомый, привычный, и будто незнакомый, впервые увиденный. Всюду, куда ни глянь, поля уже покрылись весенним разноцветьем: казалось, художник не пожалел ни времени, ни красок и как следует поработал кистью и сказал людям: смотрите и любуйтесь!
Наш пустой грузовик, разбежавшись, гремел рессорами и кузовом, катился то под уклон, то взлетал на пригорок, а воздух, теплый, нагретый солнцем, с привкусом полыни, срывался с асфальта и упруго бил в мое лицо. От ветра и от радости у меня слезились глаза, настроение было такое приподнятое, такое взволнованное, что мне казалось, будто вот только что со мной случилось что-то хорошее, необычное, что-то важное, чего еще никогда со мной не случалось. Я с горечью подумал: как же это так долго сюда не приезжал? Это необъяснимо и непростительно. Ведь мне непременно и каждый день надобно видеть и эту красочную степь, распаханную и засеянную от горизонта до горизонта, и эту нескончаемо вьющуюся стежку асфальта, и эти степные села и хутора, мимо которых пролетал грузовик. «Моя тетрадь, мои записи», — мелькнуло у меня в голове. И тут я вдруг понял, что именно сейчас, в эту минуту, во мне уже свершилось помимо моего желания что-то такое важное и что-то такое значительное, отчего моя жизнь навсегда сольется с этим привольем и станет неразделима с ним. Теперь я уже твердо знал, что непременно напишу повесть о тех людях, которые мне так дороги, о жизни вот этих стенных, с виду неказистых поселений, и если будет необходимо, то к тому, что я уже видел здесь, что мне уже хорошо было известно, сумею что-то прибавить от себя, что-то додумать, что-то домыслить свое, на выдумку не похожее.
Меня пугала и радовала та странная перемена, которая произошла во мне. Радовала потому, что на все, к чему ни обращал взгляд, я смотрел другими глазами и видел не так, как раньше. С того момента, когда тут, в кузове грузовика, сказал себе, что не написать повесть не могу, напишу ее обязательно, что моя зеленая тетрадь, так долго лежавшая без дела, в эти дни действительно пригодится мне, а еще больше пригодится в будущем, — все вокруг предстало передо мной в каком-то новом, непривычном свете и поворачивалось ко мне какой-то совсем иной, незнакомой мне стороной, как-то совсем не так, как бывало раньше. Взять хотя бы тот же курганище близ шоссе. Мимо такого великана никто не проедет и не пройдет, у всех он на виду, а мне же он был знаком еще с детства. Отчего же теперь он казался мне и выше и величественнее, и будто бы стоял ближе к дороге, а голова у него совсем была белая, как у столетнего деда? Или тот же еще в детстве видимый мною орлан. Теперь он казался чернее и крупнее и как-то не так, как бывало, бил крылом по ковылю, когда лакомился добычей. Эта огромная птица поднялась над курганом; размах ее крыльев показался мне необыкновенно широким, и под лучами солнца цвет их был серебристо-красным. Или вот еще одна знакомая картина: по пахоте двигался обычный, на гусеничном ходу, трактор с обычным прицепом трех сеялок, с красными коробами для зерна. Над коробами на ступеньках стояли женщины-сеяльщицы, белея косынками. Что тут такого невиданного? Что могло удивить? Ничего. Сколько раз, бывало, смотрел я на такие же агрегаты в деле и никогда не удивлялся. Почему же сейчас и трактор, и сеялки с красными коробами на черном фоне, и сеяльщицы в белых косынках показались мне такими величественными, как бы нарисованными на черном полотнище? И почему этот степной работяга, занимаясь своим обычным делом, удивил меня тем, что шел он как-то по-парубоцки быстро, а его гусеницы поднимали серый дымок и, попадая на изгибах под луч солнца, не блестели, как обычно, а вспыхивали, как зеркала? Или эта колонна грузовиков? Она двигалась нам навстречу. Кузова у машин были наращены досками, в них чинно, один в один, стояли хорошо откормленные, одинаковой рыжей масти бычки-трехлетки. Я и раньше встречал на степных дорогах такие вереницы грузовиков, точно так же они проезжали мимо, и я ничему не удивлялся. Теперь же, хорошо зная, куда везли этих молодцов, я смотрел на колонну с каким-то странным удивлением, видел строгие самодовольные лица шоферов, в глазах у них таилась гордость отлично исполненного долга, и меня это радовало. Грузовики катились не быстро и не тихо, на определенном интервале один от другого; над передним грузовиком трепыхалось красное полотнище. Я насчитал двадцать пять машин! И это меня удивило, казалось бы, без всякой на то причины. Тут я вспомнил слова Никифора Петровича: «Без волнения и без удивления писателю жить нельзя! Юный друг, а писать ты все одно будешь. От этой тревожной жизни тебе уже не уйти…» Так вот оно, в чем смысл его слов.
Мимо, мимо уплывали рыжие спины бычков с лоснящейся на солнце шерстью, такие они были широкие, что хоть ложись на них, как на кровать. Я отвел взгляд от грузовиков и, подставив лицо теплому ветерку, смотрел и смотрел на открывшееся впереди зеленое полотнище озимых — они уже так закустились, что надежно укрывали землю. Зеленя эти простирались далеко-далеко и там словно бы сливались с небом. Один их красочный вид вызывал во мне такое восторженное чувство, что слезы — нет, уже не от ветра, а от волнения — выступили мне на глаза. На что бы ни смотрел, о чем бы ни думал, все придавало мне бодрости духа, энергии и как бы говорило: знай и помни, Михаил Чазов, оттого в эту минуту тебе так тепло и так хорошо на душе, что все, что лежит перед тобой, чем ты любуешься, чему радуешься и о чем думаешь, — твое, кровное, родное, от тебя не отделимое. Горе тому юноше, кто ничего этого не имеет, кто не может, вот как ты, приехать сюда, чтобы увидеть и эту вереницу грузовиков с красным флагом впереди и с тесно стоящими в кузовах бычками, и этот знакомый с детства курганище с орланом на белой, заросшей ковылем макушке. Как же душевно, обеднен тот юноша, которому не довелось видеть ни трактор с не блестящими, а пламенеющими траками, ни сеялки с красными коробами и сеяльщицами в белых косынках, ни повсюду распаханные и засеянные поля, уже успевшие укрыться свежей молодой зеленью. Как никогда раньше я понимал: это и есть мое чувство Родины, и все это надобно не только хорошенько рассмотреть, запомнить, а и записать в тетрадь — теперь-то наверняка запись эта пригодится.
Пугало же меня то чувство, что здесь, в кузове грузовика, во мне словно бы проснулось второе зрение, то есть то, чего у меня еще не было, и, может быть, к этому относились слова Никифора Петровича: «…а писать ты все одно будешь». Я боялся этого второго зрения потому, что стал не только видеть то, что видел раньше и что видят все, а и замечать в увиденном какие-то ранее не замечаемые мною детали. К примеру, те же пламенеющие траки гусениц, те же сеялки с красными коробами на черном фоне пахоты, те же серебристо-красные крылья орлана. Или вот еще: на кофейного цвета шляпке веселой женщины я вдруг увидел медную брошь, и она показалась мне такой похожей на лохматого, с желтым оттенком на спинке, майского жука, что я от удивления раскрыл рот, — мне казалось, что этот жук только что прилетел сюда с какого-нибудь куста цветущего боярышника. Или это: печальная старуха, оказывается, вытирала слезы не платочком и не ладонью, а крепко сжатым маленьким темным кулачком, тыкая им в мокрые глаза. Я обратил внимание, что усы у старика отросли замысловатой подковкой и вся она была до желтизны закопчена табачным дымом, а кое-где и сожжена. Когда старик прикуривал новую сигарету, то всякий раз строго, искоса поглядывал на паренька, как бы говоря этим взглядом: ладно, тут, при людях, помолчу, потерплю, а вот приедем домой, там я выскажу тебе все, что нужно… Более того, мне захотелось узнать, кто эти люди? Узнать их имена, фамилии. Куда и зачем они едут? Как они прожили жизнь до того, когда дорожный случай свел нас на этом пустом, подпрыгивающем грузовике? И я подумал: хорошо бы сойти с ними с грузовика в том селе или на хуторе, где они сойдут, побывать у них дома, поговорить бы с ними, расспросить бы, что за радость полыхала на душе у молодой женщины, и что за горе терзало старуху, и кем доводится старику с засмаленными усами парнишка в кепчонке — сыном или внуком, и что старик, косясь на паренька, намеревался ему сказать там, дома?
Размечтавшись, я не заметил, как наш грузовик, сбавляя бег, вкатился в село Алексеевку, примечательное разве только тем, что имело единственную улицу, всю покрытую асфальтом и такую длинную, что и конца ей не было видно. При въезде в село молодая женщина еще больше повеселела, улыбалась, глаза ее светились радостью. Она поправила свою шляпку, лохматый, медного оттенка майский жук чуть было не улетел, она, не беспокоясь о жуке, взглянула в зеркальце, лежавшее у нее в кармане, подпушила пальцами рыжие, спадавшие на лоб завиточки. Мы проехали еще полсела, и когда справа, возле, одного двора, показалась пестрая, по-праздничному разодетая толпа сельчан и издали послышался охрипший голос гармошки, женщина в шляпке встала, оправила смятую внизу юбку, застегнула на все пуговицы короткий, из желтого, блестящего плюша жакет, постучала по кузову и весело, с заметной гордостью в голосе сказала:
— Остановитесь! Это меня встречают!
Впереди толпы стоял жених. Чубатый парень-здоровяк был в новом, тесно сидевшем на нем костюме и с красным бантом на груди. Невеста — тоненькая, как тростинушка, в белом платье, таком длинном, что из-под него выглядывали лишь красные острые носочки туфелек. Кружевная, лежавшая на спине фата была собрана на голове наподобие короны. Как только грузовик, подвернув ко двору, остановился, гармонист заиграл что-то похожее на марш, девушки и парни закружились в танце, какая-то подвыпившая бабенка, наверное свашка, с цветами на голове голосисто затянула песню. Тряхнув красивым чубом, жених подбежал к кузову, сгреб на руки радостно смеявшуюся женщину в шляпке — тут мне показалось, что майский жук все же улетел, — поднес ее к невесте, поставил на ноги, обнял и поцеловал. Ее целовала и невеста, говоря:
— Ой, как же хорошо, что вы приехали! Мы с утра стоим у двора, за столы не садимся, все вас ждем. Грузовики пролетают часто, да все мимо и мимо. Алеша уже стал злиться — она, говорит, не приедет. А я стою на своем: обязательно приедет! Подождем еще. Вот и дождались!
Жених оставил невесту и женщину в шляпке и, взяв из кузова чемодан и корзину, закрытую ситчиком, подал десятирублевку стоявшему возле кабины шоферу.
— Вроде б многовато, — смущенно сказал шофер. — А сдачи нету.
— Дружище! Какая может быть сдача! — крикнул жених. — Это же свадьба! Бери, бери! Да знаешь ли ты, кого привез! Э, нет, не знаешь! Может, пропустишь стакашек, а? В честь меня и моей невесты Люси, а?
— Нельзя… Руль.
— Да плюнь ты на свой руль! Когда свадьба, то и шоферам выпить дозволено. За счастье молодоженов, а? Я сам — твой коллега, тоже кручу баранку, знаю, что и как. Значит, не можешь? Твердо соблюдаешь правила автоинспекции? Ну, дело твое.
Не отвечая жениху, шофер уселся за руль, и мы поехали. Я видел, как свадебный кортеж под звуки уже окончательно охрипшей гармошки с песнями и танцами повалил во двор и как среди красочной толпы в последний раз мелькнула шляпка кофейного цвета.
— Теща приехала к любимому зятю, — задумчиво проговорил старик, ни к кому не обращаясь. — И как раз на свадьбу. А как он взял ее на руки, как целовал? Вот через потому женщина и была всю дорогу веселая.
По селу мы ехали долго. Ровная, прямая улица, похожая на взлетную площадку аэродрома, все еще тянулась и тянулась. С одной и с другой стороны на нас смотрели приземистые хатенки, окна с занавесками как бы улыбались нам, крылечки, как и в Привольном, выходили не во двор, а прямо на асфальт.
Наконец-то Алексеевка кончилась. Перед нами снова распласталась степь. Вскоре мы подъехали к небольшому поселению, на краю которого стоял столб с прибитой на нем дощечкой с надписью: «Хутор Воронцовский». В этом хуторе мы расстались с грустной старухой. Она очнулась, как бы что-то важное вспомнила, сказала шоферу, чтобы остановился возле хатенки-мазанки с глиняной крышей, заросшей молодой травкой. Хатенка стояла особняком, не имела, что называется, ни кола ни двора, по сухому прошлогоднему бурьяну от порога чернела узенькая тропка. Грузовик остановился. Из хаты выбежала девочка лет шести, простоволосая, непричесанная, в коротеньком платьице, и вышел мужчина, держа на руках завернутого в одеяло ребенка. Мы с шофером помогли старухе выбраться из кузова, сняли ее вещички, и она, увидев бежавшую к ней девочку, заголосила:
— Ой, Ма-аа-не-ечка! Ой, воробушка моя ясноглазая!
Она несмело подошла к мужчине, взяла у него ребенка, прижала к груди и, вспомнив, что не заплатила шоферу, с ребенком вернулась и протянула деньги.
— Возьми, сынок.
— Не надо, мамаша, — ответил шофер. — Какие тут еще деньги, — с грустью добавил он. — Ну, мы поехали! Счастливо, мамаша, оставаться.
От хутора Воронцовского снова легла та же, вся в весеннем наряде, равнина, и я, склонившись на кузов, все еще удивлялся и свадьбе, увиденной в селе Алексеевке, и тому, как нерадостно встретили печальную старуху возле одиноко стоявшей хатенки. Я все еще слышал охрипшую гармошку, видел, как жених в тесном новом костюме нес на руках тещу, как стоял у порога мужчина с ребенком на руках и как бежала навстречу своей бабушке босоногая девчушка. Эх, побывать бы и на свадьбе, и в этой сиротливой землянке, поговорить бы с женщиной веселой и женщиной грустной, узнать бы, что там у них произошло.
— В жизни так оно завсегда и бывает, — услышал я рассудительный голос старика. — По соседству с радостью обязательно примащивается горе, черт бы его побрал. Но зато рядышком с горем пребывает и радость. Так и случилось с этими женщинами.
Я уселся рядом со стариком на свернутом, жестко гнущемся брезенте.
— Прожил я на свете немало и не раз примечал, — продолжал старик, заметив, что я заинтересовался его рассказом. — Жизня у людей, как та погода в небе, — ее не предугадаешь. То ясно светит солнце, то навалятся тучи и польет дождь, то жара, то холод. А ты как думаешь, парень? — обратился он ко мне, поглаживая ладонью подковку усов. — Какое горе свило себе гнездо в душе у этой старухи?
— Не знаю, — чистосердечно признался я. — Сам об этом думал.
— И что надумал?
— Может, в семье кто умер, старуха ездила на похороны, а теперь вернулась? Как знать?
— А чего, скажи, мужчина вышел из хаты с младенцем на руках? По всему видно, горе этой старухи в том, что девчушка, каковая бежала ей навстречу, и то дите, что мужчина держал на руках, осиротели, остались без матери. Вот бабушка и прибыла к своему сыну-вдовцу, чтоб вместе вить горькую веревочку.
— А где же их мать?
— Я так думаю: померла она, — ответил старик. — Молодые люди тоже помирают, бывает, и оставила малюток мужу своему и бабушке… — Он обратился ко мне: — Сам-то, парень, далече держишь путь?
— В Привольный. Еду навестить бабушку.
— Случаем, не Прасковью Анисимовну?
— Да. Разве вы ее знаете?
— Чудак человек! Кто же у нас не знает чабанскую матерь? Я с нею, бывало, частенько встречался на разных совещаниях и в районе и в Ставрополье. Так ты, стало быть, ее внук? Молодец, что бабушку не забываешь.
— А вы куда едете? — в свою очередь спросил я.
— Чуток подальше. В Закутное. Слыхал про такое село?
— Это за Беловцами?
— Во-во. Шестая бригада «Пути Ленина».
— Председателем у вас был Тимофей Силыч Овчарников?
— Был, да ушел от нас Тимофей Силыч. А ты откель его знаешь?
— Приходилось бывать в Беловцах. Кто же у вас теперь вместо Тимофея Силыча?
— Пошло дело по наследству. Как это нынче бают: нинастия!
— Дедусь, не нинастия, а династия, — поправил паренек старика. — Сколько раз говорил вам…
— Какое чудаковатое словцо, натощак не выговоришь, — сказал дед, сердито покосившись на паренька. — Да, так вскорости померла и жена Тимофея Силыча, и сестра жены. Опустел дом. Тут и заявился младший сынок, но не за наследством. В Ставрополье был он большим начальником, а к нам его прислали, чтоб продолжил дело отца. Ну, наши люди, конешно, охотно проголосовали, и зараз в Беловцах действует младший Овчарников, Антон Тимофеевич. Такой же шустрый, каким был и батько в молодости, такой же бедовый, в делах молодцеватый, только намного грамотнее своего родителя. Дом отцовский себе не взял, отдал под детский сад. — Старик теперь уже ласково посмотрел на паренька. — Вот и моя жизня поворачивает на ту нинастию.
— Дедусь, почему говоришь неправильно? — спросил паренек. — Нарочно коверкаешь слово.
— Мой внук, стало быть, Леонид, — продолжал старик, не слушая паренька. — Тоже собрался пойтить по дедовскому следу. Только пришлось мне украсть Леонида у его родителей. — Старик усмехнулся в подковку усов. — Не красней, как девица, Леонид. Ить украл же я тебя? Украл…
— Сам я пожелал, — смело ответил Леонид. — Без моего желания мы бы не уехали.
— А уехали-то тайно, по-воровски?
— Почему надо было красть внука? — спросил я.
— Тут история сугубо семейная. — Старик вынул из кармана смятую пачку сигарет. — Кури. Что так? Не потянуло? А мой Леонид уже попыхивает, правда, при деде еще стесняется дымить. — Старик согнулся, ковшиком сложил толстые ладони, зажег спичку, прикурил сигарету, и я услышал запах жженых усов. — Тут суть в том, что я хочу изделать из Леонида настоящего человека, а родители не желают. Я уже второй раз везу Леонида в Закутное. Первый раз привозил в прошлую осень. Он тогда не поступил в девятый класс. Пожил у меня немного. Заявилась, как ястреб, его мамаша, а моя, стало быть, невестка, и увезла сыночка. Зиму он болтался без дела, научился курить, песни распевать. Он же с горем пополам окончил восемь классов, а дальше — пр-р, некуда. А мамаша хочет, чтоб Леонид окончил институт. Что, мой сын, дескать, хуже других? Она, дура, не понимает того, что ученых на свете и так уже расплодилось предостаточно, их девать некуда. А я пристрою Леонида к овцам, к живому делу, на овцекомплексе. Знаешь, что оно такое — овечий комплекс?
— Немного знаю, — ответил я. — Такой, как в Мокрой Буйволе?
— Э нет! Не то, не то — у нас лучше. Настоящая овечья фабрика. И хоть я всю жизнь был чабаном, знаю, как приятно ходить следом за пасущейся отарой, а Леонида хочу изделать не чабаном, а оператором по кормлению овец. Все одно — нинастия.
— Дедусь? Опять? — строго спросил Леонид.
— Оператор — это голова, — снова не слушая внука, продолжал старик. — Отец Леонида, стало быть, мой сын, не против, а его женушка — как зверюка. Ну, теперь мы ей не поддадимся. Как, Леонид?
— Дедусь, ты сильно разговорчивый, — с насмешкой сказал Леонид. — Лишнее говоришь.
— А что — лишнего?
— То, что наперед загадывать нечего. Поживем — увидим. Только еще раз прошу: говори не нинастия, а династия. Династия — это значит из одного и того же рода. Понятно?
— Понятно, да не в том суть, — сказал старик. — Твоя мамаша тоже из простого, сельского рода, дочка чабана из села Кугульта. А как она рассуждает? Дескать, деды и прадеды наши цобкали, крутили быкам хвосты да ходили за отарами, дескать, не жили, а мучились. Так пусть хоть наши детки станут учеными и горожанами. А об том, баба, не подумает: кто же должон обеспечивать горожан всем необходимым? Горожанам нужны и хлебец, и молочко, и мясцо. И еще не понимает баба, что не место красит человека и не то важно, где ты проживаешь, а то важно, как ты живешь. Сколько зараз на селе знатных людей? Счету им нету! Та же Прасковья Анисимовна Чазова — чем прославилась? Чабанством. Ее жизни всякий может позавидовать. Еще для большей наглядности возьмем деда Горобца из Мокрой Буйволы. — Старик повернулся ко мне. — Силантия Егоровича Горобца небось знаешь? Этого деда вся страна знает, ему при жизни памятник соорудили средь хутора. А чем такого почета достиг человек? Исключительно трудом да старанием. Вот я про то и толкую внуку Леониду, пусть соображает, что к чему, ежели его мамаша ничего в текущей жизни не смыслит. — Старик посмотрел вперед. — Вот уже и Привольный. Так что готовься, парень, прыгнешь на ходу, а мы покатим дальше, в свое Закутное.
Часть вторая
1
Привольный — на том же месте. Все так же вытянулся он на живописном приволье, все те же низкорослые хатенки со своими крылечками выстроились в два ряда, все те же рослые тополя сторожами стояли вдоль дворов и все тот же укатанный шинами асфальт черным глянцем пронизывал хутор насквозь. Еще издали, в свежей тополиной листве, показалась водоразборная колонка, знакомая мне землянка с расписным крылечком и с бледной зеленью на покатой крыше. Меня нисколько не удивило, что возле колонки выстроились грузовые и легковые машины, мотоциклы, — они там останавливались частенько. Непонятным же и удивительным показалось мне то, что на крылечке, возле него и во дворе толпился народ и тут же, в сторонке, стояли музыканты с медными трубами. «Что все это означает? — с тревогой подумал я, собираясь соскакивать с грузовика. — Неужели умерла моя бабуся?»
Мы подъехали ближе, и у нас перед глазами, на коньке крыши, запламенел флаг, сверху перехваченный черным бантом, и я увидел печально-молчаливых людей, входивших в хату и выходивших из хаты. Музыканты, словно заметив мой приезд, приложили к губам свои трубы и несколько не в лад, фальшивя и сбиваясь, заиграли «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». У меня дрогнуло сердце, и я уже нисколько не сомневался, что угодил как раз на похороны бабуси.
Шофер привычно подвернул к колонке, как он это делал не первый раз, остановился, и дед с засмаленной подковкой усов, обращаясь ко мне и к своему внуку Леониду, сказал:
— Кажись, и мы дальше не поедем. По всему видно, померла чабановская мамка.
Желая скрыть свое волнение, я не спеша расплатился за проезд, взял портфель и направился к крыльцу. Меня встретила соседка. Марфа с черной повязкой на руке, худощавая, быстрая в движениях — бригадир огородной бригады. По ее черной повязке, по полным тоски и горя глазам, по тому, как она разговаривала с людьми, я понял, что эта Марфа и есть главное лицо на похоронах. Она обняла меня и заголосила без слез, как-то ненатурально громко, говоря:
— Ой, Мишуня! Ой, родненький, не может встретить тебя твоя бабуся! Ой, как же она ласково всегда встречала тебя! Ой, лежит она теперя недвижимая!
И тут же, оставив меня и сразу перестав голосить, она деловым тоном сказала двум молодым бабам:
— Я же сказала, обязательно два котла. Людей-то сколько! Разводите костер, да поживее. Баранину должны вот-вот привезти. Я Митьку на мотоцикле послала, чтоб все было быстро и как следует. — Опять обняла меня и заголосила: — Ой, Мишуня! Горе-то какое! Бабуся твоя уже не выйдет из хаты, не взглянет на тебя…
Молодые бабы, получив от Марфы указание, пошли на огород, где уже начинал курчавиться дымок и темнели два котла. Стоявшие на крылечке бабы с заплаканными лицами, присмиревшие дети, тут же молча курившие мужики, увидев меня и Марфу, расступились, пропуская нас, и вот тут я уже окончательно убедился в верности своего предчувствия: я увидел гроб, обтянутый красной материей и подпоясанный широким черным кушаком. Гроб возвышался посреди комнаты, на столе, а в гробу, заваленное травой и ранними весенними цветами, чуть виднелось лицо моей бабуси. Оно ничуть не изменилось, было как живое, и левый глаз был почему-то закрыт слабее правого, в нем виднелась щелочка — казалось, будто бабуся в эту щелочку хотела посмотреть, что же здесь будет происходить, как с нею станут прощаться, чтобы потом, в последнюю минуту, встать и сказать: «Родные мои, так вы же рано, рано со мной прощаетесь, я еще поживу и своего Толика обязательно дождусь».
Возле землянки гремели те же фальшивые звуки медных труб, и когда они вдруг смолкли и в комнате наступила та странная, тяжелая тишина, какая бывает только на похоронах, я услышал знакомое мне жужжание мухи за оконной занавеской. «Это не муха плачет, это душа моего Ванюши прилетела ко мне и подает свой голос», — вспомнил я слова бабуси.
Ко мне подошла сестренка Таисия, обняла и, плача, сказала тихо, одними мокрыми губами:
— Миша, хорошо, что успел… Сегодня уже похороны. Второй день люди прощаются. Видал, сколько стоит грузовиков? Со всего района едут и едут, и все больше чабаны.
Попрощаться с матерью пришла, к сожалению, не вся ее шестерочка. Не было моего отца, и я пожалел, что не послушался совета Марты и не послал ему телеграмму. У изголовья матери, с правой стороны, сидел с поникшей, заметно побелевшей головой ее старший сын, Анисим Иванович, по левую — сын Антон Иванович, зажав в кулаке усы и закрыв глаза. Рядом с ним — сын Алексей Иванович, мужчина крупноголовый и совершенно лысый: только на затылке сохранились белесые кустики мягких и почему-то влажных волос. Возле Алексея дочь Анна Ивановна не переставала вытирать платочком глаза и по-детски шумно шмыгала носом. Рядом с Антоном — дочь Анастасия Ивановна со строгим худым лицом, с сухими, глубоко ввалившимися глазами; она часто вставала и старательно, так, чтобы все видели, поправляла в гробу цветы, как будто они лежали там как-то не так, как им следовало бы лежать. Шестое место у гроба было свободное, и я понял, что на нем, по местному обряду, должен был сидеть еще один сын покойной — мой отец Анатолий Иванович. Таисия, как бы понимая мои мысли, глазами указала на пустую табуретку и так же тихо, шевеля мокрыми губами, сказала:
— Миша, посиди хоть ты шестым. За отца.
Чувствуя усталость во всем теле и странную тяжесть в ногах, я присел, и слезы острым комком подступили у меня к горлу. Чтобы не разреветься, я стал прислушиваться ко все еще не перестававшему жужжанию мухи и в то же время смотрел на еле-еле заметную щелочку в левом глазу моей бабуси. Мне даже показалось, что старушка увидела меня и чуть заметно подмигнула одному мне, как она, бывало, это делала всегда, желая сказать что-то тайное, особенное. Затем я рассматривал цветы — и те, из которых были сплетены венки, и те, которые лежали вокруг головы: как раз их-то так старательно и поправляла моя тетушка Анастасия. И тут я неожиданно и с радостью увидел молоденькую, еще с бледными узенькими листочками, полынь. Ее тоненькие светлые стебельки лежали по обеим сторонам головы, прижатые к щекам покойницы, и от этих молоденьких веточек исходил хоть и слабый, но все такой же привычный запах, который, сколько я помню, не переводился в этой хате. По полыни были разбросаны, как стеклышки, беленькие подснежники — их тоже поправляла тетушка Анастасия.
Два больших венка с красными широкими лентами и написанными на них какими-то крупными словами были сделаны из молоденьких тополиных веточек и из тонких и гибких вербовых побегов, на которых сережками свисала бледно-розовая кашка. Там и тут выглядывали одуванчики, их ярко-желтые головки были большие, а кончики стебельков белели засохшим молоком. И в венках, и по всему гробу петушился ковыль, торчали, как в степи, его белесые кустики, точно это уже и не гроб, а невысокий стенной бугорок. Из травы выглядывали то неяркие цветочки сурепки, то широкий лист калмыцкого ладана, то белая гроздь степного ландыша. Я невольно подумал: ведь и травы, и цветы, украшавшие гроб чабанской мамки, были степные, как раз те самые, с которыми моя бабуся прожила всю свою жизнь, радуясь им и любя их, и мне казалось, что они, узнав о смерти той, которая знала толк в степных травах и цветах, сами пришли к ней, чтобы попрощаться с нею и украсить собой ее последнее жилище. И только две веточки еще не совсем распустившейся сирени, как-то уж очень красиво обрамлявшие лоб покойницы, были не из степи.
За окном снова нестройно и не в лад загудели трубы. Редко и гулко отбивал свои такты барабан, и я почему-то только сейчас, оторвав взгляд от цветов, увидел над изголовьем бабушки ее знаменитую кофтенку, всю обвешанную орденами и медалями. Кофтенка была приподнята на сбитом из досок кресте, как Иисус Христос на распятии, так что с высоты награды как бы смотрели на ту, которой они принадлежали, и как бы говорили ей: ну вот, Прасковья Анисимовна, и пришла пора нам расстаться, и кто знает, когда и каким людям нам будет суждено поведать о твоей жизни. Подушечки для орденов и медалей, наверное, не успели пошить. Но зато так, поднятая на кресте, эта кофтенка, украшенная наградами, была не только видна всем, а и придавала похоронам особую траурную торжественность.
Ни минуты не сидевшая на месте тетушка Марфа, мелькая то там, то тут со своей черной повязкой на руке, быстро, по-деловому подошла к Анисиму Ивановичу, что-то шепнула ему на ухо, и тот, как бы очнувшись и чего-то испугавшись, проворно встал и одернул полы пиджака. Поднялись и мы. По указанию все той же проворной тетушки Марфы табуретки, на которых мы сидели, были убраны, и к гробу прощаться с Прасковьей Анисимовной начали подходить ее внуки и правнуки. Их было много, они гурьбой запрудили всю хату, к гробу подходили не все сразу. И тут вмешалась тетушка Марфа и установила очередь. Самых маленьких правнуков приходилось приподнимать, чтобы они смогли в последний раз и как следует увидеть свою прародительницу. Дети смотрели на неживую прабабушку спокойно, не выражая на лицах ни горя, ни испуга, ни удивления, очевидно, толком еще не понимая, что же тут происходило. Таисия приподняла и своего Юрика, подержала на руках у изголовья бабушки, потом подошла ко мне и, все так же шепча губами, сказала:
— Погляди, Миша, у моего космонавта глазенки стали мокрыми. Жалостливый паренек, такой он от породы, и все уже понимает.
После внуков и правнуков, по указанию все той же неугомонной распорядительницы, у гроба по-солдатски выстроились пионеры — заполыхали их красные галстуки. Ребята стояли стройно, лица у всех серьезные, глаза опечаленные — эти все уже понимали. Пионеров сменили чабаны, приехавшие на машинах из соседних сел и хуторов. Вместе с чабанами к гробу подходили женщины с детьми и женщины без детей, и тут я вдруг увидел, как к изголовью гроба подошла Ефимия с каким-то высоким мужчиной в легком пальто, державшим шляпу в руках. У меня защемило сердце. Отчего бы? Я не знал. Сперва я не узнал Ефимию, может быть, потому не узнал, что никак не ждал встретить ее на похоронах. Или потому не узнал, что ничего того озорного, что было мне так знакомо, не было у нее ни на лице, ни в глазах. Повязанная косынкой, в голубом тонком плаще, она посмотрела в мою сторону, и наши взгляды на секунду встретились, и этот ее короткий взгляд словно бы говорил: «Миша, как же я рада, что вижу тебя». Через некоторое время она подошла ко мне не одна, а с тем высоким мужчиной, что был в легком пальто. Я по ее лицу видел, что ей хотелось улыбнуться мне так, как она умела улыбаться, но она крепилась. Подавая мне руку, тихонько, чтобы никто не услышал, сказала:
— Ну вот, видишь, и вернулся…
— Да, чтобы попрощаться с бабушкой.
— Михаил, познакомься. Это мой муж.
— Александр, — сказал мужчина в легком пальто.
Я назвал себя.
— Где вы живете? — спросил я, чтобы не молчать.
— На хуторе Кынкыз, — ответила Ефимия, и я опять заметил, что ей хотелось улыбнуться мне, а сделать этого она не могла. — Есть такой хутор. Кынкыз. Нравится тебе название?
— Где же это? В каком районе?
— В степи, — ответила Ефимия, и все же теперь она улыбнулась мне одними глазами. — Далеко отсюда.
В это время неожиданно не только для всевидящей и всеслышащей тетушки Марфы, а и для всех нас на пороге, заслонив собой весь дверной проем, появился с ярлыгой, в бурке и в кудлатой белой папахе Силантий Егорович Горобец. Три его волкодава — Молокан, Полкан и Монах — не обращали на людей никакого внимания и неотступно следовали за своим хозяином. Когда же Силантий Егорович сбросил с плеч бурку, снял с седой, низко остриженной головы папаху и опустился перед гробом на колени, волкодавы тут же, сзади хозяина, уселись на свои куцые хвосты и стали ждать.
Я смотрел на знакомые мне собачьи морды, на их желтые, добрые глаза и почему-то вспомнил, как однажды, будучи еще учеником девятого класса, я отправился к бабушке в отару. Когда я уже подходил к овцам, которые паслись на пригорке, навстречу мне, пластаясь по траве, не бежали, а летели вот такие же мордастые собаки, готовые растерзать нежданного гостя. Перепугавшись до смерти, я упал на траву, приник лицом к земле и замер, не дыша. Волкодавы вихрем подлетели ко мне, ткнулись горячими мокрыми носами в мою спину, в шею, стали обнюхивать меня со всех сторон, тяжело, с храпом и с сопением. К счастью, тут же прибежала перепуганная бабуся с подпаском. Подпасок увел волкодавов, а бабуся со слезами припала ко мне.
— Мишуня, живой! — говорила она, сидя рядом со мной. — Какой же ты молодец, что догадался лечь наземь.
— Вы же сами меня когда-то учили.
— И хорошо, что вспомнил и не растерялся, не стал убегать. Собаки, знай, существа умные, убегающих все одно догонят, а лежачих не трогают.
Все еще думая о неприятной встрече с волкодавами, я посмотрел на Молокана, сидевшего, как всегда, в центре. Желтые его глаза слезились, веки припухли. Мне показалось, что он плакал, а тоскливый его взгляд как бы говорил Полкану и Монаху: «Жалко старушку, ведь она тоже, как и наш хозяин, чабановала и хорошо знала толк в нашем брате». Полкан и Монах согласно кивали головами: соглашались с Молоканом. «Давайте и мы попрощаемся со старушкой, поклонимся ей», — говорил Молокан. Все три волкодава разом нагнули свои крупные головы, поклонились Прасковье Анисимовне. А, Силантий Егорович, блестя на груди двумя золотыми звездочками, орденами и медалями, отвесил три земных поклона и, поднявшись и расправив ладонью усищи, сказал:
— Прощай, Паша! Прощай, Прасковья Анисимовна, чабанская матерь! На душе тяжко и горько, а что поделаешь… Землица нас породила, она, землица, и примет нас к себе. Уходим мы туда постепенно, уходим один за другим. Вот и ты, Паша, покидаешь нас. Ну, вскорости поджидай т а м и Силантия Горобца. Уходить т у д а не страшно. А только тут, на земле, одна думка тревожит: как оно будет с овцами без нас? Как поведут дело те, каковые нас заменят?
Силантий Егорович не стал отвечать на свой же вопрос. Он поднялся, опираясь на ярлыгу, потом осторожно положил ее в гроб, рядом с покойницей, прикрыв травой и цветами.
— Прими, Паша, — сказал он тихо, сдерживая слезы. — Пусть и т а м по этому нашему чабанскому посоху узнают, кто ты есть и из какого произошла роду-племени.
По его небритым, с глубокими морщинами, щекам катились крупные слезы, падая на усы и рассыпаясь. Он не вытирал глаза, а взял свою бурку и, сжимая в кулаке папаху, вышел из хаты. Следом за ним поплелись Молокан, Полкан и Монах. Когда они оказались за порогом, грянули трубы, да так громко, что собаки вздрогнули, испуганно прижав уши, и в окнах зазвенели стекла. В это время Ефимия повернулась ко мне и, как бы боясь, что за грохотом труб не услышу ее, громко сказала:
— Михаил! А я и забыла сказать: поздравь меня и Александра с рождением н а ш е й д о ч е р и. Назвали-то мы ее Прасковьей. Пашей. В честь твоей бабуси.
— Поздравляю, — ответил я, невольно думая о том, что Ефимия, наверное, не случайно сказала мне о рождении дочери и как бы нарочно сделала ударение на словах «нашей дочери», чтобы я все понял. — Имя девочке дали хорошее. А как, оказывается, быстро идет время! — И, не зная, что еще сказать, добавил: — С кем же вы ее оставили?
— У Паши есть бабушка, — с гордостью ответил Александр.
— Как твой Иван? — спросила Ефимия, и по ее смеющимся глазам я снова видел, что думала она совсем не о моем Иване. — Тоже уже большой?
— Бегает. Шустрый мальчуган, — ответили. — Вы что, специально на похороны приехали из своего Кынкыза?
— Нет, мы возвращались из Ставрополя и на похоронах оказались случайно, — ответила Ефимия, а смеющиеся ее глаза говорили: «Миша, если бы ты знал, как я рада, что ты здесь, что могу смотреть на тебя так же, как смотрела тогда». — Вот и попрощались с Прасковьей Анисимовной. На кладбище мы не пойдем. Нам пора домой, в Кынкыз.
— Останьтесь на поминки, — сказал я и снова почему-то подумал о дочурке Ефимии по имени Паша, о словах «нашей дочери». — Варится же столько чабанского шулюма, и шашлык жарится на всех. Оставайтесь.
— Никак не можем, нас ждет н а ш а Паша, — ответила Ефимия, опять сделав ударение на слове «наша». — Мы давно должны быть дома, да вот случайно задержались.
— На чем же вы уедете? Автобус пойдет только вечером.
— Нам автобус не нужен, — ответила Ефимия, поправив над виском знакомый мне ячменный завиток, и поправила так, чтобы я это заметил. — У нас своя машина. Саша сам за рулем.
— Богато живете.
— Это не богатство, а горе горькое, — сказал Александр. — Старенький, побитый «Запорожец». Отец подарил. — На красивом лице Александра показалась робкая улыбка. — Не автомашина, а норовистый конь. Больше стоит, чем бежит.
Тем временем к гробу все подходили и подходили люди, то мужчины с обнаженными головами, с обветренными, суровыми лицами, наверное, овцеводы, то женщины — и ровесницы покойной, и совсем еще молодые. К гробу подошли секретарь райкома партии Караченцев, Андрей Сероштан и еще трое мужчин, по виду тоже какие-то руководители района. Сероштан постоял возле бабушки, затем, увидев меня, подошел, молча пожал мою руку и сказал:
— Покидает нас славная бабуся.
— Никак не думал увидеть ее в гробу.
— Надолго к нам?
— Вот, выходит, только на похороны.
— Приезжай ко мне ночевать, мы с Катей будем рады. Она не могла приехать из-за беременности, да и детишек не на кого оставить, — Сероштан помолчал и добавил: — Ты, думаю, знаешь, что теперь я живу не в Мокрой Буйволе, а в Богомольном. Я же сменил Суходрева.
— Для меня это новость. Давно ли?
— Да уже с полгода.
— А где же Суходрев?
— Заведует райпарткабинетом и читает лекции о проблемах ленинизма. Побывал бы у него.
— Времени у меня в обрез.
— Так приедешь ночевать? — спросил Сероштан. — Я пришлю вечером машину.
— Пришли ее лучше утром, — сказал я. — Переночую я в бабушкиной хатенке, в последний раз. Утром, к завтраку, приеду к тебе.
— Хорошо, — согласился Сероштан. — Жди машину. Приедет знакомый тебе Олег.
Голоса труб стихли так же неожиданно, как и загремели, и проворная тетушка Марфа своими быстрыми деловыми шагами подошла к Караченцеву, о чем-то поговорила с ним, утвердительно кивая и то ломая, то расправляя черные стежечки бровей. Оставив Караченцева, она так же быстро подошла к Анисиму Ивановичу, что-то сказала ему, затем решительно приблизилась ко мне.
— Миша, будем выносить, пора, — сказала она так уверенно, как говорят о чем-то давно решенном. — Прощальные слова скажем на кладбище. Митинг откроет сам Караченцев. От детей выступит Анисим Иванович, от внуков — ты. От чабанов скажет дед Горобец. Ты выступишь четвертым. Как, согласен?
И она, не дожидаясь моего ответа, очевидно, полагая, как же я могу быть не согласен выступать хотя бы и четвертым, убежала, чтобы распорядиться, кому брать распятие с наградами, кому крышку от гроба, а кому гроб, и как брать — с рушниками или без рушников. Тут же она установила порядок выхода из хаты, и все, кто был нужен, встали на свои места. Кофтенку с наградами, высоко подняв, как боевую хоругвь, взяли два парня, и в одном из них я узнал Леонида, который ехал со мной на грузовике. Эти два парня, наклоняя перед дверьми звеневшую наградами кофтенку, первыми направились к выходу. Крышку гроба понесли четыре женщины, среди них были и мои тетушки — Анастасия и Анна. Мои дядья и я легко, как парусную лодчонку, без рушников подняли гроб, и, когда мы уже появились на крылечке, ударил барабан, и трубы, опять не в лад, заиграли «Вы жертвою пали в борьбе роковой…».
Возле крыльца стоял, грузовик с опущенными боковинами кузова, обтянутый красной и черной материей по бокам и по кабине. Гроб не поставили на приготовленный для него грузовик, а понесли на руках. Мы не прошли и пятидесяти шагов, как нас уже сменили четыре дюжих чабана, еще выше подняли гроб на своих сильных руках. Через некоторое время их сменили еще четверо мужчин, среди них был и тот старик с подпаленными, подковкой, усами, с которым я ехал на грузовике.
На протяжении всего пути от землянки до кладбища, сменяя друг друга, мужчины бережно несли свою чабанскую мамку, и каждая четверка как бы желала поднять Прасковью Анисимовну еще выше, чтобы показать ее и солнцу, и небу, и
тем тополям, что стояли зеленым строем, и тем грузовикам, что выстроились по хутору, пропуская похоронную процессию, и тем хуторянам, кто, услышав жалобные звуки труб и редкий, тревожный стук барабана, выбежал из своих хат. Изголовье гроба иногда приподнималось так, что я на какую-то секунду хорошо видел освещенное полуденным солнцем лицо бабуси, спокойное, как живое. Левый ее глаз, который в землянке поглядывал на меня как в щелку, будто желая что-то сказать, теперь был закрыт. Я знал жизнь этой женщины. И в эту горестную минуту, видя ее поднятой на сильных чабанских руках, а впереди — качающуюся, как знамя, увешанную орденами и медалями ее кофтенку, — мне, признаться, в моей прародительнице виделось что-то библейское, не земное, что-то похожее на образ Родины-матери, что поднялась над Сталинградом с мечом в руке, и на печальную Мать, что стоит на Пискаревском кладбище, держа на своих ласковых руках венок вечной славы своих героических сынов.
2
Поминки были устроены прямо во дворе, на длинных столах, поставленных в три ряда, — заходи любой, кто пожелает. Народу собралось много: тут были и хуторяне и приезжие, так что места всем за столами не хватало, бабусю поминали поочередно. Тарелки, ложки, вилки снесли со всего Привольного. Хлеб, нарезанный ломтями и положенный в сита, разносили по столам. Две молодые, с хозяйской хваткой, поварихи, повязанные фартуками, черпаками брали из котлов кипящий наваристый чабанский шулюм, наливали в глубокие тарелки, туда же клали добрый кусок разваренной баранины, и молодые бабы, с ними и Таисия, только поспевали разносить эти тарелки. Мужики разлили в стаканы заранее приготовленную, стоявшую тут же, под рукой, в пяти ящиках, водку — никак нельзя было обойтись без этого зелья! Тостов не произносили, не чокались — на поминках не полагалось. Вскоре за столами послышались веселые подвыпившие голоса. Рослый мужчина, встав, кричал со стаканом в руках:
— Дорогая, незабвенная Прасковья Анисимовна! Мамка наша чабанская! Земля тебе пухом!
После шулюма подавали шашлык, шампуры с зарумяненным мясом брали прямо с полымя! По всему хутору расплывался тот исключительный степной запах, который бывает близ отары в вечерний час, когда чабаны жарят на костре шашлык, — запах подпаленной баранины, смешанный с запахом травы и кизячьего дыма.
Тетушка Марфа и теперь не сидела без дела. Ее строгий придирчивый глаз видел все, что где делалось и как делилось. По ее указанию насытившиеся поминальщики отваливались от столов, и на их место, сразу же, не мешкая, чинно усаживались другие, молча, тоже без тостов, выпивали водку и не спеша принимались за шулюм, а потом и за шашлыки. Вторая очередь уступала место третьей — хорошо, что шулюма и шашлыка хватало на всех, и поминальная трапеза во дворе чабанской мамки продолжалась до сумерек. Раньше других захмелевший Силантий Егорович Горобец, подперев щеку кулаком, охрипшим басом затянул какую-то степную, до слез грустную чабанскую песню, ему подтянули бабы своими чистыми и сочными голосами, и я разобрал лишь начальные слова: «Поле — скатерть ровная, исхоженная, истоптанная…» Понимая, что даже эта тоскливая песенка была здесь неуместна, тетушка Марфа поспешила вывести из-за стола хмельного запевалу, и старик, пошатываясь и раскорячивая кривые в коленях ноги, поплелся к своим волкодавам, которые давно уже поджидали своего благодетеля. Они были сыты; им достались бараньи кости и требуха.
— Ну что, орлы мои! — крикнул он волкодавам. — Тронемся-ка до дому, до хаты?
Молокан, Полкан и Монах обрадовались, завиляли обрубками хвостов, сладко заулыбались. Монах не стерпел и своими умными глазами все же сказал: «Мы-то дойдем до хаты, а как ты? Нализался с горя, стыдно на тебя смотреть…»
— А вот двигаться нам будет и трудновато, и далековато, — сказал старик, как бы понимая, что ему сказал Монах. — Ноги мои что-то плохо меня слушаются.
— Силантий Егорович, — сказал Сероштан, беря под руку деда Горобца, — поезжай на моей машине. Олег отвезет, я ему поручил. Уже смеркается, а до Мокрой Буйволы далековато. Так что поезжай.
— Спасибо, Андрюха! Цэ ты гарно придумал! — Старик обнял Сероштана. — Голова! Не зря же тебя изделали директором! Я-то поеду. А как же мои орлы? Побегут следом?
— Сажай и их в машину.
— А что? И посажу. Со мной они хоть в огонь, обучены смелости еще там, в отаре. — И старик вдруг заплакал, говоря сквозь слезы: — А Паши-то уже нету, а? Помянули ее душу, и все, конец. Нету Паши…
Подкатил газик. Олег помог старику сесть в машину, собаки вскочили туда сами, и Силантий Егорович Горобец уехал.
Следует заметить: тетушка Марфа посадила меня к столу в числе первых как близкого родственника. Я был голоден, потому что с утра ничего не ел. Таисия принесла мне полную тарелку пахучего шулюма с куском мяса, два ломтя хлеба, а какая-то славная на вид девушка положила на тарелку шампур с шашлыком.
— Познакомься, Миша, — сказала Таисия. — Это Лариса, квартирантка бабуси.
— Так вот ты какая, Лариса? — сказал я. — Ты же мне письмо писала.
— Верно, писала, — ответила девушка. — Бабушка попросила.
Лариса была милая, добрая и удивительно стеснительная. Разговаривая, она ни разу не взглянула на меня, и я не увидел ни ее глаз, ни ее лица, а видел только нагнутую голову, полные румяные щеки да пунцовые мочки крохотных, выглядывавших из-под косынки ушей.
Совсем уже стемнело, двор постепенно опустел. Какой-то догадливый шофер подогнал грузовик, включил фары — во дворе стало светло, как днем, и женщины занялись уборкой посуды и столов. Ко мне подошел хмурый Анисим Иванович, от него несло спиртом. Постоял, переступая с ноги на ногу, как бы обдумывая, что же сказать мне.
— Некоторые из которых полагают, что человек вечен, — наконец сказал он, многозначительно приподняв, как всегда, указательный палец. — Ан нет! Наглядный пример — наша маманя. Будто и жила на свете, и будто не жила. — Он снова помолчал, потоптался. — Михаил, ночуешь где?
— Как это — где? — спросил я. — Здесь, у бабушки.
— Не сумно будет одному?
— Отчего же? Я тут, считай, дома.
— Да оно-то, некоторые из которых, конешно… Может, у меня переночуешь?
— Зачем же мне у вас ночевать? Я останусь здесь. Последний раз переночую у бабуси.
— Так ты вот что, Михаил, рано не ложись, — сказал дядя Анисим. — Часа через два, когда все утихомирится, мы, некоторые из которых, придем сюда. Соберемся одни, близкие, стало быть: я, Антон, Алексей и ты. Будешь за своего батька Анатолия. Братья настаивают, чтоб мы сошлись в материнской землянке. Я, некоторые из которых, не возражаю. Оно и лучше, ежели мы соберемся тут, в землянке, будто у матери под крылом.
— Может, соберемся завтра? — спросил я.
— Чего ради откладывать? — ответил Анисим Иванович. — Мы — ее наследники, и свое решение, некоторые из которых, не надо откладывать на завтра.
— А как же тетушки? Придут?
— У нас будет мужская балачка.
— И все же, как я считаю, лучше бы с тетушками, — стоял я на своем. — Дети перед памятью своей матери все равные. Зачем же нам заводить мужской разговор?
— Ладно, скажу, пусть приходят и бабы. Так ты жди нас.
Анисим Иванович ушел. К тому времени женщины убрали посуду, отнесли в сторонку столы — пусть постоят до завтра. Уехал грузовик со своими фарами, и густая темень тяжелым черным пологом укрыла и двор, и землянку. Последней с чувством исполненного долга, заметно уставшая, двор покидала тетушка Марфа.
— Ну вот и проводили Прасковью Анисимовну в дальнюю дорогу, откуда уже домой не возвращаются, — сказала она, подойдя ко мне. — Чудно́ устроено наше пребывание на земле. Мы тут, на земле, чуднее живем, нежели космонавты там, в небесах. Бегаем, суматошимся, то радуемся, то горюем, думаем, что никакого износа нам не будет, а придет час — и наступает всему конец. Ни тебе хлопот, ни забот, ни горя, ни радости. — И тут она, как бы вспомнив о своих обязанностях распорядительницы, спросила: — Миша, это ты что же, один заночуешь в бабушкиной хатыне? Не страшно?
— Почему же один? — я указал на подошедшую Ларису. — А бабушкина квартирантка?
— Ой, что вы, Михаил Анатольевич, я ни за что не останусь, я боюсь, — потупив глаза, сказала Лариса. — Пойду к подруге, она живет через три двора, у Кузьминых. У нее и переночую.
— Ну, как знаете, — сказала тетушка Марфа, — так и поступайте. Думаю, и без моей помощи обойдетесь.
После того как двор покинула и тетушка Марфа, Лариса завернула в простыню одеяло, подушку и собралась уходить.
— Я тебя провожу, — сказал я. — Можно?
— Тут совсем близко…
— Ничего, что близко.
— Ну, если хочешь — пойдем.
— Давай-ка твою ношу.
— А зачем?
— Затем, что мне хочется тебе помочь.
— Я сама. Одеяло очень легкое. Это мама мне пошила, из одного гусиного пуха. Такая же и подушка. Тоже мама специально сделала для меня, когда я получила назначение сюда, в Привольный.
— Пуховое одеяло — это прекрасно, — согласился я. — Но зачем же тебе самой нести? Будет лучше, если понесу я.
— Ну, если ты так хочешь…
— Да, я так хочу.
Я положил на плечо свернутое одеяло с подушкой. Оно и в самом деле было удивительно легкое. Мы молча направились мимо тополей, слышали, как деревья о чем-то шептались своими сочными и крупными листьями. Ночь была темная. Такая непроглядная темень бывает здесь только весной, во время безлунья. Дорогу нам слабо освещали фонари — они неровной строчкой убегали вдоль дворов. По улице одна за другой проносились автомашины, бросая на тополя и на оконца хат длинные и яркие снопы света. Лариса, стуча каблучками по асфальту, шла рядом, и если бы нас кто встретил, то мог бы подумать, что это молодожены со своей постелью ищут себе ночной приют.
— А вот и двор Кузьминых, — сказала Лариса, и мы остановились. — Тебе надо возвращаться в землянку. Как ты там будешь один? Я бы не смогла…
— Ничего. Приду, лягу в свою кровать и усну.
— Ефимия часто говорила о тебе и о твоей комнате, где я поселилась, — сказала Лариса, не глядя на меня. — Даже койку твою показывала.
— А еще что она рассказывала обо мне?
— Так… разное. — Лариса еще ниже склонила голову, глядя себе под ноги, как бы желая при слабом свете фонаря получше рассмотреть свои старенькие туфли. — Михаил Анатольевич, а можно у тебя спросить?
— Отчего же нельзя? Спрашивай.
— Веришь, как-то совестно, а спросить хочется. Ты не бойся, я умею хранить тайну. Ты можешь сказать мне всю правду?
— А я и не боюсь. Так что же тебя интересует?
— Скажи, только правду скажи: была у тебя любовь с Фимой? Или не было? Только правду говори…
Признаться, такого вопроса от Ларисы я никак не ждал и сразу не нашелся, что же ей ответить.
— Лариса, а зачем тебе об этом знать?
— Нельзя, да? Можно и не знать. — Лариса еще внимательнее рассматривала свои туфли. — Только мне казалось, Фима любила тебя тайно.
— Как же это — тайно?
— Ну, чтобы ты ничего не знал. И через то она, чтобы себя не мучить, так поспешно, сразу же после твоего отъезда вышла замуж за этого учителя. Она хотела тебя забыть… Я так думаю.
— Напрасно так думаешь, — сказал я. — Ефимия полюбила своего Александра и вышла за него замуж по любви. Все просто и естественно.
— Э, не-е-е! Что ты? Вовсе не полюбила, — ответила Лариса, и я даже при слабом свете фонаря увидел, как заполыхали ее полные щеки. — Как-то по секрету она сказала: «Лариска, тебе нравится Саша?» А что, отвечаю, парень видный, красивый. «Да, парень он хороший, — говорит она, — я дала слово выйти за него замуж, а не люблю его». Зачем же, спрашиваю, дала слово выйти замуж? «Сама, — говорит, — не знаю. Да мне теперь все одно за кого выходить замуж, только бы поскорее». А в глазах у нее, веришь, слезы… Вот через те слезы ее и залегло во мне сомнение. Да и ты отмолчался, не ответил на мой вопрос: была у тебя любовь с Фимой, когда ты здесь жил? Или не была?
— Милая Лариса, не было любви, не было, вот в чем беда.
— А почему беда?
— Да это я так, к слову.
— Может, тебе только так казалось? А любовь все же была?
— Нет, Лариса, именно мне не казалось и не кажется. Да и какая может быть любовь? Я — человек женатый, семейный.
— В жизни, как поглядишь, чего только не бывает, — говорила Лариса, все так же не поднимая голову. — Мой двоюродный брат, Петр, несусветный бабник, уже женился на третьей. И у каждой по дочке. Такие славные растут девочки.
— Может, это как раз и не любовь?
— А что же?
— Ну, так, баловство.
— Неужели я ошиблась насчет Фимы? — все еще не поднимая голову и трогая носком асфальт, сказала Лариса. — А я почему-то была уверена, что у тебя с Фимой была любовь. Честное слово, так мне казалось. Значит, ошиблась.
— Да, выходит, ошиблась, — согласился я. — Теперь я хочу спросить у тебя, Лариса. Можно?
— Да, да, конечно!
— Ты — местная, ставропольчанка, хорошо знаешь села, хутора. Скажи, где находится хутор Кынкыз, на котором живет Ефимия с мужем?
— Какой Кынкыз? — Лариса усмехнулась и впервые смело посмотрела на меня. — Такого хутора я не знаю.
— Мне же сама Ефимия сказала, что они живут в Кынкызе.
— Это она, наверное, так, пошутила. Они живут в каком-то районе, а в каком — не знаю.
— Возьми свое легкое пуховое одеяло, — сказал я. — Пора спать. Да к тому же ко мне должны скоро прийти дядюшки и тетушки.
Лариса взяла постель, направилась в калитку и, задержавшись на секунду, оттуда сказала:
— Спасибо, что помог. Спокойной ночи, Михаил Анатольевич!
Я тоже пожелал ей спокойной ночи и ушел.
3
Когда я вернулся в землянку, мои дядья и тетки были в сборе и, не дождавшись меня, уже вели шумный разговор, не обратив на мое появление никакого внимания. Я присел на стул у порога, стал слушать и без особого труда понял: дети были обеспокоены не смертью своей матери, а тем имуществом, которое она им оставила, и главное из них — эта трехкомнатная, с сенцами и крылечком, землянка. Понял и то, что запевалой возбужденного, нервного разговора был дядя Анисим, совсем уже хмельной, с багровым лицом — наверное, еще и дома хлебнул водки. Его перебивал Антон, покручивая усы и выкрикивая басом:
— Не тяни, братень, не заворачивай в свою сторону! Ты тут не один!
Дядя Алексей подал свой тихий голосок:
— Побалакаем спокойно. Мы же тут все свои, из одной шестерочки. — Алексей поднялся, рукавом пиджака вытер мокрую, матово блестевшую лысину. — Хоть ты, Анисим и старший средь нас, а нельзя же так… Так нельзя, братуха…
Анна и Анастасия сидели на материной кровати, как бы желая показать братьям, что эта кровать с никелированными спинками, где спала их мать, была им сейчас дороже всего. Анна шмыгала носом, красным и мокрым, не отрывала от глаз скомканный влажный платочек и в разговор не вмешивалась. Пригорюнившись, она прислонила щеку к никелю и, казалось, совсем не слышала голосов своих братьев. Но когда Анисим вынул из кармана поллитровку и хотел было зубами, побыстрее, как это он умел делать, сорвать с нее жестяную шляпку, Анна спрыгнула с кровати, выхватила из рук Анисима бутылку и крикнула:
— Дурак! Черт! Хватит!
— Сама ты, некоторые из которых, порядочная дурочка!
— Ты уже с ума сходишь, Анисим!
— Не твоего бабьего ума дело! Отдай бутылку!
— О матери подумай, зверюка! Припомни, как она растила нас, свою шестерочку, как берегла, а ты после ее смерти в ее хате пьяный базар устроил!
— Отдай бутылку, кому сказано!
— Вот, получай!
Анна показала Анисиму дулю.
Анастасия молчала. Она не видела Анну и не слышала, что та говорила Анисиму. Ее занимали какие-то свои, и очень важные, мысли.
— Брось, Анисим, — сказал Антон, покручивая ус. — Больше пить не будем, а то, чего доброго, подеремся. Говори толком свое окончательное решение.
Взволнованная, бледная Анна села на свое место, бутылку, спрятала под одеяло, начала шмыгать носом и прижимать к глазам платок.
— Мое решение, некоторые из которых, простое и всем нам сильно выгодное, — говорил Анисим, прохаживаясь по комнате тяжелыми шагами. — Слушайте меня внимательно и смекайте. Землянку надо продать незамедлительно, а все вырученные деньги разделить поровну, на шесть долей. Могу вас заверить: у меня уже есть надежный покупатель, человек с деньгами, цену даст хорошую. Обещаю вам сговориться с ним так, что каждому из нас достанется по кругленькой тысчонке. А это немало.
— Погоди, братуха. Хоть ты старший среди нас, а нельзя же так, — тем же своим робким голоском сказал Алексей, встал и старательно смахнул с лысины испарину. — Нельзя же так… Как же так можно? Нельзя же, Анисим, так сразу…
— Алексей, ты — умный мужчина, а дурак, — невесело усмехаясь, сказал Анисим. — Чего затвердил, как попугай. Что «нельзя так»? Что? — Анисим побагровел. — Говори, а не мычи! И не жекай!
— Нельзя так сразу, — за Алексея ответила Анастасия, не глядя на Анисима. — Ты что, очумел уже и ничего не смыслишь? Ить только что схоронили маманю, а ты уже хату продаешь.
— А чего ждать? — спросил Анисим. — Тебе что, али деньги не нужны? А тебе; Алексей, тоже деньги не нужны? Сильно много зарабатываешь на своем грузовике, да?
— Бог с ними, с деньгами, одно только зло от них. — Алексей снова вытер рукавом лысину. — Я не об них, не об деньгах.
— Черт тебя поймет, некоторые из которых, о чем ты печешься. — Анисим сердился, ему казалось, что братья и сестры не хотели понять то, что он им так просто и ясно сказал. — Я уже говорил, могу повторить еще, что у меня имеется надежный покупатель. Землянка ему нравится, он ее уже осматривал. Он давно собирался поселиться в Привольном, по душе ему наш хутор. Так и давайте решать дело побыстрее.
— Покупатель — это что, — сказал Антон, не глядя на брата. — А как же мы останемся без своей землянки? Мы же в ней выросли. Как-то получится непривычно…
— А у тебя, Антон, что, своего жилища нету? — Анисим усмехнулся. — Да вы что, некоторые из которых, смех надо мною устраиваете? Или дурачками прикидываетесь? Что значит: своя хата? Своя хата та, в каковой ты живешь. Так, а? Неужели это вам непонятно? Неужели требуется разъяснение и пояснение? Мы все, слава богу, имеем свои домашности. Так?
— Оно-то так, да и не совсем так, — не соглашался Антон. — Землянка мамина — это же наше, так сказать, гнездо. И как же можно его продавать или разорять? Да и не все мы тут, шестеро. Анатолия нету. Как же решать такое дело без Анатолия?
— Вот братухе Анатолию, скажу честно, эта материна землянуха нужна так, как собаке прошлогодний снег, — горячился Анисим. — Он давно отошел от земли, живет-поживает припеваючи там, в своей Конге, и пусть себе живет. А мы тут, на хуторе. И мы не можем, не имеем права оставить землянку пустую, без надзора. Она же через год развалится без хозяйского присмотра.
— Антон прав, без брата Анатолия дело решать нельзя, — сказала Анна, не отрывая платочек от глаз. — Надо вызвать Анатолия.
— Зачем его вызывать из такой дали? — Анисим наконец заметил меня. — Средь нас его сын Михаил. Вполне и по закону может заменить ба́тька. Как, Михаил, сможешь заменить ба́тька?
Я промолчал. Мне было больно и обидно. В этот вечер я не узнавал своего дядю Анисима Ивановича, мне казалось, что в бабушкину землянку ввалился какой-то пьяный грубый мужик, которого раньше я и в глаза не видал. Этот незнакомый мне мужик не стал ждать моего ответа, он уже забыл обо мне и, остановившись посреди хаты, спросил:
— Вы что же это, некоторые из которых, мои братушки и сестренки, или живете в таком достатке, что и в гро́шах уже не нуждаетесь? Или вы на них, на гро́ши, плюете, да? Вот, к примеру, тебе, Антон Иванович, — только отвечай, не кривя душой: тысчонка пригодилась бы в жизни? Как, пригодилась бы? А? Чего ж бычишься и молчишь?
— Само собой, — ответил Антон, не оставляя в покое свой ус. — От положенной мне доли не откажусь.
— И правильно, братень! Надо быть круглым дураком, чтоб от своего отказаться, — повеселев, продолжал Анисим. — Мнение Антона все слыхали?
— Погодь, Анисим, как же…
— Свое «как же» прибереги при себе, Антон, — продолжал тем же повеселевшим голосом Анисим. — Ну а ты, наш тихий да смирный Алеша? Ты что, богач какой? Живешь себе припеваючи, крутишь баранку, трешь свою лысину и ни в каких грошах не нуждаешься? Правильно я понимаю? Не нуждаешься?
— И чего прицепился с деньгами, — тихо и боязно ответил Алексей, и лысина его помокрела еще больше. — Нельзя же так сразу… Успелось бы… А то так сразу…
— Заладил свое, как сорока, — невесело смеясь, сказал Анисим. — Ты отвечай на мой вопрос: деньжата тебе нужны или не нужны?
— Маманина землянка, Анисим, лично для меня дороже всяких гро́шей, — ответил Алексей.
— Вот это ты молодец, Алеша, — поддержала брата Анастасия. — Именно дороже всяких денег.
Анисим, не отвечая Алексею и Анастасии, прошелся по комнате, остановился перед Анной, сказал:
— Анюта! Да перестань шмыгать, нос уже распух. Скажи тут, всем скажи: ты-то со своим муженьком-шофером богато живешь? Небось уже не знаете, куда тратить гро́ши? Тебе твоя доля что, не пунша? Или нужна? Не шмыгай, а отвечай членораздельно.
— Зачем ты меня сюда привел? Зачем? — И Анна залилась слезами. — Я тебе так отвечу: ежели и станем делить то, что оставила нам маманя, то разделим не поровну.
— Удивительно! — воскликнул Анисим. — А как же прикажешь делить? Говори, говори, как?
— По справедливости, — с трудом удерживая плач, ответила Анна. — Кто из нас живет победнее, тому выделить долю побольше, тому, кто побогаче, тому поменьше. Среди нас ты всех богаче, вот тебе и дать поменьше. А сестренка Настенька, все мы знаем, живет беднее нас всех, ей дать побольше. И я согласна с Алексеем: не надо пороть горячку.
— Знать, говоришь, не поровну? Одному больше, другому меньше? — переспросил Анисим. — Так, сестра, дело не пойдет. Перед покойной матерью все мы, ее дети, были равные. Да, я сознаю, у сестры Анастасии, верно, житуха горемычная. Одна без мужа детишек растила и сейчас еще мается. Но скажи, Настенька, ты согласна с тем, о чем сказала Анна? Или не согласна?
— Не о том хочу сказать, Анисим Иванович. — Анастасия подальше под одеяло засунула бутылку, встала с кровати, выпрямилась, худая, с бледным болезненным лицом. — Я хочу всем вам сказать о том, что мой внучок, космонавт Юрик, вы его знаете, тоже был на кладбище. И там, на митинге, спросил у меня: бабуся Паша померла, а ее хата тоже помрет? Вдумайтесь в эти детские слова! Ить малец же еще, а какое разумное имеет соображение. Что тревожит его детскую душонку? Умрет ли бабушкина хата. А ты, здоровило, не успел отнести маманю на кладбище, а уже хочешь, чтоб следом за матерью и хатына ее померла для всех для нас. Этого желаешь, да? Грошами убить землянку? Тысчонка маячит перед твоими пьяными бельмами? Удивляюсь, как это твой зять Андрей Аверьянович еще не прогнал тебя с поста управляющего в Привольном? Соломенные твои кошары разорил, а тебя еще оставил. А какой ты начальник? Тебе быть бы барышником! Жадюга! Идол!
— Ну, ну, потише! — крикнул Анисим. — И ты вот что, сестра, своим космонавтом, какового, между прочим, твоя дочка принесла в подоле, не выхваляйся и меня не пугай и не оскорбляй. Я не из пужливых и оскорблений не потерплю! Понятно! Ишь, какая отыскалась праведница! Ты отвечай на вопрос: тебе гро́ши нужны? И согласна ли ты с Анной или не согласна?
— Чего пристал: гро́ши да гро́ши? Лучше бы подумал, как маманину землянуху сберечь и все, что в ней имеется. — Анастасия подошла к стоявшему в углу, под иконой, распятию, на нем все так же висела вся в наградах и теперь уже никому не нужная кофтенка. — Вот она, наша маманя. И это все ты задумал изничтожить, разбойник?!
— Наперед не забегай, — сказал Анисим. — Зараз речь идет о хате. Дойдем и до наград.
— Тут вся маманина жизня отмечена, — не слушая Анисима, говорила Анастасия. — И мы, ее дети, обязаны сохранить и хатыну, и эти почести, и все ее имущество для таких, как Юрик, и для тех, кто еще опосля народится. Чтоб знали, какие люди до них жили на земле.
— Награды, некоторые из которых, мы тоже разделим поровну, — не глядя ни на кофтенку, ни на Анастасию, сказал Анисим. — Сохраним ордена и медали каждый у себя, как память. А звездочку, как она, некоторые из которых, есть чистейшее золото, делить не станем, а бросим жребий. Кому на счастье достанется, тот и пользуйся золотишком. Нарежем шесть бумажек, на одной поставим крестик — счастливая. Свернем в трубочку, бросим в шапку — бери любую бумажку. Попадется с крестиком — твое счастье.
— Нет, нет! Не будет этого жребия! — кричащим, испуганным голосом завизжала Анастасия. — Никогда не будет! Слышишь, Анисим, никогда не будет! Ишь, как ловко придумал! Бумажечки в шапку, на одной крестик. Бери любую — на счастье. Не будет этого, не жди и не думай, жадюга! — Она устало подошла к кровати и тяжело опустилась возле Анны и уже тихо, спокойно добавила: — Ить и землянуха эта особенная, и золотая звездочка необыкновенная. Нам надо не продать мамашино жилище, не бросать жребий на маманину славу, а сберечь все это, и не для себя, а для всех людей. Хоть это тебе понятно, Анисим?!
— Понимать тут нечего, — строго сказал Анисим. — Что предлагаешь реально? Как думаешь сберечь землянку? Говори. Отдать ее квартирантам и получать от них плату? Так я понял? А золотую звездочку повесить под иконой? Так, что ли? Ее, эту звездочку, сопрут в два счета и употребят на золотые зубы. Смешно!
— А ты не смейся, Анисим, — сказал Антон. — Ить Настенька дело говорит.
— Какое дело? — спросил Анисим. — Одна болтовня, а не дело.
— Вот что я предлагаю, — совсем тихо, будто думая вслух, заговорила Анастасия. — Завтра же всем нам надо ехать в район и просить, чтоб в маманиной землянке сорганизовали чабанский музей. — Она о чем-то думала, наверное, ждала, что же ей ответят братья и сестра Анна. Все они молчали. — Не захотели поехать, так я попрошу Таисию. Пусть поедет в райком к самому товарищу Караченцеву. Таисия добьется, она состоит в парткоме.
— О! Придумала! Может, Таисия еще и космонавта своего возьмет с собой? — Анисим невесело смеялся. — Поглядите на нее! Баба с ума спятила! Да ты, некоторые из которых, соображаешь, что мелешь языком? Чабанский музей захотела! Ишь, куда махнула! Кому он нужен, этот чабанский музей? Об этом ты не подумала. Это же курам на смех! А ежели там, в районе или крае, захотят иметь чабанский музей, то сами, без нас, построят для него здание, и не в нашем Привольном, а в Скворцах, а то и в Ставрополе. Верно я говорю, Антон?
— Неверно, — буркнул Антон. — Не могу с тобою согласиться.
— А почему ты такого мнения? — Анисим снова важно вышел на середину комнаты. — Молчишь? И потому молчишь, что сказать тебе нечего. А я вот что вам скажу, мои братовья и сестрицы, и тебе, мой племяш. Вы как хотите, а я завтра привожу покупателя, и будем кончать дело. А она — музей! Может, устроить в землянке какую выставку? Смех!
Тяжелое молчание наполнило хату. Антон нехотя поднялся, постоял, покрутил ус. Рослый, плечистый, с увесистыми кулачищами, он медленно приблизился к Анисиму. Напирая на него грудью, Антон вдруг схватил брата за шиворот и, скрипнув зубами, тряхнул, спросил охрипшим голосом:
— Подлюка ты! Тебе что, али Настенькины слова непонятны? Так я могу по-родственному подсобить их уразуметь.
— А ежели я сам подсоблю тебе? — побагровев, спросил Анисим. — Рукам, некоторые из которых, волю не давай! Слышишь?
— Слышу. Не глухой.
И тут братья обнялись так поспешно, будто давно не виделись, и так оплели свои спины руками, что в плечах и поясницах хрустнули суставы.
— Да бросьте вы! Разойдитесь! — с плачем закричала Анна. — Чего сцепились, как бараны? Сумасшедшие!
Анастасия соскочила с кровати, подбежала к Анисиму и Антону, стала раздвигать их локтями, и братья, устыдившись ее, разошлись. Тогда я подошел к дядьям и, обращаясь к Анисиму Ивановичу, сказал:
— Дядя Анисим, ты интересовался, смогу ли я тут заменить своего отца и быть шестым?
— Было, было, спрашивал. Так что?
— Тогда я промолчал. Обида горло сдавила, не мог слово сказать. А теперь скажу: да, могу заменить своего отца, а твоего младшего брата Анатолия Ивановича и быть шестым. И все, о чем я сейчас скажу, запомни: это не мои слова, а Анатолия Ивановича Чазова. Во-первых, говорит мой отец, ты, Анисим Иванович, оскорбил нашу маманю, насмеялся над ее памятью… Погоди, погоди, помолчи… «некоторые из которых». Во-вторых, говорит отец, вношу предложение: осудить недостойный сына поступок нашего старшего братца Анисима Ивановича и полностью согласиться с разумным предложением нашей сестрицы Анастасии Ивановны. Завтра тетке мы поедем в Скворцы, к товарищу Караченцеву… Помолчи, помолчи, Анисим Иванович. А теперь скажу от себя: вспомни, дядя, что ты только что говорил там, над могилой, на траурном митинге? И что говорили о Прасковье Анисимовне люди? Забыл? А вспомни, как ты утирал слезу, когда Силантий Егорович Горобец первым бросил горсть земли в могилу? Забыл? Как же тебе не стыдно, дядя Анисим?
— Михайло, ты сказал то, что я, Антон и сестры думали, и потому мы тебя поддерживаем, — поднимаясь и в который уже раз вытирая ладонью лысину, тихо сказал Алексей. — А зараз, по всему видно, пора нам расходиться. Хватит, потолковали. В Скворцы поезжайте без меня. Говорун из меня никудышный, а ежели Караченцев спросит, как там Алексей Чазов, то скажите ему, что я всей душой за музей… Ну, прощевайте покедова.
Алексей Иванович ушел. Следом, зло покосившись на меня и не попрощавшись, отправился и Анисим Иванович.
— Ловко ты отчитал его словами Анатолия, — сказал Антон Иванович, когда за Анисимом Ивановичем закрылась дверь: — Справедливо. Ну, пойду и я. Где же мы завтра соберемся?
— Утром поеду к Сероштану, — сказал я. — С ним посоветуюсь, попрошу машину, а тогда и решим, где соберемся.
В хате остались мои тетушки, и Анастасия сказала:
— Миша, мы с Аннушкой тут останемся.
— Может, пойдем ко мне? — предложила Анна. — Переночуем у меня. Мой в рейсе, места в доме всем хватит.
— Ну что придумала, сестра? — спросила Анастасия. — И Миша, и мы заночуем у мамани. Мы с тобой ляжем на маминой кровати. Миша — в своей комнате. — И она обратилась ко мне: — Миша, а твой батько Анатолий молодчина, резанул Анисиму в глаза правду-матку. Думаешь, через почему Анисим поспешает продать материну жилищу? У него же земля под ногами шатается, чует братень, что приходит конец его власти в хуторе. Небось видал разрушенные соломенные кошары? Там такой вырастает комплекс для овец, какого нету дажеть в Мокрой Буйволе. А Анисим, тебе известно, всему этому противник. Андрей Аверьянович давно хотел избавиться от такого начальника, да не знает, куда его деть и какую дать ему работу. Сторожем — не пойдет, посовестится, чабаном — ныне чабаны не нужны, скоро отары перестанут пастись. А тут еще беда: Анисим же доводится Андрею тестем.
— Не печалься, Настенька, они свои, сами разберутся, — сказала Анна и посмотрела на меня заплаканными, добрыми, точно как у бабуси, глазами. — Чего так загрустил, Мишенька? Тебе надо бы поплакать, оно и полегчало бы, от сердца отошло бы. А ить она, наша маманя, а твоя бабуся, никак не собиралась помирать. Я провожала ее в больницу. Была она веселая, все про Толика говорила. Ларисе, своей квартирантке, наказывала смотреть за домом… Померла она в больнице, ночью, во сне, померла легко, как и жила. Нянюшка, какая за нею приглядывала в тот вечер, рассказывала: передай, говорила маманя, моим детям, чтоб спрятали в сундук кофточку с наградами, а то я забыла ее туда положить. Это она оказала перед сном. Уснула и уже не проснулась. Легкая у нее была смерть.
4
Мы еще долго не спали. Мои тетушки вспоминали жизнь своей матери и свое детство, а я слушал. Только когда минуло за полночь, мы вспомнили о сне и разошлись в разные комнаты. Я лежал на знакомой мне койке, на которой спал еще школьником и в свой последний приезд. Из-за тонкой стенки, откуда, бывало, доносились тихие шаги Ефимии и ее грустная песенка без слов, теперь слышались бубнящие голоса моих тетушек — они еще долго о чем-то разговаривали…
Ну вот, думал я, люди разошлись, и все здесь в землянке, осталось таким, каким оно было, и только нет и уже никогда не будет моей бабуси. Над Привольным размахнулась своим широченным черным крылом весенняя ночь, — а моей бабуси нет и не будет. Тот же тягучий гул проносящихся по улице грузовиков, кажется, он поднимался из-под земли и сотрясал землянку, — а бабуси нет и никогда не будет. Те же яркие отблески фар пламенели на стеклах окон, — а бабуси нет и не будет.
О чем бы я ни думал в ту ночь, к чему бы мысленно ни обращался, а сознание того, что в землянке нет и не будет моей бабуси, повторялось, как рефрен, как припев к песне, и я понимал: в смерти этой женщины для меня было что-то необычное, необъяснимое. Я пытался представить себе, что она отлучилась на минутку, пошла по какому-то делу и вот скоро вернется, — и не мог. «…Померла легко, как и жила…», «Легкая у нее была смерть». Я вспоминал эти слова несколько раз и не мог понять: почему всем, кто знал Прасковью Анисимовну, в том числе и ее детям, казалось, что жила она легко? Жизнь-то у нее — и об этом известно каждому — была тяжелая. Но вот жить, верно, бабуся моя умела легко и просто.
Перебирая в памяти сегодняшний день, я почему-то думал не о том, как летел в самолете, как ехал в грузовике, не о людях и торжественных похоронах, не о тех речах, которые были произнесены над могилой. Я думал о том, что когда-то, давным-давно, в этой же самой хатенке, под ее земляной кровлюшкой, родилась обыкновенная, ничем не примечательная девочка, и родители нарекли ее простым именем — Прасковья. Но для своей матери она была ребенком необыкновенным, и мать называла ее не Прасковьей, а Пашенькой, Пашунечкой, Паненькой. И вот прошли, прошумели вешними дождями годочки, и наступил тот день, когда из той же хатенки под той же земляной крышей унесли на кладбище, подняв гроб на сильных вытянутых руках, уже не девочку Пашунечку, а старуху Прасковью Анисимовну, и проводили ее в последний путь с почестями, всем миром, и гремели на всю степь медные трубы, как бы извещая людей, что землю покинула женщина-труженица, и звучали над ее могилой похвальные речи. Кто же ее сделал такой, почетной и известной? Труд, и только он один. Подумаешь и невольно спросишь самого себя: что же здесь такого особенного, необычного или непривычного? Сомкнулся круг, и только. Тут, в землянке, этот круг начался и тут же, в этой же землянке, сошлись оба его конца, и ничего больше. Но круг-то был не пустой, он вмещал в себя жизнь, нелегкую, непростую, где главное место занимало бескорыстие в труде и в поступках. Когда круг начинался, то в этой землянке не играл духовой оркестр, не звучали поздравительные речи, а когда концы этого круга сошлись, то в самом происшедшем факте люди увидели что-то необычное, горестное и торжественное. И потому все, кто пришел сегодня сюда, к землянке, понимали: круг-то был широкий, в нем вместилась делая жизнь, и какая жизнь! Горестно людям было от прощанья с женщиной, которую они знали, любили и которая всегда делала им добро. Торжественно же было оттого, что после Паши, Пашунечки, Прасковьи Анисимовны на земле остался след, и какой приметный! Дочь ее, Анастасия, говорила не только от самой себя о том, что надо ехать в район и просить, чтобы в землянке Прасковьи Анисимовны был организован чабанский музей. Вот и получается: в самом начале круга — детский призывный крик в хуторской землянке, а в самом его конце, в той же хуторской землянке, — чабанский музей. В этом-то, наверное, и было для меня то непонятное, то необъяснимое, что не давало мне ни покоя, ни сна. И если мне, внуку Прасковьи Анисимовны, когда-либо доведется писать повесть о ее жизни — а я частенько мечтаю об этом, — то лучше всего начать это писание не с похорон и не с медных труб, не в лад играющих «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», не с описания выглядывавшего из пестрых полевых цветов доброго, милого лица с чуточку приоткрытым левым глазом, а с того пронзительного детского крика в землянке, который как бы извещал хуторян о появлении в Привольном еще одной жительницы земли.
Время уже подбиралось к рассвету, за стенкой давно утихли тетушки, пора бы и мне уснуть. Но сна не было, и я знал: чтобы уснуть, мне необходимо было не думать о бабусе, о ее похоронах. Я попробовал считать до ста. Досчитал до тысячи, а в голове все то же: бабуси нет и уже никогда не будет. И как же я обрадовался, когда вспомнил о своем намерении побывать в селе Алексеевке и на хуторе Воронцовском. Мне хотелось там, так сказать на местности, поподробнее узнать о ехавших со мной на грузовике женщинах: почему одна из них была так весела и почему другая была так грустна? А зачем мне об этом знать? На этот вопрос я отвечал привычными для меня словами: может, пригодится. На самом же деле причиной моего желания поехать в село и на хутор была привычка как можно больше увидеть и как можно больше услышать. И я стал думать о том, как и когда мне туда поехать. У меня не было ни транспорта, ни свободного времени. И я решил завтра же, как только приеду к Сероштану, попросить у него машину хотя бы на полдня и обязательно побывать у этих женщин. Помню, Суходрев, когда был директором «Привольного», давал мне «Запорожец», и я мог ехать туда, куда хотел. Думаю, и Сероштан не откажет, мы же с ним теперь родичи. С этой обнадеживающей мыслью я и уснул.
— Здорово, Михаил!
Сквозь сон я услышал знакомый басок. Открыл глаза и увидел смеющегося Олега. Он тряс мою руку, говоря:
— Прибыл за тобой! Ну, давай, давай, поднимайся, да побыстрее! Умывайся — ив машину!
«Ах, Олег, ах друг мой любезный! Все такой же, и улыбка на твоем лице, как говорится, днюет и ночует, и тебе всегда весело, а вот бабуси уже нету», — опять о том же подумал я, направляясь к рукомойнику.
— А мои тетушки еще спят? — спросил я. — Может, Анастасию захватим с собой в Богомольное?
— Твоих тетушек я повстречал в хуторе — направлялись к брату Алексею, — ответил Олег. — Мне наказывали передать, чтоб ты не забыл повесить на двери замок. Лежит он где-то в сенцах. А ключ чтоб положил под нижнюю ступеньку крыльца. Там он всегда лежал. Ну так ты мигом! Приказано доставить тебя к завтраку. Вот слова Екатерины Анисимовны: «Олег, вези Мишу прямо к столу! Да только не мешкай!» Так что поторапливайся!
Через несколько минут мы вышли из землянки. Я повесил на дверях старый ржавый замок, ключ оставил в условленном месте и сказал так, будто думал вслух:
— Хата пустая, на дверях висит замок, а бабуси нету.
— А что поделаешь? — озабоченно спросил Олег, садясь за руль «Москвича», — Условие нашего существования. Пожил свое, что тебе положено, и уходи. И бабуся ушла.
Как и тогда, на стареньком «Запорожце», так и теперь, на новеньком «Москвиче», мы помчались напрямик, мимо тех же соломенных кошар, теперь уже разрушенных и похожих на разваленные ветром скирды. В стороне от них, занимая гектаров пятнадцать или двадцать, не меньше, раскинулась стройка овцеводческого комплекса. Из красного кирпича уже поднялись невысокие стены кошар. По укатанной дороге катились грузовики с лесом, с кирпичом, поднимая хвосты пыли. То там, то тут лежали штабеля новенького чистенького шифера, курганы песка, щебня, чернели тюки толя, в бумажных мешках белел цемент. В отдалении стоял кирпичный домик под красной черепицей — это котельная; рядом поднималась кирпичная труба, сложенная только до половины. От котельной тянулись глубокие и узкие, будто прорытые кротами, канавы, в них уже лежали водопроводные трубы со следами недавней сварки.
— Миша, видишь, как зять разоряет своего тестя? — смеясь, сказал Олег. — Подобрался-таки к нему, и не с фронта, а, сказать, с тыла. Кошары развалил, чернеет прелая солома, а рядом, будто из земли, как чудо, поднимаются новейшие сооружения, похлеще тех, какие имеются в Мокрой Буйволе.
— Да, стройка расположилась просторно, — согласился я, думая о том, как же мне побывать в селе Алексеевке и на хуторе Воронцовском. — Размах богатырский, ничего не скажешь.
— Миша, надолго к нам? — спросил Олег, когда новостройка осталась позади и наш «Москвич» запрыгал по выгону. — Хоть с месяц пробудешь?
— Завтра улетаю.
— Вот тебе и новость! — удивился Олег. — Чего ты так торопишься? Я же по тебе соскучился, честное слово! Попросил бы у Сероштана вот этот новенький «москвичок», и мы покатили бы с тобой по району.
— Олег, мы это сделаем как-нибудь в другой раз.
— Сколько же это мы не виделись? — спросил Олег. — Будто и мало прошло времени, а сколько у нас перемен. Ну, первое — это то, что приходит конец «некоторому из которых» — твоему норовистому дяде Анисиму. Хочешь знать всю правду? — вдруг спросил он. — Говори, хочешь, а?
— Что же это за правда?
— Состоит она в том, что Андрей Аверьянович находится в тупике, еще не знает, как же ему быть с Анисимом Ивановичем, — понизив голос, доверительно заговорил Олег. — Да оно и понятно: поглядишь на него с одной стороны — заслуженный чабан, продолжатель дела своих родителей. Династия! А посмотришь на него с другой стороны — это же старорежимный хуторянин, отсталый элемент. Как с ним поступить? Вот над этим вопросом и ломает себе голову Сероштан и дажеть сам Караченцев.
— Ну а как ты считаешь? — спросил я. — Что надо сделать?
— На мое суждение — одно из двух, — тем же доверительным тоном продолжал Олег. — Либо Андрей Аверьянович, как зять, сохранит своего тестя, доверит ему новый комплекс, либо вместе со своими соломенными кошарами, каковые вскорости будут сметены с лица земли, уйдет со своего поста и Анисим Иванович. На новый комплекс поставят нового управляющего.
— Хорошо, а как бы ты поступил, будучи на месте Сероштана?
— На мое усмотрение так: послать бы Анисима Ивановича сторожем на комплекс, — не задумываясь, ответил Олег. — Не годится такой руководитель для теперешнего момента. Устарел. А сторожем — подошел бы.
— Что еще нового в Привольном?
— Ну, наиглавнейшая наша новость та, что теперь в Привольном, и ты об этом знаешь, директор не Суходрев Артем Иванович, а Андрей Аверьянович Сероштан.
— Ну и как он, Сероштан, на этом посту? Справляется?
— Трудный вопрос. — Олег помолчал, пожевал губами. — Можно ответить так: Сероштан, как говорится, птица совсем другого полета, нежели Суходрев.
— Это как же понимать? — спросил я. — Он что, лучше или хуже
Суходрева? Помню, Суходрев тебе нравился, ты был в восторге от него.
— И зараз восторгаюсь, — задумчиво сказал Олег. — Как бываю в районе, так и захожу к нему. Приятно с ним поговорить. Умная голова! Артем Иванович — это человек необыкновенный. Таких у нас до него не было и после него не будет. Не зря же он всего Ленина знает наизусть. Да, им самим и его делами в совхозе можно было восторгаться.
— Ну а что думаешь о Сероштане?
— Скажу честно, разное лезет в голову, и трудно мне разобраться в своих думках. — Олег притормозил «Москвич» и тихонько проехал низину с побитой дорогой. — Беда в том, что Андрей Аверьянович по своей натуре, как бы это выразиться, матерьялист. Суходрев же — душа открытая, как степной простор, и своими делами, своими помыслами весь он был устремлен в будущее. Туда же звал и людей. А Сероштан — типичный матерьялист, — добавил он уверенно.
— Что это значит — материалист? — спросил я. — Поясни.
— Нарочно спрашиваешь, да? — Олег усмехнулся. — Матерьялист — это значит, что Сероштан больше всего тянет наших людей не к идейности, а к материальным благам да к богатству. — Олег снова убавил бег «Москвича», хотя дорога лежала ровная, посмотрел на меня. — Не передашь Сероштану наш разговор?
— Олег, да ты что? Как ты мог подумать?
— Тогда скажу все, что думаю, — смело заговорил Олег, не прибавляя скорости. — Запомни мой первый тезис: Сероштан — это не Суходрев, нет! Как говорится, далеко куцему до зайца! Верно, хозяйственная жилка у него имеется, в овцеводстве толк знает. Ученый! А где идейность? Сероштану быть бы не директором совхоза, а хозяином, эдаким прижимистым фермером. Все у него делается по приказу, а не по сознательности. При Суходреве, ежели вещи называть своими именами, была настоящая демократия. Заходи к директору всяк и запросто, как к самому себе, он тебе — друг-товарищ, ты ему друг-приятель. А Сероштан сразу поставил все дела на строгий лад. Нам, говорит, нужен свой, так сказать, пользительный бюрократизм. Слыхал: пользительный! Снова посадил в прихожей секретаршу, установил дни и часы приема. Попробуй до него добраться без спроса, да еще и в неположенный для тебя час. Дудки! При Суходреве управляющих, как ты знаешь, избирали тайным голосованием — демократия! Тем самым наши люди сами как бы говорили, кого они желают видеть своим начальником, а кого не желают, и сами, по сути дела, участвовали в управлении хозяйством. А Сероштан один, единолично, приказом назначает управляющих. Любишь не любишь, а принимай и подчиняйся. При Суходреве, и это тебе известно, на передовом шестом отделении рабочие совхоза вплотную подошли к коммунизму, отказались от замков на амбарах, от сторожей, и никакого воровства не было. Кассирш в продмаге и в столовой уволили, и не пропадала ни одна копейка. Зажили люди на прочной основе честности и идейной сознательности и этим показывали наглядный пример для других. Дажеть водку не продавали и не употребляли — до чего дошли! Не то что пьяного человека, а так, под легким хмельком, бывало, не встретишь в селе. В продмаг, бывало, привезут полный грузовик ящиков с белоголовками, а завмаг тот грузовик с ящиками отправляет обратно — дескать, водка не требуется. Подумать только — трезво жили! А что сделал Сероштан? Все поломал, все повернул в обратную сторону. Тем, кто приходит в контору, чтоб попасть к директору, секретарша говорит: работать, работать надо, а не шаблаться по кабинетам. А ежели у человека нужда? Ежели у него жалоба? Замки, каковые сколько времени пролежали без дела и уже позаржавели, Сероштан заставил смазать тавотом, снова повесить на амбары и посадить ночных сторожей. В столовой и в продмаге опять появились кассирши. Водка тоже пошла в ход, и, конешно, сызнова появились на улицах пьяные.
— А как Сероштан обходится с людьми? — спросил я.
— Собой он — человек простой, нашенский, хозяйство знает и болеет о нем, — продолжал Олег. — Кто я, к примеру? Шофер. А он со мной разговаривает, как с равным. И через то я не стесняюсь и частенько завожу с ним разговор на политические темы. — Олег посмотрел на дорогу, которая поворачивала к селу. — Но вот тут надо мне обратиться к своему второму тезису: к идейности. Приведу для наглядности примеры. Как-то поздно ночью мы возвращались из Ставрополя. Ехали молча. Я — за рулем, он — рядом. Я думал, что он уже уснул сидя. Нет, не уснул, спрашивает:
— Олег, что-то ты сегодня сильно молчаливый? Отчего, парнище, приуныл? Спать хочется?
— Нет, — отвечаю, — я не из сонливых, спать не хочу. — Тут, набравшись смелости, сказал: — А приуныл я от разных думок, каковые засели в моей голове и не дают мне покою. Есть у меня, Андрей Аверьянович, к вам один важный вопрос: через почему вы все идейные достижения Артема Ивановича Суходрева изничтожили, подрубили под самый корень? А ить этому-то подрубленному корню все одно ежели не сегодня, так завтра придется заново произрастать, ибо без идейности и без высокой сознательности нам не прожить, без нее, без идейности, мы как слепые без поводыря. Тут же для начала припомнил ему секретаршу. Он отвечает вежливо:
— Секретарша нужна для порядка. Нельзя превращать рабочее место директора в проходной двор.
— В этом ответе есть что-то существенное, — заметил я.
— Ничего существенного там нету, — продолжал Олег. — Я ему делаю вопрос про бюрократизм. Он мне снова вежливо:
— Запомни, Олег: без того бюрократизма, какой зовется порядком, мы, к сожалению, пока что обойтись не можем.
— Когда же я сказал ему про замки на амбарах, про тайное голосование, — продолжал Олег, — и про уволенных кассирш, Сероштан усмехнулся и, знаешь, что ответил? «Это, — говорит, — были не достижения Суходрева, человека, безусловно, умного, начитанного, а никому не нужное забегание вперед». И пояснил свою мысль так: «Чабаны, — говорит, — хорошо знают: в каждой отаре имеются такие непоседливые овцы, каковые под своими ногами полезный корм не видят, а бегут, задрав головы, наперед и остаются голодными. У нас, в Привольном, — говорит, — еще-де не созданы матерьяльные условия, мы в сегодняшнем дне живем еще бедновато. Так зачем же нам кидаться в день завтрашний? Я, — говорит, — матерьялист, и для меня важнее всего не то, что на амбарах не висят замки, а то, что припасено в амбарах, и не то, есть или нету кассирши в продмаге и в столовой, а то, какими харчами кормят там людей, а в продмаге — какие продают товары и достаточно ли этих товаров для населения».
— И все же я думаю: Сероштан в чем-то прав, — сказал я. — Мысль-то у него, в общем, верная.
— Вижу, и ты на его стороне? — с обидой спросил Олег. — А то, что водку снова продают, как и продавали? Тоже, скажешь, верная мысль? Ить пьют ее у нас, как воду. Зайди в любой продмаг — на полках одни бутылки с водкой. Бери сколько хочешь. Как же тут не пить?
— И что же Сероштан сказал насчет водки?
— Тут он со мной согласился, — ответил Олег. — Водка, говорит, наше бедствие. Но и тут до конца недоговаривает и гнет свою линию. Дескать, ее же производят наши заводы, а на тех заводах трудятся такие же советские граждане, и планы они свои перевыполняют, и соцсоревнование у них там имеется. И представь себе, говорит, сегодня ящики с водкой не принял продмаг на шестом отделении, завтра — в каком-то селе или на хуторе, послезавтра во всех селах и на всех хуторах начисто отказались от водки. Не покупают, не пьют ее, разлюбезную. А потом, говорит, эта идейность перекинулась на города, и уже повсюду в стране никто не выпил и рюмки водки. Что было бы тогда? Куда девать эту жидкость? Сливать в одно место? Это же получились бы целые озера. А какие убытки государству? И деньги нужны для бюджета. Вот оно что такое — бутылка с белой головкой. Но я верю, говорит Сероштан, придет время, и водочные заводы прекратят свое существование за ненадобностью. И тут же добавил: но это счастье случится не скоро. Может, наши правнуки увидят то трезвое, безводочное житье. А для нас, ныне живущих, для нашего «Привольного» зараз самое заглавное — это материально окрепнуть.
— А как же идейность? — спрашиваю. — Без нее, без идейности, как же обойтись?
Он отвечает вежливо:
— Разбогатеем, встанем крепко на ноги экономически, и идейность сама по себе придет. Известно, — говорит, — бедному человеку трудно быть идейным. На одной идейности, — добавляет, — далеко не ускачешь, нужен материальный стимул.
Олег смотрел на дорогу, о чем-то думал.
— Нет, не согласен я с Сероштаном, — убежденно сказал он, — потому как богатство, это все знают, отрешает человека от идейности и от сознательности. И через то я считаю Сероштана настоящим матерьялистом. В этом состоит его беда, и до Суходрева ему ох как далеко… А вот и Богомольное… Не успели как следует потолковать, а уж приехали. Миша, приказано тебя доставить не в контору, а на квартиру. Сероштан живет в том же доме, где когда-то жил и Суходрев. Ты же бывал у Суходрева? Так что знаешь, где тот домишко.
5
Знакомая, вымощенная белыми плитками дорожка, на крыше — антенна и шест, а на шесте — домик для скворцов. Я вошел в тот же двор, где мне уже довелось бывать, когда в этом доме жил Суходрев. В прихожей меня встретила Катя, и я, признаться, сразу не узнал ее. Это была уже не та быстроногая девчушка со светлой, отливавшей серебром, распущенной по плечам и по спине косой русалки, — такую, помню, увозил ее в Мокрую Буйволу на своих «Жигулях» Андрей Сероштан. Передо мной стояла, улыбаясь, солидная, раздобревшая, беременная молодая женщина в просторном халате и в тапочках. Она подошла ко мне осторожно, будто еще не веря, что это был я, и положила на мои плечи как-то удивительно просто, по-родственному, голые выше локтей руки. Коса русалки стала у нее почему-то темнее и была старательно, туго закручена и крепко зашпилена на затылке.
Может быть, я не узнал свою двоюродную сестренку потому, что вся она была какая-то необъяснимо домашняя. И этот ее широкий халат, перехваченный пояском и застегнутый на одну пуговицу как раз на вздутом животе, и эти ее легкие матерчатые тапочки на ногах, и эти, несколько припухшие, с серыми пятнами, щеки, и эти ее широкие, тоже серые, под цвет кукушкиного крыла, брови, и эта ее спокойная, тихая, осторожная походка — словом, на что ни взгляни, во всем увидишь что-то необъяснимое, что-то очень домашнее. Катя смотрела на меня счастливыми голубыми глазами, и опять же не так, как обычно смотрят другие женщины, а как-то по-домашнему, ласково, и ее кукушкины брови то поднимались, то опускались. И они, эти ее серенькие брови, ее милая домашняя улыбка как бы говорили: мы тоже домашние, и ты не удивляйся, твоя сестренка теперь стала матерью, и ее дело — рожать и рожать детишек, а это делается не так-то просто.
— Ну, здравствуй, Миша! — сказала она, улыбаясь и приглашая меня в ту комнату, где, как мне помнится, у Суходрева поднимались до потолка стеллажи, забитые книгами, а у Сероштана стояли, прикрытые белой кисеей, две детские кровати. — Андрюша сейчас явится. По утрам проводит летучие совещания. Он скоро придет… Миша, я так жалею, так жалею, что не смогла поехать на похороны бабуси. Ну как ее проводили люди?
— С любовью и горем, — сказал я. — Приезжали прощаться со всего района. Караченцев тоже был. На кладбище состоялся митинг. Большие были поминки.
— Как же я, такая гора, могла тронуться в дорогу? — сказала Катя. — Андрюша категорически запретил. Он так боится за меня. — Покрытое серыми пятнами ее лицо покраснело еще больше, и тоже не все, а пятнами. — Я и сама понимаю: надо остерегаться, мне уже скоро рожать. Видишь, что получается: как ты приезжаешь к нам, так я беременна.
— Катя, милая, это же хорошо, в этом и есть сущность нашего бытия, — сказал я весело и несколько торжественно. — Ведь я тоже отец.
— Знаю. Ну как твой Иван?
— Растет, тянется вверх.
— Пока, нету Андрюшки, покажу тебе свои художественные произведения, увидишь, какая я мастерица. — Улыбаясь и еще больше краснея пятнами, Катя осторожно приоткрыла кисею над одной кроваткой. — Вот первое мое произведение. Андрюшка доволен, я тоже. Это дочурка Клавушка. Смотри, какая пышногубая красавица. Вот она проснется, посмотришь, какие у нее глаза. Голубые-голубые, как весеннее небо после дождя.
— Как у мамы?
— Еще голубее.
Катя приоткрыла кисею над другой кроваткой.
— А это — мужчина, Андрюшка-младший. Он и по рождению чуток младше Клавы. Тоже красивый малец, только глазенки у него серые, как у папаши. Спят, недавно позавтракали и уснули. — Она тяжело вздохнула. — Да, когда они спят, то и красивые, и смирные, а когда проснутся — беда! Поднимут такой писк, что у соседей слышно. До чего же горластые!
Я посмотрел сперва на спавшую девочку, потом на спавшего мальчика и, признаться, ничего особенного не увидел. Детские личики как детские личики, чистенькие, чуточку румяные. Однако я, не желая обидеть мать, покривил душой и сказал, что детишки у нее действительно красивые, какие-то особенные, не такие, как у всех.
— И Андрюша так считает, — обрадованная, сказала Катя. — Ну, пойдем, а то разбудим. Чутко спят.
Мы вышли из детской. Катя усадила меня на диван, сама села на мягкую тахту, стоявшую перед зеркалом, так что теперь я видел и ее слегка припухшее лицо с улыбающимися глазами, и затылок с тугим узлом косы. Сгибая широкие кукушкины брови, Катя с улыбкой сказала:
— Миша, если бы ты знал, как трудно быть матерью. Нет, вам, мужчинам, этого никогда не узнать и никогда не понять. Чтобы все это узнать и понять, надо непременно самому родить. А это не мужское дело. В каких страшных муках я их рожала! Веришь, думала, помру. Сперва родилась девочка, ну, говорю сама себе, кончились мои мученья. Ан нет! Через какое-то время появился мальчуган. А я уже лежу без чувств… Ну, а теперь их надо растить, кормить по часам, по часам укладывать спать. Менять пеленки, стирать пеленки. А их двое. У одного ни с того ни с сего появится понос, а у другого, тоже без всякой видимой причины, нету стула, нужна клизма. У одного краснуха, у другого — кашлюк. Так и кручусь-верчусь весь день. А тут еще сама тяжелая, быстро поворачиваться не могу. Спасибо, приходит тетушка Андрюши, она живет недалеко от нас, помогает мне. А скоро опять рожать. — И Катя, улыбаясь своей милой, домашней улыбкой, добавила: — И все же, как мне ни трудно, а я только теперь стала по-настоящему счастлива. И счастье-то мое особенное, никому, кроме матерей, оно неведомо. Да и дел у меня, забот полно. А то, помнишь, там, в Мокрой Буйволе, от скуки не знала, куда себя девать. А теперь у меня хлопот, как говорят, полон рот, только поспевай поворачиваться. Не заскучаешь. И хлопоты необычные, радостные, как праздник.
Она хотела что-то добавить к уже сказанному и вдруг умолкла, прислушалась. По тому, как хлопнула калитка и как печатались шаги на плитах дорожки, по резко отворившейся двери и по еще каким-то одной ей известным приметам Катя наверняка знала, что пришел Андрей. Плавно, по-утиному она поспешила ему навстречу, Андрей на ходу сбросил плащ, картуз и, протягивая мне обе руки, сказал, что рад видеть меня в Богомольном, в своем новом жилье.
— В Мокрой Буйволе опять остались одни старики, — сказал он грустно. — Приходится доживать век без детей и без внуков.
В нем тоже были видны перемены, их я заметил еще там, на похоронах, и теперь, здесь, в его доме, они были заметны еще больше. Как и полагалось директору совхоза, Андрей выглядел солиднее и как-то даже стройнее. Он почему-то носил не костюм, как раньше, а военного покроя брюки и рубашку цвета хаки, наверное, подражая Караченцеву. Затянутый армейским ремнем, Андрей прошелся по комнате, как бы желая показать мне свою почти девичью талию и какую-то особенную солдатскую выправку. Лицо его загорело до смуглости, выцветший на солнце чуб спадал на лоб как-то излишне беспорядочно и мягко, совсем не так, как раньше. Я заметил, что и в самой манере прохаживаться по комнате, и в том, как он четко ступал красивыми, начищенными, мягкими сапогами, которые имели узкие и короткие голенища, виделись энергия и деловитость, так необходимые ему на новой работе.
— Ну что, мамаша, уже показала своих питомцев? — спросил он. — Моя Катюша — женщина старательная, вот скоро еще родит.
— Сам ты старательный, — улыбаясь одному Андрею, радостно сказала Катя. — Показывала Мише наших близнецов, правда, сонных. Подождем, скоро проснутся. Хотя бы успеть без ихнего писка позавтракать.
— Ну так что, мать, приглашай нас к столу, — сказал Андрей, так же мягко и уверенно ступая своими красивыми сапогами. — А то гость, надо полагать, проголодался. Как, Михаил, насчет завтрака? — И, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Да, жалко бабусю. Никак не могу смириться с мыслью, что ее уже нету. Ты, наверное, слышал, что говорил, стоя на коленях перед ее гробом, дед Горобец. «Уходим мы т у д а постепенно, уходим один за другим… Только как же будет с овцами без нас?» Да, старик сказал правду. Покидают нас настоящие овцеводы, уходят от нас. А как мы будем вести хозяйство без них? Как?
На свой вопрос Андрей не ответил. Очевидно, и мой ответ ему был не нужен, и мы пошли на кухню завтракать. Сели за уже накрытый стол, вдвоем, без Кати, выпили по рюмке, молча помянули Прасковью Анисимовну, закусили. Андрей откинулся на спинку стула, старательно поправил складки рубашки под ремнем и спросил:
— Ну что там родственники? Поделили материнское наследство?
Я вкратце рассказал о вчерашнем разговоре в бабушкиной землянке и о предложении Анастасии.
— Выходит, умнее всех оказалась Анастасия Ивановна, — сказал Андрей, не переставая поправлять под поясом складки рубашки. — Молодец! Музей в землянке чабанской мамки — мысль очень важная. Только не надо детям Прасковьи Анисимовны ехать к Караченцеву. Я сам переговорю с ним. Уверен, он поддержит. — Андрей снова наполнил рюмки. — Чабанский музей — это, конечно, прекрасно! Но знаешь, что пришло мне в голову еще вчера?
— А что?
— У въезда в Привольный насыпать курган, зарастить его ковыль-травой, как бы укрыть белой буркой, а на кургане поставить высокую бронзовую фигуру чабанской мамки с ярлыгой в руках, как символическую эмблему нашего степного края. Пусть эта женщина стоит на кургане и смотрит вдаль, пусть встречает и провожает всех, кто, проезжает по Ставрополью. Вот и об этом я поговорю с Караченцевым. Деньги у нас найдутся, это не проблема. Пригласим из Москвы — и в этом ты нам поможешь — знаменитого скульптора, и наша чабанка встанет у всех на виду — она того достойна. Не только у вас, а повсюду те чабаны, которые измерили своими ногами всю нашу степь, свое уже отходили, и теперь их заботу об овцах взяли на себя комплексы. А память о чабанах? Ее-то ничем не заменить, да и не следует заменять. В чабанском музее мы сможем собрать все, что относится к степному житью-бытью овцеводов, и сохраним для потомства.
Завтракая и разговаривая, мы незаметно обратились к текущим делам «Привольного», и Андрей с нескрываемой грустью в голосе поведал мне, как его «сосватали» директором.
— Сватовство было быстрым, — добавил он. — Меня вызвали в райком, Караченцев объяснил, почему Суходрева переводят на работу в райпарткабинет. Караченцев считает, что Артем Иванович — человек умный, думающий, но что хозяйство — не его стихия. Тут, при книгах, где дело касается лекций, бесед, семинаров, Суходрев будет как раз на своем месте. А ты, говорит, потомственный овцевод, становись директором. В краевых инстанциях вопрос о твоей кандидатуре согласован и одобрен. Сегодня в твоем присутствии примем решение бюро… Так в тот же день домой я вернулся уже директором «Привольного». Но, признаюсь тебе, до сих пор еще не знаю: если говорить о Суходреве, то он, это точно, сейчас на своем месте, а вот о себе этого сказать пока не могу.
— Очевидно, из скромности?
— Эх, если бы из скромности! — Андрей встал, как-то по-особенному поправил под поясом сборки рубашки, худой, стройный, загорелый. — Дело-то сложнее. Видишь, каким я стал джигитом. Некогда, брат, ни поесть, ни поспать как следует. Это я сегодня ради тебя завтракаю дома. Спроси мою Катюшу: неделями не заявляюсь домой. Спасибо тетушке Ольге — ночует у нас, когда меня нету, постоянно помогает Кате. Вот при Кате скажу: жалко мне ее, плохой получился из меня муж. Дома-то почти не бываю. И все дела, дела.
— Андрюша, я же дома не одна, — вновь покраснев теми же пятнами на серых щеках, сказала Катя. — Сейчас скучать мне некогда. А вот и еще прибавится семья, забот станет больше. Совсем будет весело.
— А почему мало бываю дома? — Андрей принял из рук жены стакан чаю. — Все эти так называемые новшества Суходрева надо было ломать, а сделать это оказалось не так-то просто. Многие привыкли к суходревской вольнице, разболталась дисциплина, не стало элементарного порядка. Я знаю, кое-кто в душе меня поругивает, называет диктатором. Дескать, и строг, и требователен. Но поверь мне, Михаил, без требовательности никак нельзя. А тут еще беда — Катюшин отец, твой дядя Анисим Иванович… Как с ним быть? Тесть он мне, все ж таки родич…
В детской послышался писк, похожий на мяуканье, и Катя, все бросив, ушла к детям.
— Катюше еще не говорил, а тебе скажу, — понизив голос, продолжал Андрей, — скоро расстанусь я с тестем, и будем мы вечными врагами. Но я не могу держать его дальше на должности управляющего. Ты видел, какое в «Привольном» развернулось строительство? Это уже комплекс новейшей модели, строится по проекту архитектора. К осени все будет готово, от соломенных кошар не останется и следа. Вот тогда вместе со старыми кошарами распрощаюсь и с тестем. Нельзя оставлять его на комплексе, не потянет, — добавил он, как бы желая, чтобы я с ним непременно согласился. — Нет у него сил, ни физических, ни душевных.
— А как на деле показали себя комплексы в других отделениях? — не без умысла спросил я, когда Катя вернулась. — Есть от них реальная выгода?
— Снова уснули малыши, — сказала радостная Катя. — Любят поспать.
— Вопрос, Михаил, непростой ты задал. — Андрей задумался, ладонями сгреб падавший на лоб чуб, откинул его назад. — Есть ли реальная выгода? Есть она или ее нету, а отступать назад нельзя. У нас нет пастбищ. Помнишь, в тот твой приезд дед Горобец проклинал меня? Забыл? А я хорошо помню. И теперь, когда прошло несколько лет, вижу: не зря так тревожился знаменитый чабан.
— Почему не зря?
— Была у него на то причина, — сказал Андрей. — И хотя старик о ней не говорил, а чутьем чабана чуял, что даже третье поколение тех овец, которые родились и выросли на приволье, для стационарного содержания, оказывается, пока что не годится. У них еще не выработались те гены и та наследственность животных форм, которые им нужны. Вот факты: у овец, которые содержатся на комплексах, но прародители которых выросли в степи, шерсть длинная, густая, однако в ней нет необходимой волокнистости, а мясо не имеет привычного запаха и вкуса баранины.
— Почему же? — спросил я.
— Вот мы и бьемся над этим «почему», — ответил Андрей, допивая чай. — Надо полагать, все это происходит по той простой причине, что мы еще не создали ту, специальную породу тонкорунной овцы, генетический инстинкт которой уже не знал бы ни вкуса степных трав, тех самых, о которых с такой любовью говорил тогда дед Горобец, ни степного приволья, а хорошо бы знал новое, стационарное, или, как теперь любят говорить, комплексное, содержание. Такую породу надо создать непременно, и мы ее создадим. Вот тогда и встанет все на свое место. Но для создания новой породы овец требуются годы. И есть у нас и еще одна важная проблема — люди, овцеводы. У недавних чабанов, а теперешних овцеводов-механизаторов недостает той культуры, которая необходима им в работе на комплексе. Раньше как было? Чабан положил ярлыгу на плечо и пошел гулять следом за пасущейся отарой — все так просто. Теперь же надо работать не ногами, а головой. Мы еще не научились кормить животных так, чтобы в их дневном рационе были необходимые белковые и минеральные компоненты, которые в таком изобилии давала овцам простая пастьба.
Я слушал Андрея, для меня все это было и ново и интересно, и все же я все время помнил о машине, на которой мне надо было бы съездить в село Алексеевку и на хутор Воронцовский. Поэтому я сразу же после завтрака, улучив момент, начал хвалить Аэрофлот, который для удобства пассажиров продает билеты в оба конца, и что я, уже имея билет, завтра должен лететь в Москву, где меня ждут дела. И тут же рассказал Андрею, который, как мне показалось, все еще был занят мыслями о новой породе овец, как я встретился в кузове грузовика с двумя женщинами — веселой и грустной, и о своем намерении побывать у них дома.
— Чего ради? — искренне удивился Андрей. — Не понимаю. Они что — твои знакомые?
— Я первый раз их увидел.
— Так зачем же ехать к ним? — Андрей скупо улыбнулся. — Тебе делать нечего? Так?
— Надо, пойми меня.
— И рад бы понять, да не могу.
— Ладно, не понимай, а машину дай, — сказал я. — Хоть на полдня.
— Не подумай, Михаил, что мне жалко дать тебе машину. — Андрей прошелся по комнате, упруго ступая своими начищенными сапогами. — Пожалуйста, можешь укатить даже на моих «Жигулях». Но какая в этом необходимость? Вот что мне непонятно.
— Так нужно.
— Что значит — нужно? Это, извини, не ответ.
— Я поясню. Видишь ли, тогда, в кузове грузовика, я придумал, ну, выдумал, так, для себя, жизнь этих женщин, вроде бы их биографии. Глядя на них, я старался угадать, почему одна из них была такая веселая и почему другая — такая грустная, где и как они жили, откуда и куда едут. Мне хочется проверить, так ли все это на самом деле, как я придумал, или не так?
— Чудачествуешь, Михаил! — Андрей рассмеялся. — Теперь-то начинаю понимать — хочешь написать об этих женщинах.
— Нет, писать о них не буду.
— Зачем же поедешь к ним?
— Я уже сказал: хочу проверить себя, убедиться на фактах, умею ли я выдумывать чужую жизнь.
— Ну хорошо, отправляйся с Олегом на «Москвиче», проверяй себя, узнавай, как там и что, — деловито заговорил Андрей. — А я поеду на газике, меня давно ждут в восьмом отделении. А может, поедем, вместе? Люди в восьмом — удивительные, вот и напишешь о них.
— В другой раз — охотно, — согласился я. — А сейчас поеду к женщинам и оттуда — на аэродром.
— Когда же это будет — в другой раз?
— Летом. Меня обещали послать сюда на месяц. Тогда мы с тобой и побываем во всех отделениях, а не только в восьмом.
— И Суходрева тебе надо было бы навестить. — Андрей подтянул ремень и поправил сборки рубашки, давая этим понять, что ему пора ехать. — Суходрев изменился, не узнать. Как-то спрашивал о тебе.
— Летом побываю и у Суходрева.
— Вы переночуйте с Олегом в селе или на хуторе, у тебя будет время разузнать все как следует, а утром отправитесь на аэродром. — Андрей взял свой плащ, картуз, обнял и поцеловал прильнувшую к нему Катю. — Ну, не скучай, Катюша, береги ребятишек. Завтра буду дома. — И — ко мне: — Михаил, так сдержи слово и летом приезжай непременно.
Я пообещал сдержать слово. На этом мы и распрощались.
6
В СЕЛЕ АЛЕКСЕЕВКА
Все хаты были одинаковы, какими бывают только близнецы, у каждой — крылечко, и потому оказалось не так-то просто отыскать то место, где мы в воскресенье остановились и где жених сгреб в охапку смеющуюся тещу и отнес ее к невесте. На какую хатенку ни посмотри, она, выставляя напоказ свое нарядное крылечко с нарисованным на ступеньках ковриком, как бы говорила: люди добрые, чего еще ищете? Это же — я, это же тут, у меня гуляли свадьбу. И приходилось верить.
Мне казалось, будто я хорошо запомнил: если въезжать в Алексеевку со стороны Ставрополя, то нужная нам хатенка с крылечком находилась справа. И еще помнил: это было не самое крайнее при въезде в село строение, а четвертое или пятое. Поэтому мы, развернувшись за Алексеевкой, поехали по правой стороне улицы, широкой и длинной, как взлетная площадка полевого аэродрома, и остановились, чтобы случайно не проехать, возле четвертой хаты. Рядом с крылечком на низеньком стульчике, опершись спиной о стенку, гнулся древний дед. Когда я подошел к нему, он снял с головы старый картузишко и замигал подслеповатыми слезящимися глазами. Дед был так стар, что голова и борода у него были уже не белые, а с какой-то светлой прозеленью, да к тому же еще он был и совсем глухой, наверное, и потому, что был в преклонном возрасте, и еще более потому, что ушные раковины у него напрочь заросли густой бурой шерстью. На мой вопрос, где, в каком дворе вчера играли свадьбу, дед виновато комкал в руках картузишко, говоря:
— Ась? Шо? Я туточки один…
— Дедусь! Где вчера у вас играли свадьбу?! — Я так кричал, что мой голос был слышен, вероятно, на другом конце села. — Свадьба!! Жених и невеста!
— Дома никого нема, — пожевав пустым ртом, спокойно и тихо ответил дед. — Все наши бабы в поле. Еще с утра уехали на машине.
— Ничего ты от него не добьешься, — сказал Олег, — Поедем к следующему двору.
Мы подкатили к соседнему, пятому по счету, крылечку. Олег посигналил. Вышла краснощекая, пышущая здоровьем молодайка. Лицо ее не только раскраснелось, а я вспотело, мы, надо полагать, оторвали ее от какого-то дела, наверное, от стирки. Юбка у нее была подоткнута по бокам так высоко, что нам, молодым мужчинам, было и приятно и как-то неловко смотреть на ее полные ноги, на красивые, как бы точеные, голени. Рукава ее кофточки были засучены повыше локтей, руки мокрые, она вытирала их о фартук и с удивлением смотрела на нас с Олегом. Когда я спросил о свадьбе, она, улыбаясь и показывая белые, плотно посаженные мелкие зубы, деловито спросила:
— Вчерась у нас какой день был? Воскресенье. Вчерась в Алексеевке справляли шесть свадеб. Вам какая из шести требуется?
— Та, к дому которой подъезжал попутный грузовик, — ответил я. — А на том грузовике приехала теща, женщина еще молодая и собой веселая. Вот как ты…
— И такое придумал! — Она застеснялась, краснея: — Неужели я на тещу похожая? Я же еще совсем молодая. — Пышущая здоровьем женщина с высоко подоткнутой юбкой задумалась. — Знать, требуется теща? А может, та женщина была не теща?
— По всем приметам — теща, — сказал я уверенно.
— Не! Таких у нас не было, — ответила молодайка. — Ни на одну свадьбу вчера теща не приезжала, это я точно знаю. Все они, стало быть тещи, находились тут, в селе, Зачем же им было приезжать, коли они были дома?
Подъехав еще к нескольким хатам, мы, наконец, набрели на нужный нам след. От начала села это было восьмое крылечко. На нем стояла немолодая, но молодящаяся круглолицая баба с полными напудренными щеками и с черными, сажей подведенными бровями. Она с нескрываемым интересом смотрела на нас и, узнав, что нам нужно, строго, как на допросе, спросила:
— Можете припомнить какие-нибудь приметы? Ить свадеб в воскресенье игралось много.
Из примет я назвал именно ту, какая больше всего мне запомнилась: цветы в картузе у жениха и то, как он легко (так берут ребенка) взял на руки приехавшую тещу, снял ее с грузовика и поднес к невесте.
— Говоришь, теща? Прекрасно! — Круглолицая повела накрашенной бровью. — А каков был собою зять? Ну, на вид как? В том смысле, силач или так себе?
— Да, парень силенку имел, — уверенно ответил я. — Крепыш. Как футболист.
— Так это же Алеша Гончаренко! — воскликнула круглолицая, и ее напудренные щеки засияли в улыбку. — Точно говорю, Алеша! На этой свадьбе я была свашкой. Помню, как подкатил грузовик, как Алешка побежал к нему и взял на руки женщину. И цветы в картузе были, были. Только ты напрасно отыскиваешь Алешку на нашем порядке. Погляди на ту сторону улицы. Вон крылечко, то, что стоит от нас наискосок. Поезжай туда. Так, говоришь, похожий на футболиста? Взял на руки, как малое дитё, и понес, здоровило? Это Алешка!
— Именно так и было, — подтвердил я.
— Он, он! Алешка Гончаренко! — Круглолицая снова задумалась, резко сломала цыганские брови, и улыбка на ее напудренных щеках погасла. — Какая собой на вид та женщина?
— Веселая, в шляпке.
— Она! Раиса Никитична! Только та женщина, дорогой товарищ, доводится Алешке Гончаренко не тещей, а матерью родною.
— Как — не теща?
— А так… Не теща, а родительница. Говоришь, бабонька собой была веселая и в шляпке?
— Всю дорогу улыбалась, — ответил я. — Глаза так и сияли от радости. Может, есть какие сомнения, мамаша?
— Какие могут быть сомнения? Это же мать Алексея, Раиса Никитична! Мы с нею подружились, славная женщина… Только мамашей меня не называй, я же еще молодая. — Ее черные брови снова сломались, круглолицая задумалась, лицо ее помрачнело. — Только зараз глаза Раисы Никитичны не блестят от радости, а заливаются слезами от горя.
— Почему же? Я предполагал…
— Чего предполагал? — перебила меня круглолицая. — Предполагать все можно. Как это говорится: человек предполагает, а бог располагает. Да ты что, аль малый ребенок? Разве тебе неизвестно, через почему матеря плачут? Через потому, дорогой товарищ, что невесточка да сыночек довели ее до этих горьких слез.
— Что же у них произошло? — поинтересовался я. — Она же ехала такая радостная, такая веселая. Что случилось?
— Ты, парень, извиняюсь, кем доводишься Раисе Никитичне? — не отвечая, спросила круглолицая, и ее налитые, щедро попудренные щеки еще ярче зацвели в улыбке. — Может, племянничком? Али каким дальним родственничком?
Не зная, как бы попроще и попонятнее объяснить, кто я и почему приехал в Алексеевку, я сказал, что мы встретились с Раисой Никитичной случайно, на том самом грузовике, на котором она приехала на свадьбу, и все.
— Все? — переспросила круглолицая, недоверчиво поведя черной бровью. — Тогда на кой кляп тебе знать, что и как произошло в чужой семье? Дело-то обычное, житейское. Чего приехал дознаваться? В нашем селе всякое бывает. Тому пример — моя соседка Глаша. Надысь выгнала из дому законного муженька. Так турнула за порог, что он, сердешный, еле-еле удержался на ногах.
— За что же она его так? — участливо спросил я.
— За изменщество. — Пунцовея щеками, круглолицая рассмеялась. — Чтоб не бабничал, не шаблался по вдовушкам, как шкодливый кот. Он, признаться, и ко мне тоже подслащивался, кобелюка! Но не на такую напал, я в этих шалостях строгая!
— Ну, а сын и невестка за что же обидели мать? — Я снова вернулся к тому, что меня беспокоило. — Не могли же они так, ни с того ни с сего, довести такую веселую женщину до слез?
— Выходит, смогли. Сумели, ироды!
— Надо полагать, на то была какая-то особая причина?
— Причина известная — жадность, — ответила круглолицая и покачала головой. — Веришь, удивляюсь: и как это при нашей теперешней жизни то зло все еще сохраняется в душе человека? При старом режиме, при царях или капиталистах, — там понятно. Наша же власть как старается изничтожить в людях жадность, чтоб они навсегда освободились от этой заразы! А она существует в крови. У нас же с детства — еще в пионерах и комсомолах — прививают людям доброту да щедрость, а полностью изничтожить ту пакость — жадность — не могут. Живуча, сатанюка! Подумать только, ить и невестка Раисина, Валентина, и сынок ее, Алексей, тоже были и пионеристами и комсомолистами. Так откуда у них жадность взялась? Кто их мог начинить ею и когда? Вот чего я, простая баба, понять никак не могу. Жизня наша зараз как называется? Разветвленный социализм…
— Развитой, — вежливо поправил я.
— Все одно — развитой или разветвленный, а жадность в человеке изжить не можем. А изжить, изничтожить ее надо, потому как она нам не попутчица.
— Чем же они мать обидели?
— Опять — двадцать пять! — воскликнула круглолицая, упершись в бока сильными руками. — Что да как? А сам-то ты кто таков? Из милиции, да? Переодетый следователь? Так? Угадала?
— Совсем не так.
Пришлось рассказать о себе и о цели моего приезда в Алексеевку. И тут круглолицую с ее напудренными щеками словно бы подменили. Узнав, что я из Москвы, она заулыбалась еще ласковее, заговорила необыкновенно любезно и даже назвала свое имя — Маруся. Приглашая меня войти в хату, Маруся как бы между прочим пожаловалась на свое одиночество: ее единственная дочь в прошлом году поступила в учительский институт и домой еще ни разу не приезжала.
— А институт близко, в Пятигорске, — сказала она. — Могла бы приехать на автобусе. Нет, не едет, забыла про свою мать.
— Маруся, а где же ваш муж?
— Где! — она махнула рукой. — Мы разошлись. Конечно, по-хорошему, без скандала, по-культурному. Признаться, осточертели один другому, а через то и разбежались в разные стороны от греха. Да и ревнивый он был до ужастев! В зеркало не смотри, к пудре не прикасайся. А я же женщина, не могу же опуститься. А он чуть что — в ревность кидается, кулаки поднимает. Где он зараз — не знаю, да и знать не желаю. — Она открыла вторую дверь. — Проходи, проходи в горницу. И чего сразу не сказал, что из Москвы? Это же только подумать — из Москвы! Аж не верится. Позавидуешь счастливым людям — в Москве живут. А мне в ней еще не довелось побывать, да, видно, уж и не доведется. В телевизоре вижу ее, когда показывают, смотрю и глазам своим не верю: неужели вправде существует на земле такая красотища!.. Ну, садись к столу, москвич. Как тебя по имени? Миша? Красивое имя… Хочешь, Миша, чайком попотчую с вареньем. Отчего же не надо? Надо! У меня есть газовая плитка, баллоны привозят, все кипит и варится мигом. Повремени секунду, зараз поставлю чайник. А где же твой шофер? Его тоже надо попоить чайком. Зараз позову. Он тоже москвич?
Не дожидаясь ответа, она вышла из хаты, чтобы позвать Олега, и вскоре вернулась, сказав:
— Спит, да так сладко, что жалко стало будить. Пусть поспит.
Маруся ушла на кухню, а я сел возле стола, покрытого льняной негнущейся скатертью. Нетрудно было заметить, что эта горенка содержалась в той бросающейся в глаза чистоте, какую чаще всего можно встретить в хате молодой сельской вдовушки. Та же высокая, напушенная, давно скучающая по хозяину перина на кровати, застланная цветным покрывалом, — ляжешь на нее и утонешь. Те же пуховые подушки в разноцветных наволочках, они как бы специально были приготовлены для тех, кто случайно навестит одинокую женщину, их было столько, что сразу и не сосчитаешь: размеры всякие — от самой огромной — ее не обнять руками — до самой крохотной, которая в своей нарядной, обшитой кружевами наволочке поднималась до свежепобеленного потолка. Те же чистенькие хлопчатобумажные дорожки на полу — они ждали сильных мужских шагов. Те же цветы в горшках, стоящие на подоконниках и на низеньких стульчиках, — им тоже хотелось, чтобы ими полюбовались веселые мужские глаза. И, наконец, те же белые, как девичьи переднички, занавески на окнах.
Вскоре хозяйка принесла чашки с блюдцами, вишневое варенье в низкой вазе, затем сходила за уже вскипевшим чайником. Пока я пил чай, нарочно не торопясь, Маруся, подперев кулаками свои тугие, как резина, со следами пудры, щеки, поведала мне с виду мало чем примечательную историю о том, как и почему новобрачные заставили веселую, в радостном настроении приехавшую на свадьбу мать уже на другой день плакать и жалеть о своем приезде к родному сыну.
Суть этой истории такова. У Раисы Никитичны Гончаренко в Ессентуках был свой дом. Остался от покойного мужа — инвалида Отечественной войны. Раиса вышла замуж в сорок шестом году и была намного моложе своего мужа, вернувшегося с фронта с двумя автоматными пулями в легких. Через год родилась дочка Лидочка, а еще через два — сын Алексей. В этом доме, оставшись после смерти отца еще малютками, дети выросли, потом разъехались и оставили мать одну.
— Алексей окончил курсы шоферов, был в армии, а уже когда отслужил, то прибыл к нам в совхоз «Алексеевский», — рассказывала Маруся, вдавливая кулаками резиновые щеки. — А Лида училась в Ставрополе на воспитателя детского садика. Там же, в Ставрополе, вышла замуж за музыканта, гривастого, как породистый конь. Раиса Никитична показывала мне его фото. Веришь, такой патлач, так оброс и бородой и патлами, что и на человека не похожий. Играл он на барабане, не на концертах, как обычно, а в ресторане. Ну, поселились молодожены в частной комнатушке, с милым, как говорится, хоть в шалаше… — Маруся озорно повела на меня глазами. — Он в оркестре гремит на своем бубне, а она в детском садике возится с ребятней. Но замужество с этим гривастым барабанщиком у Лиды получилось горестное. Прижили они двух девочек — это дело легкое, всяк умеет. Ну, когда появились детишки, не те, что в садике, а свои, музыкант бородатый да гривастый нашел себе другую, какую-то певицу или плясунью, в точности не скажу. Осталась Лида с девочками в чужой комнатушке. И вот тогда мать — а матеря они завсегда матеря — и отвела беду от дочки и от своих внучек. Она продала свою домашность в Ессентуках и деньги отдала Лиде на кооперативную квартиру. Дело свершилось быстро, а тут из Алексеевки от сына и от будущей невесты пришло письмо. Так и так, любезная мамаша, жить без вас не можем… Сын Алексей со своей Валентиной просят мать приехать на свадьбу. Раиса обрадовалась. Как же! Сколько лет сын не писал, голоса не подавал, а тут вспомнил мать, приглашает на свадьбу. Потому-то она, как ты видал, всю дорогу была такая счастливая. Но Раиса Никитична до сегодняшнего утра не знала, что Алексей и Валентина по научению тещи — стало быть хозяйки дома, куда Алексей поступал в примаки, — уже сговорились на те деньги, каковые должны быть получены за продажу дома, купить себе «Жигули». Они уже и на море собирались ехать на тех «Жигулях», мечтами жили…
— Как же они сказали об этом матери? — спросил я, допивая остывший чай. — Это надо было бы как-то по-хорошему, мирно…
— Сами молодые, как я полагаю, и не смогли бы придумать, что и как сказать, — продолжала Маруся, не отрывая кулаков от щек. — Так их этому обучила теща, Анна Павловна, баба — жох, я ее знаю. В этом деле она тянула заглавную струну. Всему обучила, ведьма. Она и сама мне, как-то еще до свадьбы, сказала, что посоветовала Алексею и Валентине пригласить мать на свадьбу и что тут ее можно уломать насчет продажи ее домашности. Дескать, сын берет мать к себе, поселяет ее в надворной кухоньке, пусть там живет. Поучала зятя и дочку: письмо напишите поласковее, от меня сватье поклон передайте. Скажите, не сядем за стол, пока тебя не дождемся… И вот Раиса Никитична обрадовалась и прикатила на попутном грузовике. Об остальном знаешь.
— Как же они с нею говорили о продаже дома?
— Недавно была у меня несчастная
мать и все рассказала, — продолжала Маруся. — Веселье кончилось ночью, а утром сын пригласил мать на беседу. В комнате уже сидели, поджидая ее, молодая жена Алексея и Анна Павловна. Беседовали они открыто, без утайки, по-нашему — без обиняков и экивоков.
Позже, вернувшись в Москву, я по памяти записал эту беседу так, как рассказала мне краснощекая Маруся.
…Разговор начал Алексей, тихо, уважительно, вежливо.
— Мамаша, послушай нашего доброго совета.
— Слушаю, сынок…
— Тот наш дом, каковой находится в Ессентуках, надобно продать. А сама перебирайся к нам на жительство. Так, Анна Павловна? Верно я говорю?
— Верно, верно, Алеша, — ответила Анна Павловна. — И ты, сватья, не стесняйся, живи у сына. И тебе будет хорошо, и Алеше приятно.
— Не стану я тут жить, — решительно заявила Раиса Никитична. — Не хочу!
— Не хочешь — твое дело, насильно жить заставлять не станем, но домашность надо продать, — так же вежливо говорил сын. — Ессентуки — место курортное, минеральные источники, так что покупатель найдется с деньгами. Надо только не продешевить.
— Продавать-то, сынок, нечего.
— Нечего продавать? — Алексей побледнел. — Как это понимать? А дом?!
— Был дом, да уже нету, продала.
— Это еще что за новость? — еще больше бледнея, спросил сын. — Продала без спроса? Без моего согласия?
— Кого мне спрашивать? Продала по закону, как хозяйка.
— Отдай деньги! — крикнул сын. — Ну, выкладывай, да живо!
— Сын — законный наследник имущества, — сказала Анна Павловна. — Закон на его стороне.
— Нету у меня денег, — ответила мать и заплакала. — Были, да уже нету.
— А ежели нету, то где они? — с ухмылочкой спросила Анна Павловна. — Может, пропила, прогуляла? Или на что другое истратила?
— Это уж не твое дело, — ответила Раиса Никитична. — Помолчала бы!
— А мы молчать не умеем, — не переставая усмехаться, сказала Анна Павловна. — И зятя себе взяли не из молчунов.
— Отвечай, мать, где деньги? — не унимался сын. — Куда их дела?
— Дочке квартиру купила.
— Лидке?
— Да, ей и ее детям. И ты не ори на меня, не испужаюсь.
— Не позволю! — Алексей взял мать за плечи, тряхнул. — Отдай деньги, слышишь! Отдай деньги!
— Алеша, не трогай ее руками, — сказала Анна Павловна и поджала губы. — В суд на нее подашь. В суде разберутся… без драки. Ты — наследник, и закон на твоей стороне.
— Ишь какая хитрая! — вмешалась в разговор и Валентина. — Украдкой, без ведома Алеши продала дом и заявилась на свадьбу. Песни тут распевала, веселилась, плясала. А где дом? Где деньги?
— Твое-то тут какое дело? — Раиса Никитична с теской посмотрела на свою невестку, покачала головой.
— А такое ее дело, — смело ответила Анна Павловна, — что она является законной супругой Алексея.
— Деньги чтоб были у меня, — твердо заявил сын. — Они мне нужны! Понимаешь, нужны!
— Ничего не получишь, сынок. — Раиса Никитична снова заплакала. — Пристал в зятья, и живи. Заработок у тебя и у твоей жены хороший. Жилище имеете. Вот и живите. Чего вам еще?..
Точно так считала и круглолицая Маруся. Она отняла кулаки от своих упругих напудренных щек и продолжала:
— А что? Раиса правду сказала. Какого дьявола им, молодым, надобно? Так нет же, насели на несчастную мать: давай деньги, и никаких разговоров. А почему насели на мать? Жадность, гадюка, всему причиной. «Жигули» им мерещились. Хорош оказался сынок, ить никакой жалости к матери… Утром Раиса Никитична, бедняжка, прибежала ко мне, слезами заливается. — Маруся подошла к окну, приподняла занавеску. — А вот и сама Раиса Никитична! Будто услышала, что о ней говорим. И с чемоданом!
Вошедшую в комнату женщину нельзя было узнать. Я даже подумал, что впервые ее вижу. На плотно сжатых губах — мелкие морщинки, на лице залегла печаль, глаза — со следами от еще не просохших слез. Нет, это была совсем не та веселая, с радостными глазами женщина, с которой я вчера ехал в грузовике. Мне показалось, что знакомую мне кофейного цвета шляпку с медной брошью, похожей на майского жука, надела себе на голову женщина совсем другая — старая, с болезненным, никогда не улыбавшимся лицом. Удивительно, как радость или горе меняют человека.
Она сразу узнала меня. Поставила у порога свой чемодан, посмотрела на меня и, очевидно, не понимая, почему это я чаевничаю у ее знакомой, спросила:
— Мы, кажется, вчера вместе ехали на грузовике?
— Да, ехали, — подтвердил я. — Только вы там, в грузовике, были веселая.
— Верно, была, — грустно ответила Раиса Никитична и спросила: — А вы не в Ставрополь ли едете? Я заглянула в машину — шофер спит. Может, подвезете меня до Ставрополя? — И заплакала, — Сил моих нету тут оставаться… Измучилась.
— Завтра можем подвезти, — сказал я. — Нам еще надо побывать в соседнем хуторе. Мы там заночуем, а утром, если желаете, заедем за вами.
— Мне уехать бы отсюда хоть зараз. — Раиса Никитична склонилась на горку подушек и, не переставая плакать, говорила сквозь слезы: — И зачем я сюда приезжала? Опротивело все, даже сын родной. Ить как говорил с матерью? Разбойник с большой дороги… И все это она, теща, науськала, научила.
— Рая, хватит тебе плакать, — сочувственно сказала круглолицая Маруся. — Переночуй у меня. А утром Миша заедет за тобой и отвезет тебя в Ставрополь.
Раиса Никитична плакала навзрыд, уткнув лицо в подушку, и уже не могла сказать и слова.
— Миша, она согласна, — ответила за нее Маруся. — Поезжай по своим делам, а она у меня поживет. Я не пущу ее к этим извергам! Утречком заезжай прямо до меня, я и завтрак приготовлю. — Она заманчиво улыбнулась мне полными щеками и добавила: — Только крылечко не перепутай.
— Теперь не перепутаю, — пообещал я.
— Как ей горько, бедняжке, — говорила Маруся, ласково поглядывая на плакавшую Раису Никитичну. — Ну ничего, пусть поплачет. От слез на сердце легче. Так не забудь приехать! — напомнила она, провожая меня.
Я торопился. Мне надо было засветло повидаться с женщиной грустной. Пообещав еще раз непременно приехать и не перепутать крылечко, я распрощался и направился к машине. Разбудил Олега, и мы покатили на хутор Воронцовский. С тоской смотрел я на убегавший под колеса асфальт и, краснея, не переставал думать: какой же, оказывается, я плохой выдумщик. Мечтал, придумывал бог знает что о веселой женщине в шляпке кофейного цвета, когда смотрел на нее в кузове грузовика. А что узнал о ней сегодня? Нет, по всему видно, не получится из меня писатель…
7
НА ХУТОРЕ ВОРОНЦОВСКОМ
Несколько слов о самом хуторе.
Небольшое степное поселение отличалось от ему подобных разве только тем, что здесь стояли домики-коттеджи городского типа с палисадниками и садочками. Эти необычные для степных мест красивые строения уж очень наглядно выделялись на фоне неказистых сельских хатенок — так обычно выделяется городской интеллигентный человек рядом с крестьянином.
Административно Воронцовский подчинялся Алексеевскому сельскому Совету, а именовался, и уже давно, не хутором, а третьим отделением совхоза «Алексеевский» — отделение это, кстати сказать, являлось на всем Ставрополье образцово-показательным центром молочного животноводства. Рядом с хутором, как это нередко встречается и в других местах, вырос молочный комплекс, издали похожий на фабрику легкой промышленности. В комплекс входили три фермы, построенные из красного кирпича и имевшие белые, будто из полотна, шиферные крыши. Внутри каждой фермы, над спинами и головами коров, была установлена доильная аппаратура, технически настолько совершенная, что о непосильном труде доярок здесь давно забыли, а если, к случаю, и вспоминали о нем, то как о чем-то далеком и уже невозвратном. Кроме трех ферм комплекс имел «родильное отделение» с высокими, от пола до потолка, и широкими, во всю стену, окнами, внутри — светлое и чистое, как больница. Тут же, рядом, находилось просторное помещение, именуемое «детским садом», — в нем выращивались телята-сосунки.
Имел комплекс и свой осеменительный племенной пункт. Это был одноэтажный особняк, стоявший на приличном удалении от общего стада. Жестяную его крышу, покрашенную зеленой краской, и кирпичные красные стены укрывали высокие и густые деревья. В этом особняке удобно разместились — каждый в своем особом станке — восемь быков-производителей чистокровной темно-красной степной породы, и при них, как слуги при своих господах, безотлучно пребывали два бугаятника посменно — профессия эта, следует заметить, не из легких и не из безопасных. Для тех же, кто в животноводстве несведущ, необходимо сказать и о том, что эти бугаи-красавцы, на сильных коротких ногах, были в меру упитанные, в меру поджарые, в меру грудастые, словно бы выточенные из красного дерева, — бери их и ставь напоказ, как произведение искусства. Рога у них были небольшие, острые, темно-яркого отлива. Между рогами петушился курчавый парубоцкий чуб, в ноздрях — кольцо из нержавеющей стали, всегда мокрое, с тонкой блестящей цепью. Посмотришь на такого красавца и невольно подумаешь: во всей его бугаячьей стати не было ничего ни лишнего, ни недостающего, весь он как бы был отлит из меди по проекту талантливого скульптора. Шея у быка толстая, ее не обхватить и двумя руками, морда — с широким лбом и маленькими глазками, с виду смирными, с сонной поволокой, которые он то закрывал, то открывал. Каждый из этих великанов имел кличку и охотно отзывался на нее. Позови — и он повернет к тебе голову, посопит ноздрями, как мехами, или подаст слабый голос. Как, по какому принципу им давали клички еще при рождении, никто точно сказать мне не мог. Но были среди этих кличек довольно-таки оригинальные и даже забавные, такие, к примеру, как Крикун, Одуванчик, Оратор, Непейвода. Одного производителя почему-то назвали Поэт. Наверное, подумал я, за его красивые, прямо-таки поэтические рога и вьющуюся чуприну между ними. А были клички и простые: Быстрый, Достойный, Смирный. Каждый из жителей удаленного от ферм особняка — это свой, особенный, оригинальный характер, и от того, какой у него «слуга», как он к нему относится, в зависимости от всего этого меняется у бугая воров — в лучшую или в худшую сторону. Если бугаятник человек ласковый, внимательный, добрый, то и бугай у него такой же. Какой-нибудь Оратор или Непейвода так привыкает к своему «слуге», так ему нравится и доброта, и ласка, и услужливость, что вскоре они становятся друзьями. К такому своему другу бугаятник подходит смело, и бугай тут же улыбается ему своими сонными глазками, подает голос, то есть мычит, но как-то по-особенному, тихо, как бы говоря: «Ну где же ты, дружище, так долго пропадал?..» Когда же бугаятник брал гребенку и начинал распушивать курчавый чуб, протирать влажным полотенцем рога или чесать под животом, красавец от удовольствия прикрывал веки, вытягивая короткую сильную шею, и в такую минуту делался смирнее телка. Бугаю по кличке Поэт его «слуга» каждое утро читал лирические стихи. Поэт слушал внимательно, закрывал от удовольствия глаза и слегка покачивал красивыми поэтическими рогами. Но такое простое, дружеское отношение со своими рогатыми красавцами бывает далеко не у каждого бугаятника. Случались и ссоры, и неприязнь, и даже вражда.
Проезжаешь по шоссе, и никак нельзя подумать, что в этом затерянном в степи хуторе ведется такая кропотливая селекционная работа. Но это так. В «Алексеевском» третье отделение отличалось не только рекордными надоями молока на одну фуражную корову, а, главным образом, тем, что из года в год здесь улучшалась порода молочного скота. На третьем отделении трудились ученые — это для них и были построены особняки со всеми городскими удобствами. Из Москвы в Воронцовский приезжали академики и доктора сельхознаук, в специальных лабораториях они проводили научные опыты. Частенько третье отделение навещали журналисты, кинооператоры, месяцами здесь жили писатели-очеркисты. Отсюда, из Воронцовского, на молочные комплексы всего края и за пределы края уезжали в специальных грузовиках пламенеющие на солнце своей красной шерстью молодые элитные телочки.
В Воронцовском, в котором мне доводилось бывать и раньше, нам с Олегом, можно сказать, повезло: нужную хату отыскивать не пришлось. Сразу же, как только мы въехали в хутор, нам встретился рослый, плечистый парень в ватной стеганке, в картузе, сдвинутом на затылок, и в поношенных штанах, испачканных на коленях свежей травой. Он показался мне похожим именно на того молодого мужчину, который с ребенком на руках стоял возле порога, когда мы с шофером помогали грустной старухе выбраться из грузовика. Я попросил Олега остановить машину рядом с парнем и сказал:
— Товарищ! Вчера из Ставрополя в ваш хутор приехала на попутном грузовике мать к своему сыну. Когда ей помогли выбраться с кузова, то навстречу выбежала девочка лет четырех, надо полагать, ее внучка.
— Ну, допустим, — неохотно ответил парень в стеганке. — А в чем дело? Допустим, старуха приехала, допустим, ей навстречу побежала ее внучка лет четырех. Что дальше?
— Хотелось бы повидать эту старуху.
— Извиняюсь, зачем? — спросил парень, поправил сползший на затылок картуз. — Зачем она вам понадобилась?
— Просто так… Помогите, если можете, отыскать ту хату, куда приехала мать к сыну.
— А не заметили вы, случаем, возле той хатенки мужчину с малым дитём на руках?
— Как же, как же! — воскликнул я. — Именно заметили!
— Так это был я. — Тут парень рывком натянул на лоб картуз. — Только, будет вам известно, вчера приехала не мать к сыну, а теща к зятю. А зять — это я. И я хочу знать, зачем вам потребовалась моя теща?
— Если тебе не трудно, то проводи нас к своей теще, — сказал я. — Мне надо с нею повидаться и поговорить.
— Я как раз иду на работу. Вон туда. — Парень указал на зеленые кущи деревьев, сквозь листья которых виднелся дом из красного кирпича. — Там, между прочим, проживают мои подопечные, заждались, поди, — добавил он, невесело улыбнувшись. — Надо к ним поспешать.
— А ты садись в машину и поедем с нами, — сказал Олег. — Покажешь свою хату, а на работу я тебя мигом подброшу на машине. Так что к своим подопечным не опоздаешь.
— Ну, ежели так, то я согласен.
Парень быстро влез на заднее сиденье «Москвича» и сказал Олегу:
— Держи прямо. Моя хатенка приметная, без кола и без двора, ее не проедешь. — И обратился ко мне: — Меня зовут Петром Калашниковым. Вот уже десятый год безотлучно нахожусь при бугаях здешнего племпункта, — добавил он, когда мы вдвоем направились к хате по знакомой мне темневшей в бурьяне дорожке. — Дома одна теща, Дарья Петровна, с внуком Андреем. Так что я оставлю тебя, беседуй сколько душе угодно, а меня пусть твой шофер, как и обещал, подбросит на племпункт. Эти мои разлюбезные красавцы не любят, когда я задерживаюсь. — Он решительно распахнул дверь и из сеней, крикнул: — Мамаша! Принимайте гостя! А я поспешу к бугаям!
— Ой, кто же это, Петя? — послышался женский голос. — Ох, господи, какой еще гость?
— Он сам про то скажет, — ответил Петр Калашников и ушел.
Я видел, как наш «Москвич», развернувшись, промелькнул мимо окна. А передо мной уже стояла, будто и знакомая мне и будто не знакомая, пожилая женщина, держа на руках годовалого ребенка. Я двинул от удивления плечами и подумал: а не ошибся ли? Может, этот бугаятник привел меня не к той старухе, с которой я ехал в грузовике? Это была совсем другая женщина, мне она показалась и моложе, и глаза у нее не были заплаканы, и на лице не осталось и следа грусти.
— Вы узнали меня? — спросил я.
— Что-то, товарищ, не признаю, — ответила она, все еще с удивлением глядя на меня. — Вы, случаем, не из совхозного месткома? Не насчет ли моей жалобы?
— Нет, я не из месткома. Вспомните, вчера мы вместе ехали на грузовике, — говорил я, а в голове: «Да нет же, это совсем не та старуха, которая всю дорогу плакала и которая мне была нужна». — Помните, рядом с вами сидела женщина, веселая, в шляпке, и старик с мальчуганом. А я все время стоял возле кабины.
— Что-то не припомню. Память стала дырявая…
— Вспомните, мы с шофером помогали вам слезть с грузовика. А к вам бежала девочка лет четырех? Неужели забыли?
— Какаясь, верно, баба сидела возле меня, — ответила старуха с ребенком. — И старик с пареньком был. А тебя не припоминаю… А по какому же делу ты ко мне? Ежели то заявление, какое я посылала в местком, давно, еще из Ставрополя… Адвокат, грамотный человек, писал…
— Нет, мамаша, я приехал не в связи с вашим заявлением, — поспешил ответить я. — Я приехал так, без особого дела…
— Как же без дела? Такого не бывает… Дела нету, а приехал?
— Хотелось повидаться с вами и побеседовать.
— Да об чем же нам толковать-то? — еще больше удивилась старуха. — Ежели насчет моего заявления в местком, сказать, насчет моей дочки… Что-то никак не возьму в голову.
— Я уже сказал вам, что приехал не насчет жалобы. Просто так, если вы не возражаете, поговорим вообще…
— Зараз я внука уложу, ему пора спать. Солнце-то уж садится.
Дарья Петровна прошла с внуком в соседнюю комнату и долго не возвращалась. У меня было время и подумать, и осмотреть чужое жилье. Обычная деревенская бедная обстановка, даже с деревянной лавкой вдоль стены. Не было, как обычно, стульев — стояли две самодельные табуретки и эта длинная, из широкой доски, лавка. На кровати — ни перины, ни подушек и подушечек, которые возвышались бы горкой, как у круглолицей Маруси. Не было ни знакомых мне цветов в банках на подоконниках, ни занавесок на окнах, ни дивана с непременными кружевными накидками, ни дорожек на полу. Свежий глаз без труда замечал не только материальные недостатки Петра Калашникова, а и отсутствие в хате заботливой хозяйки. Все, что было здесь наскоро прибрано и наскоро убрано, сделано, очевидно, недавно, руками Дарьи Петровны.
Наконец вернулась Дарья Петровна. Голова у нее причесана, на плечи накинут шерстяной, тонкой вязки, полушалок. Она присела на табуретку, присмиревшая, готовая слушать, что же я ей скажу, о чем стану спрашивать. А на дворе уже начинало вечереть, темнели оконца, в комнате густел, плотнел полумрак.
— Беда, электричество тут дают, когда уже совсем стемнеет, — сказала Дарья Петровна. — Посидим пока без света, посумерничаем… Так неужели и ты тогда ехал с нами на грузовике? Всех помню, а тебя не припомню… Так зачем же ты приехал? Должно быть, по жалобе…
— Нет, не по жалобе, — еще раз сказал я. — Я приехал на хутор и отыскал вас, Дарья Петровна, только для того, чтобы спросить: скажите мне, если это, разумеется, для вас не тайна, почему вы тогда, в грузовике, были так опечалены? Почему всю дорогу плакали? Что за горе было у вас?
— И из-за этого прикатил сюда на легковике? — от удивления Дарья Петровна даже рассмеялась. — Ой, быть того не может! Да ты что, парень, аль не при своем уме? Зачем тебе понадобилось знать мое горе? Неужели ради этого и припожаловал на хутор?
— Да, ради этого…
— Какой же дурень тебе поверит? — спросила Дарья Петровна, поправляя на плечах полушалок. — Брехня! Я тоже не верю.
— А я прошу поверить мне, — говорил я, понимая, что мои слова все одно не убедят старуху. — А что тут такого? Почему вы мне не верите?
— Да у тебя что, и вправду никаких других дел тут нету?
— Я уже сказал. Мне интересно узнать от вас…
— Ой, парень, ой, не хитри, не обманывай старших, — перебила она, весело посмотрев на меня. — Да ты подумай сам: разве можно приезжать к каждому, у кого в жизни стряслась какая беда аль свалилось на плечи какое горе? Не верю! И кому нужны мои слезы? Никому! В местком еще когда послала жалобу, а ответа никакого нету… А вот и свет! — сказала она радостно. — Ну, теперь, при таком освещении, смотри на меня и ничего от меня не утаивай. Я гожусь тебе в матеря, и ты говори, как сын матери: какая причина заставила тебя сюда приехать?
Пришлось сказать ей всю правду.
Дарья Петровна слушала меня молча, и я заметил, как лицо ее темнело и старело, и теперь она уже была похожа на ту, плакавшую на грузовике, старуху. И вдруг, как бы что-то вспомнив, она закрыла широкими, натруженными руками лицо, и я увидел, как между ее кривых, утолщенных в суставах, пальцев потекли слезы. Она плакала беззвучно, не всхлипывала, не шмыгала носом, то наклоняя, то поднимая голову. Я ждал, когда она успокоится, уже не надеясь на откровенный разговор. Однако Дарья Петровна перестала плакать так же неожиданно, как и начала, только еще долго, молча и с удивлением смотрела на меня мокрыми и такими же печальными глазами, как и тогда, на грузовике.
— Выходит, плохой из тебя угадчик моей жизни, — сказала она, пробуя через силу улыбнуться. — Сказать, никудышный.
— Выходит, так, — согласился я.
— Да и как ее, неизвестную жизнь, узнать? Не зря же говорится: чужая жизня — потемки.
— Но какое же у вас было горе? — еще раз спросил я. — Теперь-то вы можете сказать мне?
— Было? — переспросила она, и слезы снова покатились по ее щекам. — Оно, горе, не только было, а и осталось, мое горюшко, со мной… Как тебе известно, сюда я приехала из Ставрополя. А чего всю дорогу плакала? Думала, как же мне помирить свою дочку с зятем, и придумать не могла, а сердце болело, болело. Горюшко мое — дочка Галина. Нажила с мужем двоих детишек, а после этого подняла хвост и убежала, извиняюсь, к какому-то подлюке, хотя он и считается человеком ученым да культурным. А чего убежала? Законный муженек оказался не таким, некультурным. Подавай другого, культурного, будто с культурным бабе, извиняюсь, спать слаще…
Из ее сбивчивого рассказа я понял: мать во всем обвиняла дочь и была полностью на стороне зятя, хвалила его, называла «парнем хоть куда»; он и на работе старательный, и с людьми обходительный, и не пьющий, и не курящий.
— А почему не пьет и не курит? — спросила она и сама же ответила: — Потому как завсегда находится при бугаях, а те животные сильно благородные, они не могут переносить ни табачного дыма, ни спиртного духу. И ежели бугаятник закурит папироску или выпьет чарочку, то сильно злятся. Есть у Пети бугай по прозвищу Поэт. Так тот любит стишки слушать. Петя читает ему все подряд, и бугай, веришь, аж глаза от удовольствия зажмурит.
По утверждению Дарьи Петровны, ее дочь, Галина, была виновата решительно во всем: и в том, что после окончания института не осталась в Ставрополе, где ей предлагали работу, а поехала лаборанткой в «Алексеевский» — «хотелось ей тут пробиться в науку»; и в том, что Галина поспешила выйти замуж за Петра Калашникова, бугаятника, и в том, что родила двух детей.
— Не было бы у нее детишек, и она свободна, могла бы, ежели не нравится, бросить мужа, — добавила она. — А теперь остались они без матери, сиротками… Как им, бедняжкам, жить?.. А насчет Петри скажу тебе истинную правду: хоть он и находится на простой работе, а человек он сердешный, через то и бугаи его любят. И дело свое он знает. Всему семейному, горю повинна Галина. Получается так: когда выходила за Петра, то он ей нравился, а через время, рассмотревшись, увидала, что муж у нее не такой, какого бы ей хотелось. И должность у него — бугаятник, совестно людям сказать, и культурности мало. И еще надобно тебе сказать: Галина — девка собой смазливая, мужики еще и зараз поворачивают на нее свои головы, как ото цветущие подсолнухи поворачивают к солнцу свои шляпки. А тут, как на беду, в Воронцовский из Москвы приехал молодой ученый по имени Валерий, собой и красивый, и культурный, и в шляпе. Вот тут-то моя Галина и сдурела, бросила мужа и детишек и помчалась до красавца в шляпе.
История, рассказанная мне Дарьей Петровной, в общем-то обычная, каких в жизни встречается немало, и пригодна разве что для сюжета короткого рассказа. Однако в этой с виду мало чем примечательной семейной истории меня привлекла одна деталь: по утверждению матери, Галина не стала жить с Петром только потому, что в нем якобы не было, как выразилась Дарья Петровна, «того культурного обхождения, каковое имеется у Валерия».
— Может, дочь ваша полюбила Валерия? — спросил я.
— Какая там еще любовь, — нехотя ответила Дарья Петровна. — Так, одно баловство. И тот, ученый, тоже хорош гусь, сманил замужнюю бабу. Вот на него-то я и жалобу писала. Да что с того толку?
— Дарья Петровна, это то, что было, — сказал я, желая вызвать у моей собеседницы интерес к нашему разговору. — А как теперь? После вашего приезда сюда?
— Что ж теперь? Одно слово: плохо. — Дарья Петровна печальными глазами посмотрела на меня. — И не их мне жалко. Не поладили промеж себя молодые, — и нехай, ничего не поделаешь, не они первые, не они и последние. Жалко малышей, ить они-то ни в чем не виноватые и страдают понапрасно. Старшая, Надюша, в детском садике днюет и ночует, там ей хорошо. Но ить она все уже понимает, по заплаканным ее глазенкам вижу — соображает, что к чему. А Андрюшке мать еще больше нужна. Думалось, приеду, как-нибудь улажу ихний разлад и вернусь до своего старика. Оставила-то одного, а он тоже беспомощный, как малое дитё. Теперь вижу: придется пожить у зятя. Как же Петя обойдется без меня с детишками? Он и так, бедняга, весь извелся от горя…
— Говорили ли вы с Галиной-то?
— А то как же! — живо ответила мать. — Была, была у меня с дочкой балачка, да что толку. Неразумная девка, опозорила и себя и всех нас.
— Что же она говорит?
— Заладила одно: не буду жить с неотесанным мужиком, и весь ее разговор. Знать, тот, Валерий, выходит, и отесанный, и чистенький, городской, а Петро и неотесанный, и мужик. — Дарья Петровна тяжело вздохнула, вытерла пальцами слезы на щеках. — А куда, спрашиваю, смотрела, вертихвостка, когда выходила замуж за неотесанного мужика? Была, отвечает, молодая и слепая. А зараз, вишь, подросла и враз изделалась зрячей, все увидала и все поняла. Знаю я эти бабские уверточки, сто причин отыщет в свое оправдание. Уйти от мужа? Это что же такое? Да и Петя — это же какой человек, если бы ты знал. Золотой! И работник безотказный, и семьянин, каких надо поискать, и слова обидного ей не говорил. Жить бы да бога молить, что достался такой муж. А ее, как ветром, понесло к другому. В душу влез тот Валерий, ласковыми словами заморочил молодую и дурную бабью голову. Вишь, как рассудила: тот — ученый, а этот — бугаятник, мужик. А что плохого в том, что Петро ухаживает за бугаями? Должность и заработная, и почетная, и не каждому ее доверят. Поглядел бы ты, как эти рогатые великаны любят Петра, как они его поджидают и как встречают. Все то, что он им говорит, те стишки, какие читает, они понимают, как люди, ей-богу! Сильно уважают они Петрю, а он их иначе как красавцами не называет. Чуть что: мои красавцы! Вот пусть бы тот, культурный Валерий, сумел бы так запросто обходиться с бугаями, как обходится с ними Петро.
— Где же Галина сейчас живет?
— Там, у него. Где же еще! Бесстыдница! — Дарья Петровна закрыла тоскливые мокрые глаза, помолчала. — Приехал — и ему, как ученому, сразу дали две комнаты в тех кирпичных домишках…
— Есть ли у него жена?
— Будто бы неженатый, — нехотя ответила Дарья Петровна. — Да кто их поймет-разберет? В отъездах все мужики холостяки. — Она вздохнула глубоко, всей грудью. — Ить грамотная моя Галина, не то, что я, в институте обучалась, а вот ума-разума не набралась и через то не понимает: счастливая жизня бывает только тогда, когда перемешаны праздники с буднями. А с тем Валерием у Галины зараз одни праздники, каковые могут вскорости наскучить и ему и ей… А тогда что? — И снова тяжелый глубокий вздох. — Хоть она и моя чадушка, а я скажу так: ненормальная, вот она кто! И могу добавить: с тем Валерием у нее все одно не получится семейная жизнь. Перебесится баба, покуражится, вертихвостка, да и возвернется к Петру.
— А если не вернется?
— Я мать и вижу, что вернется, — уверенно ответила Дарья Петровна. — Она уже и зараз то заглянет в детский садик, к Наденьке, то забежит в хату, когда Петра нету, чтоб хоть взглянуть на Андрейку… Эх, горе, горе. Мне же все видно: по соседству с тем бесом, каковой турнул ее к чужому мужику, в душе у нее все еще живет мать, и она-то, мать, кличет и тянет к детям. Да и приходит к доченьке и к сынишке не с пустыми руками. То молока принесет, то конфеток. А вчера прибежала перед вечером, взяла Андрейку, прижала к себе, целует и сама слезами заливается… Что же это за жизнь? Детей Петро ей не отдаст, в этом он как железо. Да ежели б и отдал, то с детьми она Валерию не нужна. Так что помучает себя и других возле себя да и заявится к Петру и к детям как миленькая. Хорошо, ежели за это время Петро душой к ней не очерствеет и после всего примет ее. А ежели не примет?
В это время отворилась дверь, вошли Олег и Петр Калашников. На вопрос Дарьи Петровны, почему он не остался на работе, ответил, что заехал на минуту и, передав теще трехлитровый стеклянный баллон с молоком, кувшинчик со сметаной, добавил:
— Специально в ларьке для меня оставили. Попросил ларешницу. Такая славная женщина. Давайте вместе повечеряем, а тогда я уйду на дежурство.
На стол были поданы яичница, зажаренная на сале в большой сковороде, молоко, сметана. После ужина Олег отправился спать в машину: переднее сиденье в «Москвиче» откидывалось и получалось удобное для отдыха место. Дарья Петровна дала ему подушку и одеяло. Мне она постелила на низкой койке с пружинистой железной сеткой. Мрачный, все время молчавший Петр хотел, наверное, еще что-то сказать, но не решился. Постоял возле дверей, предупредил тещу, чтобы утром его не ждала, и отправился к своим бугаям.
Я разделся и лег в постель. Дарья Петровна потушила свет и ушла в комнату, где спал внук. Я натянул на голову одеяло, хотел уснуть и не мог. Перебирал в памяти все то, что довелось мне увидеть и услышать в Алексеевке и здесь, на Воронцовском. И сколько я ни думал, снова все та же мысль не давала мне покоя: напрасно я сюда приезжал. Обидно было, что мне лишний раз пришлось убедиться: жизнь, которую хочешь описать, — выдумать нельзя, ее непременно надо знать, видеть вот так, вблизи, как я увидел ее сегодня.
Прошло немало времени. Я уже собирался уснуть, когда скрипнула дверь и Петр еще с порога, не зажигая свет, сказал глухо:
— Это я. Извини, что беспокою. — Он присел на койке у моих ног, грузное его тело вдавило сетку. — Подумал, подумал и решил вернуться. Теща небось рассказывала про мою беду?
— Кое-что говорила. По моей просьбе.
— Значит, тебе известно, что приключилось с моей семьей?
— Известно.
— Я вернулся, чтобы у тебя, живущего аж в Москве, спросить: как мне теперь жить? — Койка под ним качнулась. — Посоветуй, дорогой товарищ, подскажи. Ты — человек грамотный, в газеты пишешь. Подсоби советом, по-дружески, по-мужски. Горе-то какое свалилось на мою голову! Веришь, дажеть мои чубатые красавцы, до чего же умные существа, понимают мою сердечную боль. — Он горестно усмехнулся, лица его я не видел. — По глазам ихним бычьим вижу — понимают, а ничем помочь мне не могут. У меня есть бугай по кличке Поэт. Раньше, бывало, ох и любил же послушать разные стихотворения. А зараз, веришь, так затосковал из-за моего горя, что я ему стихи читаю, а у него слезы в глазах и голову отворачивает. Все понимает… Подсоби, дорогой товарищ, дай добрый совет. Или позабыть ее? Выбросить из головы, будто и не было никакой Галины? Думал я об этом, да, видно, не смогу позабыть… Люблю ее, вот в чем моя главная беда… Да и дети как же без матери? Дарья Петровна согласилась подсобить, спасибо ей. А ежели без нее? Как мне обходиться? Отдать Галине детей? Э нет! Никогда она их не получит. И вот я все думаю, думаю: как же мне дальше жить? Подскажи, посоветуй. Своих родителей у меня нету, померли. Есть брат Никита и сестра Елена. У них свои семьи, им не до меня, да и живут далеко… Что же мне делать? Как поступить? Ить такая выпала мне трудная ситуация.
— Вопрос не простой, — сказал я, чтобы не молчать. — И какой дать совет? Честно скажу: не знаю.
— А что, ежели б мне пойти к тому субчику, да взять его по-мужскому за грудки, да и тряхнуть как следует?
— Вот этого делать тебе не советую.
— Тогда как же его отлучить от чужой жены? — спросил Петр. — Ить он же разорил семью. Птичье гнездо разоряют детишки так, из шалости, и то их наказывают. А тут разорена семья. И мое мнение — один выход: кулаками выбить из него дурь.
— И этого делать не надо. Драка ничего не даст.
— А ежели заманить того субчика на племпункт и толкнуть в стойло, к какому-нибудь красавцу? К тому же Поэту или Оратору? — Петро долго молчал, еще сильнее вдавливая край сетки. — Будто попал он туда нечаянно? Такая мыслишка навещает меня часто. А что? Пусть бугай поиграет с ним рогами. А я, подтвердил бы, что сам он туда, без спросу, зашел.
— Нельзя этого делать, — сказал я. — Ни в коем случае. И думать об этом нечего.
— Знать, так: мне ничего нельзя, а ему, выходит, можно мою жену сманивать? Несправедливо! А что дети сиротами остались? Это тоже можно? Можно, да? А мне ничего нельзя? Так, да?
Я молчал. Что можно было ответить? Разве что посочувствовать, и только. А что ему от моего сочувствия?
Петр посидел еще немного. Не дождавшись моего ответа, он поднялся так быстро, что койка качнулась, и ушел из хаты, тихонько, по-хозяйски, прикрыв дверь.
8
Ранним утром, еще до восхода солнца, мы въехали в Алексеевку. Было ясно и тихо. Из труб к чистому синему небу тянулись, слегка наклонясь на восток, голубоватые столбы дыма. Пахло кизячьим, какой бывает лишь в степи, костром. Алексеевка давно проснулась. Возле дворов паслись куры, что-то отыскивая для себя в молодой траве. Из калитки вышел и стал мычать, вытягивая тонкую шею, сонный телок. Хозяйки управлялись по дому, и крылечки, мимо которых мы проезжали, были еще пустые. У знакомого крылечка, уже поджидая нас, с чемоданом стояли Раиса Никитична и круглолицая Маруся. На Раисе Никитичне был тот же плисовый желтый жакет, на голове та же, кофейного цвета, шляпка с медным жуком, в глазах и на щеках — следы от высохших слез.
— А мы уже вас выглядываем, — сказала Маруся, улыбаясь напудренными щеками. — Молодцы, что сдержали слово.
Олег помог нашей попутчице уложить в багажник чемодан — легкий, потому что был пустой, открыл дверку, пригласил ее на заднее сиденье. Мы попрощались с круглолицей Марусей и покатили на Ставрополь. Вскоре из-за бугра показалось солнце, жарким пламенем опалило зеленое, все в росе, пшеничное поле, под кручу загнало жиденькую, еле приметную тень. Я смотрел на зарождавшийся в степи весенний день и мысленно спрашивал себя: зачем я здесь? И сам же себе отвечал: ну хотя бы затем, чтобы узнать жизнь не выдуманную, а настоящую той женщины, которая со мной ехала сюда и со мной же возвращается домой. Один вопрос наседал на другой: кому нужна моя поездка сюда, в село Алексеевку и на хутор Воронцовский? И успокаивал себя как мог: мне она нужна, и если не теперь, то в будущем. Что же важное и значительное я узнал вчера в Алексеевке и на Воронцовском? Старую, как мир, и всем известную истину о том, что люди бывают жадными и безжалостными даже к своим близким и что есть жены, которые бросают мужей, а матери — детей. Но ведь это было всегда, есть теперь и никогда, наверное, не переведется. Так зачем же об этом узнавать еще раз? Чем вознаградила меня эта поездка? Какими новыми сведениями обогатился я, узнав, как живут те две женщины, жизнь которых мне так хотелось придумать самому? Одна из них уезжает со мной в Ставрополь к дочке, убегая от родного сына. Другая осталась у зятя, которого она считает своим родным сыном. Теперь мне известно, почему тогда одна из них была веселая, а другая грустная. Но что же из этого следует? Разве только то, что я еще раз и на наглядном примере убедился, что выдумывать чужую жизнь я не могу и что мне, чтобы писать, необходимо много ездить, много знать о людях, о разных, о хороших и о плохих, необходимо как можно больше видеть их обычную, будничную жизнь и все записывать, записывать в свою зеленую тетрадь. Может, пригодится…
Что же это у меня — записывать и записывать — привычка или потребность? Есть поговорка: «Привыкла собака бегать за возом, так она и от саней не отстает». Но откуда же пришла ко мне эта привычка? И где тот «воз», за которым я уже успел привыкнуть бегать? Очевидно, во мне живет не привычка, а та любознательность, что ли, которая, как магнитом, притягивает меня сюда, к людям, на приволье, в эти степные просторы, заставляет приезжать не только в Привольный, а и на Воронцовский, и в Алексеевку. А это уже и есть потребность. Я все больше и больше начинаю понимать: если этой любознательной потребности у меня не будет, то и жизнь для меня потеряет смысл. Она потускнеет, как тускнеет день в непогоду, и помрачнеет. Душа опустеет. В ней не останется тепла. И потому я не только еду в села и на хутора, но и убеждаю себя: надо всячески содействовать, всемерно помогать этой моей любознательности, которая от природы поселилась во мне, и надо не только ездить сюда, необходимо уже начинать писать повесть. Я еще и еще раз говорю себе: пора! И лучше всего, как я и думал, начать повесть с описания рождения девочки в землянке, которая, опустев, осталась по-прежнему стоять на краю Привольного. Пусть поначалу это будет еще не то, что нужно, но зато у меня появятся исписанные листы, на них лягут те слова, которые затем можно будет переписывать, переделывать, улучшать, изменять. Но пока что у меня были одни чистые листы, и когда на них смотришь, они ничего не могут тебе сказать: на них еще нет слов, а без слов и не могли зародиться и ожить те мысли, какие постоянно беспокоят меня.
Я вспомнил стихи известного поэта-лирика Николая Д. Очевидно, так, шутки ради, он уверял читателей: «Не писал стихов и не пишу, ими я, как воздухом, дышу. Им, как я себе, принадлежу, под подушкой утром нахожу». Сказано с хитрецой, с усмешечкой, а умно. Стихи не пишутся, стихами дышат, их находят утром под подушкой. Прекрасная мысль! И как нельзя специально, нарочито выдумать чужую жизнь, так нельзя и писать специально, по чьему-то заказу, заставляя себя, насилуя свое желание. Но это говорил поэт, и говорил о стихах. А возможно ли, пусть тоже шутя, пусть тоже с усмешечкой, сказать так же о прозе? Наверное, можно. «Не писал романов и не пишу, ими я, как воздухом, дышу». Это было бы прекрасно. Но этому никто не поверит. Стихи — не проза, их не пишут, ими говорят, их запоминают. А роман или повесть? Вещь громоздкая, ее обязательно надо, сидя за столом, писать и переписывать, и ночью, после ночного сна, из-под подушки не вынуть сотни исписанных страниц… А вот дышать бы и прозой нужно…
— Ох, тяжкое мое положение, тяжче и не придумаешь, — заговорила, ни к кому не обращаясь, Раиса Никитична. — Если бы я знала, как меня встретят, ни за что не приезжала бы, не тревожила бы себя. А то ехала сюда — радовалась. Да и как же матери не радоваться? Ить сын женится. А приехала — разревелась. Родной сын берег мать за грудки, как какую вражину, и кричит: отдай деньги! За что же такое?
Мы с Олегом молчали. Не знали, что ей сказать. Я сразу же подумал: надобно записать или запомнить, что и на душе и на уме у каждого человека свое. У меня — размышление о том, почему меня тянет на это приволье, о жизни, которую можно или невозможно выдумать, а у нее — свое, сын, который обошелся с нею не по-сыновьи.
— Ну, пусть обидели меня те, Валентина и ее мать, — не дожидаясь нашего сочувствия или возражения, сказала Раиса Никитична, словно бы разговаривая сама с собой. — Их я не знаю, до вчерашнего дня не видала, они меня тоже впервые увидели. Они для меня чужие, и я для них чужая, и мы квиты. А ить Алешка-то! Родной же сынок — и таким изделался чужим, вот что горько. Теперь это уже не мой Алексей, не мой сын. Такого сына у меня не было. Начисто переродился. А где? И через какую причину? Тут, у своей тещи, и через гроши, через них, окаянных. Побыла у чужого сына, наслушалась всего, наплакалась вволю и зараз думаю: и кто их, проклятые гроши, повыдумывал на несчастье нам, людям? Сколько от них горя происходит на земле! Там, где гроши, там и несчастье. Огнем бы подпалить их все, до последнего рубля, пусть бы начисто сгорели.
— Позвольте вам возразить, мамаша, — вежливо сказал Олег. — Та фабрика, каковая делает деньги, возьмет да и сызнова напечатает рублики.
— А их опять в огонь, пусть горят, — ответила Раиса Никитична. — Без них, без грошей, жизня у людей была бы спокойная.
— Нет, мамаша, вы и тут неправы, — так же вежливо возразил Олег. — Без денежек нельзя, без них человеку обойтись никак невозможно. Подумайте сами: как же без них, без разлюбезных? Тут и зарплата идет помесячно или сдельно, тут и премия получается. А ежели какая подвернется нужная покупка? Или, допустим, человеку захотелось выпить водки для аппетита? А в столовой, как на беду, одни бутылки. Как от бутылки отделить сто граммов той нужной жидкости? А денежки все могут изделать. Или, допустим, в сельмаг поступила колбаса. Как ее без денежек раздавать людям? Бери, кто сколько желает? Такое дело не годится. Один возьмет много, а другому ничего не достанется. Нет, тут, мамаша, без денежек ничего не сделаешь.
— Так от них же, сынок, от грошей, проистекает сколько зла! — стояла на своем Раиса Никитична. — Погляди, ить все от них. И воровство, и грабежи, и убийства, и всякая иная пакость. Куда ни крути, а горе от них, от денег.
— И в данном моменте, мамаша, вы совершенно неправы, — не отрывая от шоссе своего цепкого, всевидящего взгляда, авторитетно заявил Олег. — Ежели деньги находятся не у дураков, в сохранности, ежели их правильно применить к делу, то есть свершать с пользой и по-хозяйски, сказать, с умом, то от денег получается одна польза. Жаль, мамаша, вы не видели, какая развернулась стройка близ хутора Привольного. Кто такую махину мог поднять и осилить? Деньги! Конечно, все делают люди своим умом и руками, но работают они не зазря, не даром, а за деньги. Возле Привольного такое развернулось! А благодаря чему? Благодаря деньгам, мамаша! Дирекция совхоза «Привольный» поручила бухгалтерии составить смету. Все было сделано как следует, и получилась хорошая субсидия. Вот, мамаша, в чем вся штука. А без денег где возьмешь субсидию?
— А что оно такое — субсидия? — спросила Раиса Никитична.
— Субсидия — это такая штуковина — выделяются деньги на какую-то помощь, в данном случае на помощь строительству овцекомплекса, — со знанием дела ответил Олег. — Или еще пример, идущий лично от вас. Как известно, у вас имелся дом, а у вашей дочери не имелось жилья. Пришла на помощь субсидия. У вас не стало дома, а у дочери заимелась квартира. Так? Правильно я говорю, а? Правильно?
— Это — да, верно, — согласилась Раиса Никитична. — Об этом я как-то и не подумала.
— Напрасно не подумали, мамаша. — Олег был доволен, что убедил свою пассажирку. — Кто помог вам с дочкой? Денежки! Это их старание. Так что от денег есть человеку реальная выгода. Без денег люди были бы как без рук. Ну а то что родной сын потянулся к матери с кулаками, то он, извините, есть дурак, и больше ничего.
— Дурнем-то кто его изделал? Деньги, — сказала наша попутчица. — Правда, жинка и теща подсобляли, науськивали, настраивали против родной матери. Но из-за чего? Из-за денег… Эх, деньги, деньги… Как ни обидно за сына, а и ему пришлось дать пять сотен, — добавила она грустно. — Специально привезла. Ить только женился, пригодятся деньги…
— И взял? — не поворачивая голову, спросил Олег. — Или, может, отказался? Сказал: дескать, не надо, мамо, обойдусь.
— Еще как взял. И спасибо не сказал.
— Неверно вы, мамаша, действуете в данном моменте, — поучающим тоном заговорил Олег. — Сын к вам с кулаками, а вы к нему — с деньгами, на́ — бери.
— Так ить мать же я ему.
— А он — ваш сын и обязан матери подсоблять, — заключил Олег. — Не вы ему, а он вам. Этот принцип вам понятен?
Женщина в кофейной шляпке молчала. Она, наверное, все понимала, кроме одного слова — принцип, и решила помолчать. А тем временем солнце поднялось высоко и своими жаркими лучами било в боковые стекла «Москвича». Рядом, прыгая по кювету, неслась перекошенная и вытянутая углом тень от машины. Впереди уже был виден Ставрополь. И что за чудо — этот город на просторе! Не город, а степная сказка! Столица! И с какой стороны к городу ни подъезжай, он всегда радует тебя своей пышной зеленью. Издали кажется, что это вовсе не город, а дремучий лес, который плыл и плыл над степью, а потом взял да и опустился на возвышенности. Сейчас он еще весь был укрыт, как красавица газовым шарфом, утренней дымкой, и его толстые снизу и острые сверху тополя, и буйная зелень главного проспекта, и улицы, и повсюду цветущие сады, белые, будто в снежной метели, — все, все как бы манило к себе и как бы говорило: «Э, нет, нет, ни за что не проедешь мимо, потому что, куда бы ты ни торопился, а твоя дорога непременно ляжет через Ставрополь и ты обязательно полюбуешься и его вековыми тополями, и старинными улочками, где еще сохранились одноэтажные домишки с палисадниками и вишневыми садочками, и уж обязательно побываешь на Нижнем и на Верхнем базарах».
— А вот и мой переулок, тот, что уходит вправо, — сказала Раиса Никитична. — Заедем до меня. Поглядите, какую, квартиру я купила дочке и внукам, да и позавтракаете у меня.
— И рады бы, да не можем, — ответил я и пожалел, что у меня не было свободного времени. — Тороплюсь на аэродром.
— Ну хоть бы на минутку.
— Нельзя, мамаша, и на минутку, — по-деловому ответил Олег. — Самолет ждать не будет.
— Как-нибудь в другой раз, — пообещал я.
В переулке, который от главного проспекта уходил вправо, Олег остановил машину, помог снять пустой чемодан. Мы попрощались с Раисой Никитичной и, все же заглянув на Верхний базар и купив там редиску и свежих, из парника, огурцов, поспешили на аэродром.
ИЗ ТЕТРАДИ
Записано в пути
Даже отсюда, со степи, были видны лилово-пепельные, зубчатые силуэты Кавказских гор.
Не раз замечал: между стогами свежего, только что сложенного сена всегда стоял, а особенно в сумерках, теплый, сладковатый запах увядших полевых цветов.
Фамилии: Волкодавченко, Станишнев, Маслобойщиков, Кульгаков, Артификасов-Нарыжный, Кровопусков.
Кому довелось бывать ночью в горах, тот наверняка слышал глухое, пугающее уханье филина. Это происходит, наверное, потому, что отвесные скалы подпирают звездное небо со всех сторон и любой звук, ударяясь о них, отзывается эхом. Хорошо слышен даже слабый треск сухого хвороста под ногами или охрипший крик сороки.
Месячная ночь в степи. Белый, укрытый ковылем курган озарен бледным светом. Нежно и свежо пахнет полынью.
Он работает окрыленно, потому что человек прямой, откровенный.
В колхозный детский сад пришел председатель. Посмотрел на приунывших детей и спросил у молоденькой няни:
— Наташа, отчего ребятишки такие грустные?
— Скучно тут.
— А ты расскажи им сказку, вот они и перестанут скучать.
— Где ее взять-то, сказку?
— Сама придумай. Это нетрудно. Расскажи им, к примеру, сказку о курочке. Нет, не о рябой, а о простой. — И председатель обратился к детям: — Мальцы, а знаете ли вы, что курочка имеет две ножки, хвостик, что она несет яички и эти яички едите вы, наши малые гражданята?.. Или расскажи им сказку о корове. Ребята, надо полагать, еще не знают, что коровы — большие, имеют не две, а четыре ноги, что их доят электрическими аппаратами, а молоко пьют вот они, будущие хозяева земли. А глаза у коровы большие, во какие!
Тут председатель своими глазами показал детям, какие бывают глаза у коровы. Дети обступили его, повеселели, заулыбались и стали кричать хором, чтобы он еще рассказал им сказку.
Вот ты, внучок, человек сильно грамотный, все говоришь и говоришь, как по-написанному, без запинки. Я все слушаю и слушаю тебя, а на уме у меня думка: где-то в земле лежат мои дедушка и бабушка, мои отец и мать. Видно, пора и мне собираться туда, поближе к ним.
Одни звезды, что весело мерцают в небе, может быть, знают, как свято и как таинственно человеческое счастье.
Остап Затуливетров — русоголовый, рослый мужчина лет тридцати. Он был настолько выше и крупнее обычных людей, что на него, как на чудо, показывали пальцами. Он и сам считал себя из другой, необыкновенной породы, и поэтому со своими сверстниками держался так, как взрослые держатся с детьми.
— Теперь такого здоровилу редко встретишь, — гордо говорил он. — Как-то читал в газете, что есть еще один, вроде меня, только он далеко отсюда, аж в Дагестане. По национальности аварец.
Очень плохо, брат, что нету устава в нашей неженато-холостяцкой житухе.
Он болезненно морщился от дыма окурка, прилипшего к его нижней, отвисшей, как у старого мерина, губе.
Из народной песни:
Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ах, кабы на меня да не кручинушка,
Ни о чем бы я не тужила.
Чудесны, задушевны степные ставропольские песни! Слова в них — лишь предлог; не словами, а идущими от сердца напевами несут они глубокие и необъятные чувства.
У молодой женщины, на шестом месяце ее первой беременности, всегда рядом с еще не увядшей девичьей красотой и еще не утраченной девичьей застенчивостью уже радуют глаз приметные ласковые черты будущей матери.
Старый чабан сложил песню о счастье. Об этом стало известно на всем Ставрополье: сообщали газеты, радио. Весной, в дождь, я приехал в то село, где жил автор песни о счастье, чтобы записать ее. На краю села разыскал его хату под соломенной, черной от дождя крышей. Постучал в дверь. Никто на мой стук не отозвался. Дверь оказалась не заперта. Я вошел в сенцы. Крыша течет, под ногами вода, как и на улице. Захожу в хату. Полумрак, потолок мокрый, на полу тускло блестит лужа. В углу, на кровати, укрытый шубенкой, лежал старик. Я спросил:
— Дедушка, это вы сочинили песню о счастье?
— Я, сынок, я, — ответил старик и закашлялся. — А на что тебе знать?
— Хочу записать вашу песню.
Я раскрыл зеленую тетрадь, приготовил карандаш. Задыхаясь от тяжелого кашля, старик не мог вымолвить ни слова. Потом он утих, и я понял, что автору песни о счастье — очень плохо. Я отыскал сельский Совет и сообщил об этом. Когда к нему пришел сельский фельдшер, старик уже был мертв.
Его похоронили с почестями. Из района приехал на грузовике духовой оркестр. На кладбище собралось все село. Был митинг. Цветы. Речи ораторов.
Просторный, обставленный красивой мягкой мебелью кабинет председателя колхоза «Вперед, к коммунизму!», все стены увешаны переходящими знаменами. На самом большом красном знамени с бахромой и лентами были прикреплены четыре ордена: два ордена Ленина и два — Трудового Красного Знамени.
Вечер в селе после грозового ливня. Тополиные листья прилипли к мокрой земле. Сладко пахнет цветущей акацией и свежими огурцами.
Залужавшая земля. Степной штиль. Заштилевшее море пшеницы.
Хутор Лягушевка переименован в хутор Свобода. Как знать, может быть, переименован и хутор Кынкыз.
ИЗ ПРОЧИТАННОГО
У А. Фета:
Вижу, кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне.
У А. К. Толстого:
Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле…
9
Дома — хорошо! На душе тепло, спокойно. Меня встретила знакомая домашняя обстановка, все здесь было своим, привычным. Я взял на руки Ивана. Он начал подпрыгивать у меня на коленях с такой проворностью, что я невольно рассмеялся. Мне казалось, за мое отсутствие малец заметно подрос и теперь этим своим старательным подпрыгиванием как бы хотел порадовать отца. Марта тоже смеялась, тихонько так, без видимой причины, исключительно потому, что нам с Иваном было весело; я, смеясь, подбрасывал его на руках, а он пружинил и сучил ножками, заливаясь веселым детским смехом.
Когда излияние отцовской и сыновней радости наконец кончилось, Марта взяла Ивана на руки, платочком вытерла у него под носом и присела рядом со мной. Я подробно, как только смог, рассказал ей о похоронах моей геройской бабуси, о поездке в село Алексеевку и на хутор Воронцовский. А вот о встрече с Ефимией умолчал — сам не знаю почему. Марта спокойно, по-домашнему смотрела на меня своими большими, всегда чего-то спрашивающими счастливыми глазами. Видя этот ее о чем-то спрашивающий взгляд, ее радостные глаза, я, желая прихвастнуть, сказал, что во время поездки в Привольный твердо решил в самые ближайшие дни начать писать.
— Что же это будет — роман или повесть? — спросила она.
— Об этом я еще не думал, да и суть не в жанре, — ответил я. — Важнее всего мне было заставить себя вновь начать писать, и вот, кажется, заставил. Завтра же начну. Как говорится: лиха беда — начало! Мне бы написать первую главу, сделать нужный запев, а там дело пойдет.
И еще я сказал Марте о том, что мне хотелось бы назвать свою повесть как-то оригинально, по-особенному, и что такое особенное, несколько необычное, как мне казалось, название пришло тоже там, в Привольном.
— Какое же это название? — спросила Марта.
— «Запах полыни». Нравится?
— Не знаю.
— Цвет полыни, ее острый, постоянно плывущий над степью запах — это же постоянные спутники степняков, будущих героев моего произведения, — сказал я. — Без полыни, без ее горьковатого запаха невозможно себе представить ни степь, ни отары, ни чабанов.
— Это в прошлом? — грустно спросила Марта. — А теперь?
— То же самое, — отвечал я. — Полынь растет всюду, даже вокруг кирпичных зданий овцекомплекса. Да и название короткое, всего два слова: «Запах полыни». Мне нравится…
Я не сказал Марте лишь о том, что название «Запах полыни» пришло как-то вдруг, неожиданно, после того как я на похоронах встретил Ефимию, и это меня несколько пугало. И еще: пугала и озадачивала та легкость, с которой в эти дни работала моя голова, как я умело выстраивал сюжет и как со всех сторон приглядывался к тем героям, которые должны были поселиться в моем романе или повести. Пугало, озадачивало главным образом то, что в голове все складывалось удивительно легко и красиво. Люди и степь, степь и люди! Облюбованные мною, знакомые мне, и среди них, разумеется, на первом плане — бабуся, ее украинский говорок, и дед Горобец со своими волкодавами. И бабуся, и дед Горобец стояли передо мною и как бы говорили: «Ну чего медлишь, чего тянешь? Время-то уходит! Садись за стол и пиши».
На другой же день, словно, бы желая делом ответить бабусе и деду Горобцу, я купил пять толстых тетрадей и вечером, вернувшись с работы, приступил к давно желанному делу. Марта искупала Ивана, уложила в кроватку. Сама легла в постель, взяла какую-то книгу, тихонько перелистывала ее, стараясь не мешать мне, и я спиной чувствовал, что она поглядывала на меня. Я же раскрыл новенькую, пахнущую краской тетрадь и тут — стыдно признаться! — испугался. Чего бы вы думали? Чистого листа бумаги. Перед раскрытой тетрадью я впервые почувствовал какой-то странный, неведомый мне страх. Я смотрел на белый лист с голубыми, чуть приметными линиями-прожилками и ничего не мог записать. Почему-то теперь моя бабуся, дед Горобец и все те люди, которые не давали мне покоя, требовали, заставляли немедленно садиться за стол и писать, вдруг куда-то пропали, исчезли, будто их и не было, и я остался один с чистым листом бумаги, освещенным мягким светом лампы.
Не зная, что же мне делать — продолжать ли сидеть за столом или ложиться спать, я написал сверху на листе бумаги крупными буквами: «Запах полыни». Голова моя склонилась на тетрадь, и глаза закрылись. Сидя так, с закрытыми глазами, я увидел сперва землянку с густо заросшей осотом и чабрецом крышей, потом маленькую, лет двух, девочку в стареньком коротком платьице. Ничего вокруг — и только землянка и эта беспомощная девочка. Она только-только научилась ходить и сейчас, держась слабыми, худыми ручонками за дверной откос, силилась переступить порог, чтобы самой, без помощи матери, выйти на крыльцо. И вот тут-то, сидя с закрытыми глазами и явственно видя переступающую через порог девочку в коротком платьице, я впервые понял, о каком вымысле говорил мне известный писатель-лауреат. Эта девочка, с таким трудом переступавшая порог, не требовала, чтобы я садился за стол и писал, в жизни я ее никогда не видел — она была моим воображением. И как же я обрадовался, когда, склонившись на стол, увидел землянку с зеленой крышей — это то, что было мне хорошо известно, и эту воображаемую кроху, делавшую свои первые шаги в жизни. Так вот оно, оказывается, что мне было нужно и чего у меня недоставало, — воображения. С поникшей головой я просидел более часа, не притронувшись к бумаге. Дождавшись, когда девочка наконец-то выбралась на крылечко и, щурясь, посмотрела на солнечный день, я захлопнул тетрадь и сказал самому себе: «Вот где, оказывается, всему разгадка! Я еще не могу писать потому, что плохо представляю себе не тех людей, с которыми я встречался, и не ту жизнь, которую хорошо знал, а плохо представляю себе жизнь и людей воображаемых, вот таких, как эта девочка, самостоятельно переступившая порог».
Я встал, разделся и, потушив настольную лампу, лег рядом с Мартой. Я думал, что она давно уже спала. Она же, повернувшись ко мне, спросила:
— Ну что? Так ничего и не написал? Не получается?
— Почему ты об этом спрашиваешь? Написал, сколько мог…
— Хитришь, Миша? — Марта приподнялась на локте, и в темноте я увидел ее большие, тревожные глаза. — А с женой хитрить не надо.
— Ты о чем? — Я почувствовал, что краснею. — О какой еще хитрости ты говоришь?
— О той самой… Не пишется повесть? Да?
— Откуда тебе известно?
— На то я твоя жена, чтобы мне все было известно о муже. Я же не спала и слышала не только, как ты вздыхал, а и то, как ты разговаривал сам с собою… Почему же не пишется повесть? Мне ты можешь сказать?
— Если бы я знал… В голове-то она пишется, и еще как! Можно позавидовать! А вот раскрыл тетрадь, увидел белый лист бумаги — и испугался. Разбежались мои герои. Осталась одна девочка.
— Какая девочка? — спросила Марта.
— И ты ее не знаешь, и я ее не знаю. Я выдумал ее… Помнишь совет лауреата, Никифора Петровича? Забыла? А я помню. Так вот эта девочка — назовем ее Пашей — мною выдумана. Понимаешь, выдумана, а для меня она как живая. Вот эта маленькая Паша и есть как раз то, что мне как будущему писателю нужно. С нее, с ее первых робких шагов, которые она сделала, переступив высокий порог, я и начну повесть.
— Так почему же не начал? — искренне удивилась Марта.
— Очевидно, по той причине не начал, что то, о чем необходимо написать, во мне еще не созрело, — сказал я, желая как-то попроще выразить свои мысли. — Сегодня я увидел одну девочку, землянку и порог. Мне же необходимо видеть, представить себе в своем воображении многих людей и написать о них так, чтобы мои душевные волнения, связанные, к примеру, с видением девочки Паши, передавались бы тем, кто станет читать написанное мною.
— Ну и писал бы так, — оживленно, радостно сказала Марта. — А ты закрыл тетрадь и лег спать.
— Писать так, как я хотел бы и как надо писать, — это непросто, — сказал я и подумал, что Марта меня не понимает, потому что мысли свои я выражаю как-то запутанно. — Видишь ли, Марток ты мой большеглазый, не вина, а беда моя состоит в том, что я еще не имею власти над словами, какую обязан иметь настоящий писатель. Они, слова, еще плохо мне подчиняются, не слушаются меня. Вообще писать на бумаге умеют все грамотные люди, а вот иметь власть над словами, какую, скажем, имеет полководец над своей армией, — такое, думаю, дано не каждому.
— Может, и тебе не дано? — с грустью спросила Марта.
— Не знаю, не знаю… Может быть, и так.
— Послушай меня, Миша, брось эту затею, — как-то уж очень обыденным голосом сказала Марта. — Зачем мучаешься? Брось, и все. Мало тебе еще того, что каждый день пишешь в газету? Выбрось из головы свою повесть.
— То есть как это — выбрось из головы? Не понимаю.
— Что тут понимать, Миша? Подумай: днем тебе придется писать в редакции, а ночью дома. Поездки в командировки, спешка, гонка. Силы надорвешь. А зачем? Писателей и так уже ох как много. Ну, пусть станет на одного меньше.
— Как же я сумею рассказать людям о том, о чем знаю только я один?
— Другие расскажут.
— Нет, другие — это не я.
— Миша, я для тебя самый близкий человек, и ты послушай моего доброго совета, — теперь уже взволнованно говорила Марта. — У тебя семья, растут сын Иван, дочь Вера, — Марта прижалась губами, к моей щеке, улыбаясь и как бы давая понять, что хочет сказать что-то веселое. — Миша, а если мало двоих детей, то мы можем постараться. Нам с тобой это нетрудно… Но если говорить всерьез, то вот тебе мои слова: живи, Миша, как живут все, и ты будешь счастлив.
— Любые твои слова приму, только не эти.
— Ведь я же добра тебе желаю.
— Жить, как живут все… Какое же это счастье?
— Миша, ты не хочешь меня понять…
— Пойми же и меня! В твоем добром совете я вижу только половину жизни и этот совет принимаю.
— И прекрасно!
— Но наполовину жить я не смогу, да и не хочу. Вторая же половина моей жизни — литература. И как же без нее? Птица с одним крылом не летает.
— А если со второй половиной ничего у тебя не получится? — спросила Марта. — Сегодня просидел за столом — не получилось, завтра — повторится то же. Что тогда? Мучиться, страдать, нервничать? Зачем?
— Должно получиться, — уверенно ответил я. — Как у слепого котенка, когда он подрастает, открываются глаза, так и у меня: постепенно я начинаю прозревать и видеть то, чего раньше не видел. И обязательно прозрею. Начало — увиденная мною переступающая порог девочка Паша. Пойми, Марта, как это важно — увидеть эту девочку.
— Не могу я понять, что здесь важно, а что не важно, — тихо и грустно сказала Марта. — Когда я слушала тебя, то вспомнила одну статью… Где же я ее читала? Или в «Огоньке»? Или в «Крокодиле»? А может, в «Литературке»? Не помню, забыла. Это было давно, еще до нашего знакомства. Но зато хорошо помню: в статье говорилось о том, как молодые люди, вроде тебя, становятся писателями.
— Как же? Интересно.
— Оказывается, не просто и не все одинаково, — так же тихо и так же грустно продолжала Марта. — Одни приходят в литературу смело, как бы из самой литературы. Они уже готовенькие, все умеют, им все легко дается. Они знают, как и о чем писать надо и как и о чем писать не надо, потому что много читали чужих книг и как следует успели натренироваться. У каждого есть свой любимый классик, которому молодой писатель усердно подражает, и делает это так умело, так тонко, что простым глазом и заметить невозможно… А другие молодые люди приходят в литературу, как было сказано в той статье, из самой гущи жизни. Эти писатели, как правило, стеснительные, неотесанные, ничего не знают и ничего не умеют. Все, за что они берутся, получается у них не так, как надо. Вот таким-то и приходится нелегко. Они пишут не то, о чем писать необходимо, никому не подражают и пишут о том, о чем до них еще никто не писал…
— Погоди, погоди, — перебил я. — Чего ради завела этот разговор?
— Неужели не догадался? Из жалости к тебе, Миша. — Марта снова прижалась к моей щеке губами и уже не улыбалась. — Подумай сам: кто ты? К первым, к тем, кто уже готовенький, кто все умеет и все знает, ты никак не подходишь. Это ясно. Может, не подходишь и ко вторым? Может, относишься к каким-то третьим, которые вообще ни к чему не способны и ничего никогда не напишут? Так чего ради тебе туда лезть? Зачем себя мучить? Кому нужны твои бессонные ночи? Живи спокойно, как живут все нормальные люди…
Ну что ж, возразить нечего. Сказано и просто и понятно. Живи, Михаил Чазов, рядом со своей половиной, живи спокойно, как живут все н о р м а л ь н ы е люди. Значит, я ненормальный. А что? Может быть, Марта по-своему и права? Но если права, то только по-своему, чисто по-женски. По-моему же, спокойной жизни вообще ни у кого никогда не было и нет. Человеку она, спокойная жизнь, противопоказана. У каждого беспокойство — свои, с чужим его не спутаешь. Только у одного это беспокойство поменьше, а у другого — побольше.
10
Если бы моя Марта знала, что происходит со мной в эти дни! Это уже не беспокойство — нет! Это тревога — непонятная, необъяснимая: я начал писать повесть и снова начал думать о Ефимии.
Бывает же такое: сажусь ночью к столу, раскрываю тетрадь и не хочу думать о Ефимии, а думаю. То вижу ее такой, какой встретил тогда, на стрижке овец, то такой, какой она была, когда, не постучав, запросто, как к себе, входила в мою комнату. И самое удивительное было в этой моей тревоге: чем чаще появлялась передо мной Ефимия со своими ячменными колечками волос на висках, со смеющимися глазами, тем мне легче писалось и тем явственнее я чувствовал горьковатый запах полыни. В чем же тут дело? Как можно соединить мое писание с видением Ефимии? Марта боялась за меня: дескать, силы надорву, если днем буду писать для газеты, а ночью для себя. Наивная душа, напрасно боялась. Верно, с работы я всегда возвращаюсь усталым. Но наступает ночь, я сажусь к столу, пишу, не отрываясь, всю ночь, и ночью, за работой, отдыхаю — это она, Ефимия, утраивает мои силы. Видя ее, мысленно разговаривая с нею, вспоминая о том, что было между нами, я всегда с радостью открывал тетрадь, и чистые листы теперь меня уже не пугали. Как-то неожиданно, сами по себе, появлялись слова, именно те, какие были мне нужны, и я в течение месяца исписал своим мелким почерком две тетради. Как мне казалось, я сумел зримо показать и те усилия девочки Паши, с какими она перебралась через порог, и то, как Паша подросла и стала помощницей в доме, и то, как она, трудолюбивая, старательная, пасла гусей на выгоне, как приносила для телка траву, как убирала в хате, помогая матери.
Просиживая часами над тетрадью, я старался не думать о Ефимии и все же думал о ней, сам не понимая, зачем я это делаю. Я рассуждал, как мне казалось, логически, здраво: я женат, она замужем, между нами, как говорится, все кончено. Я даже не знаю, где она сейчас живет, да и знать не хочу. Тогда, на похоронах, она назвала какой-то хутор Кынкыз. Существует ли вообще такой хутор на земле и с таким странным названием? Или Ефимия придумала его специально для меня? У нее родилась дочка. Она сама сказала мне об этом и, как я заметил, как-то странно улыбнулась. Ну и что же? Может, странно улыбнулась потому, что на похоронах иначе улыбаться нельзя? А может быть, эта ее странная улыбка хотела сказать мне, что ее дочь — это и моя дочь? Она даже сделала ударение на словах «наша дочка». И я понял, зачем она так сказала, и, возможно, поэтому какая-то внутренняя сила помимо моего желания заставляла меня думать о Ефимии. И я опять возвращаюсь к тому же, с чего и начал: почему-то всегда, когда я думаю о Ефимии, мне пишется легко и почему-то в это время я чувствую запах полыни так, будто ее, стального оттенка, веточки лежат на моем столе. Вот это «почему» и было моим уже не беспокойством, а тревогой.
ИЗ ТЕТРАДИ
Новые, молодые писатели приходят в литературу следом за старыми, за теми, кто из нее уже уходит, и между ними тянется невидимая глазом нить, существуют родство, взаимосвязь, преемственность, если хотите, говоря сегодняшним языком, наставничество и ученичество. Есть ученики, которые не останавливаются и идут дальше своих наставников, приумножают с пользой для литературы их опыт, не копируют мастерство своих учителей, не подражают им. И есть среди таких учеников эпигоны. У греков — это слово обыденное: эпигон значит по-гречески тот, кто родился после, то есть не первый, и только. У нас же оно, как известно, имеет обидный, пренебрежительный оттенок: эпигон — это человек, который всегда следует за кем-то, кому-то слепо подражает. Чаще всего эпигоны бывают явные, очевидные, их узнать нетрудно, ибо у них, как правило, нет ничего своего, все взято у кого-то, как бы напрокат или взаймы, и поэтому написанное ими легко отличается от оригинала.
Однако есть эпигоны искусные, люди незаурядные, можно даже сказать, в своем роде талантливые. Их подчас невозможно отличить от тех, кому они подражают. Обычно они пишут многотомные романы-эпопеи и длинные поэмы, и тот, кто закончил читать последний том, невольно говорит: да, хорошо! И название романа или поэмы придумано удачно, и тема взята широко и злободневно, и язык чистенький, и описание людей, природы достойно похвалы — словом, придраться не к чему. И все же, закрывая последнюю страницу, тот же читатель и так же невольно к слову «хорошо» непременно прибавит: «Как у Льва Николаевича Толстого». Или: «Да, чувствуется явный Николай Васильевич Гоголь». Или: «В точности, как у Ивана Бунина».
Вот это к а к — самое неприятное и самое страшное. Не как у тебя, а как у кого-то другого, — вот что обидно. Не зря же в народе существует поговорка о своем дитяти: «Пусть оно будет хоть и сопливое, но зато свое». То есть пусть будет что-то такое, чего у других не было и быть не могло, — с в о е.
Сказанное, в полной мере относится и ко мне. Я хочу, но еще не знаю, как мне добиться этого с в о е г о? Об этом я думаю всегда, когда пишу и когда не пишу, оно, это с в о е, постоянно меня тревожит, не дает спокойно жить. Тем более теперь, когда прошло более года с того памятного вечера, когда я на чистом листе написал «Запах полыни», и из задуманной небольшой повести в моих мечтах уже вырос роман-эпопея, по моему замыслу состоящая из трех книг. Написана, да и то еще не набело, пока что одна книга — «Суровая юность», а две имеют лишь название: «Степь да степь» и «Добрые всходы».
Перечитывая «Суровую юность», я снова вспомнил свои же мысли о том, что писать может всякий грамотный человек, если у него, разумеется, есть тяга к сочинительству. И в том, что такая тяга у меня имеется, видится мне не вина моя, а беда моя. И суть этой беды состоит в том, что я, собираясь в дальнюю дорогу, переоценил свои силы и свои скромные возможности. Написать роман-эпопею в трех книгах — это же невероятно трудно. Тут нужны не только смелость и завидная усидчивость за письменным столом, а и то главное, что именуется талантом художника. Есть ли этот талант художника у меня? Умею ли я с помощью слов рисовать зримые картины природы, портреты людей? Если судить по первой книге моей эпопеи, то с сожалением следует признать: таланта художника на ее страницах не обнаружил даже сам автор. Факт весьма огорчительный. Я знаю описанную мною жизнь, то есть жизнь моей бабуси, и знаю тех людей, с которыми встречался в Привольном и во многих селах и хуторах. Но одного знания жизни людей, оказывается, мало. Нужно мастерство. А как оно достигается?
Кто-то сказал: настоящее искусство начинается там, где кончается равнодушие. Правильная мысль. Книга хороша, когда она заразительна, тогда от нее нельзя оторваться, она заставляет сопереживать вместе с описанными в ней героями, понимать их горе, их радость. Моя же «Суровая юность» не волнует даже меня. Я читал страницу за страницей не потому, что не мог оторваться от чтения, а потому, что мне надо было перечитать то, что сам я сочинил. И еще: я совершил ошибку, взявшись за произведение крупное, многоплановое. Если во мне есть потребность к литературным занятиям, то мне следовало бы испробовать свои силы на коротких рассказах, такого размера, как те же мои «Сельские этюды», то есть мне необходимо было поступить так, как поступали почти все великие романисты. И я снова вспомнил того штангиста, который решил удивить публику, заказал слишком большой вес штанги и не взял ее.
Так что же мне делать? Как поступить? Я сжег рукопись первой книги своей трилогии и понял ту простую истину, что все большое вырастает из малого. И если в душе у меня живет необоримое желание к писанию, то лучше всего свои силы, свою энергию употребить на сочинение коротких рассказов. Только пройдя эту нелегкую школу, овладев этим трудным жанром, мне можно будет приняться за большой роман.
ИЗ ПРОЧИТАННОГО У Л. Н. ТОЛСТОГО
Я давно уже составил себе правило судить о всяком художественном произведении с трех сторон: 1) со стороны содержания — насколько важно и нужно для людей то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение тогда только произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; 2) насколько хороша, красива, соответственна содержанию форма произведения; 3) насколько искренно отношение художника к своему предмету, то есть насколько он верит в то, что изображает. Это последнее достоинство мне кажется всегда самым важным в художественном произведении. Оно дает художественному произведению его силу, делает художественное произведение заразительным, то есть вызывает в зрителе, слушателе и читателе те чувства, которые испытывает художник.
Так вот где собака зарыта! Вот оно, то главное, то основное, что мне так нужно и на чем, как здание на прочном фундаменте, стоит искусство. Нет, не домысел, не выдумка, о которой говорил мне Никифор Петрович, а реальные предметы, живые люди, то есть все то, что существует на земле. И всего три стороны, три условия: полезное, важное содержание, непременно открывающее новую сторону жизни; красота и совершенство формы, которая соответствует содержанию: для нас, пишущих, — это язык; и наконец, как бы венец всему — искренность художника, его глубокая убежденность, его вера в то, что он описывает.
Как, оказывается, просто и как понятно. Невольно задумаешься: а есть ли в тебе эти три стороны таланта? Если же их нет, тогда надобно преклонить голову перед Мартой и сказать ей: да, ты права, надо бросать все и жить так, как живут все. Но права ли Марта? И кто точно установит, есть ли у тебя эти три стороны таланта, так необходимые художнику? Кто даст ясный и безошибочный ответ? Только сам ты сможешь ответить на этот вопрос, и не рассуждениями, а практическими делами, то есть ты должен создать такое художественное произведение, которое приносило бы людям пользу, чтобы по форме своей оно было красиво и было бы — а это самое главное — написано с той любовью и с той неподдельной искренностью, которая, по выражению Льва Николаевича, делает художественное произведение заразительным, и чтобы то, что сам ты передумал, перечувствовал и выстрадал, передавалось бы читателю.
Как этого достичь? Как добиться? Трудом, и только трудом. Надо писать и писать, делать, переделывать, переписывать, перестраивать, улучшать, искать и находить. Так каждый день. И не то важно, что ты пишешь — повесть, рассказ или роман-эпопею в трех книгах, а важно то, как ты написал, как сделал. И не следует заботиться о том, будет ли в твоем писании выдумка или ее не будет. В другом месте Лев Николаевич говорил так: «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть». Своими словами: не то, что пришло тебе в голову, а то, что ты видел и хорошо знаешь. Стало быть, Лев Николаевич не на стороне известного романиста-лауреата. Он как бы подтверждает мои мысли о том, что надо видеть и описывать жизнь такой, какая она есть, и не выдумывать ее, не фантазировать, а брать и жизнь, и людей такими, какими они существуют не в твоем воображении, а в реальной действительности. И самое правильное, самое основное: не рассуждать о том, как делать, а писать и писать о том, что тебе досконально известно, что тебя волнует, что огорчает или радует.
11
На другой день утром, когда я пришел в редакцию, все еще думая о мыслях Льва Толстого и о своих ночных записях в тетради, вспоминая их и как бы перечитывая, мне было сказано, чтобы я срочно зашел к Павлу Петровичу. (Замечу в скобках: с той поры как я стал собкором, еще не было случая, чтобы меня вызывали, как обычно, а всегда срочно.) Я незамедлительно направился в кабинет Павла Петровича, уже зная, зачем я срочно ему понадобился: для очередной командировки. Только мне пока еще не было известно, куда, в какую сторону на этот раз ляжет моя дорога. Да и какая разница — куда? Ехать так ехать.
В своих предположениях я не ошибся. Подавая мне свою пухлую руку и приятно, по-отцовски улыбаясь, Павел Петрович спросил:
— Ну что, Михаил, кажется, засиделся дома? Можно сказать, пригрелся у молодой жены под боком. Как, а?
— Надо ехать? — не отвечая, деловито спросил я.
— Куда?
— На этот раз далеко. В Ашхабад. Еще не бывал там?
— Не довелось.
— Ну вот и побываешь. Красивая столица, стоит на равнине, как на ладони, и тут же, рядом, белеют пески, их видно из окна гостиницы. — Павел Петрович прошелся по кабинету, скрестив на груди руки, и я уже знал: так он делал всегда, когда собирался приступить к основному разговору. — Так вот в чем задача, Михаил. В Туркменской республике хорошо поставлено мелиоративное дело. Вода там делает чудеса! Срочно нужна статья специалиста, человека знающего. Пусть туркмены поделятся своим опытом. В статье должно быть побольше убедительных фактов и примеров. Хорошо бы заполучить статью главного мелиоратора республики. Обычно люди эти слишком заняты да и, сказать по правде, не очень большие мастера излагать на бумаге свои мысли. Помоги. Это твой долг. Как это делается? Тебя не учить, знаешь. Кроме того, от Михаила Чазова мы ждем очерк — размером не стесняю. Нарисуй широкую и правдивую картину борьбы тружеников республики за обводнение земель.
— Когда вылетать?
— Завтра. Билет на твое имя уже заказан. Поезжай в кассу и получи. Вопросы есть?
Я пожал плечами:
— Вопрос один и тот же: сколько мне дается времени?
— Неделя. Хватит? День отлета и день прилета — один день.
— Маловато. Павел Петрович, как же я успею?
— Постарайся. И возвращайся непременно с готовой статьей главного мелиоратора и с готовым очерком.
— Когда же я их напишу?
— Найди время. Есть не только день, а и ночь. — Павел Петрович поудобнее уселся в кресле, положил свои полные руки на стол. — Все! Завтра ты должен быть в Ашхабаде. Желаю успеха! — И предупредил: — Учти, там стоит жара, одевайся по-летнему.
Вот и снова, как поется в песне, путь-дорога дальняя. И сборы, как всегда, были не долгими. В руке тот же, набитый до отказа, портфель, в нем зеленая, с потертыми углами тетрадь, теперь она уже не оставалась скучать в ящике стола. Через плечо перекинут плащ болонья, на голове примостилась старенькая, пролежавшая зиму без дела соломенная шляпа. Билет, паспорт сунул в нагрудный карман легкой, с короткими рукавами рубашки и на прощанье обнял Марту. Она смотрела на меня, как всегда, своими большими, о чем-то спрашивающими глазами.
— Миша, хорошо Ивану, он спит и не знает, что ты уезжаешь, — сказала она, силясь улыбнуться. — Ты так часто оставляешь нас с Иваном, что мы, чего доброго, можем от тебя отвыкнуть.
— За Ивана я спокоен, он еще несмышленыш, а ты только попробуй отвыкнуть.
— И попробую! — смело и нарочито весело ответила Марта. — А что? Возьму и отвыкну.
— Не сумеешь. Или сумеешь? — спросил я. — Нет, не сумеешь. А может, сумеешь?
Вместо ответа она положила руки мне на плечи, поцеловала меня, свежевыбритого, пахнущего одеколоном, и по тому, как прильнула ко мне, я знал; она говорила в шутку, ибо и сама понимала, что ни я от нее, ни она от меня никогда не отвыкнем и наши вынужденные частые разлуки не разделяют нас, а сближают еще больше.
Об этом я думал и сейчас, когда поднимался по отлогому, мягко покачивающемуся под ногами трапу и когда входил в душное чрево самолета. Слушая гудящий говор рассаживающихся по своим креслам пассажиров, шорох ступающих по ковру ног, я отыскал свое место и, чтобы не мешать другим в проходе, поскорее уселся. Портфель поставил под ноги, посмотрел в круглое оконце, увидел, как невдалеке от самолета проехал бензозаправщик.
Но перед глазами у меня стояла Марта. Задумавшись, я не заметил, как рядом со мной уселся молодой мужчина с копной светлых волос на голове и с тонкими, умело подбритыми рыженькими усиками. Я повернулся к нему и с трудом узнал в нем своего однокурсника. Он тоже, улыбаясь и растягивая свои тонкие усики, воскликнул:
— Михаил!
— Кирилл! Неужели ты?
— Я и есть! А что? Изменился?
— Да, есть, конечно… Тоже в Ашхабад?
— Зачем же спрашиваешь? Рейс-то беспосадочный, ашхабадский. — Кирилл обнял меня сильными руками. — Ну, здорово, Миша. Где же ты пропадал?
— А ты?
— Я-то в Москве.
— И я тоже…
— Вот оно — удивительное и невероятное! — все так же смеясь и еще больше ломая тонкие усики, сказал Кирилл. — Живем в одном городе и ни разу за столько лет не встретились… Мое место впереди, в третьем ряду.
— Так ты поменяйся.
— Будет сделано! Надо же нам вместе посидеть, поболтать, вспомнить молодость. Подумать только! Встретились — и где? В самолете! Как пишет «Крокодил», нарочно не придумаешь. А вот и твой сосед.
Подошел пожилой туркмен с седой, аккуратно подстриженной бородкой.
— Папаша, пожалуйста, сядьте на мое место, — обратился к нему Кирилл. — В третьем ряду, у окошка. Мы — старые друзья, хотим посидеть вместе. Пойдемте, папаша, покажу место. Очень удобное.
Кирилл увел седого, с коротко подстриженной бородой туркмена, который охотно согласился занять место у окошка. Пока Кирилл был занят обменом кресел, и вспомнил наше с ним знакомство. Оно произошло еще тогда, когда мы, желторотые птенцы, вместе поступали на литфак и жили в общежитии, в одной комнате. Кирилл Кныш и тогда уже носил светлую гриву, ходил с гордо поднятой головой, высокий, стройный, представительный, и был как-то у всех на виду и со всеми знаком. Если он появлялся в шумном факультетском коридоре, все абитуриенты уже знали, что это Кирилл Кныш. Кое-кто даже говорил ему вслед: поэт! Меня же в этом светлоголовом парне поражала необыкновенная общительность, умение поговорить с кем угодно и о чем угодно.
Кирилл Кныш приехал не то из Запорожья, не то из Днепропетровска. Говорил он без всякого украинского акцента, хотя украинский знал. В стареньком чемодане привез тетради своих стихов, которые он, подражая известным поэтам, читал нараспев, читал всем, кто только не отказывался слушать. На второй же день нашего знакомства он сказал мне, положив руку на мое плечо:
— Михаил Чазов, со мной не пропадешь!
Он узнал, что мне не дали койку в общежитии, и каким-то образом сумел получить там два места — для себя и для меня. Тех профессоров и доцентов, которым нам предстояло сдавать экзамены, называл по имени и отчеству. Каким-то чудом проник в кабинет декана, и прочитал ему свои стихи.
— Игнатий Савельевич был очень доволен моими виршами, — сказал он мне, тряхнув кудлатой головой. — Декан — человек с умом, он не только похвалил мои вирши, но и выразил удовлетворение тем, что на факультете будет учиться поэт.
Вступительные экзамены Кириллу давались трудно. Он не добрал два балла и все же был принят, как молодой, талантливый поэт. Но не прошло и полгода, и талантливый молодой поэт сумел перевестись в Литературный институт имени Горького. Прощаясь со мной, он характерным движением головы вскинул свою светлую гриву и сказал:
— Миша Чазов, не теряй меня из виду, со мной не пропадешь!
— Не понимаю, зачем тебе надо уходить из университета?
— Миша, дорогой, лично мне тут делать нечего. Учителя изящной словесности из меня все одно не получится. Подамся в литературу. Дело это и реальное, осязаемое, и выгодное. Тебе тоже советую. У тебя же отличные способности прозаика.
— Откуда тебе известно?
— Мне, дружище, все известно, — гордо заявил он. — Известно и твое сочинение по литературе на экзаменах. Ты же почти готовый Бунин!
Я промолчал.
Вскоре мы расстались. И вот надо же такому случиться — через столько лет встретились и вместе летим в Ашхабад.
Кирилл Кныш вернулся и уселся рядом.
— Сейчас поднимемся в небеса, — сказал он. — Целых пять часов мы вместе. Дорога дальняя, нетряская, успеем наговориться вволю. Сколько же лет мы не виделись?
Мы задумались, мысленно подсчитывали, сколько же прошло лет. В это время самолет вырулил на бетонную полосу, постоял, работая моторами и как бы решая, что же ему делать — взлетать или не взлетать? Постояв еще немного, он, разбежавшись, легко оторвался от земли и начал набирать высоту. Я слушал напряженный, с воем, гул моторов, видел, как за оконцем разрывались и оседали белые клочковатые облака, и мне показалось, как тогда, когда я летел в Кишинев, что летчики взяли курс не на Ашхабад, а на Ставрополь. Думая, что часа через полтора мы приземлимся на знакомом мне аэродроме, который лежал на высоком плато, среди степи, я мысленно уже обратился к Привольному, видел похороны бабуси, поднятый на руках и будто плывущий над толпой гроб. Мое воображение пошло и пошло гулять, и я уже был то в селе Алексеевка, то на хуторе Воронцовском, то, видел Ефимию, слышал ее голос: «Поздравь меня с рождением нашей дочери». Надо полагать, я увидел бы еще многих привольненцев и заглянул бы еще куда-нибудь и подальше, если бы не услышал над ухом голос
Кирилла:
— Дружище, что так задумался?
— Смотрю, какой открывается простор.
— Что — простор! Не ново. Михаил, расскажи о себе. Как жил эти годы? Что делаешь?
— Жил и живу обычно, — ответил я. — А работаю разъездным, вернее, летающим собкором. Должность беспокойная, много приходится путешествовать, писать.
— И все?
— Разве этого мало? Да, женат, отец семейства.
— Да ну?! — Кирилл от удивления откинул свою кудлатую голову. — Неужели уже папаша? Чудеса! А я это счастье обхожу десятой дорогой. Люблю личную свободу.
Пока наш лайнер, подставляя яркому заоблачному солнцу свои серебристые крылья, занимался своим обычным делом — летел, как мне все еще казалось, не в Ашхабад, а в Ставрополь, я многое успел узнать о своем студенческом друге.
— Самым главным событием в моей жизни стало то, — говорил Кирилл, — что я уже литератор, член Союза писателей.
— Поздравляю от души, — сказал я.
— Но пишу не стихи, а, как сказал поэт, презренную прозу.
— Почему?
— Видишь ли, Миша, стихи — это юности забава, а проза — дело серьезное и надежное во всех отношениях, — пояснил он.
Узнал я и о том, что у Кирилла вышло два романа в жанре современного детектива и что теперь он уже не Кирилл Кныш, а Кирилл Несмелый.
— Ну, как псевдоним? — спросил он и потрогал пальцем шнурочек рыженьких усиков. — Удачно подобрал?
— Да как сказать… Ты же, напротив, смелый.
— Так в этом-то и вся штука! Пусть считают меня не смелым, а я смелый, — охотно пояснил Кирилл. — Вот если бы я взял псевдоним Смелый, было бы совсем не то. Скромно: Несмелый. И оригинально. А что такое Кныш? Кирилл Несмелый — красиво! Два слова, а какое звуковое сочетание, и как они привлекают к себе внимание. Меня сразу стали замечать. Часто слышу вслед: «Кто это?» — «Разве не знаешь? Это же Кирилл Несмелый!» Мои читатели и мои знакомые быстро привыкли. Да это и не удивительно. К примеру, к псевдониму Горький тоже сразу привыкли. Горький, значит, несладкий. Несмелый — значит стеснительный.
Стало мне известно и о том, что Кирилл Несмелый летел в Ашхабад на съемку многосерийного художественного фильма, который снимался в Туркмении, на натуре, по мотивам его романа «Человек в черных очках».
— Детектив сугубо современный, пальчики оближешь, — весело добавил мой студенческий друг. — Неужели не читал роман?
— Как-то не пришлось.
— Жаль. А твои «Сельские этюды» я читал, — сказал Кирилл, продолжая поглаживать пальцем тонкие усики. — Правда, не помню, когда именно, но читал.
— Вот не думал, не ожидал.
— Да, читал, — уверенно подтвердил он. — А запомнил только один рассказик. О полыни. Читал и удивлялся: как ты опоэтизировал эту сорную траву, горькую на вкус и противно пахнущую. И не только удивлялся, а и не понимал: зачем описывать полынь с такой любовью?
— Мне кажется, обо всем, о чем пишешь, необходимо писать с любовью, — заметил я. — Без нее, без любви, ничего хорошего не получается.
— Нет, не скажи! — смело возразил Кирилл Несмелый. — Литература — это тебе не амуры, а дело серьезное и сугубо практическое, которое сперва приносит деньги, а потом славу и деньги. — Он усмехнулся, и тоненькие его усики изогнулись. — Разумеется, лучше, если не только деньги, но славу и деньги. Слава, не отрицаю, хорошо, но деньги — лучше. Как? А?
Я промолчал. Да и что я мог ответить? Сам этот вопрос казался мне и странным, и непонятным, и ненужным. У меня еще не было ни денег, ни славы, об этом я как-то не думал.
— Не мне, Кирилл, судить, — чистосердечно сказал я, — что лучше, а что хуже.
— Это верно, — согласился мой бывший друг. — Но сам-то ты, надеюсь, пописываешь? Разумеется, помимо газетных статей и очерков?
— Пробую, — неопределенно ответил я. — Пытаюсь.
— И отлично! В деньгах, надо полагать, испытываешь затруднения? Говори, говори, не стесняйся.
— Не о чем говорить, — ответил я. — Если же сказать правду, то меня не беспокоят ни деньги, ни слава.
— Чудак! — Кирилл от души рассмеялся. — Так что же тебя беспокоит?
— Как писать и о чем писать.
— Ну и как? Удалось тебе познать сию премудрость?
— Нет, пока не удалось.
— Почему же?
— Трудно. Один уважаемый романист — да ты должен его знать, — Никифор Петрович Д., советует сперва изучить жизнь, а потом самому ту жизнь выдумать и такую ее, выдуманную, описывать. А вот Лев Николаевич Толстой говорит, что выдумка не нужна — писать надо правдиво, то есть то, что есть в жизни, а главное — искренне… А как считаешь ты?
— Никак! Голову надо иметь на плечах, вот что я считаю. — Кирилл опять рассмеялся. — Поразительно, что этот Никифор Петрович мог тебе насоветовать? Знаем мы этих старичков. Живут прошлым багажом, не понимая того, что время идет вперед и что их насыщенные, так сказать, жизнью романы сейчас уже никому не нужны. Другое дело — советы великого старца из Ясной Поляны. Да и то этот великан все меряет на свой большой аршин. — Кирилл смеялся весело, от души, а я смотрел на него и не мог понять, что же здесь было смешного. — Значит, Никифор Петрович говорит: сперва жизнь изучаешь, а потом ее выдумываешь? Так? А Лев Толстой требует писать правдиво, красиво и искренне? Верно я понял?
— Да, верно.
— Тогда я спрашиваю: зачем вся эта канитель? — Кирилл положил руку мне на плечо, тяжело вздохнул. — Милый мой Миша, оставь в покое и современного романиста, и классика. Ведь в литературе все делается проще простого. Хочешь, научу, как писать романы, которые принесут тебе хорошие деньги? Нет, я серьезно. Не улыбайся, ты не барышня, а отвечай: хочешь?
Я не ответил. Мне не нравились ни манера самого разговора Кирилла Несмелого, ни этот его странный, беспричинный смех, ни то, что он изъявил желание научить меня писать романы. Однако я не решался ни остановить его, ни возразить ему — из вежливости.
— Ну так что? — Он наклонился ко мне, и теперь, видя низко подстриженные усики вблизи, я заметил, что они были совсем реденькие, и не рыжие, а желтоватые. — Говори: хочешь?
— Ну, допустим, хочу.
— Так вот слушай и запоминай, — начал он, все так же наклоняясь ко мне. — Что такое литература? Одни говорят: предмет культуры. Другие — художественное творчество. А я, Кирилл Несмелый, говорю: почва, на которой писатель, как старательный сеятель, должен выращивать для себя хороший урожай. А точнее: должен уметь делать деньги. Уясни, Миша: это — основа основ… Нет, не перебивай, а послушай. Все же остальное — изучение жизни, выдумка ее, правдивость, искренность, красота, вдохновение или душевный подъем — чепуха на постном масле! Потребность и спрос читателя. Почему я бросил писать вирши? Потому что не было спросу. Они, эти рифмованные штучки, никому не нужны. Так, детская забава, — на них много не заработаешь. И еще запомни: читатель — наш потребитель, и ему мы обязаны дать то, чего он от нас ждет и за что охотно заплатит, — занимательное чтиво! А что оно такое, занимательное чтиво? Во-первых, легкость изложения, острота сюжета. Во-вторых, секс. Да, да, секс, и как можно больше! И ты не красней, как девчушка, не мигай удивленными очами. В-третьих, приключение, детектив. И тут надобно, милый мой Миша Чазов, изучать не жизнь, а все то, что было написано до тебя — от Конан-Дойля до Юлиана Семенова, и умело брать оттуда все то, что только можно взять. Так что ты выбрось из головы добрые советы Льва Толстого и Никифора Петровича. Это старо. Вчерашний день. Как я писал «Человека в черных очках»? Никакой жизни я не изучал, ни о какой искренности не думал. Кое-что позаимствовал у других, кое-что взял в архивах, кое-что, разумеется, присочинил. Без этого не обойдешься, обязательно отыщется какой-нибудь дурак и уличит тебя в плагиате. А кому сие нужно? Никому. Далее: где происходит место действия «Человека в черных очках»? На границе, на Востоке. Время — гражданская война, басмачи. И вот в лагере этих отщепенцев, где-то в безжизненной пустыне, неожиданно на рассвете появляется человек в черных очках. Потом, когда на допросе человека в черных очках раздевают, то все ахают от удивления: перед ними стоит в обнаженном виде молодая, прелестная женщина… Ну что, интригующее начало? И не надо ни изучать жизнь, ни много раздумывать. Я сел к столу, к телефону не подходил, в клубе писателей не появлялся и, не отрываясь от бумаги, за месяц написал роман.
— За месяц? — удивился я. — Так быстро?
— Да, за месяц, — подтвердил Кирилл Несмелый. — А чего тянуть? Обо мне знаешь что говорят? Кирилл Несмелый, а действует смело, решительно. Каламбур, но удачный. Вот тут и псевдоним пригодился — для рекламы. И роман пошел к читателю. Его напечатали в журнале, издали отдельной книгой, дали приличный тираж. В печати появились хвалебные статьи. Но это уже, извини, разговор особый. Статьи сами по себе не появляются, да еще хвалебные, их надо организовать… Сейчас по роману снимается многосерийный — теперь это модно! — телефильм. Вот так, дорогой Михаил Чазов, надо работать. И ты думаешь, я изучал жизнь шпионов, тех, кто переходит нашу границу? Или бывал в пустыне, на границе? Зачем мне все это? Я впервые лечу в Туркмению, да и то так, любопытства ради. Просто хочу малость поразвлечься и потратить гроши. Запомни: задача была и осталась — побольше раздобыть такого рода сюжетов, чтобы там было все, что нужно для чтива. А изучать жизнь, а потом ее еще и выдумывать, при этом проявляя искренность, — этим пусть занимаются другие…
Откинувшись в кресле, я закрыл глаза и не отвечал. Кирилл Несмелый, наверное, решил, что я с ним согласен и что мне хочется, запрокинув голову, подумать. Он тоже поудобнее устроился в кресле и сказал:
— Лететь еще больше двух часов. Неплохо бы вздремнуть.
Мы уже не разговаривали до Ашхабада. Я не спал. Меня не покидала одна и та же мысль: неужели так, как пишет этот Несмелый — Кныш, можно писать романы? Его поучения, наставления казались мне не только неприемлемыми, а и оскорбительными. Мне никак не верилось, что все делается именно так, как говорил Кирилл. Наверное, прихвастнул, он это умеет. Даже литературный псевдоним — Несмелый — показался мне и странным, и неправдоподобным: наверное, Кирилл разыграл меня так, шутки ради. Но зачем же говорить: писатель должен уметь делать деньги, а остальное — чепуха. Это уже никак не похоже на шутку. Стало быть, литература, как ее понимает Кирилл Несмелый, — это заработок, и только? Не верю и не хочу верить. А как же те реальные люди, с которыми мы живем, и все то, что волнует их и волнует нас, писателей? Чем больше я вдумывался в смысл сказанного Кириллом Несмелым, тем больше убеждался в неверности его рассуждений.
В Ашхабаде, в открытых дверях самолета, нас обдало жаркое, сухое дыхание полуденного дня. Мы взяли такси и уехали в гостиницу. По дороге, не утерпев, я спросил:
— Кирилл, там, в самолете, ты пошутил?
— Ты о чем?
— Ну о том, о твоем, как бы это, методе, что ли?
— Чудак! — Кирилл сурово сдвинул брови. — Какие могут быть шутки?
— Говорил ты странно и непонятно.
— Миша, чего дурачком прикидываешься? — спросил Кирилл. — Тебе о деле толкую, а ты — «пошутил». Странно, какие могут быть шутки? Неужели не веришь мне? Не веришь, да?
— Не верю.
— Плохо. Выходит, я, твой друг, для тебя не авторитет? Никифор Петрович — авторитет, а я — не авторитет. Так, что ли?
— Как же можно все сводить к деньгам? Это же позор!
— Ты что? Сдурел, а? Какой позор?
— Самый настоящий. Да ты пойми…
— Ну и черт с тобой, не верь! — резко перебил меня Кирилл Несмелый, и стежечки желтых усов задвигались. — Я добра тебе желал, хотел как лучше…
— Какое же это добро? Не вижу никакого добра.
— Значит, еще слепой, если не видишь. — Он невесело усмехнулся. — Ничего, придет время, прозреешь и все увидишь. А пока можешь изучать жизнь и искренне писать этюды о полыни. Твое дело.
— Полынь тут ни при чем, — сказал я. — Я хочу знать…
— Ничего ты не хочешь знать, — снова перебил меня Кирилл Несмелый. — Давай не будем ссориться, а сделаем вот что. Устроимся в гостинице, приведем себя в порядок и сразу же пойдем в ресторан. Обед заказываю я. Посидим, выпьем по рюмке, и там я обещаю рассказать тебе самое главное, о чем в самолете не успел рассказать.
— Что же оно, это самое главное?
— Как нашему брату писателю жить, — улыбаясь и сгибая узенькие усики, сказал Кирилл. — Э! Вопрос не простой и не праздный. Надо знать, с кем дружить, кому угождать, перед кем снимать шляпу и преклонять голову. Что надо для того, чтобы, к примеру, «Литературка» заметила твой роман и сказала бы о нем пару теплых слов. Все это, брат, непросто, и говорить об этом необходимо особо. Это, если хочешь знать, специальная наука!
— В ресторан я не пойду, — ответил я.
— Гордишься? Строишь из себя праведника?
— У меня нет времени. Мне сейчас же надо идти в министерство.
— Изучать жизнь? А потом искренне ее выдумывать? Ну, иди, иди. Желаю успеха.
Мы расстались холодно.
12
Прошло, наверное, больше года. За это время я успел побывать и в Тюмени, и в Новосибирске, и на Клухорском перевале у спортсменов «Урожая», и в Баку, и в Ереване, а все лето провел в районах русского Нечерноземья. И вот однажды, в Москве, на остановке вблизи площади Восстания, я поджидал автобус, чтобы уехать домой. Чувствую, какой-то силач сзади навалился на меня, сдавил мои плечи, как клещами, и я услышал знакомый голос:
— Ба! Михаил Чазов! Никак не ждал встретить тебя здесь!
Это был Кирилл Несмелый. Он схватил мои руки, радостно пожимал их, смеясь и ломая свои узенькие рыжие усишки.
— Ну, вот теперь-то мы пообедаем вместе! — сказал он громко и решительно. — Тут, рядом, ЦДЛ. Ты в нем еще не бывал?
— Да как-то не довелось…
— Эх ты, хуторянин! — все так же весело воскликнул Кирилл. — Что ж ты так оплошал, брат? Ну вот теперь побываешь. Сделаешь, говоря образно, первый и весьма важный для себя шаг. Ресторан в ЦДЛ, скажу тебе, изумительный, кухня, уют, обслуживание — все на высшем уровне и все располагает к вдохновению! Я всегда там обедаю. Ну, пойдем, так сказать, под высокие радужные своды литературного Олимпа. Как я рад, как я рад, что встретил тебя! Ты же тогда, в Ашхабаде, побежал изучать жизнь и не оставил мне ни адреса, ни даже телефона, как в воду канул. Ну так как — пошли?
— А меня туда пустят?
— Голова садовая! — все так же весело смеясь, ласково сказал Кирилл. — Раз и навсегда запомни: с Кириллом Несмелым тебя всюду пустят. Скажу: со мной идет молодое дарование, желающее приобщиться… Ты чего краснеешь, как невеста перед женихом? Может, у тебя туговато с валютой? Пустяки! Я уже сказал еще там, в Ашхабаде, и повторяю здесь: стол и музыку заказываю я! Ну, пошли. Смелее, смелее!
Я был голоден, с утра еще ничего не ел, да и, признаться, все же интересно было побывать «под высокими и радужными сводами», и я согласился.
И вот мы уже в ЦДЛ. Да, красивое здание. Все, что я здесь увидел, было для меня и ново и непривычно: и парадный вход, и массивные двери, которые открывались с чуть слышным скрипом, словно бы говоря: «Прошу, прошу, пожалуйста…», и то, что у входа, за низеньким столиком, сидела миловидная, приятная на вид женщина.
Кирилл по-рыцарски наклонил свою чубатую светлую голову и умело поцеловал ей руку; кивнул на меня и сказал:
— Со мной, мой друг.
Нравились мне и картины, висевшие на стенах, и спрятанные под стекло, наверное, ради сохранности, какие-то книги — очевидно напоказ; и широкие ковровые дорожки, по которым мы шли в ресторан, как по сухой и мягкой траве.
Мы заняли столик в маленькой, с низким потолком и небольшими оконцами, комнате. Место было укромное, в самом углу, вдали от прохода.
— В большом Дубовом зале я не обедаю принципиально, — сказал Кирилл. — Там много света, ты у всех на виду и нет уюта. Этот столик — мое постоянное место, — добавил он не без гордости. — Ну, меня уже увидели.
Только тут, в ресторане ЦДЛ, казалось мне, я по-настоящему узнал Кирилла и воочию убедился, как же мне, грешному, было еще далеко до него, моего студенческого однокашника, и каким же серым, неотесанным провинциалом выглядел я рядом с ним. По всему было видно, что Кирилла Несмелого под этими сводами не только уважали, но и любили. К нему то и дело подходили какие-то люди, пожимали руку, здоровались подчеркнуто вежливо, говорили о чем-то своем, мне непонятном. Да и к столику подошла не одна официантка, а сразу две — обе блондинки, в белых, с кружевами снизу, передничках, молоденькие, улыбающиеся. Кирилл поднялся и весело, вроде бы шутя, обнял их, говоря, что меню, как всегда, смотреть он не будет, не в его это правилах, ибо привык целиком и полностью полагаться на вкус и на сообразительность этих прелестных красавиц.
— А ваш сосед? — мило улыбнувшись мне, спросила одна красавица. — Может, он нам не доверит?
— Как, Миша? Вопрос законный. Доверишь?
— Доверю, — покраснев, ответил я. — Что тебе, то и мне.
— Видите, девушки, у нас все синхронно, по-дружески, — смеясь, сказал Кирилл. — Так что, милые, подавайте все то, что нужно двум молодым литераторам. А что им нужно? Вы отлично знаете, не мне вас учить. — И он обратился ко мне: — Миша, водочки или коньячку?
— Мне все равно.
— И тут у нас порядочек, значит, коньячок, — сказал Кирилл и добавил вслед девушкам: — Да, икорочку непременно красную. Не забудьте свежие огурчики, помидорчики и грибочки солененькие.
Странное чувство неловкости, своей униженности испытывал я, сидя за одним столиком с Кириллом Несмелым. Мне казалось, что я попал сюда по какой-то непонятной случайности, что «высокие и радужные своды» не для меня и что я вообще ничем еще не заслужил чести обедать здесь. С этим неловким чувством я осматривал стены небольшой комнаты. Удивительные это были стены! На них там и тут красовались какие-то, мне непонятные, дружеские шаржи, какие-то хлесткие эпиграммы в стихах и в прозе на поэтов и прозаиков, как знаменитых, так и на совсем еще никому не известных. За столиками сидели литераторы, которых я не знал, они либо обедали, либо пили кофе, вполголоса разговаривая о чем-то своем. Кто-то входил, кто-то уходил. Все здесь выглядело чинно, благородно. Нам подали закуску и графинчик с коньяком. Кирилл повеселел еще больше, глаза у него заблестели как-то по-кошачьему. Он налил рюмки и, наклонившись ко мне, понизил голос, сказав:
— Михаил, ради всех святых, не глазей по сторонам, это нехорошо. Я понимаю, тебя заинтересовала эта настенная литература и живопись. Да, там много прелестных, остроумных афоризмов и забавных эпиграмм. Скоро две или три строчки будут написаны и обо мне. Я уже знаю, один юморист пишет. Но я прошу тебя: делай вид, что тебя не интересуют ни надписи на стенах, ни рисунки, ни сидящие за столиками. Запомни: здесь часто бывают литературные знаменитости, особенно в ночные часы. Евгений Евтушенко всегда здесь, у меня с ним отношения задушевные, дружеские. «Ну как, Женя, есть новые вирши?» — «Дорогуша Кирилл, стихи всегда есть. Хочешь, прочитаю?» — «Безусловно, хочу, буду рад…» О тех, кого сейчас мы видим за столиками, вкратце расскажу тебе. Только фамилии называть не стану, неудобно, могут услышать. Ты запоминай их лица, а фамилии узнаешь после. Для начала обрати внимание, но посмотри так, незаметно, на столик в противоположном углу. Известная поэтесса и красавец мужчина, я с ним еще не знаком. Одни злые языки говорят, что это ее муж, что при ней он умело исполняет все домашние дела и живет себе припеваючи, а другие утверждают — любовник. Кто знает? Да это и не суть важно. Прелестная женщина, за такой и приударить не грех, да и поэтесса от самого господа бога. Хочешь, познакомлю?
— Да ты что? Зачем?
— Странный ты, Миша. Извини, но литератора из тебя не будет.
Мы молча выпили по стопке, закусили, и Кирилл снова наклонился ко мне, негромко, сказал:
— Поверни голову налево. Видишь, появился маститый прозаик, седой, как бобер. Личность, всегда сидит в президиуме, на трибуне держится свободно и говорит красиво. А вот романы сочиняет так себе, средние. Ничего выдающегося. Но плодовит, позавидуешь. Наверное, пришел обедать, пойдет в Дубовый. Один, без жены. Жена у него — литературный критик, молодая и боевая бабенка. Вообще, хорошо бы тебе побывать здесь вечером, мог бы увидеть не только одну звезду, а целое литературное созвездие. Но есть и такие литературные киты, которые сюда никогда не заплывают — ни днем ни ночью. У них свои «волги», свои дачи, они там пребывают летом и зимой, как, к примеру, Никифор Петрович. Как-то один раз видел его здесь. На каком-то юбилейном банкете. Меня же приглашают на все банкеты. Недавно один семидесятилетний старик справлял свой юбилей. Сам позвонил: Кирюша, приходи непременно. Пришлось пойти, неудобно, может обидеться. А человек он известный, это, Миша, тоже надо учитывать. Да и вообще, повстречаешься с друзьями, себя покажешь, на других поглядишь… Да, я не досказал о ресторане. По вечерам здесь весело, шумно. Приходят главным образом молодые таланты, те, кому и лишнее выпить и всласть поесть еще не страшно и не грешно.
Мы закусили и, разговаривая, поджидали первое. В это время к нам подошел молодой, плечистый и рослый мужчина в отличном коричневом костюме, с красивым, чисто русским лицом и красивой волнистой, спадающей на брови темно-каштановой шевелюрой. Он поздоровался с Кириллом за руку, так сильно сжал ее, что мой друг, бедняга, от боли скривился.
— Ой, Валентин! Здорови́ло, черт! Пальцы слиплись.
— Все подкрепляешься, Кирюша? — спросил Валентин.
— Валя, дружище! — воскликнул, обрадовавшись, Кирилл. — А мы только что о тебе говорили. Познакомься, это Михаил Чазов, журналист, пробующий силы и в литературе.
Мужчина с красивой копной волос чуть заметно наклонил голову.
— Ну, Валя, присаживайся, — сказал Кирилл. — Давненько мы вместе не обедали. Я сейчас сам закажу для тебя. Твой-то вкус я знаю.
— Извини, Кирюша, и рад бы, да не могу. — Валентин взглянул на ручные часы. — О! Пора. Ровно через час у меня запись на телевидении. Буду говорить о реальной, не на словах, помощи молодым. Потом я должен готовить доклад на семинаре прозаиков по рабочей теме. Дел, Кирюша, по горло. Писать решительно некогда. Беда! Ну, я побежал! Извини…
Валентин быстрыми, деловыми шагами направился к выходу, и теперь было хорошо видно, как темно-каштановые густые волосы гривой спадали ему на затылок и прочно закрывали уши. Кирилл проводил своего друга грустными, задумчивыми глазами, еще ближе наклонился ко мне и еще тише сказал:
— Ну врет же, черт, что спешит на телевидение. Просто не пожелал посидеть с нами. И еще извиняется. А ведь мой дружок. Вместе окончили Литинститут, в один год опубликовали — я роман, а он повесть. — Кирилл в сладостной дремоте закрыл глаза и доверительно добавил: — Миша, вот кому я чертовски завидую — Валентину! Нет, не черной завистью, нет… Завидую по-хорошему, по-доброму, дружески, если так можно сказать, творчески. Повезло же человеку в жизни. Ах, как повезло!
— Да чему же ты завидуешь? — спросил я.
— Наивная душа! Неужели ничего не соображаешь? — удивился мой студенческий друг. — Валентин — наш же сверстник, он даже на год моложе меня, а уже рабочий секретарь. — Кирилл положил в рот кусочек соленого грибка, пожевал, о чем-то думая. — А знаешь ли ты, что такое в наши дни рабочий секретарь? Э нет, ручаюсь, ничего ты не знаешь. Тебе, Михаил, этого никогда не понять. Есть секретарь нерабочий, тоже заманчиво. И тебе уважение, и почет, и, разумеется, никаких преград на пути в издательство. Но рабочий секретарь — это же черт знает как здорово! Веришь, в жизни никому и никогда не завидовал, а Вальке завидую. Не могу понять, чем он так пленил литературные верхи? Написал-то одну-единственную повестушку, и его сразу заметили, он понравился именно тем, кому и надлежало понравиться. Его избрали рабочим секретарем, и вот у него уже дел по горло и нету желания отобедать с бывшим однокурсником. Такова, Михаил, жизнь. В президиуме Валентин — всегда, с большими писателями здоровается за руку. А вот посидеть за столиком со своим другом у него, видите ли, нету времени. Тебе руку не подал, не спросил, кто ты и почему здесь со мной. А какая у него силища! Ему бы гирями и штангами ворочать. О! Валентин пойдет далеко! Правда, есть такая насмешливая народная мудрость: пойдет далеко, если милиционер не остановит. Но к Валентину, ручаюсь, эта насмешливая мудрость никакого отношения не имеет. Его никто не остановит. А ведь, если говорить по-честному, перед нами — писателишка крохотный, с мизинец. Сочинил повестушку про сталеваров, назвал ее «Радуга». У него дед и прадед были сталеварами — это понятно. Но почему «Радуга»? Так, понравилось слово. Сам организовал рецензии, и как пошел, как поднялся! Везучий, черт! Наверное, в рубашке родился…
— Постой, постой, — перебил я. — А ведь «Радугу» я читал. По-моему, повесть очень хороша.
— Это по-твоему! Что же ты нашел в ней хорошего?
— Мне показалось, что написана она рукой, безусловно, талантливой.
— Какая там еще талантливая рука? — обиделся мой друг. — Выручила рабочая тема, теперь это модно. Только напиши о рабочем классе — и тебе сразу дадут премию.
— Язык в «Радуге» очень сочный, — сказал я.
— Что — язык? Одна сплошная цветистость. — Кирилл помрачнел, сломались рыжие стежечки усиков, было видно, что он испытывал душевную боль. — Да, Миша, вот так надлежит входить в литературу — легко и стремительно. Учись, Михаил Чазов, жить. Ты заметил, какая у него на лице важность? Какой гонор? Раньше ничего этого не было. «Извини, рад бы, да не могу». Врет же, что рад. Жалуется: некогда писать. Дескать, беда навалилась на человека. Чепуха! А ты брось должность рабочего секретаря, откажись от нее, садись и пиши, сколько твоей душе угодно. Вот тогда никакой беды не будет и на телевидение спешить не придется. И доклад на семинар готовить не нужно. Не-е-ет! Не бросает, не отказывается. Нету таких дураков!
ИЗ ТЕТРАДИ
В тот же день, вернувшись перед вечером домой, я рассказал Марте о своем первом посещении ЦДЛ. Говорил сбивчиво, голосом удручающим, потому что на душе у меня было тоскливо.
— Ну, Миша, поздравляю! — сказала Марта, глядя на меня большими удивленными глазами. — Я рада за тебя. Только отчего же ты такой кислый? Радоваться надо, а ты хмуришься, как осенний денек перед дождем.
Я не стал объяснять Марте причину своего грустного самочувствия. Я понимал, что внутренне еще не был готов к тому, чтобы рассказать Марте обо всем. Особенно мне не хотелось говорить ей, как мы с Кириллом к концу обеда чуть было не подрались, наговорили друг другу грубостей и разошлись врагами. Однако и в тот вечер и весь последующий день, будучи на работе, я не переставал спрашивать себя: что же, собственно, произошло? Я сказал Кириллу то, что думал о нем, он сказал мне то, что думает обо мне, и мы квиты. Все, что я тогда увидел и услышал в ЦДЛ, хотя и огорчило меня, но пошло мне на пользу, и я понимал, что это было совсем не то, что мне было нужно и к чему я стремился. А как раскрылся передо мной Кирилл Несмелый? Вот уж не ждал и не думал. Когда он говорил о своем студенческом друге Валентине, то невозможно было определить, чего в его словах было больше — лицемерия или подлости. Как можно завидовать тому писателю, кто по своей доброй воле стал чиновником? «Радугу», написанную человеком, безусловно, способным, Кирилл считает повестью бездарной, а самого ее автора — писателем мелким, величиной с мизинец. А как он льстил Валентину, как угодничал! Одно для меня очевидно: он не столько завидует Валентину, сколько ненавидит его лютой ненавистью.
Слушаешь эти рассуждения Кирилла Несмелого и диву даешься: да неужели все это есть в литературе? Когда же он выпил четвертую рюмку коньяка и, раскрасневшись, заметно охмелел, то начал с необыкновенной легкостью поучать меня, как мне, будущему молодому писателю, надо жить. Тут я узнал, кому и как надо угождать, а кому угождать не надо. С кем дружить, с кем бывать в ресторане, а с кем не дружить и в ресторане не бывать. Кому улыбаться и кланяться при встрече, выражая этим искреннюю радость, а кого не замечать, проходя мимо. С каким убеждением Кирилл Несмелый говорил, что в жизни молодого, да и не только молодого, писателя важно, а что не важно, что нужно, а что не нужно. Важно и нужно угождать, льстить тому писателю, кто в литературе или в издательстве занимает видное место. Разумеется, важно и нужно быть рабочим секретарем, но этого, к сожалению, добиться не так-то просто, а добиваться надо. Важно и нужно сидеть в президиуме, но этого достичь тоже нелегко, а стремиться к этому надо. Важно и нужно, разумеется, с помощью друзей, самому организовать рецензии на свою книгу. Важно и нужно делать все так, чтобы всегда иметь добрые отношения и с «Литературной», и с «Литобозрением». Но самое важное и самое нужное — это уметь делать деньги, ибо писатель без денег — это не писатель. Как делать деньги? На этот вопрос Кирилл Несмелый ответить не мог. Он только сказал, что тут нужны особое умение и особые, так сказать, врожденные способности.
В душе я сознавал: все, о чем говорил и трезвый и подвыпивший Кирилл Несмелый, это не для меня, это меня не касается, и то, что мы с Кириллом разругались, к лучшему, и все же успокоиться я не мог. Стараясь не думать о вчерашнем посещении ЦДЛ, я говорил себе: не все же такие, как Кирилл Несмелый! И тут же сам себе возражал: если имеется хотя бы несколько Несмелых, то столько же, а может быть, и больше имеется Смелых, и им никогда не понять, что они, мельтешась, лицемеря и подличая, литературу не делают.
Часть третья
1
Случилось как-то так, что все время мешали другие поездки, и три года моя дорога не лежала на Ставрополье. На четвертый же год, в конце августа, мне повезло: произошло то, чего я так долго ждал, — меня посылали в родные края на два месяца, чтобы я заменил неожиданно заболевшего собкора. Я радовался предстоящей поездке, а на душе у меня было тревожно. Что там, в Привольном и вокруг Привольного, произошло за эти годы? Почти четыре года — срок немалый. Прошедшее время хорошо было видно на моем Иване. Это уже был смышленый парнишка, говорун и непоседа, со светлым вихрастым чубчиком, с такими же, как и у Марты, большими удивленными глазами. Зная, что я уезжаю, а ему надо уходить с матерью в детский сад, Иван взобрался мне на колени, обвил ручонками шею и сказал:
— Папа, возвращайся побыстрее.
— Постараюсь, — ответил я.
— Папка, привези мне полыни.
Признаться, такая просьба меня удивила.
— Зачем она тебе, полынь-то?
— Мама говорила, что ты любишь полынь, а я еще и не видел ее. Какая она?
— Обыкновенная трава. Ничего особенного.
— А как она пахнет?
— Плохо пахнет.
— Зачем же ты ее любишь?
— Кто тебе сказал, что я ее люблю?
— Мама.
— Ах, мама! Это она пошутила.
— Ну, скажи, привезешь?
— Ладно, привезу, — пообещал я. — Веточку полыни и большой, прямо с бахчи, арбуз.
Легко было догадаться: Ванюша говорил не свои слова. Марта научила. Но зачем? Неужели ей было обидно, что я снова еду в Привольный, что свою повесть, которую все еще пишу, назвал «Запах полыни»? Ведь об этом знает одна Марта. Одной ей было известно также и о том, что мне хорошо думается и хорошо пишется тогда, когда я чувствую запах полыни. Много раз я сам говорил ей об этом.
— Что-то странное со мной происходит, — как-то сказал я Марте. — Если чувствую запах полыни, когда мне кажется, будто она рядом, на столе, тогда мне и пишется легко, и быстро находятся нужные слова. Если же нет ощущения близости полыни — беда, ничего не получается. Что это такое — понять не могу.
— Написал бы Ефимии, пусть прислала бы кустик. Для вдохновения.
Марта как-то странно, неестественно засмеялась, очевидно, желая показать, что она пошутила. Я же понял ее смех по-своему: ей хотелось скрыть свою, жившую в ней все эти годы ревность.
— Ефимию я уже забыл, — сказал я, чтобы покончить об этом разговор. — И тебя прошу о ней не вспоминать.
— Хорошо, не буду. Но чего ты так обиделся?
Марта, разумеется, не знала причину моей обиды, то есть не знала правду. В том-то и вся беда, что Ефимию я не забыл, и то, что Марта о ней вспомнила, и как раз перед моим отъездом, мне было неприятно. Я много раз пробовал забыть Ефимию и не смог. И хотел не думать о ней, а думал и думаю. Вот и сейчас: собираясь уезжать в длительную командировку, я прежде всего вспомнил Ефимию. Мне захотелось непременно отыскать тот таинственный хутор со странным названием Кынкыз. Сделать это мне необходимо было и потому, что еще тогда, в Туркмении, у местных жителей я узнал, что «кынкыз» — слово тюркского происхождения и в вольном переводе на русский означает «солнечная девушка». Неужели этим Ефимия хотела мне сказать, что я потерял ее, солнечную девушку? Если в самом деле такого хутора нет на ставропольских равнинах и Ефимия сама выдумала несуществующий хутор и придумала название ему специально для меня, то повидаться мне с нею тем более необходимо. Я приеду к ней, назову ее солнечной девушкой и скажу, что ее загадка разгадана.
Несколько озадачивало меня мое плохое, гнетущее настроение. Почему-то именно перед этой поездкой на душе было тревожно. Странное ощущение: мне казалось, будто я уезжаю не на два месяца, а навсегда. Как ни старался убедить себя в том, что сама эта мысль была глупая, никчемная, а она лезла в голову, копошилась там, беспокоила. Я и Ванюшу целовал жадно, не так, как всегда, когда, бывало, уезжал и прощался с ним, а так, будто уже не надеялся увидеться со своим сыном. И Марте перед отъездом сказал:
— Марта, у меня такое предчувствие, словно со мной что-то там, в Привольном, случится. Мне даже не хочется туда ехать, а надо, не ехать нельзя.
— Что же с тобой может случиться?
— Сам не знаю. А чувствую.
— Брось и думать об этом. — Марта испуганно смотрела на меня, и ее большие глаза стали грустными. — Поезжай спокойно. Ничего с тобой не случится. Это же твоя служба.
— Хотелось бы не думать, да не могу. Сидит эта дурацкая мысль в голове, и никуда от нее не уйти. Никогда со мной такого не было.
Марта засмеялась тем же странным, нарочитым смехом и, желая придать нашему разговору веселый характер, спросила:
— Знаешь, Миша, чего тебе надо бояться?
— А чего?
— Бойся меня разлюбить и бойся, чтобы Ефимия там тебя не задержала…
— Опять свое? Я же серьезно…
— Миша! Не будь таким сердитым. С тобой уж и пошутить нельзя.
— Ну, мне пора. Не опоздать бы к самолету.
— Тетрадь взял?
— Целых две. Новенькие, вчера купленные. Ну, прощай, Марта.
— До свиданья!
— Береги Ивана, жди моих писем и меня.
В тот же день, уже под вечер, когда солнце опалило верхушки выстроившихся по улице тополей, я снова — в который-то раз? — сошел с грузовика перед самым въездом в Привольный. Все вокруг было мне не то чтобы знакомым, а и родным, близким, и все казалось словно бы увиденным впервые. В окрестностях хутора стояла та неопределенная пора года, когда и лето еще не ушло с полей, задержалось, и осень, замешкавшись, не успела обласкать их своими неяркими красками.
Первое, что я увидел, было чистое и синее, слегка завечеревшее небо над Привольным и на этой просторной синеве — курган с отлогими боками, а на кургане — моя бабуся. Я сразу узнал ее и улыбнулся ей. Да и как же можно было ее не узнать и не улыбнуться? Сколько раз она встречала, бывало, меня на крылечке. Она была в той же кофтенке, увешанной орденами и медалями, повязанная тем же легким платочком. Стояла она на высоком пьедестале из сизого мрамора, а пьедестал возвышался на заросшем травой кургане. Такого над сизого цвета мраморная ярлыга лежала у нее на плече, лежала так свободно, как могут ярлыги лежать только на чабанском плече. Из-под платочка бабуся смотрела на степь, залитую заходящими лучами солнца, туда, куда ушла попасом ее отара. Вместе с тем ее взгляд был обращен на асфальтовое шоссе, она смотрела пристально, как бы боялась пропустить бегущие в хутор и из хутора машины. Чабанская мамка встречала тех, кто на грузовиках, в «волгах», в «жигулях», в «москвичах» или в «запорожцах» въезжал в Привольный, и говорила им: «Милости прошу, пожалуйте в наш хутор, в нем живут люди добрые да ласковые. У нас и водички можно попить, и передохнуть в холодочке, и переночевать, ежели кому надо». Машины влетали под тень тополей и останавливались возле водоразборной колонки. Тем же своим пристальным взглядом чабанская мамка провожала тех, кто покидал Привольный, и на прощанье говорила им: «Счастливого пути! Приезжайте до нас еще!»
Я опустился перед ней на колени, не отрывал от нее взгляда, и сердце мое сжималось, слезы застилали мне глаза. А она смотрела на меня с кургана, словно бы с синего неба, ласково, ободряюще, и мне казалось, что бабуся улыбнулась мне той своей доброй улыбкой, которая ее внуку была хорошо знакома еще с детства.
— Здравствуй, бабуся! — крикнул я.
И услышал, как эхо в степи, ее ответ:
— Доброго здоровья, внучок. Ну шо, разок ишо приихав?
Я снова крикнул:
— Тянет меня сюда, бабуся, какая-то сила!
И эхо принесло мне ответ:
— А шо ж тут удивительного? Ты — внук чабана и чабанки, вот это родство и тянет тебя сюда.
Тогда я спросил:
— Куда же мне теперь идти, бабуся?
Она ответила спокойно:
— Як куда? Туда, куда допрежь ходил, в мою хату. Жалко, шо не смогу зараз повстречать тебя так, як, случалось, не раз встречала раньше. Большое начальство определило мне новую должность, поставило сюда, на курган, як на пост, шоб я встречала приезжающих и провожала уезжающих. Вот и стою денно и нощно. Но в хатыне моей, Мишуха, есть люди, они и без меня встретят и приютят. Иди туда, внучок, иди в мою землянуху. Там тебя встретят, як родного.
Приподнявшись, отряхнув с колен сухую траву, я направился в бабушкину землянку. Эх, как же ошиблась моя бабуся! Никто меня здесь не встретил и никто не ждал. Мне стало так грустно, что я уже пожалел, что приехал сюда. Да и было отчего грустить и жалеть. Чужим, никому не нужным пришельцем стоял я перед землянкой.
То же милое моему сердцу крылечко с искусно нарисованным на нем ковриком смотрело на меня, как на непрошеного гостя, и я слышал голос: «Кто ты есть, парень? Откуда заявился и кто тебе нужен? Если бабушка Паша, то ее уже нету. Иди на край хутора, она там, стоит на кургане».
Те же занавешенные белым ситчиком оконца уже не улыбались мне, как они, бывало, улыбались когда-то, не узнавали пришельца и тоже как бы говорили: «А чего нам улыбаться? Мы не знаем, кто ты и зачем сюда пожаловал». Не порадовала меня и та же, с детства знакомая земляная крыша. Она, казалось, еще гуще заросла травой, высохшей, пожелтевшей. Кустики пырея вытянулись, стебельки сурепки сломались, и оттого весь травяной покров выглядел косматым, как непричесанная голова у старого деда. В глине, между сухой травы, были видны трещины, старательно затканные пауками, — лето выдалось без дождей. Заметил я и еще одну удивившую меня перемену: в той комнате, где я жил, со двора была прорублена дверь. И не на крылечке, а в этих новых дверях появилась незнакомая молодая беременная женщина в расклешенных снизу брюках и в жакетке. Признаться, я впервые видел на хуторе Привольном женщину в брюках, да притом еще и беременную, — уже и сюда дошло влияние города. Женщина облизала сухие, потрескавшиеся губы, посмотрела на меня с улыбкой в сонных глазах и сказала:
— С приездом! Неужели не узнал?
— Что-то не узнаю.
— Да разве меня, такую тяжелую, узнаешь? Помнишь, у бабушки Паши квартировала девушка Лариса? Так это я. — Она снова облизала губы, закусила нижнюю, покосилась на свой еще небольшой под брючным поясом живот. — В них удобно… Вот готовлюсь стать матерью. Ждем сына или дочку. Да ты проходи. Скоро и мой муженек заявится.
Мне надо было что-то говорить, и я спросил:
— Давно замужем?
— Ой, что ты! Совсем недавно — второй год, — смеясь ответила Лариса. — Сколько же времени ты тут не был?
— Считай, с похорон бабуси.
— Давненько. Много у нас произошло перемен. — Лариса помолчала, как бы соображая, о какой перемене сказать раньше, а о какой — позже. — Вот и бабуся с весны стоит у въезда в Привольный. Видел?
— Да, красиво стоит. Вся степь перед ней.
— Еще бы! — охотно согласилась Лариса. — Очень нравится людям памятник. Многие шофера, проезжая тут впервые, веришь, специально останавливаются, чтобы посмотреть на бабусю. — Лариса пропустила меня в комнату. — Помнишь, ты здесь жил? А за стенкой жила Ефимия.
— Теперь она на хуторе Кынкыз, — сказал я, проходя в комнату. — А где же он находится, этот Кынкыз?
— Не знаю. Садись на диван, а вещички поставь сюда… Может, хочешь с дороги умыться? Чайку попить? Ты голоден? — Только теперь, в ее хлопотах обо мне, я узнал в Ларисе знакомые черты заботливой хозяйки. — В тех комнатах, ты знаешь, зараз находится чабанский музей. Меня оставили при музее вроде хозяйки. Зарплата небольшая, да и работы мало. Правда, посетители бывают каждый день. Интересуются. Особенно много приезжих. Я все тебе покажу. Там красиво, вещи расставлены так, как и полагается. — И она вдруг спросила: — Хочешь знать, за кого я вышла замуж?
— Кто же он, избранник твоего сердца?
— Илюшка Василенков, наш новый ветеринар. Ты его не знаешь. — Она усмехнулась. — Совсем не собиралась выходить замуж, даже не думала об этом и вдруг как-то неожиданно взяла и выскочила.
— Значит, сильно полюбила.
— Еще как полюбила! — чистосердечно призналась Лариса. — Илюша приехал в Привольный прямо из института, как раз в эту пору, а осенью мы уже поженились. Жить нам было негде. Вот тогда Евгений Осипович и разрешил нам прорубить стенку и приспособить эту комнату для жилья с отдельным выходом.
— Кто он, Евгений Осипович?
— Неужели не знаешь Евгения Осиповича? — удивилась Лариса. — Это же наш новый управляющий, вместо Анисима Ивановича. Из Ставрополя прислали по просьбе Андрея Аверьяновича Сероштана, — с гордостью добавила она. — Молодой, видный собой, в шляпе. И жена у него симпатичная, врачом работает. Есть у них трехлетний сынок. А ваш дядя Анисим Иванович сейчас работает в кормоцехе разнорабочим. Но стыдится сознаться. Как-то встретила его на улице. Переменился. Тихий стал, присмирел, бородой оброс.
Мне не терпелось побывать в соседних комнатах, и Лариса, как бы догадавшись о моем желании, сама предложила мне осмотреть чабанский музей. Мы прошли по цветным разрисованным ступенькам крылечка и переступили знакомый порог. Комнаты удивили той
переменой, которая в них произошла: они совсем не были похожи на те, в которых я рос и которые так хорошо знал. Теперь это было обычное жилое помещение с тем застывшим, устоявшимся, прокисшим воздухом, какой бывает разве только в погребе. Здесь не стало ни привычного бабушкиного уюта, ни полыни и травы на земляном полу, ни цветов на подоконниках, ни занавесок на окнах — тех, какие любила развешивать бабуся. В переднем углу, на самом видном месте, висела, как икона, известная всем бабушкина кофтенка, блестя орденами и медалями, — кто-то старательно начистил их. Чуть повыше — портрет бабуси: седые клоки волос выглядывали из-под косынки, добрые, ласковые глаза смотрели на меня озабоченно и грустно. Повсюду, куда ни посмотри, стояли и лежали предметы бытового и хозяйственного чабанского обихода. К стене, между окон, были поставлены, как ружья, десятка два старых, побывавших в руках ярлыг — разных по длине и с различными крюками. Интересно было то, что все крюки не раз побывали в деле, частенько ловили за ногу овцу, и потому на каждом я видел крохотный клочочек овечьей шерсти.
Лариса на правах экскурсовода пояснила: и ярлыги, и все другие экспонаты принесены сюда самими чабанами.
— Каждому хочется, чтоб его вещь сохранилась в музее, — заключила она.
Я насчитал шесть железных треног. Чабаны на них подвешивали над кострами ведро или казанок. Возле треног лежали те изрядно закопченные ведра и казанки, которые, до того как попасть в музей, вволю погуляли по степи и вдоволь повисели над кострами. Тут же красовалось чабанское одеяние — бурки и папахи, видавшие и проливные дожди, и холодные степные ветры. Бурки и папахи были развешены по стене, и над ними — дощечки с фамилиями владельцев: «Чабан, Герой Социалистического Труда Иван Горицвет», «Заслуженный чабан, трижды орденоносец, ныне покойный Никита Севастьянович Чернобуров», «Старший чабан, орденоносец Яков Спиридонович Яценко». А то и просто «Евдоким Конь», «Василий Оглобля». Среди других заметно выделялись своей изношенностью бурка и папаха, где на дощечке значилось: «Дважды Герой Социалистического Труда Силантий Егорович Горобец».
Смотришь на эти бурки и папахи, а видишь перед собой какого-нибудь геройского, во всех отношениях примечательного Ивана Горицвета или ничем не примечательного Евдокима Коня. По соседству с бурками висели старые, до крайности истрепанные полушубки с потертыми рукавами и воротниками, с клочками выглядывавшей из дыр шерсти, с засаленными полами и плечами.
Отдельно выстроилась чабанская обувка: больше всего здесь было выставлено чобуров, сшитых из сыромятной кожи, — нет, не дратвой, а кожаными шнурками, и в каждом таком чобуре — травяная подстилка, давно высохшая и поржавевшая от времени.
Да что чабанская обувка! Кто ее не видал и кто ее не знает? В музей забралась даже обыкновенная чабанская арба с теми четырьмя старенькими, покривившимися колесами, какие хорошо знали, что такое степные просторы, ложбины, велюжины, бездорожье. Под арбой для наглядности была подвешена детская люлька. «В этой походной колыбели спали детишки Прасковьи Анисимовны Чазовой» — гласила надпись на дощечке, хотя не только я, но и многие привольненцы знали, что дети моей бабуси спали не только в зыбке, а и просто под арбой, на траве. Тут же вытянулся вдоль стены стол, на нем лежали образцы шерсти и толстое, как тулуп, руно. Рядом — ножницы: уже тронутые ржавчиной, ручные — ими стригли овец в старину, и ножницы новые — электрические машинки.
Когда я вошел в другую комнату, ту, где жила бабуся, то от неожиданности вздрогнул: оказался перед самой мордой волкодава с выпученными глазищами и страшным оскалом белых сухих зубов. Он наигранно, по-собачьи улыбался и будто говорил: «Да ты не бойся, а посмотри на меня хорошенько, и ты поймешь, какие были надежные помощники у чабанов». Волкодав был бурой масти, под цвет сухой травы после дождя, грудаст, толстошей, ноги — короткие, с утолщенными в коленях суставами. Я смотрел на невесело улыбающуюся собачью морду, и мне казалось, что я где-то ее уже видел, а вот где именно — не мог припомнить. Лариса, поясняя, сказала: чучело волкодава принес в музей Силантий Егорович Горобец. Старик сам сделал его и подарил музею.
— Пусть, говорит, люди увидят, какие у нас были собаки, — добавила Лариса. — Теперь, говорит, эта порода переводится за ненадобностью, скоро и совсем исчезнет, а чучело волкодава как память о минувших временах сохранится навечно. И после этих слов, веришь, старик заплакал. Что-то он слезливый стал. Как приходит в музей, так и плачет. Старый уже, нервы никуда не годятся…
Тут я вспомнил, где и когда видел морду бурого волкодава: у деда Горобца, еще в первый свой приезд. Это же был Молокан! Ну, точно, он самый. И когда я снова посмотрел на него, то Молокан, как мне показалось, улыбнулся не так мрачно и как бы спросил: «Ну что? Признал-таки?»
— А как звали волкодава? — все же спросил я у Ларисы.
— Не знаю, дед не сказал, — ответила Лариса. — Говорил, что это его собака.
— Надо было узнать у деда Горобца кличку этого волкодава и повесить табличку, — посоветовал я хранительнице музея. — Ведь это Молокан. Честное слово, он! Значит, у деда Горобца осталось еще два волкодава — Полкан и Монах?
— Какие два? — удивилась Лариса. — Дед Горобец сам говорил, что еще один волкодав куда-то пропал. Ушел из дому и не вернулся. И это случилось как раз в тот день, когда вот этот волкодав издох. Дед Горобец горевал-горевал — сразу же двух собак не стало. А что поделаешь? Старик как заговорит о них, так и заплачет. Текут по щекам на усы слезы, а он их не замечает и не вытирает. Наверное, жалко собак, все ж таки привык к ним. Теперь ходит с одним Монахом — и по Мокрой Буйволе, и сюда к нам заявляется.
За стенкой послышались чьи-то шаги, в точности так, как тогда, когда там, рядом со мной, жила Ефимия. Я сказал:
— Лариса, кажется, твой муж пришел. Иди, я сам побуду в музее.
— Да, верно, это он заявился, — сказала Лариса. — Ну, я пойду. А ты посмотри эти записи. — Она указала на лежавшую на столике большую конторскую книгу. — Отзывы наших посетителей. Да и сам что-нибудь, запиши. — И уже в дверях добавила: — Приходи к нам ужинать. Я постучу в стенку.
Я кивнул в знак согласия.
ИЗ ТЕТРАДИ
В этой хатенке началась ее жизнь, началась давно и, словно бы нарочно сделав замкнутый круг, окончилась тут же. Моя еще не написанная повесть названа «Запах полыни», запах степной, тот, который бабуся не только хорошо знала, но и как-то по-особенному любила. А вот и тот порог, который мне тогда привиделся. Да, это через него самостоятельно перебралась и вышла на крылечко девочка в коротеньком платьице, боязливо ступая своими еще слабыми ножками. Порог остался таким же, каким и был, — невысокий, стоптанный ногами… А в землянке сколько перемен! Вся она заполнена предметами, которые когда-то окружали жизнь моей бабуси и тех, кто жил так же, как и она. Кажется, что же здесь особенного? Разве только то, что чабанская арба стояла не в поле, а в землянке? Да еще то, что рядом с арбой нет костра, на закопченной треноге не закипает шулюм и не стелется по земле запах дыма. И еще казалось: колеса катились и катились, а потом остановились посреди комнаты и сказали: хватит, все, мы свое отъездили. Ступицы, ободья побиты временем, шины тронула ржавчина. Кто не видел ее, чабанскую арбу, в деле, близ отары? Теперь же она выставлена на всеобщее обозрение, как историческое прошлое, и люди приходят и смотрят на нее так, будто увидели впервые.
Или обратимся к такому орудию чабанского производства, как ярлыга. Кто из жителей этих мест не знает, что оно такое, ярлыга, и для каких житейских надобностей она существует с незапамятных времен? Все знают. Но эти ярлыги принесены с разных мест, поставлены с любовью в ряд, на них следы чабанских ладоней, и уже есть на что смотреть, есть над чем поразмыслить. Или эти бурки и папахи с фамилиями: «Силантий Горобец», «Иван Горицвет» или «Никита Чернобуров»? Кажется, и бурки обыкновенные и папахи как папахи, из плохой овчины, и обыкновенные фамилии у их бывших владельцев. Но это тоже история, и концы у бурок испачканы травой, потрепаны ветром, папахи внутри выцвели от обильного пота. Все обыденно, все просто, а все же интересно и посмотреть на экспонаты, и постоять возле них, и подумать о них. Или эти портреты чабанов и арбичек, что развешаны по стенам! Мало кому знакомые мужчины и женщины, лица у них опалены зноем, засушены суховеем, в глазах — задумчивость. О чем они задумались тут, в землянке моей бабуси? Смотришь на эти лица, на эти задумчивые глаза, а насмотреться не можешь, есть в них что-то особенное, притягательное. Наверное, это происходит по той причине, что эти люди прожили жизнь в труде и что теперь они — тоже наша история и потому-то находятся здесь в ничем не примечательной землянке Прасковьи Анисимовны Чазовой, и останутся в ней надолго, потому что здесь открыт показ обыденной человеческой деятельности. И эта их повседневная, обыденная деятельность как-то по-своему, по-человечески просто отражена не только в вещах, в орудиях производства, на фотографиях, а и в надписях на табличках, и в любопытных записях, которые сделаны в книге для посетителей.
Для себя я выписал только некоторые.
ИЗ КНИГИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
«Все, что тут по-хозяйски собрано и любовно расставлено, для нас лично сильно наглядно и сильно поучительно. Особенно это надо повидать подрастающему поколению овцеводов, каковые уже с юношества приноровились иметь дело не со степью, а с комплексами. Они знают машины, электричество и совсем ничего не смыслят в том, что оно такое — степной простор, отара на попасе, чабанская арба на стоянке, дымок от костерка, казанок или ведро, охваченные полымем. А, к примеру, знают они, наши молодые грамотеи, что такое арбичка? Не знают. То мы им скажем. Арбичка — это хозяйка чабанского табора. На стоянке она готовит обед, а вдали, маяча шапками и ярлыгами, стоят чабаны, вот в таких бурках и таких тапках, каковые тут выставлены. Чабаны смотрят за отарой и поглядывают на табор, на дымок от костерка, ждут, когда арбичка выкинет белый флаг — сигнал на обед. Возле чабанов скучают вот такие же волкодавы, как этот, что оскалил свои неживые зубы. Мы с жинкой не один год проходили за отарами — я чабаном, а она арбичкой, а зараз мы — пенсионеры, едем в гости к сыну. Как все это нами пережито на практике, то мы целиком и полностью одобряем устройство в землянке Прасковьи Анисимовны Чазовой показ бывшей чабанской житухи. В чем и подписываемся: Игнат и Анастасия Никульшины».
«Волкодав с клыками волчиными — это да, это натура. И загривок у него настороже, и хвост куцый, обрубком торчит — натурально, стоит, каналья, как живой, дажеть хочется потрогать руками. И оскал натуральный, точь-в-точь, как в жизни. А зубы, зубы! Черт возьми, какие зубищи! Попадись на них волчья спина — хрясь, и все, конец. Одобряю всем сердцем. Показательный музей, ничего плохого не скажешь. Семен Максимович Котляров, бывший чабан, дважды орденоносец».
«Сестра моя, Паша, Прасковья Анисимовна, как же славно получилось, что твоя жилища стала пристанищем для дорогой всем нам жизни, каковая постепенно уходит от людей и забывается. Пусть хранится у тебя, Паша, Прасковья Анисимовна, все то, что радовало нас, что утешало и без чего жить мы не смогли бы. Склоняет свою седую голову старый дед Силантий Горобец».
«Вот то, что люлечка висит под арбой, между колесами, — хорошо, бабье сердце радует, потому как правдоподобно. Глядишь на эту люлечку, а видишь себя, молодую, пригожую. Но частенько бывало и так: малое дитё вырастало без люлечки — спало прямо на травке. И ничего, возрастало исправно и так быстро, что аж подпрыгивало — привычка. И все же, как я есть мать, то скажу: как ни суди, как ни ряди, а с люлечкой под арбой для детишек лучше — и удобно и красиво. Помню, мы с мужем сами смастерили из досок такую славную люлечку для нашего первенца. Обтянули ее материей, чтоб доски не занозили. Висела та наша люлечка, как и эта, низко над землей, можно было подсесть до нее и грудью покормить младенца, а заодно и самой отдохнуть сидя. Люлечка — это красиво и правдоподобно, без нее музей не музей. И все остальное тут, в землянке Прасковьи Анисимовны, нужное, нам знакомое и привычное. Можно бы и не смотреть, ить было время — насмотрелась вволю, а смотреть хочется. Через почему, спрашиваю? Через потому, отвечаю, что это наше осмотрение мысленно возвращает нас к нашей ушедшей молодости. Нам и грустно и радостно. По просьбе и со слов бывшей арбички Марии Ефимовны Несмашной записал учитель Смеляков В. П.».
«Кто есть мы, люди? Вопрос не простой и не праздный. И потому, побудешь с часок в этой землянке, и сразу все поймешь, и явится перед тобой точный ответ: мы есть созидатели лучшей жизни, ее творцы. Ежели излагать эту мысль конкретно: мы те, кто не уходит отсюда туда, в небытие, весь и без остатка, а оставляет после себя след, что-то обществу и людям нужное, пользительное. Тому самый наглядный пример — жизнь и труд Прасковьи Анисимовны Чазовой, каковую я лично знал, когда она жила в этой землянке. Чудесная была женщина. Становлюсь на колени перед вами, мамаша. Степан Лошаков, директор райавтобазы».
«Одно слово — прошедшее. Мы видим горькую, тяжелую степную житуху тех, кто растил овец, и ничего больше. Ушедшее от нас и никому теперь уже не нужное время. Так спрашивается: зачем же все это возрождать в памяти и показывать во всей наглядности, когда у нас зараз повсюду воздвигнуты такие комплексы, что залюбуешься? Это же не животноводческие помещения, а культурнейшие дворцы для животных. К примеру, овцы в них живут, как у господа бога за дверьми, на усём готовом, имеют усё необходимое, дажеть горячую воду, особенно в родильном отделении. А как на тех комплексах живут чабаны? В иной гостинице так удобно люди не проживают. Койка — мягкая, с чистым бельем, на столике цветы. Возле уха — радио, перед очами — телевизор цветной. Повсюду газеты, журналы. А что зараз нам показывают тут? Мать-старинушку. Ярлыги повыставили, любуйтесь. Бурки, папахи висят на стенах. А зачем? Наши люди что, на комплексах будут одеваться в эту, извиняюсь, неказистую одежонку, станут напяливать на свои головы овчинные папахи? Или чобуры с соломенной подстилкой начнут натягивать на свои ноги? Нет, шалишь, прошедшее — не возвернешь, да и возвращать его не надо. Уся эта наглядность, каковая стоит перед очами, свое давно отжила, ее надо не на выставку привозить, а пускать на слом. Выбросить из головы и забыть. Уся наша мысль должна устремляться вперед и только вперед. Делаю реальный вывод: никаким проезжающим людям эту старую житуху показывать нечего, от такого показа нету никакой пользы. Жили без музеев, и будем жить. Шофер такси Александр Прокофьевич Никопольский».
«Это же подумать только, шофер такси, а категорический дурак. Мало того, что он не умеет правильно писать слово «все», а еще и не понимает, что без прошедшего у людей нет и не может быть настоящего и будущего. Я тоже кручу баранку и овец по-настоящему и в глаза не видал, а побывал в музее и понял, какие это были замечательные люди — степняки. Честь им и слава и память на века. Шофер самосвала Федор Стоянов».
«Эх, бурка, бурка! Окончила ты свое житье-бытье. А ведь было времечко, когда чабану на ветру и под дождем никак не обойтись без тебя. Ты, войлочная бурка, была ему и домом родным, и согревала, и оберегала от стужи и от непогоды. А теперь висишь на стене, как сирота. И папаха над тобой. Она хоть на вид неказистая, а тоже сильно пользительная для чабанской головы, в особенности в осеннее и зимнее время. Да и чобуры — тоже штука нужная. На вид — будто и не обувь, а на ноге, в ходьбе сильно удобная. На своих ногах все это испытал, могу поручиться хоть под присягой. И бурок немало износил, и папах. К сему: бывший чабан, Герой Соцтруда и орденоносец Павел Самсонович Якименко».
«Народные самодеятельные музеи, подобные тому, каковой я только что с удовольствием осмотрел, оказывают наибольшее воздействие на умы и на сердца людей только тогда, когда в своих ярких документах, ценных реликвиях наглядно и всесторонне, раскрывают героические дела советских тружеников, их высокие моральные и нравственные качества, преимущества нашего, социалистического образа жизни. И, конечно, когда экспонаты тесно увязаны с современностью, непосредственно обращены к посетителям, близки их делам, их чаяниям, их мечтам и планам. Именно этими важными критериями, скажем смело, и руководствовались создатели чабанского музея на хуторе Привольном, в землянке Героя Социалистического Труда Прасковьи Анисимовны Чазовой. Любовно оформленные стенды не оставляют равнодушными ни односельчан, ни гостей, приезжающих сюда со всего края и из-за пределов края. Здесь интересно, политически зрело рассказывается о том, в каких невыносимых условиях жили овцеводы при царском режиме и в каких прекрасных условиях они живут в настоящее время. Всячески одобряю и приветствую почин привольненцев, заслуживающий подражания. Лектор Общества по распространению знаний И. В. Минохин-Колокольцев».
2
Ночевал я у дяди Анисима Ивановича.
Возле койки стояла низкая тумбочка с лампой. Косой неяркий свет ложился на подушку и на мое лицо. На голом теле — приятная свежесть чистой постели. Я очень устал за день, у меня закрывались глаза, а тетушка Елена, обрадованная моим неожиданным приходом, никак не хотела покинуть комнату. Пока она угощала меня чаем с вареньем, пока готовила постель, шурша накрахмаленными, залежавшимися без дела простынями, надевала наволочку на напушенную подушку, она уже успела о многом рассказать мне. Но, очевидно, ей необходимо было еще что-то важное сообщить, о чем-то еще поговорить со мной, и она старательно, как родная мать, оправила одеяло на моих плечах и присела на краю койки. Оттуда, из густой тени, были чуть видны ее ласковые, грустные глаза.
— Это койка Катина, она на ней спала, — сказала тетя Елена. — Койка осталась, стоит на своем месте, а Кати нету. — Кулаком вытерла побежавшие по щекам слезы. — Не послушалась родителей, выскочила за своего Андрюшку и уже успела так обабиться, что смотреть на нее больно. Облепилась детишками и возится с ними. Тот орет, тот бодает, тот забрался бог знает куда. Один меньше другого, вот она с ними день и ночь и толчется.
— Дети — это же хорошо, — сказал я, желая поддержать разговор и тем показать, что сон меня не одолевает. — Без них и счастья нет в семье.
— Это верно, ежели на то счастье глядеть со стороны, — грустно ответила тетя Елена. — Или ежели иметь одного, на крайний случай двоих, так, для забавы. А Катя в том месяце родила пятого. Андрей поощряет, хвалит Катю, на людях называет ее «моя пятерошница», стало быть, жена-отличница. Теперь у них две девочки и трое мальчуганов. — Она тяжело, по-бабьи вздохнула. — Жалко Катю, погубила свою молодость. Ей подсобляет родная тетка Андрея, но иной раз и я поеду к ней, тайком от Анисима, поживу у нее, кое в чем подсоблю. То пеленки постираю, то что другое сделаю. И уеду. Мы же с ними еще и до сей поры не помирились.
— Что же это вы так? — спросил я, с трудом открывая глаза. — Пора бы уже…
— Я бы помирилась, да Анисим заупрямился. Встал на дыбки, как норовистый конь. — Она причмокнула губами, помолчала. — Обидно ему. Тут дочку Андрей, можно сказать, уворовал, сильно обидел родителей, а тут еще и новое горе свалилось Анисиму на плечи.
— Какое горе?
— Сместили же его с управляющего. Разве ты еще не знаешь?
— Знаю.
— Ну, сперва зятек поломал кошары, следа от них не осталось, — говорила тетушка Елена. — На том месте зараз стоит целая овечья фабрика. Ну, а после этого принялся зять и за тестя. Прислал нового управляющего. Евгений Осипович молодой еще, может, помоложе Андрея. А моего Анисима отправил в кормоцех разнорабочим. Это же не шутейное дело — пережить такое: был заглавным чабаном, управляющим, а изделался разнорабочим. И все это сотворил с ним не чужой дядя, а свой зять. — Она поудобнее уселась у меня в ногах, а я не мог на нее смотреть, у меня слипались глаза. — Андрей не стал устраивать тайное голосование, как это бывало при Суходреве. Самолично написал приказ, одного назначил, другого сместил, и готово, дело сделано. Вот после этого сильно затосковал мой Анисим. Беда, стал частенько приласкиваться к бутылке. Придет с работы, выпьет дома и запоет. Ты бы, Миша, послушал, что это за пение. Страшно становится. Голос у него не то что жалостливый, а какой-то заунывный, будто не поет, а плачет. Смена у него ночная, сам пожелал. Всю ночь он находится в том кормоцехе, пищу готовит для овец, а днем пьет и песни поет. На улице не появляется, дома отсиживается.
— И к соседям не ходит? — спросил я, борясь со сном.
— Стыдно ему показываться на людях, — ответила тетя Елена. — Ну скажи, Миша, что это за жизня? Кем человек был и кем стал? Разве это справедливо? Ежели кто спросит у него: Анисим Иванович, кем ты там, на комплексе? Помолчит для важности и ответит, не моргнув глазом: оператором, брат, оператором. Словцо-то какое придумал, и люди, что несведущие, верят ему. А ему и приятно. Оператор, как же! Как-то я спросила: Анисим, зачем байки рассказываешь? Людей обманываешь? Какой же ты оператор, коли ты разнорабочий. Усмехнулся невесело и ответил: это я так, для наглядности. Пусть верят…
Она еще что-то говорила о муже, несколько раз повторяла слово «оператор», но сквозь дрему я уже ничего не мог разобрать. Когда же очнулся, то услышал:
— Да оно и понятно, оператор все ж таки лучше, нежели разнорабочий, да еще и в ночной смене. Миша, прошу тебя, ежели он и тебе станет брехать про оператора, ты сделай вид, что веришь ему. Пусть потешится хоть этим, как малое дите цацкой. И я так считаю: то, что ему взбрел в голову оператор, вреда никакого не приносит, а вот то, что тот оператор стал частенько выпивать, это уже беда. Как выпьет, так либо затянет песню такую, что сердце захолонет, либо клянет на чем свет стоит Андрея.
— Помирили бы вы их, — засыпая, говорил я. — Взялись бы за них, как женщина…
— Сколько раз толковала об этом Анисиму, — ответила тетя Елена. — Ить там растут наши внучата, такие, скажу тебе, славные ребятки. Нет, Анисим не желает и слушать. Крутит головой и а ж зеленеет от злости. Нет, видно, их уже не помирить. — Она снова тяжело и глубоко вздохнула. — Ну, спи, Миша. А то, вижу, глаза у тебя слипаются, а я прицепилась к тебе со своими болячками.
Погасла лампа. Я словно бы провалился куда-то вместе с койкой и уже не слышал, когда тетя Елена ушла из комнаты. Спал без просыпу, меня, как гостя, никто не будил, не беспокоил, и я поднялся поздно, когда солнце било в окна и жаркими лучами заливало комнату. Я оделся, открыл дверь и увидел мужчину. Он сидел, наклонившись к столу, перед ним стояли граненый стакан и недопитая бутылка водки. Как же так? Своего родного дядюшку я сразу не узнал. Это был седой, небритый, непричесанный мужик. Он и похудел, и ссутулился, и стал уже в плечах, и одежонка на нем была плохонькая.
— А, племяш. Проснулся. — Анисим Иванович посмотрел на меня осоловелыми, полными горечи глазами. — Знать, сызнова заявился? Хорошо. Одобряю. Некоторые из которых не должны забывать родню. Грешно! Я тоже о тебе частенько думаю, как ему живется, как пишется. Но ить поехать к тебе не могу — далече. А что слышно от брата Анатолия?
— Пишет, что скоро вернется, — сказал я. — Может, в эту зиму.
— Ну, садись, племяш, чокнемся ради твоего приезда.
Вбежала тетя Елена, выхватила у него из рук бутылку и поставила ее в шкафчик.
— Хватит! Михаила постыдился бы…
— Кого и чего мне, некоторые из которых, стыдиться? Я пью свое, не краденое, да и должность теперь у меня для этого действия подходящая. — Заросшее бурой щетиной лицо Анисима Ивановича скривилось в вымученной улыбке. — Некоторым из которых дурням говорю, что зять Андрей назначил меня оператором. Что оно такое — оператор, мало кто знает, а я не поясняю. Верят! Завидуют! Ну и пусть верят, мне не жалко. А тебе, Михаил, брехать не стану, скажу правду: разнорабочий я, обыкновенный, ночной, исполняю все, что под руку попадает. Я зараз из тех, о ком говорят: он — главный, кто куда пошлет… Через то, Миша, на душе у меня сумно. Как подумаешь, до какого унижения довел меня Сероштан! Доконал-таки, подлюга! Суходрев и тот жалел меня, не устраивал со мной тайное голосование. Этот же — а еще зятем считается! — приказом убил. Наповал!
— Миша, вот свежее полотенце, — сказала тетя Елена, желая увести меня от Анисима Ивановича. — Иди умойся да будешь завтракать. Я уже приготовила.
Умывался я в сенцах. Дверь была приоткрыта, и отсюда мне хорошо было слышно, как мой дядюшка пел. В самом деле, это был не голос, а что-то похожее на ночное завывание собаки, когда она, оставшись одна, без хозяев, во дворе, вдруг завоет от страха.
«Песня, похожая на собачий вой. Надо запомнить и записать», — подумал я, входя в комнату и вытирая лицо полотенцем.
После того как я позавтракал, тетя Елена убрала со стола, покрыла его льняной скатертью, сказала, что ей надо принести воды, взяла в сенцах ведра и, звеня ими, прошла мимо окон. До этого неподвижно сидевший Анисим Иванович тотчас встал, взял из шкафчика бутылку, налил из нее в стакан и, как бы оправдываясь передо мною, сказал:
— Один глоток, во рту пересохло. А мне потолковать с тобой охота. Накипело, брат, на душе, не соскребешь.
Он выпил полстакана, поставил бутылку на место, прикрыл шкафчик, сел на стул и спросил:
— Ну что, племяш, видал, какую кирпичную сооружению воздвиг Сероштан на том месте, где стояли мои кошары? Такого строения и в Мокрой Буйволе нету.
— Еще не успел, — ответил я. — Но посмотрю обязательно.
— Само место за хутором, ручаюсь, не узнаешь, — продолжал Анисим Иванович, морща небритое лицо. — От моих кошар, с каковыми прошла вся моя жизня, не осталось и следов, будто их там и вовсе не было. Стоит за хутором фабрика с кирпичной трубой, а в ней, как в каменном мешке, пребывают бедные овечки. Смотреть больно! — Небритое его лицо потемнело. — Ироды! Душегубы! И этот, наш новый управляющий, такой же, как и Сероштан. Ученого из себя строит, без книжки к овцам не заходит. Басурманы! Знущаются над животными!
— Анисим Иванович, ну чего лютуешь? — спросил я. — Чего водку хлещешь и всех проклинаешь? Не понимал тебя раньше, не могу понять и теперь.
— Не можешь понять? — переспросил Анисим Иванович. — Интересно такое слышать. А что же для тебя, горожанина, во мне непонятное? Обличив мое хуторское? Некультурность моя? Или боль моей души?
— Как ты живешь, дядя? Роешь, как слепой крот, а куда, в какую сторону, сам не знаешь.
— Ну, ну, что дальше? Допустим, рою по-кротячьему. Так что?
— Седой уже, немало поживший на свете человек. Неужели ты не видишь, что перемены, происходящие в «Привольном», да и не только в нем, делаются не по прихоти твоего, ненавистного тебе, зятя? Надо бы хоть это понять. Ведь твоя обида не на Катю, вышедшую замуж без родительского благословения, и не на Сероштана, а на то, что близ хутора Привольного разрушены т в о и кошары и вместе с кошарами не стало того всесильного хозяина, Анисима Чазова, каким он здесь был. Вот в чем суть. Но тут повинен не Андрей Сероштан, а сама наша жизнь. Так чего же тебе злиться? И на кого злиться? На жизнь?
— Критикуешь дядю? — спросил Анисим Иванович, не поднимая седую голову. — Ну, ну, некоторые из которых, давай, давай, критикуй и ты.
— Не критикую, а говорю по-родственному: твоя беда, Анисим Иванович, не в том, что ты стал разнорабочим, а в том, что время тебя обошло, опередило, и тебе, обозленному, приходится плестись следом.
— Хоть ты и образованный, а дурость сидит в твоей голове, вот что я тебе отвечу. — Анисим Иванович посмотрел на меня злыми красными глазами. — Некоторые из которых сильно радуются моему горю. И ты тоже… Время, время опередило? Придумал! А почему же оно, твое время, не опережало мою маманю? Что она, живее меня по земле бегала? Или была моложе меня? А какой почет ей был при жизни и какой почет теперь, после смерти? К самому небу подняли, стоит перед хутором, все одно как какая богиня. А меня, ее сына, — в разнорабочие. В землянке выставили напоказ всю ее жизнь. А меня, ее сына и чабана, куда? И кто это изделал? Жизня? Нет, не жизня, а Сероштан. И никто другой. А ты — время обогнало, обошло. Нет, ежели говорить правду, то и Сероштан меня не обошел, не обогнал, а свалил, ножку подставил…
— Не кляни, дядя, Андрея понапрасну, — сказал я. — Печалится-то он не о своей личной выгоде.
— А о чьей же?
— О совхозной. Об овцеводстве.
— Михайло, не смеши меня. — Анисим Иванович со злой улыбкой покосился на меня. — Ну что ты кумекаешь в нашем деле? Удивляют меня некоторые из которых, в особенности те, каковые проживают в городе, отару видали издали, в овцах ни хрена не смыслят, а приезжают нас поучать, указывают, как нам надо жить и как действовать. И ты такой. Пишешь в газету — и пиши себе на здоровье, а в наше чабанское тырло не суйся. Я же не лезу к вам, к писателям, не поучаю, не даю указания, как вам надо сочинять… Эх, Михайло, был бы ты чабаном, поглядел бы на эти сероштановские новшества и тогда бы понял без моих слов, как в них пребывают животные.
— Как же они там пребывают?
— Ежели на вид, для показа, то хорошо, — ответил Анисим Иванович. — Дажеть красиво. Чистота, опрятность — залюбуешься. И красиво не только снаружи, а и внутри. Поглядишь — одно сплошное удобство.
— Так что же еще надо?
— А надо то, некоторые из которых, что овца не любит этих удобств. Ей нужны свои, природные удобства. Некоторые из которых, разные умники, такие, как твои Сероштан, обязаны знать, что овца — животное сильно вольнолюбивое. Она не может жить взаперти, как в тюрьме, ей подавай простор да простор.
— Я это уже слышал от деда Горобца.
— И хорошо, что слышал, — продолжал Анисим Иванович. — Дед Горобец по части овцы — умнейшая голова, он абы что говорить не станет. Да, так что у нас получается? Безобразия! У овцы насильно отняли и простор, и тот корм, каковой завсегда у нее под ногами. А в свою защиту овца ничего сказать не может, безответное существо. Что ей привезут на тракторе, что мы ей наварим на кухне, то она и поедает. Не умирать же с голоду. В степь, на волю ее не пускают, она или лежит или стоит в загородке день у день. Заглянул бы ты овцам в очи — одна сплошная тоска. А ты: не кляни Сероштана! Его надо бы проклясть всем миром за одно то, что он лишил овцу вольной житухи.
— Ну хорошо, я — не чабан, это так, и в тонкостях чабанских дел не разбираюсь, — согласился я. — Однако мне, не чабану, точно известно: в настоящее время в «Привольном» нет пастбищ. Проще говоря, негде пасти отары, нету того простора для овец, о котором ты и дед Горобец так красиво говорите. Так как же быть?
— Раньше-то пастбища были, и еще какие!
— Их распахали и посеяли на них пшеницу. Тебе это известно.
— Знаю. Распахали и засеяли, — повторил Анисим Иванович грустно. — Вот тут и сидит закавыка. Зачем, спрашивается, распахали овечьи угодья? Захотелось изловить двух зайцев: иметь и зерно и шерсть. А что получилось? Пшеничка, верно, имеется, а овцы сидят в загородке, страдают, бедняжки. И некоторые из которых, и Сероштан тож, не подумали, что с теми, укрытыми в загородках, овечками получится в будущем. А я думал об этом и думаю. И я-то знаю, что получится с овцами в будущем.
— Что же с ними получится? — спросил я. — Можешь мне сказать?
— Для наглядности приведу пример, и ты поймешь, — продолжал мой собеседник. — Всем известно, нынче продают для баб шелк, каковой изделан не из ниточек, какие вырабатывает сама природа в коконах шелкопряда, а из газа. Был газ, одна невидимость, стал шелк, и с виду ничего, будто взаправдашний, только когда к нему прикасаешься телом, то от него искры летят. Почему летят искры? Потому, что это не шелк, а сплошная химия. Бабенка натягивает на себя платье, а под платьем, извиняюсь, искры аж потрескивают… Вот такое, Михайло, может случиться и с овцами. С годами они переродятся, станут такие, будто сотворены из газа: и похожие — и непохожие, и настоящие — и ненастоящие. Натуры в них не станет. Шерсть будет расти, да шерсть уже не та. И мясо не то. Вот через почему я кляну и не перестану клясть Сероштана как главного зачинщика этих безобразиев. А что изделалось с людьми? Ить в Привольном перевелись те природные чабаны, каковые знали и любили свое дело и каковые умели с умом смотреть за отарами.
— И это я уже слышал от деда Горобца.
— Ничего, послушай и от меня, не вредно, — продолжал Анисим Иванович. — Да, так где они, природные чабаны? Нету их. Переродились и стали все одно как тот газовый шелк: будто и похожие на чабанов, а и не чабаны. Натуры нету, пропала та ухватистость, каковая была у них от природы. Они уже позабыли, как кладется, на плечо ярлыга и где должны находиться собаки на пастьбе овец. Забыли почему? По ненадобности. Бери меня, твоего дядю. Кто я зараз? Овечий повар. Так где же чабан, каковой сидел во мне? Нету его. — Он увидел жену, проходившую по двору с ведрами на коромысле, поспешно, по-воровски взял из шкафчика бутылку, сунул ее под полу пиджака. — Ну, все, конец нашей балачке. Ты зараз куда собираешься?
— Хочу проехать в Богомольное.
— А! До Сероштана в гости? Поезжай, поезжай, нехай он порасскажет тебе, какой у него зловредный тесть… Ну, а я побреду в сарайчик, малость посплю после ночной смены. Там стоит койка с матрацем и подушкой. Никто там мне не мешает. Благодать.
Вошла тетя Елена, поставила ведра на лавку, спросила:
— Ну, наговорились вдоволь?
Анисим Иванович не ответил, прижал поплотнее локтем бутылку под пиджаком и как-то несмело, бочком вышел из дому. Когда я, простившись с тетей Еленой, проходил мимо сарайчика, оттуда, из-за закрытых дверей, доносился тот же пугающий, по-собачьи завывающий голос Анисима Ивановича.
ИЗ ТЕТРАДИ
У человека беда. Откуда она к нему пришла? Где, в чем искать ее первопричину? Наверное, в том, что кто-то с самыми добрыми намерениями нарушил обыденное и такое привычное течение жизни. К примеру, взял да и перепрудил ручеек, и вода закружилась, взбухла. Нечто схожее с перепруженным ручейком произошло и с Анисимом Ивановичем. Его жизнь, простую, прочно устоявшуюся, не то что перепрудили, а словно бы разрубили надвое, отделив прошлое от настоящего. Испокон веков стояли соломенные любимые кошары, старые, почерневшие от времени, и на душе у Анисима Ивановича было спокойно. Но вот на месте сгнивших кошар вырос из кирпича овечий дворец, и жизнь для Анисима Ивановича стала невыносимо тяжкой. Было время, по степи гуляли чабаны с отарами, тянулись, постукивая ступицами, арбы, и вдруг ничего этого не стало. Чабаны превратились в овцеводов-механизаторов, а управляющий стал разнорабочим. Пришли радость и надежды на лучшее будущее к одним, к таким, как Андрей Сероштан, и горе, безысходность к другим, к таким, в частности, как мой дядя Анисим Иванович. Оно-то, горе, и потянуло бывшего управляющего к водке, с нею ему стало веселее, и оно же, горе, заставило показать мне свою осведомленность в том, что же произойдет с овцами в будущем. Старик даже придумал сравнение — шелк искусственный и шелк натуральный. Значит, если верить Анисиму Ивановичу, то на комплексе овцы будут не натуральные. Так ли это? Надо спросить у Сероштана. Он-то, наверное, знает. И та же причина вызвала злобу на зятя. «Не перестану клясть Сероштана, как заглавного зачинщика». Выходит, не в том вина Андрея Сероштана, что он без согласия отца и матери увез их дочь Катю, а в том, что разорил отжившие свое кошары. Не был бы Андрей Сероштан зачинателем стационарного содержания овец, и был бы отличным зятем. Построил комплексы — и загубил жизнь отца своей жены. Нет теперь того Анисима Ивановича, каким он был. Чего стоит это его завывание по-собачьи, почему-то именуемое песней? Какая же это песня? Скорее, плач. Или стон… Эти заунывные звуки все еще стояли в моих ушах, когда я уже был в Богомольном, и не давали мне возможности ни о чем думать.
3
В этот раз в Богомольное я приехал рейсовым автобусом. Своеобразное привольненское новшество — раньше такого удобного сообщения между селом и хутором не было.
Меня встретил тот же двухэтажный, кирпичной кладки, дом с теми же, старательно запудренными пылью окнами, уныло и сонно смотревшими на площадь. Те же двойные широкие двери заскрипели петлями, и так же, как и прежде, порог был побит ногами и испачкан засохшей грязью. Та же каменная, круто поставленная лестница провела меня на второй этаж: по такой лестнице трудно подниматься, а еще труднее спускаться.
На втором этаже я направился, не раздумывая, в просторную, знакомую мне комнату-приемную. И здесь я заметил перемену: раньше, когда директором был Суходрев, вдоль стен стояли стулья, теперь же к ним прибавился конторский двухтумбовый стол. За ним сидела та сельская красавица, которую так и хотелось назвать Еленой Прекрасной. У нее были синие, умело подведенные большие глаза, на голове — высокая, как кавказская папаха, прическа. Елена Прекрасная с синими очами окинула меня тем спокойным, несколько удивленным взглядом, каким смотрят на человека, желая сказать ему, что напрасно он сюда пожаловал, ибо ни вчера, ни сегодня его здесь никто не ждал. Я же, увидев эти старательно подсиненные очи, без лишних слов понял: да, так запросто, как, бывало, приходил к Суходреву, — к Сероштану мне не пройти, и остановился. Постоял в раздумье некоторое время и сказал голосом просителя, что мне необходимо увидеть директора.
— Как это — «необходимо увидеть»? — с наигранной улыбкой спросила Елена Прекрасная. — Молодой человек, что-то я вас не понимаю.
— Что же тут непонятного? Хочу войти в кабинет и увидеть директора.
— Позвольте, а вы откуда, во-первых? — не переставая наигранно улыбаться, спросила красавица с синими очами. — И кто вы есть, во-вторых?
— Я — гражданин села, которое тем и знаменито, что в нем когда-то баба родила…
— Прошу без этого, без поэзии, — перебила улыбавшаяся красавица села Богомольного. — Вы записаны, в-третьих?
— Куда?
— Не прикидывайтесь наивным простачком. Теперь таких уже нигде не сыщешь. Все и всё знают. — Синие очи Елены Прекрасной выражали одно сплошное горе… — Еще спрашиваете: куда? Известно, к Андрею Аверьяновичу вы записаны?
— Не записан. А что, надо?
— Так чего же вы пришли?
— По срочной необходимости.
— Приемы у нас по средам. На дверях написано. Могу записать на среду.
— Сегодня же четверг. Целую неделю ждать.
— Ничего, подождете. Время пройдет быстро.
— Но у меня же неотложное дело! — стоял я на своем, невольно любуясь умело подведенными очами Елены Прекрасной. — Если, к примеру, горит совхоз и мне надо сообщить об этом самому директору? Пока запишешься на очередь, пока будешь ждать среду, сгорит же все дотла!
— Шутки я тоже обожаю.
— Если без шуток, то мне в самом деле нужно срочно повидаться с Андреем Аверьяновичем, — настаивал я на своем. — Просто сию минуту. Вы доложите, как положено.
— Не положено.
— Войдите в кабинет и скажите: так, мол, и так, приехал товарищ из Москвы.
— Опять шуточки? — Тут ее подсиненные очи впервые насторожились. — Неужели из Москвы? Как из Москвы?
— Вчера, самолетом, — спокойно ответил я. — Пойдите к своему шефу и доложите: Михаил Чазов, из Москвы. Можете добавить: брат его супруги Екатерины Анисимовны, по-простому — шурин.
— Да неужели из Москвы? Неужели шурин? — Елена Прекрасная так обрадовалась, словно бы увидела перед собой не меня, а какого-то сказочного принца. — А вы не обманываете? Может, вы из автоколонны?
— Неужели я похож на сотрудника автотранспорта?
— Не похожи… Не обманываете, нет? — повторила она еще раз, и ее синие большие глаза стали синее и больше. — Неужели шурин? Неужели из Москвы?
— Да как же я посмею обманывать такую красавицу?
— Ой, что вы… Зачем же еще и комплименты? Так неужели из самой Москвы? Неужели шурин? Чего же вы сразу не сказали? — Тут Елена Прекрасная с синими очами и с папахой на голове не вышла из-за стола, а словно бы выпорхнула и открыла дверь кабинета. — Прошу! Андрей Аверьянович один.
— Вот так бы и давно, — сказал я и вошел в кабинет.
В эту минуту Андрей никак не ждал увидеть меня, и мы, оба обрадованные встречей, обнялись. Мы не виделись более трех лет, и я не знаю, заметил ли Андрей во мне перемены и какие, но я в нем заметил. Он возмужал лицом, стал солиднее, представительнее, плечистее и словно бы выше ростом, и во взгляде у него появилось какое-то чисто начальственное спокойствие — оно чаще всего бывает у людей, привыкших к своему положению хозяина, к чувству превосходства над другими. И одет он был как-то так, как одевались когда-то директора совхозов и председатели колхозов: серый, легкий полукитель с накладными карманами сидел на нем просторно, а полувоенные, вобранные в голенища сапог брюки придавали его солидной фигуре вид человека, знающего цену себе и другим.
— Ну, здравствуй, Миша! — сказал он, широко улыбаясь. — Наконец-то заявился! Надолго ли?
— Здешний собственный корреспондент заболел, так вот я побуду вместо него.
— Жилье облюбуешь в Ставрополе или у нас? — Андрей обхватил мои плечи сильными руками, прижал к себе. — Никуда мы тебя не отпустим! У нас тебе будет лучше. Дадим комнату со всеми удобствами.
— Думаю, жилье мне не потребуется, — ответил я, освобождаясь от объятий. — Буду ездить по районам. Вот если бы прикомандировал ко мне Олега с машиной, а?
— Олег и машина — не проблема, — сказал Андрей, и его спокойный взгляд говорил: «О чем спрашиваешь? Я же директор, я все могу». — В Привольном уже был? Чабанский музей видел?
— Видел, видел, все осмотрел, — ответил я. — Вчера направился прямо туда, по старой протоптанной дорожке.
— А у въезда в хутор бабуся тебя встречала?
— Ну как же! Прекрасно стоит! Я встал перед ней на колени и поздоровался. Хорошо возвышается на кургане чабанская мамка. Всегда у людей на виду. Никто не проедет мимо, не взглянув на нее.
— Садись сюда, Миша, в кресло. Как я рад, что ты снова у нас, на нашем приволье. Где же ты ночевал?
— У дяди Анисима.
— А… Ну, как он? Все еще злится на меня? Клянет?
— Несчастный он человек, — ответил я. — Андрей, ведь его тоже надобно понять.
— Понять бы надо, надо… — Андрей задумался. — А как понять? Научи, если можешь. Я же не только его зять, я прежде всего директор.
Разговор об
Анисиме Ивановиче у нас не получился, и я, чтобы не молчать, рассказал, как меня встретила секретарша.
— Эта красавица, эта Елена Прекрасная, — добавил я, — говорит мне мило, вежливо, что может записать меня на очередь только на среду.
Андрей хохотал искренне, до слез, спрашивая сквозь смех:
— Да неужели хотела записать на среду? Ай-ай-ай! — От смеха лицо его побагровело. — И надо такое придумать! Тебя — на прием ко мне! И на среду, да? — Он не в силах был остановить смех. — Ну и синеокая Валентина! Ну и строгость завела! Значит, говорит, только на среду? Ни днем раньше, ни днем позже? Ну надо же!
— Андрей, а знаешь, чем попахивает от этой строгости?
— Догадываюсь. Ты хотел сказать: бюрократизмом? Да, верно, попахивает, — согласился Андрей. — Перестаралась, как ты ее назвал, Елена Прекрасная. Перегнула палку. А вообще прошу, Миша, не удивляться. Я — администратор, люблю четкость, порядок во всем и всюду, не только, к примеру, на комплексах, а и в собственной конторе. И по этой причине от известных тебе нововведений, каковые были здесь при Суходреве, не осталось и следа, как от кошар моего самонравного тестя. В Привольном нынче все делается только так, как должно и как делается у всех. Я как раз тот солдат, который шагает в ногу со всей ротой, ничем не желает выделяться или выбегать вперед. Как у всех, так и у меня. У всех нынче есть этот, как его, деловой бюрократизм. Есть он и у меня. Зачем же выделяться среди других? Незачем!
— Позволь заметить: как же понимать твой почин в стационарном содержании овец? — спросил я. — Это и было то, что именуется ломанием строя, выбеганием вперед. Помню, тогда ты не шел в ногу со всей ротой.
— Овцекомплексы — это другой вопрос, — ответил Андрей, а спокойные его глаза говорили: «Ну что завел речь о том, в чем ничего не смыслишь? Посидел бы на моем месте, тогда бы и говорил». — В делах хозяйственных я и сейчас ломаю шеренгу, кое-кого опережаю и буду опережать в будущем. Вести хозяйство разумно, получать хорошую прибыль — такое забегание вперед нужное и необходимое. Оно входит в мою прямую обязанность. Но есть в нашей жизни узаконенный порядок, один для всех, — не бюрократизм, нет, а именно порядок! — и вот его я никогда не нарушу. Это Артем Иванович Суходрев, как ты знаешь, был противником такого порядка, он не мог жить без новшеств. А я могу и живу. И в районе на меня никто не в обиде.
— Все так живут, как ты?
— Почти все, за вычетом одного, — с веселой улыбкой ответил Андрей. — Имеется в нашем районе один чудак. Мой сосед, Антон Овчарников. Этот намного оригинальнее Суходрева.
— Случаем, не сын покойного Тимофея Силыча Овчарникова?
— Он самый, сынок Тимофея Силыча. Так этот действует получше Суходрева. Куда там, новатор, каких поискать!
— В чем же состоит новаторство Овчарникова?
— Если по-моему, то в хвастовстве, — все так же весело ответил Андрей. — Желание порисоваться, показать себя. Дескать, посмотрите на меня, я не такой, как все, я особенный, даже не похож на своего папашу. Я испечен из теста не простого, а сдобного. Суходреву он не подражал, нет. Тайное голосование не устраивал, замки с амбаров не снимал, секретаршу не уволил, кассирши остались на своих местах. И приемные дни у моего необыкновенного соседа, как и у меня, имеются, — по понедельникам.
— Так в чем же он особенный? Чем он тебя удивляет?
— Удивляет не только меня, но всех. — Веселые глаза Андрея повлажнели. — До приезда в Беловцы Овчарников работал в крайсельхозуправлении, занимал видную должность. По образованию он — агроном-экономист. И вот после смерти отца изъявил желание стать председателем колхоза, так сказать, продолжать дело своего знатного родителя. И в крае, и в районе обрадовались. Как же, сын становится на смену отцу. Получается династия — то, что нужно! Отцовский дом с каменными колоннами сын сразу же отдал под детский сад, безвозмездно, — это хорошо, одобряю. Сам же с женой и сыном поселился в двухкомнатной квартире общего дома. Тоже правильно поступил, ибо не стал выделяться перед сельчанами, как, бывало, выделялся старик Овчарников. Но как только он приступил к работе, вот тут-то и началось то, что всех удивило. На первом же собрании районного актива молодой Овчарников выступил и сказал: все командировочные, приезжающие к нему в Беловцы, не помогают в работе, а мешают, дескать, путаются у него в ногах. И тут же, с трибуны, заявил: возложите, говорит, на меня как на председателя полную ответственность, но дайте мне и полную свободу действий, не опекайте меня, не мешайте мне — так и сказал! — и я сделаю хозяйство в Беловцах образцовым, высокотоварным… Ему реплику из зала: «Антон Тимофеевич, работай так, как твой отец». Нет, говорит, ни работать, ни жить так, как работал и как жил мой отец, я не буду и не хочу. Так открыто, без всякой дипломатии, и заявил.
— Ну и что же?
— Добился своего.
— Как же ему удалось?
— Помогли большие связи в Ставрополе, в Москве, — продолжал Андрей. — Он заручился поддержкой влиятельных людей, ну и наш не стал возражать. Вопрос этот был вынесен на заседание бюро райкома, и там Караченцев сказал: ладно, говорит, так и быть, уважим просьбу Овчарникова и не только возложим на него ответственность, но и дадим ему свободу действий сроком на пять лет, для опыта, и посмотрим, что из этого выйдет. Пойдем, говорит, на риск… И вот уже прошло три года.
— Ну и как риск? Удался?
— Трудно сказать что-то определенное, — с грустью в голосе ответил Андрей. — В Беловцах лично я не бывал, потому что у въезда в село Овчарников выставил посты и шлагбаумы, — не проедешь. Но из сводок, тех, что печатаются в газете, знаю: по урожаю зерновых, по настригу шерсти, по мясопоставкам Беловцы давно вышли вперед, обогнали многие колхозы и совхозы… Конечно, хотелось бы посмотреть, что там у Овчарникова делается в Беловцах, сводки сводками, а жизнь — это жизнь. Но в Беловцы не попадешь. Туда даже Караченцев старается не заезжать. Если же ему очень надо повидаться с Овчарниковым, то для него заранее заказывается пропуск, и тогда стражники поднимают шлагбаум и пропускают машину. Смех! Какая-то комедия! — Смеяться же Андрей, не стал, даже не улыбнулся. — У нас в Привольном никаких запретов. Пожалуйста, едут все кому не лень, и ничего, не жалуемся. Веришь, Миша, нет такого дня, чтобы к нам не заявлялись командировочные, комиссии. И пусть приезжают. У меня и здесь порядок, и я на приезжих не в обиде. Я же понимаю: у них служба, свои задачи, свои планы, графики, делать-то им что-то надо. Вот они и не сидят в конторах, а стараются уехать на лоно природы — на поля, на фермы. Устраивают проверку, инструктируют, дают нужные указания. Лично мне они не мешают. У них — свое, у меня — свое. Как бывает? Я внимательно выслушаю указания, выводы, комиссия уезжает довольная, я тоже — и до следующего приезда. А Овчарников терпеть не может никаких комиссий. Мы и сами, говорит, ежели нужно, то и проверим, и проинструктируем, и дадим указание.
— Ты такое рассказал, что мне уже захотелось побывать в Беловцах, — сказал я. — Значит, и меня не пустят в село?
— Без разрешения? — спросил Андрей, от удивления подняв брови. — Ни в коем случае. У Овчарникова это дело поставлено надежно. Там такие стоят преграды, что сквозь них не прорвешься.
— Но журналиста все же обязаны пустить? Как считаешь?
Ответить Андрей не успел. Вошла своей легкой походкой Елена Прекрасная, посмотрела на Андрея синими очами и деловито сообщила:
— Андрей Аверьянович, прибыла комиссия из райсельхозуправления.
— Ну вот видишь? — Андрей с горькой улыбкой взглянул на меня. — И так каждый день. — И к Елене Прекрасной: — Сколько их?
— Трое. Женщина в очках и двое мужчин, молодой и пожилой, — тем же деловым голосом ответила секретарша. — Документы я посмотрела.
— Кто по специальности?
— Зоотехники. Женщина у них за главного. Как с ними быть?
— Валентина, еще спрашиваешь, как не стыдно! Приглашай, да повежливее. — Андрей посмотрел вслед уходившей Валентине в кавказской папахе и добавил со вздохом: — Вот они, голубчики, не заставили себя ждать. Комиссия из трех человек. Значит, пробудут не один день. Хорошо, что с ними женщина… водки потребуется меньше. Заметь, Михаил: поехали-то зоотехники не к Овчарникову, а ко мне. А ведь я их не ждал и не просил приезжать, они мне нужны так, как позапрошлогодний снег. А что поделаешь? Приехали, им же надо куда-то ехать, а село Богомольное на главном тракте. Тут уж ничего не поделаешь, хочешь не хочешь, а принимай…
Желая показать, как он рад и как вежлив, Андрей пошел навстречу нежданным гостям, так приятно улыбался, так сердечно пожимал им руки, словно бы давно поджидал их и вот, наконец-то, дождался.
— Самым задушевным образом приветствую зоотехническую службу на привольненской земле, — не переставая сладко улыбаться, сказал он. — Прошу, садитесь. Рад вас видеть. Надолго ли к нам?
— На недельку, — ответила женщина в очках. — Не больше.
— Отчего же так мало? — с искренним сожалением спросил Андрей. — Неделя — это что же такое? Вы нас, привольненцев, обижаете.
— Больше никак не сможем, — последовал ответ. — Думаем, недельки для нас хватит. Как руководитель комиссии, я рассчитала так: одни день на два отделения — вполне достаточно. Ну, а если не управимся, то, разумеется, задержимся. Как, товарищи?
— Очень даже правильно! — поддержал пожилой мужчина.
— Задержаться всегда можно, — согласился парень со спортивной выправкой. — Помните, в колхозе «Заря» мы как-то пробыли вместо недели дней двенадцать. И ничего.
Я присматривался к зоотехникам из райсельхозуправления. Они были одеты по-дорожному, женщина — в куртке и расклешенных ниже колен брюках; держались деловито, их строгие, чем-то озабоченные лица говорили, что эта комиссия приехала сюда не зря, что в Привольном ей предстоит выполнить работу необычайно важную и чрезвычайно нужную. Один мужчина был пожилой, с закопченными табачным дымом коротко подстриженными усиками на широкой губе, другой — спортивной выправки парень, наверное, только что из института. Мужчины вежливо подождали, пока в кресло поближе к столу села их руководительница, и только уже после этого сами уселись на стульях, в сторонке.
— Машина у нас своя, — нарушил молчание парень со спортивной выправкой, чуточку приподнявшись. — Так что с транспортом никаких затруднений не будет.
— Станислав, речь надо вести не о транспорте, — сказала руководительница. — Нас раньше всего и прежде всего интересует дело.
— Я понимаю, — покраснев, сказал Станислав. — Я только к тому, что машина нам не нужна.
— Что же вы намерены у нас проверять? — очевидно, так, для приличия поинтересовался Андрей, с добродушной улыбкой глядя на женщину в очках. — Это хорошо, что вы на своем транспорте. Но, как мне помнится, недавно у нас была какая-то, как говорится, глобальная проверка по линии зоотехнической службы.
— Да, Андрей Аверьянович, вы правы, такая проверка была, — поспешил ответить пожилой мужчина с усиками, пожелтевшими от табачной копоти. — Но Виктория Самойловна об этом факте не знает. Тогда мы приезжали без Виктории Самойловны. И к тому же та проверка была весенне-летняя, а эта проверка — летне-осенняя. У нас все делается по плану и строгому графику, так что вы не беспокоитесь, — заключил он гордо, вдыхая ноздрями воздух, будто нюхая свои пахнущие табаком усики. — Правильно я говорю, Виктория Самойловна?
— Совершенно справедливо, — охотно ответила Виктория Самойловна, поправляя туго затянутый пояс на брюках. — Наш план-график своевременно разослан на низы, о нем все знают, кроме, разумеется, Овчарникова.
— А вы сегодня подкатили бы к Овчарникову, а? — весело спросил Андрей. — Прорвались бы через кордон. Вот было бы чудо!
— К нему не прорвешься, — заметил парень со спортивной выправкой. — Я как-то пытался. Ничего не вышло.
— А, ну его, — сказала Виктория Самойловна и начала протирать платочком очки. — Это же не человек, а тип.
— Значит, у вас все делается вовремя, по плану и по графику? — желая переменить разговор, спросил Андрей. — Это прекрасно! Я поборник строгого графика и точного плана.
— Вот с вами, Андрей Аверьянович, и хорошо работать, — сказала Виктория Самойловна, пристроив на глаза хорошо протертые очки. — Да, с нами должен поехать главный зоотехник совхоза, — добавила она серьезным тоном. — Дайте ему указание. И еще прошу вас, Андрей Аверьянович, дать соответствующие указания всем отделениям о нашем там пребывании.
— Да, да, это будет сделано непременно, — живо ответил Андрей, ибо он понимал, что означали в переводе на обыкновенный язык слова «дать соответствующие указания отделениям о нашем там пребывании». — Об этом прошу вас не беспокоиться. Все будет в наилучшем виде. На отделениях у нас народ понимающий, так что мои специальные указания даже и не потребуются. Но на всякий случай напомню. Напомнить всегда нелишне.
— Совершенно справедливо, — согласилась женщина-руководительница.
Андрей нажал кнопку. Вошла красавица Валентина, и я заметил, что молоденький, со спортивной выправкой зоотехник не сводил с нее жарко заблестевших глаз.
— Валя, проводи членов комиссии к главному зоотехнику, — сказал Андрей. — Передай Петру Петровичу…
— Петр Петрович выехал в Привольный, — поспешила ответить все знавшая красавица Валентина. — Вызвать из Привольного?
— Не надо. — Андрей обратился к Виктории Самойловне. — Как вы считаете, Виктория Самойловна, может быть, вам начать проверку с Привольного? Петр Петрович сейчас там, я ему позвоню. Уведомлю и управляющего Евгения Осиповича о вашем приезде. Он будет вас ждать. А вы поезжайте сейчас в Привольный. Советую посмотреть наш чабанский музей. Недавно поступили туда новые экспонаты, в частности волчья челюсть.
— В чабанском музее мы уже бывали, — сказал пожилой мужчина. — Но если там появились волчьи челюсти, то можно побывать и еще раз. Верно я говорю, Виктория Самойловна?
— Безусловно, — ответила Виктория Самойловна. — Волчьи челюсти — это редкость, и мы их посмотрим.
— В Привольном и заночуете, — сказал Андрей. — Там у нас отличный дом для приезжих, недавно построили. Цветной телевизор, бильярд, а домик стоит в стороне от главной трассы. Тишина, покой. Хорошо отдохнете.
— Ну что ж, не станем терять драгоценное время, — вставая, по-деловому объявила Виктория Самойловна, вновь поправляя туго затянутый брючный пояс. — Начнем с Привольного. Это даже удобно. Самое близкое отделение, чабанский музей, новый комплекс. Ну что ж, спасибо за радушный прием, — и Виктория Самойловна протянула Андрею руку. — Мы сегодня же и приступим к делу.
— Пожалуйста, пожалуйста, будьте как у себя дома, — говорил Андрей, выходя из-за стола. — И Петр Петрович, и Евгений Осипович будут вас ждать.
Андрей проводил гостей до порога, с улыбкой, любезно пожал всем им руки, пожелал успеха и, вернувшись к столу, сказал:
— Ну вот и все. Как видишь, просто и хорошо. Разумеется, приезд этой троицы никому не нужен. Да они и сами это отлично знают. Но кому сказать? Кто тебя станет слушать? Вот именно в этой части как-то можно понять Антона Тимофеевича Овчарникова.
— А в чем же нельзя понять Овчарникова? — спросил я.
— Лично мне, Миша, непонятно высокомерие моего соседа, — ответил Андрей. — Ведь нельзя же строить из себя эдакого умника. Нельзя отрицать все, что существует. Мы же не нигилисты какие-нибудь. Простой житейский пример: есть у нас райсельхозуправление, оно создано на законном основании. В нем трудятся специалисты сельского хозяйства. Их там немало. По должности им положено не сидеть в кабинетах, а почаще приезжать к нам и проверять нас. Так и пусть себе ездят, пусть проверяют. Мне от этого, скажу честно, ни холодно, ни жарко. А моему своенравному соседу, видишь ли, такие приезды не нравятся. Путаются у него в ногах, мешают работать. И по этой причине он не признает ни командировочных, ни комиссий, ни проверок. — Андрей подошел к окну, так же, как, бывало, подходил и Суходрев, и, желая показать, что об Овчарникове все уже сказано, застегнул на все пуговицы китель. — Укатила комиссия! Только пыль заклубилась по улице! Ну а мы пойдем ко мне. Надо же мою Катю порадовать твоим приездом. — Из нагрудного кармана он вынул часы на ремешке, посмотрел на них и покачал головой. — Как летит время! Мне пора на шестое отделение. Так что оставлю тебя с Катей и со своим шумным семейством. Видишь ли, на шестом партийное собрание, и я там главный докладчик, — как бы извиняясь, добавил он. — Но к вечеру я вернусь. Тут недалеко.
— Мне хотелось бы завтра уехать по району, — сказал я, когда мы спускались по крутой каменной лестнице. — Как насчет Олега с машиной?
— Вот вернусь, и мы все решим, — уверенным голосом ответил Андрей. — Без Олега и без машины никуда не уедешь. Заночуешь у меня. Как Катюша обрадуется! Детишек тебе покажет. Ты уж похвали ее, многодетную мамашу. Частенько она о тебе вспоминает. Что-то, говорит, после смерти бабуси Миша к нам не заглядывает. А вот ты и заглянул!
4
КАТЯ
Где-то в подсознании, а лучше сказать — в тайниках души хранилась у меня мысль сделать Андрея и Катю Сероштан героями своей повести, разумеется, под вымышленными именами и фамилией. Сам того не желая, я все эти годы так и эдак, вкось и вкривь примерял и прилаживал их к своему «Запаху полыни». У меня не было ни капли сомнения, что новая, только что зародившаяся семья должна занять в повествовании важное место. Но сколько об этом ни думал, сколько ни гадал, я точно еще не знал, как Андрей и Катя со своими ребятишками войдут на страницы книги, какое место займут в ее сюжете, и не знал главным образом из-за Кати. Андрей был для меня в общем-то понятен, ясен, такие старательные молодые люди встречаются повсюду, и описать его, как мне казалось, большого труда не составляло. Правда, после того, как Андрей стал директором совхоза, в его характере возникли тоже непонятные мне черты, которые вызывали во мне недоумение. Признаться, я не мог понять, как можно было так вдруг перемениться, как переменился Андрей. Странными показались мне и его разговор с членами зоотехнической комиссии, и его отношение к молодому Овчарникову и к новшествам Артема Ивановича Суходрева, перед умом которого раньше он преклонялся. В нем родилось и росло что-то неестественное, неискреннее. И все же Андрей меня не пугал. Опишу его таким, какой он есть, и читатели мне поверят. А вот Катя — это загадка. Как ее разгадать и как понять? Дело в том, что по молодости своих лет мне еще не доводилось встречать таких, я сказал бы, одержимых матерей, какой была Катя.
Думал я и о том, чтобы написать собирательный образ молодой кормящей матери. Но опять же возникал вопрос: как? Тут необходимо было показать не одну Катю, а многих молодых матерей, чем-то на нее похожих, а я их не знал. Я понимал: для собирательного образа нужны не столько внешние приметы, не столько та наивная и развеселая девчушка Катя, какой она когда-то была, сколько теперешняя Екатерина Анисимовна, мать большой семьи. Да и для читателя не то важно, что Катя рано вышла замуж и после частых родов заметно раздобрела, важно то, как она в свои двадцать четыре года сумела стать матерью пятерых детей, и как изменился ее внутренний мир, и почему она или не хотела, или не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом, а только о своих детях.
Я пробыл у нее не более двух часов и уже знал о детях почти все. И о привычках старших — близнецов: что они любили, а что не любили. Мне стало известно и о том, какой ребенок и как уже переболел корью, а какой еще не болел, какие прививки детям были сделаны, а какие еще не сделаны и почему. Катя поведала мне и о том, какой упрямый характер у Зинуши и какая ласковая и плаксивая Оленька. Меня нисколько не удивило, что Катя ни разу не пожаловалась, как, помню, жаловалась раньше, на скуку, на частые отлучки Андрея, — надо полагать, у нее не было времени даже думать об этом, ибо вся она была поглощена заботами о детях. Ей, очевидно, некогда было следить за своей внешностью, ибо она не замечала, что из-под распахнутого халата видны ее белые, полные молочные груди, — просто ей, кормящей матери, находиться без лифчика и в халате было удобно.
— Миша, посмотри на моих старших птенчиков, — сказала она, когда Андрей взял портфель и вышел из дому. — Это Клавочка и Андрюша-младший — мои двойнята. Помнишь, в тот твой приезд какие они были крохотные? А теперь! — Она подвела мальчика и девочку ко мне. — Клава, Андрюша, поздоровайтесь с дядей Мишей. Вот так, мои славные! — И она обратилась ко мне: — Ну, как хлопчик и девчушка? А какие милые да симпатичные! Ох, и приняла я с ними горюшка во время родов. Тут они — первые, а тут еще и двойня. После них троих родила — легко, даже, веришь, с удовольствием. А вот первых — ох как же тяжело, думала — помру. Теперь все уже забылось. Видишь, как мои славные мучители выросли. Не заметишь, как и в школу пойдут все пятеро — один за другим. Растут-то лесенкой.
— Мама, а этот дядя наш? — спросила Клава.
— Наш, наш, — ответила Катя. — Все люди — наши.
— Мама, а жить дядя будет у, нас? — серьезно, как отец, спросил Андрюша. — Или уедет?
— Немного поживет и уедет, — ответила Катя, подводя ко мне девочку, ростом поменьше Клавы, с крупным белым бантом на светлой головке. — Вот она, Зинуша! Славная девочка, только чересчур упрямая и непослушная. Так и норовит настоять на своем.
— Пошла в мать, — заметил я.
— Скорее в отца, — ответила Катя, подводя еще одну дочку. — Вот кто пошел в меня — моя младшая, Оленька. — У Оленьки на голове был бант поменьше, красный, как цветок мака. — Оленька ласковая, улыбчивая. Всегда первая взберется к отцу на колени, обнимет, поцелует. А вот, Миша, подойди-ка сюда, к кроватке. Здесь находится самый новейший образец Сероштана — наш Володя. Вчера ему пошел второй месяц. Спит и спит, любит поспать. Пора бы уже брать к груди, а он все не просыпается. Удивительно смирный мальчонка, таких у меня еще не было. Жаль, глазенки у него закрытые. Увидел бы: у него они серые, как у отца. А посмотри, какие губки. Бантиком, как у девочки. Правда, а?
— Признаться, в этом плохо разбираюсь, — сказал я. — Ты лучше объясни мне, Катюша, как управляешься с ними одна?
— А я не одна, мне помогают, — ответила Катя, все еще глядя влюбленными глазами на спавшего Володю. — Тетушка Андрея, спасибо, приходит каждый день.
Володя открыл сонные глазенки, и Катя оправила на груди халат, готовясь кормить сынишку.
— Ну, вот мы и проснулись. Солнышко ты мое! Теперь мы покушаем… Без подмоги трудно. Моя мать тоже иногда приезжает. Ну что ты, Миша! Одной, без помощи, с этим беспокойным племенем хоть караул кричи. Детский сад! Того надо умывать, того подмывать, того купать, тому горшок подавать. А вот Володеньку — на руки брать. — Она взяла ребенка и, не стесняясь меня, дала ему грудь, глядя, как мальчик жадно взял сосок. — А сколько собирается пеленок, рубашонок, трусиков. Их надо перестирать, перегладить. И это же их пока пятеро. А ежели станет их шестеро или семеро? Вот тогда совсем будет весело! Только поспевай поворачиваться.
— А что, ждете шестого и седьмого? — спросил я.
— Почему бы и не ждать? — уверенно и весело ответила Катя. — Дело-то привычное!
Я записал в тетрадь: «А ежели станет их шестеро или семеро? Вот тогда совсем будет весело». В памяти для себя отметил: это было сказано искренне и с уверенностью женщины, которая нисколько не сомневалась ни в справедливости своих предположений, ни, как говорится, в своих потенциальных возможностях: И я верил Кате. Непременно родится и шестой, и седьмой, и, возможно, восьмой Сероштаник. Да, подумал я, для «Запаха полыни» такая героиня могла бы показаться нетипичной. Даже если описать ее с пятью детишками, указав на желание Кати рожать и рожать, то мне все одно никто не поверил бы. Сказали бы — выдумка, брехня. Ведь всем же известно, что в наши дни многодетная семья, как правило, редкость даже на селе. Обычно молодая женщина родит одного ребенка, так, для забавы, от силы — двоих и считает на этом исполненным свой материнский долг. А у Кати пятеро уже налицо, и неизвестно, сколько же их еще ожидается в перспективе. Кто этому поверит? Никто. Описать же другую Катю, как мне советовал Никифор Петрович, выдуманную, к примеру, с одним ребенком, мне не хотелось. Значит, надо попробовать описать Катю настоящую, невыдуманную, такую, какая она есть, и описать так, чтобы мне поверили. Поэтому, пока я находился у Кати, я стал еще внимательнее присматриваться к своей будущей героине, помня о том, что передо мной не моя двоюродная сестренка, а молодая многодетная мать. Именно с этой целью я и задал ей вопрос, несколько общий, я бы сказал, чисто теоретический:
— Катя, расскажи о чувстве матери!
— А я не знаю этого чувства, — смеясь ответила Катя. — Да и знать его не желаю, потому что оно всегда во мне.
— Ну, что ты думаешь о своих детях, не так, как, к примеру, думают о них Марфуша или бабушка Елена, а как о них думает та, которая произвела их на свет?
— Смешной ты, Миша. — Катя с улыбкой и с удивлением смотрела на меня. — Разве об этом можно рассказать? Это надобно самому пережить и перечувствовать.
— Допустим, ты ждешь ребенка. Его еще нет на свете. Но о том, что он уже е с т ь, тебе известно одной. Что ты думаешь о нем?
— Сказать правду?
— Скажи.
— Ты же не поверишь.
— Говори, поверю.
— Я ничего не думаю о нем.
— Почему?
— А зачем о нем думать? Я же знаю: придет та, нужная минута, и на свет появится новый человек, — ответила Катя с той же удивленной улыбкой. — Еще недавно его не было, а теперь он уже живет. Чего же об этом думать? Это не чудо, не волшебство, а новая жизнь. И кто дал новому человеку жизнь? Женщина! Вот об этом надо бы задуматься. Женщина как начало всему живому.
— Каким он тебе представляется, новый человек? Когда его еще нет на свете? Об этом тоже не думаешь?
— А зачем об этом думать? — удивилась Катя. — Я и так, не думая, знаю, каким он будет.
— Каким же?
— Моим, хорошим. И в нем будет что-то мое и что-то Андреево… А вот то, что женщина переживает в минуты родов, никакими словами и мыслями не передать. Такое чувство вам, мужчинам, никогда не пережить и никогда не понять. Или ощутить тот момент, когда мое маленькое существо впервые, заметь, впервые, берет сосок и я чувствую теплоту его губ, слышу его спокойное дыхание и уже вижу его всего… Миша, я еще сказала бы тебе, да боюсь, что не то что не поверишь, а станешь смеяться.
— Нет, не стану. Ты говори, говори. Кто же, кроме тебя, Катя, скажет, мне об этом?
— Поверишь, Миша?
— Поверю.
— Миша, я люблю рожать. Мне приятно рожать, вот это я хотела сказать. Улыбаешься, и вижу, не веришь. Андрей тоже не верит. А я говорю правду.
— То есть как приятно? — спросил я. — Это же больно.
— Чудак! — Она смеялась, глаза ее блестели. — Не знаю, как тебе и пояснить. Эта боль — радостная, приятная. Нет, видно, ее, эту боль, мужчины не знают и никогда не узнают. То душевное и физическое состояние, которое испытывает роженица, ни с чем не сравнимо. Только что ты еще была одна, и вот нас уже стало двое, и того, второго, твою горластую, живую частицу, уносят от тебя, чтобы через некоторое время принести ее к тебе и положить к груди. О! Миша, это не боль, это великое счастье! Я все это испытала, пережила, и одному Андрею да вот еще тебе честно говорю: я люблю рожать, мне это приятно. Не представляю себе, как можно женщине жить без ощущения этого удивительного, ни с чем не сравнимого счастья!
— А боль? А страдания?
— Опять о том же?
Катя с сожалеющей улыбкой посмотрела на меня. В это время на своих слабых ножках к ней подбежала Оленька, заливисто, по-детски смеясь, и ткнулась ей в колени. Катя подхватила девочку и стала жадно целовать ее.
— Видишь, Миша, как мы уже смело бегаем, — сказала она радостно. — Мы уже ничего не боимся! А как мы любим свою маму!
Я вспомнил: Марта точно так же, как Катя об Оленьке, говорила во множественном числе о нашем Иване, и подумал, что все матери, наверное, одинаково любят своих детей.
— Миша, погляди на меня и на Оленьку, — говорила Катя, целуя дочку. — Вот он, наглядный ответ на все твои вопросы о болях и страданиях. Боли и страдания роженицы проходят, забываются, а остается вот это глазастенькое, смеющееся и бегущее к тебе твое счастье. Помнишь, там, в Мокрой Буйволе, когда я была еще одна, мне жилось очень трудно, меня мучила тоска, изводило одиночество. И когда Андрей уходил на весь день, я не знала, куда себя девать. У меня не было дела. Теперь же, в окружении этой пятерочки, которой я дала жизнь и которой я нужна как мать, моя жизнь наполнена каким-то особенным смыслом. Сейчас мне никогда не бывает скучно, и я давно уже не знаю ни тоски, ни печали, ни уныния.
— Выходит, находишься при деле? — с улыбкой спросил я.
— Ну что ты, мало сказать — при деле, а при деле большом и исключительно важном, — согласилась Катя, целуя Оленьку и блестя смеющимися глазами. — И то, что Андрей, как и прежде, дома бывает очень редко, меня не пугает, не огорчает, как пугало и огорчало раньше. Почему? Чудак ты, Миша! Да потому, что моя любовь к Андрею, все то внутреннее большое чувство, которое руководило мною, когда я самовольно ушла от родителей к Андрею, теперь живет в детях. Я смотрю на моих птенчиков, а всегда вижу рядом с ними Андрея, он и в Оленьке, и в Зинушке, и в наших старших, и в нашем самом младшем. Так о какой же боли и о каком страдании ты спрашиваешь? И боль, и муки, и страдания — это все в прошлом, а дети — вот они, в настоящем и будущем.
— Но детей еще надо вырастить!
— Все растят, растишь и ты своего Ивана. Мы с Андреем тоже своих вырастим.
— Иван у нас с Мартой один.
— По-моему, растить одного труднее, — уверенно сказала Катя. — Когда они идут гуртом, стайкой, то растут лучше. И в том, что они растут дружно и родители видят, как это происходит, тоже своя, особенная радость. Да, нет спору, вырастить одного ребенка или нескольких много труднее, нежели их родить. Тут все: и как их воспитать, чтобы они стали настоящими людьми, и как дать им образование, и во что одевать. Вот, к примеру, у нас: если покупать обувь, то надо брать сразу пять пар, трусиков — столько же, пальтишек тоже пять штук, все разного размера. А достать детскую одежду и обувь нынче не так-то просто, особенно у нас, в Богомольном. Приходится Андрею специально ездить в Ставрополь. Но что значат все эти одежонки и обувки в сравнении с тем, что вот они, с тобой, растут твои отросточки. Твоя, родная тебе, кровинушка. Нет, Миша, как ни трудно с детьми, а без них намного труднее. В жизни без них какая-то пустота. Я уже не раз думала: если бы они не родились, то как бы я жила? Что бы я делала? Чем бы занималась? Нет, Миша, дети — это большое счастье.
Пришла тетушка Андрея, немолодая, степенная деревенская баба. В доме поднялся радостный детский гвалт. Тетушка начала накрывать на стол, а Катя велела Клаве, Андрюше и Зине помыть руки. Оленьку же она унесла в ванную и помогла ей там умыться. Я наблюдал за Катей и не мог понять, откуда пришло к ней, моей юной сестренке, это зрелое материнство, ее умение обращаться с детьми так свободно и уверенно. Мне казалось, что до того как выйти замуж, она с отличием окончила специальную школу материнства и младенчества. Я замечал, как ей было легко и весело с детьми, как они не были ей обременительны. Пока Марфуша наливала в глубокие миски молочную рисовую кашу, Катя усадила за стол всю четверку, наклонялась к каждому и, целуя в щеку, просила есть спокойно, не спешить. Когда же они, не послушав мать, стали уплетать кашу за обе щеки, что называется наперегонки, когда даже Оленька, обходясь без посторонней помощи, умело работала ложкой, стараясь не отстать от других, Катя нисколько не обиделась на них, а только понимающе улыбнулась мне и сказала:
— Миша, а погляди-ка, какой у детишек аппетит! Если ребенок за столом один, то он никогда так старательно не ест. А почему? Сообща веселее, да и пища вкуснее.
Катя заулыбалась еще больше, когда подошла к кроватке и увидела, что младшенький уже не спит. Она взяла его на руки так уверенно и так умело, как это обычно делают только опытные матери. Развернула мокрую пеленку, показала мне, держа на руке, полуголого, в коротенькой рубашонке, с сонным личиком головастого мальчугана, как бы желая сказать, каких славных детей она рожает, и тут же быстро завернула в свежую пеленку, с радостью говоря, что вот и Володя будет обедать, и, на ходу раскрывая полную, налитую, тугую грудь, отправилась в соседнюю комнату.
Мне надо было навестить Таисию. Я пообещал вернуться вечером, к приезду Андрея, и ушел к еще одной своей сестренке.
5
ТАИСИЯ
Я шел по тому же, знакомому мне, забурьяневшему, по-осеннему запыленному, серому переулку и думал о Таисии Кучеренковой. Думал потому, что и она, с ее толстенной, колесом закрученной косой на затылке, с ее всегда добрыми глазами, — тоже героиня моей будущей повести. Таисию-то я чаще других видел в сюжете, и не как двоюродную сестру, а как мать-одиночку, как молодую женщину необычной судьбы. Не скрою, меня, как автора еще не написанной повести, Таисия во всем устраивала: и в том, что она, внешне некрасивая, была духовно натурой незаурядной, — вот уж воистину: непригожа лицом, да зато хороша умом; и в том, что тайно от сельчан, от близких и родных полюбила женатого, отца семейства, родила от него Юрия и была, счастлива; и в том, что эту свою, как она сама называла, «ворованную, а потому и сладкую» любовь считала любовью настоящей, земной, а себя на этой земле женщиной самой счастливой. И хотя это ее счастье многим казалось смешным, наивным, хотя ее называли матерью-одиночкой, при встрече презрительно улыбались, она не обращала на это никакого внимания и жила так, как ей хотелось жить.
Такое в жизни, думал я, бывает, и нередко: и любят женатых, и становятся матерями-одиночками, и в душе радуются этому, так что характер Таисии, по моим расчетам, раскрылся бы в повести правдиво, убедительно, и те, кто ее прочитал бы, сказали бы: да, это так, как бывает в жизни, это — правда. Мне нравилось в Таисии еще и то, что свое, ей одной понятное, счастье она хранила за семью замками, даже родной матери, со слезами просившей ее, не назвала отца Юрия. Она написала какую-то «исповедь до безумия влюбленной бабы», и сколько я ни просил у нее эти ее записи, она только краснела и наотрез отказывалась даже показать их. Словом, моя двоюродная сестра, какой она виделась мне, превосходно вписывалась в «Запах полыни», и вписывалась именно так, как надо. Мне пришлось бы лишь заменить имя и к ее жизни от себя ничего не прибавлять и ничего не додумывать.
Однако то, что вскоре мне довелось услышать в хате моей грустной тетушки Анастасии, изменило мое желание вводить Таисию Кучеренкову в сюжет повести. От тетушки я узнал: недавно в жизни Таисии произошло такое неожиданное событие, что как его ни опиши, а оно может показаться выдумкой, и читатели, — а о читателях никогда не надо забывать! — могут упрекнуть меня, и не без основания, в незнании психологии людей, особенно там, где речь идет об их интимных отношениях.
Суть тех неожиданных и странных перемен, о которых мне сообщила тетушка, состояла в следующем: из своей «ворованной и сладкой» любви Таисия, оказывается, никакой тайны уже не делала. Она открыто жила, как с мужем, со своим возлюбленным, главным бухгалтером совхоза Семеном Яковлевичем Матюшиным, а он, Матюшин, не разведясь со своей законной супругой Зинаидой, усыновил Юрия, дал ему свою фамилию, отчество.
— Это что же получается? — спрашивала тетушка Анастасия с той же, еще более заматеревшей тоской на лице и вытирала слезы. — Одну бабу не прогнал, а с другой живет, как с женой, и имеет четырех детей. Такое, Миша, ни в какие ворота не лезет. Мишенька, да неужели ты еще ничего не слыхал про такое наше горюшко? И Андрей с Катей ничего тебе не говорили? Знать, пожалели мою норовистую Таюшку. Или постыдились сказать. Ить все село знает. — Она закрыла лицо сухими темными ладонями и заплакала. — Беда творится на земле! Жалей теперь Таюшку аль не жалей, а дело уже свершилось. Отыскались две сумасшедшие дуры, каковые не ревнуются, не дерутся, а живут в дружбе и в согласии. Подумать только, Миша, это же какой срам! Где и когда у нас, у русских, такое бывало? Куда подевалась ихняя бабская гордость? Как же можно соперницам жить мирно? Срам! А они живут, и ничего, как-то ладят промежду собой, не грызутся. Уму моему такое непостижимо!
— А где живет Матюшин? — спросил я.
— Тут, у нас, — ответила тетушка грустно. — В зятьях. И туда, на тот двор, ходит. Там у него жена и три дочки.
— Ну, а как Юрий? — спросил я, не зная, о чем бы еще спросить опечаленную тетушку. — Он — парнишка уже смышленый.
— А что Юра? Все понимает, только на свой лад, — ответила тетушка Анастасия. — Без памяти рад, что теперь у него есть батько. Дружит со своими сводными сестрами. Дети живут, как родные, девочки бывают у нас, Таисия угощает их обедом, а Юра ходит к ним, и Зинаида относится к нему ласково, как к своему. Вот что меня удивляет… А завтра все четверо, и все Матюшины, пойдут в школу. — Анастасия тяжело вздохнула, мигая мокрыми глазами. — А как Юрик обожает своего батька! Так и льнет к нему, так и льнет. Души в нем не чает. Папочкой называет, обнимает его, ласкается. Да и Семен любит Юрика. Прямо-таки неразлучные. Юрик ходит к нему в бухгалтерию. Семен называет его сынулей, своим наследником. Парнишки у него не было, а Таисия родила сына, вот Семен и радуется. Да и Юрик все с батьком да с батьком. Оно и понятно: мужчины! Мальчугану при батьке завсегда живется лучше, нежели при матери. Юрик и разговаривает с батьком не так, как с матерью или со мной, и слушается его во всем, не то что бабушку или мать. Завтра Юрик идет в первый класс. А кто купил ему ученическую форму с картузом? Кто привез аж из Ставрополя портфель с наплечными ремнями, тетради, разноцветные карандаши? Он, батько. Юрик аж танцевал от радости. — Опять тяжело вздохнула, вытерла ладонью слезы. — Батько имеется — хорошо. Но как же можно, чтобы две семьи жили в дружбе? Ить все село негодует. Это же не жизня, а насмешка над жизнью. — Она наклонилась к окошку, приподняла занавеску. — Вот и сам Юрий Семенович идет. Не удержался, нарядился в школьную форму. Бедняга, никак не дождется завтрашнего дня. Переживает, волнуется парень. А следом за ним и мать поспешает. Знать, были они там, на том дворе. Тут близко, через две улочки. И так часто: две бабы-соперницы встречаются в одной хате. Не укладывается такое в моей голове. — Анастасия наклонилась ко мне и таинственным шепотом сказала: — Миша, я ничего тебе про Таюшку не говорила, а ты от меня ничего не слыхал. Ладно?
Я кивнул. В это время вошла Таисия с сыном. Она не ждала увидеть меня в хате, кинулась ко мне, обнимая и говоря:
— Миша! Откуда? Какими судьбами? Ах, как давно я тебя жду! — Она подвела ко мне Юрия и, веселая, счастливая, спросила: — Ну, Миша, погляди на героя. Узнаешь?
— Узнать-то трудно, — сказал я. — Вырос-то как, космонавт.
— Теперь я уже не космонавт, — серьезно, как взрослый, сказал Юрий. — И называть меня космонавтом не надо.
Передо мной стоял высокий для своих семи лет и очень тоненький паренек. Новенькая рубашка на нем, со стоячим воротником, застегнутая на все пуговицы, была затянута ремнем, с мелкими, хорошо оправленными сзади складками. Он держал картуз в руках и смотрел на меня не по возрасту строго, потом рукой погладил чубчик, остриженный коротко, специально для школы.
— Юра, так почему же тебя нельзя называть космонавтом? — спросил я. — Ведь раньше называли.
— То раньше, — тем же по-детски серьезным тоном ответил Юрий. — Теперь я уже не маленький. И папа мне сказал, что сперва надо стать космонавтом, а потом им называться. А папа всегда говорит правду.
— Так всякий раз, — сказала Таисия, не в силах сдержать радостную улыбку. — Чуть что — отец говорил. Отец для Юрия главный авторитет. Что он скажет, то и закон, Еще за год до школы отец сказал, чтобы Юрий научился читать, писать и считать до ста, и он научился.
— Для меня это нетрудно, — с гордостью сказал Юрий. — Мама, ну я пойду к Алеше. Папа велел показать ему мой школьный костюм и посмотреть, какой у него.
— Ну, если отец велел, то иди, иди, — с той же радостной, счастливой улыбкой сказала Таисия. — Завтра вместе с Алешей пойдешь в школу.
Юрий надел картуз и выбежал из хаты, хлопнув дверью. Анастасия взяла ведра и отправилась за водой, и мы с Таисией остались одни. Прошли в ту ее комнату, где я когда-то в бессоннице провел ночь, силясь понять странное и удивительное счастье моей сестры. Мы уселись на том же диване, на котором тогда сидели, и некоторое время молчали. Не знали, как и с чего начать разговор, но понимали, что начать его все одно придется. Я рассказал о цели своего приезда, о том, что ночевал у дяди Анисима, что был у Кати, видел ее детишек. Я заметил, что в комнате, в которой я не был больше трех лет, многое изменилось. На столике в вазах стояли цветы — осенние дубочки, на окнах теснилось еще больше горшков и горшочков с комнатными цветами, от них на стекло ложилась густая зелень. На месте узенькой койки стояла широкая двуспальная кровать, убранная цветным покрывалом, с кружевными накидками на больших пуховых подушках. И я невольно подумал: так же, как и в ее комнате, многое изменилось и в личной жизни сидящей рядом со мной молодой женщины, которая и тогда и теперь голову держала высоко поднятой, словно бы от тяжести ее толстой косы, туго закрученной на затылке. Перемену в комнате моей сестренки дополняла фотография в рамке, под стеклом, которая висела над кроватью: на меня смотрел, широко улыбаясь, белозубый, с шелковистыми усиками, чубатый красивый мужчина, похожий на спортсмена, и я не сомневался, что это был Семен Матюшин. И все же я спросил, показав глазами на фотографию:
— Он? Семен Матюшин?
— Зачем спрашиваешь? — ответила Таисия, склонив голову и не глядя на меня. — Кто же еще? Миша, мать тебе, наверное, все уже рассказала?
— Кое-что рассказывала.
— Ну и как ты смотришь на перемены в моей жизни и в жизни Юрика? Надеюсь, все тебе понятно?
— Почти все. — Я помолчал, подождал, думая, что Таисия посмотрит на меня, а она все так же сидела с опущенной головой. — Непонятен только, как сказал бы лектор, моральный аспект.
— Ну какая тут еще мораль? — взволнованно и зло спросила Таисия, подняв голову. — У Юрия не было отца, а теперь он у
него есть! В этом и состоит вся мораль! У твоего Ивана есть отец? Есть. Чем же мой сын хуже твоего сына?
— Таюшка, чего взбеленилась? Я же ни в чем тебя не обвиняю. Я лишь хочу выяснить для себя…
— Что еще выяснять? Что? Мораль, да? — резко перебила она, со злобой глядя на меня. — Жизнь сама без нас все выяснила и все прояснила.
— Простой вопрос, который возникает сам по себе: кто вы? Ты и Зинаида? Соперницы. Стало быть, согласись…
— Миша, и ты об этом? — так же взволнованно перебила меня Таисия. — Можешь ты понять, Миша, что эти самые соперницы думали не о себе, а о своих детях! Их четверо, три девочки и мальчик. Юрий подрос бы и спросил бы меня: где мой отец? Что я ответила бы ему? А ты — моральный аспект… Эх, какая мораль? Для кого она нужна? Каждому, и тебе в том числе, глядя со стороны на чужое горе, кажется, что тут нарушена мораль. А в жизни, Миша, все это бывает не так-то просто. Ты загляни в душу ребенка, да и в мою тоже. А каково положение Зинаиды с ее тремя девочками? Легко сказать — моральный аспект! И вот таких, как ты, умников да моралистов и и Богомольном отыскалось немало. Кричат: многоженство! Моральное разложение!
Таисия умолкла, подняла полные, голые до плеч, руки и, глядя на улыбающегося Семена Матюшина, начала умело закручивать ослабевшую косу.
— Таюша, напрасно злишься, — сказал я, воспользовавшись ее молчанием. — Пойми меня правильно: я не осуждаю ни тебя, ни Семена, ни Зинаиду. И никакой я не моралист. Но мне хочется понять, уяснить непонятное и неясное: как же вы живете втроем?
— Миша, и ты веришь сплетням? — На глазах у Таисии появились слезы. — Втроем мы не жили и не живем. Видишь эту кровать и две большие подушки? Семен живет со мной, с одной со мной. Понимаешь, только со мной. Но у него теперь стало четверо детей, — три дочери и один сын. Дети живут ладно, дружно. Да и мы с Зиной не деремся, даже встречаемся — это правда. И в этом ничего плохого нету. Удивляешься? Не веришь? Не тебя одного, многих наша жизнь не только удивляет, но и злит. Есть такие людишки, что никак не могут смириться с тем, что Зинаида и Таисия не вцепились друг дружке в косы и не устроили драку. И не могут понять, почему Семен не бросил своих девочек. Вот если бы мы с Зиной устраивали потасовки, чтобы сбегалось поглазеть все село, если бы наши дети враждовали, вот тогда бы кое-кто порадовался и сказал бы: вот это — да, вот это так, как надо.
— Таюшка, а я опять о том же: кто вы с Зинаидой? По давним неписаным законам жизни — заклятые враги. А у вас, если верить тебе, нет вражды, и дети ваши живут дружно. Так что же это?
— Миша, это есть то, что ты совсем не знаешь Зину и плохо знаешь меня, свою сестренку, — с улыбкой ответила Таисия. — Наши отношения стоят выше старых неписаных законов и предрассудков. Так что же в этом плохого? Не понимаю.
— Тогда объясни мне, как все это у вас произошло, — попросил я. — Только, ради бога, не злись, расскажи спокойно. Ведь, согласись, перед нами житейский случай в своем роде исключительный, если угодно — уникальный.
— Эх, Миша, Миша, если бы ты знал, как не хочется ворошить то, что уже не только улеглось, а и отболело. — Таисия подняла голову, как бы желая показать свою красиво закрученную косу, и с блеском в глазах посмотрела на Семена Матюшина. — Как известно, шила в мешке не упрятать, и вскоре всему Богомольному стало известно, кто отец моего сына. Пошли суды-пересуды, насмешки, всякие сплетни. Семен хотел оставить Зину с детьми и уехать со мной и с Юриком из села. Я не пожелала. И знаешь, почему не пожелала? Жалко стало Зинаиду. Не веришь?
— Так ведь как-то непривычно…
— Честное слово, стало жалко ее. — Таисия с улыбкой посмотрела на меня. — По глазам твоим вижу — не веришь. Вот так и все — не верят. Кому ни скажу, смеются: не можешь ты ее жалеть. А почему не могу? Отвечать не хотят. Не могу, и все. Вот опиши, Миша: две бабы-соперницы живут мирно, не дерутся. Скажут: брехня, выдумка! А это правда. А чего тут не верить? Известно по статистике, что мужиков на всех баб не хватает. — Таисия улыбнулась горькой улыбкой. — Вот одной из нас, мне, и достался Семен. И Зина со своей горькой участью согласилась, она женщина сознательная… Так вот, когда по селу пошли сплетни, Семен сказал мне: будем жить открыто, без утайки. Но для этого, говорит, требуется ваша женская высокая сознательность. Пойди, говорит, к Зине, потолкуй с нею по душам, да и помиритесь. — Таисия с улыбкой в глазах посмотрела на Семена Матюшина. — Я не пошла. Первый раз не послушалась Семена. Не могла. Испугалась. Меня мучил стыд, и я не в силах была перебороть себя и заставить пойти к Зине. Ведь я отбила у нее мужа. Как же я пойду к ней мириться? Как взгляну на нее? Что скажу ей? — Таисия все так же улыбалась глазами Семену Матюшину. — И однажды вечером ко мне пришла Зина. Семен попросил ее прийти. Повязанная нарядной косынкой, в новом платье с пояском, специально приоделась, будто на праздник. А сама бледная, как смерть, лицо заплаканное. Сидели мы вот в этой же комнате, на диване, так же, как зараз сидим мы с тобой.
— О чем же вы говорили?
— Миша, и ты еще спрашиваешь? — Она сурово сдвинула брови. — Я уже не помню, какие слова мы находили. Об этом лучше не вспоминать. Тот наш разговор невозможно ни передать словами, ни записать на бумаге. Скажу только: говорили мы мирно и мало. Но зато наревелись мы с Зиной в тот вечер вволюшку. До дна, до последней капельки выплакали все наше горюшко и после этого стали как сестры родные. И еще скажу: тогда мы не говорили и не печалились о своем соперничестве. Все наши думки и тревоги были обращены к детям, чтоб не остались они без отца. И этого мы достигли. Так что же тут, Миша, плохого? Вот завтра Юра впервые пойдет в школу. И знаешь, что он мне сказал? Пусть, говорит, папа отведет меня в школу. А если отведу я, твоя мама? — спрашиваю. Нет, отвечает Юра, пусть лучше папа. Ну хорошо, согласилась я, пусть отведет отец. А если бы у Юрика не было папы? Что бы я ему ответила? Я уже договорилась с Семеном. Он отведет своего сына в школу. Я не понимаю, что же тут плохого? И в чем мы с Зиной виноваты?
— Да, что и говорить, вы с Зинаидой молодцы, ей-ей! — нарочито весело воскликнул я. — Смелые, решительные!
— Горя хлебнешь — смелой станешь, — грустно ответила Таисия.
— Слушая тебя, я подумал вот о чем, — сказал я. — Ведь помимо счастья детей, у которых есть отец, должно быть еще и счастье у матерей, — робко заметил я. — Счастье свое, особенное, чисто женское. Есть оно, это счастье, у тебя?
— Есть.
— А у Зинаиды?
— У Зины, верно, такого счастья нет, — ответила Таисия. — Такова наша женская доля. Из-за детей мы готовы на все.
— И еще: между супругами, как известно, существуют отношения интимные, сугубо сердечные, — продолжал я. — Эти отношения можно назвать не только личными, но и святыми. Не зря же в народе говорится: третий — лишний. Так как же быть с этим третьим? Семен живет у тебя, спит вот на этой кровати, а днем запросто приходит к Зинаиде?
— Миша, помимо слов «третий — лишний» есть еще слово — человечность. — У Таисии вдруг повлажнели глаза. — Семен ходит не к Зинаиде, а к детям.
— Но там, где дети, там и Зинаида, — вырвалось у меня.
— Миша, неужели и ты, как моя мать, как те сельчане, что верят сплетням? — спросила Таисия, и по щекам у нее покатились слезы. — Ты что, нарочно злишь меня?
— Ну что ты, Таюшка! Я хочу выяснить для себя…
— Что выяснить-то? Что мы можем поделать, если жизнь у нас так сложилась? — Таисия вытерла платочком мокрые бледные щеки. — Не понимаю, Миша, почему люди такие любознательные? Почему они не верят в порядочность других? И почему им непременно надобно распускать сплетни? — Не дожидаясь моего ответа, она открыла ящик стола, взяла там перевязанные шнурком ученические тетради — их было четыре — и протянула мне. — Вот та «исповедь безумно влюбленной бабы», о которой, помнишь, я говорила тебе. Возьми. Теперь эти записи мне не нужны, а тебе, возможно, пригодятся. Ты же любознательный, — добавила она с улыбкой. — Да это уже и не тайна, так что разрешаю тебе заглянуть в душу своей взбалмошной сестренки. И на этом окончим наш неприятный разговор… Пойдем ужинать. Слышишь, мать уже гремит тарелками.
Я поблагодарил за тетради и после ужина отправился ночевать к Андрею Сероштану. На дворе была уже ночь с прохладным дыханием осеннего степного ветерка. По всей главной улице Богомольного двумя строчками темноту прошивали фонари.
6
ЗАПИСИ ТАИСИИ
Еще в детстве — мне тогда было лет шесть, не больше — меня обрадовало и напугало марево.
Помню, было знойное утро июля. Ни ветерка, ни тучки на небе. Я перепрыгнула канаву, отделявшую наш огород, зеленевший высокими кустами картофеля, от просторного, уходившего в степь выгона. Я побежала по этому выгону и вдруг остановилась оттого, что увидела дымчатые, качающиеся волны: они казались совсем близко и словно бы звали, манили к себе. Мне даже послышалось: «Беги, беги, девочка, не бойся!» И я побежала, а волны стали отступать от меня. Я бежала, а волны отходили от меня все дальше и дальше. «Ну, чего остановилась, беги!» Я побежала, а когда оглянулась, то сердце у меня замерло: дымчатые, качающиеся волны окружили меня и все село вместе с нашим огородом и нашей хатой куда-то пропало.
Я стояла, не зная куда идти, и мне было и радостно и страшно. Вдали, словно из воды, поднимались какие-то косые, изогнутые, качающиеся силуэты, похожие на высокие, гнущиеся скирды соломы. Затаив дыхание, я побежала к ним, они отступили, и тут я увидела свой огороде высокими кустами картофеля и свою хату.
Вот такую непривычную и неожиданную радость и такой удивительный страх я испытала в жизни еще один раз, когда полюбила Семена Матюшина. Именно в этом непонятном и незнакомом чувстве и было что-то похожее на те манящие к себе дымчатые волны с их сизым отливом снизу, которые звали меня и убегали от меня, радуя и пугая.
Он был моим начальником. Я заставляла себя постоянно помнить об этом, а заставить так и не могла, не хватало сил. И боялась и уважала его не как начальника, а как мужчину. Стоило мне войти к нему в кабинет, и я сразу же забывала о том, что подчинена ему по службе, и тогда все вокруг, как в то маревое утро в степи, туманилось и плыло перед глазами. Я краснела от мысли, что вот он, любимый, рядом, а я не могу посмотреть на него вблизи, не могу увидеть его каштановые усики, не могу улыбнуться ему так, как мне бы хотелось. И все же, не глядя на него, я всем существом своим видела и его ласковый взгляд, и какую-то удивительную добрую улыбку, и эти его шелковистые усики, видела, как он протянул мне папку, говоря:
— Тася, возьми эти документы. Там цифры по всем отделениям. Их надо разнести по карточкам.
Кажется, сказаны слова обычные, будничные, деловые, а какие они для меня радостные, какие особенные, праздничные, и в моем сознании они означали: «Тася, возьми эти документы и знай: я нарочно позвал именно тебя и именно тебе поручаю эту работу, потому что хотел увидеть тебя».
Я взяла папку. Мне хотелось постоять еще хоть немного, а надо было уходить. И тогда я, чтобы как-то задержаться, сказала ему, с трудом подняв голову:
— Семен Яковлевич, на сегодня это все?
— Да, на сегодня хватит, — ответил он.
Я чуть заметно улыбнулась ему, мне хотелось, чтобы мои слова он понял так: «Сеня, милый, значит, сегодня я тебя больше не увижу?» Очевидно, так он и понял меня, а ответил на мою улыбку, как и полагалось ответить начальнику:
— Иди, Тася, у тебя много работы. Если нужно будет, я тебя позову.
«Иди, Тася…» Не Таисия, а Тася. Служащие нашей бухгалтерий звали меня Таисией Кузьминичной, а он — Тасей. Но не на людях, а только тогда, когда мы были одни. Тася… Сам придумал такое уменьшительное и ласковое имя, и выговаривал он его как-то по-своему, так что буква «с» звучала, как «ш», — и в этом тоже виделось мне дымчатое марево, такое радостное и такое пугающее.
Мне уже было немало лет, а я никого еще не любила, да и не знала, что оно такое — любовь. Семен — и где он взялся на мое горе! — был первым мужчиной, кого я не то что полюбила, а боготворила всем своим сердцем. Мне казалось, что без него я не смогу жить. Как и когда это случилось со мной? Не могу сказать. Лишь помню, как прислали к нам нового главного бухгалтера, молодого, красивого. Увидев его, я тотчас почувствовала к нему что-то такое необычное, от чего захолодело в груди.
В первый же день он пригласил меня в кабинет, чтобы поговорить о делах, объяснить мне мои обязанности, и я уже тогда, уйдя от него, поняла, что безумно полюбила этого человека, полюбила той странной любовью, от которой либо чахнут и умирают, либо молодеют и расцветают. Любил ли он меня? Я не знала, да и не хотела знать. Он все чаще вызывал меня к себе. Мы говорили о подготовке годового финансового отчета, о несвоевременном поступлении от отделений лицевых счетов, и когда при этом он смотрел на меня и улыбался не потому, что радовался успешному составлению годового финансового отчета, а потому, что видел меня, я все больше и больше убеждалась, что он думает обо мне точно так же, как думаю о нем я.
Шли месяцы, и о том, о чем бы надо нам поговорить, мы не сказали друг другу ни слова. Да и зачем слова? Мы и без них, без слов, все хорошо понимали. Тут нужны были уже не слова, а действия, какой-то решительный шаг, чтобы мы могли встретиться уже не в кабинете. Сделать же такой шаг пришлось не скоро — только летом. Все это время, думая о Семене, живя им, я находилась как бы в окружении все того же манящего и пугающего марева, радуясь от счастья и замирая от страха. Что же будет дальше? Я знала, что он женат, что у него было трое детей — все девочки. Но я забывала об этом, я ждала вызова в кабинет, как ждут счастья, работала и не переставала думать о нем, жила, как во сне.
Летняя темная ночь в степи. Никогда я еще не видела такую густую, непроглядную темень, вокруг. Только на горизонте, далеко-далеко, слабо светилась линия, похожая на серый карандашный отчерк, — это небо чуть-чуть отделялось от земли. Отлогая, заросшая травой ложбина тянулась и тянулась неведомо куда. Мы шли по ней долго, Семен обнимал меня, наверное, боялся, чтобы я не упала, — мои ноги подгибались и отказывались идти. Мы сели на траву, утонули в ней, прислушались. Где-то совсем близко посвистывали, очевидно, играясь, суслики, вблизи нас, почти касаясь крыльями земли, прошумела птица, наверное, полевая сова. Над нами — звезды и звезды, их высыпало столько, словно им хотелось увидеть, что же делалось там, на дне травянистой ложбины. А под нами — трава, а лучше сказать — толстая зеленая перина, вся пропитанная запахами земли, разнотравьем и цветами. Одному быть в этой степи, на этой пахучей перине, — страшно, вдвоем, да еще с Семеном, — только тревожно и как-то непривычно весело, необычно, и нам казалось, что мы лежали не на перине из травы и цветов, а на небе.
Никогда мне не забыть и эту теплую летнюю ночь, и нашу травяную пахучую перину, и укрывавшее нас темное, вышитое звездами одеяло. Видимо, каждому человеку хоть один раз в жизни, а необходимо испытать все то, что испытали в ту ночь мы, ибо без такого испытания и жизнь неинтересна. Тогда впервые, и не на расстоянии, а вблизи, я почувствовала притягательную силу того человека, которого любила больше самой жизни, и теперь, в этой травянистой ложбине, все то, что когда-то было мне недоступно, стало моим. Какой-то зверек, очевидно озадаченный нашим загадочным присутствием, несколько раз подходил к нам, шелестя лапками в траве. Последний раз он обнюхал нас и, убедившись, что мы лежим и не обращаем на него никакого внимания, убежал и уже не возвращался.
У меня кружилась голова, наверное, от большой порции принятого мною счастья, от частых поцелуев Семена, от смешного прикосновения к моим губам шелковистых усиков, тех самых, на которые когда-то я боялась и посмотреть. Я сказала так, в шутку, что усики у него колючие. Он рассмеялся тихонько, словно боялся, чтобы в черной степи ничто живое нас не услышало, и ответил:
— Неправда, Тася, а неправду говорить грешно.
И стал целовать еще и еще.
— Ну, как теперь?
Я ответила:
— Теперь уже не колючие.
…Нас подняла заря. В село мы вернулись как пьяные. На горизонте, там, где был виден карандашный отчерк, только-только забрезжил рассвет. В то раннее утро я уже несла в себе Юрика. Семен ничего об этом не знал, а я знала и радовалась и уже с того памятного утра понимала, что Семен — мой и что никакая сила не способна отобрать его у меня.
Природа обделила меня женской красотой, и я это знала. А он говорил мне, что я красивая, что во мне все прекрасно — и глаза, и душа, и падающие на спину две русые косы. Понимая, что это не так, я не возражала, потому что верила ему. Мне всегда хотелось быть перед ним какой-то особенной, не такой, как все женщины, хотелось показать ему все то самое лучшее, что у меня было, свои привычки, свое умение ухаживать за ним. И еще мне хотелось родить сына, который понравился бы ему. И когда на свет появился Юрий и я из родильного дома вернулась в свою хату матерью, Семен ночью по-воровски влез в открытое окно, только взглянуть на мальчонку. Подносил лампу к его сонному личику, смотрел и смотрел, пристально и долго, боясь сказать слово и как бы еще не веря, что это был его сын. Затем обнял меня и сказал:
— А что, Тася? Ей-ей, хорош, хорош герой! Выходит, не напрасно мы прятались в ту летнюю ночь в степной ложбине? Ничего не скажешь, славный мальчуган!
— Всего его ты же еще не видел! И на руках не держал.
— Ничего, придет время, увижу всего и подержу на руках, это точно. Спасибо тебе, Тася!
Я стала матерью. Покатилась, полилась по Богомольному молва, пошли гулять людские сплетни. Сельчане терялись в догадках, никак не могли узнать, с кем же я прижила ребенка. А узнать им хотелось. Проходя по улице, я слышала сказанное мне вслед:
— Бабоньки, и кто же мог на нее польститься?
— Наверное, какой-нибудь приезжий молодец. Из тех, из командировочных.
— Бывает и некрасива, а сердцу мила.
— Мужики нынче пошли неразборчивые, им с кем бы ни спать, лишь бы поспать.
Ничего, пусть приезжий, пусть мужчины неразборчивые, мне все равно. Меня радовало то, что о Семене никто и подумать не мог. Семен — тайна моего сердца, она жила во мне, постоянно напоминала о себе, и как же, оказывается, приятно было хранить в себе эту тайну. В те часы, когда матери не было дома, Семен приходил ко мне, брал подросшего Юрика на руки, нянчил, целовал.
— Тася, все мучаешься нашей тайной?
— Нет, не мучаюсь, а радуюсь.
— Может, откроемся? Это же не жизнь, а мученье.
— А как же Зинаида с дочками?
— Я разведусь. Мы уедем отсюда.
— Да ты что? Никогда!
— А если наша тайна сама по себе станет явью?
— Как же ей открыться, ежели она упрятана так глубоко и так надежно?
Но Семен оказался прав. Не прошло и четырех лет, а наша тайна открылась. Нет, не сама по себе. И как же после этого на душе у меня стало пусто, недоставало того, о чем я постоянно думала, что в себе всегда оберегала.
Что мне нравилось в нем? Не знаю. Наверное, все. И ласковые, как-то по-детски улыбающиеся глаза, и мягкие, шелковистые усики да еще что-то такое душевное, такое необыкновенное, чего у других мужчин, как мне казалось, не было и быть не могло и что приносило мне столько радости. Мне было с ним легко, весело, хотелось петь, смеяться, дурачиться, и что бы он ни сказал, о чем бы ни попросил, я тотчас готова была подчиниться ему и исполнить его желание. Так случилось и с открытием нашей тайны. Как-то он заявил, что завтра, в воскресенье, придет ко мне днем и открыто. Прятаться не станет. Мне надо было бы возразить, сказать, чтобы не приходил. А я не сказала, не возразила. И он пришел. Соседка увидела, как он входил в хату, и прибежала, будто к моей матери по делу. Семен же в это время держал на руках Юрика и целовал его. Ну, на другой день все Богомольное уже знало, кто был отцом Юрика. В тот день Семен сказал мне:
— Хватит нам, Тася, прятаться. Будем жить открыто. Я переберусь на жительство к тебе, а Зинаиде и дочкам оставлю дом и все, что в доме. Ты согласна, Тася?
Мне бы не согласиться, а я охотно согласилась. Впервые при мне Семен заговорил о Зинаиде. Хвалил ее, называл доброй, душевной, уважительной. Мне бы ревновать, злиться, а я улыбалась ему и кивала, соглашаясь. Только и спросила: так же Зинаида любит его, как и я? Он ответил:
— Нет, не так.
— А почему не так?
— Трудный вопрос. — Он смотрел на меня, как взрослые смотрят на неразумного ребенка, и с улыбкой добавил: — Тася, так любить она не умеет. Не научилась.
После долгого молчания я все же спросила:
— Как же дети?
— Юрия я усыновлю, — ответил он. — Все четверо будут моими, Матюшиными. Зинаиду и девочек без материальной поддержки не оставлю и тебе с нею враждовать не советую. Она — несчастная и ни в чем не повинная. Разве ты не согласна?
— Согласна, согласна, — поспешно ответила я. — Только странно, непривычно. Да и люди что скажут?
— Тася, что для нас люди? — ответил Семен. — Мы сами — люди и будем жить по-людски.
7
Из Богомольного мы с Олегом выехали в тот час раннего осеннего утра, когда ночной холодок еще не сошел с земли, а солнце как бы сонными, прищуренными глазами только-только начинало осматривать лежавший на сотни верст простор. Повсюду, в селах и на хуторах, дружно курились трубы, ветра не было, и дымы ровными серыми столбами тянулись к нему, верхушки их, просвеченные лучами, отливали золотом. В балках и по низинам, крадучись по-воровски, припадали к траве-отаве белесые лоскутки тумана.
На этот раз мы ехали не на «Москвиче», а на газике-вездеходе. Наша дорога лежала в Мокрую Буйволу, мы спешили к деду Горобцу. Я сказал Олегу, что поездку свою начнем с посещения Мокрой Буйволы: нельзя проехать мимо Силантия Егоровича Горобца, надо повидаться со знатным чабаном. Кто знает, может, в последний раз.
— Это почему же — в последний раз? — деловым тоном спросил Олег, внимательно, по-шоферски продолжая смотреть на проселочную дорогу, круто завернувшую в ложбину. — Никак не могу с тобой согласиться. Думаешь, старик вскорости помрет? Нет, он еще дюжий, смело протянет до ста лет. Так что еще не раз и не два побываешь у него в гостях, ежели, конечно, пожелаешь приехать сюда. — Олег молчал, ждал моего возражения или согласия и, не дождавшись, продолжал, когда наш газик выскочил на пригорок: — И опять же не могу уразуметь, что тебя завсегда тянет в эту Мокрую Буйволу, к выжившему из ума старцу? Ну что ты находишь у него такого для себя интересного? Раньше, помню, тебя интересовали волкодавы. Ну, это понятно. Но тогда их было три, а нынче остался один. Самый старый, помнишь, был вожак и заводила, издох. Горе для старика большое. И по этой причине Силантий Егорович снял с него шкуру, набил ее опилками, смастерил чучело и приспособил его в чабанском музее Прасковьи Анисимовны. Увековечил. Небось видел чучело?
— Да, видел.
— А известно ли тебе, чьи у волкодава челюсти и зубы? Ить они у него чужие.
— Как — чужие?
— Очень просто. Чужие, и все.
— А чьи же?
— Волчачьи. Еще с чабанских времен у Силантия Егоровича сохранилась волчья челюсть с клыками и с зубами — осталась от убитого волка, — пояснял Олег, все время видя дорогу и помня о ней. — А у того волкодава, каковой почил своей смертью, зубы были старые, стертые, с налетом ржавчины, клыки короткие, тупые. Сказать, никакого вида не имели. Вот старик и пошел на хитрость. Взял волчью челюсть с зубами и с клыками, большими и белыми, как сахар, и приспособил своему усопшему волкодаву. Вот через то собачье чучело и получилось с виду сильно страшное. Рассказывают, с детского сада привели в музей детвору. Так одна девочка глянула на это страшилище — и в обморок. На руках унесли. Подумала, что живой волк. А Ларису знаешь? Тоже, говорят, первый раз увидела волчью пасть и закричала: дедусь, я его боюсь, он страшный. Дед Горобец усмехнулся в усы и признался Ларисе: клыки и зубы у волкодава хоть и волчьи, но ты их не бойся, они уже не клацают по-волчьему и не кусаются… Так что зараз у Силантия Егоровича проживает один пес, да и тот уже с облезлой спиной, видно, и его вскорости смерть одолеет. И чтоб не остаться одному, без собаки, знаешь, что сотворил старый чабан? Ни за что не поверишь. Смех и грех, честное слово!
— А что такое?
— Раздобыл себе песика. Но как? И какого песика? — Лицо Олега расплылось в добродушной улыбке. — Где-то в степи, в густом терновнике, украл у волчицы ее детеныша. Еще слепого сосунка. Как ухитрился сцапать его? Про то ничего сказать не могу, потому что не ведаю. И, главное, не побоялся волчицы. Я бы ни за что не решился пойти в волчье кубло́. А он пошел, украл волчонка и принес его домой. Никому, дажеть своей старухе, не сознался, где раздобыл кутенка. Всем говорит, что взял у чабана знакомого, на хуторе Воронцовском. Он и тебе правду не скажет, так что лучше и не спрашивай, не интересуйся. Каждого уверяет, что у него растет овчарка особой степной породы. Но те хуторяне, кто видел этого серого мордастого цуциненка, нисколько не сомневаются: вылитый волчонок. Как капля воды. Кормил малютку из детской соски теплым молоком, давал молотое мясо. И выкормил. — Олег молчал, пока мы переезжали шоссе, чтобы попасть на мокробуйволинскую дорогу. — Без собаки ему жить нельзя — пропадет со скуки, не с кем будет беседовать. Вот он и готовит смену тому, старому, с облезлой спиной, кобелю. А вообще, на мой взгляд, старик Горобец — чудак из чудаков. Ты знаешь, раньше каждое воскресенье он приходил с тремя волкодавами и с ярлыгой на плече к своему памятнику, становился перед ним на колени и что-то ему говорил. Зараз перестал ходить. Спросили: дедусь, почему не ходишь к своему памятнику? То я, отвечает, приходил к самому себе с тремя волкодавами, как настоящий чабан. Приходить же с одним кобелем, да к тому же еще и хворым, совестно. Вот, говорит, малость подрастет степная овчарка — не волк, а овчарка! — и буду приходить с нею. А помнишь, как три его волкодава шастали по степи, где-то там отыскивали приблудных овечек и пригоняли их старику во двор?
— Как же, помню. Так что?
— Старик хотел вернуть овечек, а хозяева не нашлись, — бодро, веселым голосом отвечал Олег. — Тогда старик начал приглашать к себе таких же, как и сам, старых чабанов-пенсионеров. Они брали валушка, уходили с ним в степь. Разводили там костер, варили настоящий, без прикрас, чабанский шулюм, жарили шашлыки. Ну, конечно, и водочка у них имелась. Сидели у костра, беседовали, вспоминали молодость. В село возвращались под вечер, навеселе и с песнями. Так всех приблудных овечек старик и употребил на шулюмы и шашлыки, угощая своих дружков-чабанов. А ить овцы — это же немалые деньги. Но Силантий Егорович — всем известно — никогда не печалился о деньгах, всегда жил одним днем, как птица. Компанейский мужчина, страшно обожает гостей. Готов свое последнее отдать другу. Он и нас так сразу не отпустит. Это я наперед знаю.
— Как раз у Силантия Егоровича нам задерживаться нельзя, нет времени, — сказал я. — Повидаемся, поговорим и уедем.
— Какой же у нас в дальнейшем ляжет путь? — спросил Олег. — Андрей Аверьянович наказывал так: повезешь Михаила туда, куда ему надо. А куда тебе надо? Я не знаю. Можешь назвать пункты нашей поездки?
— Один пункт могу назвать, — сказал я. — Мне край нужно побывать на хуторе Кынкыз.
— Это что такое?
— Такой есть хутор.
— Не слыхал.
— Мы обязательно должны отыскать Кынкыз, — сказал я и тут же представил себе ласковые, смеющиеся глаза Ефимии. — Где-то должен быть такой хутор.
— Понятия не имею. — Олег пожал плечами. — В нашем районе, это точно, такого Кынкыза нету. Могу поручиться.
— Как же нам его отыскать?
— Обратимся к знающим людям, — уверенно, как всегда, ответил Олег. — Язык-то для чего? И лучше всего спрашивать у шоферов. Народ бывалый, они-то укажут дорогу на Кынкыз.
— Но ты же вот не знаешь?
— Я сижу либо на «Москвиче», либо на «газике», в рейсы не езжу. А мы спросим у водителей грузовиков. Они все дороги исколесили. — Олег увидел в низине крыши строений. — Вот и она, прелестная Мокрая Буйвола! Странное название, оно всегда меня удивляет. Ну, мокрая — понятно, хутор стоит в ложбине, на мокром месте, по соседству с родниками. А почему еще и буйвола?
— Наверное, из тех родников когда-то поили буйволов.
— Могло быть и так, — согласился Олег, когда наш «газик» проворно катился по хуторской улице. — Мы зараз куда? Прямо к Горобцу? Или в контору?
Я кивнул и сказал, что в контору мы заезжать не станем.
Хата Силантия Егоровича Горобца стояла в глубине двора. От калитки до крылечка протянулась дорожка, вымощенная кирпичом и за долгие годы изрядно побитая ногами: Застекленное крылечко с тремя ступеньками улыбалось нам издали. Веселые оконца с радостью смотрели через плетень на улицу. Эх, старина-старинушка, милое моему сердцу жилье чабана! Еще прадед Силантия Горобца вручную поднял эти стены, слепил их из земли и поставил на земле. Отлогая, тоже из земли, крыша была покрыта, как и землянка моей бабуси, не черепицей и не шифером, а привезенными со степи кустами дерна, и дерн так улегся, пустил такие корни, что крыша не боялась ни ветра, ни ливня с градом. А в солнечные дни, особенно по весне, она цвела и зеленела, как луг. Но таких землянух становится все меньше и меньше, видно, отжили, отстояли свое под знойным южным небом. Входишь в такое древнее, с низким потолком, с крохотными оконцами жилье, и перед тобой открывается простой мир степняков. Кажется, что из настоящего ты попадаешь в то далекое время, которое, постепенно удаляясь, уходит от нас навсегда. И запах в хате какой-то особенный, теплый, устоявшийся, домашний, что ли, — так пахнут свежие, только что вынутые из печи буханки хлеба. Бросались в глаза домотканые, суровые, заметно побуревшие от времени рушники с искусно вышитыми на них горластыми петухами. Их было много, они всюду: и между окон, обрамляли фотографии, висящие на стенке и в рамках, и без рамок, и под стеклом, и без стекла; два рушника — в святом углу, над единственной иконой, они словно бы обнимали лик божий, написанный на простой дощечке неведомо когда и неизвестно кем. Божий лик немилосердно засижен мухами, вид у него мрачен, он чем-то недоволен, глаза у него тусклые, на них прочно улеглась печаль и пыль времени. И сам Силантий Егорович, и Феклуша, его непоседливая, еще проворная в работе старуха, давно уже позабыли, как на лоб кладется крест, а лик божий все висит и висит, на нем уже сопрел не один рушник с поющими петухами, а снять икону нельзя — без нее не будет в хате чего-то своего, привычного.
Как-то сосед, с кем Силантию Егоровичу довелось покумоваться, сказал:
— Ку́му Силантий, а ты вместо иконы приспособь в углу свое обличив с регалиями. У тебя же зараз и две Золотые Звезды, и сколько орденов и медалей. Будешь красоваться лучше любого бога!
— Я, ку́му, — человек, и нечего мне лезть в святой угол, — ответил Силантий Егорович. — Пусть там пребывает икона, она на своем месте стоит и никому не мешает. А меня, ку́му, ежели что, то следует поставить в степу, близ отары. Там мое природное место. А святой угол — для господа бога.
То, что находилось в хате и что именовалось обстановкой, тоже было сделано руками хозяина. Вдоль стены вытянулась, заменив собой диван, деревянная, гладко оструганная лавка. Стол, табуретки, низенькие стульчики — тоже самодельные, топорной работы. Между окон, в окружении все тех же поющих петухов, хранилась своеобразная наглядная история семьи Горобец еще с тех времен, когда сюда, в хуторское захолустье, впервые начали проникать фотографы. На меня со стены задумчиво смотрели и бородатые дядьки — одни в картузах, другие в кудлатых, из овчины, папахах, — и круглолицые молодки с удивленными глазами, и парни, белесые, выцветшие на солнце их чубы так и торчали из-под картузов, и девушки, повязанные косынками, со скромными, чего-то застыдившимися лицами, и дети на руках у своих родителей. Старая пожелтевшая фотография была заведена в рамку и поставлена под стекло. Коренастый мужчина с курчавой, как у цыгана, бородкой смотрел исподлобья: в одной руке он держал ярлыгу, как донской казак пику, а другую, увесистую, с широкой ладонью, положил на худенькое перекошенное плечо еще молодой женщины.
— Мои покойные родители, — пояснил Силантий Егорович, подходя ко мне с волкодавом. — Батько, Егорий Антонович, первейший был чабан, с ярлыгой не расставался и во сне. С ним рядом — моя мамаша, Дарья Кирилловна. Ласковая и сердечная была женщина. Батько тут, в этой хатыне, родился, тут и помер. А строил хату еще мой прадед. Из самодельного самана воздвиг, а сколько годов стоит, как крепость!
Я заметил одну характерную особенность на висевших фотографиях: вместе с людьми были запечатлены и их жилье, и ярлыги, и чабанская арба, и собаки в разных позах и видах, и костер с висящим над ним закопченным ведром, и, разумеется, степь и отары. Стройного, высокого Силантия Горобца с молодыми, черными, как смоль, усиками, с таким же черным, торчавшим из-под шапки чубом нельзя было узнать. Он стоял на фоне ковыля и держал на руках, как держат ребенка, курчавого ягненка. На другой фотографии — он же, Силантий Горобец. Тут фотографу удалось остановить как раз то счастливое мгновение, когда Силантий ярлыгой поймал за заднюю ногу ярочку-однолетку. А вот он, уже усач, в остроплечей, спадающей до пят бурке, в высокой белой папахе, стоит на кургане, как полководец на наблюдательном пункте, а внизу перед ним пасутся овцы. И еще Силантий Горобец: сидит на крылечке своей хаты, торчат знакомые седые усищи, на груди — две золотые звездочки. У ног, картинно расположившись, улеглись три волкодава — Молокан, Полкан и Монах, а рядом, склонив к мужу седую голову, примостилась Феклуша.
— Добра этого у нас было много, приезжие корреспонденты всего понаснимали, — сказал Силантий Егорович, поглаживая стрелы своих усов и глазами указывая на фотографии. — Кое-что сами порастеряли, многое дети позабрали, а эти остались тут, в хате. Иной раз поглядишь, так, от скуки, и припомнишь все, что с тобою когда-то бывало. В жизни все эти люди сильно переменились. Малые дети, что сидят на руках, зараз повырастали и покинули Мокрую Буйволу, а мы, тогда еще молодые, состарились. Иных же и вовсе уже нету, поумирали. Осталась на стенке память. — Он наклонился к не отходившему от него волкодаву, ласково потрепал по холке. — И мой Монах — сильный любитель посмотреть на прошедшую жизню. Их тоже, еще всех троих, снимали, когда они были при деле в отаре. Вот они глядят на нас, все трое. Какие молодые да мордастые красавцы! Монах, любишь глядеть на себя и на своих дружков? Ишь, кивает. Это он говорит, что сильно ему нравится смотреть на прошедшую житуху. Ить он тоже постарел и дружков лишился.
Монах сидел на задних лапах и старческими, слезившимися глазами смотрел не на фотографии, а на своего хозяина, и что он ему говорил и о чем думал — сказать невозможно.
— Ну чего это глаза твои заливают слезы? Чего завсегда плачешь? — спросил Силантий Егорович, обращаясь к Монаху, как к человеку. — Эх, беда! Осиротел мой Монах. Когда Молокан помер, Полкан в тот же день сгинул. Или с горя, или со страху куда-то удалился, пропал без вести. А Монах остался. Но затосковал, бедняга, страшно и сразу состарился. Зачал лысеть со спины. Вишь, какая она у него стала облезлая, какая изделалась паршивая спина, что на нее жалко глядеть. А через почему? Собачья старость. Я уже водил Монаха до ветеринара, чтоб дал какой мази. Не дал. От старости, говорит, и для собак нету лекарств.
Тут Силантий Егорович, будто неожиданно вспомнив что-то для себя особенное, исключительно важное, быстрыми, молодцеватыми шагами вышел из хаты. Следом за ним нехотя поплелся Монах, странно белея своей облысевшей спиной.
— Ну, кажись, зараз мой дед зачнет хвалиться новой собакой, — сказала бабушка Феклуша, платочком вытирая губы и весело глядя на меня. — Любит, старый, похвастаться. Ежели кто заявится в хату, так он сразу и начинает показывать своего цуциненка. И так ему хочется, чтоб все хуторяне верили, будто тот цуциненок не от волчицы, а от овчарки! Ну, а люди у нас — не дураки, в собаках толк знают, все понимают, а только из уважения к старому человеку соглашаются с ним. Миша, ты тоже поверь ему, будто это не волчонок, — добавила она. — Пусть дед порадуется.
В это время вернулся Силантий Егорович, неся темно-серого, головастого, с острыми злыми глазенками щенка. Он и держал его на руках с тем особенным, присущим одним лишь чабанам умением, и при этом на лице у него выражалось такое довольство, будто он принес в хату не щенка, а какую-то драгоценность.
— Ну, Михаил, погляди вот на эту мою надежду, — сказал он, блестя глазами и прижимая щенячью морду к своим усищам. — Каков, а? Ну говори, хорош стервец? Имя-то у него тоже непростое — Оторвиголова!
— Да, имя несколько необычное, — согласился я. — Даже и непонятно, почему Оторвиголова?
— Как раз для него подходящее имя, — уверял мепя дед Горобец. — Вырастет и станет настоящим оторвиголовой. Я уже теперь вижу в нем те его задатки. Отличный будет волкодав, падежная стража.
— Кого же он станет сторожить? — спросил я. — Не овец же?
— Меня, Силантия Горобца, — не задумываясь, ответил чабан. — Да еще мою старость станет оберегать. На Монаха надежда плохая, видно, вскорости придется и с ним попрощаться. А без собаки мне никак нельзя. А какая зараз растет у меня собака, этот Оторвиголова! Ни у кого таких собак еще не было и не будет. На, возьми и подержи на руках. Да бери, бери. Он смирный.
Признаться, мне не хотелось брать на руки волчонка.
— Не смогу, — сказал я. — Еще никогда не приходилось…
— А что тут уметь? — удивился Силантий Егорович. — Бери смелее разбойника! Вот так, как я. Иди, иди, Оторвиголова, на чужие руки, порадуй горожанина.
Все же пришлось взять волчонка. Он показался мне толстым и излишне тяжелым, намного тяжелее, к примеру, большой кошки. Шерсть у него была не только короткая и густая, но и жесткая, как у волков, ноги сухие, упругие. Наверное, понимая, что попал к незнакомому человеку, Оторвиголова старательно сучил ногами, вырывался, и я поспешил вернуть его Силантию Егоровичу, сказав:
— Да, отличный песик. Но быть у меня на руках ему не хочется.
— Это потому, что он еще не успел тебя полюбить. — Силантий Егорович раскрыл щенку рот. — Погляди, какая у него пасть! А какие зубы! Один в один! Скоро и клыки начнут прорезаться. А какие у него лапы — тугие черные комочки! Да таких зубов и таких комковатых да когтистых лап, ручаюсь, не отыщешь ни у одного двухмесячного щенка. Нашей породы, чистейшая степная овчарка. А погляди на его морду. Это же красавец! А нос у него — притронься щекой — завсегда холодный. А холодный нос бывает не у каждой собаки, даже у породистой.
— Я плохо разбираюсь в собачьих носах, — признался я, отказавшись притрагиваться щекой к щенячьему носу. — Но вижу — да, это какая-то особенная собака. Силантий Егорович, где вы раздобыли этого щенка?
— Добыл, достал.
— Все ж таки где?
— На хуторе Воронцовском, знакомый чабан подарил, — без запинки ответил Силантий Егорович. — Нынче с породистыми собаками трудновато. Переводятся настоящие волкодавы за ненадобностью. Спасибо, друг выручил.
— Силантий, радуйся, Миша тебе поверил, — вставила бабушка Феклуша, глядя на мужа испуганно мигающими глазами. — Силантий, ты хоть при госте не забрехивайся. Скажи ему правду.
— А я и сказал правду. Помолчала бы, Фекла!
— Какая же правда? Ить не только тебе, а всем видно, что это же не овчаренок, а истинный волчонок, — сказала Феклуша смело. — Вот и расскажи Михаилу, где и как смог раздобыть такого зверя.
— Ну что ты есть за баба, разлюбезная Феклуша? Чего лезешь в мои собачьи секреты? — Силантий Егорович усмехнулся в усы. — Лучше пойди да приготовь нам позавтракать, а то гости, поди, проголодались. Да не забудь принеси из погреба малосольных помидорчиков. — И он повернулся ко мне. — Миша, попотчуем тебя и Олега своими, домашней солки, помидорами. Получились на славу, не помидоры, а чудо! Незаменимая штуковина под рюмку водки. — Он проводил строгим взглядом жену. — Послал же бог жинку, ничего, брат, от нее ни спрятать, ни укрыть. Все узнает, на аршин в землю видит. И в собаках разбирается не хуже чабана. — Он уселся на низеньком стульчике, подняв худые костлявые колени, пододвинул для меня табуретку. — Подсаживайся, Миша, рядком. Ну скажи, как тебе мой Оторвиголова? Понравился?
— Я уже сказал. Хорош вырастет пес.
— Про него мало сказать — хорош, — возразил чабан, опуская на пол щенка. — Иди, иди, погуляй. Погляди, Миша, какая у него воровковатая поступь. Словно и не идет, а подкрадывается! А как, каналья, кладет лапу! Загляденье! Да ты присмотрись, присмотрись, какая у него походочка. Как он ставит лапу!
Оторвиголова направился к порогу, шел он не спеша, вразвалочку, и ничего такого необычного ни в его походке, ни в том, как он ставил лапу, я не заметил. Подойдя к дверям, он начал обнюхивать порог.
— А нюх-то у него острющий и безошибочный, — сказал Силантий Егорович, не сводя глаз со щепка. — Положи кусочек мяса куда хочешь, спрячь так, как тебе захочется, а он нюхом все одно отыщет.
— Силантий Егорович, скажите, этот щенок — волк или собака?
— И ты о том же? Зачем тебе знать?
— Просто интересно. Что-то в нем есть волчье.
— А ответь мне: умеешь хранить тайну?
— Умею.
— Тут какое дело получилось, — начал Силантий Егорович грустным голосом. — Не хочется мне, чтобы хуторяне знали правду про Оторвиголову. Я и бабе своей, всевидящей Феклуше, не открыл правду. Не хочется разного ненужного разговора. Но ежели ты сохранишь тайну, никому, стало быть, ни слова, дажеть Олегу… А то что может быть? Узнают хуторяне, зачнут приставать с расспросами, что да как, а при встрече с Оторвиголовой станут на него гакать да тюкать.
— Обещаю никому и ничего не говорить.
— Ну, так и быть, слухай, — серьезно начал Силантий Егорович, чиркнув ладонью жесткие стрелки усов. — Отчего ходят слухи, будто Оторвиголова не собачонок, а волчонок? Да оттого, что в его обличии имеется что-то волчиное, и к тому, верно, есть своя причина: родился-то он от смешанного брака. Так что на одну половину, а может, и чуток более половины, он настоящий волк, это точно, а вот на другую половину — собака. Мать у него — обычная овчарка, нашенской степовой породы, из таких, как мои Молокан, Полкан и Монах. У кого в отаре она допрежь пребывала,
чьих овец караулила — про то не знаю. Но когда повсюду зачались строиться те кирпичные загородки, сука оказалась никому не нужная. Что ей, бедняге, делать? Убежала в степь. Как-то там промышляла, чем-то кормилась и постепенно без людей дичала. Каким-то манером произошло у нее знакомство, а потом и свадьба с волком — природа свое требует. После этого на свет божий и появился этот молодец. — Старик с любовью посмотрел на Оторвиголову, который все еще обнюхивал порог. — Но как он ко мне попал? Вот тот вопрос, каковой всех интересует. Тебе первому открою тайну. Дело было так. Я давно следил за бездомной, наполовину одичавшей сукой, хотел уже взять ее к себе и сызнова приручить. Не смог. Не пошла. Как-то видел в степи ее вместе с волком. В последнее время, брюхатая и худющая, она все кружилась возле терновника — это тут, недалече от Мокрой Буйволы. Вот в этом терновнике она и устроила для себя тайное кубло́, в нем и ощенилась. Я выследил тот момент, когда ее не было в кубле́ — отправилась, надо полагать, на раздобычу харчишек, — и пробрался сквозь густой и колючий кустарник терна.
— Не боялись?
— А чего бояться? Да и двустволка была со мной, на всякий случай, — продолжал чабан. — Так вот, пробрался я туда с большим трудом. Уже немолодой, а пришлось на старости годов ползти по-пластунски. И что же я там увидел? Кубло́, а в кубле́ единственного щенка. Вот этого Оторвиголову. Был он еще слепой, малюсенький, жалкий, на ножки встать не мог. Я завернул его в тряпку, сунул под полу пиджака и поскорее айда в хутор. Выкормил молоком из соски, как дитенка. А теперь он, погляди на него, парень что надо! Вишь, какой дотошный, все ему надобно осмотреть, все самому обнюхать. И вот ежели к нему приглядеться, то, верно, можно усмотреть в его обличии что-то волчиное. Надо полагать, дикая кровь таки взяла верх. Но у меня он вырастет не волком, а собакой, моим молодым дружком. С ним-то я и стану доживать свой век.
— Спасибо, Силантий Егорович, вот теперь история со щенком мне известна, — сказал я. — И в том, что у вас Оторвиголова вырастет не волком, а хорошей собакой, настоящим другом человека, я не сомневаюсь.
— В чем же ты еще сомневаешься? — спросил старик. — Спрашивай, от тебя ничего не скрою.
— Хотелось бы знать не об Оторвиголове.
— А о чем же?
— Силантий Егорович, скажите, как вы теперь относитесь к овцекомплексу? Признали его выгоду?
— Не признал, да, видно, уже и не смогу признать.
— Отчего так?
— Душа не велит. Вот в чем мое горе. Разумом чую — надо, надо признать новшество, а душа никак не принимает. А ее-то, душу, не перебороть, силком не заставить. Тут нужны желание и добровольность.
— У вас же сейчас новый управляющий. Говорят, молод, образован.
— Верно, и новый, и молодой, помоложе Сероштана, и ученый, а только порядки у него остались старые. Идет путем-дорогой Сероштана. А я не могу видеть овец в закутке. Это же не жизня для вольных животных, а тюрьма. Хоть и красивая, кирпичная, а тюрьма. Как же я, старый чабан, могу это одобрить?
— Люди скажут: такой знатный овцевод, дважды Герой, а идет против прогрессивного метода.
— Я им, молодым, не мешаю, а перебороть себя не могу, — сказал Силантий Егорович, понуря седую голову. — Видно, то, свое, чем столько годов жил, чему радовался, унесу с собой в могилу. Вот ты, Михайло, поживешь с мое и тогда поймешь, как же больно отрывать от себя привычное, все то, что с годами прижилось в тебе.
— Говорят, вы уже не ходите к тому Силантию Егоровичу, который стоит посреди хутора?
— Верно, перестал ходить. — Старик в кулаке зажал усищи, усмехнулся, не поднимая головы. — Мы с ним по-родственному договорились: то я более пятидесяти годочков приглядывал за овцами, а ныне пусть он смотрит, не отрываясь, на овцекомплекс. Лицо-то у него повернуто как раз туда, к тем сероштановским загородкам. Вот и нехай приглядывает за новым порядком. А приходить к нему буду. С Монахом как-то совестно там бывать, дюже на вид опаршивел пес. А вот подрастет Оторвиголова — обязательно пойду. — Он позвал Оторвиголову и взял его на руки. — Вот она, моя нынешняя радость. Живется нам не скучно, он ко мне тянется, уважает, а я к нему всей душой.
Вошла проворная Феклуша и сказала:
— Ну, набалакались вволю? Прошу до стола. Краснощекие помидорчики лежат в миске и поджидают вас.
— О цэ, Феклуша, добре! — крякнув, Силантий Егорович встал, оставив на полу щенка. — Надо покликать Олега.
Мы направились в соседнюю комнату, где нас ждали краснощекие малосольные помидоры. Следом за нами вразвалочку спешил Оторвиголова.
8
Позавтракав, отведав краснощеких помидорчиков, мы распрощались с гостеприимными стариками, покинули Мокрую Буйволу и направились в степь…
Ну вот и прощай, дедусь Силантий Егорович Горобец! Как знать, может быть, уже и не встретимся. Но кто ты есть? Я так и не узнал тебя? Ответь мне коротко, одним словом: кто ты? Скажешь: если одним словом, то — чабан. А я не соглашусь, нет. Чабан — это должность. Ты же не только чабан. Не знаю, как тебя распознать всего — с ног и до головы? С какой стороны лучше всего на тебя посмотреть, чтобы увидеть все то, что с годами прижилось в тебе? Есть, есть в твоей натуре что-то такое стенное, неповторимое, можно сказать, только твое, горобцовское, чего у других хуторян нет, да и быть не могло. Как удивительно удачно в одном человеке соединились и далекое прошлое, чем-то так схожее с Монахом, с его сгорбленной, облезлой спиной, с его постоянно мокрыми от старости глазами, и что-то такое молодое, что-то такое сегодняшнее и так удивительно похожее на щенка Оторвиголову.
Занятый мыслями о старом чабане, я не заметил, как проселочная дорога уже побежала мимо озимых, которые бледно-зелеными иголками только что выбились из земли. Озимые тянулись долго; мы все дальше и дальше уезжали от Мокрой Буйволы. Я смотрел на слабо зеленевшие озимые и мысленно прощался не только с Мокрой Буйволой, но и с Силантием Егоровичем Горобцом, и с бабушкой Феклушей, уже не надеясь с ними когда-либо встретиться. Все это время я думал о том, что мне, видно, не по плечу правдиво и красочно описать такого природного, не похожего на других чабана. Никак я не мог оторваться от мысли: если я задумал написать «Запах полыни», то мне никак не обойтись без этого своенравного человека. Где-то и как-то он обязательно войдет в ткань повествования — уже теперь вижу: без деда Горобца мне не обойтись. А вот где, в каком месте он войдет в «Запах полыни»? И как войдет? Какое в повести займет место? Над этим еще предстояло думать и думать. Одно для меня было очевидным а бесспорным: к жизни Силантия Егоровича Горобца надобно было подойти с меркой необычной. Необходимо было показать в старике не столько чабана с его чисто чабанскими привычками, любовью к собакам, сколько человека умного, много знающего, превосходно умеющего варить на костре чабанский шулюм, досконально знающего полевые травы, доброго к людям.
Я понимал: вся привлекательность его характера как раз и хранилась не в его картинно торчащих усищах, не в высокой сутулой и худой фигуре, а в том, как он прожил жизнь, как трудился, когда еще подростком вместе с отцом встал с ярлыгой к овцам, не думая ни о славе, ни о каких-то земных благах, да так, меряя неторопливыми шагами степь, и проходил с отарой более полувека. И то, что он теперь, будучи дважды Героем, становился на колени перед своим же бюстом и беседовал как бы с самим собою, говорил тому, другому Силантию Горобцу, что они по-родственному дотолковались: сперва первый Силантий Горобец более пятидесяти годков безотлучно приглядывал за овцами, а теперь пусть другой Силантий Горобец поглядывает, не отрывая глаз, на ту каменную загородку, где содержатся овцы, — все это было не чудачество много пожившего и много думавшего на своем веку старца, а как раз та особенная черта его недюжинной натуры, которая так привлекала меня. Как-то уж очень по-человечески он был прост, бескорыстен необыкновенно и тоже не как все, а по-своему относился к собакам, умел с ними, как с людьми, разговаривать, не мог без них жить. На старости лет решил по-пластунски проползти сквозь терновник только для того, чтобы унести оттуда то ли полуволчонка, то ли полусобачонка, назвав его странной кличкой Оторвиголова, — и это было в его характере. Поэтому все то, что в нем жило и что казалось мне и другим необычным, недостоверным и даже невероятным, необходимо было сберечь и показать так, как оно давно сложилось в его душе. Если же что-то изменить, если что-то убавить, а что-то прибавить к нему, к живому, — пропадет дед Горобец, не станет того старика, которого я так полюбил и который меня так удивлял… Склонив на грудь голову, я задумался еще больше.
— Миша, что так загрустил? — спросил Олег. — Отчего так низко голову повесил? Или спать хочешь?
— Думаю…
— О чем? Ежели не секрет.
— О Силантии Егоровиче Горобце.
— Да неужели? — воскликнул Олег. — Вот какая штуковина! Этот Силантий Егорович сидит и в моей голове. И через чего сидит? Через то, что я никак не могу раскусить заковыристого дедуся. Непонятный он для меня человек.
— Интересно, что тебе в нем непонятно?
— Многое. Хотя бы эта его чудаковатость и несхожесть со своими хуторянами, — ответил Олег, направляя «газик» по заросшему высокой травой проселку. — На мое усмотрение, этот дед какой-то не такой, как все прочие люди.
— Так это и хорошо, что не такой, как все.
— Удивляюсь, что же тут хорошего? Приглядись-ка к нему: то ли дурачком прикидывается, то ли хитрит, себе на уме. Ох, и хитрун! Все у него хранится в тайне.
— Нет, Олег, тут я с тобой не согласен, — возразил я. — Дед Горобец — человек бесхитростный.
— Не согласен? А он, к примеру, открылся тебе насчет своего волчонка? — спросил Олег. — Сказал правду?
Я вспомнил данное Силантию Егоровичу обещание и ответил уклончиво:
— Об этом не было разговора.
— Вот видишь, не было разговора, знать, промолчал старик, — говорил Олег, не отрывая глаз от дороги. — Таится. А чего ему таиться? А того, что сидит у него в уме что-то свое, тайное. А эти его недовольства? И то ему не так, и это не эдак. И овцекомплекс никуда не годится, и Сероштан сякой-такой.
В это время наша дорога раздвоилась. Одна, широкая, хорошо укатанная колесами, потянулась вправо, на село Скворцы, другая, узкая, с укрытыми в траве колеями, повернула влево и уходила куда-то в степь. Олег остановил машину, вопросительно посмотрел на меня.
— Миша, куда же мы теперь? — спросил он. — Какой у нас дальнейший маршрут?
— На Беловцы, — не задумываясь ответил я как о чем-то давно решенном. — Сворачивай влево и гони прямо на Беловцы.
— Куда, куда? — с усмешкой спросил Олег. — Что-то я недослышал. Это в какие же Беловцы мы поедем?
— Помнишь, мы когда-то ездили в Беловцы, к Овчарникову-старшему, — сказал я. — А теперь поедем в гости к Овчарникову-младшему, к Антону Тимофеевичу.
— Да ты что, в своем уме? — Олег сбил на затылок свою кепчонку, рассмеялся. — Когда это пришло тебе в голову — отправиться в Беловцы?
— Сегодня, когда мы выехали из Мокрой Буйволы. А что?
— Ты еще спрашиваешь «а что»? Вот чудак! А разрешение на въезд в Беловцы у тебя имеется?
— Ничего, как-нибудь проедем.
— А я говорю — не проедем, ни с как-нибудь, ни без как-нибудь, — уверенно заявил Олег, не трогая с места. — Об этом и думать нечего. Нужен пропуск, а его у нас нету. Запомни, Миша, молодой Овчарников завел в селе такой дурацкий порядок, что без специального пропуска в Беловцы и самого господа бога не пустят.
— А почему — дурацкий порядок? — спросил я.
— Что же в нем, в том порядке, умного? — в свою очередь спросил Олег, все еще не решаясь ехать влево. — На всех въездах в Беловцы стоят посты, там, брат, создана такая надежная охрана, что через нее не прорвешься. Рассказывают потешный случай. Как-то ехал в Беловцы сам Караченцев, а разрешения не имел — забыл взять. И что ж ты думаешь? Охранники не пустили Караченцева! Ни за что! Просил, умолял — нет, ни в какую! А ты собираешься проехать как-нибудь. Это хорошо ездить, к примеру, к деду Горобцу. Никто тебя не остановит.
— И все же трогай, поехали, — сказал я. — Не стоять же в степи. Попытаем счастья.
Олег молча нехотя включил скорость, и мы поехали влево.
Подъезжая к Беловцам, мы издали, еще с пригорка, увидели полосатую будку, ярко расписанную красными и белыми полосами, и такой же нарядный шлагбаум, перекинутый через дорогу. Когда мы приблизились к полосатой будке, то с правой стороны увидели так хорошо знакомый всем шоферам «кирпич», то есть тот красный прямоугольник в центре желтого круга, перед которым любая автомашина останавливается как вкопанная. Олег, разумеется, тоже нажал на тормоза, так что они запищали, остановился резко, как перед пропастью, и не без иронии заметил:
— П-р-р-р! Все! Слезай, приехали!
В это время из нарядной полосатой будки вышел пожилой вахтер, небритый, наверное, с неделю. Посмотрел на нас сонными глазами, приставив ко лбу ладонь, и отвернулся. Совсем нетрудно было понять, что этот заросший темной щетиной страж с кудлатой, давно не видавшей расчески головой и заспанными глазами подходить к нам и не собирался. Тогда невольно пришлось вспомнить бытующую на Кавказе поговорку о том, что если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе. Так в лице новоявленного Магомета я смелыми, деловыми шагами приблизился к горе, то есть к небритому вахтеру, поприветствовал его как можно ласковее и как бы между прочим сказал, что я — московский корреспондент, что езжу по селам и хуторам и собираю материалы о лучших людях.
— Нельзя, — сухо молвил вахтер. — Не положено.
— Что — нельзя? — спросил я, глядя на великана наивными глазами. — Что — не положено?
— Въезжать, — так же сухо ответил вахтер. — Видишь, преграда?
— Вижу, — покорно ответил я. — Но не все преграды неприступны.
Давно не бритая гора смотрела на меня совсем не ласково, на ее мрачном челе не выражалось никакой не то чтобы доброты или сочувствия, а даже малейшего намека на теплоту. Чтобы наше молчание не затянулось слишком надолго, я начал расхваливать будку, ее умелую окраску, порадовался механическому устройству шлагбаума — нажми на кнопку, и полосатый столб сам поднимется или ляжет поперек дороги! При этом я особо отметил краску, подобранную на редкость удачно как на будке, так и на шлагбауме, обратил внимание на косые полосы, нарисованные так умело, что их было видно километра за три, а то и за четыре. Я даже не преминул заметить, что будка вместе с перекинутым через дорогу полосатым столбом есть украшение невеселого осеннего пейзажа близ Беловцов. Вахтер молчал, казалось, он неожиданно оглох и онемел. Тогда я спросил, как его имя и отчество.
— На кой ляд оно тебе? — строго спросил вахтер.
— Вы такой видный, такой представительный, я бы сказал, такой оригинальный мужчина, что у вас, по моим предположениям, имя и отчество должны быть какими-то особенными, — сказал я с явным оттенком лести. — Так что скажите, пожалуйста, как ваше имя и отчество?
— Ну, допустим, я — Сидор Софронович, — ответил вахтер уже не так строго. — Так что из того?
— А то, дорогой Сидор Софронович, что в своих предположениях я оказался прав, — сказал я растроганно. — У вас удивительное имя и отчество! Редчайшее! Теперь же всюду одни Валерии и Юрии. А это же Сидор, да еще и Софронович! Чудесно! Позвольте мне, Сидор Софронович, с вашего разрешения занести в свою тетрадь ваше, говорю совершенно откровенно и искренне, редчайшее для нашего времени имя и отчество!
— Зачем же записывать в тетрадь? — уже почти ласково спросил вахтер. — Совсем незачем записывать.
— Это вы так полагаете по своей скромности, — сказал я. — А я считаю, что надо непременно записать. И позвольте мне это сделать.
— Все ж таки скажи — зачем?
— Для истории и, если хотите, для личного удовольствия, — не моргнув глазом, ответил я. — Это же какое имя и отчество! Нигде я ничего подобного не встречал. А как звучит? Музыка! Вам, Сидор Софронович, призна́юсь: вот сколько я езжу из села в село и, знаете, так, для любопытства, заношу в тетрадку все редкое, интересное, любопытное, а такого имени и отчества еще не встречал. Зачем записываю? Скажу по секрету: для своей будущей работы — вдруг, думаю, пригодится. Вот и ваше имя и отчество для меня — это же драгоценнейшая находка! Ни за что не придумаешь — это надо услышать. А это полосатое сооружение у въезда в село? Где еще хоть что-то подобное увидишь? Нигде! Тоже позвольте записать в тетрадь, уверен, пригодится, и еще как пригодится! Так что, дорогой Сидор Софронович, не обижайтесь на нашего брата корреспондента и позвольте тут же, при вас, сделать нужные записи.
— Дозволяю, — последовал скупой, но уже не строгий ответ. — Можешь записать, ежели это надобно для общей пользы… А вот у моего батька, Софрона, отчество было Ксенофонтович. Как, а? Может, и это запишешь? Софрон Ксенофонтович…
— Непременно запишу! — Я поспешил вынуть из кармана тетрадь и карандаш. — Значит, ваш папаша — Софрон Ксенофонтович? Так это же еще прекраснее! И все же Сидор Софронович — звучнее и мне нравится больше. Допустим, какому-то писателю понадобится положительный герой современной деревни — вот оно, имя и отчество тому герою. Не надо выдумывать, ломать голову. Находка! Да и сам ваш вид, Сидор Софронович, вернее сказать, внешность будущего положительного героя, — это же настоящая, без прикрас, натура. Бери вас вот так, запросто, и пиши! А если попадетесь на глаза художнику или скульптору? И тот и другой затанцуют от радости, увидев такую великолепную натуру. За это я вам ручаюсь.
И тут случилось как раз то, что по неписаным законам нашей жизни и должно было случиться: лесть свое дело сделала! Наша «гора» заулыбалась, посветлела, и я невольно вспомнил тот пасмурный день, когда тучи вдруг, неожиданно расходятся, разрываются и с голубого неба на землю уже льются радостные лучи. Точно то же произошло и с нашим Сидором Софроновичем. Его нельзя было узнать. Будто какой волшебник взял одного Сидора Софроновича и заменил другим Сидором Софроновичем. Давно не видавшее бритвы лицо сразу посветлело, помолодело, будто на него упали те же яркие лучи солнца, которые пробились сквозь тучи. Что значит в нашем житейском обиходе лесть! Она нам всюду нужна, без нее не прожить, даже ее капелька и та производит чудеса, действует наверняка и безошибочно. Лесть способна делать с людьми все, что ей вздумается, и будь то какой-нибудь неприступный император, или всесильный государственный деятель, или простой смертный, из самых простых, — а лесть приятна каждому. Кто-то сказал: лесть — это такой напиток, который приятно пить решительно всем, И я, еще раз взглянув на веселого, будто подмененного вахтера, на его заросшее, но теперь уже доброе, улыбающееся лицо, был уверен, что перед нашим «газиком» непременно поднимется это полосатое бревно и что я обязательно повидаюсь с неприступным Овчарниковым-младшим.
— Так ты запиши и мою фамилию, — сказал вахтер таким приятным голосом, каким, ручаюсь, не говорят даже самые близкие приятели. — Ка́пушкин я, Сидор Софронович Ка́пушкин.
— Ай-я-я, Сидор Софронович! И чего же вы молчали? — искренне огорчился я. — Поскромничали, да? Напрасно! Скромность не всегда украшает… Ка́пушкин! Это же типичная фамилия для положительного героя. А какое звуковое сочетание? Прислушайтесь: Сидор Софронович Ка́пушкин! Это получше всякой музыки! Ни за что не придумать. Спасибо вам, Сидор Софронович, за подарок! Да, да, подарок! Я так рад, что это полосатое сооружение преградило мне путь и я смог с вами познакомиться. Теперь можно спокойно повернуть обратно и ехать дальше. Спасибо вам сердечное!
— Куда же ты?
— Поле широкое, дорог много.
— Так, может быть, заглянул бы к нашему Антону Тимофеевичу? — спросил вахтер, и по его загрустневшим глазам я понял, что ему никак не хотелось расставаться со мной. — Антон Тимофеевич — мужчина что надо, натура сурьезная. Таких нигде не встретишь. Батько у него был совсем не такой. Может, заглянешь к Антону Тимофеевичу?
— Посчитал бы за счастье повидаться с Антоном Тимофеевичем, но как же это сделать? — Глазами я указал на лежавшее на дороге полосатое бревно. — Колеса-то через него не перепрыгнут.
— А ежели им, колесам, маленько подсобить? — спросил вахтер, весело подмигнув. — Одну только малость, и им, колесам, прыгать не придется.
— Каким же образом это можно, Сидор Софронович?
— А это уж мы, Сидор Софронович Ка́пушкин, знаем, что и как надо изделать, — решительно заявил вахтер. — Дай-ка мне твой документ. — Он развернул мое удостоверение, которое я подал ему. Читал долго. — Так, Михаил Анатольевич Чазов. Ну, как говорится, попытка — не пытка. Изделаем!
И Сидор Софронович, не переставая улыбаться своим щетинистым лицом, отправился в полосатую будку, слегка нагибаясь в дверях. Дверь была-открыта, и я слышал разговор по телефону.
— Антон Тимофеевич, поверьте моему слову, — говорил вахтер, — человек очень порядочный. Из Москвы. Да, да! Собиратель всего положительного. Документ смотрел. Чазов, Михаил Анатольевич. Да, да, из газеты. Ездит по селам. Но я так понимаю, что он не из газеты, а из Союза писателей, потому как все время говорит о положительных героях. Так как, Антон Тимофеевич, пропустить писателя? Будет исполнено!
Сидор Софронович вышел из будки, сияющий от счастья, и сказал:
— Зараз эта красивая штуковина сама поднимется, так что колесам перепрыгивать ее не придется. — Он нажал кнопку, электромоторчик весело загудел, и полосатый столб стал подниматься. — Готово! Дорога открыта! Можно проезжать.
На прощанье я пожал вахтеру руку и махнул Олегу, чтобы подъезжал.
— Так ты все правильно записал? — спросил радостный вахтер. — Ка́пушкин я, Сидор Софронович! А мой батя — Ка́пушкин Софрон Ксенофонтович!
— Все, все записано правильно, — уверил я радостного Капушкина, влезая в подкативший «газик». — Спасибо вам, Сидор Софронович! Вы настоящий человек, у вас доброе сердце!
Мы проезжали по удивительно чистенькой улице. Она была обсажена молоденькими тополями и покрыта асфальтом, вдоль дворов текли неглубокие ручьи, в них купались гуси, утки. В Беловцах было тихо и безлюдно. Мы проехали мимо знакомого нам, с каменными колоннами, дома старшего Овчарникова. В просторном дворе, который когда-то встречал нас сухим высоким бурьяном, играли дети, было шумно, весело. Олег молча посмотрел на детский сад. По его суровому лицу я понимал, что он все еще сам не верил, как это нам удалось проскочить заградительный пост.
— Миша! Ты маг и волшебник! — наконец сказал он. — Удивляюсь, как тебе удалось поднять этот столб?
— Удалось, — ответил я. — Как известно, свет не без добрых людей. А вахтер оказался как раз таким добрым человеком. Поговорил я с ним по душам, и он все понял.
— Так мы теперь куда?
— Известно, в правление. Меня там ждет Овчарников-младший, — ответил я. — Посмотрим-посмотрим, что это за штука.
9
ИЗ ТЕТРАДИ
Записать свою встречу с Антоном Тимофеевичем Овчарниковым мне пришлось только после возвращения в Скворцы. Поздно ночью, когда я уже находился в комнате районной гостиницы, я занес в тетрадь кое-какие свои наблюдения над беловцынским оригиналом, разумеется, не все, а лишь те, какие хотелось не забыть. Прежде всего необходимо было запомнить внешность Антона Тимофеевича Овчарникова-младшего. Признаться, она оказалась для меня несколько неожиданной, надо полагать потому, что я думал увидеть нечто необычное, удивительное. Между тем ничего необычного, удивительного я не увидел. Овчарников-младший был мужчина как мужчина. Ему уже перевалило за сорок, а вид у него был тридцатилетнего здоровяка. Лицо, смуглое до черноты на щеках и на лбу, видно, за лето было старательно обласкано палящим солнцем и жарким каспийским суховеем. На фоне застаревшей черноты лица белки глаз у него казались, как у негра, непривычно белыми и непомерно большими. На что ни посмотри — от желтых, до блеска начищенных туфель, красиво сидевшего на его коренастой фигуре костюма до модного, в крупный горошек, галстука, белого воротничка и гладкой черной прически, — все как бы говорило, что этот молодой, стройный мужчина рос и воспитывался в городе и что здесь, в Беловцах, он оказался случайно. Он был человеком интеллигентным, образованным, подчеркнуто вежливым и внешне походил не на председателя колхоза, а скорее всего на хирурга, только что снявшего белый халат, или на ученого, недавно вернувшегося из своей лаборатории.
По просторному кабинету от порога до стола протянулась широкая ковровая дорожка. Овчарников-младший вышел мне навстречу с таким очевидным, нескрываемым радушием, с такой искренней доброжелательной улыбкой, что мне и в голову не могла прийти мысль о том, что этот удивительно вежливый, похожий на ученого или на хирурга, красиво одетый, приятно улыбающийся мужчина способен был отгородиться от всего мира, поставив на всех въездах в Беловцы нарядно раскрашенные будки с вахтерами и перекинутыми через дорогу полосатыми шлагбаумами. Да и говорил он со мной так оживленно, так заинтересованно, что даже казалось, что Антон Тимофеевич был обрадован моим приездом. Я слушал его, и меня не покидала одна и та же мысль: не может быть, чтобы такой человек любил затворническую жизнь, чтобы ему не нужны были встречи с людьми, общение с приезжающими в село.
Однако больше всего меня озадачило то, что Овчарников-младший совершенно не был похож на Овчарникова-старшего. И эта несхожесть была видна не только в том, что Антон Тимофеевич, скажем, был ростом пониже Тимофея Силыча, а в плечах пошире. Она, несхожесть, уходила в глубь самой натуры Овчарникова-младшего и была отчетливо выражена в его характере, в привычках, в манере держаться и разговаривать с людьми. Я уже не сравниваю их культуру, образование — тут отцу было ох как далеко до сына! Небо и земля! Мне было известно, например, что Тимофей Силыч Овчарников страдал зазнайством, самомнением, он умел, как никто другой, гордиться самим собой, всегда при случае, а чаще всего без случая старался прихвастнуть своими успехами, не стеснялся сказать о себе лишнее, украсить свою грудь наградами — дескать, посмотрите, каков я! Он открыто, никого не стесняясь, показывал подчиненным свою начальственную строгость, а когда ему было выгодно — свою начальственную ласку. Овчарников-младший, напротив, всего этого был лишен, как мне кажется, от рождения. Со своими подчиненными всегда был одинаков — не строг и не ласков, а справедлив и требователен. Его нельзя было назвать ни зазнайкой, ни хвастунишкой. Он был до крайности скромен, не умел, да и не хотел показывать кому бы то ни было свое над ним превосходство. Он никогда не повышал голоса, не приказывал, а всегда просил, со всеми постоянно был прост и любезен. На торжественные собрания приходил в элегантном черном костюме, из верхнего кармашка пиджака выглядывал острым уголком белый платочек, и только: наград у него еще не было.
Овчарников-младший скупо, неохотно рассказывал мне о хозяйственных успехах колхоза «Путь Ленина», которые были достигнуты в последние годы. Лишь после моей настоятельной просьбы он все же назвал цифры — по годам — собранного и проданного зерна, мяса, надоя молока, настрига шерсти. Меня же так и подмывало спросить: не потому ли достигнуты такие успехи, что приехать в Беловцы теперь стало не так-то просто, как это было прежде, при Тимофее Силыче? На языке у меня вертелся вопрос: кому и зачем, собственно, пришло в голову поставить у въезда в село сторожевые посты? Словом, мне хотелось поговорить о том, что меня больше всего интересовало. И сын Тимофея Силыча, как бы читая мои мысли, добродушно улыбнулся и доверительно спросил:
— Может быть, вас интересуют не столько наши экономические успехи, сколько та строгость, которая Введена нами для проезда в Беловцы?
— Да, Антон Тимофеевич, вы угадали, — краснея, признался я. — Только прошу понять, меня правильно: это не простое любопытство.
— Я привык. Многие об этом спрашивают.
— Да это и понятно. Ибо вам, надо полагать, известно, что о вас говорят в районе, да и не только в районе.
— Что же обо мне говорят? — с той же добродушной улыбкой спросил он. — Это интересно.
— Разное. Одни недоумевают, другие ругают, третьи хвалят.
— Неужели есть и такие?
— Мало. Большинство не понимает молодого Овчарникова.
— Да я уже не молодой… Так о чем же еще говорят?
— Главным образом о том, что сын Тимофея Силыча свернул с отцовской дороги.
— Вот это правильно! С этим я согласен.
— И еще считают, что вы чудачествуете, самочинствуете.
— И какие приводятся факты, доводы?
— Ну, называют, в частности, тот случай, когда ваши вахтеры не пустили в Беловцы даже Караченцева.
— Известно, что охотники до сенсаций — мастера на выдумку и на преувеличения, — спокойно ответил Антон Тимофеевич, все еще дружески улыбаясь. — И мое кем-то выдуманное чудачество и самочинство — безусловное преувеличение. Что же касается слухов о том, что мы не пустили в село Караченцева, то это уже чистейшая и злонамеренная неправда. И Андрей Андреевич Караченцев, и другие руководители района приезжают в Беловцы в любое время и так же запросто, как они приезжали раньше, только теперь, верно, они навещают нас не так часто, как это было прежде, при отце. — Он откинулся в кресле, и его лицо, гладко причесанные волосы, попав в тень, стали еще чернее. — Что же касается строгой охраны села, то мы установили ее исключительно для тех посетителей, которые мешают нашим колхозникам нормально трудиться и, что называется, путаются у них в ногах. Но эта мера вынужденная и временная. Сейчас она уже себя изживает, потому что полностью выполнила поставленную перед ней задачу. Вскоре мы снимем шлагбаумы и упраздним охрану. За ненадобностью.
— И все же непонятно, зачем она вам понадобилась? — спросил я.
— А я уже говорил: исключительно для пользы дела, — все так же мило улыбаясь, с достоинством ответил Антон Тимофеевич. — Нам нужно было практически, в процессе самой работы, так сказать экспериментально и наглядно, доказать, что и председатель «Пути Ленина» — ваш покорный слуга Овчарников, и все наши специалисты, а их у нас немало, и все наши бригадиры — словом, все мы здесь, в Беловцах, не лыком шиты и недаром получаем зарплату. Мы свободно можем — и теперь это доказано фактически — управлять своим хозяйством без командировочных толкачей, без опекунов, и управлять успешно. Ведь чего греха таить — в приезжих опекунах недостатка во многих хозяйствах и сейчас не бывает. И заявляются они, разумеется, с намерениями самыми добрыми — помочь нам. Но они не помогают, а мешают хотя бы уже тем, что отрывают руководителей от дела. А есть и такие приезжие, кто старается подменять, поучать, командовать. Тем самым они лишают председателя, бригадира инициативы, самостоятельности, я сказал бы, смелости в их каждодневных действиях. К примеру, мы-то в Беловцах зачем поставлены? И я, как председатель, и наши агрономы, зоотехники — главные и не главные, и наши экономисты, инженеры, механики — все мы тут, в Беловцах, для того и находимся, чтобы «Путь Ленина» преуспевал в экономике. Но если мы не способны без посторонней помощи отлично руководить хозяйством, если нам нужны толкачи и опекуны, тогда нас надо заменить другими, более способными, более энергичными, теми, кто может работать самостоятельно, как им и положено. — Он вышел из-за стола, прошелся по ковровой дорожке, коренастый крепыш с широкими плечами. — Если желаете, то я могу вкратце рассказать историю организации охраны Беловцов. История эта, между прочим, весьма простая, обыденная, в ней нет ничего странного или невероятного.
Я согласился послушать, как же и почему в Беловцах была создана такая строгая охрана села. Все так же не спеша шагая по ковровой дорожке, Антон Тимофеевич поведал мне о том, как он работал в краевом сельхозуправлении. Своей должностью и условиями он был доволен и переезжать в Беловцы никогда не помышлял. Однако сама жизнь распорядилась им совсем не так, как он того желал бы.
Случилось это сразу же после похорон Тимофея Силыча Овчарникова. Караченцев пригласил Антона Тимофеевича в опустевший председательский кабинет и прочитал ему завещание отца.
— Оно было написано вот тут, за этим рабочим столом, — заключил Караченцев. — И касается это завещание лично тебя, как сына.
В своем завещании Тимофей Силыч просил райком и крайком, чтобы после его смерти председателем «Пути Ленина» был избран его сын Антон. «Это мое последнее желание: пусть дело отца продолжит сын и пусть в будущем, когда вырастут сыновья Антона, а мои внуки, это дело станет семейной традицией Овчарниковых». Так заканчивалось завещание.
Антон Тимофеевич ответил отказом. Он сказал, что «Путь Ленина» — не вотчина отца и как сыну ему нехорошо, неудобно становиться словно бы каким-то наследником. Тогда Караченцев вынужден был напомнить о тех нередких случаях, когда сыновья после смерти своих отцов занимают те же общественные посты, которые ранее занимали их родители. И сослался на самый свежий пример: после смерти знаменитого главного режиссера театра на его место был назначен сын, и дело он повел не хуже отца. Антон Тимофеевич опять стал возражать, говоря, что колхоз «Путь Ленина» — это не театр, да к тому же из Ставрополя ему не хочется уезжать: тут и отличная, со всеми удобствами квартира, и семья — два сына, оба школьники, оба посещают музыкальную школу, жена — врач, заведует больницей. Нельзя же ему жить в Беловцах одному, без семьи! Караченцев, однако, настаивал на своем, говорил, что сын должен непременно выполнить последнюю волю отца. Дело дошло до краевых организаций. Ему опять было сказано, что необходимо выполнить последнюю просьбу человека, который родился и умер в Беловцах, отдав родному селу столько сил и старания. И Антон Тимофеевич согласился поехать в Беловцы.
На общем собрании молодой Овчарников был единогласно, под аплодисменты, избран председателем колхоза «Путь Ленина». Прошел всего месяц, и Антон Тимофеевич почувствовал свою беспомощность, свое, если можно так сказать, безвластие, и это страшно его огорчило. Оказывается, сам, по своей инициативе, он не мог ничего ни сделать, ни решить. Допустим, он считал нужным увеличить площадь под многолетние травы, чтобы обеспечить животноводство сочными кормами. Сделал соответствующие расчеты, утвердил это мероприятие на правлении, а выполнить его не смог: не получил согласия райсельхозуправления. Он доказывал, что ему здесь, на месте, виднее, а ему отвечали, что виднее всегда сверху и со стороны, и тут же напоминали, что его покойный отец это понимал и всегда подчинялся тем распоряжениям, какие поступали из района. Ему нужно было в целях экономии кормов продать в зиму более двухсот бычков. Этот вопрос он согласовал со своими зоотехниками, с членами правления, а из района разрешения не получил. Ему тут же опять не преминули напомнить, что Тимофей Силыч никогда бы не продал в зиму столько бычков. И он понял: ему необходимо исполнять только те распоряжения и указания, которые приходили из района устно, по телефону, письменно, в виде циркуляра, и все делать только так, как когда-то делал его покойный отец. Он подсчитал: за два месяца в «Пути Ленина» побывало четыре комиссии, которые проверяли состояние дел в животноводстве, запасы и хранение кормов, осматривали семенной фонд, проверяли бухгалтерский учет, после чего писали пространные акты, делали выводы, давали указания и уезжали. За это же время в Беловцах побывало восемь инструкторов райсельхозуправления и иных ведомственных организаций, более десяти различных командированных — из районо, райздравотдела, из трестов, из райавтотранса, райсобеса и т. д. И все, кто заявлялся в Беловцы, непременно требовали к себе внимания — гостиницу, питание, транспорт — и считали своим долгом давать председателю соответствующие указания, поучали его, как и что ему нужно делать, а что и как делать не нужно.
— И вот тогда-то, разозлившись, я сказал себе, что если останусь в Беловцах, то при одном условии: буду делать все по-своему, совсем не так, как делал мой отец, — продолжал свой рассказ Антон Тимофеевич. — С этими мыслями поехал к Караченцеву. Изложил ему факты, цифры и просил дать мне возможность поработать самостоятельно, без чьих бы то ни было указаний, разрешений или неразрешений и без ссылки на пример моего отца. Мне ставят его в пример, говорят, что Тимофей Силыч все исполнял безропотно. Но то был один Овчарников, а сейчас — совсем другой Овчарников. Я считал и считаю, что жить чужим умом — самое последнее дело. К тому же я не привык и не умею исполнять чужие приказания. Если же я не смогу работать самостоятельно, говорил я Караченцеву, то грош мне цена в базарный день, меня надо снять, и тогда ни о какой семейной традиции не может быть и речи. Я просил дать мне такие права, чтобы без моего согласия никто не приезжал в Беловцы, и, как меру охраны села, предложил установить сторожевые посты на въездах. Моя просьба Караченцеву показалась и странной и необычной. Он удивленно пожимал плечами, улыбался, крутил головой и не соглашался со мной. Тогда мне пришлось выступить с этим предложением на собрании районного актива. Меня поддержали и голоса из зала, и те товарищи, кто выступал после меня. На другой день Караченцев приехал ко мне в Беловцы. Думал, получу нагоняй. Нет. Андрей Андреевич — человек думающий, умный, смелый. Еще раз внимательно выслушал меня, понял мои тревоги, мои желания и поддержал меня… Ну, остальное вам известно.
Я не постеснялся сказать, что известно мне далеко не все. В частности, мне совершенно не ясна роль председателя в современных условиях. Кто он, председатель? Каким он должен быть? Каков он есть? Что ему делать позволено, а что не позволено?
Выслушав мои вопросы, Антон Тимофеевич сел на свое место, долго, старательно приглаживал расческой смолистые мягкие волосы и молчал. Потом добродушно, с улыбкой посмотрел на меня, как бы удивляясь тому, что я ничего этого не знаю, и попросил позволения задать мне как бы встречные вопросы.
— Смогли бы вы, сотрудник газеты, ответить, почему наше сельское хозяйство отстает из года в год? — спросил Антон Тимофеевич. — Почему наши колхозы и совхозы, имея такую первоклассную технику, такое постоянное к себе внимание государства, все еще не дают стране нужного количества зерна, мяса, молока и других продуктов?
Я пожал плечами и сказал, что на это, надо полагать, имеются свои объективные причины, что-то такое, не зависящее от людей, как, например, неблагоприятные погодные условия.
— Суть дела не в плохих погодных условиях. — Антон Тимофеевич начал еще старательнее причесывать черные лоснящиеся волосы, и его лицо из добродушного стало суровым, улыбка исчезла, будто ее никогда и не было. — Причина наших неуспехов в сельском хозяйстве, как я понимаю ее, состоит в том, что тот, кому по праву и по должности надлежит нести всю полноту ответственности за успешное развитие хозяйства, за рост, как теперь принято говорить, его экономического потенциала, — этой ответственности лишен.
— Странно, — невольно вырвалось у меня. — Как это понимать — «лишен»?
— Так и понимайте, как сказано, — продолжал Антон Тимофеевич. — Здесь мы уже подошли вплотную к вопросу: кто он, председатель? Мальчик на побегушках или государственный деятель? Каков он есть и каким он должен быть? И не только он сам. Какими должны быть те специалисты, которые работают с ним рук а об руку? Что у нас чаще всего встречается сегодня? Председатель, как и полагается по уставу сельхозартели, обличен полномочием общего собрания. Отлично! Это то, что нужно! Но выполнить эти свои высокие полномочия на деле и без чужой подсказки, без чужого указания, своим умом, своей смекалкой — не может.
— Почему?
— Думаю, потому, что многих председателей, особенно у нас, в Скворцовском районе, приучили искоса поглядывать на Скворцы и ждать оттуда указаний. — Задумавшись, Антон Тимофеевич по привычке снова начал приглаживать свои блестящие волосы. — И это поглядывание стало своеобразной привычкой и привело к тому, что со временем у председателя как у руководителя начисто утратилась личная ответственность, если хотите, личная хозяйственная жилка, а главное — утратилось умение и желание самостоятельно принимать то или иное решение. И хотя у каждого председателя имеется свой кабинет, вот как у меня, по размерам под стать министерскому, хотя половину стола занимают телефонные аппараты, в приемной безотлучно сидит секретарша, а у подъезда ждет персональная «Волга», — все это лишь видимость самостоятельности. Внешне все будто бы так, как и нужно, как должно быть. Но только внешне. На деле же — постоянный взгляд в сторону Скворцов. А что скажут там, в районе? Именно за умение поглядывать на Скворцы хвалили и продолжают хвалить до сих пор моего папашу. От меня тоже требовали, чтобы я всегда поглядывал туда же, на Скворцы, и частенько ставили в пример моего покойного отца: вот, дескать, был настоящий председатель, что ему скажешь, то он и исполнит. Учись, сын, у отца. А я не пожелал учиться у отца. Разумеется, я ни в чем не осуждаю своего родителя. Он много вложил труда, работая в колхозе «Путь Ленина», землю любил и понимал с детских лет, любил и понимал как-то по-своему, нутром, совсем не так, как люблю и понимаю землю я. Но знаменитый Тимофей Силыч был словно бы привязан к Скворцам. Он был отличным исполнителем и никудышным хозяином. И в этом не его вина, а наша общая беда. Ведь после моего прославленного родителя в Беловцах многое пришлось исправлять и заново переделывать. Стыдно сказать: в богатом, передовом колхозе не было приличного детского сада. Зато для себя отец построил такой домище, что теперь в нем свободно разместился детский сад. А почему не был построен детский сад? Думаете, отец пожадничал и не выдал из колхозной кассы денег на строительство? Отец не жадничал, деньги в колхозе были. Вся беда в том, что из Скворцов не было указания. Как потом выяснилось, это указание просто забыли дать.
Я вынул из-кармана пиджака свою походную тетрадь и карандаш, чтобы кое-что записать. Антон Тимофеевич, заметил это, снова вышел на ковровую дорожку и, прохаживаясь по ней, сказал:
— Прошу, записывайте все, не стесняйтесь.
Он показал на расставленные на столике шахматы и назвал председателя ферзем — самой главной фигурой. Далее он
сравнил председателя с тем монолитным столбом, на котором, как дом на прочном фундаменте, стоит и процветает экономика сельхозартели. С убеждением знающего человека он утверждал, что у председателя неумного, недумающего, безынициативного, поглядывающего на район, всегда низкие урожаи, всегда неуправка на полях, а в животноводстве постоянный упадок. У председателя же умного, думающего, деловитого, умеющего видеть и правильно оценивать день завтрашний, урожаи, как правило, высокие, животноводство растет из года в год, на полях — порядок, всюду видна хозяйская рука.
— И тот факт, что я, Овчарников-младший, заменив своего отца, установил вокруг села сторожевые посты, еще ничего основного, главного не решает. — Антон Тимофеевич все так же не спеша шагал по ковру. — Для дела нужны не шлагбаумы на дорогах, не вахтеры, а широкие права председателя и вместе с ними — его, личная ответственность, что мне и было дано. Хорошо бы специальным законом раз и навсегда запретить председателю поглядывать на район и ждать оттуда указаний, как ждут у моря погоды. В этом законе необходимо сказать: ни на кого, брат, не надейся, действуй сам, самостоятельно, ты тут полноправный хозяин, с тебя спрос за все — и за хорошее, и за плохое. И не жди: тебе уже никто не скажет, что сеять и где сеять, как развивать товарное животноводство, как заготовлять корма. Отныне все решаешь сам, со своим правлением и со своими специалистами, а осенью будешь отчитываться перед тем нее общим собранием, которое уполномочило тебя быть председателем. И если своей работой ты не заслужил нового доверия, ты это доверие больше не получишь. Вот тогда председатель был бы настоящим ферзем и стоял бы на высоте положения.
— Что же это получается? — спросил я, перестав записывать. — Председатель — вроде бы фермер? Сам себе хозяин, никому не подчинен?
— Сам себе хозяин, — да, но не фермер. — Антон Тимофеевич с улыбкой посмотрел на меня. — Всем известно, фермер — собственник и для него главное, основное — личное обогащение. Председатель — хозяин, доверенное лицо коллектива, и для него главное, основное — не личное обогащение, а подъем и процветание общественной экономики и благо людей. Председатель имеет должность необычную, я назвал бы ее должностью, данной ему народом. Поэтому нет нужды держать его в эдаких, я назвал бы, шорах: это ты делай, а этого не делай, это тебе можно, а этого тебе нельзя. Пусть сам знает, что ему делать надо, а что не надо, что колхозу выгодно, прибыльно, а что не выгодно, не прибыльно. У председателя должны быть не только обязанности, но и права, самостоятельность.
10
ИЗ РАССКАЗА ОВЧАРНИКОВА-МЛАДШЕГО
— Вернемся к тому, что обо мне говорят. Значит, я и такой, и сякой, и моя вина состоит в том, что не пошел по проторенной отцовской дорожке, изменил, дескать, установившейся в Беловцах традиции, — словом, меня обвиняют во всех тяжких. Если отвечать на эти обвинения откровенно, без обиняков, то следует сказать: они, обвинения, не имеют под собой никакой почвы. Они нарочно придуманы теми, кто хотел бы видеть во мне копию Тимофея Силыча Овчарникова. В Скворцах гордятся какой-то традицией, которая якобы установилась в Беловцах. Честно скажу: никакой традиции в Беловцах вообще не существовало. Было же здесь то, что именуется застоем. Для наглядности возьмем воду проточную и воду в пруду. Беловцы были прудом, вода в котором не менялась много лет и изрядно позаросла ряской. К заросшему ряской пруду привыкли не только мой отец, а и многие руководители района. В Беловцах всегда было спокойно. Ни тревог, ни волнений.
— А что сказать о проторенной дорожке? Ее, кстати, тоже не существовало. Но если, допустим, такая дорожка была, то лично мне она не потребовалась бы. Я согласился переехать в Беловцы только с тем условием, что не пойду дорогой своего знатного бати. Но сама по себе жизнь в Беловцах остановиться не могла. Ее пытались остановить искусственно, нарочито, и тут немало потрудился мой покойный родитель. Так как же надлежало поступить мне, новому руководителю? Тоже остановиться и радоваться тишине и покою или идти дальше, идти своей, еще никем не хоженной тропкой?
— Об отсутствии контроля. Вопрос не простой, но смешной. Как же я могу уйти от контроля, ежели мои дела у всех на виду, а те люди, которые постоянно находятся со мной и болеют тем же, чем болею я, и являются самым строгим моим контролем. Уверен, если в будущем, как того желал мой отец, в Беловцах утвердится председательская династия, то и мой сын не остановится на том месте, где вынужден буду остановиться я, а пойдет дальше меня и не станет радоваться моей радостью, и сын моего сына поступит точно так же.
— Что такое хозяйственная жилка? По-моему, это великий дар для человека. Если она, эта жилка, есть у председателя колхоза или у директора совхоза, то это как раз то самое, что именуется талантом. У певца — голос, у музыканта — тончайший слух, у художника — особое зрение, у писателя — слово, а у председателя — хозяйственная жилка. Без нее, без этой жилки, нет хозяина — настоящего, рачительного, то есть нет человека, умеющего из одного рубля сделать два, умеющего беречь общественное добро, как свое, кровное, знающего цену времени и деньгам. Хозяйственная жилка — это чувство постоянной тревоги, заботы, беспокойства, неудовлетворенности. Это она, хозяйственная жилка, заставляет просыпаться с петухами и ложиться спать, когда время давно перевалило за полночь. Эх, если бы можно было эту самую жилку обнаруживать с помощью рентгеновских лучей! Тогда не происходили бы ошибки при избрании председателя. Накануне общего собрания, еще задолго до того, как поставить кандидатуру на голосование, просветили бы будущего председателя особыми лучами. Если бы обнаружили в нем эту хозяйственную жилку — пожалуйста, голосуй смело, но, ошибешься, а не обнаружили бы ее — нет, не годится, такого избирать нельзя. Но, к сожалению, этих особых лучей еще не изобрели… За то время, что я работаю в Беловцах, убедился в том, что тот из нас, председателей, кто от природы имеет такую жилку, всегда будет преуспевать в хозяйстве, в росте экономики, в других делах, и наоборот.
— Я уже сравнивал роль, и значение председателя в колхозе с ролью и значением ферзя на шахматной доске. Сила этой фигуры всем известна. Своей необычной маневренностью, своей свободой действий ферзь может делать чудеса. Ему дано право производить бесчисленное количество ходов, и из всех возможных, из всех хороших-ходов он обязан уметь делать ход самый наилучший. Точно так может и обязан поступать председатель. Представьте себе, что другие фигуры начали бы давать ферзю указания, куда и какой ему надо делать ход. К примеру, слон дает свое указание, ладья — свое, конь — свое. Что из этого вышло бы? Ничего хорошего. То же самое происходит и с нашим братом председателем, когда мы живем и действуем не своим умом, а чужими указаниями.
— Можно услышать: это же анархия! Овчарников хочет быть сам себе хозяином! Эдаким царьком в своих Беловцах! Дескать, что хочу, то и ворочу! Верно ли это? Нет, не верно. Так могут рассуждать люди, ничего не смыслящие в той огромной, я сказал бы незаменимой, миссии, которая в колхозе отведена председателю, а в совхозе — директору. И какая же здесь может быть анархия, когда у нас плановое хозяйство, а план для нас — святое слово. И почему «Овчарников хочет быть сам себе хозяином»? Ведь он же, Овчарников, подчинен не только общему собранию, но и правлению, и как коммунист — парткому и райкому. И почему «что хочу, то и ворочу»? Всем же известно, что результаты деятельности председателя измеряются не его заверениями, не его красивыми словами, а центнерами урожая зерновых, выполнением плана продажи продукции животноводства. Тут если и приходится «воротить», то не то, что хочу, а то, что необходимо для подъема хозяйства.
ИЗ РАССКАЗА АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА КАРАЧЕНЦЕВА
— У журналистов, у писателей — мне не раз приходилось это замечать — часто складывается неправильное представление о секретаре райкома. Необходимо помнить: секретарь райкома, не компьютер, не счетно-вычислительная машина, а живой, с кровью и плотью, человек, и он, к сожалению, не все знает и не все может. Встречаются такие дела, что ему они явно не под силу. Эти мои слова относятся и к нашему разговору об Овчарникове-младшем. В чем-то, возможно, самом главном и самом нужном я понимаю Антона Тимофеевича, а потому и соглашаюсь с ним, поддерживаю его. Но в чем-то не понимаю его, не соглашаюсь с ним и какие-то его странности все еще не могу, как и вы, разгадать.
— Андрей Андреевич, вы же дали согласие поставить у въезда в Беловцы эти смешные полосатые будки, — заметил я. — А могли бы не дать. Могли запретить.
— Да, мог бы не согласиться, а согласился, мог бы запретить, но не запретил. Значит, мы, райком, сознательно пошли навстречу желанию Овчарникова, решили дать ему возможность в полную меру проявить инициативу, показать свои организаторские способности и тем самым на деле доказать, что председатель не нуждается ни в постоянной опеке, ни тем более в няньках и что он не только может, а обязан уметь самостоятельно принимать правильные оперативные решения, сам их выполнять и сам нести за них ответственность.
— Ну и как, доказал?
— Да. Прошло всего три года, и колхоз «Путь Ленина» стал лучшим хозяйством во всем Скворцовском районе по всем производственным показателям. Да, пожалуй, и не только в районе. Это — факты немаловажного значения. Что же касается полосатых будок, которые всех удивляют и смешат, вахтеров при них, шлагбаумов на дорогах — то это шелуха, она улетит, исчезнет и забудется, а останется главное — новое в авторитете председателя. Так оно и получается. Представьте себе, если бы все председатели колхозов и директора совхозов обходились, как обходится сейчас Овчарников, без командированных, без комиссий, без поучающих и дающих указания, то сколько бы в одном только Скворцовском районе освободилось специалистов, так нужных нам на полях и в животноводстве. С вами я хочу быть откровенным. Как-то с карандашом в руках — это прошу не записывать — я подсчитал: у нас, в Скворцовском районе, на одного председателя или директора приходится семь чиновников, тех, кто стоит над ними, кто ездит к ним, дает указания, инструктирует, поучает, кто, как принято употреблять нерусское словечко, курирует их. С сожалением приходится говорить: слишком много у председателя и директора этих кураторов. Надо бы их малость поубавить для пользы дела. А то получается, как в известной присказке: один с сошкой, а семеро с ложкой. Мы привыкли к этому и считаем, что так и нужно, что без тех, что с ложками, нам никак не обойтись. Практика же в селе Беловцы показала: можем обойтись, и это принесло бы нам только пользу. Надо сокращать да сокращать управленческий аппарат. Он у нас чрезмерно велик. Излишне велики штатные расписания, слишком много таких людей, кто, никаких материальных ценностей не производит, а потребляет много. И заслуга Овчарникова-младшего как раз и состоит в том, что он не только указал, а и практически доказал, каким путем можно уменьшить число тех, кто с ложкой, кто не производит, а потребляет, и увеличить число тех, кто с сошкой, кто производит материальные ценности. Опыт Овчарникова-младшего говорит нам, что надо из канцелярий смелее перебрасывать специалистов на поля и на фермы.
— Не задумывались ли вы, почему вокруг Овчарникова-младшего возникло столько разного рода толков, судов и пересудов? Даже появились о нем каверзные анекдоты. Кто-то умудрился пустить слушок, будто какой-то ретивый вахтер не разрешил мне проехать в Беловцы, и этот слушок пошел гулять по району. И несмотря на то, что я всюду — на собраниях, в разговорах с людьми — говорил, что это чистейшей воды вымысел, мне все одно не верили. И не верили мне потому, что суть вопроса, если к нему присмотреться, не в том, что Овчарников поставил полосатые будки и организовал падежную охрану села, не пуская в него тех, кому там делать нечего. Главная же суть вопроса состоит в том, что Антон Тимофеевич взял да и нарушил общепринятые нормы, пренебрег установленным порядком, который был еще при жизни его отца, — к этому порядку все привыкли, потому что он всем правился. Был брошен камень в стоячую воду, и от него пошли круги. А лучше сказать, Овчарников-младший не стал повторять своего отца, он смело пошел против течения. Его отец, Тимофей Силыч, шел по течению, был всеми уважаем, его любили, почитали. Сын же повернул против течения и многими стал не уважаем, кое-кто его не только не любит, не почитает, называет анархистом, а и побаивается. Он же не анархист, упаси бог! Он никогда не отрицал руководящей роли района, исполнителен, дисциплинирован. Но своим делом он словно бы учит, как надо и как не надо руководить председателем в его повседневной деятельности. И вопрос этот сегодня поставлен не Овчарниковым, а самой жизнью, только случилось это там, в Беловцах, и с приходом туда Овчарникова-младшего. И хотя жизнь поставила этот вопрос сперва только в Беловцах, а распространился он на весь район. К примеру, есть у нас райсельхозуправление. Всем известно, что оно и существует для того, чтобы руководить колхозами и совхозами. Руководить, но не подменять. Учить, советовать, но не командовать. Овчарников-младший как раз это и доказал практически, и поэтому-то у него появились, не только недруги, но и друзья, подражатели, убежденные последователи. А это означает: со временем, и я в этом уверен, в районе будет не один Овчарников, а много Овчарниковых, и тогда районным организациям, и в первую очередь райсельхозуправлению, придется учиться работать и руководить по-новому, с меньшими силами и качественно. Да, со временем так оно и будет. А пока что Антон Тимофеевич Овчарников все же — белая ворона, и иным районным деятелям он кажется и анархистом, и выскочкой, и чудаком. Он же — ни то, ни другое, ни третье.
— Молодой Овчарников, разумеется, небезгрешен, как и все мы. У него немало недостатков. Он только начал председательствовать, иногда, по молодости и по неопытности, как норовистый скакун, закусывает удила и прет в сторону. Я уже говорил, он не идет ни в какое сравнение со своим отцом в этом отношении. Тимофей Силыч — да будет ему земля пухом! — был мудрым стариком, тем надежным конем, который борозду не испортит. Он одинаково ходил хорошо и в упряжке, и под седлом, и все им были довольны. А вот его сын — этот уже из тех горячих, еще не обученных рысаков, которые умеют и голову заломить, и удила закусить. Разумеется, такой непослушный, такой своенравный рысак мало кого радует. Но зато Овчарников-младший умен, начитан, отлично знает полеводство и животноводство, инициативен, смел, беспокоен. А это, согласитесь, для председателя колхоза уже немало.
11
Друг мой, читатель! Не знаю, приходилось ли тебе в своей жизни останавливаться в обыкновенной сельской гостинице, которая чаще всего именуется Домом для командированных. Мне же как разъездному собкору по долгу службы довелось повидать всякие сельские гостиницы, и поэтому считаю нужным хотя бы вкратце пояснить, что собой представляют эти приюты для странствующих и жаждущих жилья. Как правило, такой дом бывает двухэтажным, кирпичным или блочным, крыша у него шиферная, лестница, ведущая на второй этаж, деревянная, с певучими ступеньками. Комнаты стандартные — на четыре койки. Нет никаких бытовых удобств, даже умывальника, — все это находится либо на первом этаже, либо, на огороде, с тыльной стороны дома. В комнате одно окно, стекла так обласканы пылью, что кажутся матовыми. Однако и каждом доме имеется комната одиночная, маленькая, и с одним оконцем, с теми же немытыми стеклами — это для тех командированных, о которых проявлена особая забота. В Скворцах именно такая комнатушка досталась тоже мне.
Кровати односпальные, низкие, спинки железные, матрацы так поизносились, что жесткие их пружины всю ночь давят тебе в бока, словно какой идол своими острыми локтями. Клопы, разумеется, тоже имеются в избытке — как же без них. Стоит такой дом обычно в центре районного села, фасадом на площадь или на главную улицу. Двор обнесен штакетником, дощатые ворота как были открыты, когда их сюда поставили мастера, так открытыми и остались. Калитка перекосилась, бедняжка, висела на одной петле, напоминая птицу с подбитым крылом.
Всегда меня удивляло не то, что пружины всю ночь толкали тебя в бока, что по житейским надобностям нужно было спускаться на первый этаж или бежать в огород, не удивляло даже и то, что без командировочного удостоверения тебя не пустят сюда и на порог. Странным мне казались гостиничные дворы. И сами дворы и подходы к ним так заросли сочным бурьяном, таким, например, как лебеда, лопухи, овсюг, ковыль, сурепка, молочай, одуванчик, что если ты попадешь сюда весной, то еще издали тебя встречает буйное разнотравье, которое зеленеет и цветет, и тогда двухэтажный дом кажется тебе стоящим как бы на лужайке. Если же дела приведут, тебя в гостиницу осенью, как на этот раз меня, то бурьян во дворе, за лето вымахавший повыше пояса и закрывший собою ворота и калитку, не только уже высох и пожелтел, но и на стеблях и на пожухлых листьях покрылся таким надежным слоем пыли, что ее не в силах смыть даже многодневный проливной дождь.
Утром Дом для командированных напоминает собой пчелиный улей в разгар летнего взятка. Он гудит и шумит, все двери, сколько их ни есть на первом и втором этажах, непрерывно раскрываются и закрываются, на все голоса пища и поскрипывая, издавая звуки, похожие на хлопки в ладошки, — это командированный люд готовится начать свой трудовой день. Из дверей поспешно выходят дюжие мужчины либо еще с полотенцами, спеша умыться, либо уже с портфелями в руке, в пальто и при галстуках, и спускаются деловым шагом по шумной, лестнице. Но вскоре улей стихает, и тогда на весь день воцаряется та необычная, можно сказать, немая и глухая тишина, которую возможно прочувствовать как следует только здесь, и длится она до вечера. С наступлением же темноты Дом для командированных опять наполняется голосами и частыми хлопаньями дверей и затихает только к полуночи. Если тебе повезет, как повезло мне в Скворцах, и окошко твоей комнаты будет смотреть не на площадь и не на главную улицу, где обычно разгуливают грузовики, а в обыкновенный огород, в котором служащие гостиницы сажают для своих продовольственных нужд разного рода овощи — помидоры, лук, огурцы, картошку и капусту, крупные, пахнущие дождем головы которой, когда их везут в тачке домой, всю дорогу издают удивительно приятный капустный хруст, — то в этом случае можно с уверенностью сказать: сила тишины утраивается. В такие ночные минуты житель Дома для командированных, как бы в дополнение к несказанной тишине, получает еще и ни с чем не сравнимые ночные запахи. Вот и сейчас в мое полуоткрытое оконце веяло и застаревшим пряным духом сухой картофельной ботвы, и теми особыми ароматами земли, из которой, наверное, только вчера выкопали великолепные сочные головки репчатого лука и срезали хрустящие даже в руках головы капусты, и уже привычные мне запахи полыни, по-осеннему стойкие и как бы терпкие.
Не один раз я замечал: в сельских гостиницах, особенно в такие тихие ночи, легко и хорошо думается. Мой стол — перед окошком, свет от настольной лампы падает на раскрытую тетрадь. Страница не дописана, и сегодня я уже не примусь за нее. Смотрю в окошко, а там — темень стоит черной стеной. Свежий осенний ветерок качает занавеску, поднимает и опускает недописанную страницу, словно бы играясь с нею, и мне кажется, что моим думам не было начала и уже не будет конца. Все припоминается, нужное и ненужное, радостное и горестное, не забудешь ни о ком и ни о чем. Память в такую ночь проворная, она, как на крыльях, легко уносила меня от Овчарникова-младшего к Андрею Сероштану, а от Андрея Сероштана — к сестренке Таисии, от Таисии — к Катюше, а потом к Силантию Егоровичу Горобцу с его старым, с облезлой спиной, Монахом и со щенком Оторвиголовой. Закрывая глаза и как бы впитывая в себя тишину, я видел то Анисима Ивановича, злющего, нелюдимого, слышал, как он пел свою песенку, завывая по-волчьему, то вставал передо мною стригальный лагерь, лежащие на столах бараны, слышалось шмелиное пение ножниц в руках стригалей, отваливалось на стол руно, и стояла она, Ефимия, в комбинезоне и с ячменными завиточками на висках. Или я находился в землянке у бабуси, лежал на койке в своей комнате и ловил глухие, чуть слышные за перегородкой шаги и снова видел Ефимию. Или был на похоронах бабуси. Полная хата молчаливых, опечаленных людей. Под окном крикливые трубы, слепящий блеск меди от солнца. В гробу — иссохшее личико старухи с хитро прищуренным левым глазом, и снова передо мной стояла она, Ефимия, и не одна, а с мужем. И слышу: «Михаил! Поздравь меня и Александра с рождением н а ш е й дочери. Назвали-то мы ее Прасковьей, Пашей, в честь твоей бабушки». — «Где же вы живете?» — «На хуторе Кынкыз. Есть такой хуторок в степи».
Так вот он, вопрос из всех вопросов: где же находится этот Кынкыз? Тогда я не спросил у Ефимии. Как же теперь отыскать его, чтобы еще раз и, как знать, может быть, в последний повидаться с Ефимией? После того когда на похоронах бабушки я увидел Ефимию и от нее узнал, что она родила, все время тревожила меня догадка: а не моя ли это дочь? Я брал карандаш, записывал даты, сравнивал, подсчитывал. По всем моим расчетам получалось: да, моя дочь. И, надо полагать, Ефимия не случайно как-то по-особенному произнесла слова «наша дочь», как бы самой интонацией своего голоса желала дать мне понять, что ребенок не ее и Александра, а н а ш, то есть ее и мой. Я так и понял ее слова, и потому мысль эта не давала мне покоя.
Задумавшись, я сказал себе: обязательно отыщу Ефимию, обязательно увижу маленькую Пашу. А зачем? Просто так, чтобы убедиться, что являюсь отцом этого ребенка. Ну и что? Узнаешь, убедишься — и что дальше? Найду дорогу в Кынкыз, увижу Ефимию, узнаю, что Паша — моя дочь, может быть, сама Ефимия не станет скрывать и скажет мне правду. А что потом? В эту минуту я не знал, да, признаться, и не желал знать, что будет потом и что дальше. Меня так тянуло на этот Кынкыз, который, как мне удалось узнать, по-русски означает: «солнечная девушка», мне так хотелось увидеть Ефимию и трехлетнюю Пашу, что не поехать к ним я не мог. Да к тому же именно сейчас выпал удобный случай, второго такого не будет. У меня есть машина и есть Олег, отличный знаток дорог и проселков, вдоль и поперек пересекший все Ставрополье, — такой водитель непременно довезет до Кынкыза. Мне бы только посмотреть в глаза Ефимии и Паше, и по одному их взгляду я узнал бы, чья это девочка — моя или Александра. Мне почему-то казалось, что Кынкыз стоит где-то на краю земли и что когда я отыщу его, то там, на хуторе «солнечной девушки», в моей жизни образуется какая-то новая черта или граница…
Но где же он, Кынкыз? В каком приволье затерялся? Как к нему добраться? У кого я ни спрашивал, никто такого хутора не знал. Возможно, Кынкыза вообще не существует на земле? Возможно, Кынкыз — это фантазия Ефимии? Все одно, есть Кынкыз на земле или его нет, а Ефимию надо отыскать непременно. Она-то где-то живет, она-то не фантазия, а реальность. Допустим, нет хутора Кынкыза, но есть же Ефимия. Но как ее отыскать? Я же ничего о ней не знаю: где, в каком районе она живет с мужем? Не знаю даже фамилии Александра, ее мужа.
Кто-то осторожно постучал в дверь. Это был Олег. Лицо у него помятое, заспанное, глаза скучные, припухшие. Он подсел к столу, посмотрел на меня и сказал:
— У тебя дверь плохо прикрыта. Смотрю — сочится полоска света. Чего это, думаю, ему не спится?
— Сам-то бодрствуешь?
— Эх, беда! — Он махнул рукой и тяжело вздохнул. — То ж я, а не ты. Я уже одурел от сна. Там, в Беловцах, пока ты беседовал с Овчарниковым, сколько я проспал, теперь еще и тут дрыхаю. Я же уснул днем, когда ты отправился к Караченцеву. Сколько ты пробыл у Караченцева? Когда от него вернулся — не знаю. Все спал, и как спал! Как мертвый, честное слово! С трудом проснулся, гляжу — темно. Зажег свет, посмотрел на часы — половила второго ночи. Вот и хожу зараз как очумелый, аж заболел от пересыпания. Голова разваливается, в висках стучит, как с похмелья. Очень противно на душе, когда переспишь. Выходит, организм человека ничего лишнего не принимает — ни еды, ни пития, ни дажеть сна. Все лишнее ему вредно. За что я не люблю свое шоферство? Вот за то самое, что приходится спать до одурения. Вожу по селам какого-нибудь командировочного, вот как зараз тебя. Он, как и ты, занимается своим делом, встречается, беседует с людьми, а я ставлю «газик» под дерево в холодке, ложусь на заднее сиденье и задаю храпака в обе ноздри. Через такое пересыпание сам себе становлюсь противным. Миша, может, поедем? Ночью-то хорошо ехать. Махнем, а?
— Куда же ехать?
— Да куда-нибудь. Что, разве мало дорог?
— Поедем завтра.
— Что же мне делать до завтра?
— Иди ложись и спи.
— Отоспался я, по самое некуда. Под, самую завязку.
— Олег, опять хочу просить тебя об одном важном одолжении.
— Я готов. Что надо изделать?
Я поближе подсел к Олегу, положил ему руку на плечо.
— Снова моя речь о хуторе Кынкыз. Завтра нам надо побывать на этом хуторе. Сможем?
— Почему не сможем? Сможем, — тем же сонным, с хрипотцой, голосом ответил Олег. — Только где же таковский хуторок находится?
— В том-то и вся штука, что я не знаю, где. И ты мне помоги. В этом суть моей к тебе просьбы.
— Кынкыз? — Олег задумался, пожевал губами. — Я уже говорил, что такого чудно́го названия и не слыхал. Как же его отыскать? Надо подумать, поразмыслить.
— У меня есть такое предложение. Утром я пойду к Суходреву. Надо проведать Артема Ивановича. Ты же в это время сходи в исполком. Там наверняка знают, где находится Кынкыз. Обязаны знать.
— Верно, обязаны, — согласился Олег. — А ежели не знают? Ежели, допустим, Кынкыз находится не в ихнем районе?
— Тогда попроси у них карту края и сам хорошенько ее посмотри.
— Михаил, а нельзя нам не ехать в тот Кынкыз? — спросил Олег, ладонями растирая заспанное лицо. — Ить по самому названию видно, что хуторок-то паршивый. Чего ради туда ехать?
— Пойми, Олег, мне непременно надо побывать в Кынкызе.
— Задание редакции?
— Нет, не задание. Надо, и все. По личному делу.
— И что ты там позабыл, на том Кынкызе? Удивляюсь.
— Тянет меня туда какая-то сила.
— Что же это за сила такая? И совладать с нею нельзя?
— Не могу. Послушай, Олег, ты веришь в предчувствия?
— В такие штуковины не верю. А что?
— А вот я верю. Мне кажется, я словно бы предчувствую, что там, в Кынкызе, меня что-то ждет, и не побывать там я не могу. А что ждет? Я не знаю. Прошу тебя: пока я буду у Суходрева, разузнай адрес этого хутора. Может, он где-то рядом.
— Разузнать-то все можно, почему же нельзя разузнать, — тем же сонным, невеселым голосом говорил Олег, вставая и собираясь уходить. — Могу дажеть без исполкома и без карты. Я уже сказал: лучше шоферов, каковые работают на грузовиках, никто не знает местные поселения. Шоферня, известно, народец бывалый, знающий. Им все дороги, и все населенные пункты известны. Только вот смущает меня название. Что оно такое — Кынкыз? Да и через почему тебе туда надо ехать?
— Надо, надо, — быстро ответил я. — Обязательно.
— Ну так считай, что завтра мы будем в Кынкызе. — Олег приоткрыл дверь. — Пойду, буду до утра звезды считать. О сне и думать противно. Значит, Кынкыз? Непонятное название. Но завтра мы влетим в тот Кынкыз на четвертой скорости.
И Олег ушел.
12
Мне приходилось замечать, что в жизни случается, и нередко, так: ты с душевным волнением идешь к человеку, которого уважаешь, считаешь своим другом, в твоей голове уже строится будущая беседа с ним, дружеская, сердечная. Однако встретишься с другом — и невольно пожалеешь о своем приходе к нему и скажешь самому себе: нет, не надо было сюда приходить. К сожалению, так мне пришлось подумать, когда я заявился к Суходреву.
Как и ожидал, я застал его в Доме просвещения. Стены большой квадратной светлой комнаты от потолка и до пола были заставлены книгами. На столе, за которым сидел Суходрев, книги лежали пачками и, что называется, навалом. Книги были и на диване, и на стульях, так что я не знал, где и присесть. Я поздоровался с бывшим директором совхоза «Привольный», пристально посмотрел на него, пожимая слабую кисть руки, и, признаться, не узнал его. Он тоже смотрел на меня так, словно бы видел впервые, и наша встреча после трех лет разлуки, судя по нашим невеселым лицам, не только не принесла нам радости, а показалась и мне и ему странной и ненужной прежде всего потому, что передо мной был совершенно другой Суходрев. Он заметно изменился внешне: пополнел, раздобрел, отпустил рыжеватую бороденку, под эдакого театрального народовольца, отчего лицо его стало продолговатым. Костюм на нем был темно-коричневый, с черными, до локтей, нарукавниками, заметно потертыми о стол, особенно поближе к запястью. Но он изменился также и внутренне, и это удивило меня больше всего. Это уже был не тот весельчак, энергичный, деятельный директор «Привольного», которого я знал и которого любил. Ни в его карих глазах, ни в окаймленном бородкой лице не появлялась знакомая мне умная и хитроватая улыбочка. Народовольческая бороденка придавала ему вид до смешного строгий и серьезный. Говорил он мало, скупыми короткими фразами, почему-то любил повторять: «Не улавливаю вопроса». Разговаривая, он не переставал листать книгу, как бы желая отыскать в ней какую-то очень ему нужную именно сейчас цитату, и отыскать ее никак не мог.
Мой приход нисколько не удивил и не обрадовал Суходрева. Увидев меня, он только на какое-то время оторвался от книги, а задумчивые его глаза как бы говорили: «Пришел? Ну, зачем пожаловал так некстати, когда у меня столько дел и когда мне надо перелистать еще не одну книгу?» Он пригласил меня сесть, не из любезности, а так, из учтивости, при этом не спросив, почему я оказался в Скворцах, где остановился, когда приехал и куда собираюсь уезжать. Чтобы присесть, мне пришлось убрать со стула какие-то старые, пахнущие пылью книги, положив их на стол. Я понимал, что нельзя же сидеть молча, надо было что-то говорить, и я спросил, хорошо ли ему работается на новом месте? Доволен ли он своей работой здесь, в Доме просвещения? Не переставая листать какой-то объемистый томик и не глядя на меня, он ответил:
— Не улавливаю вопроса.
— Помнишь, Андрей Андреевич Караченцев говорил, — напомнил я, — что хозяйственная деятельность — не твоя стезя, а вот здесь, на ниве просвещения…
Он не дослушал меня и сказал:
— Да, Андрей Андреевич был совершенно прав. Он никогда не ошибается.
— Значит, ты доволен своей новой работой?
— Моя задача — строго исполнять возложенные на меня обязанности.
— Чем же ты теперь занят?
— Не улавливаю вопроса.
— Ну, какова твоя повседневная деятельность?
— Вот она, вокруг меня, моя деятельность. — Он глазами указал на высокие стеллажи, забитые книгами, и привычным движением слабых пальцев погладил бородку. — Здесь еще не вся моя деятельность. Дома у меня столько же томов, если не больше. Так что работенки хватает. Ведь у нас стопроцентный охват. Через час открывается семинар пропагандистов с моим докладом. Тема: «Доходчиво изложенная мысль как стимул усвояемости».
— Какие у тебя личные планы?
— Не улавливаю вопроса.
— Помню, там, в Привольном, ты писал статью о Ленине, — пришлось мне напомнить. — Хотелось бы знать…
— Хотелось бы знать для чего? — перебил он. — Для печати? Тогда молчу, молчу.
— Зачем же для печати? Просто мне интересно…
— Просто интересно не бывает, мысль не рождается сама по себе, она вызвана обстоятельствами, часто от нас не зависящими, — авторитетно заявил он, потрогав пальцами свою народовольческую бороденку. — Но если действительно не для печати, а лично для тебя, тогда изволь. Могу ответить на твой вопрос, только прошу спрятать: тетрадь. Не надо записывать. — Он долго листал книгу, наверное, отыскивал нужную ему цитату. — Так вот что произошло. Моя статья о Ленине переросла в большую работу, которую я назвал «Вопросы ленинизма и вопросы жизни». Надобно смело и полным голосом, что я и делаю, заявить о вопросах жизни, которые возникают всюду и каждодневно и, если говорить образно, насквозь просвечены лучами ленинизма. Вот вкратце мой главный тезис.
Наступило неловкое молчание. Желая как-то нарушить его, я стал рассказывать о Привольном, надеясь воскресить в Суходреве какие-то приятные для него воспоминания. Сказал я и о том, что встречался с Андреем Сероштаном, и, как бы между прочим, упомянул о тех переменах, которые произошли в совхозе: секретарша давно сидит перед директорским кабинетом, на амбарных дверях в шестом отделении замки висят на своем месте, а столовая имеет кассиршу. Артем Иванович молчал, казалось, он не слушал меня, думая о чем-то своем. Я спросил:
— Артем Иванович, как считаешь, надо ли было Сероштану так поспешно возвращаться к старому?
— Не улавливаю вопроса, — последовал ответ.
— Я говорю, может быть, Сероштану следовало повременить, может быть, он в чем-то поторопился? Как ты полагаешь?
— Индивидуум — это индивидуум, — авторитетно заявил Суходрев, оторвавшись от книги и посмотрев на меня строгими умными глазами. — Особь, отдельная личность. В данном случае действует высшая субстанция как первооснова всех идей, и мысль индивидуума…
Неожиданно Суходрев умолк, зажал в кулаке бороденку, словно бы хотел что-то вспомнить, затем начал старательно перелистывать книгу, как бы желая во что бы то ни стало найти там и «высшую, субстанцию» и «мысль индивидуума». Тут я уже окончательно понял: нужный разговор у нас не склеится. Чтобы не сидеть молча, я спросил, не знает ли он, где находится хутор Кынкыз, и услышал тот же ответ:
— Не улавливаю…
— Где-то есть хутор с таким, несколько странным, названием — Кынкыз, — повторил я. — Мне необходимо там побывать, но адреса я не знаю. Может, ты знаешь?
— В списках тех сел и хуторов Скворцовского района, которые нами охвачены политпросвещением, хутор Кынкыз не значится, — охотно и уверенно ответил Суходрев. — Это точно. Да, не значится.
Тут он, забыв обо мне и о существовании Кынкыза, взял с полки несколько книг, сунул их в портфель, взглянул на свои ручные часы, говоря:
— Пора! Прошу прощения, меня ждут на семинаре.
И мы расстались.
В гостиницу я вернулся в плохом, подавленном настроении. Теперь мне уже ничего более не оставалось, как дождаться Олега и уехать из Скворцов в поисках хутора Кынкыз. Я сидел перед окном, видел пустой, давно убранный, скучный огород, залитый низкими лучами нежаркого осеннего солнца. Всюду валялась картофельная ботва, сухая, землянисто-серая, липли к земле блеклые, похожие на мокрую бумагу листья лука. Я видел убранный огород, а мысль моя не могла оторваться от Суходрева. До боли в сердце он огорчил меня, и не столько своей внешностью, смешной народовольческой бородкой, сколько теми внутренними переменами, причины которых я не мог ни понять, ни объяснить. Повторение «не улавливаю вопроса», старательное перелистывание книги — к чему все это? В нем жила какая-то странная отрешенность от всего реального, что находилось за книжными стеллажами и за стенами его большой комнаты. И то, что он много лет пишет книгу «Вопросы ленинизма и вопросы жизни» и, как он говорит, полемизирует со Сталиным, а сам боится, чтобы я, чего доброго, не написал бы об этом в газете, — то и удивляло меня и казалось мне странным и непонятным.
Не переставая смотреть на освещенный солнцем пустой огород, я с горечью подумал о том, как же мне быть с Суходревом? По моему замыслу в сюжете «Запаха полыни» Артем Иванович Суходрев уже прочно занял подобающее ему место, и именно тот Суходрев, каким он был в Привольном. До сегодняшней встречи с Суходревом я был спокоен и никак не мыслил себе «Запах полыни» без Суходрева, пусть даже и под другой, вымышленной фамилией. И вдруг такое огорчение. Обидно было, что не стало того, знакомого мне, реального Артема Ивановича Суходрева, а вместо него появился какой-то странный однофамилец, совсем другой Суходрев, человек не реальный, не земной, а какой-то книжный, что ли. И если я опишу этих совершенно разных однофамильцев как одно и то же лицо, то кто же мне поверит? А без Суходрева «Запах полыни» у меня не получится. Что же делать? Как поступить? И я подумал: может быть, это и есть как раз тот случай, когда мне необходимо принять совет Никифора Петровича и выдумать другого Суходрева, не того книжного, которого я увидел сегодня и не узнал. Мне необходимо было описать Суходрева не таким, каким он стал за эти три года, а таким, каким бы мне хотелось видеть его здесь, в Доме просвещения, и таким, каким он был в Привольном.
И я надолго задумался. Ведь можно же, допустим, описать нашу встречу в Доме просвещения совсем не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой мне хотелось бы? Безусловно, можно. В комнате мы были одни, свидетелей у нас не было, да если бы и были, то кто стал бы проверять, устанавливать истину. Никто этого делать не станет. К примеру: была встреча, но не было ни смешной бородки, ни старательного перелистывания книги, ни слов «не улавливаю вопроса», ни разговора о том, что Суходрев полемизирует со Сталиным, ни, тем более, его желания скрыть от печати свою работу о Ленине. Или: я мог бы увидеть Суходрева и здесь, в этом царстве книг, все таким же земным, реальным, энергичным, смелым новатором, и в его лукавых глазах все так же блестела бы хитроватая усмешка. Да, так написать можно. Но это было бы отступление от правды. Тут на меня навалились вопросы — один потруднее другого. Что важнее и что нужнее? Голая реальность или обобщенный вымысел, похожий на реальность? Чистая, нигде и ни в чем не измененная правда или тот авторский домысел, который в искусстве бывает сильнее и убедительнее ни в чем не измененной чистенькой правды? Натурализм в его чистейшем виде, то есть только то, что было, существовало, и ничего больше? Или обобщенный взгляд художника? Только то, что есть, что мы видим, ощупываем руками, или свое, авторское видение мира? Только факты и факты или свое, авторское отношение к фактам жизни?
Вопросов было много, я так в них запутался, желая отыскать нужные для себя ответы, что не услышал, как в комнату вошел Олег. Лицо у него было грустное, и я сразу понял: дорогу в Кынкыз он не разузнал? Он присел на стул, опустил голову и сказал:
— Наверное, сам черт знает, где находится тот Кынкыз.
— В исполкоме тоже не знают? — спросил я.
— Дажеть удивились, когда я спросил про Кынкыз. Не слыхали про такой хутор.
— Карту смотрел?
— А то как же. — Олег ниже опустил голову. — И карту всего края осматривал, и с шоферами разговаривал. На карте такой хутор не значится. Разные хутора имеются, а Кынкыза нету.
— Что говорят шофера?
— Разное, а в общем и целом — ничего определенного, — ответил Олег, все еще не поднимая голову. — Шофера считают, что Кынкыз — название татарское.
— Это и без них известно.
— Ну так вот, они советуют искать Кынкыз в тех районах, каковые находятся поближе к Калмыкии. — Олег посмотрел на меня тоскливо, виноватыми глазами. — Так как? Покатим к калмыкам?
Я согласился. Мы быстро собрались, оставили Скворцы и выехали на главный Ставропольский тракт, который уходил к Апанасенковскому и далее — на Элисту.
Мы все же не теряли надежду где-нибудь отыскать злосчастный Кынкыз.
13
Убегал лоснящийся кушак асфальта, а по обе его стороны — степь и степь в своем неярком осеннем наряде. Я знал, что мы будем проезжать Привольный, и все одно как же я обрадовался, когда вдруг у въезда в хутор увидел стоявшую на кургане чабанскую мамку с ярлыгой на плече. Я попросил Олега замедлить бег «газика». Мы тихонько проезжали мимо кургана, и мне казалось, будто моя бабуся повернулась к нам и, как бы приветствуя нас, чуточку приподняла чабанский посох и сказала:
«Мишуха, ты шо, опять едешь в Привольный в гости?»
«Нет, бабуся, я еду теперь далеко, ищу в степи хутор Кынкыз».
«А на шо вин тоби понадобился, тот Кынкыз?»
«В нем живет Ефимия, а у Ефимии есть дочка Паша. Хочу ее повидать».
«Ну, счастливого тебе, внучок, пути».
«Прощайте, бабуся, прощайте…»
— Миша, ты что бубнишь? — спросил Олег. — Или молитву читаешь?
— Так, думаю вслух, — ответил я, а сам подумал, что уже не увижу больше ни этого кургана, ни стоящей на нем женщины, так похожей на мою бабушку Пашу и на статую на Пискаревском кладбище. — Ну, теперь поехали быстрее.
Олег только этого и ждал. Он так пронесся по хутору, что лишь крылечки с крашеными ступеньками мелькали по бокам да убегали назад тополя с пожелтевшими снизу листьями. Давно не стало ни кургана со стоявшей на нем чабанской мамкой, ни Привольного. Открылась такая даль, что, куда ни посмотри, — простор и простор бил в очи, и, казалось, не было ему ни начала, ни конца. Навстречу нам надвигалась только что взошедшая озимь — озаренная солнцем, она поднималась к небу зеленым нежным полотнищем. Затем озимь сменила пахота, она убегала во все стороны, свежая, только что взрыхленная плугом и расчесанная бороной. Побывавшая под лемехом земля блестела черным глянцем, над ней, отыскивая добычу, то садясь, то взлетая, низко кружилось воронье. Там и тут встречались села и хутора, чем-то похожие и чем-то не похожие на Привольный и на Богомольное, — с теми же землянками, заросшими травой, с теми же живописными крылечками, с теми же подпиравшими небо тополями и с теми же постройками близ села или близ хутора было нетрудно даже отсюда, с дороги, узнать, где стоял комплекс овцеводческий, где молочный, а где — птицеводческий. Я провожал взглядом незнакомые мне поселения и думал: может быть, где-то здесь, среди этих степных селений, и приютился хутор Кынкыз и мы, не зная об этом, промчимся мимо него? Тогда я попросил Олега останавливаться в каждом селе или хуторе и спрашивать у жителей о хуторе Кынкыз. Как на беду, никто такого хутора не знал.
Мы въехали в какое-то большое село и остановились возле двора. Окликнули молодуху. Она несла на коромысле полные ведра, статная, сильная, и шла так легко, словно бы хотела показать нам, что два ведра с водой для нее — не тяжесть.
— Красотка, а скажи, как нам проехать в хутор Кынкыз? — вежливо спросил Олег. — Говорят, он тут, где-то
близко.
— Про такой хутор, красавец, я и не слыхала, — игриво улыбаясь, ответила молодуха, поведя сильным плечом, показывая нам, как легко и просто она умеет это делать. — Ни, тут не ищите, у нас Кынкыза не найдете. — Она усмехнулась: — Да и прозвище у того хутора якесь смешное.
В том же селе Олег повернул ко второму двору. К нам за ворота вышел совершенно белый, без шапки, дед, молча выслушал Олега, глядя на него подслеповатыми, мокрыми глазами, и сказал:
— Вам, хлопцы, не туда надо держать путь. Надобно поворачивать и двигаться в обратную сторону.
— Это куда же, дедусь? — спросил Олег. — В какую же сторону?
— Аж до Куршавы и до Нагута, — ответил старик. — Могло быть, там такой хуторок и отыщется.
— Почему же вы так думаете, дедусь? — снова спросил Олег. — Да и зачем нам поворачивать обратно и ехать до Куршавы и до Нагута?
— Давно это было, еще в детячестве, я проживал с матерью в Нагуте, и зараз шось похожее на Кынкыз припоминаю… Вроде б там, возле Куршавы или возле Нагута, был такой хуторок. Смутно помню, стар я уже стал. А у нас во всей округе Кынкыза не було и нема.
Мы не повернули обратно и не поехали в Куршаву и Нагуты.
— Дедусь из ума выжил, что он помнит, — сказал Олег. — Надо нам ехать прямо, поближе к калмыкам.
И мы поехали дальше. Поперек поля вытянулись лесные полосы, издали похожие на темно-рыжие, плохо причесанные чубы. Солнце клонилось к закату и насквозь просвечивало эти чубы. От нашего «газика» по шоссе неслась, подпрыгивая, острым углом вытянутая тень. Потому, как Олег сурово, не отрываясь, смотрел на дорогу и на убегавшую тень, молчал и посапывал, я понял, что мой водитель был не в духе, по этой причине и разговаривать ему не хотелось. Я тоже молчал. Так мы проехали лесную полосу — это была рослая степная акация гледичия с острыми коричневыми иглами и коричневыми серьгами-стручками. Вперемежку с гледичией росли молодые, стройные дубки с еще не опавшими, но уже сухими желтыми листьями и дикие абрикосы с голыми ветками — ни плодов на них, ни листьев. Проехали мост. Он лежал через неширокий канал, вода по которому текла спокойно — видимо, тут, в степи, на равнине, торопиться ей было некуда. И только когда «газик» с выключенной скоростью легким накатом побежал вниз, в отлогую ложбину, Олег взглянул на меня, невесело улыбнулся и, словно все еще продолжая думать, сказал:
— По-моему, так: ежели ничего не знаешь — так и не советуй. Как поступила та красавица с ведрами? Ее спросили, а она честно ответила: не знаю, не слыхала. И правильно сделала. Умная женщина, не стала голову нам морочить. А какую ахинею понес тот белый дедусь? Вы не туда едете, вы не туда едете! Заворачивайте обратно, поезжайте до Куршавы и до Нагута! Смешно! Ить он куда советовал нам двигаться? Не вперед, а в обратную сторону! До Куршавы и Нагута. Ежели хочешь знать, то Куршавы, как таковой, вообще не существует, а имеется село Курсавка. Старик все давно перепутал, перезабыл, а тоже лезет с советами. Видишь ли, он там жил еще в детячестве, а теперь, на старости годов, что-то смутно припоминает. Да ежели бы мы поверили деду, этим его смутным воспоминаниям и рванули бы на Куршаву и на Нагут, то, ручаюсь, и за месяц никакого Кынкыза не нашли бы. Это точно! А зараз мы едем правильно, к нужной цели, и мое сердце уже чует — обязательно найдем Кынкыз. Так что, Миша, не журись, от нас Кынкыз нигде не укроется. Непременно отыщем, поверь моему слову!
— Отыщем — хорошо, а не отыщем — ну что ж, так тому и быть, — сказал я. — И меня не успокаивай. Я спокоен.
— Да я и не успокаиваю, а делаю верный прогноз, — авторитетно заявил Олег, перед пригорком включая скорость. — И так как дело приближается к ночи, а в темноте, сам понимаешь, искать хутор плохо — можно пролететь мимо, то мы давай сделаем так. В каком-либо селе, какое первым попадется на пути, остановимся на ночевку. Надо же нам и отдохнуть как следует, и не мешало бы подзакусить. И пока ты будешь спать, я похожу по хатам и хорошенько поразузнаю. Выть того не может, чтобы ни одна живая душа не знала, где ж находится тот Кынкыз. Нет, от нас он не скроется, все одно найдем, не сегодня, так завтра. Согласен со мной?
Я кивнул, согласился. Тем временем солнце опустилось в отлогую балку и там, на прощанье заполыхав пожаром, скрылось. Сперва на поля серым войлоком поползли сумерки, потом улеглась и черная, глаз выколи, южная ночь. Мы проехали в темноте еще километров десять и издали увидели огни. Вскоре наш «газик» вкатился в большое освещенное фонарями село, асфальт, поблескивая на свету, лег по главной улице. Олег увидел шедшего по тротуару мужчину, повернул к нему и остановился, спросив:
— Уважаемый, какое это село?
— Медведовка.
— Дом для приезжих у вас имеется?
— А то как же, имеется, — ответил мужчина. — Поезжайте в центр. Там найдете.
— Далеко до центра? — поинтересовался Олег.
— Порядочно.
Когда мужчина ушел, Олег повернулся ко мне и сказал:
— Миша, мы не поедем в центр. На кой ляд нам нужен тот Дом для приезжих? Переночуем у кого-нибудь из сельчан. У людей ночевать лучше, нежели в том Доме для приезжих. Зараз подверну ко двору и быстренько отыщу хату для ночлега. Ты согласен с моим предложением?
Я согласился.
На ночлег мы остановились в небольшом, недавно построенном домишке, стоявшем во дворе на высоком каменном фундаменте. Мы поднялись по скрипевшим под ногами новым деревянным ступенькам и вошли в застекленную, хорошо освещенную веранду. Как мне удалось узнать позже, хозяином этого домика был Николай Клычков, сельский механизатор — тракторист и комбайнер. Его жена Нюра, миловидная, статная, с красивыми тонкими бровями, работала птичницей на комплексе. Была у них дочка Валя, лет пяти, все время с любопытством смотревшая то на Олега, то на меня. Узнал я и о том, что молодая семья отделилась от родителей недавно, весной.
— Смостили, как скворцы, свое гнездо, и не абы какое, а на городской манер, — похвалился Николай, тряхнув русым, мягко валившимся на глаза чубом. — Отопление, как видите, центральное. Сам конструировал, сам монтировал трубы, батареи, сам ставил котелок. Удобная получилась штуковина! Тепло, ни чаду, ни дыму. Имеем газ, водопровод и все прочие жизненные удобства, не хуже городских. Дажеть теплый нужник имеем, все как полагается.
— Коля, и зачем ты про то, — покраснев, сказала Нюра. — Про то можно и помолчать.
— А чего молчать? Правда есть правда, и молчать тут нечего, — весело улыбаясь, ответил Николай. — Всем известно, какие нужники были да еще и имеются на селе. У кого будка стоит на огороде, а кто бегает прямо за хату. А у нас по-городскому. А почему? Да потому, что мы с Нюрой имеем не ту, вросшую в землю, хатыну, каковых в Медведовке осталось еще немало, а настоящий дом. В нем жить да радоваться.
— Да и таких домишков, как у нас, в Медведовке уже развелось порядочно, — добавила Нюра, еще больше покраснев. — Так что мы с Колей в этом деле не являемся зачинщиками. У наших соседей, у Завгородних, так у них и горячая, как кипяток, вода в кране.
— И у нас будет горячая вода, — уверенно сказал Николай. — Дай, Нюра, срок. С трубами у нас плоховато. Вот как достану трубы, так и пойдет у нас горячая вода.
— Валюша, тебе пора спать, а то не выспишься, а тебе рано в детский сад надо. — Нюра обняла дочку. — Вишь, как пялит глазенки на чужих людей! Любознательная растет у нас дочка. Ну, пойдем, Валюша. — Нюра отвела дочь в соседнюю комнату, вскоре вернулась, открыла дверь в другую комнату. — Вот тут постелю вам обоим.
— Хозяюшка, обо мне не беспокойтесь, — поспешил сказать Олег. — Я люблю спать в машине. Привычка.
— Возьми хоть одеяло и подушку, — посоветовала Нюра. — Зори-то у нас уже холодные.
— Ну, подушку и одеяло — можно, — согласился Олег. — А эта комнатушка как раз для Михаила Анатольевича.
Наши хозяева оказались людьми такими добрыми, приветливыми и гостеприимными, что даже пригласили нас ужинать. Мы не отказались. За ужином речь зашла о заработке молодой, только что свившей себе гнездо семьи, и Николай сказал:
— На заработок не жалуемся. Мы с Нюрой получаем не вообще, а за результат нашего труда. Она — от продажи птицы, я — от урожая. Зарабатываем хорошо. Но вот что у нас плохо: деньги имеем, а потратить их как следует, с пользой, негде. Мало у нас в селе нужных товаров.
Затем Николай спросил, кто мы, откуда и куда держим путь. Мы рассказали о себе, и, естественно, я тут же спросил о Кынкызе. Николай и Нюра удивленно переглянулись, пожали плечами и почти в один голос ответили:
— Даже не слыхали.
— Может, тот хутор находится в каком другом районе?
— У нас же таких хуторов нету, — уверенно заявил Николай, снова тряхнув чубом. — Ручаюсь.
Ну, что поделаешь? Человек говорит уверенно, ручается. Придется коротать ночь, а утром ехать дальше.
В отведенной для меня комнате стояли низкая односпальная кровать, стол с лампой, небольшой диван. Я присел к столу, зажег свет и раскрыл тетрадь, радуясь тому, что и здесь, ночью, смогу сделать хоть какие-то нужные мне записи. Вошел Олег, молча положил на стол деньги, которые я давал ему, чтобы он расплатился за ночлег и за ужин.
— До чего же удивительные и непонятные люди, — сказал он, понизив голос до шепота. — Наотрез отказались от денег. Не взяли. Ни за что. Хозяйка повела своими тонкими бровями и дажеть обиделась на меня. «Вы где живете, молодой человек? Вы за кого нас принимаете, молодой человек? Надо же совесть иметь. Мы к вам с открытой душой, а вы к нам с деньгами. Стыдно». Ну и пошла, ну и пошла напевать. Да с такой обидой, что аж слезы показались. А что тут обидного? Деньги на то и деньги, чтоб ими рассчитываться. Как же иначе? Хозяин тоже надулся, стал поучать, читать мораль. Мы же, дескать, люди свои, сказать советские, сознательные, живем без капитализма, и все такое прочее, и зачем же, дескать, нам к самим себе примешивать рубли? Послушаешь — лекция, да и только! Так что, Миша, поужинали и переночуем мы бесплатна, можно сказать, нашармака, — усмехнувшись, добавил он. — Ну, побегу по соседям. Порасспрошу у знающих людей насчет дороги на Кынкыз. И где он запропастился, тот Кынкыз? И как нам его разыскать?
В дверях Олег встретился с Нюрой, покосился на нее и торопливо ушел.
— Разберу для вас постель, — сказала Нюра, подойдя к кровати и снимая покрывало. — Можете ложиться отдыхать. Ежели хотите перед сном умыться или зубы почистить, то умывальник тут, рядом.
— Спасибо, — сказал я. — Умоюсь позже, когда буду ложиться спать. Хочу посидеть у стола, пописать.
— Ну, посидите, попишите. Тут удобно. А окошко мы сделаем так, как полагается. — Нюра раскрыла окно. — Пусть идет свежий воздух, а то зараз в комнате душновато. Сторона солнечная, за день сильно нагрелась. А когда пожелаете — закроете. Можете спокойно писать. У нас тут тихо. За окном — садик, зараз его не видно. Совсем еще молоденький, только в прошлом году посадили. Все у нас молодое и новое, как и сами мы, хозяева, — добавила она, покраснев. — И еще хотела сказать: насчет платы. Скажите своему шоферу, что зазря он давал деньги. Нехорошо поступил, обидел и Колю и меня. Коля сильно переживает. Я, конечно, понимаю, шофер — парень молодой, в настоящей жизни, видать, ничего не смыслит, вот и сунулся с деньгами… Так вы ему скажите.
— Ладно, скажу, — пообещал я.
— Вот и хорошо. Ну, спокойной вам ночи.
И Нюра ушла.
14
И снова точно так же, как и в Скворцах: ночь и в комнате я один. Та же черная стена вставала за окном. Тот же ночной покой улегся на всем селе. Только здесь, в Медведовке, ночное безмолвье как бы ломало, разрывало монотонное, непрерывное собачье тявканье. «Тяв-тяв» — и снова тихо. «Тяв-тяв» — и снова тишина. Я невольно прислушивался к одинокому, тоненькому собачьему голоску, смотрел на раскрытую тетрадь и не знал, что же в нее записать. И чем дольше смотрел в тетрадь и прислушивался к этому тявканью, не зная, где находилась собачонка и что ее так тревожило, тем отчетливее понимал, что звенящий, рвущийся из темноты звук не только ломал тишину ночи, а и мешал мне думать.
Думал же я все о том же, о своем: в каком порядке встанут главы и как на бумаге уляжется сюжет уже жившей во мне повести «Запах полыни»? Размышлял я и о том, что теперь мне надо писать свою геройскую бабусю не только в землянке, не только в степи, возле отары, но и стоящей на кургане у въезда в Привольный, а Силантия Егоровича Горобца — непременно с волкодавами. Без его собак старика описывать нельзя. Дядя Анисим Иванович Чазов должен войти в повесть таким, каким я встретил его в последний раз, с этим его тоскливым завыванием. Тут, в Медведовке, прислушиваясь к собачьему тявканью, я все больше и больше склонялся к тому, что Таисия Кучеренкова с ее «ворованным» счастьем должна занять в «Запахе полыни» немалое место. Передо мной выстраивались, словно бы в очередь, и Андрей Сероштан с многодетной Катюшей, и два Овчарникова — отец и сын, и не узнанный мною Суходрев… Снова и снова — в который уже раз? — возникал один и тот же вопрос: как их описать? Рассказать одну только правду, без прикрас, то есть показать людей такими, какие они есть? Или использовать, и как можно шире, авторский домысел, то есть то, что хотя и известно мне, хотя и взято мною из жизни, но точного адреса не имеет и, стало быть, реальной, достоверной жизнью не является?
Подумал я и о Николае и Нюре Клычковых, об их домишке, о дочурке Вале, о том, как они живут. Улыбнулся и сказал себе: дурак, чего раздумываешь? Вот же они, совсем рядом — герои «Запаха полыни». Чего тебе еще нужно? Механизатор и птичница, производители материальных ценностей, люди труда — молодые, красивые, только что начали самостоятельную жизнь. С какой гордостью Нюра сказала: «Все у нас молодое и новое, как и мы сами, хозяева». В этих ее словах и есть истинная правда. Так что же еще нужно прибавлять к этой правде? Бери их, Михаил Чазов, молодых и новых, красивых и трудолюбивых, да и поведай читателям о том, как эти «сороки» свили себе гнездо и почему оно, гнездо, ничем не отличается от городской квартиры, — разница была лишь в этом необычайном безмолвии за окном и в этом неумолкающем собачьем тявканье. А как они, «молодые и новые», живут, как трудятся? А как обиделись на Олега! И за что? Только за то, что тот с самыми добрыми намерениями предложил им плату за ужин и за ночлег? «…Люди свои, сказать, советские, сознательные, живем без капитализма…» И это тоже правда — неоспоримая. Думая о Клычковых, мне захотелось написать о молодой семье очерк для нашей газеты, просто, без выдумки, рассказать о том, как механизатор и птичница, муж и жена, живут и работают в Медведовке. Это должен быть очерк не выдуманный, а такой, который имеет точный адрес. Не веришь? Приезжай в Медведовку и проверь, так ли все было здесь, в жизни, как описано мною в очерке. Или напиши письмо Клычковым.
И только я подумал об этом, как вдруг совсем нежданно-негаданно на все мои вопросы нашелся ответ. Один-единственный. Сколько думал, сколько искал, а нашел здесь, в Медведовке, и помогли мне, подсказали Николай и Нюра Клычковы. Об этой своей помощи они, разумеется, ничего не знали и никогда не узнают. Но именно они, Николай и Нюра, как бы сказали: такой правдивый, невыдуманный, с точным адресом очерк о нас — хорош для газеты, а для «Запаха полыни» — никуда не годится. Как только услышал эту подсказку, то чуть было не подпрыгнул от радости. Вот оно что! Для газеты — хорошо, а для повести — плохо. В этом, только в этом вся суть! Спасибо вам, Николай и Нюра Клычковы, что подсказали эту мысль! Значит, в моей повести читатели только тогда увидят вас такими, какие вы есть, когда будет описана рядом с вами жизнь ваших сверстников, таких же молодых мужей и жен, которые чем-то на вас похожи, а чем-то на вас не похожи, к примеру, тех же ваших соседей Завгородних, в доме у которых есть кран с горячей, как кипяток, водой. Значит, не факты, имеющие точный адрес, а факты обобщенные, которые точного адреса не имеют, — вот в чем, оказывается, прав Никифор Петрович. Ни одному художнику еще не доводилось обойтись без обобщения, без воображения и без домысла. Не обойтись и мне. Как же я благодарен случаю, который привел меня в Медведовку и определил на ночлег именно в это «гнездо сорок», к этим милым и добрым, с виду ничем не примечательным молодым людям. Ведь сколько на этом приволье таких механизаторов, как Николай, и таких птичниц, как Нюра! На них стоит мир. И сколько на неоглядном приволье построено вот таких же, как у Клычковых, домиков с центральным отоплением и теплым туалетом, а та мысль, которая так меня сейчас обрадовала, почему-то раньше на ум не приходила. И этот поиск Ефимии и хутора Кынкыза. Если бы не Ефимия и не Кынкыз, я никогда бы не побывал в Медведовке, а стало быть, и не встретился бы с Николаем и Нюрой Клычковыми.
То, что ночью, в этой комнате, я неожиданно нашел ответ на мучающие меня вопросы, придавало мне бодрости духа, и я решил более не откладывать свою работу. Мысль, вдруг пришедшая ко мне здесь, в домике Николая и Нюры Клычковых, наконец-то убедила меня в том, что даже такого оригинального и самобытного человека, каким являлся Силантий Егорович Горобец, нельзя показывать одного и в точности таким, каков он есть в жизни. Рядом с ним должны быть показаны другие чабаны, которые как бы дополняли то, чего у Силантия Егоровича недоставало, и как бы отбирали у него то, чего в нем было чрезмерно много. И также рядом с моей геройской бабусей обязательно должны встать такие же старушки, пусть не чабанки, пусть без золотых звездочек, пусть без кофтенки, звенящей наградами, но такие же коренные, от земли, степнячки, как и Прасковья Анисимовна. Тут, в Медведовке, я окончательно понял то, что всем давно было известно, а именно: ни Андрея Сероштана, ни отца и сына Овчарниковых, ни Артема Ивановича Суходрева нельзя описать как одиночек, а необходима, чтобы какие-то черты их характера перешли к ним от других, и тут без авторского домысла никак не обойтись. Оказывается, все так просто. Надо, лишь взять, к примеру, не одного моего дядю Анисима Ивановича, а еще с десяток таких же, как он, и то, что отыщется у этих десятерых, что-то свое, особенное, неповторимое, отдать одному Анисиму Ивановичу, и это будет не выдумка, а та правда, которая почему-то так долго меня пугала… А Ефимия? А ее дочка Паша? А то, что я ищу какой-то таинственный Кынкыз? Здесь дело посложнее. Здесь трудно что-то взять у других и дать Ефимии. Трудно потому, что на всем этом бескрайнем приволье вряд ли найдется еще хоть одна такая девушка, как эта стригальщица. И нет ни второго Кынкыза, ни второй Паши…
Я склонился к тетради и начал писать. Писал торопливо, обо всем, что приходило на ум. Так незаметно пролетело часа два, не меньше.
Я записал все, что считал необходимым записать, и уже сидел, откинувшись на спинку стула, снова глядя в черноту открытого окна и прислушиваясь к звенящему собачьему тявканью. А в голове: отыщу или не отыщу Кынкыз? Встречу или не встречу Ефимию? Увижу или не увижу Пашу?
В это время возле дома послышались шаги по сухой траве, и вскоре, возникнув из темноты, в окне появился улыбающийся Олег. Держась руками за подоконник, он сказал:
— Миша! Как хорошо, что еще не спишь!
— Вот сижу и слушаю плачущую собачонку. А ты чего не ложишься?
— Я же по соседям ходил. В четырех домах побывал.
— Ну и что? Какие результаты?
— Хорошие! Танцуй, Миша! Имею важную новость!
— Какую?
— Отыскал-таки Кынкыз! Во! А что я говорил?
— Да неужели?!
— Честное слово! В четвертой хате убогая старушенция все рассказала. Я только что от нее. И думаешь, отчего никто не знал, где находится тот Кынкыз?
— Отчего же?
— Причина простая, — все так же весело ответил Олег. — Оказывается, теперь Кынкыз уже не Кынкыз, а поселок Солнечный. Давно, говорит старушка, переименовали Кынкыз. Там зараз находится четвертое отделение племовцесовхоза «Первомайский».
— Далеко отсюда?
— Пустяки! Километров десять или пятнадцать, — ответил Олег, легко поднимаясь на руках и всовывая плечи в окно. — Да я этот Солнечный давно знаю. Даже бывал в нем. Мы с Суходревом ездили туда закупать племенных баранов. Отличный хутор, имеет школу-десятилетку, универмаг, детский сад, Дом культуры. Только тогда я и не думал, что это хутор Кынкыз.
— Как же туда попасть? Дорогу знаешь?
— Еще бы! — воскликнул Олег. — Отсюда мы поедем на село Калюжное, а от Калюжного повернем вправо. Так что, считай, мы уже в Кынкызе. Я же говорил, что отыщу Кынкыз, и отыскал.
— Так едем сейчас же!
— Ночью? — удивился Олег. — Да ты что, очумел? Чего мы там в полночь не видели? Тут добрые люди нас приютили, накормили, денег не взяли, а мы — айда, укатим? Так не годится. Давай выспимся хорошенько, а утречком махнем в Кынкыз, то бишь в Солнечный.
— Какой же теперь сон? Едем!
— Миша, не пори горячку. Надо же нам отдохнуть! Да и чего ради торопиться? Кынкыз теперь от нас никуда не денется!
— Ладно, ложись и спи, — сказал я. — Но знай: подниму на рассвете.
Олег не ответил. Весело подмигнул и скрылся в темноте.
ИЗ ТЕТРАДИ (ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ)
Ну вот, кажется, и все, как говорится, конец — делу венец. Скоро буду в Кынкызе. Увижу Ефимию и Пашу. Молодец Олег, нашел-таки хутор. До утра, вернее, до рассвета, осталось часа три. Но ведь можно выехать и на час раньше, еще затемно. Олег, наверное, спит себе сном праведника и видит сны. Мне же сегодня уже не уснуть. В душу залегло непонятное, никогда еще не испытанное мною чувство. Оно беспокоило, воскрешало воспоминания, ободряло и пугало. А почему пугало? Мне одновременно было и радостно, и страшно, и тоскливо. Отчего бы? Я понимал: радовала предстоящая встреча с Ефимией и Пашей. А что пугало? Что нагоняло тоску? Может быть, пугало то, что я не знал и не мог себе представить, какой будет эта наша встреча? Память перебирала разные варианты встречи. Их, этих придуманных вариантов, было много, как ходов на шахматной доске, и ни один не был похож на другой. Мысленно я приходил к Ефимии домой, а дома у нее был муж и нам никак не удавалось поговорить наедине. Или заставал Ефимию дома одну — не было даже Паши, она находилась в детском саду. Молча, с удивлением и со страхом мы смотрели друг на друга. Я слышал ее голос и мысленно разговаривал с нею.
— Михаил, зачем приехал? — спрашивала она строго. — Кто тебя об этом просил? Я не просила.
— Зачем? Сам не знаю. Потянуло к тебе — вот и прикатил.
— Как же ты нашел хутор?
— Спасибо, Олег помог. Да и вообще, ежели сильно захочешь, то непременно найдешь то, что ищешь. Тогда, на похоронах, ты сказала, что живешь в Кынкызе. Теперь же это Солнечный. Почему умолчала? Почему не сказала правду? Не захотела, да?
— Зачем было говорить? Ведь эта наша встреча не только смешна, а и никому не нужна — ни тебе, ни мне.
— Почему же никому не нужна? А Паше?
— Ей тоже. А лучше: именно ей тем более эта встреча не нужна. Она, наша теперешняя встреча, стала ненужной еще тогда, когда ты уехал из Привольного, оставив меня одну.
— Ефимия, а ведь я отыскал тебя, чтобы узнать. Признайся: Паша — моя дочь? Только говори правду.
— Зачем тебе знать правду?
— Значит, моя?
— Я ничего не сказала. Да если и скажу, что может измениться? Ничто уже не изменится. Вот в чем наше горе…
Да, точно, Ефимия была права: ничто уже не изменится, и в этом наше горе. Но мне так хотелось знать правду о Паше. Моя она дочь или не моя? Ведь теперь, дожидаясь рассвета в Медведовке, я все отчетливее начинаю сознавать, что любил и люблю эту милую стригальщицу с ячменными завитками на висках, и любил как-то не так, как полагается любить. Наверное, оттого-то и потянуло меня на хутор со странным названием — Кынкыз. Если вдуматься, если спросить себя: в самом деле, зачем мне этот Кынкыз? Зачем мне видеть Ефимию, а тем более ее дочь Пашу? Наверное, затем, что где-то в подсознании теплится мысль: не надо было тогда уезжать из Привольного. Теперь же, когда загадочный Кынкыз был рядом — совсем скоро я увижу Ефимию с дочуркой Пашей! — мне почему-то все больше и больше казалось, что надо было послушаться совета Ефимии и не уезжать в Москву. Мне стало так грустно, что я снова услышал ее голос:
— Миша, не жалко оставлять меня одну?
Я ответил:
— Если скажу — не жалко?
— Значит, скажешь неправду, — ответила она. — Я же знаю, ты любишь меня, знаю, тебе нужны и я, и этот степной хутор. Я верю: ты вернешься. Самое важное твое дело здесь. И ты еще вернешься.
И я вернулся.
Но еще тогда, слушая Ефимию, я понимал: хотя она и говорила о Привольном, о том, что без хутора жить мне будет невмоготу, а имела в виду не Привольный — себя. Так оно и вышло, Ефимия оказалась права: да, и она, и все мое — здесь, на этом приволье. Но разве я мог тогда не поехать в Москву? Там Марта, Иван… А что, если наверстать упущенное и остаться теперь? И не в Привольной, а здесь, в Кынкызе — Солнечном? Вот на этом хуторе и написать «Запах полыни». А что? Заманчиво. Герои — рядом, что называется, под рукой — бери их и вводи в повесть, как в готовый дом. Да и полынь растет за окном — наклонись, достанешь рукой. Но остаться сейчас и вовсе невозможно. Я — женат, она — замужем. Наша жизнь изменилась и усложнилась. Так зачем же я спешу в этот Кынкыз — Солнечный? Ну, допустим, скоро я туда приеду. Ну, увижу Ефимию. А что ей скажу? Нечего ей сказать. Улыбнусь Ефимии, как улыбался тогда, в Привольном, обниму дочушку Пашу и тотчас уеду — насовсем. Так что же меня пугает при мысли о том, что через несколько часов я буду в Кынкызе — Солнечном? Неужели то, что увижу Пашу? Или меня страшит встреча с Ефимией — запоздалая и теперь уже никому не нужная? А может быть, не первое, не второе, а что-то третье? Так что же оно, это третье? Судьба! Предчувствие! Чего? Я не знаю. Но на душе у меня притаился и чего-то ждет какой-то странный тревожный холодок. Что-то со мной должно случиться. Но что? Тоже не знаю… А время идет, на часах уже половина четвертого. Чуть заметно побелел восток. Скоро начнет рассветать. Пора! Пойду поднимать Олега. Знаю — обидится. Но что поделаешь? Надо, надо ехать… Не могу наехать.
ПИСЬМО ОЛЕГА
Дорогая Марта Николаевна! Получил ваше письмо. Вы просите описать последние минуты жизни вашего мужа, а моего друга Миши Чазова. Как же это сделать? Писака-то из меня никудышный. Не под силу мне передать словами все то, что я видел, что пережил, и передать в такой точности, как оно было в жизни. И не под силу не столько потому, что не умею красиво описывать, сколько не под силу потому, что на сердце у меня еще не улеглась та страшная боль…
Начну по порядку. Вам уже известно, что Михаилу надо было отыскать хутор Кынкыз. Думаю-думаю и до сей поры не могу уразуметь: зачем понадобился ему тот Кынкыз? В дороге я спрашивал, интересовался: зачем, говорю, тебе хутор Кынкыз? Надо мне там побывать, отвечает, обязательно надо. Я все еще лежу в больнице, постепенно выздоравливаю. За многие дни чего только тут не передумал! Может, какое предчувствие тянуло Михаила в хутор Кынкыз? Как-то он говорил со мной о предчувствии, интересовался, верю ли я в предчувствие или не верю. Или всему причиной стал тот неожиданный пожар на рассвете? Ничего определенного сказать не могу по причине своего незнания. Но я, как шофер и как житель здешних мест, подсоблял Мише отыскать хутор Кынкыз, каковой давно уже был переименован в хутор Солнечный. И когда в селе Медведовке мне все же удалось узнать об этом и я поздно ночью сообщил Мише, что дорогу на Кынкыз знаю, он так, побледнел, будто чего-то испужался. В ту ночь он и глаз не смыкал, а потому и поднял меня еще затемно.
Делать нечего, пришлось садиться за руль. Мы попрощались с хозяевами и покатили на Кынкыз, а по-теперешнему — на Солнечный. В дороге начало рассветать. При свете зари поглядел я на Михаила и еще больше удивился: лицо у него стало не то что бледное, а желтое, все одно как воск, а глаза блестели, будто он находился в жару.
— Миша, ты, случаем, не захворал? — спросил я.
— Я здоров, а вот ты болен, — ответил он. — Не едешь, а ползешь по дороге. Мы что, на машине едем или движемся на быках?
Пришлось прибавить газку. Хорошо зная местность, я свернул на проселок. Мы помчались степью, напрямик.
Вскоре на возвышенности показался Кынкыз — большой хутор. Когда мы въехали в него, то увидели клубы черного дыма над одним из домов. Горел детский сад. И вот тут-то и произошло страшное несчастье. Я остановил машину, и мы опрометью бросились в горящий дом. Начали выносить оттуда сонных, насмерть перепуганных ребятишек. Что тут творилось! Страшно вспоминать. Крик нянь, плач детишек… Миша брал на руки по трое, а то и по четверо малышей и выносил их из огня. Принес четырех девочек, завернутых в простыни, положил на землю, наклонился над ними и крикнул:
— Какая из вас Паша?! Ну, скажите, кто из вас Паша?
Перепуганные девочки молчали, а потом заревели. Миша снова побежал в пылающий дом. Вынес еще нескольких детишек, и опять слышу:
— Есть среди вас хоть одна Паша? Кто Паша, кто?
Следом за мной Миша вынес из горящего дома еще одного ребенка, замотанного в одеяло. Упал возле него, обессилевший, с обгорелым лицом, и со стоном спросил:
— Девочка, скажи, может, ты — Паша? — Ты Паша, да?
Плача, ребенок ответил:
— Дяденька, я не Паша, я — Вася… К маме хочу!
Михаил вскочил и побежал в горящий дом. Я крикнул ему вслед, что ребятишек там уже нет — всех вынесли. Но Михаил или не услышал моего крика, или не пожелал возвращаться. Вскоре он показался в горящих дверях без ребенка, костюм на нем полыхал, волосы на голове горели.
— Олег! — крикнул он. — Так где же Паша? Нету Паши…
В этот момент пылающий дверной откос переломился и рухнул Михаилу на голову. Я подбежал к нему. Лицо, голова в крови. Я с большим трудом отнес его в безопасное место. Но он уже был мертв. К тому времени понабежали хуторяне, матери, которые, крича и плача, отыскивали и уносили своих детей. Наконец примчались пожарные машины, начали тушить огонь. Я сидел возле Миши и плакал. И хотя я тоже обгорел — плечи, руки, шея, лицо, но боли от ожогов тогда я не чувствовал…
Лежу в больнице второй месяц, раны мои постепенно заживают, на щеках уже лежат два свежих рубца — память о Кынкызе. И все эти дни я не перестаю думать: что это за девочка Паша, которую искал Михаил? Помню, мы ездили по полям, отыскивая Кынкыз, и тогда никакого разговора о девочке Паше не было. И почему именно там, в Кынкызе, он заговорил о ней? Загадочная история. Да только теперь уже ничего не узнаешь. И еще я думаю: мне, видевшему, как он спасал детишек и как погиб, невозможно поверить, что Михаил уже никогда не приедет на хутор Привольный. Да оно, выходит, и приезжать-то ему зараз, не надо, потому как теперь он всегда тут, в Привольном, лежит на кладбище, рядышком со своей бабусей. Больно и жалко: каким же молодым он расстался с жизнью! Сколько у него было планов и задумок про нашу текущую жизнь, сколько исписано тетрадей. Ничего не успел сделать. И может, потому, что на похоронах я не был по причине нахождения в больнице, мне все еще кажется, что Миша живой, что никакого Кынкыза и никакой Паши не было и что вот он подойдет ко мне, улыбнется дружески, как умел улыбаться лишь он один, и скажет:
— Ну, Олег, поехали!
А поехать-то мы уже никуда не сможем. Это я понимаю не умом, а сердцем.
1974—1979 гг.
Москва — Жаворонки
О СЕБЕ
I
Кажется, ничто не забыто и ничто не вычеркнуто из памяти, и вся твоя жизнь — вот она, перед глазами, а как же, оказывается, трудно рассказать о себе, Трудно потому, что, во-первых, речь приходится вести о своей персоне и тут легко впасть в преувеличение, можно, так сказать, перехвалить себя. Во-вторых, тут необходим строгий отбор фактов, нужно уметь отделить главное от не главного, важное от не важного. А что главное и что важное? Что не главное и что не важное?
Самое первое, что хорошо помню, — это обрывистый берег Кубани и бурлящий вспененный поток в весеннем разливе, и стоит на кубанском берегу мальчуган. Все вокруг кажется ему необычным и страшным. И еще помню хутор Маковский на том же берегу. Стоят в беспорядке хаты. Вижу и нашу хатенку: от других она отличается тем, что вместо крыши на нее навален сухой колючий курай. И слышу голос матери:
— Туточки, сыну, и будэмо жить…
Началась же моя жизнь не на Маковском. Из рассказов родителей знаю, что далеко от Кубани, где-то между Изюмом и Харьковом, стоит украинское село Кунье — место моего рождения. И еще знаю, что там же, близ Харькова, есть большое украинское село Бабаи. Еще во времена крепостного права из села Бабаи был продан в село Кунье кузнечных дел мастер Спиридон. В Кунье ему было дано прозвище — Бабаивский. Отсюда и пошла, теперь несколько переделанная на русский лад, фамилия Бабаевских.
Не только по отцовской, а и по материнской линии мои предки, как и село Кунье, были собственностью помещика — обрусевшего немца. В тот год, когда Россия сбросила со своих плеч крепостное ярмо, мои родители — Василиса Николаевна и Петр Спиридонович — еще были детьми.
Пришла лишь видимая «свобода», а бесправие, нищенское существование в Куньем остались еще долгое время. До октября 1917 года куньевцы не имели земли и жили очень бедно. Если же говорить о нашей многодетной семье, то мало сказать, что мы жили бедно. Это была уже не бедность, а крайняя нищета.
Желая как-то избавиться от нищеты и голода, наша семья в 1910 году, когда мне исполнился год, уподобилась перелетным птицам и улетела в теплые края, на Кубань, в поисках земли и лучшей доли. Оказалось же, что даже на Кубани, в этом привольном казачьем крае, было не так-то просто найти землю и лучшую долю. Четыре года мы странствовали по кубанским станицам и хуторам, жили тем, что зарабатывали отец и его старшие сыновья и дочери. Мой отец, как говорится, был от скуки на все руки: и плотник, и каменщик, и печник. Вместе со своими старшими сыновьями он ходил на заработки, мечтая о том, как бы собрать денег и купить клочок земли с хатой. Только в канун войны, весной 1914 года, такая мечта сбылась: на хуторе Маковском, близ станицы Невинномысской, была куплена хатенка без крыши и без дверей. Наконец-то свое гнездо, свое место на земле — какая это радость! Тогда-то и прозвучали запавшие мне в душу слова матери:
— Туточки, сыну, и будэмо жить…
II
Кубань и Ставрополье, край ты мой, родимый край! Сколько вместе с тобой пережито и горя, и радости. Вся моя жизнь неотделима от тебя, от твоих просторов, от станиц и сел, ты стал для меня моей второй родиной. На отлогом кубанском берегу я вырос, близ хутора, на выгоне, пас свиней. На Маковском ходил в школу и был секретарем комсомольской ячейки. Здесь же, на кубанском берегу, научился русскому языку, но и до сих пор люблю и хорошо знаю украинский, ласковый и певучий язык матери. Здесь, на кубанском берегу, парубковал, по вечерам с гурьбой ребят ходил на другие казачьи хутора, и здесь же, на Маковском, женился на девушке Таисии Деминой, и отсюда, с кубанского берега, ушел «в люди».
По ту сторону Кубани, в пойме, темнел лес, а дальше — коромыслом изгибалась невысокая, безлесая Казачья гора. Перевали за эту гору, и твоему взору откроются холмистые невинномысские и беломечетенские земли. На том берегу, наискосок от Маковского, стоит хутор Усть-Невинский. На Маковском жили «хохлы», а на Усть-Невинском казаки. Там, на Усть-Невинском, и жизнь, и порядки были свои, не такие, как на Маковском. Там и дома добротные, под жестяными и цинковыми крышами, совсем не такие, как наши хатенки под соломой и кураем. Там, на Усть-Невинском, и дым из труб, как мне казалось, тянулся к небу не так, как на нашем хуторе, — вставал сизыми и ровными столбами. И между «хохлами» и казаками не утихала вражда.
Не успел я подрасти, как и к нам на Маковский долетел отзвук того залпа «Авроры», что прогремел на Весь мир. Заполыхали и на Кубани костры гражданский войны. Старший брат Гордей вернулся с германского фронта, пожил дома с неделю и отправился в отряд Якова Балахонова. Брат ушел воевать, а возле нашей хаты какой-то другой отряд поставил орудие. Артиллеристы вели прицельный огонь по Казачьей горе, где то неслись конники, то муравьями бегали солдаты. К вечеру орудие увезли, а в окнах нашей хатенки, не осталось ни одного целого стекла. Вскоре и весь отряд покинул Маковский. Тогда мы, хуторская детвора, побежали на Кубань, к тому месту, где недавно разрывались снаряды. На перекате лежал окровавленный конь под седлом, а рядом с ним убитый всадник в мокрой шинели, с погонами на плечах.
Поздней осенью, спасаясь от белых, наша семья уехала «в беженцы». От белых убегали жители других станиц и хуторов, и вереница подвод, груженных домашним скарбом, своим разноликим видом была похожа на картины из «Железного потока». Обозы «беженцев» прошли через Ивановское, Ольгинку, Невинномысскую и, направляясь на Ставрополь, перевалили через гору Стрижамент и остановились в балке на ночлег. И сейчас вижу блеклую ставропольскую степь под низким, в тучах, небом, ковыль, как шелк, на взгорьях, пылающие костры между бричек. И теперь еще чувствую тот особенный степной запах дыма, который плыл над лагерем, и ощущаю тот необыкновенный вкус сваренной в ведре баранины, которую довелось тогда есть. Но самое памятнее — это то, что в те далекие дни моего детства я первый и единственный раз видел живого Ивана Кочубея. Это было на станции Курсавка. Мы спали на бричке, укрытые рядном и полостью. Стоял сырой конец ноября. С вечера моросило, а к утру повалил снег. Отец приоткрыл заваленную снегом полость и сказал:
— Дети, поглядите на отряд Кочубея!
В памяти, как живая, хранится картина. Вижу идущую рысью конницу. Кто в бурке, кто в шинели, кто в полушубке. У каждого за плечами башлык и винтовка. Все той же легкой рысцой проезжают мимо нашей брички. Впереди командир, молодой светлочубый, в серой, лихо сбитой на затылок кубанке. Под ним поджарый скакун гнедой масти не идет, а танцует. Широкоплечая бурка укрыла конскую спину. Синие крылья башлыка на спине, кубанка С красным верхом. Слышу голоса: «Иван Кочубей! Иван Кочубей!» Провожая конников глазами, я чуть слышно повторяю непонятное мне слово «Кочубей, Кочубей».
Зиму мы провели в ставропольском селе Нагуты, все переболели тифом и чудом остались в живых. Весной, вместе с приходом Красной Армии, мы вернулись «с беженцев». Но не на Маковский — наша хата была разрушена, а на шерстомойную фабрику близ Невинномысской. Нарождалась новая мирная жизнь. Фабрика, принадлежавшая Лапину, стала народной собственностью, и молодой советский рабочий класс тут же приступил к мойке шерсти. Отец, старшие братья и сестры работали на фабрике. Для меня же фабрика памятна тем, что здесь, в рабочем поселке, я впервые переступил порог школы. Хорошо помню школу — одноэтажное кирпичное здание рядом с хозяйственным двором, и свою первую учительницу Клавдию Константиновну Ерош, женщину удивительно сердечную и добрую. Спустя более сорока лет она как-то писала: «Мне исполнилось уже 77 лет, но перед моими глазами, как сейчас вижу, стоит худенький мальчик, светлочубый, в розовой рубашке, говоривший с украинским акцентом».
Недолго мне пришлось учиться у Клавдии Константиновны. На другой год, с приходом весны, нашу семью потянуло, как птиц тянет на старое гнездовье, на Маковский. Позвала к себе земля. Всюду уже чувствовались первые молодые побеги Советской власти. Хуторская беднота получила не только землю, а и школу. Впервые у «хохлов» на Маковском была открыта начальная школа. Помещалась она в обыкновенной, снятой в аренду крестьянской хате. Не было ни парт, ни грифельной доски, ни чернил, ни тетрадей и учебников. Как и чему мы учились? Сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но я окончил три класса хуторской школы и был счастлив. Мне хотелось учиться и дальше. Но продолжить учебу можно было только в школе станицы Невинномысской, которая находилась от Маковского приблизительно в восьми километрах. У моих же родителей не было ни средств, ни особого желания для того, чтобы их сын жил и учился в станице. К тому же мой отец был убежден, что его сыну нужна не грамота, а ремесло, умение что-то делать не головой, а руками. И так как сам он был опытным печником, свою профессию считал выгодной, то и полагал, что сын его должен стать печником. И когда я попросил отца послать меня учиться в станичную школу, он ответил:
— Ученых, сынок, на свете уж и так много, а еще больше будет в будущем, так что и дела всем не хватит. Тебе, же следует обучиться ремеслу. Передам тебе свое умение делать печи. Печник всем нужен, потому как без печи и дом не дом. Так что становись ко мне в подручные, и мы пойдем с тобой по станицам и хуторам делать новые печи и ремонтировать старые.
К сказанному отец пообещал купить двухрядную гармонь — давнюю мою мечту. И я согласился учиться печному делу. Стояла ранняя и теплая весна 1924 года, когда мы с отцом взяли нехитрый инструмент, фартуки и покинули Маковский. Странствовали до глубокой осени. Побывали во многих станицах верховья Кубани, таких, как Беломечетинская, Баталпашинская, Усть-Джегутинская, Красногорская, Карданикская, Сторожевая, Преградная.
В ту памятную весну я впервые в своей жизни самостоятельно покинул хутор Маковский. Привычная, замкнутая хуторская жизнь сменилась жизнью новой и доселе мне неведомой. Передо мной вдруг раскрылся удивительный мир. Вот они, почти рядом, возвышались Кавказские горы, то голые, скалистые, неприветливые, то зеленые, ласковые, снизу и доверху укрытые лесами. Шумели по ущельям реки и речушки, то чистые, как родники, то мутные, бурлящие.
Мы переходили из станицы в станицу, из хутора в хутор, и всюду для меня открывалась новизна, всюду встречались люди, каких никогда раньше я не видел и не встречал. Сегодня мы делаем печь у одного хозяина, а завтра у другого. Сегодня мы в одной станице, а завтра в другой. И снова новое место, новые люди. Разные. То бедные, то богатые, то добрые, то злые. И дома у них, и дворы один на другой не похожи. И всюду свой устоявшийся казачий обычай, свои казачьи нравы.
Делая с отцом новые и ремонтируя старые печи, я тогда, разумеется, не думал и не предполагал, что в будущем мне так пригодится все то, что я увидел в услышал в станицах. Теперь-то я хорошо знаю: такое длительное хождение по верховьям Кубани пошло мне на пользу, помогло лучше узнать ту жизнь, которую значительно позже я описал в своих романах, повестях и рассказах. И хотя мечта моего родителя сделать из меня мастера печных дел так и не сбылась (я научился делать лишь трубы, потому что любил сидеть на крыше дома, откуда видна вся станица), но я и сейчас благодарен отцу за то, что
он взял меня к себе в подмастерья, ибо путешествие по кубанским станицам и хуторам явилось для пятнадцатилетнего паренька отличной жизненной школой.
III
На хутор Маковский я вернулся не только с новыми впечатлениями и знаниями, но и с гармонью. И сразу начал парубковать. Ходил с гармошкой на вечеринки, научился курить, и в глазах хуторских девушек уже казался настоящем парнем. По ночам проявлял «геройство» — с такими же, как и сам, парнями забирался в чужие сады и угощал девушек яблоками и абрикосами. Но все, чем мы, молодежь, в те дни жили на хуторе, вскоре нам наскучило. Мы стали мечтать о комсомоле.
Вспоминаю только что прошумевший грозовой ливень. Поля — мокрые, дорога — в лужах. Вижу троих промокших подростков — Петра Яценко, Ивана Швеца и Семена Бабаевского. Идут пареньки по берегу Кубани в станицу Невинномысскую, идут по грязной размокшей дороге, идут босиком, с засученными выше колен штанинами. (Из-за материальных недостатков молодые люди летом обувь не носили.) Через Кубань они переправились на лодке, поднялись на высокий правый берег и отыскали райком комсомола. С нескрываемым удивлением, но приветливо встретили там нежданных гостей. Что и как босоногие ходоки говорили? Они просили организовать на хуторе Маковском ячейку комсомола. Их внимательно выслушали и просьбу поддержали. Ячейка из трех членов вскоре была создана. Ее секретарем был избран белобрысый чубатый Семен. (Я говорю о себе в третьем лице потому, что сейчас, когда прошло более полувека, мне никак не верится, что это был именно я, кажется, что был какой-то другой Семен.)
Вскоре наша ячейка выросла, в нее вступили не только парни, а и девушки — первые маковские комсомолки. В те далекие времена по почте можно было купить специальные костюмы цвета хаки: для парней — брюки, рубашка, фуражка, пояс с портупеей через плечо, для девушек — юбка, кофточка, красная косынка и тоже пояс с портупеей через плечо. В такой полувоенной одежде мы выглядели нарядно и своим внешним видом отличались от остальной молодежи. Членов партии на Маковском тогда не было. Чем же мы занимались? Если отвечать на этот вопрос просто и понятно, то мы вместе с хуторянами строили свою молодую родную Советскую власть. А лучше сказать так: мы занимались всем тем, что относилось к первым росткам социалистического уклада нашей жизни, организовали избу-читальню, хоровой и драматический кружки. Если к этому прибавить, что секретарь ячейки был еще и гармонистом, то авторитет хуторских комсомольцев рос, как говорится, не по дням, а по часам. Главное же внимание было сосредоточено не на танцах и не на песнях, а на ликвидации неграмотности. Сегодня, в годы космических полетов и компьютеров, от самого слова «неграмотность» веет эдаким анахронизмом, стариной-старинушкой, а тогда научить человека писать и читать — была победа, может быть, равная теперешнему полету в космос.
Вскоре на Маковском появилась сельхозкоммуна «Стальной конь» — дело по тем временам тоже новое и непривычное. Почему коммуне было дано такое несколько странное название? Конь, да еще и стальной? Это было сделано в честь ленинградских рабочих, которые в порядке шефства прислали коммунарам стального коня — трактор. Была сооружена арка, ее украсили флагами, цветами, и трактор въехал в хутор через эту арку под звуки гармошки и восторженные крики людей.
Помимо трудового энтузиазма, желаний сделать как можно больше и лучше, мы, комсомолисты (так нас тогда называли), были еще и незаурядными мечтателями, под стать самому Константину Эдуардовичу Циолковскому. К примеру, белочубый Семен в свои шестнадцать лет не на шутку мечтал стать писателем. Тогда же он написал свой первый рассказ «Молотилка». Сюжет прост: в разгар обмолота хлеба кулаки испортили молотилку, принадлежавшую коммунарам, и сорвали уборку урожая. Сие слабое сочинение, разумеется, напечатано не было, и мечта оставалась мечтой. Помню, в тот год на Маковский из Москвы приехали два корреспондента «Комсомольской правды», парни на вид представительные, интеллигентные, в модных плащах и шляпах. Разговаривая с секретарем ячейки о житейских делах, москвичи, очевидно, любопытства ради, спросили чубатого паренька, о чем он мечтает и кем собирается стать. И белочубый Семен, не задумываясь и не стесняясь столичных гостей, смело и уверенно, как о чем-то давно решенном, сказал:
— Буду писателем!
— А преодолима ли для тебя эта задача? — спросили москвичи. — Думал ли ты об этом?
— Обо всем уже думал, — последовал ответ. — Для комсомольца нет ничего невозможного, непреодолимого.
Разумеется, это было сказано чересчур самоуверенно, нескромно. Теперь бы тот Семен так не ответил, постеснялся. Но тогда для него, как говорится, и море было по колено. Москвичи с улыбкой переглянулись, как-то странно посмотрели на будущего писателя: надо полагать, ответ Семена им показался и смешным, и неуместным. Не знаю, живы ли сейчас эти московские товарищи и знают ли они, что мечта белочубого паренька из кубанского хутора Маковского все же сбылась. Правда, не сразу, не вдруг, не просто и не легко, но сбылась.
IV
После того как был написан первый рассказ, случилось то, что рано или поздно и должно было случиться: моя «Молотилка» как бы открыла мне глаза, и я увидел, что человек я в общем-то малограмотный. После «Молотилки» я понял простую истину: чтобы писать рассказы, мне надо получить образование. Но как и где? Что делать и у кого просить поддержки? И тут случайно в газете я прочитал, что в Краснодаре открывается рабфак. Непонятное мне слово «рабфак» волновало и радовало, и я решил во что бы то ни стало стать рабфаковцем. Вот это, говорил я сам себе, и есть то, что мне нужно. Со страхом я думал о том, как бы я жил и что бы я делал, если бы не Краснодарский рабфак. Тогда мне даже показалось, что те люди, кто открывал рабфак и объявил о приеме будущих рабфаковцев, наверняка знали, что на Маковском живу я и что мне, как никому другому, нужен рабфак. Желая прихвастнуть перед хуторянами, я, не раздумывая, объявил и друзьям, и родителям, что уезжаю в Краснодар поступать на рабфак и что на Маковский уже не вернусь.
И уехал. Денег на железнодорожный билет у меня не было. Пришлось ехать «зайцем» на тормозе товарного вагона. Путешествие было полно приключений, но не об этом речь. Я все же добрался до Краснодара, и опять радость: меня допустили к экзаменам! Правда, несколько огорчало то, что поступать на рабфак приехало слишком много юношей и девушек. В здании, теперешнем Дворце пионеров, полным-полны коридоры такими же, как и я, абитуриентами, кто уже и во сне видел себя рабфаковцем.
Первый экзамен — русский язык. Мы сидели за столами в большой светлой комнате, а пожилая седая женщина ходила от окна к окну и чистым голосом читала отрывок из «Записок охотника» Тургенева. Я написал три странички в школьной тетради и, как все, положил их на стол. Через три дня, как и многих других, меня вызвали в учебную часть, и та седая женщина, которая таким, хорошим голосом читала отрывок из «Записок охотника», грустно улыбнулась и молча показала то, что я написал в диктанте. У меня дрогнули в коленях ноги: все три странички были, как кровью, испещрены красными чернилами. Провалился! Значит, напрасно ехал в такую даль и с таким трудом. Значит, рабфак, это волнующее слово, не для меня. «Придется тебе, юноша, уехать домой, — сказала седая женщина. — Но не надо отчаиваться. Ты еще молод. Займись-ка дома самообразованием, подтянись по русскому языку и на будущий год снова приезжай…»
Слова седой женщины не только запали мне в душу, но и не давали спокойно жить. «Займись-ка дома самообразованием, подтянись по русскому…» Так падает в почву случайно оброненное зерно и, несмотря ни на что, начинает прорастать. Я изучал русский язык, математику, занимался изо дня в день, из месяца в месяц, мечтая на будущий год опять поехать в Краснодар. Время шло быстро, а моя самостоятельная учеба двигалась медленно и трудно. Не было ни опыта, ни знаний, ни учебников, ни времени. Всю неделю работал на нолях коммуны и только в воскресенье мог пойти в, библиотеку, которая находилась в станице Невинномысской.
В этой библиотеке и состоялось мое знакомство с многими писателями, в частности с Максимом Горьким, знакомство, разумеется, заочное, но для меня радостное и весьма нужное. Книги Максима Горького приподнимали, как на крыльях, мое юношеское воображение, уносили в края неведомые и к людям удивительным. Максим Горький был тем человеком, кто в трудную минуту протянул мне руку и кто своими книгами и своей жизнью поддержал меня духовно. По своему юношескому неразумению я хотел было, подражая Максиму Горькому, отправиться пешком по кубанской земле, мечтая написать рассказы, даже придумал, тоже подражая, литературный псевдоним — Петр Бездолов.
К счастью, эта чисто возрастная «болезнь» быстро прошла, а любовь к книгам Максима Горького и к их автору осталась. Я читал не только Горького, а все, без разбора, что попадало в руки, и читал ненасытно — так томимый жаждой человек пьет воду, припав к роднику. Каждая свободная минута была отдана книгам и учебникам. Как же, оказывается, тяжело учиться самому, без школы, без учителей! Частенько меня навещали и отчаяние, и неверие в свои силы, и страх. Во мне постоянно жили два враждующих между собой человека, и споры между ними не прекращались. Один голос, строгий и насмешливый, настойчиво требовал: брось, Семен, эту свою глупую затею. Тоже мне, захотел стать писателем! Опоздал, брат, учиться, и тех, кто ушел вперед, тебе уж не догнать. Живи, как живут все хуторяне, тут большого образования не требуется… Другой голос с той же настойчивостью убеждал, доказывал: иди, Семен, вперед, не трусь и не малодушничай. Не останавливайся и не замедляй шаг. Да, тебе трудно, а ты иди, иди. Сделал один шаг — хорошо, два — еще лучше. Нельзя тебе останавливаться, нельзя…
В этом внутреннем поединке победил второй голос: я не смалодушничал, не остановился. И все же второй раз в Краснодарский рабфак я не поехал. Через семь лет я экстерном сдал экзамен за десять классов, а к тридцати годам, уже будучи автором многих рассказов и отцом семейства, окончил заочное отделение Литературного института имени Горького. И хотя ко времени окончания Литературного института мною было истрачено немало чернил и бумаги, написаны две повести — «Японко на Кубани» — о боевых подвигах отряда Якова Балахонова, и «Участники» — о делах работников МТС (обе повести не были напечатаны), а также «Кубанские рассказы», которые печатались в журнале «Молодая гвардия» и «Московском альманахе», — я все больше и больше убеждался, что писатели рождаются не в стенах учебного заведения и что мне, для того чтобы стать писателем, нужны были новые усилия, посложнее и потруднее тех, какие уже были сделаны.
В те годы я работал разъездным корреспондентом сперва в комсомольской газете «Молодой ленинец», а потом в «Ставропольской правде» и почти каждый день находился в дороге. Я любил эти поездки. Благодаря им я так изучил «на местности» карту Северного Кавказа, что от Дербента до Темрюка не отыскать, пожалуй, места, где бы не довелось побывать, и это был, я сказал бы, мой второй литературный институт.
В годы Великой Отечественной войны мне и моему другу Эффенди Капиеву довелось побывать в Кубанском кавалерийском полку, который формировался на Кубани и на Ставрополье и в январе 1942 года принимал участие в боях за освобождение Ростова-на-Дону. Встречи с конниками-земляками помогли нам написать книгу очерков «Казаки на фронте». Затем всю войну, работая сперва в дивизионной газете, а позже во фронтовой, я, как офицер и военный корреспондент, делал все то, что в годы войны делали все военные корреспонденты, и это был мой третий литературный институт.
V
На пылающем небосклоне войны уже заалели зарницы долгожданной победы. Мечты воинов все настойчивее обращались к жизни мирной. Самым радостным и самым желанным был разговор о том, что и как должно быть и обязательно будет сделано после окончания войны, — в это время я и начал писать романы «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землей», и с них, собственно, и начинается моя литературная биография. Прошло более тридцати лет. Книги выдержали многие издания, выходили большими тиражами и получили широкую известность среди читателей в нашей стране и за ее рубежами, были переведены на все братские языки Советского Союза и на 29 иностранных языков. И если сравнивать содержание этих романов с жизнью реальной, то лучше всего обратиться, так сказать, к первоисточнику, то есть к тем людям, которые описаны в них, и к тем станицам и селам, которые там названы и которые обозначены на географической карте Кубани и Ставрополья.
События, описанные в «Кавалере Золотой Звезды» и «Свете над землей», относятся, как известно, к 1945—1948 годам, а место действия — все то же, с детства любимое мною верховье Кубани — от Невинномысска до Усть-Джигуты и Сторожевой. Если же сказать еще точнее, то это станица Зеленчукская, названная в романах Усть-Невинской. Именно в этой станице я провел первое послевоенное лето. Это было время небывалого душевного подъема, время радостных надежд и свершений. Да это и понятно! Народ-воин, народ-богатырь одержал величайшую победу над фашизмом, спас мир от коричневой чумы, и сознание совершенного выдающегося подвига жило в сердцах советских людей. Мы, живые свидетели тех лет, хорошо помним: над Кубанью, над Ставропольем, как и над всей нашей страной, витал тогда дух Победы. Он-то, дух Победы, и создавал у людей настроение праздничное, приподнятое, придавал им энергии, трудовой смелости, определял их душевный настрой.
Как раз в это время в Зеленчукской началось строительство межколхозной гидроэлектростанции, и запевалами первой послевоенной новостройки, ее душой стали бывшие воины. Сооружение это было объявлено народной стройкой — тоже характерная примета того времени. В рекордные сроки был прорыт отводной канал, поставлена плотина, близ реки вырос домик и к нему протянулись две водонапорные трубы. И когда был завершен монтаж турбин и от домика побежали столбы электропередач, в станичных домах, на площади, на полевых станах и фермах зажглись огни: своя электроэнергия начала применяться не только в быту, а и на производстве. Так что жившему в станице писателю не надо было ничего изобретать и ничего придумывать. Материал для романа лежал, что называется, у него под рукой. Поэтому все, о чем рассказано в «Кавалере Золотой Звезды» и «Свете над землей» — от возвращения фронтовиков, строительства Усть-Невинской ГЭС, сплава леса до применения электричества, — все это происходило в станице Зеленчукской.
Совсем недавно я снова побывал в Зеленчукской. Даже меня, бывшего здесь не однажды, поразили происшедшие там перемены. Станица разрослась, расстроилась и стала похожа на утопающий в зелени город. Навестил я и тот, хорошо мне знакомый берег, где в первый же послевоенный год развернулась народная стройка. Меня встретил тот же домик, только на нем крыша потемнела от времени. Тополя, посаженные еще строителями, стали могучими деревьями с высоко поднятыми к небу шпилями. Все так же, раскинув плечи, убегали от домика столбы электропередачи, и все так же лежали, как два ружейных ствола, водонапорные трубы. И все так же, вот уже более тридцати лет, шумит в турбинах вода — монотонно и неустанно. Только электроэнергия Зеленчукской ГЭС нынче не одинока. Как ручеек впадает в большую реку и сливается с нею, так и она входит в общегосударственную энергосистему.
Там же, в Зеленчукской и в других станицах верховья Кубани, и поныне живут люди, с кем в разное время мне и посчастливилось встречаться. Эти-то люди, так или иначе, стали прототипами героев моих произведений. Подобно тому, как перед живописцем встает натура и помогает ему с наибольшей точностью перенести на полотно видимый им предмет, у писателя тоже есть своя натура. Разница лишь в том, что эта натура находится не рядом, и писатель не может то и дело поглядывать на нее, как это делает живописец. Писатель рисует словами не то, что видит в настоящую минуту, а то, что видел когда-то и что постоянно живет в его воображении. Возможно, поэтому и теперь, когда прошли многие годы, я часто вспоминаю, например, как танкист Семен Гончаренко вернулся с войны в свой родной хутор Маковский, и не один, а с фронтовым другом Василием Григорьевым. У Василия не было ни родных, ни своего угла — унесла война, и он решил после демобилизации не возвращаться на свою Орловщину, а уехать с другом на Кубань. Вспоминаю, как эти и другие бывшие фронтовики входили в мирную жизнь, как некубанец Василий женился на двоюродной сестре кубанца Семена и как они сообща строили хату для молодоженов. Если же до конца открывать авторский «секрет», то следует сказать: да, точно, приехавшие на Маковский два танкиста и навели на мысль начать роман с этого, взятого из жизни, эпизода. Однако прототипами, скажем, Сергея Тутаринова были и другие бывшие фронтовики. В частности, Василий Черников из Усть-Джегуты, внешние черты которого были даны герою романа, Герой Советского Союза Константин Лаптев, которого я знал с детства и биография которого стала биографией Сергея Тутаринова.
В той же Зеленчукской я познакомился с возницей Ириной Любашевой, с электриком-самоучкой Прохором Ненашевым, с Федором Лукичом Хохлаковым. А вот председателя райпотребсоюза Рубцова-Емницкого встретил не в станице, а в Пятигорске. Это был мой друг, торговый работник Лев Ильич Семенов-Метницкий, своей внешностью и характером очень похожий на Рубцова-Емницкого. Два председателя колхозов пришли в книгу из станиц Попутной и Отрадной — это Алексей Степанович Артамашов, рубаха-парень, добряк и хлебосол за чужой счет, разоривший хозяйство, и Стефан Петрович Рагулин, по натуре человек молчаливый, прижимистый, скупой, но хозяин отменный. Родители Сергея — Тимофей Ильич и Василиса Ниловна — это мои отец и мать. Кого-кого, а их-то я знал хорошо, так что «изучать» их не было нужды, и описаны эти старики, что называется, с натуры. Помню, отец прочитал роман, узнал себя и сказал: «Понапрасно ты, сыну, нас с матерью описал. Люди будут читать, узнают нас, что подумают… Подождал бы, когда мы помрем, а тогда и описывал бы…»
VI
Работая над книгой, писатель не только видит свою «натуру», а и мысленно разговаривает с теми, о ком пишет, и нередко этот никем не слышимый диалог затем весьма кстати ложится на бумагу. Иногда писателю приходится ездить к своим героям, советоваться с ними. Для наглядности сошлюсь на героиню романа «Родимый край» Евдокию Ильиничну Голубкову, или, как ее звали, тетю Голубку. Читатели знают, что тетя Голубка живет на кубанском хуторе Прискорбном. Для меня же Прискорбный — это Маковский. Оба хутора: Прискорбный — в романе, Маковский — в жизни, стоят на низком, размытом водой берегу. В романе Прискорбному, а в жизни Маковскому Кубань причинила большую неприятность, она подошла так близко и так навалилась на берег, что уже начала смывать огороды и разрушать хаты.
Тетю Голубку — свою сверстницу я знал на Маковском еще девушкой, когда и сам был парубком. Мы вместе ходили на вечеринки, на те самые, что описаны в «Родимом крае», и на этих вечеринках развеселая Дуся танцевала под мою гармонь. Так что я с полным правом могу сказать: мне хорошо известны и жизнь Дуси, и ее нелегкая судьба, и ее горькая любовь. Потому-то, работая над романом, я не только думал о Дусе и мысленно разговаривал с нею, а и в то время, когда писал «Родимый край», приезжал к ней в гости, привозил рукопись, читал ей главы, выслушивал ее замечания. Вот в такие дни и мне, как и живописцу, тоже приходилось поглядывать на свою «натуру», на ее щербину, которую она прикрывала смуглой ладошкой, когда улыбалась, на ее сережки, похожие на крупные капли слез, на ее цветную косынку, на мелкие морщинки у глаз. Как-то после очередного чтения Дуся сказала:
— Все тебе нужно, все ты хочешь описать. А разве надо обо всем писать? Ты пиши не обо всем, а о главном.
— А что же, Дуся, по-твоему, главное, а что не главное?
— К примеру, ты описал наше ночеванье. А зачем? Кому про ту нашу глупость интересно знать? Нынче-то ночеванье уже не в моде, и это хорошо. Да и молодым людям про это читать не интересно. Мою щербину тоже описал. Ни к чему. Кому охота знать, есть у меня эта щербина или ее нету. А вот мою работу на ферме описал правильно, все так, как было. И телята у тебя получились как живые. Я даже прослезилась, честное слово… А щербину мою вычеркни, без нее будет лучше.
Разумеется, важно видеть и вблизи, и на расстоянии тех, о ком пишешь и с кем хорошо знаком. Важно разговаривать с ними и мысленно и наяву. Но не менее важно хорошо знать описываемое тобой место. Известно, что строители, прежде чем начать сооружение здания, сперва облюбовывают и изучают для него место. Потом делают «привязку» будущего здания к облюбованному и изученному месту. Что-то схожее с этим делает и писатель, ибо ему тоже невозможно начать сочинять роман или повесть, не «привязав» их к месту, не имея своего любимого уголка земли. И сюжет, и автор со своими литературными героями обязательно должны иметь такую «привязку», то есть то место, которое является для них родным и святым. А эта «привязка» делается не по чьему-то указанию, а по велению сердца.
Почему, к примеру, в романе «Родимый край» эта «привязка» сделана не к какому-либо кубанскому хутору, а к Маковскому? Исключительно потому, что на Маковском я вырос, что он для меня не просто хутор, а частица моей жизни. А вот роман «Сыновний бунт» уже «привязан» не к кубанским станицам и хуторам, а к ставропольским селам, тоже автору родным и дорогим. Описанные в «Сыновнем бунте» места — это села, лежащие за горой Недреманной. В романе она названа своим, весьма поэтическим именем, как и Невинномысский канал, воды которого прошли по туннелю через Недреманную. Сразу же за Недреманной петляет по степи речка Егорлык. Оживала она лишь во время таяния снега и умирала, как только поднимались над степью жаркие каспийские суховеи. Нынче Егорлык породнился с Кубанью и стал рекой полноводной. Не менее, чем хутор Маковский, я знаю и люблю ставропольские села, что раскинулись по берегам Егорлыка. В «Сыновнем бунте» одни из них, как Татарка, Ново-Троицкая, Красное, Птичье, названы своими именами, а другие, как Журавли, вымышленными.
И еще пример, самый свежий — из «Белого света». И в этом романе налицо все та же «привязка» к месту. Читая «Белый свет», нетрудно догадаться, что Прикубанье — Кубань, что город Южный со своими пьянящими запахами акаций и буйной зеленью — это Краснодар. Береговой же, куда Алексей Фомич Холмов переехал на жительство, является собирательным приморским городком, во внешнем облике которого угадывается и Геленджик, и Туапсе, и Лазаревское, и Адлер, и Гагра. Хождение Холмова по «белому свету» тоже имеет точный адрес: это кубанские станицы от Славянска до Усть-Джегутинской и Зеленчукской. У меня хранится карта маршрута с точным указанием тех станиц, где Холмов побывал или останавливался на ночлег.
Хорошо иметь житейскую и душевную «привязку» к какому-то месту. Но этого еще мало. Обязательно самому надо побывать и пожить там, где бывали и где жили твои герои, и самому знать и любить эти места так, как знал и любил их, к примеру, Алексей Фомич Холмов или Сергей Тутаринов. Первый раз я прошел по описанным в «Белом свете» станицам еще в ранней юности, когда учился печному делу, второй раз — в молодости, когда работал разъездным корреспондентом. Тогда я не думал и не гадал, что когда-нибудь, лет эдак через тридцать, буду писать роман «Белый свет». Третий же раз по тем станицам и по тому же «белому свету» проходил совсем недавно, уже вместе с Алексеем Фомичом Холмовым.
1979 г.
Оглавление
Книга первая
ХУТОР В СТЕПИ
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Часть третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Книга вторая
ЗАПАХ ПОЛЫНИ
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Часть третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
О СЕБЕ