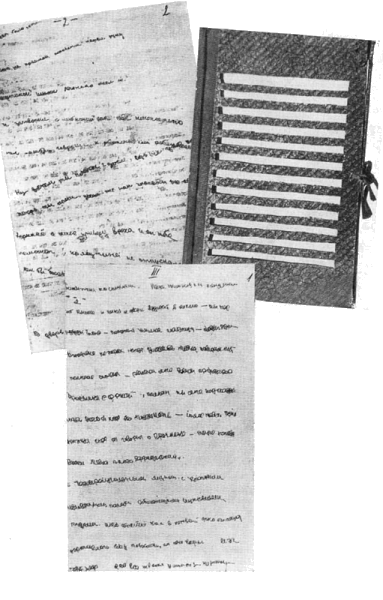Р. Островская
НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

*
© Издательство «Молодая гвардия», 1974 г.

1
Встреча
Сестра почти силой втолкнула меня в кухню.
За обеденным столом рядом с мамой сидел человек, уже знакомый мне по фотографии.
Первое, что я заметила, — пышные темно-каштановые волосы; зачесанные вверх, они волной спадали на левую сторону. Темные брови, почти сросшиеся у переносицы. Глубоко посаженные карие глаза. Они казались огромными и подчеркивали бледность матового лица.
«Какой красивый!» — промелькнуло у меня в голове… И от этого я еще больше сконфузилась.
— Ну что же ты скрылась? — обратился он ко мне.
Сколько раз впоследствии я до мельчайших подробностей припоминала эту встречу, которая изменила мою судьбу, встречу с человеком, имя которого признано символом нашего комсомольского поколения. С человеком, книга которого выдержала сотни изданий и в десятках миллионов экземпляров разошлась по всему миру. С человеком, жизнь которого сделалась образцом поведения коммунистической молодежи всех стран.
Несколько поколений советских людей воспитано на книге «Как закалялась сталь». Она вселяет веру в светлое будущее человечества, пробуждает готовность к любым жертвам ради осуществления высокого идеала. «Как закалялась сталь» — это книга мужества, выдержки, огромной силы воли, которую воспитал в себе человек, намертво прикованный к постели.
Сегодня молодежи не надо представлять автора книги о Корчагине: родился в 1904 году, умер в 1936-м, «Как закалялась сталь» опубликовал в 1932—1934-м… Книга о Корчагине трижды экранизована, сколько этому герою посвящено живописных, скульптурных, графических работ — и не счесть.
А я помню первое рукопожатие этого человека, когда еще ни он, ни я — никто не знал, какая судьба его ожидает.
И поток писем, не иссякающий уже несколько десятилетий! Сколько их прошло через мои руки, этих писем, адресованных автору Корчагина, писем тридцатых годов, со следами «метельной» стилистики, свойственной тогдашним комсомольцам: «Павел, братишка!..», писем времен Великой Отечественной войны, написанных, бывало, и за несколько часов до смерти… Писем нынешних. Я чувствую, как Николая Островского читают сегодня.
«Какое счастье, что у нас есть Павка Корчагин, наш современник, друг, учитель молодежи!» — пишет читательница из Риги. Учитель из Костромы благодарит Островского: «И если удалось за прожитую жизнь сделать для Родины хоть что-то полезное, спасибо тебе, Николай Островский, любимый писатель, друг, человек». А вот идущие от сердца слова ученика 10-го класса одной московской школы: «Николай Островский! С чувством гордости за великую Родину произносим мы его имя! Николай Островский! С этим именем шли на смерть молодые люди в годы Великой Отечественной войны! Имя Николая Островского, заглушая рев реактивных двигателей и взрывы атомных бомб, зовет нас на великую борьбу за счастье народа! И над этой книгой мы клянемся, что станем верными продолжателями великого дела построения мира на земле».
Первый космонавт Юрий Гагарин записал:
«Таких людей — народ не забывает. Жизнь Николая Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи»
[1].
Сегодня его творчество исследуют ученые-литературоведы и горячие публицисты; о нем написаны диссертации и очерки, изучается его биография, его творческая лаборатория, его место в литературном процессе тридцатых годов, в истории всей советской литературы, его роль в становлении того всемирно-исторического явления, которое зовется мировоззрением советского человека.
Я не могу и не хочу повторять других авторов. Биография, которую я пишу, — это прежде всего пережитое мною лично. Это жизнь замечательного человека, увиденного мной очень близко. Я понимаю, что у такой точки зрения есть свои трудности. Но я расскажу читателям прежде всего то, что знаю сама, что произошло на моих глазах…
Потому что при имени «Николай Островский» я все-таки вижу не монументальные скульптуры, не героев соответствующих фильмов и даже не то лицо, которое чаще всего смотрит на читателя с массовых изданий книги о Корчагине.
Я вижу того молодого парня с пристальным взглядом за обеденным столом у нас, в Новороссийске 1928 года…
Итак, я жила тогда с родителями в городе Новороссийске. У моей мамы Любови Ивановны Мацюк была подруга в Шепетовке; звали ее Ольга Осиповна, у нее была дочь Екатерина и два сына: Дмитрий и Николай. И вот, помню, в мае 1926 года Ольга Осиповна написала нам, что ее сын Коля лечится в одном из крымских санаториев и что после лечения врачи рекомендуют ему пожить несколько месяцев на юге — закрепить результаты лечения. Письмо заканчивалось просьбой принять Колю.
Его сразу пригласили.
Вскоре получили второе письмо. Уже от самого Николая. В письмо он вложил свою фотографию, просил выслать наши. Давайте заочно познакомимся, писал он, чтобы при встрече на знакомство времени не терять.
Я подумала: вот это темп!
Получив фотографию Николая, мы с сестрой рассматривали ее с любопытством. На нас смотрело красивое, серьезное, вдумчивое лицо.
Мне тогда было двадцать лет. Моя сестра была уже замужем и имела девятимесячного сына, но тем не менее каждая из нас сочла, что фотография Николая прислана именно ей.
На самом же деле она была прислана всем нам, ведь Николай еще никого не знал в нашей семье.
Помню, в момент получения письма сестра кормила сынишку. Мальчик сидел на высоком детском стульчике у стола на веранде, а я стояла во дворе у окна. Распечатав письмо, я достала фотографию и через окно показала сестре. Она попросила передать снимок ей, чтобы посмотреть ближе. Я же, зная, что она не может отойти от ребенка, стала поддразнивать ее:
— Ну и красивый парень!
Наконец, уложив ребенка в кроватку, сестра вышла ко мне во двор. Тогда я стала бегать от нее, она — за мной. Устав, я передала фотографию ей.
— Да, — сказала она, — парнишка ничего, смотри не влюбись!
Вскоре пришла мама.
Письмо и фотография вызвали у нее массу воспоминаний о ее давней дружбе с семьей Островских.
Моя мать, да и отец тоже уроженцы того самого села Вилия Острожского уезда Волынской губернии
[2], где жили Островские и где родился в 1904 году, 29 сентября по новому стилю, самый младший сын Алексея Ивановича и Ольги Осиповны Островских — Николай. Ольга Осиповна была свахой моей матери.; свадьбу сыграли в недостроенном доме Островских. К сожалению, Островским не пришлось пожить в том доме: он строился на деньги, взятые в долг, за долги пришлось дом и продать.
Узнала я от моей мамы и подробности ее жизни в молодые годы — жизни, столь характерной для тех лет.
Когда умер мамин отец, она сразу оказалась в доме лишним ртом. И как ни странно, упрекала ее в этом родная мать. Она все время твердила дочери о замужестве. Едва маме исполнилось семнадцать, пошли сваты. Женихов хватало, а вот любви не было. Много слез пролила тогда мама. Жила она в лесу, где ее отчим работал лесником. По праздникам приезжали в село и непременно ходили к Островским.
И вот в одну из встреч мама рассказала Ольге Осиповне о своем горе, о том, что ее заставляют выйти замуж без любви. Поплакали. Ольга Осиповна предложила маме пожить некоторое время в доме Островских.
— Так все и получилось, — рассказывала мне потом мама. — Я согласилась и жила у них спокойно. Но моя мать не оставляла мысли о моем замужестве. И тогда я решила выйти за первого, кто здесь посватается. Первый был ваш отец…
После свадьбы родители мои уехали на Северный Кавказ и поселились в городе Новороссийске. А через год мама поехала в родные края и побывала в Вилии с дочкой — моей сестрой Лелей. По вечерам, когда мама и Ольга Осиповна сидели на скамейке у дома, около них играли две годовалые девочки. Одна была в розовом платьице, другая — в голубом, с чудесными кудряшками. «Девочка» в голубом — Коля Островский… От этого похожего на девочку мальчика до лихого кавалериста в буденовке, с клинком наголо — пятнадцать лет. До нашей первой встречи — двадцать один.
…Мама, Леля и Роза
[3] собрались идти встречать Николая. Я отказалась. Не могла преодолеть своей застенчивости.
Ушли. В окно вижу: мелькнуло и скрылось за поворотом светлое платье сестры Лели. Через минуту она неожиданно снова показалась из-за угла. Бежит быстро, запыхалась, прижимает ладони к груди. Увидела меня, что-то кричит, машет рукой, чертит в воздухе какие-то квадраты… Несмотря на то что в пылу увлечения Леля отхватывала рукой прямо-таки метровые пространства, я догадалась, что сигнализация касается всего-навсего маленькой фотографии Николая, которую Леля забыла взять у меня.
Достав карточку из комода, я передала ее сестре.
О том как они встретили Николая, мне рассказала Леля.
День был праздничный. На пристань пришли задолго до прибытия парохода. Толпа встречавших шумела, мелькали букеты, слышались шутки, смех. Приподнятое настроение толпы передалось и им, вызвав несколько чрезмерную веселость, которая, казалось, была не совсем уместна при встрече с больным человеком. Впоследствии сам Николай говорил, что именно веселье и смех сразу ободрили его.
…Минуты тянулись. Наконец пароход причалил, и Николай сошел на пристань. Он оказался высок и худощав. Серый, чуть мешковатый костюм подчеркивал его высокий рост. Палка в правой руке. Сошел, на секунду остановился, отыскивая в толпе знакомые лица. Сорвавшийся неожиданно ветер растрепал его темные густые волосы.
Леля первая узнала Николая по портрету и замахала рукой, не вполне, правда, решительно.
Николай подошел знакомиться.
— Так вы, разумеется, Леля, — улыбнулся он. — Правильно? Я вас узнал по фотографии. Как будто не перепутал, а?
Домой решили идти пешком. Николай говорил без умолку, весело и образно. Смеялись, слушая его рассказы — он с юмором описывал санаторные процедуры и покорность, с какой он, по его выражению, «отдавался крымским эскулапам».
Было заметно, что ему трудно идти. Приостановились, чтобы отдохнуть.
Повернувшись к спутникам, Николай, как будто стараясь что-то вспомнить, собрал на переносице тяжелые брови.
— Постойте… как же так… вот это да! Это называется «не перепутал»! Да вы же здесь не все!
Потер пальцем лоб.
— Нету этой, ну, этой… которая на карточке такая кудрявая, с упрямым подбородком.
— Ну, ну, вспоминайте! — сказала Леля.
— Вспомнил! Рая! Где же она?
— Осталась дома. Она стесняется новых людей. И вообще вашего брата, мужчин, недолюбливает.
— А за что же?
— Молодая слишком, не пришла еще пора.
— А-а-а! — многозначительно протянул Николай. — Причина существенная…
Еще через несколько минут они подошли к нашему дому.
Расскажу о городе, в котором мы тогда жили.
Новороссийск — один из крупнейших черноморских портов по вывозу хлеба. Крупный центр цементной промышленности. В те годы город был разделен на районы с различными названиями.
Центральная часть — «Город», здесь главная улица — Серебряковская. Сейчас — улица Советов. На этой улице в многоэтажных домах размещались огромные магазины, гостиница, банк, административные здания. Недалеко от центральной улицы, параллельно ей — набережная с морским вокзалом. Тут же — базар. Эта часть города раньше была «для избранных». После Великой Отечественной войны на месте рынка построен мемориал — памятник борцам, отдавшим жизнь за этот город.
А вот другие районы. «Стандарт» — поселок с красивыми стандартными одноэтажными домами, заселенный интеллигенцией. «Чеховка» — жители этого поселка, выходцы из Чехии, имели приусадебные участки и занимались в основном сельским хозяйством. «Мефодиевка» — рабочий поселок в полутора километрах от моря. На ее территории находился вокзал и железнодорожные мастерские.
Мы жили в Мефодиевке. Отец мой, Порфирий Кириллович Мацюк, работал плотником на пристани. Я училась на курсах кройки и шитья и подрабатывала в швейной мастерской. Жили мы в небольшом кирпичном домике. Стоял наш дом на углу Шоссейной улицы и Кольцовского переулка. В переулок выходили ворота и калитка со звонковым кольцом. Забор был в рост человека. Вдоль забора со стороны двора — кусты желтой акации, ее ветки свешивались в переулок.
Главная улица Мефодиевки — Шоссейная — была вымощена булыжником, тротуар выложен каменными плитами. Вдоль домов по краю тротуара шла сплошная стена белой акации. На Шоссейную улицу выходил небольшой забор с калиткой. Во дворе — четыре огромных дерева белой акации и большой развесистый дуб, как бы живая беседка. Под деревьями — сбитый из досок обеденный стол и четыре скамейки. Рядом фруктовые деревья, зелень, цветы. В углу садика, под развесистой вишней — скамейка. Этот уголок и полюбил Николай. Часто проводил здесь время за книгой.
Никто из нас не знал, что в этом-то небольшом кирпичном домике болезнь навсегда свалит Николая в постель.
Наша квартира состояла из двух комнат и кухни, служившей одновременно и столовой для всех нас, и спальней для моего брата Володи. Кроме того, была еще полутемная комната, нежилая.
В одной из жилых комнат жили отец с матерью, в другой — мы с сестрой; но за год до приезда Николая Леля вышла замуж и переселилась с мужем в нежилую комнату, смежную с моей. Наши комнаты сообщались узенькой дверью.
Перед приездом Николая мы долго думали над тем, куда его поместить, где поставить кровать, чтобы ему было спокойнее. Было решено отгородить шкафом в моей комнате угол. Так и сделали.
За несколько минут до прихода мамы, Лели, Розы и Николая с пристани я ушла из дому. Застеснялась.
Выходя во двор, я слышала, как по моему адресу ворчал отец.
Вернулась в половине девятого вечера. Все сидели в кухне за обеденным столом. Начищенный медный самовар приветливо шумел и пускал в потолок тонкую струю пара. Пользуясь тем, что все заняты гостем, я попыталась незаметно пройти в свою комнату, но Леля, встретив меня в коридоре, почти насильно втолкнула в кухню.
Николай повернулся ко мне:
— Ну что же ты скрылась? Неужели причиной мой приезд?
Не выпуская моей руки, он заставил меня сесть рядом.
Мама следила за самоваром. По выражению ее лица я догадалась, что она крайне недовольна моим поведением.
Не зная, куда себя девать, я встала и нечаянно наступила на хвост рыжему коту. Он пронзительно заорал. Все расхохотались. Напряжение спало.
Леля попросила Николая продолжить рассказ, начатый без меня.
— А как же Рая? Она же ничего не слышала.
— А так ей и надо. Пусть не уходит! — в один голос ответили Леля и мама.
— Ну что это вы в самом деле напали на девочку? — вступился Николай. — Уж я специально для нее расскажу все снова.
И он повел рассказ о Квасмане. Этот Квасман, по его словам, был в санатории его соседом по койке.
Постараюсь передать рассказ Николая:
— Я лежал в стационаре. В один прекрасный день в палату в сопровождении сестры вошел новый больной. Огромного роста, тучный, с большими красными руками, с совершенно круглым оплывшим лицом и маленькими бегающими глазками. Под мышкой он нес большую конторскую книгу. И вот он оказался моим соседом. Однажды, когда он после завтрака по обыкновению расположился со своей книгой и заскрипел пером, я спросил его: «Что это ты, папаша, все строчишь?» Он посмотрел на меня поверх очков и внушительно ответил: «Мумуары». — «Что?!» — Квасман опять посмотрел на меня, на этот раз с сожалением, и раздельно повторил: «Му-муары». — «А-а, — протянул я, едва сдерживая улыбку. — Почитать можно?» — «А отчего же нельзя. Можно», — сказал он и отдал мне свой гроссбух. На обложке книги я прочел крупную надпись:
МУМУАРЫ ПРО ФЕДОРА СЕМЕНОВИЧА КВАСМАНА. ТОМ 27.
Около слова «мумуары» стояла звездочка, внизу было примечание: «Мумуары — это иностранное, европейское слово, которое обозначает русские дневники». Так и написано. Это я запомнил слово в слово.
Переворачиваю первую страницу. Дата, затем, конечно, не совсем точно, но в основном следующее: «Вот Квасман опять в больнице. Здоровье Квасмана невеселое. Доктор Лобанский говорит: это от сердца, а по-моему, Лобанский дурак». Следующий день: «Здоровье Квасмана получшало. Доктор Лобанский прописал добавочно два яйца в день. Он все-таки башковитый». Перелистал я десяток страниц. «Здоровье Квасмана хорошее. Вчера выписался из больницы. За завтраком попалось тухлое яйцо. Съел с большим удовольствием. С малых лет люблю тухлые яйца. А больные — дураки; ничего не понимают…» И дальше опять: «Здоровье Квасмана ухудшается. Сердце опять дало перестук. Должно быть, скоро в больницу». Я спросил: «Что же, папаша, в предыдущих 26 книгах то же самое написано?» Он серьезно ответил: «Поскольку мумуары про Квасмана, значит, все то же. Двадцать три года пишу!» — «Продай, папаша, все книги!» — пошутил я. «Тю-тю-тю… не на такого напал. Один здесь аж двести рублей предлагал, а я знаю, что они стоят. Ого-го!»
Мы смеялись, слушая Николая.
Я подумала: «Как рассказывает живо…»
Много лет спустя, когда уже выявился в Николае художник, наделенный острой наблюдательностью и мягким юмором, я вспомнила эту сочиненную им устную новеллу о Квасмане.
Первый вечер, который Николай провел в кругу нашей семьи, в низкой уютной кухоньке, прошел незаметно. За рассказами, шутками Николая мы и забыли, что он болен и нуждается в покое.
Однако было уже поздно. На улице свистело: поднялся знаменитый новороссийский ветер. Застекленная веранда тихонько звенела разбитыми кое-где стеклами. Самовар, давно уже потухший, вдруг пискнул и затянул тонкую песню.
Мама сердито посмотрела на него и заткнула трубу колпачком:
— Чтоб тебя, распелся!
Николай удивленно поднял брови.
Заметив это движение, Леля улыбнулась и объяснила:
— Есть такая плохая примета: когда самовар замолчит, а потом вдруг тоненько запоет.
Николай рассмеялся:
— Вот среди стариков солдат ходит примета, что если на фронте трое прикурят от одной спички, то того, кто прикурил третьим, непременно убьют. А у нас со спичками на фронте было скверно — не хватало. Так я, чтоб доказать старикам нелепость приметы, перед самыми боями по нескольку раз прикуривал третьим. И разубедил.
Тогда, по этой реплике, я не представила себе всего того, что пережил уже этот двадцатидвухлетний человек.
…Николай посмотрел на дверь, ведущую на веранду, прислушался к ветру и начинавшему барабанить в стекла дождю, резко встал и в ту же секунду опустился обратно на стул. Глаза его потускнели, лоб сделался влажным и совершенно белым, отчего черные крупные брови выделились еще контрастнее.
Он вытянул обе ноги, провел правой рукой по коленям и задумчиво произнес:
— Да-а.
Потом усмехнулся и кивком головы показал на ноги:
— Выдают, проклятые. Ныли бы как-нибудь тихонечко. Приехал бы в Харьков, сказал бы ребятам: ну вот, совершенно здоров, давайте работу! А так, начнешь врать, а тебя как обухом по голове к земле пригнет — не надуешь. Опять работу не дадут…
Осторожно, держась за край стола, поднялся, шагнул несколько раз по кухоньке, облегченно вздохнул и, вытирая платком лоб, медленно пошел в комнату.
Первое время он выходил к столу. Шутил:
— Аппетит у меня плохой, может быть, в компании он будет лучше? Может быть, глядя на Раю, я заражусь ее аппетитом, а значит, и ее здоровьем.
Он действительно ел очень мало. Врачи рекомендовали ему по утрам выпивать по два свежих сырых яйца. Нам это не доставляло хлопот, так как куры у нас были. Но Николай стал отказываться, долго пришлось уговаривать его. Наконец согласился:
— Хорошо. Буду пить. Только одно условие. Готовить это блюдо будет Рая.
Все засмеялись и взглянули на меня. Я покраснела: честно признаться, я в те первые недели боялась, даже избегала Николая. Согласилась, понимая, что мой отказ его обидит.
Уже тогда болезнь ограничивала у него движения рук. Поэтому во время еды ему нужна была посторонняя помощь. Особенно когда он ел эти сырые яйца. Первое время он вообще кривился от такого блюда, но затем привык.
Как-то в воскресенье после завтрака он вышел во двор. Было тепло. Попросил стул, сел погреться на солнышке. Подошли мама и сестра с сынишкой. Разговорились.
Я мыла полы в комнатах.
Окончив работу, подошла к ним и незаметно стала в стороне. Николай посмотрел на меня и, обращаясь к маме, сказал:
— Люба, посмотри на свою дочку, какая она у тебя красивая!
Этого было достаточно. Я тут же ушла. Несколько дней не разговаривала с Николаем. Потом «помирились». Он сказал:
— Так вот ты какая! Ну а за что же ты на меня обиделась? Я вот и до сих пор не знаю причины. И метод-то какой выбрала — молчать! Лучше выложила бы всю обиду сразу, чем без объяснений дуться. Я вот так, молча, не могу, это для меня самое тяжелое. Впредь ты не поступай со мной так. Лучше изругай, избей, но не молчи! В разговоре ведь всегда можно найти общий язык!
Так понемногу я узнавала его.
Как-то утром, после завтрака, он попросил приготовить ему горячей воды, бритву и мыло. Я подала. После бритья он хотел убрать за собой. Ему это было трудно, я предложила свои услуги.
— Хорошо, но только опять не обижайся на меня, — пошутил он.
Я не ответила на шутку. Все убрала, а помазок в чашке с мыльной пеной поставила на окно в коридоре, рассчитывая, что уберу после, — что-то меня отвлекло, и я не сделала этого, а потом забыла.
На другой день Николай увидел неубранный помазок.
— Раечек, так ты, оказывается, начинаешь меня обманывать? Зачем? — сказал он строго. — Если тебе неприятно убирать за мной, скажи.
И тут же принялся сам за уборку. Я пыталась взять у него из рук помазок, но он не позволил мне помочь ему.
Я смешалась и окончательно решила избегать его. А если помогать, то только незаметно, чтобы опять не обидеть. Но незаметно мне не удавалось. Николай был настолько чуток, что от него ничего нельзя было скрыть.
Он все время по случаю и без случая обращался ко мне, говорил со мной, трунил надо мной. Так мало-помалу он научил меня обороняться от уколов. Я стала смелей.
И вот, надолго отлучаясь из дому, я уже скучала без Николая, без его шуток и смеха. И спешила домой с чувством, что меня дома ожидает радость.
Это был совершенно новый, небывалый человек в моей жизни. Из какого-то нового мира.
Масштабов его личности я тогда еще не чувствовала. Просто хотелось быть около него, слушать его, помогать ему.
У меня часто бывали две задушевные подруги. Они встречались с Николаем, беседовали с ним.
Как-то он сказал мне:
— Хочешь, я расскажу тебе о твоих подругах и об их дальнейшей жизни?
— А ну-ка интересно, говори, — попросила я.
И вот он подробно рассказал о каждой, об их интересах. Закончил так:
— Оксана очень скоро выйдет замуж, а Татьяна или поздно, или совсем не выйдет.
Тогда меня поразило, как точно он дал им характеристики. И жизнь их сложилась именно так, как говорил Николай.
В тот период у меня был друг. Я считала, что выйду за него замуж, но оттягивала решение, стеснялась сказать об этом родным, ибо все считали меня ненавистницей мужского пола, и вдруг… такое сообщение. Надо было набраться храбрости.
С приездом Николая я отложила на время этот вопрос, решила дождаться его отъезда. Он много трунил надо мной, и я не хотела, чтобы еще и на эту тему мне от него доставалось.
Как-то вечером я была в театре со своим другом. После спектакля он проводил меня. Мы немного постояли на улице возле дома и разошлись.
У нас все спали. Я тихонько прошла в комнату, боясь разбудить Николая. Вдруг он спросил меня:
— Ну как живет твой приятель? — И назвал его по имени. — Почему ты не познакомишь меня с ним? Когда ваша свадьба?
Я была поражена. Откуда он узнал его имя? Откуда ему известно о предполагаемой свадьбе? Ведь никто в доме ничего не ведает!
Долго я допытывалась об этом у Николая. Наконец он сказал смеясь:
— Эх вы, конспираторы. Я не спал, ждал тебя. Слышал, как вы подошли к дому, и даже слышал ваш разговор. Вот тогда и узнал все.
Мне оставалось только удивляться его слуху. Ведь он лежал в доме с кирпичными стенами. Окна были закрыты ставнями. И он все слышал!
2
«Моему сердцу 22 года…»
С появлением у нас Николая Островского круг моих интересов сразу расширился; именно Островский стал для меня источником всего того нового, что вошло тогда в мою судьбу. Что же до его жизни, то она была всецело подчинена одной цели — борьбе за новое общество, за торжество идеалов коммунизма. Это чувствовалось каждую секунду, в каждом разговоре, буквально в каждой реплике.
— Новое общество нуждается не в холодных наблюдателях и даже не в сочувствующих «болельщиках», а в горячих и прямых участниках великой стройки! Нужно, — говорил он, — не быть пассивными свидетелями того, как растет дворец человеческого счастья, и не нужно надеяться, что вы сможете как-нибудь бочком проскользнуть в готовое здание только потому, что вы живете в эпоху, когда произошла великая революция. Пусть не вы ее сделали — вы этого и не могли, это сделали для вас старшие товарищи, но у вас свои задачи — задачи больших будней! Пусть же ваши руки будут по локоть измазаны цементом, иначе в доме, построенном не вашими руками, вам будем и холодно и стыдно.
Он говорил горячо, с подъемом. Помню, я стояла у двери. Николай замолчал, как бы ожидая ответа.
В эту минуту в дверях показался отец. По выражению его лица было видно, что он слышал если не весь разговор, то последнюю его часть.
— Красиво говорите, — заметил отец, — с треском.
Николай не смутился. Быстро повернулся к отцу и с загоревшимися глазами, как-то по-мальчишески заносчиво спросил:
— А что?
Отец криво улыбнулся и, ничего не ответив, пошел к сараю.
Пройдя несколько шагов, он остановился и крикнул:
— Раиса, сходи сейчас же к соседям и принеси лопату! Они вчера брали.
Николай усмехнулся:
— Вот вам маленькое самодержавие. Я чувствую; ваш отец меня очень не любит…
Я молча пошла мимо него к калитке. Николай сделал движение пойти за мной. Я тихо попросила:
— Останьтесь. Мы еще поговорим.
Брови Николая резко поднялись:
— Поговорим, да? Хорошо.
И удивительное дело, от этого радостного взлета бровей, от интонации вопроса сердце мое совершенно неожиданно для меня самой забилось часто и громко.
Надо сказать, что я была любимицей отца. Старшая сестра была тихая, молчаливая, все свободное время проводила за чтением. Брат, самый младший из нас, рос слабым, болезненным мальчиком. Я же была подвижная, энергичная, охотно бралась за любое дело; все меня интересовало, все получалось. Я больше походила на мальчишку и вечно крутилась около отца: поправлял ли он забор, колол ли дрова, чинил ли нам обувь или шил ее, копал ли грядки, белил ли дом и квартиру — я за все бралась. Я часто бывала нужна отцу. И безусловно еще и потому он так много и часто нарочно при мне спорил с Николаем.
Горячие эти споры, доходившие иногда до ссор, касались молодежи, комсомола.
В ту пору я дружила с одной девушкой-комсомолкой, Таей. Она часто бывала у нас, рассказывала мне и Коле о работе портовой ячейки, о своих комсомольских делах. Тая легко находила общий язык с Николаем, а я слушала их разговоры. Я собиралась вступить в комсомол. Но отец противился этому. Он знал лишь одну молодежную организацию — бойскаутов, и ему не нравилось свободное поведение этих юношей и девушек. Когда-то он буквально загонял нас в дом, если по улицам шагали бойскауты, а мы с увлечением выбегали посмотреть на одетых в нарядную форму ребят. Отец, человек малограмотный, не видел разницы между бойскаутами и комсомольцами.
Николай пылко рассказывал ему о комсомольцах, о задачах комсомола, о новой замечательной молодежи. Но никакие доводы не могли переубедить старика.
Часто говорили они о революции 1905–1907 годов и наступившей затем реакции. Отец не принимал непосредственного участия в той борьбе, но он прятал революционеров в нашем подвале. Прятал и оружие. Участвовал в сборе средств. Вот один из сохранившихся документов:
«Настоящим подтверждаем, что Мацюк, Порфирий Кириллович материально помогал существовавшей в Новороссийске, подпольно работавшей группе социалистов-революционеров, начиная с 1907 по 1914 год. Во всю подпольную работу Мацюк был посвящен, в этом отношении ему все члены группы доверяли. Вся материальная помощь проходила через мою мать — Сазонову», — писал бывший политкаторжанин В. Сазонов
[4].
Году в четырнадцатом-пятнадцатом отец поехал в гости к родным в село Вилия. Там на него донесли, оп был арестован, просидел шесть месяцев. По своей неграмотности отец винил в своем провале огулом всех, и никакие разъяснения Николая не могли поколебать его. Часто споры кончались короткой фразой отца: «Хватит, все равно вы мне ничего не докажете!»
— Ну и строптивый старик. Его не перевоспитаешь, — говорил Николай.
Спорили и о новых браках. Поводом для споров был несчастливый брак моей сестры: с мужем она разошлась и жила с ребенком в доме отца. Отец винил ее за то, что она вышла замуж, как и многие в то время, против воли отца. Он же придерживался старых порядков и считал, что только тот брак может быть прочным, который устроен родителями, иначе брак быстро распадается.
— Характером не сошлись, — язвил он, бывало.
— Надо еще разобраться, почему это происходит, — возражал Николай. — Не надо все валить на новые порядки!
Отец ничего не хотел понимать: стоял на своем.
В спорах я теперь брала сторону Николая: какое-то подсознательное чувство говорило мне, что он прав.
Когда я слушала споры и рассказы Николая, на меня порой находило беспокойство. Что я буду делать? Чем заниматься? Выйти замуж? Иногда я этого просто боялась. Я видела несчастливые браки. И не только современные, но и старые. Я видела, что неудачные современные браки заканчивались разводами, и каждый продолжал жить своей жизнью. А семейная жизнь старых людей часто проходила в спорах, ругани, взаимных упреках.
Но все-таки: как мне жить дальше? Об учебе нечего и думать: нет средств. Да и традиция большинства семей того времени— учить только мальчиков. Но споры Николая с отцом постепенно открывали мне глаза. Я тянулась к той жизни, к тем новым, замечательным людям, к которым принадлежал Николай.
Отцу не нравились прямые, резкие суждения Николая, не нравилось, что многое, о чем говорил он мне и сестре, звучало как призыв уйти из-под влияния отца с его старыми взглядами на жизнь.
Однажды в воскресенье все домашние разошлись. Ушла и сестра, оставив мне десятимесячного мальчика. Пока я гуляла с ним во дворе, Николай что-то писал на кухне. К вечеру я зашла в комнату укачивать ребенка. Он заснул, и, продолжая его тихонько покачивать, я разговаривала с Николаем.
Он снова начал трунить надо мной, над моим приятелем. Спрашивал, скоро ли я буду играть свадьбу.
Затем, близко придвинув ко мне стул, спросил:
— Почему ты нигде не бываешь? Не развлекаешься?
— Не хочется, да и некуда ходить. С вами интереснее. Много нового я узнала от вас.
— Зачем все это: «вам», «вы», к чему эта официальщина?
Я промолчала, не зная, что ответить.
— Помнишь, Рая, ты на днях, уходя к соседям за лопатой, сказала, что мы еще поговорим. О чем?
Очевидно, я покраснела, потому что он улыбнулся и сказал:
— Хочешь, я скажу за тебя, о чем ты хотела говорить?
— Ну скажите.
— Не «скажите», а «скажи». Перестань наконец «выкать». Так я скажу…
Николай не мигая смотрел мне в лицо.
— Ты хотела рассказать о том, что тебе становится душно. Так ведь?
— Так…
— Это замечательно, Рая! Все складывается лучше, чем я ожидал. Значит, мне не нужно агитировать тебя, чтобы вырвать отсюда. Ты, конечно, понимаешь, что дело касается в основном тебя, ведь старика не перевоспитаешь. А ты должна принадлежать сегодняшнему дню.
Я молчала, не решаясь высказать все то, что всколыхнулось в моей душе. Молчал и Николай. Потом добавил:
— Так значит, Рая, у тебя найдутся желание и силы?..
— Желание у меня есть, а силы? Не знаю.
…Эта фраза, очевидно, врезалась в память Николая. Несколько лет спустя в романе «Как закалялась сталь» Тая Кюцам дословно повторит ее.
Как жил он в эти месяцы? Заставить Николая отдыхать было невозможно. Иногда с утра после завтрака он уходил знакомиться с городом, с людьми. Порой целые дни проводил в городской библиотеке, которая находилась в трех километрах от дома.
Когда мы говорили об отдыхе, отвечал:
— Хватит с меня санатория, там я отдыхал! Месяца через два я должен начать работу. Надо приучать ноги к ходьбе, не дать им разбаловаться.
Вечером возвращался усталый, веселый. Делился впечатлениями, шутил. Помню, как-то он рассказал, что почти целый день провел в горкоме комсомола.
— Пытался говорить с ребятами о работе. Их поразила моя просьба. Я видел удивление на их лицах. Никто не отказал, но каждый счел своей обязанностью напомнить мне о необходимости лечения.
Эти частые прогулки дали себя чувствовать. Ноги опухли сильнее, боль увеличилась. Ходить с палкой стало трудно — надо было возвратиться к костылям, которые Николай привез с собой из санатория. На смену прогулкам пришли книги. Теперь я часто ходила с ним в библиотеку.
Старшая на выдаче книг — курносая девица Дуся — невзлюбила Николая: она, видимо, считала его слишком придирчивым и въедливым клиентом.
Однажды Николай попросил «Войну и мир» Толстого.
— Что вы, товарищ, у нас такой книги нету! — с оттенком некоторого удовольствия заявила Дуся.
— Как это «такой»?
— А вот такой, о которой вы спрашиваете! Мы ее изъяли, там вредные идеи. Вот возьмите Гладкова, Маяковского.
— Послушайте, — с трудом сдерживаясь, сказал Николай, — Гладков и Маяковский хорошие писатели, я их очень уважаю, но в данный момент я прошу Толстого, «Войну и мир»!
— Товарищ, такой книги нет! Мы строим работу нашей библиотеки в соответствии с пролеткультовскими задачами!
Николай вскипел:
— Вы мне пролеткультом в нос не тычьте! Сейчас не время в деле культуры схемами заниматься!
— То-ва-рищ посетитель! — повысила тон Дуся. — Не отнимайте у меня время! Если вы человек современный, так должны понимать, что все литературные кумиры ненавистного прошлого отмирают.
Губы Николая дрогнули. Я видела, что он сделал усилие, чтобы не расхохотаться, и с приветливым лицом сказал почти ласково:
— Что касается литературных кумиров прошлого, то, черт с ними, пускай отмирают. Но очень жаль, что то же самое происходит с вашими мозгами. Они отмирают прямо на глазах.
Когда мы шли домой, Николай сказал:
— Сначала было хотел обозлиться, а потом разобрал смех. Что с нее возьмешь? Дура! — И, подумав, добавил: — А в общем дура довольно вредная.
Читал он запойно.
Надо сказать, что он не все книги читал от корки до корки. Но о каждой мог рассказать. Читал он их по-своему. У некоторых книг читал начало и конец, а потом проверял, верно ли догадывается об остальном содержании. Иногда начинал книжку, но быстро угадывал дальнейшее, — такую книгу он отбрасывал, не хотел тратить на нее время.
Но были книги, которые он не просто читал, а буквально изучал: Пушкин, Чехов, Горький, Л. Толстой…
С большим интересом читал литературу о гражданской войне: «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаева» и «Мятеж» Д. Фурманова, повести Вс. Иванова и Б. Лавренева, «Города и годы» К. Федина, «Комиссары» Ю. Либединского.
Из поэтов любил Демьяна Бедного, В. Маяковского, А. Безыменского, А. Жарова. Интересовала его научная литература, исторические мемуары. Брал и переводную литературу: «Король-Уголь» Синклера, «Туннель» Келлермана, «Огонь» Барбюса.
Спорить о книгах очень любил. И когда вокруг него и по его инициативе вспыхивали-диспуты о новых книгах, Николай охотно и даже азартно направлял эти споры, руководил ими.
В ту пору Островский составил себе расписание дня. Не помню точно, в какой последовательности шли отдельные пункты, но помню, что в расписании значилось:
Чтение политической литературы.
Чтение художественной литературы.
Писание писем.
Политзанятия.
Прогулка.
Особняком стояло: «Потерянное время». Под этим подразумевалось время, которое уходило на завтраки, обеды, ужины и отдых без книг.
В один из редких солнечных дней Николай отправился пройтись. Я была занята хозяйственными делами. Закончив их, легла отдохнуть и не заметила, как уснула.
Проснулась от незнакомого детского голоса. Потом заговорил Николай:
— Так, так, все это понятно, но что же все-таки ты умеешь делать?
— А во!
За этим последовало легкое движение, словно кто-то показывал гимнастический номер.
Николай рассмеялся:
— Ну это, брат, хотя и ловко, но не очень много А кроме этого?
— А еще вот.
И молодой ломающийся голос запел: «Не окраине где-то в городе…»
— Ну хватит, — перебил Николай, — теперь мне уже ясно, что ты умеешь, но все это не то. Давай поговорим всерьез. Расскажи мне о своих родителях, товарищах.
Мальчик коротко рассказал о себе.
Молчание. И снова голос Николая:
— А теперь я тебе кое-что расскажу о себе.
Николай начал рассказывать гостю о своем детстве, о том, как пошел на фронт.
Я догадалась, в чем дело. Николай не раз говорил со мной о беспризорности, называл ее язвой наших дней.
— Хуже всего, — замечал он, — что этой язвой поражено самое замечательное, самое радостное — дети.
Я не видела нашего гостя. Но вечером в тот же день Николай рассказал мне о дружбе с беспризорником Федькой. Кажется, оба они прониклись друг к другу симпатией, и Федька обещал сводить Николая на «хазу».
— Мне это как раз и надо! — сказал Николай. — Уж я там с ними поговорю! Курносого мой рассказ определенно захватил. С того же начну и с остальными.
К сожалению, здоровье не позволило Николаю осуществить его план. Сходить на «хазу» он не смог. Но однажды поздно вечером в доме у нас появился мальчик лет восьми-десяти. С ним был его спутник: большая собака. Оба, голодные, грязные, худые, забитые, смотрели исподлобья, боялись, что их прогонят. Лохмотья едва прикрывали худенькое тельце мальчика. Он беспрерывно дергал плечами, так как одежда была полна насекомых.
Николай нашел мальчика на улице, в подворотне, где тот прятался вместе со своим четвероногим другом, и привел в дом. Попросил мою мать накормить мальчика и оставить его до утра. Мы начали готовить гостю ванну. И когда он, чистенький, хотя и одетый в платье с чужого плеча, сел за стол, — как изменилось его лицо! Появилась чудесная, немного застенчивая детская улыбка, повеселели глазенки. Всем нам было весело и радостно. Николай не сводил глаз с преобразившегося ребенка.
Мальчик прожил у нас неделю. За это время Островский выхлопотал ему место в детском доме.
Как-то поздно вечером, вернувшись домой, я увидела, что Николай не спит. Спросила:
— Что это ты полуночничаешь?
Он смущенно улыбнулся:
— Извини, пожалуйста, Рая, но знаешь, я завтра уезжаю в Харьков. Попробую найти там работу.
Я растерялась и не знала, что сказать.
— Завтра утром нам, быть может, не удастся перекинуться словом, так я решил теперь напомнить о том, что у тебя есть желание вырваться… ты помнишь?
— Помню.
— Ну а силы мы найдем вместе. Сейчас темно, и я не вижу твоего лица, жалко, мне хотелось бы знать, что оно выражает.
— Вот и хорошо, что не видишь…
Утром я проводила его к поезду. Садясь в вагон, он сказал:
— Знаешь, Рая, я как-то очень глупо волнуюсь, как школьник перед экзаменом. Я бы, наверное, не стал волноваться, если бы от меня все зависело, уж я бы своих зорких экзаменаторов обставил, но вот, — он показал на ноги, — им разве прикажешь?
…В Харькове Николай пробыл недолго. Подходящей работы найти не удалось, и он отправился в Москву к своему другу Марте Яновне Пуринь.
Марта Пуринь и ее подруга Надя Петерсон жили в Гусятниковом переулке, ныне Большевистский, в доме на третьем этаже. С трудом передвигая костыли, Николай добрался до квартиры.
У Марты была большая библиотека. Оставаясь один, Николай целые дни проводил за чтением. Но все чаще и чаще приходилось откладывать книгу: участились головные боли — сказывалось ранение в голову. Кроме того, от постоянного чтения воспалялись глаза. С нетерпением Николай ждал вечера, а с ним и друзей. И когда комната заполнялась людьми, человеческими голосами, становилось веселее. У Марты собирались товарищи-партийцы. Николай был самый младший. Старшие товарищи рассказывали о новостях. Николай оживал: ведь в Новороссийске он был оторван от партийной работы. А здесь, в кругу близких ему по духу товарищей, как бы возвращалось то время, когда он, молодой, здоровый, неутомимый, комсомолил, сплачивал молодежь в Берездове, в Изяславе… Все казалось временным: и болезнь, и костыли, и инвалидность.
«В Москве же я отдохнул в первый раз за всю свою жизнь. Был в кругу родных ребят — друзей, набросился на книги и все новинки…»
[5] — писал он медсестре А. П. Давыдовой, которую знал по Харьковскому медико-механическому институту.
А здоровье все ухудшалось.
В конце сентября — телеграмма. Коля сообщал, что выезжает из Москвы скорым. Просил встретить.
Николай снова у нас. С большим трудом ходит при помощи костылей. Много говорит о работе, о товарищах, о том, что к нему несправедливо относятся, маринуя на «отдыхе». Он не старается скрыть досаду и огорчение, но это не глубокая, прорвавшаяся в минуту откровенности горечь, а просто вспышка — начинает сердиться, ругает костыли, инвалидность и «несознательных» товарищей.
Все это бросилось мне в глаза в первый же день его приезда.
На следующее утро я нашла Николая заметно взволнованным. Спросила о здоровье. Он махнул рукой.
— Здоровье чепуха. Замечательное здоровье… Я иду сейчас в горком партии. Необходимо встать на учет!..
Вернулся очень грустный. На всю жизнь запомнился мне тот вечер. Николай молча вошел в дом, разделся и сел у стола. Долго ни с кем не разговаривал.
Я сильно встревожилась. Обыкновенно он возвращался хоть усталый, но бодрый, и рассказам не было конца. Шутил, смеялся и нас заражал своим оптимизмом.
Когда молчание стало невыносимым, я спросила:
— Что случилось?
— Ужасного ничего. Просто надоели мне ноги, которые отказываются служить, надоела пенсионная книжка, которая залежалась в кармане и жжет огнем, надоели одни и те же слова товарищей: отдохни, подлечись.
И он с
печалью закончил:
— Как люди не могут понять простой вещи, что у меня в груди бьется сердце, которому только двадцать два года!!
Дня три после этого Николай был неразговорчив. Часто морщился от боли. Чувствовалось, что в душе у него произошел перелом. Я с тревогой наблюдала за ним. Вскоре между нами произошел разговор, который усилил мое беспокойство.
Как-то после вечернего чая я зашла в кухню. Николай сидел у стола и, казалось, чем-то был занят. Подойдя поближе, я увидела, что он чистит браунинг. Перед ним лежали густо промасленные части. Продев тонкую тряпочку между кольцами какой-то пружинки, Николай старательно ее протирал.
Я подсела к нему:
— Чего ты, Коля, последние дни такой кислый?
— А отчего мне не быть кислым?
— Ну просто не похоже на тебя.
Николай усмехнулся и промолчал.
— Неужели на тебя так подействовал отказ горкома дать тебе какую-нибудь работу?
— Ничего на меня не подействовало. Просто злость. Злость задушила. На собственное предательское тело. Но это ничего. Это пройдет.
Он собрал браунинг и, слегка подкидывая его на вытянутой руке, спросил:
— Ничего штучка?
Потом любовно погладил черное, лоснящееся от масла дуло и тихо добавил:
— Этой штучкой все можно сделать…
Тон, каким была сказана эта фраза, потряс меня.
— Кончай, пожалуйста, любоваться своей штучкой! — Я старалась говорить непринужденно и весело: — Убирай эти тряпочки, я сотру со стола. Всю клеенку замаслил!..
Прошло две недели. Все чаще мучила Николая острая боль в суставах. В черных глубоких глазах застыл нехороший сухой огонек.
Вечерами, если мы с ним не бродили по улицам города, Николай сидел дома. Однажды он не вышел к ужину. Приоткрыв дверь, я увидела, что комната пуста. Были глубокие сумерки, Николай уже не мог сидеть во дворе с книгой, как это он часто делал. Тем не менее я обошла весь двор и вышла за калитку. С моря дул свежий ветер. Долго и пристально, до боли в глазах, я всматривалась в темнеющую улицу. Старалась не думать о том, о чем думалось против воли: о подавленном состоянии Николая последние дни. Перед глазами возникала тонкая сухая рука с лежащим на ладони браунингом, из головы не шли слова: «этой штучкой все можно сделать»…
Наши спали. В тревоге я несколько раз выходила за калитку.
На востоке уже слабо намечался белесый предрассвет. Я еще раз вошла в комнату, посмотрела на часы: начинался третий час ночи. Почти в эту же самую минуту я услышала знакомые шаги у веранды. Выскочила во двор и столкнулась с Николаем…
Он был так утомлен, что свалился на постель не раздеваясь. Рассказал мне, что был на собрании городского партактива в клубе водников. Выступил в прениях. Запомнил, какими удивленными взглядами провожали его, когда он шел к трибуне.
— Я понимал их удивление. Представь себе картину: больной, бледный парень без кровинки в лице, в сером мешковатом костюме, опираясь на костыли, медленно поднимается с места, медленно проходит на сцену, с трудом взбирается по ступенькам… Но, когда я стал говорить, забыл обо всем. Потому что мне не мешали. Я чувствовал: слушают внимательно. Когда же я кончил и сел на место, то слышал шепот соседей: они приняли меня за представителя ЦК партии… По окончании собрания товарищи предложили подвезти домой. Я отказался, мне хотелось посидеть немного в парке.
…Он отдохнул, потом стал искать дорогу. Но, час проплутав, понял, что дорогу домой найти не может, ведь был в клубе впервые. Улицы пусты, спросить не у кого. Страшно устал, еле держался на ногах. Потихоньку пошел. И только когда добрел до моря, сообразил, что идет в противоположную сторону. Понял, как далеко находится от дома.
В сквере около горкома партии сел отдохнуть. Силы окончательно покинули его. Мелькнула мысль: выстрелить и тем самым дать о себе знать, но удержался. На его счастье мимо проезжала пролетка. С трудом уговорил товарища подвезти. Тот согласился, но высадил Николая за два квартала от дома. Дорога там засыпана галькой, нанесенной с гор во время дождя, и товарищ не хотел портить резину на колесах. Николай пошел пешком.
— Трудно мне было на костылях пробираться по гальке, еле-еле удержался, чтобы не упасть. Но, как видишь, добрался благополучно.
Несколько минут мы молчали, погруженные каждый в свои думы. Было уже пять часов утра, я собралась уходить.
— Раек, — проговорил Николай, — ты не оставляй меня сейчас одного. Много я передумал в эту ночь на берегу моря, там я устроил «заседание политбюро со своим «я» о предательском поведении своего тела». О многом надо поговорить с тобой…
Дальше мне хочется рассказать об этой ночи словами, такими знакомыми читателю по книге «Как закалялась сталь»:
«— А я уже за тебя беспокоилась, — радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени.
— Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша. Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю, — также шепотом ответил он.
Тая заколебалась. Как же так, она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, веда, он же обидится. И о чем он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе.
— Дело вот в чем, Тая, — начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание. — Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание «политбюро» и вынес огромной, важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю.
Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке.
— Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух, подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой?
Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности.
— Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны, я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил: союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего, нашего человека, а я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны. А вырастешь — свободна от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни.
Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково:
— Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь.
Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием.
— А ты меня не оставишь?
— Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно: поверить, что такие, как я, не предают своих друзей… только бы они не предали меня, — горько закончил он.
— Я тебе сегодня ничего не скажу, все это так неожиданно, — ответила она.
Корчагин поднялся.
— Ложись, Тая, скоро рассвет».
Я привела этот эпизод из романа потому, что лучше, красивее я не смогу рассказать о том сокровенном для меня моменте — о начале нашей совместной семейной жизни.
Конечно, роман — не биография Николая Островского. Об этом он не раз писал и говорил. «Решительно протестую против отождествления меня — автора романа «Как закалялась сталь» — с одним из действующих лиц этого романа — Павлом Корчагиным…» И снова та же мысль в письме к секретарю ЦК комсомола Украины С. И. Андрееву:
«Ты понимаешь, Сережа, несмотря на все мое сопротивление, десятки писем и статей моих, все же книга «Как закалялась сталь» трактуется как история моей жизни, как документ от начала до конца. Ее признают не как роман, а как документ. И этим самым мне присваивается жизнь Павки Корчагина…
Когда я писал эту книгу, я не знал, что так все получится. Мной руководило лишь одно желание — дать образ молодого бойца, на которого равнялась бы наша молодежь». Однако Островский не отрицал, что роман в какой-то степени автобиографичен. В том же письме Андрееву он писал: «Конечно, я вложил в этот образ немного и своей жизни…»
Сейчас я не ставлю перед собой этой задачи — разобрать, в какой мере роман автобиографичен. Это большая работа. Мне же хочется просто поделиться с читателем воспоминаниями о жизни близкого мне человека, человека большого мужества, сумевшего побороть болезнь и написать неумирающий роман «Как закалялась сталь».
В ноябре 1926 года мы стали мужем и женой. Наш союз мы должны были скрывать, так как отношения Николая с моим отцом обострялись все больше и больше. Мы еще не находили выхода, еще не знали, где и как будем жить. Но для меня было ясно: без Коли я жить не могу.
Мы взаимно дополняли друг друга. Я по натуре энергичная, но стеснительная и немного замкнутая. Николай в противоположность мне был общительным и смелым. Пошутить и посмеяться любили оба.
Его оптимизм передавался и мне. Не хотелось верить, что человек в 22 года будет побежден болезнью.
Под влиянием Николая я становилась тверже и смелее. Казалось, что я все смогу, все вынесу. Меня ничто не страшило. На здоровье я не жаловалась.
Мы много говорили о будущем, о нашей счастливой семье, о детях.
Николай мечтал вернуться к комсомольской работе, к самостоятельной жизни.
А жизнь была пока безрадостной. Средств к существованию Николай не имел. «Чертова страхкасса… — писал Николай в Харьков П. Н. Новикову 20 мая 1927 года, — до сих пор (как ты ходил) не выслала в Новороссийскую страхкассу инвалидного дела, а здесь не дают денег!..» Правда, пенсия в 35 рублей 50 копеек не решала вопроса, но все же и это помощь. Я кончала курсы кройки и шитья и временно работала в швейной мастерской. Я понимала: пока я дома, нам нечего беспокоиться. У родителей было небольшое хозяйство. Вскармливался поросенок, были куры, утки. Но это нас не держало. Мыслями мы уносились далеко.
Проходили дни. Все чаще и чаще Николай оставался в постели. Мы с сестрой уходили на работу.
Дома моя мать ухаживала за Николаем. Николай к ней привязался. Он знал о ее неудачном замужестве. Жалел ее и осуждал старые законы, заставлявшие выходить замуж не по любви.
Увлеченно говорил о новых людях, о новой хорошей дружной семье, о счастье, которое построено на любви и доверии друг к другу. Помню, как мама говорила: «Откуда у него, молодого, такое знание жизни?»
О том, как тяжело было ему вставать по утрам, знали только я и моя мать, которая заходила к нам и помогала Николаю в его утреннем туалете. Она была свидетельницей того, как он вставал с постели. Николай говорил:
— Я придумал новый способ вставания и выковывания воли. По моей команде ноги, не сгибаясь в коленях, поднимаются вверх, вниз, затем быстрый рывок в сторону, и я на ногах.
Как всегда, он рассказывал это в шутку, с юмором, и невольно заставлял нас улыбаться. Но это был горький смех.
Несмотря на то что болезнь ежедневно приносила все новые и новые страдания, Николай умел скрывать их. И однажды он выкинул такой озорной номер, что совсем уж не подходил больному человеку.
Как-то в один из вечеров я сидела рядом с Николаем и играла на гитаре, а он тихонько пел, полулежа на кровати. В такт песне я покачивалась на стуле, поставив его на две задние ножки.
Стул стоял близко к узенькой закрытой двери, ведущей в комнату сестры. Мой маленький племянник спал в люльке; с ним сидела соседка, вдова, не первой молодости женщина.
Вдруг Николай сделал большие глаза, на минуту умолк, закрыв пальцем рот, чем дал мне знак к молчанию.
Оказывается, несмотря на звуки гитары и пение, он услышал в соседней комнате мужские шаги. Он знал, что у соседки есть жених. Но не это его заставило созорничать, а то, что этот жених, как мы знали, дал своей избраннице анкету с вопросами: сколько лет она была замужем, чем она болела и сколько раз, сколько у нее зубов и есть ли порченые, были ли дети и т. д. и т. д.
Островский терпеть не мог эту пару. Его — за глупую анкету, ее — за то, что согласилась отвечать на нее.
После минутного молчания мы продолжали петь. И вдруг Николай легонько толкнул меня. Я не удержала равновесия и невольно ударила стулом дверь. Дверь распахнулась.
Идиллия «молодых» была прервана. Николай, сдерживая смех, стал извиняться.
Они, конечно, поняли, что это за шутка, и маме пришлось выслушивать жалобы на нетактичное поведение «этого сумасшедшего человека». А когда мама стала Николая журить, он ей ответил:
— Люба, надо же женщине помочь, надо выиграть время, чтобы она разобралась в человеке! Вот мне и хочется дать ей это время.
Наступил праздник 7 Ноября. Николай с грустью говорил:
— Впервые в жизни годовщину Октября встречаю неорганизованно…
Николаю очень хотелось побывать на этом всенародном празднике, и я уступила его просьбе, хотя видела, каких мучений стоил ему каждый шаг.
В центр города, где проходила демонстрация, я привезла его на извозчике. Улицы цвели кумачом и яркими транспарантами.
Вдоль тротуаров стоят люди, наблюдая за гудящим, цветистым потоком демонстрантов. На некоторых жесткие лоснящиеся котелки и широкополые короткие коверкотовые пальто. На женщинах контрабандные чулки со стрелками. Пахнет пудрой Коти.
Это нэп.
— Видишь, Раюша, сколько здесь буржуев недорезанных, — Николай кивает в сторону нэпмана с толстой сигарой во рту.
— Почему буржуев? Какие же теперь буржуи?
— А как же! Кто же они, по-твоему? Все это мясо существует на нетрудовой доход. Купить и потом продать втридорога — это не советская работа.
— А зачем же им позволяют существовать?
Николай засмеялся:
— Ты, я вижу, совершенно не имеешь представления о нэпе. На первом же нашем занятии я объясню тебе.
Колонны демонстрантов сворачивают на площадь.
Над тысячами голов мерно раскачиваются знамена. Солнце сверкает на начищенных трубах.
Проходят рабочие цементного завода. Впереди старые кадровики, сражавшиеся за революцию. Их лица серьезны и сосредоточенны, шаг четок и тверд. За ними молодежь.
Я взглянула на Николая. Лицо его оживилось при виде голубых и сиреневых маек, загорелых лиц. Колонна молодежи пела бодрую праздничную песню. Когда замолкли голоса, Николай не выдержал и звонким высоким тенором закричал с тротуара:
— Да здравствует девятая годовщина Октябрьской революции! Да здравствует Ленинский комсомол! Ура!!!
— У-р-а-а-а! — дружно подхватили комсомольцы и, подтягиваясь, почти бегом прошли мимо.
Чей-то молодой, сильный голос начал новую запевку. Веселая песня поплыла над морем голов вместе со знаменами.
Николай проводил глазами колонну комсомольцев и улыбнулся:
— Это сама жизнь поет.
Я была поражена. Таким я его еще не видела.
Он весь подтянулся, глаза засветились, румянец слегка окрасил смуглые щеки. Казалось, стоит ему отбросить костыли, и он окажется среди тех, к кому так рвалось сердце…
Но демонстранты прошли мимо. А он еще долго смотрел им вслед.
«Моему сердцу всего двадцать два года», — вспомнила я.
3
Ольга Осиповна. Детство Николая Островского
В начале ноября 1926 года к нам в Новороссийск приехала погостить мать Николая Островского Ольга Осиповна.
Эта худенькая, маленькая, старая женщина, с морщинками на лице, уравновешенная, ласковая, внесла в нашу жизнь какую-то уверенность, надежду — Ольга Осиповна оказалась человеком сильной воли!
Сколько общего было у матери с сыном!
Она часто подсаживалась к нему, по-матерински целовала, гладила по голове и нежно шептала: «Колюська мой, дитятко мое…»
Горя своего не показывала. Всегда была приветлива, внимательна, весела.
С приездом Ольги Осиповны свободного времени у нас всех стало больше.
Вечер… Кончились все домашние дела, затихла жизнь в доме. Соседи погрузились в сон, успокоился и уснул мой отец, второй сон видит наш общий кумир — маленький племянник…
И вот мы — Ольга Осиповна, я, моя мать и сестра, — как заговорщики, собираемся у постели Николая и при тусклом свете засиживаемся далеко за полночь.
Как полюбила я эти вечера, полные воспоминаний! Я уносилась в неизвестное мне прошлое, для меня раскрывались страницы жизни любимого мной человека.
В общем разговоре сначала принимали участие все. Но постепенно мы умолкали, слушая Ольгу Осиповну.
…Ее жизнь, как и жизнь моей мамы, сложилась нелегко. С детских лет матери Николая пришлось работать на чужих людей: нянчить детей, копаться в огородах, пасти гусей. Учиться было некогда.
— Мне так надоели чужие дети, — рассказывала Ольга Осиповна, — что я с радостью вышла замуж за вдовца Алексея Ивановича Островского, который был старше меня на двадцать один год. Шла в надежде, что детей у пас не будет. Но ошиблась. Дети пошли один за одним. Всего их у меня было шестеро. Двоих похоронила в детстве, а четверых вырастила, причем почти одна: Алексей Иванович мало интересовался детьми. Ему было некогда, грамотный человек в селе нарасхват. Постоянной работы в селе не имел. Труд солодовщика на винокуренном заводе был сезонным, на лето завод закрывался, и Алексей Иванович переходил на работу сидельцем в винную лавку. Но чаще всего он уезжал искать работу в других селах и городах. Поэтому вся забота по дому и о детях ложилась на мои плечи. Чтобы как-то свести концы с концами, я занималась шитьем. За пошив юбки и кофты получала десять копеек, за фартук — пятак. Иногда заказчицы приносили молоко, яйца. Вот так я и жила в ту пору, выбиваясь из сил.
…Ольга Осиповна Островская. Так она записана в церковной книге, где зарегистрировано рождение ее сына Николая, так она расписывалась в документах. Уже после смерти Николая, в 1940 году, она написала «родословную Коли» и коротко сообщила о себе:
«Я родилась в 1875 году в городе Дубно Волынской губернии». Отец ее был выходец из Чехии. Приехал в Россию в 1862 году из Брно в группе переселенцев. Звали его Заяц Иосиф Иосифович.
Ольга Осиповна хотела, чтобы ее дети получили образование.
— Когда две старшие дочери, Надя и Катя, окончили сельскую школу, — рассказывала мне Островская, — встал вопрос: что делать дальше? Учиться нет средств. Алексей Иванович достал справку о том, что его отец был участником Севастопольской войны, и с этой справкой повез девочек в город Острог. Их приняли в городское училище на казенный счет.
Старшая дочь Надежда, окончив к шестнадцати годам курсы учителей, получила звание учительницы и была послана в село Боложовка на Западной Украине. Вскоре Надежда Алексеевна вышла замуж и поселилась с мужем под Петербургом. В 1920 году она умерла от тифа.
Вторая дочь Островских, Екатерина, тоже стала учительницей, вернее, помощницей учительницы, и работала в соседнем селе. Тоже рано вышла замуж, но разошлась с мужем. Впоследствии Екатерина Алексеевна вышла замуж вторично; в 1926 году она с мужем и дочерью жила в Шепетовке.
Старший сын Ольги Осиповны Дмитрий десятилетним мальчиком был отдан в учение в город Острог к хозяину Ферстеру.
— Осталась я одна с Колей, — вспоминала Ольга Осиповна. — Но сердце рвалось ко всем. Поэтому часто мне приходилось оставлять Колю одного. Особенно болела душа о Мите. Ведь ему только десять лет… и я чувствовала, что ему несладко живется у хозяина… Иногда в одну ночь, всеми правдами и неправдами, я добиралась до Острога, чтобы взглянуть на Митю.
Однажды иду по улице и вижу: мальчишка несет железо на плече, сам грязный, только глаза блестят. Присмотрелась — Митя! У меня ноги подкосились. Позвала его, а он не остановился. Я за ним. Он бросил во дворе железо и сказал: «Все равно уйду от хозяина!» Спрашиваю: «Что случилось?» Он поднял рубашку. Смотрю — весь в синяках. Рассказал, что пьяный мастер ночью послал его за водкой, стащив с постели. Митя не хотел идти, тогда хозяин стал топтать его ногами, ударил в живот.
Услышала я это, заплакала, стала успокаивать сына и обещала прислать отца. Дома рассказала все мужу, а он говорит: «Что ж тут делать, ведь ему нужно учиться».
На другой день иду я в погреб за картошкой, смотрю — стоит Митя, грязный, и стонет. Ввела его в избу, выкупала, уложила в постель. У него отеки на животе, страшно смотреть. Я хотела подать в суд, но поняла, что ничего этим не добьюсь…
Рассказывая, Ольга Осиповна украдкой от Николая смахивала слезы.
Погружаясь в прошлое, она на некоторое время забывала сегодняшнее, не менее тяжелое…
Но взглянув, бывало, на прикованного к постели своего младшего сына, обрывала свое грустное повествование о Мите и уже бодрым, веселым голосом начинала рассказывать о том, как рос ее Колюська.
…Из воспоминаний Ольги Осиповны:
— Коля с детских лет тянулся к знаниям, книгам. Когда ему исполнилось четыре года, он не отходил от сестер, особенно если они готовили уроки. Иногда, с разрешения учительницы, сестры брали его с собой в школу, усаживали за парту, и он сидел, не шевелясь, жадно впитывая все, что говорилось на уроках. Так незаметно он научился читать.
Судя по рассказам Ольги Осиповны, — я и тогда, в 1926 году, и позднее часто расспрашивала ее, — Коля рос живым, впечатлительным ребенком. Предоставленный самому себе, он целые дни просиживал у пруда. Иногда удавалось (украдкой от помещика, которому принадлежал пруд) ловить рыбу. Там же, у пруда, Коля читал книжки. От наблюдательного мальчика ничего не ускользало. Он видел тяжелый труд крестьян, рабочих, их детей, которые до изнеможения работали на панских полях. Он ненавидел панских сынов и дочерей, сытых, самодовольных, наглых, с пренебрежением относящихся ко всем беднякам. Рано мальчик стал понимать, что такое несправедливость в жизни.
И однажды по-своему, по-детски, он рассчитался с паном. Как-то крестьянки пришли к управляющему с просьбой доплатить им за проделанную работу. Тот отказал. Женщины ушли со слезами.
Коля все это видел. И вот он собрал своих друзей, выбрал момент, когда никого не было, и забросал камнями контору помещика.
— Возбужденный и довольный, Коля вернулся домой, — вспоминала Ольга Осиповна. — Не успела я и поговорить с ним, как влетел управляющий и бросился к Коле с кулаками. Я загородила сына. «Этот хулиган перебил в конторе все стекла!» — закричал разъяренный управляющий. Когда мы остались одни, я спросила Колю: «Зачем ты это сделал?» — «А пусть не издеваются над людьми!»
Из рассказов Ольги Осиповны было ясно, что Николай с ранних лет на своем собственном опыте учился классовому самосознанию. Повлияли на его формирование в детстве и рассказы отца, Алексея Ивановича. Об этом мне стало известно позднее из воспоминаний Екатерины Алексеевны: «Зимними вечерами отец рассказывал о боевых походах, о героизме русских солдат… С большим вниманием мы слушали его рассказы о боях на Шипке, под Горным Дубняком, у Плевны. Первые рассказы о революционной борьбе Коля слышал от отца, который после военной службы жил в Петербурге несколько лет, служил курьером в морском порту. Жил со студентами в одной комнате и встречался с революционной молодежью». Напомню читателю: в село отец приехал грамотным, бывалым человеком.
В 1910 году, когда Николаю исполнилось шесть лет, его отдали в церковноприходскую школу. В 1913 году он ее закончил с похвальным листом.
В 1914 году, когда началась империалистическая война, десятилетний Николай Островский жил с отцом в селе Турин, где Алексей Иванович гостил у своих родственников. Коля иногда пас лошадей, ходил с ребятами в ночное. Потом началась эвакуация гражданского населения из пограничной полосы. Насмотрелся тут Коля на бедствия, принесенные народу войной. Разоренные врагом жилища, пожары, бесконечный поток беженцев. Навстречу беженцам на запад шли эшелоны с солдатами.
Поздней осенью собралась семья Островских в Ше-петовке. Отец и Дмитрий поступили работать в депо.
— Коленька очень хотел учиться, и, хотя время было тяжелое, мы с Митей решили удовлетворить его просьбу. И он поступил в следующем году в двухклассное Шепетовское училище. Но учился там недолго: преподаватель закона божьего поп Акримовский невзлюбил Колю за то, что тот своими вопросами о создании жизни на Земле оспаривал «учение бога». Коля был исключен из школы. Что делать? Надо устраивать его на работу. Трудно было найти что-то подходящее. Пришлось, и то при помощи знакомых, определить Колю к хозяину станционного буфета при вокзале. Там он работал кубовщиком на кухне. Я думала, может, Коля хоть будет сыт. Но надежды мои не оправдались. Тяжелая работа по восемь-десять часов в сутки, ночные дежурства, оплеухи и подзатыльники изматывали его…
Воспоминания Ольги Осиповны хочется дополнить рассказом Николая об этом периоде:
— Занятие это было, мало сказать, тяжелое: то принеси, другое принеси, сбегай, сдуй, слетай — уж очень жизнь видел всегда снизу, как грязные ноги прохожих видишь из окон подвала. Сколько погибших людей прошло перед моими глазами — не счесть!.. Сколько ужасных картин унижения человеческого навиделся «буфетный мальчик»… Но чем больше страшного и жалкого я видел, тем сильнее росла во мне думка: «не могут люди жить так всегда, лопнет у них наконец терпение… не настоящая это жизнь для человека!..»
Только книги отвлекали мальчика от окружающего. Он любил читать о героях, о борьбе за счастье человека. С увлечением прочел роман Этель Войнич «Овод», зачитывался рассказами о великом итальянском борце за свободу Гарибальди.
— Ничего я не любил так, как книги, — говорил много позже Островский. — Для этого я готов был пожертвовать всем. Служа «мальчиком» на кухне, я отдавал свой обед газетчику за то, что он разрешал мне в короткие минуты ночного перерыва читать журналы и газеты.
Брат писателя Дмитрий Алексеевич вспоминал о том периоде:
— Тяга к знаниям у Николая не остывала… Но где доставать книги? Николай нашел источник. Через станцию Шепетовка ежедневно проходили десятки поездов, большей частью воинские эшелоны. Когда солдаты выгружались на станции и пешим порядком отправлялись на фронт, Николая можно было часто видеть среди них. Его интересовали книги — не даст ли кто-нибудь? И ему дарили иной раз либо книжку, либо журнал. Так он собрал «свою библиотеку» — около двухсот различных книг и журналов. Всю эту литературу он хранил на чердаке дома, в котором мы жили. Сделал полочки, разложил на них свои сокровища и даже сделал занавесочки из рогожи, добытой в интендантском складе… Многие вечера проводил он за книгами… Вместе с ним увлеклась и мать, которой он много читал…
Из рассказов Николая мы знали, что не всегда герои прочитанных книг удовлетворяли его, и часто он своей детской фантазией «исправлял» автора, восстанавливая справедливость.
Много лет спустя, 23 октября 1935 года, на собрании сочинского партактива, посвященном награждению Островского орденом Ленина, он вспоминал об этом:
«Меня часто спрашивают, как я стал писателем. Этого я не знаю. Но как я стал большевиком, это я хорошо знаю!
…Я хочу рассказать вам о далеких детских годах, об одном эпизоде, который отчасти ответит на оба эти вопроса.
Помню, мне было тогда двенадцать лет. Я работал «мальчиком» в кухне станционного буфета. Почти ребенок, я познал на своей спине уже всю тяжесть каторжного труда при капитализме. Я принес с трудом добытую книгу — роман какого-то французского буржуазного писаки. В этой книге, я прекрасно помню, был выведен самодур-граф, который от безделья издевался над своим лакеем, изощряясь в этом как только мог, — щелкал его неожиданно по носу или кричал на него вдруг так, что у него подгибались со страху колени.
Читаю я про все эти штучки своей старушке матери, и стало мне невмоготу. И вот, когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, — вместо того, чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему.
Правда, при этом французский изящный стиль полетел к черту и книга заговорила рабочим языком: «Тогда лакей обернулся до етого графа, да как двинет его по сопатке! И то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило…» — «Погодь, погодь! — вскрикнула мать. — Да где же это видано, чтобы графьев по морде били?!» Кровь хлынула мне к лицу: «Так ему и надо, подлюге проклятому! Пущай не бьет рабочего человека!» — «Да где ж это видано? Не поверю. Дай сюда книжку! — говорит мать. — Нет там этого!» Я с бешенством бросаю книжку на пол и кричу: «А если и нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал бы…»
Вот, товарищи, еще ребенком, читая подобные рассказы, я мечтал о таком лакее, который даст сдачи графу…»
Когда речь заходила о детских проказах Николая, Ольга Осиповна преображалась, в ее речи начинал звучать неповторимый украинский юмор:
— Чикайтэ, вот я вам еще что расскажу о его выдумке! Вот какой номер он выкинул, когда работал на кухне при вокзале. Как-то вечером, после работы, войдя в комнату, он стал громко, почти криком, рассказывать мне о случае в буфете. Я его останавливаю, приказываю говорить тише. А он, как нарочно, говорит еще громче, почти кричит. Потом сразу метнулся к входной двери, с силой толкнул, да так, что она распахнулась настежь. И в тот же момент раздался душераздирающий крик: «Ах ты, скаженный! Чи ты с ума сошел! А шоб ты сгорив!»
Я подбегаю к двери и вижу такую картину: соседка стоит с огромной шишкой на лбу и продолжает ругать Колю. А Коля все извиняется и лопочет: «Так я же не знал, что вы здесь стоите…»
Соседка ушла. Я набросилась на Колю, а он мне говорит: «Ничего, мамуся, я давно замечал, что она подслушивает и подсматривает в замочную скважину — интересуется нашей жизнью. Вот мне и захотелось проучить ее».
На следующий день, утром, я услышала стук в дверь. Открыла. Это вчерашняя соседка: «Где ваш Колька? Я его сейчас отлуплю». Я ответила, что не знаю. «Лупите, — говорю, — если найдете». А у самой болит сердце: а ну как найдет? И что он еще натворил? Выхожу на двор. А там толпа собралась. Смотрят куда-то вверх, смеются. Спрашиваю: «Что случилось?» — «Да ничего. Читайте». — И мне указали на дерево, в ветвях которого висел транспарант, на нем было написано: «Кумушки, сегодня новостей не ждите. Во блямба набита». — «Кто это написал?» — «А кто же, как не Колька ваш!» — Мне было и смешно и горько…
Другой раз был такой случай. Как-то Коля говорит мне: «Мамуся, давай договоримся вот о чем. С вечера ты мне даешь задание, что сделать на следующий день. Я с утра все быстро сделаю, чтобы иметь свободное время».
Я так и поступала. И утром у него работа кипела. А когда он освобождался, то забирался высоко на дерево, усаживался удобно и читал. Там ему уж действительно никто не мешал. Однажды я его послала в лавочку за селедкой. А когда Николай пришел домой, я увидела, что селедку он несет за хвост, а бумагу, в которую должны были завернуть селедку, лист из какого-то журнала, бережно держит в другой руке. И этот листок пополнил его «библиотеку»!
…Много узнала я от Ольги Осиповны о жизни маленького Коли, о том, как формировался его характер.
— Он рос очень отзывчивым и внимательным, — вспоминала она. — Всегда ему хотелось мне чем-то помочь. Помогал и Митя, но он больше был занят на работе. Жили мы тогда в Шепетовке… У нас была небольшая хатка. Я ее сама белила. И вот как-то я заболела. Успела побелить комнату, а помыть пол уже не смогла. Пришел Коля с работы и начал мыть пол. Не успел окончить, как пришел Митя. Не снимая ботинок, он хотел пройти в комнату, Коля загородил дверь: «Не ходи. Окончу мыть, тогда зайдешь». Митя, не слушая его, попытался все же войти в комнату. Коля опять повторил: «Не ходи!» Но Митя не послушался и вошел в комнату. Коля схватил мокрую, грязную тряпку и ударил Митю. От взмаха тряпкой все четыре стены, которые
я только что выбелила, оказались забрызганы. Я укрылась одеялом с головой, чуть не плачу… Коля испугался, бросился ко мне, целует, успокаивает: «Мамуся, родная, не плачь, завтра я все исправлю». Тут и Митя стал меня успокаивать. Что мне оставалось делать? Успокоилась. А на другой день они сдержали слово: побелили стены. «Ну вот, мамуся, стены снова чистые. А Митю я все же проучил…»
Еще припоминаю рассказ Ольги Осиповны, — не помню уже, в ту ли осень 1926 года услышала я его или позднее, когда Ольга Осиповна жила с нами в Москве и в Сочи. Рассказала она следующее:
— Как-то я послала Колю к Мите в депо: надо было отнести ему завтрак. Наказала нигде не задерживаться. Время идет, а Коли все нет и нет. Я уже несколько раз выходила за калитку посмотреть, не идет ли он. Начала волноваться, так как знаю, что Николай никогда не обходит составы, а подлезает под вагоны. А были случаи, что поезд трогался и люди попадали под колеса. Собралась я уже сама идти к Мите. Только вышла на шоссе, смотрю — идет Коля. «Ну и задам я ему трепку», — подумала я. И едва он подошел, набросилась с упреками. Но он остановил меня: «Мама, не ругай меня. Я не мог прийти быстро вот почему. Когда я возвращался домой, навстречу мне шла женщина, страшно нагруженная: через плечо у нее были перекинуты два огромных мешка, чем-то наполненных, в одной руке она несла корзину с курицей и цыплятами, другой вела малыша лет двух-трех, он капризничал, упирался, не хотел идти. Женщина от усталости еле-еле шла. А надо было спешить к поезду! А тут еще, как назло, вырвалась курица, за ней рассыпались и цыплята, стали разбегаться. Ну, как ей не помочь? Я собрал цыплят и курицу, положил в корзину, завязал ее, взял мешки и проводил женщину на вокзал». — И вместо трепки я поцеловала своего мальчугана. Мне было радостно, что он такой добрый и отзывчивый.
Ольгу Осиповну — мягкую, добрую, серьезную — нельзя было не любить. И я очень привязалась к ней. А когда я уехала от родных и Ольга Осиповна поселилась у нас, она стала мне второй матерью.
Она пережила своего младшего сына. И до конца ее дней мы переписывались, и письма ее согревали меня. Я сохранила 160 писем от Ольги Осиповны. В первом письме после смерти Николая она писала: «8 января 1937 года. Милая Рая! Нет сил тебе описать мое одиночество. Места не приберу, где бы найти покой и на чем бы сосредоточиться. В комнате пусто…»
[6].
А в декабре того же года, в годовщину смерти Николая, она прислала мне свое «Воспоминание о Коле». Эта малограмотная женщина написала стихи, чтобы рассказать о своем горе:
Спи спокойно, Коля милый,
Ведь твои друзья
Каждый день в музей приходят
Навестить тебя.
Спи, дитя мое родное,
Я всегда с тобой,
Я твой вечный, неразлучный,
Верный часовой…
В суровое военное время — в 1943 году — я получила от нее групповую фотографию, на которой были изображены Ольга Осиповна, Дмитрий Алексеевич и Екатерина Алексеевна с детьми. В верхнем правом углу Ольга Осиповна подклеила фотографию Коли и мою. На обороте написала: «Дорогой Раюше. Посылаю тебе для музея фото нашей семьи. Я бы хотела, чтобы ты с Колей там была. Но если ты найдешь, что некрасиво, то сделай иначе. Но чтобы мы все были там, и надпиши, чтобы было ясно посетителям, кто на фото»
[7].
Да, Островский имел основания сказать: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, это — мать!»
Ольга Осиповна Островская умерла в Сочи в 1947 году, семидесяти двух лет от роду.
4
Боевые бури
На боевое время пришлось возмужание Николая Островского. 1917–1920 годы. Шепетовка, пограничный городок, объята пламенем классовой борьбы. Насколько ожесточенной была эта борьба, можно судить по тому, что власть в Шепетовке переходила из рук в руки много раз.
На улицах города — митинги по случаю предстоящих осенью выборов в Учредительное собрание. Каждый оратор призывает жителей отдать голоса за кандидатов его партии. Партия большевиков посылала на эти митинги своих представителей: надо было разъяснить народу, что несет с собой Учредительное собрание, на выборы которого буржуазное Временное правительство согласилось, стремясь удержать свое господство и помешать развитию революции.
Трудно было разобраться подростку Островскому во всех этих политических делах. Но когда он услышал большевика Ивана Семеновича Линника, то сделал выбор. На всю жизнь.
Вот что рассказал позднее И. С. Линник:
— Выступая на летучем митинге, я призывал голосовать за список, по которому проходили кандидаты от партии большевиков. Вдруг подходит ко мне мальчик и спрашивает, кто такие большевики? Я разъяснил ему, и он говорит решительно: «Буду голосовать за большевиков». Пришлось разочаровать его, сказав, что он еще мал, не имеет права голосовать. Это был Коля Островский. Наше случайное знакомство не оборвалось. Коля при каждой встрече заводил со мной разговоры на политические темы, всегда задавая умные и дельные вопросы…
А события нарастают. Россия объята революционным огнем. И вот наступает Октябрь…
25 октября (7 ноября) 1917 года входит в историю как день победы Великой Октябрьской социалистической революции в России. В этот день в Петрограде на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Ленин, обращаясь к делегатам, говорит:
«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась…
Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма…»
12 декабря 1917 года Первый Всеукраинский съезд Советов в Харькове провозглашает Украину Советской социалистической республикой.
Тогда Николаю Островскому было всего тринадцать лет. Но энергии и решимости ему было не занимать. Ольга Осиповна вспоминала о том времени:
— Коля рос отчаянным парнем. Ничего и никого не боялся. А ведь в Шепетовке в то время было очень неспокойно. Часто менялась власть… У Коли появились свои, секретные от меня, дела. Он сразу повзрослел. Часто стал отлучаться из дому, не всегда говорил, куда идет. Я не боялась дурных влияний, верила ему.
Осенью 1917 года Островский вновь поступил в первый класс Шепетовского двухклассного Народного училища. Сохранилось свидетельство об успехах и поведении ученика Николая Островского за 1917–1918 учебный год. Из 60 отметок — 56 пятерок и 4 четверки.
Летом 1918 года по заданию Житомирского губернского школьного совета в Шепетовке организовывается Высшее начальное училище.
— Осенью пришел в училище и Коля Островский, высокий, худой, смуглый мальчик с карими серьезными, глядевшими немного исподлобья глазами, — вспоминала Мария Яковлевна Рожановская, учительница этой школы. — Он сразу обратил на себя внимание тем, что не просто записался, как другие подростки, а начал с расспросов, что это за школа, Высшее начальное училище, правда ли, что все предметы будут преподаваться на украинском языке…
Коля был примерным учеником, помогал учителям в организации различных мероприятий, активно участвовал в постановке школьных спектаклей, играл на сцене, любил героические роли и неплохо исполнял их.
По вечерам он работал подручным кочегара на городской электростанции, а позже помощником электромонтера.
Он был неутомим. Находил время для всего. Всегда знал, что происходит в городе, всем интересовался, был в курсе политических новостей.
Когда Шепетовка в 1918 году была оккупирована немцами, ревком ушел в подполье. Николай не порывал
с подпольщиками связи, выполнял их задания. Он бродил по городу, собирал нужные сведения. При его помощи большевикам удалось обнаружить склады провианта, белья, обуви.
— Оккупанты увозили с Украины лошадей, продукты, — вспоминал И. С. Линник. — Целые составы с хлебом, сахаром, жирами тянулись через Шепетовку в Германию. Ревком решил обратиться к немецким солдатам с воззванием — прекратить грабеж украинских крестьян, повернуть оружие против Вильгельма и капиталистов, установить у себя власть трудящихся. Расклейка воззваний была поручена Коле Островскому. С готовностью взялся он за дело. Были у него верные друзья и помощники для такой работы, ставшие потом первыми комсомольцами Шепетовки… Под утро приходит он и сообщает, что все сделано. Оккупанты не на шутку встревожились этим воззванием, объявили осадное положение. Коля торжествовал: «Здорово мы немцев напугали, Иван Семенович, хотя нас немного, а их целое войско». Позже, когда немцы стали уходить, жители Шепетовки разобрали со складов оружие. Коля старался спрятать как можно больше. Для нашей организации тогда нужен был каждый револьвер, каждый карабин…
Под руководством партии большевиков в борьбу с оккупантами включились железнодорожники. Они выводили из строя паровозы, вагоны, задерживали отправление поездов в Германию.
Брат Островского Дмитрий Алексеевич рассказывал:
— В городе вспыхнула забастовка железнодорожников. Вся станция оказалась забита эшелонами. Оккупанты окружили город, вылавливали рабочих и под конвоем приводили их в паровозное депо. Николай находился в гуще событий. Помню, как он предложил группе товарищей, в которой находился и я, укрыться в церкви, где шло богослужение. Оккупанты и оттуда вытащили нас, повели на станцию. По обочине дороги, не спуская с нас глаз, шел Николай. Собрали в депо человек двести. И здесь я увидел брата, забравшегося каким-то чудом на поперечную балку. Позже выяснилось, что у него был револьвер, который он утащил у коменданта станции. Пристроившись на балке, он намеревался стрелять, если оккупанты станут бить рабочих.
Вскоре меня и Федора Передрейчука (один из прототипов Жухрая, героя романа «Как закалялась сталь») отправили с конвоем на паровоз. Нам приказали вести эшелон в сторону Славуты. Прибегает Николай и передает указание Линника: «Поезд не выводить со станции, в крайнем случае совершить крушение». Получив такое указание, мы решили, не прицепляясь к поезду, угнать паровоз. Отъехав километров семь от Шепетовки, спрыгнули с паровоза, а он помчался вперед. Перепуганный стрелочник направил его в тупик, где он потерпел крушение.
Около месяца мы с Федором скрывались в лесу.
Однажды мы с Передрейчуком получили задание от Линника: доставить в Шепетовку оружие. На указанном полустанке мы остановили поезд, где незнакомые нам товарищи погрузили на паровоз
сто винтовок и несколько ящиков с патронами. На станции Шепетовка нас встретил Сергей Ковальчук, член подпольной организации, как я позже узнал. С ним были Николай и сын дорожного мастера. Ковальчук сказал нам, что петлюровцы, дежурившие на станции, нашли цистерну со спиртом, перепились и передрались. Привезенное нами оружие выгрузили и спрятали в штабеле дров.
Воспользовавшись пьянкой вояк, Николай подобрал несколько «беспризорных» винтовок и принес на склад. Затем вместе с товарищами он по указанию Ковальчука отправился на батарею к пьяным петлюровцам. Там ребята сняли и унесли замки от двух орудий, спрятав их в свинарнике лесничего. Бездействующие орудия и замки к ним пригодились, когда Красная Армия освобождала Шепетовку.
Барак, в котором мы жили, от дряхлости завалился, и мы переехали в пустовавший дом на углу Славутской и Шоссейной улиц. Не успели обжиться, как во второй половине дома поселились кавалеристы, так называемые «сичевики» из Галиции — бандиты высшего класса. И вот однажды прибегает ко мне в депо взволнованный брат и рассказывает, что бандиты отняли гармонь, подаренную ему солдатом, а потом избили мать, требуя, чтобы она отдала им то, что будто бы прячет от них.
Николай решил отомстить бандитам. Ночью он порезал ножом несколько седел у кавалеристов, стоявших на поповском дворе.
…Читатели легко уловят в тексте романа «Как закалялась сталь» отголоски этих событий. Но до романа «Как закалялась сталь» еще больше десяти лет. А пока что формируется характер бойца.
29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. На этом съезде был создан комсомол. Первые комсомольцы дали клятву отдать все свои силы борьбе с контрреволюцией.
Грозным было лето 1919 года… С юга наступала на Советскую республику стотысячная армия Деникина. Белогвардейцы захватили Донецкий бассейн. Тяжелые бои шли под Екатеринославом, Харьковом, Полтавой. Партийные организации поднимали трудящихся на борьбу.
Еще в мае 1919 года Центральный Комитет Российского Коммунистического Союза Молодежи обратился с призывом усилить работу среди молодежи, способствовать проведению объявленной на местах мобилизации, ввести всеобщее военное обучение для всех членов союза, способных носить оружие.
26 июня 1919 года в Киеве открылся I съезд Коммунистического Союза Молодежи Украины. Главный пункт: продлить мобилизацию коммунистической рабочей молодежи на борьбу с врагами социалистической Родины, военное обучение молодежи.
Быть комсомольцем в ту пору означало — сражаться, не щадя жизни своей. Сражаться в прямом смысле слова. С оружием в руках.
«…Вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и двести патронов».
Николай Островский не задумываясь избрал этот путь. Как только после освобождения Шепетовки от петлюровцев была при ревкоме создана комсомольская ячейка, в числе первых пяти комсомольцев оказался Островский. Это было в июле 1919 года.
«В 1919 году… в Шепетовке нас было пятеро комсомольцев. Эту группу создал вокруг себя партийный комитет и Ревком Шепетовки, руководимые тт. Линником и Исаевой… Героически боролись первые комсомольцы Шепетовки против польских панов, петлюровщины и бандитизма всех мастей и оттенков…»
Николаю Островскому не было тогда еще и пятнадцати лет.
В августе 1919 года Красная Армия под натиском превосходящих сил противника временно оставила Шепетовку, и подросток Коля Островский ушел с войсками. В военном билете читаем: «Вступил на службу в РККА добровольно 9 августа 1919 года, в батальон особого назначения ИЧК (Изяславской Чрезвычайной Комиссии. —
Р. О.)».
Вступил он в бой рано повзрослевшим подростком. В один год уложился его боевой путь. Но этот год стоил целой жизни.
Островский не колеблясь отдал свою молодость вооруженной борьбе за торжество Советской власти.
«Вы что же думаете, — говорил он своему лечащему врачу много лет спустя, — на нас солнце не светило, или жизнь не казалась нам прекрасной, или для нас не было привлекательных девушек, когда мы носились по фронту и переживали боевые бури: в том-то и дело, что жизнь нас звала. Мы, может быть, больше других чувствовали ее очарование, но мы твердо знали, что самое главное сейчас — уничтожить классового врага и отстоять революцию. Мы ураганом неслись на вражьи ряды, и горе было всем тем, кто попадал под наши удары».
В краткой автобиографии Островский записал всего несколько слов: «Участвовал в гражданской войне рядовым бойцом».
В беседе с корреспондентом английской газеты «Ньюс Кроникл», состоявшейся в Сочи 30 сентября 1936 года, он сказал: «Моя судьба показательна. Я с 15 лет вступил в борьбу. Полный сил, радости борьбы, я шел на завоевание новой жизни, чувствовал себя созидателем и хозяином ее…»
[8]
…Он воевал зиму и весну. К лету 1920 года он вернулся в Шепетовку, вновь освобожденную от белогвардейцев.
До мира было далеко. Усиливалась подрывная работа врага. Необходимо было сломить саботаж, изъять у кулаков излишки хлеба, открыть школы, библиотеки. И снова Островский в борьбе.
…Много лет спустя, будучи директором Музея Н. Островского в Москве, где я проработала двадцать три года, я перечитывала старые и вновь собранные документы Островского. Передо мной прошла его беспокойная юность. Всплывали, как кинокадры, знакомые имена старших товарищей… Вот документ, подписанный 13 июля 1920 года предревкома И. С. Линником и членом ревкома, школьным учителем Николая Островского Д. Г. Чернопыжским:
«Предъявитель сего сотрудник Шепетовского Волрев-кома Николай Островский действительно командируется в оставленные буржуями дома для сбора в них книг, что удостоверяется».
И вспомнила рассказ Николая о том, как все это происходило:
— Однажды мне поручили присутствовать при обыске у одного буржуя. По сведениям ревкома, у него были спрятаны продукты и золото…
Ночь. В доме, куда мы вошли, было только два пожилых человека — муж и жена. Подняли их с постели, усадили в полутемной комнате. Мне приказали охранять их. Некоторое время мы все молчали. Меня от скуки стало клонить ко сну. Преодолевая сон, принялся осматривать комнату. И тут только заметил огромный шкаф, наполненный книгами. Сна как не бывало. Я вскочил и подошел к книгам. Шкаф оказался запертым. «Откройте, пожалуйста, шкаф», — обратился я к старикам. Они посмотрели на меня. Я увидел страх и удивление на их лицах. «Пожалуйста», — и дрожащими руками старик начал отпирать дверцу шкафа.
Передо мной открылось богатство… Я впервые видел такое огромное количество книг. Кроме того, это были уникальные издания. И у меня родилась мысль создать городскую библиотеку…
Так вот и появился этот документ — «для сбора… книг». Очень характерно это для Николая Островского: тяга к книгам. Уже тогда, в начале пути, когда он еще был простым рабочим парнем.
Есть еще один документ, подписанный Д. Г. Чернопыжским:
«Справка. Настоящим я, Чернопыжский Дмитрий Григорьевич, бывший в 1920 г. членом Шепетовского Ревкома, удостоверяю, что тов. Островский Н. А. в 1920 г., тогда еще 16-тилетний юноша-комсомолец, служа телефонистом комендантской роты, дежурил все время при Ревкоме, выполнял различные рядовые поручения Ревкома.
Принимал активное участие в производстве обысков городской буржуазии, которые проводились Ревкомом.
В ночь эвакуации, перед наступлением поляков, тов. Островский Н. А. помогал добывать подводы и охранял перевозимое на вокзалы имущество складов Опродкомдива и Ревкома.
Все вышеизложенное удостоверяю.
Чернопыжский Д. Г. 29 мая 1932 года».
«Мирная передышка» в боевом пути Николая Островского была, как видим, мало похожа на безмятежный мир. Да и коротка была «передышка». Война продолжалась. Красная Армия билась с панской Польшей. В середине августа 1920 года белопольская армия с помощью Антанты перешла в контрнаступление. Положение снова стало критическим. Решалась судьба Родины, судьба революции. И Николай Островский вновь уходит с частями Красной Армии на фронт.
Александр Иосифович Пузыревский — командир части в корпусе ВУЧК в группе особого назначения вспоминает:
«Под моим командованием в этих частях был и Николай Островский… Молодой боец с кипучей энергией, прекрасными способностями бойца-организатора. Упорно работая над собой, он быстро становится организатором комсомола в частях Красной Армии и населенных пунктах, которые она проходила».
За полтора месяца до перемирия, в августе 1920 года, Островский был ранен под Львовом. Долгие годы мы не знали, где именно это произошло. И только в мае 1967 года газета «Львовская правда» сообщила, что следопыты Подберезцовской школы вместе со своим учителем И. Вулом установили: Н. Островский был ранен под селом Подески, недалеко от Львова, где 19 августа был бой. Сейчас там установлен обелиск.
Годы спустя Островский писал Пузыревскому: «Дорогой Саша!.. Много воды утекло, много пережито… Помнишь, ты говорил о себе: «Я-то четыре пятилетки переживу, а вот вы, дохлая компания, пожалуй, сдезертируете».
Хорошо, что ошибся. Правда, Саша, одному не бывать: это не влезть мне еще раз на коняку, прицепив шаблюгу до боку, и не тряхнуть уж стариной, если гром ударит. Не гнать мне, видимо, панской шляхты. Топить ее в Балтийском море придется, видимо, тебе и тем, кто вырос из сопливеньких в геройских ребят. А жаль, Саша. Ведь неплохо шли бы наши кони…»
Островский был ранен в живот и голову и контужен. Многие недели он пролежал в военном госпитале. Когда поднялся, стало ясно: последствия тяжелы, а будут еще тяжелее. Попавший в голову осколок повредил правый глаз — в этом глазу зрение было утрачено на 80 процентов. Начались страшные, мучительные головные боли. Болел и позвоночник — от контузии. Красноармеец Николай Островский стал инвалидом. Самое драматичное: он должен был демобилизоваться.
«Демобилизован в октябре 1920 года из 4-й Кавдивизии Первой Конной Армии» — записано в его военном билете.
Из госпиталя он уехал в Шепетовку — к матери. Передвигался с трудом, опираясь на палку.
Что же делать дальше? Он еще не мог решить этого вопроса.
В Москве начал работу III Всероссийский съезд комсомола.
2 октября 1920 года на вечернем заседании выступил Владимир Ильич Ленин. Он говорил о задачах Союза коммунистической молодежи. Он призывал молодежь учиться — учиться коммунизму. Он говорил о том, «что именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества». Напоминал, что «без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить… Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества…»
И как бы в ответ на призыв Ленина осенью 1920 года, едва оправившись после ранения, Николай Островский возвращается в Высшее начальное училище, позже реорганизованное в Единую трудовую школу.
Теперь он знает, что делать.
5
«Я — один из тех, кого воспитал комсомол»
Чем дальше идет время, тем ярче в моей памяти новороссийские дни и вечера, проведенные в небольшой уютной комнате, в доме на Шоссейной, у постели больного Островского. Это было по-своему прекрасное время. Еще верилось, что болезнь будет побеждена и Николай встанет в ряды борцов за новую жизнь.
Мы говорили часами. Николай жил заботами страны, ее болями, ее будущим. Он с гордостью говорил о том времени, когда держал клинок. И с горечью — о том времени, когда ранение выбило его из линии передовых бойцов. Он оказался вне строя в тот самый момент, когда молодая страна остро нуждалась в преданных бойцах. И он не находил себе места.
Шел 1920 год. Народное хозяйство было развалено войной. Фабрики и заводы стояли. Сельское хозяйство пришло в упадок. Не хватало продуктов, топлива, одежды. Безработица ухудшала и без того тяжелое положение трудящихся.
Николай Островский в те дни находился в Шепетовке у матери, куда приехал отдохнуть после киевского госпиталя. Тяжелое ранение и контузия давали себя знать.
Но он поднялся и в начале 1921 года уехал в Киев. Работать.
— Матушка, как, очевидно, и все матери, старалась подольше удержать меня дома, — вспоминал Островский. — Но разве мог я сидеть без дела, когда мои друзья-комсомольцы активно включились в работу!
Киевский губком комсомола по просьбе Островского послал его в Главные мастерские Юго-Западной железной дороги помощником электромонтера. Одновременно Островский поступил на первый курс электротехнической школы Юго-Западной железной дороги. «Январь 1921 г. — декабрь 1922 г., г. Киев — главные мастерские ЮЗЖД — пом. электромонтера и слушатель электротехнической школы ЮЗЖД», — писал Островский о себе в 1935 году.
Энергичный, неутомимый в работе, инициативный, общительный, он быстро завоевал в железнодорожных мастерских любовь товарищей. Умел интересно провести собрание, обсуждение газет. Вскоре он был избран секретарем комсомольской ячейки.
В этот период родилась в мастерских известная песня «Наш паровоз, вперед лети!», которую распевают до сих пор.
Осенью 1921 года наступили для Киева тяжелые дни. Не было топлива. Дрова, заготовленные в глубине лесов, невозможно было подвезти к Киеву. К тому же затаившиеся враги нового строя делали все, чтобы сорвать подвоз.
Читатели романа «Как закалялась сталь» помнят это:
«— Вот станция Боярка, в шести верстах — лесоразработка. Здесь сложено в штабеля двести десять тысяч кубометров дров. Восемь месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате — предательство, дорога и город без дров. Их надо подвозить за шесть верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня — в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой… Понимаете, что это значит?.. Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу, а эти негодяи повели ее в глубь леса. Расчет верный: не сможем подвести заготовленных дров к путям. И действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили!..»
Партийные руководители Киева обратились к комсомольцам с призывом принять участие в строительстве узкоколейки от места заготовки дров до станции Боярка.
Врачи категорически запретили Островскому ехать на строительство. Но он поехал. Жили в полуразрушенной холодной школе. Там впервые почувствовал боль в коленных суставах.
Из документов Островского: «Участвовал в ударном строительстве на постройке железнодорожной ветки для подвоза дров, где тяжело заболел, простудившись и поймав тиф».
Товарищи отправили его в Шепетовку в полубессознательном состоянии. И опять Ольга Осиповна своими заботами поставила сына на ноги. Не окрепнув как следует, он возвратился в Киев, в мастерские. Он себя не жалел.
Нестерпимые боли в суставах заставили его осенью 1922 года поехать на лечение в город Бердянск, на Азовское море.
Тридцать восемь дней Островский пробыл на курорте.
В санатории он подружился с Людмилой Беренфус, дочерью главного врача; некоторое время после санатория они переписывались. Благодаря этому мы знаем о состоянии Островского в то время. Вот что он писал Людмиле:
«…Я теперь один сижу здесь в Шепетовке, Волынской губернии, в пяти верстах от польской границы, в местечке захолустном, грязном до непроходимости… Никто… не заглядывает ко мне. Живу я отдельно, почти на хуторе, около своей мамуси… Я болен, не могу ходить, и все вместе взятое, Люси, так грустно…
Пишите на данный вам адрес, как он есть, в Киев, хотя я в Шепетовке, но скоро думаю поехать в Киев…»
Вернувшись в Киев, он опять врезался в самую гущу дел. Спасал лесосплав на Днепре, после чего боли в ногах усилились: работал по колено в ледяной воде, в результате — полиартрит
[9]. Он «перенес тиф и одновременно воспаление легких и почек»
[10]. После тифа коленные суставы опухли, тупая боль не прекращалась.
Медкомиссия признала его инвалидом первой группы.
Снова Шепетовка. Снова уход матери и лечение, лечение…
20 марта 1923 года он пишет Л. Беренфус:
«Милый далекий Люсик!
Наконец я смог тебе, далекий друг, лишь только теперь, когда прошло так много времени, снова дать знать тебе в твой захолустный и скучный Бердянск весточку о том, что жизнь еще не совсем задавила меня, и если стукнулся я сильно, то все-таки поднялся… И, цепляясь за каждый шанс… организм выиграл победу, добился того, что я теперь могу порассуждать о том, для чего я живу и что думаю делать далее и т. п…
Ну довольно, Люси. Мне хватит времени думать об этом. Заполнять бумагу этим бесполезно… Теперь живу не в Киеве, а в Шепетовке… оживаю от всего… Время, проведенное в клиническом госпитале, наложило на меня печать… Прибавившаяся пара поперечных морщин делает меня каким-то мрачным…
Вот еще прошу об одной услуге, Люси. Хотя я был у многих врачей… и приблизительно знаю болезнь колен, но прошу тебя, Люси, порасспроси у папы, что он знает о всех, знаешь, Люси, и последствиях и средствах лечения домашнего хронической водянки коленных суставов, которая под давлением вывихов и тифа выявилась 1,5 года тому назад и благодаря лечению курортом почти ушла, а теперь опять родилась… прошу, расспроси отца всесторонне и напиши мне, только правду… если будешь писать неправду, то лучше не пиши… Я похож на избавившегося от смерти, которому предстоит опять борьба, а уж так надоело все…
Будь здорова… Вспоминай иногда и пиши мне сейчас же. Жду. Ведь ты же мне сестра, чистая, славная сестричка.
Коля Островский»
[11].
Упорное лечение, заботы матери и на этот раз вернули Островскому относительную работоспособность. Он стал налаживать связи с комсомольцами. «Сошелся с несколькими людьми, потому что без них хуже, и стараюсь привести в порядок разбегающиеся мысли», — сообщает он Людмиле Беренфус.
Весной 1923 года Островский уехал в маленький городок Берездов, где жила его сестра Екатерина Алексеевна Соколова. Ее муж Иван Яковлевич Соколов работал в местном райисполкоме, заведовал районным коммунальным отделом. Островский поселился у сестры. Соколов устроил его в райкоммунхоз техником по учету частных домовладений.
Николай был дружен с сестрой. Вечерами она по-матерински встречала его; иногда ей приходилось засиживаться за полночь в ожидании брата, который был всегда в делах.
Позднее Екатерина Алексеевна рассказывала о том времени, что она не могла уснуть, пока Коли не было дома. Он целые дни отсутствовал, приходил голодный, уставший, совершенно обессиленный. Ноги у него опухали. Надо было помочь ему снять сапоги, приготовить ванну для ног. Ему бы полежать, подлечиться, но он и слушать не хотел!
Работа комсомольца Николая Островского привлекла внимание председателя райисполкома Николая Николаевича Лисицына. В прошлом тульский оружейник, член партии с 1918 года, этот человек в 1923 году стал председателем Берездовского райисполкома. С этого времени два Николая стали большими друзьями — и на всю жизнь.
Н. Островский так описал Лисицына в романе:
«Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь двадцать четыре года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он, большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит тридцатипятилетним. Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый, видавший виды френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени…»
Лисицын много внимания уделял работе среди молодежи. Помогал немногочисленной комсомольской организации. А Островскому однажды дал ответственное задание: отвезти из Берездова в Шепетовку срочные пакеты и мешок денег. В удостоверении было сказано:
«Дано сие т. Островскому в том, что он действительно командируется со срочными пакетами и одним мешком ценностей в сопровождении трех милиционеров… в м. Шепетовку в окрисполком и обратно в Берездов.
Всем властям просьба оказывать т. Островскому в передвижении полное содействие, что подписями и приложением печати удостоверяется.
29 мая 1923 г.
Пред, райисполкома Лисицын».
Для усиления работы среди молодежи в пограничном районе Шепетовский окружком комсомола решил создать в Берездове комсомольскую ячейку из имеющихся комсомольцев. Решение состоялось 25 июня. Секретарем ячейки рекомендовали Островского.
Так опять он стал комсомольским вожаком.
Вспоминая то время долгими новороссийскими вечерами, он рассказывал мне о том, как гармонь помогала ему собирать молодежь.
— Обыкновенно садились по вечерам где-нибудь на бревнах или на завалинке у хаты (оттуда нас часто прогоняли). Разверну гармонь, заиграю, весь ухожу в музыку. Любил я гармонь! Когда-то неплохо и плясал, особенно хорошо у меня получалась чечетка…
Эти воспоминания уносили его далеко в родные украинские села. На время он умолкал, а потом, как бы очнувшись, продолжал:
— Всегда начинал с напевной украинской мелодии. Постепенно, несмело подходили девчата, за ними хлопцы. Усаживались молча… Тогда я озорно переключался на веселую музыку, под которую можно и поплясать и попеть. И вот срываются девчата… Начинаются пляски, шутки, смех. Хороши были эти вечера!.. Потом незаметно переходили на разговоры, на дела комсомольские. Работать мне было непросто: в комсомол шли не сразу: боялись. Ведь тогда враги жестоко расправлялись с комсомольцами.
…Многосложной была работа секретаря этой впервые созданной в Берездове комсомольской организации. Работал Николай Островский, как теперь говорят, неосвобожденным секретарем; значит, сочетал секретарство с основной работой. Иначе говоря, работа с шести утра до двух ночи.
Документы тех лет раскрывают нам его жизнь.
Из протокола № 17 заседания Берездовского районного партийного комитета от 24 августа 1923 года, где стоял вопрос «О выделении политруков Райвсевобуча», мы узнаем, что райполитруком выделен Островский. В решении записано: «Тов. Островскому совместно с райинструктором выработать план занятий, предоставив таковой на утверждение секретаря райкома»
[12].
Места были пограничные, времена — боевые. 17 ноября 1923 года Островскому было выдано удостоверение на право ношения оружия. Вот оно:
«Удостоверение. Дано сие коммунару Отдельного Шепетовского батальона Особого назначения тов. Островскому Николаю Алексеевичу в том, что ему действительно разрешается ношение и хранение револьвера системы «Браунинг» № 378429, что подписью и приложением печати удостоверяется…»
По документам восстанавливается — конечно, далеко не в полной мере — ритм берездовских комсомольских дел.
26 августа — Островский на торжественном вечере по случаю открытия Берездовского районного Дома культуры, избран в президиум.
27 августа бюро Берездовского районного партийного комитета заслушивает сообщение Островского о плане проведения Международного юношеского дня. В этот день должен состояться парад; командование парадом поручено двум товарищам. Один из них — Островский.
И сентября этого же года тоже на заседании Берездовского райкома партии идет разговор о выделении лекторов для воскресных курсов. Среди лекторов — Островский. На этом же заседании обсуждают кандидатуры для проведения политработы «среди учеников старшего возраста». Работу поручают Островскому.
16 сентября Островский участвует в работе совещания секретарей райкомов Шепетовского округа и выступает с речью.
3 октября собирается бюро Шепетовского окружкома комсомола. Из протокола узнаем повестку дня.
Слушали: о перегруппировке комсомольцев Берездовского района (предложение Н. Островского).
Постановили: создать комсомольские ячейки: Берездовскую — 8 чел., Поддубецкую — 4 чел., Малопраутинскую — 4 чел.
13 октября райизбирком поручает Островскому провести перевыборы сельсоветов по Малопраутипскому и Манятинскому сельсоветам. В докладной записке после окончания выборной кампании Островский пишет о проделанной работе.
Сохранилась фотография, на которой Николай Островский снят среди членов Берездовского райпарткома. Он сидит крайним слева. Больная нога уже не сгибается в колене, видно, что сидеть ему трудно, поэтому правой рукой он облокотился на стул. И браунинг на поясе. Свидетельство того, что секретарь комсомольской ячейки пограничного Берездовского района действительно в строю.
Однако подорванное здоровье не выдерживает. 14 октября 1923 года Островский просит райпартком предоставить ему отпуск. Вынесено следующее решение:
«Принимая во внимание, что тов. Островский по постановлению комиссии по медосвидетельствованию членов и кандидатов КП (б) У[краины] и КОМУ имеет по здоровью балл — 2 и нуждается в климатическом лечении и ввиду того, что Губком мест не предоставляет, предложить Окркомхозу дать тов. Островскому месячный отпуск, санкционировав таковой»
[13].
Однако использовать отпуск не пришлось. Надвигались события одно важнее другого.
27 октября 1923 года состоялось незабываемое для комсомольца Николая Островского собрание. Приведу полностью протокол этого собрания:
«Выписка из протокола № 3 Районного собрания членов и кандидатов КП (б) У Берездовского района…
Присутствовало: членов и кандидатов КП(б)У — 10 чел., членов и кандидатов КСМУ — 9 чел., беспартийных — 9 чел. Председатель: Лисицын, секретарь — Островский.
1.
Слушали: доклад секретаря Райячейки КСМ
о празднике 5-летия РКСМ (т. Островский).
1.
Постановили: принять горячее участие в праздновании 5-летия РКСМ, выполнив план, намеченный ячейкой КСМ. После парада-митинга вечером всем членам и кандидатам КСМУ явиться в театр, где будет торжественное заседание членов КП (б) У и КСМ, профсоюзов и сельмолодежи.
2.
Слушали: о переводе в партию в день 5-й годовщины РКСМ на торжественном заседании членов КСМУ Берездовской организации (т. Лисицын).
2.
Постановили: провести кандидатами КП(б)У самых выдержанных и стойких членов КСМ: секретаря Райячейки Островского и т. Киреева. Просить Окрком утвердить таковых тт. кандидатами КП (б) У.
Председатель Лисицын. Секретарь Островский»
[14].
Приближалась шестая годовщина Великого Октября. Вся страна готовилась к юбилею революции. В Берездове была создана комиссия по проведению праздника. На одном из заседаний комиссия поручила Николаю Островскому провести этот праздник в Мухаревском и Поддубецком сельсоветах. Для этого он получил мандат.
«Мандат.
Дан сей тов. Островскому Николаю в том, что он действительно является уполномоченным от Берездовской районной комиссии по проведению праздника 6 лет Октябрьской революции по Мухаревскому и по Поддубецкому сельсоветам.
Всем войсковым частям, политорганам и сельсоветам, расположенным на территории вышесказанных сельсоветов, оказывать тов. Островскому полное содействие при выполнении на него возложенных обязанностей. Тов. Островский по прибытии в означенные сельсоветы должен тесно связаться с вышесказанными органами, находящимися на территории данных сельсоветов.
Тов. Островскому разрешается ношение и хранение при себе огнестрельного оружия, что подписью и приложением печати удостоверяется…»
[15]
21 января 1924 года все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату. Умер Владимир Ильич Ленин.
По всей стране объявлен ленинский призыв в партию и комсомол.
Весной 1924 года Островского переводят в Изяславский район Шепетовского округа райорганизатором ячейки КСМ. В Изяславе, как и в Берездове, он опять комсомолит — с шести утра до двух ночи…
21 мая собирается вторая Шепетовская окружная конференция КОМУ. Изяславская комсомольская организация посылает Островского делегатом на эту конференцию. А там его избирают членом Шепетовского окружкома комсомола и делегатом на VIII Волынский губернский съезд КОМУ.
30 мая он председательствует на общем собрании членов и кандидатов КОМУ в Изяславе. На повестке дня — вопрос об очередных задачах комсомола Украины.
В Музее Н. Островского в Москве хранится стенографический отчет VIII Волынского съезда ЛКСМУ, изданный Волгубкомом ЛКСМУ.
Четыре дня — с 25 по 28 июня — продолжалась работа съезда. На повестке дня стояло семь вопросов. Шестым был вопрос «О переименовании союза»: после смерти Ильича комсомол принимал имя Ленина.
Это предложение было принято единогласно. Коммунистический Союз Молодежи Украины стал называться — Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украины.
Об участии в заседаниях съезда Н. Островского можно судить по стенограмме.
Надо сказать, что на съезде присутствовало три комсомольца с фамилией Островский. К сожалению, в стенографическом отчете имена делегатов не указаны, поэтому трудно сказать, когда какой из Островских выступал в прениях. А выступало их двое: один по докладу об итогах XIII партсъезда и о задачах КОМ, другой — по отчету Волынского губкома комсомола, на второй день съезда. Второй делегат говорил о работе газеты «Юнацька правда» с юнкорами. «…У нас 170 юнкоров, но никто не инструктирует их о том, как нужно писать». Говорил о недостаточной воспитательной работе среди комсомольцев, принятых по ленинскому призыву, о создании политкружков в сельских ячейках, о работе среди девушек, о делегатских собраниях женщин, о работе допризывников и о том, что «наш руководящий актив должен дать указания, сколько книг за эти три месяца товарищи должны прочесть…».
Думаю, что это выступление делегата Николая Островского.
Всеми означенными вопросами как раз Николай Островский и занимался, делегатские собрания женщин — его дело! Он ведь и меня позднее вовлек в эти собрания женщин и матушку свою Ольгу Осиповну пытался втянуть в общественную работу через делегатские собрания…
В последний день заседания, после отчета мандатной комиссии, проходили выборы губкома. В числе многих кандидатом в члены Волынского губкома был избран и Николай Островский.
Неспокойно было в те годы в пограничных районах. С оружием не расставались: приходилось вести борьбу с бандами, которые скрывались в густых лесах. Для борьбы с контрреволюционерами, с бандитами, для охраны мирного труда в пограничных районах создавались части особого назначения (ЧОН), куда входили только члены и кандидаты Коммунистической партии и комсомольцы. На каждого бойца-чоновца составлялась карточка.
Поповская карточка Островского сохранилась. На ней дата: 26 июня 1924 года. На обороте карточки ЧОН — текст:
«Товарищ коммунар!
Знай: 1. Свое место в строю. 2. Свое оружие и правило его сохранности. 3. Своего прямого начальника и его адрес. 4. Свои обязанности по мобилизации, сбору и караульной службе. 5. Положение о ЧОН, о советах ЧОН, о командовании и учете ЧОН.
Умей: 1. Владеть своим оружием (винтовкой, пулеметом, гранатой, револьвером). 2. Всегда быстро найти своего непосредственного начальника. 3. Надежно быть связанным с товарищами по звену. 4. В нужную минуту содействовать успеху всякого сбора коммунаров и 5. Но болтать о военных мерах в ЧОН».
Жили по законам военного времени.
Такова была обстановка, в какой комсомолец Николай Островский вступил в партию большевиков.
Строки из характеристики, данной Островскому Бе-рездовским райкомом КП (б)У: «…Проявил себя как энергичный работник с большой инициативой, имеет хороший подход к массам, политически развит хорошо, к партийной работе проявил интерес, отношение к своим обязанностям хорошее. Политически выдержан, умеет признавать свои ошибки. Проявил хорошие организаторские способности как честный, дисциплинированный член КСМУ и кандидат КП(б)У…»
[16]
Из характеристики, данной Островскому Изяславским райкомом партии: «…Проявлял инициативу, схватывал работу в процессе выполнения плановых заданий… Умеет оценивать значение и место своей работы, проявлял умение подбирать работников и руководить ими. Вполне соответствовал своему назначению на комсомольской работе. Проявил себя во всех отношениях. Можно использовать для работы в окружном масштабе… Вполне ориентируется в политической обстановке, руководствуясь марксистскими методами. Партийная устойчивость имеется, уклонов не замечается, организаторские способности хорошие. Выдержан. Умеет владеть собой, вспыльчив вследствие расстройства организма. Свои ошибки признает и делает из них соответствующие выводы. Дисциплинирован. Склок не любит. В склоках не участвовал за свою бытность в Изяславском районе. Поднял работу во всех ячейках, давал директивы, и было полное руководство союзной работой».
Рекомендовали Островского в партию: Николай Николаевич Лисицын, член партии с 1918 года, Михаил Михайлович Бойко, член партии с 1918 года, Адам Яковлевич Калиновский, член партии с 1919 года.
9 августа 1924 года Николай Островский стал членом партии большевиков. Он вступил в партию в год смерти Ленина.
«Быть членом Великой Партии — заветная мечта каждого молодого человека нашей страны».
И он снова в делах.
18 августа на заседании бюро Изяславского райкома партии слушается вопрос о проведении праздника, посвященного снятию урожая. Островскому поручено «подготовить все силы КОМ, привлечь всю молодежь…».
Но снова здоровье подводит его. И 22 августа 1924 года бюро Шепетовского окружкома комсомола выносит решение о предоставлении Островскому двухмесячного отпуска и о посылке его в Житомирскую водолечебницу.
30 августа 1924 года ЦК комсомола Украины посылает в Наркомздрав следующее письмо:
«ЦК ЛКСМУ просит направить члена Волынского ГК ЛКСМУ тов. Островского на курорт но роду его болезни». 2 сентября его направляют на лечение в Харьков, в клинику 1-го Государственного украинского научно-исследовательского медико-механического института.
«Вошел туда на своих ногах — вышел на костылях», — вспоминал Островский впоследствии.
Идет не просто борьба за здоровье — идет борьба за жизнь. Он лечится в санаториях Славянска, Евпатории. И снова попадает в Харьковский медико-механический институт… Там переносит тяжелую операцию коленного сустава. Последний раз самостоятельно он едет в санаторий «Майнаки», в Евпаторию…
Врачи советуют ему пожить несколько месяцев на юге. И тогда Ольга Осиповна пишет моей матери в Новороссийск… Он еще сделал попытку вернуться к работе: я уже писала о том, как он на исходе лета 1926 года поехал в Харьков к другу Петру Новикову, затем в Москву к Марте Пурины Но вернулся в Новороссийск вскоре и слег окончательно.
У нас, в доме № 27 по Шоссейной улице, болезнь приковала его к постели, — как выяснилось, на всю жизнь.
Он вернулся в строй, но иначе, чем думал.
Долгий путь лежал к этой победе. Долгий и тяжелый.
6
Трудная зима
Декабрь 1926 года. Вечер. За окном бушует норд-ост. Снег не падает, а осатанело, крутясь, летит куда-то мимо окон. Холодно.
У нас гости: мать Николая Ольга Осиповна и Марта Пурннь, приехавшая из Москвы. Ждем к столу Николая.
Он задержался у себя в комнате. Наконец появился в дверях. Как он бледен!
— Тебе плохо, Коля, ложись, я подам ужин в постель, — сказала я.
— Нет, ничего, сейчас пройдет, — ответил он и тут же, беспомощно взмахнув рукой, словно хотел ухватиться за воздух, повалился… Его успели подхватить, бережно уложили в постель.
Несколько минут он был без сознания.
С этого дня болезнь резко обострилась. Со сжатыми зубами, подавляя боли в суставах, Николай неподвижно лежал на спине.
Напрягая всю волю, он боролся с болью, старался привыкнуть к ней. Говорил, что удается, словно пытался доказать это самому себе. Непрерывно читал.
Боясь неподвижности, Николай попросил укрепить на потолке ролики. Через них перекинули веревку. Два конца ее привязывали к ногам Николая, другие укладывали у руки. В те часы, когда около него никого не было, он занимался гимнастикой, доводя себя до изнеможения.
Тяжело было ему по ночам. От долгого лежания в одном положении боли в теле усиливались, а повернуться сам он не мог. Чтобы облегчить его страдания, нам приходилось часто вставать, помогать ему. Дежурили по очереди я и мои родные — мама и сестра. Так как поело трудового дня я засыпала крепко и меня трудно было разбудить, то по предложению Николая к моей руке привязывали веревку, другой конец был близко к руке Николая. Когда я ему была нужна, он будил меня, дернув за веревку.
Он пишет брату 2 ноября 1926 года:
«…Я креплюсь, не падаю духом… держусь, сколько могу… За мной здесь очень внимательно ухаживают, как родные, так что уход есть и, я бы сказал, что не так уж плохо».
Ночи становились все мучительнее, но утром и днем Николай по-прежнему казался ровным и веселым. Вновь пришедший к нему человек никогда бы не поверил тому, что несколько часов назад Островский перенес страшные муки. Только бледнее становилось лицо и отчетливее вырисовывалась складка между бровями.
Как-то утром Николай сказал:
— Ну, Раек, сегодня я встану. Помощь мне не нужна.
— Тебе сегодня лучше, Коля? — спросила я.
— Конечно, лучше. Вообще всему бывает мера. Нельзя же без конца болеть и валяться!
С последними словами Николай рванулся, встал со мной рядом и, обняв меня за плечи, вызывающе посмотрел на ноги.
— Ну нет, врете вы, други, я не дам вам залежаться, вы мне еще нужны. Я заставлю вас ходить!
Николай шагнул, но от острой боли рухнул обратно на постель.
Я догадалась. Он в это утро совсем не чувствовал себя лучше. Просто решил подраться со своим недугом. А может, хотел обмануть себя.
Началась наша первая трудная зима.
Длинные вечера мы с мамой и сестрой проводили у постели Николая, слушая его захватывающие рассказы о недалеком прошлом. И если бы не опасения, что рассказы утомляют его, мы, вероятно, требовали бы от него все новых и новых воспоминаний. Тогда я впервые услышала многие эпизоды, которые впоследствии составили ткань его книг. Он рассказывал нам о борьбе с бандами, о строительстве узкоколейки, о работе с молодежью в пограничных районах…
Рассказывал часто о себе, но не называл своего имени. Как будто тот или иной эпизод произошел «с одним из его друзей». Случалось, что он проговаривался. Мы, бывало, возмущались:
— Почему же ты не сказал нам сразу, что это произошло с тобой?
— Просто как-то невольно сдерживаешься. Еще скажете, что хвастаюсь…
Много позднее, уже в период работы над романом «Как закалялась сталь», он напомнил мне об этих рассказах:
— Ты знаешь, я в то время уже следил за вашим отношением к тем или иным эпизодам, и у меня зрела мысль составить из них связную повесть для нашей молодежи. Насколько волнующей могла бы быть эта повесть, я старался угадать по вашим лицам.
Пропагандистом Николай был замечательным. Он обладал удивительной способностью вкладывать в рассказ всего себя. Весь уходил в огневое прошлое и забывал о своем нынешнем состоянии. Мы, молодые слушатели, могли слушать его часами, не отрываясь от его разгоряченного лица.
…Просторная комната залита солнечным светом. Николай лежит на постели, голова на высоко взбитых подушках. Рядом на столе стопка журналов и книг.
В гостях у Николая заведующий портовой библиотекой Дмитрий Хоруженко. Раньше они не были знакомы. Но однажды Николай послал ему письмо:
«Товарищ Хоруженко!.. Я прошу тебя зайти ко мне, мы познакомимся и поговорим. Я всегда свободен, приходи. Я здесь «чужой», знакомых в организации товарищей нет. Главное — книги, о них я и хочу говорить. С комприветом Н. Островский».
Дмитрий Павлович Хоруженко охотно откликнулся на эту просьбу.
Николай несказанно обрадовался:
— Замечательно! Значит, я буду подшефным читателем? Лучше для меня и быть ничего не может. Тащи книги, Митя! Тащи сколько можно!
Николай разговаривал с Хоруженко первый раз в жизни, но он уже звал его Митей и говорил ему «ты». Они быстро сошлись.
— По возможности я буду сам носить книги, — сказал Дмитрий, — а в тех случаях, когда не смогу, пошлю с товарищами.
— Да, да, и сам- заходи, и присылай комсомольцев. Я всегда рад видеть людей. Если у кого из ребят есть музыкальные инструменты, пусть тащат.
— Какие книги тебе нужны в первую очередь? — спросил Хоруженко.
— Из нашей литературы неси все. Я сам выберу. Горького, Новикова-Прибоя, Серафимовича, Лавренева, Свирского, Фурманова, — я все это должен перечитать. Классиков тоже.
— А переводную литературу?
— А вот насчет переводной, — сказал Николай, — очень бы хорошо делать так: подбирать отдельно французских, немецких, английских… Понимаешь, я с ними не очень-то знаком, так надо бы систему определенную иметь в чтении.
Заговорили о международных и внутренних событиях, о комсомоле, о XIV съезде партии. Николай попросил принести стенографический отчет.
Обрадовавшись свежему человеку, он говорил жадно и много, торопился поделиться мыслями о прочитанном в газетах. Мыслей было много, он волновался и время от времени умолкал, смущенно улыбаясь и вытирая влажный лоб.
Глядя на него, Хоруженко сказал:
— Когда я шел к тебе, то ожидал найти страдающего человека, и, уж конечно, мне чудился запах лекарств!
— Уж конечно, — весело, в тон ему добавил Николай. — И ожидал услышать просьбу прислать какие-нибудь романчики специально для постельного чтения? Ну, признайся, думал ведь? А?
На прощание еще раз напомнил:
— Ну, буду ждать книг, Митя. И побольше. Насчет подбора иностранных классиков не забудь.
Со следующего дня стали поступать стопы перевязанных бечевкой книг. Николай их поглощал с удивительной быстротой: за чтением книг он проводил целые дни, а часто и ночи.
Принесенной стопы в 20–30 книг ему едва хватало на неделю.
Сначала книги, выдаваемые ему, записывались в читательский формуляр. Но формуляр так быстро разбух от вклеенных дополнительных листков, что библиотечное правило пришлось нарушить: стали записывать лишь общее число книг.
Особенно внимательно читал он художественную литературу о гражданской войне, документы, очерки, мемуары об империалистической войне и фантастические повести о войнах будущего.
Маяковского — отрывки из поэмы «Ленин», стихи о советском паспорте знал наизусть и
часто читал вслух. (Замечу в скобках, что много позже смерть Маяковского тяжелым камнем легла на сердце Николая. Он любил его. Но долго не мог простить Маяковскому, что тот добровольно ушел из жизни.)
Классиков русской литературы Николай изучал с большой настойчивостью. Особенно полюбил Горького. Часто, прочитав то или иное произведение, просил принести критическую литературу о нем.
С большим интересом читал Виктора Гюго, Золя, Бальзака, Теодора Драйзера.
Для чтения научно-популярных журналов и публицистики отводил определенное время — два часа в день.
Островского называли в ту пору «неистовый читатель».
В чемоданчике, с которым он приехал к нам, была одна из его любимых книг — «Кобзарь» Тараса Шевченко. От частого чтения и переездов книга истрепалась. На ней не было обложки, не хватало нескольких первых страниц
[17].
В тяжелые минуты, когда боли особенно терзали Николая, он снова и снова возвращался к неумирающим, волнующим страницам любимого поэта Украины — Шевченко. Многое Николай знал наизусть. Более всего любил поэму «Катерина». И как-то по-особому звучали для него строки: «У всякого своя доля и свій шлях широкій…» Любил и «Гайдамаков»… А «Дывлюсь я на небо…» и «Як умру, то поховайте» почти каждый день звучали в нашем доме.
Слушая, как он поет, я думала: до чего ж крепко привязан он к родным украинским местам, к той народной культуре, которую впитал с детства. Где-то в глубине его обожженной боями души все еще жил поэтичный украинский парубок…
В начале 1927 года в Черноморской партийной организации началась подготовка к партпереписи. Вызвали и Николая. Сам он идти уже не мог. Требуемые документы в горком понесла я. Вскоре зашел представитель горкома, чтобы уточнить некоторые вопросы. Позже этот же товарищ принес Николаю партийный билет за № 0285973. На партбилете значилась дата выдачи: 27 мая 1927 года. В графе «Наименование организации, выдавшей билет», записано: «1-й Райком Черноморского округа».
Товарищ поздравил Николая, вручил билет, пожелал здоровья.
Как только представитель райкома ушел, Коля послал меня срочно купить обложку для нового партийного билета. Я тут же побежала на базар и в небольшой галантерейной палатке купила кожаную обложку темно-зеленого цвета. Эта обложка и сейчас хранится в Музее Островского в Сочи.
Часто днем он писал письма своим прежним друзьям. Мысленно он был с ними, много говорил о них и с большим нетерпением ждал ответов. Но, к сожалению, не все отвечали ему, а те, что писали, писали редко. Если бы товарищи знали, как дорога была для него каждая строчка, каждое теплое, дружеское, доброе, радостное слово!
Был в Харькове Петр Новиков. Он присылал письма регулярно; кроме того, он выполнял просьбы Николая по части радиотехники. Друзья вели веселую переписку, полную шуток. Я видела, как любит Николай своего друга. И с нетерпением ждала, когда появится этот загадочный человек, Петр Новиков. II только весной 1928 года он приехал на два-три дня. Его приезд заставил Николая забыть о болезни, — они строили планы о работе, о поездке в Харьков…
У Николая в его бумажнике, который он всегда хранил под подушкой, были фотографии старых друзей, с которыми он познакомился в Харькове, в медико-механическом институте — Петра Куща, Анны Давыдовой, Новикова, Лаурины Был там и снимок, подаренный девушками, с которыми Николай познакомился в санатории: девушки сфотографированы в купальных костюмах, в море, у самого берега.
Как-то просматривая эти снимки, Петр Новиков стал трунить — «пришивать» Николаю разные приключения, связанные с пребыванием в санатории. Подключилась и я. Николай, как мог, оборонялся. Было весело, все громко смеялись. В конце обсуждения мы с Петей поставили на фотографию такую визу: «Проверено цензурой. Р. Мацюк»
[18].
Как молоды мы были душой даже в ту тяжелую пору…
У Николая не было получувств. Он пли любил — тогда все готов был отдать за человека, пли ненавидел — тогда трудно было переубедить его.
Если переставали писать прежние друзья, Николай терпеливо ждал весточки, как бы проверяя дружбу. Когда писем не было долго, пм овладевала грусть. Как-то вечером, когда он снова и снова с большой теплотой и грустью вспоминал замолчавших друзей, я не выдержала:
— Коля, ведь так настоящие друзья не поступают! Неужели они не могут выбрать время для письма, неужели можно забыть дружбу только лишь потому, что ты тяжело заболел? — Сказала — и почувствовала, что сделала ему больно.
— Знаешь, Раек, не будем говорить об этом. Может быть, ты и права, но я еще не могу так отрубить, сделать такой вывод, что меня забыли. Время покажет…
Но надо было видеть Николая, когда приходили письма! Как радостно блестели его глаза!
…Прошла первая наша зима. Мы ждали весны. Думали, весной будет лучше.
7
В середине пути
Весной Николаю стало хуже. По утрам мы видели его распухшие искусанные губы и знали, что это следы борьбы с нечеловеческой болью.
Что делать? Где лечиться? Наши материальные возможности были крайне ограничены. Бесплатную путевку достать не удалось.
Узнали, что в Горячем Ключе близ Краснодара серные ванны делают чудеса с ревматиками. Начались сборы к поездке в Ключевую.
Стоял ослепительный весенний день. Небо казалось особенно высоким и синим. Тени от деревьев и домов были резкие, черные. Акации отцвели и усыпали панели и мостовые желто-белым ковром.
У нашего дома — извозчик, он ждет уже довольно долго и, пригретый солнцем, клюет носом. Мы заканчиваем последние сборы и выносим Николая на руках. Извозчик безразлично смотрит через плечо. Николай щурится на солнце, на глубокую синеву. Прощается со мной. С Николаем едут его мать Ольга Осиповна и моя сестра Леля с двухлетним сынишкой. Я работала и сопровождать Николая не могла.
Горячий Ключ — в 60 километрах от Краснодара. До Краснодара доехали поездом. В Краснодаре наняли легковой автомобиль. Кое-как поместили полулежащего Николая в машину. Леля с мальчиком на руках села у изголовья, поддерживая голову больного, Ольга Осиповна — в ногах, придерживая их.
Ехали долго. Во время толчков Николай несколько раз терял сознание. Приходилось останавливать машину.
На место прибыли лишь через шесть часов. В санатории устроились довольно быстро: помогли местные партийцы, принявшие в Николае горячее участие.
Почти педеля ушла на то, чтобы Николай оправился после дороги.
В санатории все было «по-дачному»: это не был санаторий, какие мы привыкли видеть сейчас, скорее гостиница. Отдыхающим были отведены два небольших дома с открытыми верандами недалеко от парка. В доме, где остановился Николай, было шесть одинаковых по размеру изолированных комнат, двери которых выходили в общий длинный коридор.
Коле отвели вторую комнату с правой стороны от входа. Кажется, она и была № 2. Комната, светлая, чистая. Окно — в сад. В комнате — простая железная односпальная кровать, которую и отдали Николаю, а Ольга Осиповна и моя сестра с сынишкой разместились на полу. Так как за больным требовался специальный уход, то в Горячем Ключе постоянно находилась Ольга Осиповна, а ей помогали по очереди сначала сестра Леля, позже моя мать, а затем приехала и я.
Бюджет наш был в ту пору весьма и весьма скромным. Состоял он из пенсии Николая: 35 рублей 50 копеек и моей зарплаты, не помню точно размера, но тоже небольшой.
Все это заставляло нас жить очень экономно. Но жили дружно и весело. Главная рабочая сила, как шутит Николай, были Леля и я. Ведь два раза в день надо было перестелить постель Николая, а для этого перенести его на стул, а потом обратно на кровать. Надо было уложить больного, чтобы не образовалось ни одной складочки на простынях. Даже маленькая складочка, впиваясь в тело, приносила мучения. Ежедневно его приходилось перекладывать в коляску и везти на процедуры, потом укладывать в ванну, затем обратно в коляску и снова на кровать. В ванном здании работали санитары, но не всегда они оказывались свободны. Нелегко было и возить коляску с Николаем по песчаной дороге. Естественно, Ольге Осиповне все это было не под силу.
Я не помню, как питались остальные больные, но мы готовили сами. Под окнами нашей комнаты в саду установили примус — это и была наша кухня. Занималась хозяйством в основном всегда веселая, ровная, всеми нами любимая Ольга Осиповна.
Директором санатория была комсомолка по имени Аня. Ни фамилии, ни отчества я ее не помню, да и неудивительно, так как все ее звали только Аней. Она встретила нас приветливо и делала все, чтобы помочь нам.
Коля пробыл в санатории около двух месяцев.
Помню мой приезд к нему.
Всю ночь, до самого утра, проговорили мы с Николаем. Встретили изумительное горное утро. Горы охватывали Ключевую со всех сторон и зелеными вершинами подпирали небо. Местами отвесные скалы подступали к небольшой горной речке Псекупс, берущей свое начало от серных родников.
Часто после полудня, когда заканчивались все домашние дела, я отвозила Николая в парк под его любимое дерево на берегу реки или в тень деревьев, что напротив санатория.
В Горячий Ключ, к этому чудо-источнику серных ванн, съезжалось много больных и главным образом тяжелобольных. И вот едва Николай появлялся в парке, его окружали, и он оказывался в центре внимания. Шли горячие споры… о чем угодно, только не о болезни! Об этом Николай говорить не любил.
Заходили к Николаю и комсомольцы во главе с директором санатория Аней. Эти встречи с комсомольцами обычно проходили на открытой веранде. Николая радовали любовь и внимание «комсы».
Серные ванны приносили кое-какое облегчение. Постепенно очень медленно спадала опухоль суставов. Это наполняло нас бодростью и надеждой.
Когда вечерами собирались комсомольцы, Николай просил принести гитару, впрочем, чаще ребята и сами приносили музыкальные инструменты: гитару, мандолину, гармонь — знали, что Островский очень любит музыку и пение. Пели: «Нелюдимо наше море», «Слезами залит мир безбрежный». Николай подпевал. Иногда просил, чтобы ему дали гитару. Укладывал ее на грудь, с трудом дотягивался пальцами до ладов и струн и под свой аккомпанемент пел грустные украинские песни.
Только одна семейная пара была против этих вечерних встреч — наши соседи по коридору. Эти люди требовали полной тишины. Ложились спать они в 6–7 часов вечера, днем бродили по дому как тени, придираясь ко всем и ко всему.
Николай решил помочь им вылечиться от этого. В комнате против нашей жила молодая цыганка. По природе энергичная, живая, веселая, она вносила много радости в жизнь больных и всегда старалась развеселить Островского. И вот Николай договорился с ней, чтобы в один из вечеров, когда нудная парочка уляжется, устроить веселый концерт. Так и сделали. Больше всех веселилась цыганка. Как она пела, как плясала!
Утром — жалобы. Назначили расследование, принялись опрашивать больных. И что же! Никто из больных «не слышал» этого шума! А когда пришли к Николаю, считая, что он, лежачий больной, был дома и все знает, то и он, конечно, ответил то же самое.
Кончилось все это тем, что замкнутая, болезненно придирчивая пара вышла из своей «кельи» и присоединилась ко всем! А Николай ликовал, радовался, что удалось помочь этим людям, вытащить их из «скорлупы».
На «семейном совете» мы решили, что из Ключевой поедем домой в казачьей фуре, выложенной сеном: об автомобиле Николай не мог вспоминать без содрогания.
Провожать Николая собрались его новые друзья, они долго и горячо жали ему руки; мы выслушали десятки бодрых, дружеских пожеланий.
Но едва тронулись в путь, началась пытка, для больного физическая, для нас моральная. Чтобы облегчить хоть немного его страдания, я всю дорогу держала на руках голову Николая.
Это была ужасная дорога! Уже через несколько часов пути нам стало ясно, что Горячий Ключ Николаю не помог. Он от боли несколько раз терял сознание. В один из промежутков между обмороками он тихо сказал мне:
— Береги меня, Раюша, я еще многое могу сделать, я поправлюсь, не оставляй меня…
Я не могла сдержать слез.
Наконец приехали в Краснодар. Колю нельзя было сразу вносить в вокзал. Его вообще нельзя было тронуть. Нужно было время, чтобы он пришел в себя.
Подводу, на которой находился Николай, быстро обступили любопытные. Послышались возгласы:
— Ах, миленький, да он уже неживой…
— И куда ты его везешь?
— И зачем ты с ним возишься, все равно он не жилец!
Эти слова просто разъярили меня. Не знаю, откуда у меня взялась смелость. Я соскочила с подводы, кинулась к этим «сочувствующим» и процедила сквозь зубы:
— Разойдитесь немедленно, хватит вам языки чесать, пошли вон отсюда!
Кумушки шарахнулись в сторону:
— Да она ненормальная…
Когда же я вернулась к Николаю и села около него, он взял мою руку, слабо сжал ее и еле слышно прошептал:
— Молодец, дивчина. Надо было еще и крепче им сказать.
Невеселым было наше возвращение в Новороссийск. Серные ванны жесточайшим образом обманули наши ожидания.
Врачи утешали, говорили, серные ванны должны сказаться позднее и улучшение должно наступить по меньшей мере через месяц. Советовали на другой год продолжить лечение в Мацесте.
Несмотря на свое тяжелое состояние, Николай неизменно повторял:
— Ничего, все это мелкие кочки на жизненной дороге, все это временно. Пройдет!
Но по его сдвинутым бровям было видно, что все это он говорит только для нас.
Чтобы заглушить физическую боль, он все больше и больше погружался в книги. В ясную, хорошую погоду мы выносили его во двор. Здесь, в тени акаций, на складной деревянной кровати он проводил дни. Чтобы скрыться от любопытных глаз, между двумя деревьями протягивали веревку, на нее вешали простыню.
Сюда же по вечерам собиралась молодежь. Тогда этот уголок оживал. Споры, шутки, смех, пение, игра на мандолине и гитаре не смолкали.
Осенью в свой распорядок дня Николай включил новую графу: «писание». «Писанию» теперь отводилась большая часть дня, примерно часа четыре. Что подразумевалось под «писанием», оставалось нам неизвестным. Каждое утро после завтрака Николай просил дать ему чернила, вынимал из-под подушки объемистую тетрадь и начинал писать.
Что он писал, никто не знал, а когда я просила показать мне таинственную тетрадь, Николай шутил:
— Ну, какая ты любопытная, прямо, как женщина! Я веду дневник, как тот Квасман в больнице, о котором я рассказывал, помнишь? Хочешь, почитаю?
Николай раскрывал тетрадь и, неестественно быстро бегая зрачками по странице, читал: «…27 ноября. Здоровье Островского ничего себе, большой палец на левой ноге еще шевелится, но в больницу Островский не хочет». «28 ноября. Аппетит у Островского хороший, съел три котлеты, хотел еще одну, но жена не дала, говорит: тебе в твоем лежачем состоянии есть вообще вредно, а сама по своему ходячему положению слопала семь…»
Я хохотала, а Николай быстро прятал написанное.
Иногда он так увлекался писанием, что трудно было оторвать его к обеду. В таких случаях раздражался, требовал, чтобы к нему не приставали с «идиотскими обедами», и обещал, закончив через несколько дней работу, отобедать сразу за все упущенное время.
Как-то утром Николай вручил мне объемистый запечатанный пакет. Я даже не видела, когда и кто подавал ему клей и когда Николай запечатывал таинственную тетрадь.
— Вот отправь, Раюша, только сделай это сейчас же, — попросил он. Адрес тоже был написан его рукой. Крупно: «Город Одесса». Кому персонально, не помню.
Через две-три недели после отправки пакета Николай получил коллективное письмо от котовцев. Только из их письма я узнала, что таинственная тетрадь содержала в себе повесть о Котовском и его героических походах. В письме — горячие отзывы о повести, советы, указания и добрые пожелания для дальнейшей работы.
Рукопись повести, как писали товарищи Николая, была отправлена обратно. Но время шло, а она все не возвращалась. Николай мрачнел. Проходили недели. Нам стало ясно, что рукопись затерялась. Единственный экземпляр!
— Да, — сказал Николай. — Сколько труда и чувства вложено… И все прахом.
В то время мне было жаль только Николая. Но теперь мне ясно, что нужно жалеть об утрате самой рукописи. О чем вместе со мной, вероятно, пожалеет теперь и всякий, кто любит книги Островского и кому близок Павка Корчагин.
Долгое время он не писал ничего. И только новая работа, захватившая Николая, помогла забыть о потере. Райком комсомола поручил ему вести кружок по изучению истории партии.
Время делало свое дело. Мы все, да и сам Николай, казалось, свыклись с его состоянием. Он был доволен своей работой в кружке. Комсомольцы, приходившие к нему на занятия, ценили и уважали своего пропагандиста. Николай, как всегда, много читал, учился, учил других. К нему вернулась жизнерадостность и деловая бодрость.
Он мечтал о радио. В нашем поселке мало кто имел тогда радио. Поставить радиоточку в ту пору было делом чрезвычайно сложным. Надо было добывать и делать все самостоятельно. И антенну, и заземление, и приемник, и батареи питания.
Но мы задались целью сделать это во что бы то ни стало!
Во дворе, между акациями, комсомольцы устроили антенну. Купили маленький детекторный приемник. Это была небольшая, 15 см×20 см черная коробочка. На верхней крышке под стеклянным колпачком высотой в 4–5 сантиметров находился кристаллик. К кристаллику проведена проволочка. Чтобы получить звук, надо было соединить проволочку с кристалликом.
Теперь целыми вечерами, а иногда и днем, с наушниками на голове Николай «выжимал» звуки из этого далеко не совершенного приемника. Надо было иметь большую выдержку, чтобы с досады не разбить его об пол. Ведь от того, как удастся соединить проволочку с кристалликом, зависела и чистота звука. Беспрестанно велись поиски лучшей слышимости. А получались одни разряды, писк и визг. Кроме того, в ветреные дни (а их в Новороссийске больше, чем тихих) провода антенны, раскачиваясь, задевали за ветки акаций, что тоже давало разряды.
Позже были куплены сухие и полусухие батареи и установлены под его кроватью. Их было 10–12 штук. Все они соединялись проводами, от них шли провода и к Николаю на кровать, где он сам что-то мастерил. Часто мне приходилось лезть под кровать и по его указанию чинить вю эту технику. Я боялась электричества. В шутку говорила Николаю: «Ты когда-нибудь подорвешься на этих батареях!»
На стене висел деревянный, в форме коробки, репродуктор. Но он чаще молчал. Выручали по-прежнему наушники. Чтобы железная дуга наушников не давила голову, ее обмотали байкой. (И репродуктор и радионаушники экспонируются в Музее Н. Островского в Сочи.) Но как ни плоха была слышимость, Островский с наушниками не расставался.
В часы, когда передавали музыку, Николай откладывал даже книги и с наслаждением слушал концерты. Это был для него подлинный отдых.
Он занимался теперь в Заочном Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова. В определенные часы, как аккуратный школьник, слушал по радио лекции. В эти часы никакие иные дела не могли его отвлечь.
И тут началось самое страшное. К общим болям в организме прибавилась еще новая. От напряженного чтения запылал правый глаз, раненный в 1920 году. Воспаление перешло на левый. Читать стало нельзя. Николай тяжко переживал новый удар. Радионаушники теперь снимались только на ночь.
Врачи ничего определенного не сказали. Печально посматривал Островский на стопы книг и журналов на столе у его кровати.
Боль в глазах не утихала ни на минуту. Целые дни Николай проводил в темной комнате с завешенными окнами, так как свет резко увеличивал боль. В это время грусть стала частым гостем в нашем доме. Жизнь опять поставила Островского перед испытанием. Он уже не мог заниматься с молодежью. И вот тогда молодежь пришла ему на помощь. Теперь комсомольцы отдавали свободные часы своему пропагандисту. Читали вслух газеты, книги…
Летом 1928 года к нам приехала погостить сестра Николая Екатерина Алексеевна Соколова с дочкой Катюшей. Месяц, проведенный вместе, сдружил нас. Николай не был одинок, когда я уходила на работу.
Хотя его состояние было по-прежнему очень тяжелым, и всем нам было ясно, что болезнь неизлечима, все-таки снова встал вопрос о поездке на курорт. Но куда? О Горячем Ключе не хотели и думать. Решили хлопотать о путевке в Сочи для лечения мацестинскими ваннами.
Наконец райком партии выдал Николаю Островскому путевку в санаторий,№ 5 на Старой Мацесте.
Сопровождать больного взялась его сестра. Ехать решили морем.
В день отъезда стояла ясная солнечная погода. Море было спокойно. На извозчике мы отвезли Николая к теплоходу и уложили в вестибюль второго класса.
Теплоход, покачиваясь на волнах, медленно ушел за горизонт…
Спустя два часа погода резко изменилась: набежала туча, пошел дождь. Море взбунтовалось, начался шторм.
Зная, что в Сочи нет пристани и теплоход встанет на рейде, мы сильно встревожились. Снести больного человека с парохода по трапу в лодку даже при спокойном море — трудная задача, но теперь, когда море так бушует, что трудно устоять на палубе, — это просто невозможно. Сердце мое разрывалось от неизвестности.
Только через несколько дней из письма Николая мы узнали, что теплоход в Сочи не остановился: больных повезли в Сухуми и там разместили в больнице в ожидании встречного теплохода.
Много позже с шутками и со смехом Николай рассказывал мне, как его высаживали в Сухуми:
— Море бушевало так, что теплоход не мог подойти к пристани. Меня уложили на носилки, руками я крепко за них держался. В тот момент, когда борт волной приблизило к пристани, один конец носилок схватил грузчик, стоявший на пристани — быстро рванул на себя. В этот же миг теплоход отбросило. Часть носилок очутилась над водой. Подушка из-под головы упала в море. Меня с трудом удержали и вытянули на пристань. Публика, наблюдавшая эту сцену, ахнула, когда носилки повисли в воздухе.
Екатерина Алексеевна передавала, что позже Николай шутил: «Плохую закуску получили бы обитатели моря, если бы я очутился в волнах. Кости, и ничего больше.
В Сухуми Николай с сестрой пробыли несколько дней и обратным рейсом поехали в Сочи. Катя, не сходя с парохода, передала Николая встретившим ее санитарам.
Вернувшись в Новороссийск, она вместе с Ольгой Осиповной и дочерью выехала в Шепетовку. Через две недели, как и было условлено, я поехала к Николаю в Сочи.
В дом отца я более не вернулась: с того лета началась паша с Николаем самостоятельная жизнь. Нелегкая жизнь. Но наша.
Много лет спустя Николай Островский шутил: «В первый период я был здоров, во второй период действительно тяжело болен, а в третий тоже болен, пожалуй, но только с точки зрения разбирающихся в медицине…»
Я описываю сейчас самый тяжкий — второй период.
Бурная жизнь была за плечами: кавалерийские лавы гражданской войны, строительство узкоколейки под Киевом, пули бандитов, комсомольские будни Берездова, Изяслава, счастливая жизнь бойца, знающего, что он в строю.
Спереди было счастье осуществленного творчества, упоенная работа над романом, признание читателей, ощущение того, что ты вернулся в строй.
Теперь мы были как бы в мертвой точке. В середине пути.
8
Круг друзей
Администрация санатория № 5 на Старой Мацесте в Сочи разрешила мне ночевать в дежурной комнате медсестры — с условием, что я буду помогать санитаркам в уборке палат и полностью обслуживать больного Островского. Для этого я и ехала. Мы были рады, что все так устроилось. Иногда за свою работу я получала обед. Это уже совсем хорошо.
Закончив работу, после завтрака и обхода врача я укладывала Николая на коляску и увозила в горы подальше от шума. Устанавливала коляску в тени деревьев, а сама устраивалась рядом на траве. Мы отдыхали, читали, строили планы на будущее.
Тогда Николай немного еще видел. Мог двигать руками. Он всегда имел при себе небольшое зеркальце: если слышал чьи-то шаги, с помощью зеркальца смотрел, куда идет человек. Нс к нему ли?
Но вначале он сторонился людей. Не хотелось удовлетворять их любопытство, выслушивать соболезнования: «Ах бедный! Такой молодой! А кем ему приходится эта молодая женщина?..»
В определенные часы я сопровождала его на лечебные процедуры. Ехать надо было недалеко — минут пять на линейке, но приходилось помогать санитарам. Укладывать больного на линейку, поддерживать его во время езды. Санаторий находился на горе, и дорога спускалась довольно круто. Дежурила я и в процедурной: няни не имели возможности сидеть около Николая. А оставить его одного было небезопасно: принимая ванну, он мог захлебнуться, кроме того, следовало следить за глазами: сероводород, особенно сильно выделявшийся из горячей воды, обострял боль в глазах, и их нужно было больному вовремя завязать.
Все это было сложно, трудно для Николая, но он находил в себе силы, шутил с сестрами, советовал им не возиться с таким «барахлом», как он… Ванны приносили небольшое облегчение. Островский повеселел. А я получила новое задание: узнавать о людях, приезжающих на лечение.
И появились люди, которые как воздух были необходимы Островскому.
Однажды ко мне подошла женщина лет тридцати пяти. Осторожно, по-матерински стала расспрашивать об Островском. Вообще меня всегда раздражали такие расспросы, но эта женщина вызвала у меня симпатию. Случилось так, что и Островский ее заметил: он обратил внимание, что она сторонится шумных компаний. Вскоре они познакомились. Это была Александра Алексеевна Жигирева, Шурочка-металлистка, как ее звали в Ленинграде.
С этого времени Александра Алексеевна стала нам вроде второй матери: она неустанно следила за нашей жизнью, поддерживала нас морально, а иногда и материально.
Несколько слов о ней.
Старая коммунистка, подпольщица, член партии с 1911 года. Небольшого роста, сутуловатая. Одета очень скромно: почти всегда в одном темно-синем платье с белым воротничком. Голова повязана светлой косынкой, из-под которой видны темные, гладкие, коротко подстриженные волосы. На круглом скуластом лице небольшие глаза. Тихая, скромная. Лечит ноги. Много позже мы узнали, что это результат ссылок, тюрем.
Вскоре после знакомства с Островским Жигирева по его просьбе рассказала о себе:
— Отец мой, рабочий, был беспартийным. Но предоставлял свою квартиру для встреч подпольщиков-революционеров. Я, двенадцатилетняя девочка, по заданию отца приглашала их на эти встречи. В 1908 году пошла работать на конфетную фабрику, там же вступила в РСДРП. В 1915 году была арестована и выслана в Сибирь, где пробыла до 1917 года. Работая в подполье, я познакомилась с Клавдией Николаевой
[19] после Октябрьской революции, когда Владимир Ильич Ленин жил в Смольном, моя мама, Васса Степановна Дмитриева, работала в Смольном уборщицей. А отец мой был там истопником. Мама работала в Смольном вплоть до отъезда Ленина в Москву… Надежду Константиновну я видела, когда бывала у мамы.
Теперь все свободное время Александра Алексеевна проводила с Островским.
В ту пору Жигирева работала на заводе в Ленинграде, заведовала женотделом, была членом бюро парткома.
…Она сохранила свыше ста писем Островского и родных о нем — своеобразную летопись его жизни с 1928 по 1936 год.
Вскоре в санаторий на лечение приехал Хрисанф Павлович Чернокозов. Его поселили в палату к Николаю.
Коренастый, пышноусый, с большими рабочими руками, неразговорчивый и хмурый, он, казалось, весь ушел в болезнь и выглядел много старше своих сорока трех лет. Гангрена обеих ног уложила его в постель. Предстояла ампутация.
Чернокозова сопровождала жена, Прасковья Андреевна, в противоположность ему живая, веселая, энергичная. Прасковья Андреевна бывала с мужем и в ссылке, скиталась с четырьмя детьми, прятала Чернокозова по подвалам в городах, где он не имел права проживать. Обманывала шпиков, с ребенком на руках наводила их на ложный путь, спасая мужа.
Островский привязался к Чернокозову как к отцу. Он и называл его «батькой», да и по возрасту годился ему в сыновья.
Чернокозов прошел большой и нелегкий путь: от коногона на шахте в царское время до ответственного работника в годы Советской власти. Рабский труд — таково было начало пути. Хрисанф Павлович примкнул к революционному движению. В подполье он печатал листовки и распространял их среди рабочих. В 1912 году вступил в ряды ленинской партии. Становится одним из корреспондентов и распространителей газеты «Правда». Арестовывался неоднократно. В 1918 году участвовал в борьбе за установление Советской власти в Донбассе. С 1924 по 1927 год работал секретарем Шахтинского окружкома партии. Был делегатом III съезда комсомола, избирался делегатом XIV, XV, а позже и XVIII съездов партии.
В 1929 году он был послан в Чечено-Ингушетию, председательствовал в союзе горняков, в Грозненском горисполкоме, потом был заместителем председателя Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
В своих воспоминаниях Хрисанф Павлович рассказывает, что Островский засыпал его вопросами:
— Скажи, батько, как формировалась наша партия? Как вы работали в подполье? Как проходила борьба с царизмом?
Осенью 1929 года Хрисанф Павлович повторил лечение в Мащесте. Мы в это время жили в Сочи, в доме по улице Войкова, 39. Последний день перед отъездом Хрисанф Павлович вместе с женою Прасковьей Андреевной провели у нас. Чернокозов не отходил от Николая. Как и прежде, говорил о себе скупо и неохотно и как бы между прочим рассказал следующее:
— Это было в Чечено-Ингушетии. Перед нами стояла задача вовлечь в общественную жизнь женщин. А как известно, женщины тогда ходили, можно сказать, только под паранджой. И вот мне удалось устроить на учебу одну девушку. Я договорился с ней, чтобы она выступила на собрании с призывом к девушкам последовать ее примеру. Что было на собрании, вы не можете себе представить! Мужчины подняли шум, посыпались угрозы в мой адрес… Я уже не думал, что останусь в живых. Все кончилось благополучно, но это собрание открыло глаза многим женщинам Ингушетии…
Это только один небольшой эпизод. А сколько их в его жизни! Молодому коммунисту было чему поучиться у этого замечательного человека.
Вскоре судьба разъединила их. Они не виделись несколько лет, но помнили друг о друге. В 1933 году Островский послал Чернокозову письмо, как бы отчитываясь о прожитых годах:
«Милый мой Хрисанф Павлович!
С глубокой радостью сегодня узнаю, что ты продолжаешь борьбу и что болезнь не смогла вывести тебя из строя. Это самое лучшее, что я хотел о тебе узнать… Меня с тобой навсегда связала большевистская дружба, ведь мы с тобой типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. Три года, как я потерял тебя из виду и лишь дважды встречал в газетах твое имя. Приветствую тебя, мой дорогой, горячо, как «сынишка» и друг. Помнишь, как ты писал в Москву товарищу Землячке
[20], а я помню. Там были такие слова: «Я глубоко убежден, я верю, что т. Островский, несмотря на слепоту и полный разгром физический, может и будет еще полезен нашей партии».
Я с большим удовлетворением сообщаю тебе, что твою и многих старых большевиков уверенность в том, что я еще возвращусь в строй, на передовые позиции наступающего пролетариата, я оправдал. Иначе не могло быть. Никакая болезнь, никакие страдания никогда не в силах сломить большевика, вся жизнь которого была и есть борьба… Силы ко мне не вернулись, я так же прикован к постели, но из глубокого тыла передвинулся на фронт. Это единственно для меня возможный — литературный фронт…»
И еще два года спустя:
«Телеграф принес мне от вас весточку. Сколько лет прошло, а я все не мог найти тебя, моего родного и милого батьки.
И вот несколько ласковых слов… Как я был рад получить их!
Никогда ни я, ни моя семья не забывали тебя. Какие-то крепкие узы связали нас с тобой, замечательным представителем старой гвардии большевизма… Сейчас же сообщи мне свой адрес и место работы. Я пришлю тебе свою книгу. Если ты читал мою речь при вручении мне ордена Ленина, то она относится и к тебе, старому большевику, одному из моих воспитателей».
В декабре 1933 года Островский сообщает Чернокозову: «Во второй части (романа. —
Р. О.) есть несколько слов и о тебе…»
Я открываю роман «Как закалялась сталь», и сочинское лето 1928 года встает в моей памяти:
«Под тенью размашистых деревьев, в уголке террасы группа санаториев. За небольшим столом читал «Правду», тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка, старенькая кепчонка, загорелое, худое, давно небритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами — все выдает в нем коренного шахтера. Двенадцать лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток, а казалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе.
Чернокозов — член бюро крайкома партии и член правительства. Мучительный недуг сжигал его силы — гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели.
Напротив него, задумчиво, дымя папиросой, сидела Жигирева. Александре Алексеевне Жпгпревой тридцать семь лет, девятнадцать лет она в партии. «Шурочка-металлистка», как звали ее в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой…»
Вот и все. Немного строк посвятил им Островский, n все потому, что эти скромные люди просили его не писать о них.
Из письма Островскою Жпгпревой:
«Во второй части записаны ты и Чернокозов. Правда, я не получил на это вашего согласия, но, что написано пером, не вырубишь топором, говорит старая пословица».
Тогда же, в санатории, Островский познакомился с харьковским писателем Михаилом Васильевичем Паньковым. У Панькова болели ноги, все дни он проводил в коляске: его возила приехавшая с ним жена, но вообще это был здоровяк: крепкий, полный, румяный красавец. Одет с иголочки, по-европейски.
Паньков много рассказывал
о Германии, где проходил курс лечения. Эго был интереснейший человек.
А главное — Михаил Паньков был первым писателем, с которым познакомился Николай Островский. Они быстро сошлись, долго оставались вдвоем, вели разговоры о литературе. Вот с ним-то Николай и поделился своими планами, рассказал, что хочет написать книгу о молодежи, о комсомольцах двадцатых годов, рассказать об их борьбе за новую жизнь. Паньков обещал оказать ему помощь как редактор.
О Панькове в романе «Как закалялась сталь» Островский написал:
«Третий у стола — Паньков. Наклонив свою красивою, с античным профилем, голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот тридцатилетий атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник Нарком-проса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением…»
Там же, в сочинском санатории, Островский вновь встретился с И. П. Феденевым, с которым познакомился еще в санатории «Майнаки».
Это был один из самых ярких людей, определивших в ту пору окружение Николая Островского.
Сибиряк, высокий, статный, крепкий, Иннокентий Павлович Феденев выглядел моложе своих пятидесяти. Немногословный, хмурый на вид, он на самом деле был человеком добрейшего сердца. Ходил Феденев с палочкой — болели ноги.
Интересную, большую жизнь прожил этот человек. Родился в Иркутске в 1877 году в огромной семье: 20 человек детей! В революционном движении участвовал с 1903 года. Год спустя вступил в Иркутскую организацию РСДРП (б). Неоднократно подвергался репрессиям со стороны царской охранки, сидел в тюрьмах. В Октябре 1917 года находился на Западном фронте. По списку большевиков прошел в члены Учредительного собрания от Западного фронта и области. В конце 1917 года был вызван Военно-революционным комитетом в Минск и назначен комиссаром финансов Западной области, а вскоре избран в состав Областного исполнительного комитета Западной области и фронта. В начале 1918 года утвержден областным комиссаром финансов и избран заместителем главнокомандующего Западным фронтом.
В 1918 году Феденев был делегирован на I Всероссийский съезд Советов, после которого остался на работе в Наркомате госконтроля, по совместительству работая и в Моссовете, где он организовал Московскую рабочую инспекцию, став первым ее председателем.
Когда Островский познакомился с Феденевым, тот работал в Главном правлении Госстраха. Это был действительно настоящий, твердокаменный партиец. Молодой коммунист Островский привязался к нему всем сердцем. Феденев платил ему тем же.
В романе «Как закалялась сталь» Островский рассказал об этом замечательном человеке, изменив в фамилии одну букву. Феденев стал Леденевым:
«…Высокий богатырь с седыми висками, сибиряк… До приезда Иннокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным «чемпионом» в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился старик, необычайно молодо выглядевший в свои пятьдесят лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевый гамбит, на который Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как «чемпион», Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник: напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно.
После трехчасового сражения, несмотря на все усилия… Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих.
Посмотрел на своего партнера. Леденев улыбнулся отечески добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец, с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагина, еще ничего не замечал.
— Я всегда держусь до последней пешки, — сказал Павел, и Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу.
…Корчагин потерял звание «чемпиона», но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему дорогим и близким…
У Корчагина и Леденева была одна общая дата: Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного — большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом — большой государственной работы; у другого — пламенная юность и всею лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они, старый и молодой, имели горячие сердца и разбитое здоровье».
…Так мы проводили лето 1928 года в санатории № 5 на Старой Мацесте. Я возила Николая на процедуры, сторонилась любопытных. Он боролся с болью, болезнью.
Внутренняя работа души и сознания не утихала в нем ни на минуту.
9
«Я с головой ушел в классовую борьбу»
Окончился срок лечения. Возвращаться в Новороссийск мы не хотели, ведь из дому я уехала без разрешения отца. Остаться бы в Сочи. Но где жить? Начались поиски комнаты. В городе — нам не по карману. Поселиться где-то в районе Старой Мацесты — невозможно, ибо связь с Сочи в те годы осуществлялась только по железной дороге, но, когда кончался курортный сезон, поезда ходили редко, так что была опасность остаться без продуктов.
Помогла нам Александра Алексеевна Жигирева. Вместе со мной ездила в Сочи подыскивать комнату. И на свои деньги сняла нам на два месяца небольшой летний домик у человека по фамилии Полптиди, недалеко от вокзала, на Крестьянской улице (теперь это улица Горького). Через два месяца мы надеялись получить комнату от райисполкома, нам обещал это секретарь Сочинского горкома партии М. Вольмер.
Вскоре Жигирева уехала домой в Ленинград. С меня она взяла слово, вернее — обязала меня, часто и подробно информировать ее о нашей жизни и о здоровье Николая.
Начались будни. По утрам я бежала на базар, потом готовила обед, а покончив с домашними делами, занималась Николаем.
Читала газеты, журналы. На страницах «Правды» обсуждался план первой пятилетки. При чтении мне попадались неясные места, но я боялась отвлекать Николая вопросами — он слушал с напряженным интересом. Однако ему и самому хотелось поговорить о прочитанном: он чувствовал, что мне нс все ясно. И увлекательно рассказывал о значении пятилетнего плана для нашей страны.
Картины, которые рисовал Николай, казались мне тогда сказкой, плодом его фантазии. Впоследствии я убедилась, что даже богатое воображение Островского не могло нарисовать то, что вскоре стало явью…
У наших хозяев была девочка месяцев восьми. Звали ее Соня: хорошенькая, черноглазая. Часто я брала ее к нам. Сажала к Николаю. Он обнимал хрупкое тельце, забавлял ее, а Соня доверчиво хватала его за нос. Он морщился и радостно смеялся, когда она гладила его по лицу. Пел ей песенки.
Старшие дети тоже любили заходить к «дяде Коле». Обступят, бывало, его со всех сторон — кто на коленях стоит на краю кровати, кто на стул влезет, кто облокотится на подушку у изголовья Николая, — и слушают, слушают…
Однако надо было решить ряд сугубо житейских проблем. Чтобы получить продовольственную карточку, я должна была работать. Но как оставлять Николая? А на одну его карточку вдвоем жить голодно. И вот Николай пошел на «преступление». Зарегистрировал меня в профсоюзе «Нарпит» (народного питания) как домработницу.
Между тем мои хождения в Отдел коммунального хозяйства по поводу комнаты ничего не давали. Я сообщила об этом в Ленинград, Жигирева написала оттуда секретарю горкома партии Вольмеру, но Вольмер почти все время находился в селах — шла коллективизация сельского хозяйства.
Наконец работники коммунхоза пригласили меня смотреть комнаты. Предложили три варианта: во всех трех случаях — подвалы с цементным полом и без отопления. Когда я отказалась от них, меня обвинили в капризах. Деваться нам было некуда. Пришлось везти Николая в сырую полутемную комнату в полуподвальном этаже дома № 9 по Пушкинской улице на Верещагинской стороне.
Дом, в котором мы поселились, располагался на окраине города. Возвращаться вечером было небезопасно. В ущелье, которым мне надо было проходить (сейчас над этим ущельем построен большой красивый мост — он соединяет бывшую
Верещагинскую сторону с центром города), бывали случаи хулиганства. Николай настаивал, чтобы я брала с собой его браунинг. Обращаться с браунингом я умела — я часто чистила его под руководством Николая. Но брать оружие упорно отказывалась: чистить — одно, а стрелять — другое. Однажды я созналась, что боюсь стрелять и больше надеюсь на свои ноги. Николай посмеялся надо мной, но согласился.
В пашу комнату никогда не заглядывало солнце. Окна в комнате не было, а застекленная до половины дверь выходила на увитую виноградом веранду. В комнате из-за этого было темно, сыро и холодно.
Как-то в теплый солнечный день нам захотелось поймать солнышко. По предложению Николая я придвинула его кровать к двери и стала раздвигать лозы винограда, которые закрывали окно веранды. Эксперимент удался: на постель попали лучи солнца. Обрадованный, Николай подбадривал меня:
— Ну еще, еще! Раздвинь лозы больше, убери листья!
Я напрягала все силы, но сдвинуть лозы в сторону больше так и не смогла: не хватило сил.
Я думала, что этот эпизод забылся, по несколько лет спустя прочла в романе «Рожденные бурей»:
«— Татэ, смотри, солнышко пришло! — Мойше ловит ручонками золотые блики на грязном полу. — Татэ! Я тебе принесу немного солнышка».
Между тем наступили холодные, дождливые дни. Для того чтобы как-то согреть комнату, я теперь собирала мусор, щепки, листья. Но все это давало мало тепла, и в конце концов Николай простудился. Началось воспаление легких. Опять я была вынуждена идти в коммун-хоз, просить о комнате. Помог новый наш знакомый по дому, старик Сазонов: он сразу привязался к Николаю, не отходил от пего, в мое отсутствие читал ему газеты. Теперь он подключился к «добыванию» жилой комнаты для больного Островского.
Нам повезло: Вольмер дал указание убрать из комнаты второго этажа частный зубоврачебный кабинет бывшей хозяйки этого дома, а комнату отдать Островскому.
Николай поспешил обрадовать Шурочку-металлистку. 29 октября 1928 года он написал ей:
«Уже 3 дня живем по-буржуйски — большая, полная солнца комната, 3 окна, электричество и даже… водопровод… Вот где я дышу полной грудью и любуюсь на солнышко, которое не видел 26 дней. Этот погреб, где я жил, так меня угнетал и физ[ически] и морально».
Да, комната у нас теперь была светлая, сухая и в сравнении с подвалом большая — десять метров! Одно было неудобство: топка нашей печки выходила в соседнюю комнату, где проживал родственник бывшей хозяйки, в прошлом — шахтовладелец. Числился он рабочим, конюхом какого-то санатория.
Под нами жил еще один рабочий с женой и двумя малолетними детьми. Это был жуткий подвал. И вот какая сложилась ситуация. Во всех комнатах имелись раковины, но пользоваться ими не разрешали, так как канализация была неисправна. И что же? Зная это, наш сосед выливал у себя в раковину нечистоты, и вся эта гадость выливалась в раковину в подвале рабочего. Из-за этого и у нас в комнате был тяжелый запах. Кроме того, сосед выливал помои из окна комнаты — как раз под окна рабочего, надо сказать, больного туберкулезом. Часто к нам прибегала в слезах жена рабочего, с ребенком на руках:
— Ой, Николай Алексеевич, помогите! Опять этот буржуй вылил нечистоты в раковину…
К Островскому часто шли люди искать защиты.
И Николай собирал у себя в комнате домком с активом, добивался улучшения жилищных условий рабочего. Выносили шахтовладельцу порицание, грозили выселением… Тот, зная это, взъелся на Николая. У него вообще был зуд «на коммунистов».
Что же делает этот человек? Он не пускает меня к себе в комнату, где я могла бы затопить общую почку. Печь стоит холодная. Себе же бывший хозяин поставил маленькую железную печь-«буржуйку». А я не могу сделать того же, так как Николай не переносит дыма: его все время мучили головные боли. Когда я стала просить соседа разрешить мне затопить общую печь, он злобно ответил:
— В мою комнату пройдете только через мой труп!
На мои просьбы призвать его к порядку и помочь нам добиться разрешения затопить печь мне в горисполкоме отвечали:
— Ну конечно, это неудобно, если посторонние люди будут заходить к нему.
Холодная блокада продолжалась. Николай лежал укутанный, заваленный теплыми вещами.
Между тем мы искали выход из создавшегося положения. Решили приобрести электропечку. Но в Сочи их не было. Опять полетели письма к Шурочке-металлистке. В ноябре 1928 года:
«Есть к тебе
срочная просьба. Наведи справки в электротресте, есть ли у них электрические печки… Срочность потому, что начинаются холода…» «Сегодня я посылаю тебе телеграмму об электропечке — 110 вольт напряжения… Эта печка хотя потребует больше энергии, но эта скорее нагревает… Сосед-то… не дает топить и сам не топит общую печь…»
И еще об этом же соседе: «В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед. В бессильной злобе… не дает нам топить, и я сижу в холодной комнате; мое счастье, что стоит прекрасная погода, а то я бы замерз. Кто-то из этих бандитов бросил мне камень в окно, целился в голову, да плохо, разбилось только стекло, это уже не первая бомбардировка. Пользуясь моей беспомощностью, когда Рая уходит, начинают меня атаковывать камешками. Это никудышные попытки чем-либо отомстить. Черт с ними, все это ерунда. Все мы устали чертовски». Островский посылает Жигиревой своеобразный отчет о своей борьбе с местной буржуазией за вселение рабочих в лучшие квартиры. «Получил и я пару раз по зубам, дал сдачи — все пока окончилось перепиской. Правая опасность здесь имеет живое отражение, здесь непролазные кучи работы и борьбы, но это не с моими силами. Писать же для того, чтобы люди презрительно усмехались и рвали письмо, не стоит. Встать же и трусить за душу геморройных бюрократов нет сил, поэтому надо успокоиться. Знаешь, на бумаге всего нельзя рассказать, бумага плохой конспиратор, встретимся — обо всем расскажу, и я уверен, что ты подтвердишь мою политическую организационную линию, а пока я вымотал все кусочки сил и надо успокоиться…»
Для Островского борьба за улучшение жилищных условий для рабочих в его доме не просто житейский эпизод, а выражение и проявление той борьбы классов, которая идет в обществе.
«Дело, конечно, не обо мне или какой-то комнате, печке и т. д. и т. п., — пишет он Жигиревой. — Нет, вопрос идет о правой опасности, она здесь ярко выражена. Ты читала доклад т. Ярославского на последнем пленуме ЦКК о том, что в Черноморском округе в аппарате сидит 30 % враждебных нам элементов. Это безусловно Ярославским не преувеличено. Я уже не говорю о подхалимах, о геморроидальных бюрократах, о «нежелании портить отношения» с вышестоящими и т. д. и т. п.».
Да, больной, слепой, почти бездвижный, он не отставал от жизни своей страны, жил ее интересами, знал о достижениях и победах, активно боролся за осуществление поставленных партией задач.
Николай Островский вел борьбу на своем маленьком фронте.
«Итак, я с головой ушел в классовую борьбу здесь, — пишет он Жигиревой 21 ноября 1928 года. — Кругом нас здесь остатки белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага — сын попа, бывший дачевладелец. Я и Рая, ознакомившись со всеми, организовываем рабочих и своих товарищей, живущих здесь, и требуем перевыборов домоуправа. Все чуждые взбесились и все, что могли, делали против — 2 раза срывали собрание. Загорелись страсти. Но, наконец, в 3-й раз собрались у меня в комнате все рабочие и комфракция, и наше большинство голосов выбрало преддомоуправ[а], рабочую энергичную женщину… Потом пошла борьба за следующий дом… Он после «боя» тоже нами завоеван… Дело идет не обо мне, нет, тут борьба классовая — за вышибание чуждых и врагов из особняков…
Шура! Несмотря на то, что я здесь заболел и тяжело чувствую, я все забываю, и хотя много тревоги и волнений, но мне прибавилось жизни, так как группа рабочих, группируясь около меня, как родпого человека, ведет борьбу, и я в ней участвую…»
Борьба Островского с «недорезанными буржуями» отнимала у него много сил. Но зато как он ожил, когда к нам пришла комиссия по чистке советского аппарата и признала его действия правильными!
«…Итак, здесь работает комиссия по чистке соваппарата… — пишет Островский А. Жигиревой 12 декабря 1928 года. — Позавчера и сегодня у меня куча гостей. Вся комиссия целиком приехала, были Вольмер и чл[ены] бюро РК, товарищи из ГПУ и др.
На меня обрушился поток людей, занятых очисткой нашего аппарата от разной сволочи.
Все то, что я отсюда писал в Москву, в край и т. п., разбиралось и дополнялось в моем присутствии всей комиссией. Не подтвердилось только… одно, а все остальное раскрыто и ликвидируется…»
Шурочка советовала Островскому поберечь себя. Он ей ответил: «…Я читал твое письмо с директивами отойти от неврастении и лихорадок борьбы. Это самое мне предложено и товарищами… Конечно, милая Шурочка, я не должен быть ребенком и думать, что все сразу станет хорошо. Много есть хороших слов, и их приятно слушать, но ничего так празднично не делается, но у меня есть громадное моральное удовлетворение, я увидел настоящих большевиков, и меня не так сжимает обруч, и только теперь я чувствую, сколько сил ушло у меня и как я слепну».
Да, он не умел ничего делать вполовину…
Мне нужно было устраиваться на работу. Но после того, как Николая забросали камнями, стало ясно, что оставлять его одного нельзя. Мы написали в Шепетовку Ольге Осиповне и попросили ее приехать.
Она приехала, и стало легче. Я спокойно уходила на работу — было кому и сделать все необходимое, и вовремя заставить Николая поесть. Втроем мы зажили дружно.
А через месяц-полтора получили квартиру в центре города — улица Войкова, 39.
Без людей Островский совершенно не мог. И вот через секретаря горкома партии Вольмера он и здесь получил задание как пропагандист. Снова в доме появились комсомольцы. Они привязались к Николаю настолько, что приходили советоваться с ним и по своим личным и семейным делам.
К этому времени относится знакомство Островского с Львом Николаевичем Берсеневым, описанным впоследствии в романе «Как закалялась сталь». Они сразу стали друзьями, с первой встречи перешли на «ты». Казалось, они давно знакомы, расстались только вчера, о чем-то не договорили, о чем-то не доспорили…
Лев Николаевич был старше Николая на девять лет. Еще одна яркая судьба: в партии с 1917 года, член Царицынского Совдепа, член Реввоентрибунала при штабе конного корпуса, заведующий следственной частью. С 1921 года — председатель Реввоентрибунала Дальневосточной республики. В Сочи был переведен по состоянию здоровья и работал нотариусом.
Им было о чем рассказать друг другу. Оба в прошлом активные комсомольцы, сейчас они беседовали часами, вместе читали газеты. Берсенев держал Островского в курсе партийных новостей, знакомил с жизнью города, его перспективами.
Лев Николаевич был страстным радиолюбителем. Он провел в комнату Николая радио, и теперь они засиживались за полночь, слушая передачи. Увлекался Берсенев и фотографией, никогда не расставался с фотоаппаратом, часто фотографировал Николая и всех нас.
Берсенев, как и Островский, был инвалидом первой группы, они шутили — «нулевой категории». Берсенев перенес тяжелую операцию (удаление трех четвертей легкого), но не сдавался. Жил, по его же собственным словам, «на полную мощность». Веселый, жизнерадостный, энергичный, подвижный, он везде поспевал и своей жизнерадостностью заражал окружающих.
Как-то я описала Николаю внешность Левушки: стройный, выше среднего роста, красивый, голубоглазый блондин — Николай в шутку заметил: «Смотри не влюбись».
А сам был влюблен в него.
В марте 1936 года Николай Островский подарил Берсеневу роман «Как закалялась сталь» со следующей дарственной надписью:
«Братишке и другу, милому Левушке Берсеневу на память об окончательном разгроме «нулевой категории». Открывая книгу, ощути мое крепкое объятие»
[21].
И вот я открываю книгу:
«— Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди! Я в одиночку не проживу. Сейчас больше чем когда-нибудь нужны…
— Вот кого мы тебе пришлем — Берсенева Льва. Лучшего товарища не надо. Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтером был когда-то, отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Да Лев тебе и радио сварганит, он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до двух часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась: где, мол, ты, старый черт, по ночам шататься стал?
Корчагин, улыбаясь, спросил его:
— Кто такой Берсенев?
Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал:
— Берсенев у нас нотариус, но он такой нотариус, как я балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с двенадцатого года, в партии с Октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе, ревтрибуналил во Второй конной; по Кавказу утюжил белую вошь. Побывал в Царицыне и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока — сюда. Тут, на Кавказе, был председателем губсуда, зам-предкрайсуда. Легкие расхлестались вконец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, ну и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем КК, он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, по трудно поверить, что он больной. Брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд.
Павел перебил его резким вопросом:
— Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше.
Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза.
— Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь, и Лев при случае скажет: «Что вы его вьючите?» А сам говорит: «Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении». Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим.
— Это верно. Я тоже голосую за год жизни против пяти лет прозябания, но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил…
«Вот говорит же, а поставь его на ноги — забудет все на свете», — подумал Вольмер, но смолчал.
Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад.
Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам Таи знал, что Лев блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его представлял себе Павел с первых минут знакомства.
В сумерки зажглись в комнате три «микро». Лев торжественно подал Павлу наушники…»
Летом 1929 года наша квартира превратилась в настоящий штаб отпускников. Съехались старые друзья Николая: Жигирева, Новиков, Хоруженко, Карась. (С Моисеем Ефимовичем Карасем Николай познакомился еще в 1924 году в Харькове, у Петра Новикова. Работал Карась на Второй табачной фабрике — заведовал отделом экономики.)
Была вместе с ними и Роза Ляхович — она приехала в Сочи для лечения почек. Сняла комнату недалеко от нашей квартиры и все свободное время проводила с Николаем. Писала письма под его диктовку. Иногда целыми днями читала ему только что вышедший тогда «Тихий Дон» Шолохова.
Николай сдружился с Розой и до конца ее дней переписывался с нею.
В одном из писем к Петру Новикову Р. Ляхович так рассказывает о своем первом впечатлении от встречи с Николаем Островским:
«Петрусь! Я бесконечно тебе благодарна, родной мой, что ты дал мне возможность встретить такую хорошую, чистую и кристальную душу. Я целыми часами просиживаю у его постели. Мы бесконечно говорим. У нас какой-то неиссякаемый источник слов и мыслей. У меня такое впечатление, что знаю его очень, очень давно, что духовно связана с ним всю свою жизнь.
Он всматривается в меня широко открытыми, но ничего не видящими глазами. Судорожно сжимает мои руки и говорит: «Розочка, а ведь это величайшая ошибка, что я тебя раньше не знал».
Вчера мы долго, долго с ним говорили, и он буквально надорвал мою душу, в результате чего я провела бессонную ночь, обливаясь слезами.
Нет, Петрусь, чувствую, что от этой встречи останется неизгладимый след в моей душе, останется на всю жизнь шрам, который, пожалуй, никогда не заживет.
У него прекрасный друг — Рая. Самоотверженная девушка, отдавшая и в настоящий момент отдающая все свои силы и лучшие годы. Да и нельзя иначе. Ты сам прекрасно знаешь Николая. Чувствую, что я сама способна была бы отдать всю свою жизнь такому человеку»
[22].
…Итак, в то лето у нас собрался настоящий штаб друзей. Николай им очень радовался. Но был огорчен тем, что вместо отдыха друзья занялись добыванием ему путевки в санаторий. Его ежедневные протесты, споры и увещевания, что путевка необязательна, кончились тем, что в один прекрасный день кто-то влетел в комнату и, размахивая сиреневой бумажкой, крикнул:
— Есть путевка! Вот она, и туда, куда надо — в Мацесту. Отправляйся, Колька!..
Вечером, когда мы остались одни, Николай сказал мне:
— Знаешь, Раек, мне очень хочется поехать в санаторий в открытой легковой машине. Я сознаю, что ехать сидя мне будет очень тяжело. Но как-нибудь устроимся. Шофера попросим ехать медленно. Может, смогу увидеть_ горы, море… Говорят, дорога в Мацесту очень красива.
Желание Островского было выполнено: горком партии предоставил ему открытую машину. С большим трудом устроили Николая полулежа. Я примостилась рядом, все время следила, чтобы он не сползал с сиденья и мог видеть окружающее. Ехал он в темных очках, без головного убора, и ветер развевал его прекрасные, волнистые волосы. Видел он уже совсем плохо, все было в тумане. Но все же кое-что видел… Это была его последняя поездка, когда он еще мог хоть что-то увидеть.
На Старой Мацесте, в санатории № 5, Николай познакомился с москвичом Сергеем Васильевичем Малышевым, членом партии с 1903 года, директором Нижегородской ярмарки.
Это был уже немолодой, но очень энергичный человек с огромной «боярской» бородой. Он всегда куда-то спешил. Часто его можно было видеть в пижамных брюках, без рубахи, с перекинутым через плечо полотенцем, в широкополой шляпе — чуть ли не бегущим на пляж. Казалось, он никого не видит и никого не знает. Но это только казалось. На самом деле Малышев был прекрасно осведомлен об отдыхающих. Меня удивило, когда он сам подошел к Островскому и заговорил с ним как со старым знакомым. Он уже знал, что у Николая болят глаза, что он катастрофически теряет зрение. И вот Сергей Васильевич предложил Николаю приехать в Москву и обещал показать его лучшему окулисту, профессору Авербаху.
— Когда кончится ваш срок лечения, — сказал Малышев, — дайте мне в Москву телеграмму, вас встретят. Договорились?
У Николая вновь вспыхнула надежда. Надежда на то, что, возможно, он снова будет видеть…
Нам хотелось решить еще один, очень важный вопрос, который Николай поднимал неоднократно, а я все время уходила от ответа. Вопрос о регистрации нашего брака.
В те годы регистрация брака не считалась обязательной. Но нам предстояла поездка в Москву. И Николай, и моя мама, и друзья, в это время гостившие у нас, — все настаивали на том, чтобы у нас была одна фамилия.
— Пойми, — говорила мне мама, — легче будет добиваться решения любого вопроса, касающегося Коли, когда у тебя будет документ, что ты жена. Прислушайся к совету старших!
Я отказывалась. Меня смущало обстоятельство, которое мне казалось препятствием: как это осуществить? Ведь Николай не может пойти в загс. Значит, надо просить работников загса прийти на дом? Нет. Мне этого не хотелось.
И тут в санаторий «Красная Москва» приехала Александра Алексеевна Жигирева, наш добрый шеф.
Вот Коля и обратился к ней с просьбой:
— Шурочка, устрой нам с Раей регистрацию в загсе.
Опа удивилась: зачем вам это? Он ответил:
— Это надо больше Рае. Надо же узаконить наши отношения.
Шурочка пошла в загс. Начала вести переговоры о регистрации. Ей ответили: «Пусть приходят и регистрируются».
Она сказала, что одна половина может прийти, другая не может. Товарищи удивились:
— Двенадцать лет Советской власти, а никогда у нас такого случая не было.
Шура заявила, что в Ленинграде таких случаев много.
На другой день она пошла и привела работников загса. Регистрация была произведена.
После серных мацестинских ванн Николай почувствовал некоторое облегчение: прекратились острые боли, частично спала опухоль в воспаленных суставах, а главное — хоть и в очень незначительной степени, но вернулась способность двигаться.
Николай торопил нас со сборами. Он едва дождался отъезда в Москву.
Это была моя первая дальняя дорога с Николаем. Все меня тревожило. Как устроить его в поезде? Как кормить в дороге? Как встретит Москва? Где будем жить?
Ольга Осиповна на дорогу поджарила своему Колюське три куропатки.
Ехали в общем вагоне. Соседи по купе шарахались, как от «заразного». Это было к лучшему, так как я свободно могла заниматься Николаем.
4 октября 1929 года мы приехали в Москву.
10
Во власти врачей
Москва…
Сколько тысяч человек вступает ежедневно на перроны девяти ее вокзалов! Здесь можно встретить людей и с далекого Севера, и с Дальнего Востока, и из знойной Армении, и с родной мне Украины. Со всех концов необъятного Советского Союза стекается сюда молодежь, в Москву. И эти тысячи растекаются по улицам, переулкам, включаются в мощную жизнь и вносят свою долю в строительство первого социалистического государства. Они множат собою славные ряды стахановцев, студентов. Из этого молодого, энергичного племени выдвигаются герои, орденоносцы, знатные люди нашей интернациональной Родины!
В октябре 1929 года Курский вокзал принял еще одного человека. Из вагона его вынесли. Неподвижно лежа на носилках, Николай Островский старался почувствовать ритм жизни столицы.
Он слышал звон трамваев, автомобильные сирены, шорох скользящих по асфальту лимузинов, а издали — шум гигантского промышленного центра. Заводские и паровозные гудки, рокот пролетающего самолета, гомон толпы. Все это казалось Николаю стройным гимном…
…В маленькой кладовой Нижегородского ярмарочного комитета (возглавлял комитет С. В. Малышев), в доме № 3 по Петровке, на «кровати», составленной из стульев, Николай ждал специалиста по глазным болезням профессора Михаила Иосифовича Авербаха. От его заключения зависело лечение Островского.
Авербах осмотрел Островского 6 октября. Сказал:
— Заболевание трудное и сложное. Глаза воспалены.
Решено было положить Николая в терапевтическую клинику 1-го МГУ для общего лечения, там М. И. Авербах мог бы наблюдать его: надо было решить вопрос об операции глаз.
Через день после посещения Авербаха в карете «скорой помощи» Николая отвезли в клинику и поместили в палате № 1.
Проходили дни. Островский с напряжением ждал Авербаха. Он поверил ему, когда при первом осмотре Михаил Иосифович обещал вернуть зрение. Наконец 17 октября Малышев привез Авербаха. Долго и очень внимательно смотрел академик больного, но, поскольку воспалительный процесс приостановить не удалось, решил воздержаться пока от операции глаз.
Островский попросил ничего не скрывать от него и сказать прямо — будет он видеть или нет.
Авербах не дал ему договорить:
— Вернуть зрение можно, нам это удастся. Правый глаз будет видеть хуже, левый настолько, что можно будет читать и работать. Но главное сейчас — остановить воспалительный процесс в глазах, да и во всем организме.
Выписав лекарство, которое должно было снять воспаление, Авербах уехал.
Потянулись дни.
Товарищи по палате хорошо встретили Островского. Палата была огромная, на 12 или 14 коек. Николай лежал третьим от входной двери с левой стороны, у окна. Кроме него и его соседа по койке, все больные были ходячие, и каждый стремился чем-то помочь Островскому. Я бы сказала, что это был очень веселый народ! Сейчас мне кажется, что в палате лежали только молодые. Когда бы я ни пришла к Николаю, меня встречали тепло, с шутками и улыбками. Часто разыгрывали Николая. Он не обижался, но отпор давал и тем самым завоевал всеобщие симпатии.
Напротив Островского лежал молодой человек с густыми черными бровями; видно было, что он не одобряет шуток в адрес Николая и его молодой жены. За Николаем этот человек наблюдал с большим вниманием, угадывал его желания, приходил на помощь. Часто я заставала его около Николая за чтением или беседой. С моим появлением он деликатно уходил «к себе», укладывался и, как дежурный на своем посту, внимательно следил за происходящим.
Я спросила Николая:
— Кто этот парень, который буквально не спускает с тебя глаз?
— Миша Финкельштейн. Замечательный, любознательный, начитанный студент. Мне с ним интересно: иногда спорим, иногда мирно беседуем. Ты не думай, что он такой тихий и молчаливый, каким ты его видишь, он боевой парень, уж если возьмется за какое-нибудь дело — доведет до конца. И в спорах не уступает, если чувствует, что прав. Мне такие люди нравятся. Скучно разговаривать со слюнтяями, которые только и знают, что жалуются на всех и на все.
Михаил Зиновьевич Финкельштейн оставался другом Николая Островского до конца его дней.
Возвратившись в Сочи, Островский часто писал Михаилу, засыпал его разного рода поручениями.
«Я своих друзей не забываю, тебя в особенности. Недавно пережитая борьба за жизнь и твое в ней горячее участие и все предыдущее никогда не изгладят из моей памяти образ того, кто стал моим большим другом… Хочу, чтобы ты почувствовал пожатие моих рук…»
«Не дрейфь, Мишенька, наша берет, и никаких гвоздей. Пиши, чертяка, чаще, на ходу, в трамвае, в милиции, куда бы тебя ни занесла нелегкая, везде пиши…»
«У нас весна, солнышко греет, соловьи и прочая пичуга — в общем, весь аппарат лирических антимоний насвистывает и прочее. Одним словом, жизнь расцветает, и никакая гайка. Не дрейфь, Мишенька, пока я жив, ты обеспечен… всякого рода нагрузками, поручениями, спасением погибающих, перевозкой больных и всякого рода хождениями по мукам. Удовольствие не из приятных, но такая уж у тебя судьба…»
В 1934 году, когда в связи с работой над романом «Рожденные бурей» Островскому необходимо было съездить в Москву — для сбора материала, он писал Михаилу:
«Если бы ты знал, до чего мучительно хочу я в Москву, это стремление овладело мной целиком. Я прямо сплю и вижу Москву.
Братишка Миша, ты человек бывалый, испытанный боец и великий спец в прошибании тупиков. Скажи, положа руку на сердце, выйдет ли что реальное из всех этих действий, или мне надо забыть дорогу в центр Союза и загнать мечту кулаками в долгий ящик и начинать работу в этих условиях начинающейся осени и бесконечных дождей, ибо жить-то надо и, значит, надо работать, ибо жизнь — это труд, а не копчение неба».
И тут же шутливые слова: «Братишка Миша, дай подержать свою лапу, будь нежен к своей жене, ибо жена — это не означает исчадие ада, а существо, данное нам природой для нежного и осторожного обращения.
Миша, в душе у меня немножко грусть, потому что я хочу в Москву… Мендель Маранц сказал бы: «Дурак, почему у тебя пет дяди управдома?»
Не дрейфь, Мишенька, жизнь — это такая штуковина, где ночь сменяется пламенным ураганом, и мы еще заживем с тобой, споем на пару: «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем…» Будьте бодрее, братишки, живите дружно, ибо дядя Коля — за единство рабочего класса.
Преданный вам Колька, бузотер, но все же артельный парень, «свой в доску», не литературно, но факт».
И в 1935 году:
«Я жив. Болезнь побоку, работаю, как добросовестный бык. От утра до позднего вечера, пока не иссякнет последняя капля силы, — тогда засыпаю спокойно, с сознанием, что день прожит как следует…
Я с головой ушел в работу. Все для нее. Да здравствует труд в стране социализма!
Братишки, знайте, что я вас никогда не забываю. Но если бог еще не слеп, то он видит, что я не лентяй.
Я спешу жить, помните это, и, как хорошая боевая лошадь, спешу доскакать к финалу скорей, чем из меня выйдет дух.
Я счастливый парень — дожить до такого времени, когда некогда дыхнуть, когда каждая минута дорога. Знать, что все прошлое вернулось, — борьба, труд, участие в стройке, радость победы, горечь поражений. Разве это не счастье?
Приложите руку к моему сердцу, оно гвоздит 120 ударов в минуту — до чего у нас стало хорошо жить на свете!
Не хворай, Мишенька. Идет лето, а с ним солнце московское, золоче цветов и возрождающейся земли. Горячий первомайский привет. Жму ваши руки, чертенята».
После того как Николай был положен в клинику, встал вопрос, где же мне жить. Первое время я ночевала в конторе Ярмарочного комитета, но долго оставаться я там не могла. С помощью Краснопресненского райкома комсомола устроилась работницей на консервную фабрику и сняла угол в Кускове, в пригороде Москвы.
Теперь у меня были две заботы: Николай и фабрика. Далекое загородное пристанище заставляло меня вертеться подобно белке в колесе.
Вечерами я поздно засиживалась в клинике, опаздывала на последний поезд и, идя домой по шпалам, отдавала темной ночи свои слезы и тяжелые думы… Иногда я ночевала на вокзале.
В клинике Николай попал на попечение няни, которая его невзлюбила. Это была пожилая женщина с неприятным елейным лицом — впоследствии мы узнали, что она бывшая монашенка. Сам Николай есть не мог, и его надо было кормить: няня нетерпеливым жестом совала ему ложку супа, иногда сознательно проливая содержимое, — суп стекал по щекам, по шее, тек за спину.
— Послушайте, няня, если вы будете продолжать кормить меня как собаку, я откажусь есть, — сказал однажды Николай.
— Подумаешь, плакать буду, не хочешь, не ешь, — раздраженно ответила она.
— В чем дело, няня? Я замечаю, что вы почему-то меня невзлюбили. Я попрошу врача, чтобы вас освободили от меня.
— Что ты, милый, кушай, не серчай. Не надо на неприятности с врачом лезть, — с притворной улыбкой отвечала старуха, а вскоре делала какую-нибудь гадость.
Николай все же рассказал об этом врачу. Врач вменил няньке в обязанность быть повежливее и кормить больного аккуратно. Переход в другую палату осуществить было трудно, — как сказал врач, по техническим причинам.
Нянька затаила злобу. И когда по распоряжению врача мыла Николаю голову, отомстила.
Вечером я была в клинике. Первое, что мне бросилось в глаза, — это отсутствие волос на голове у Николая. «Побрили», — мелькнула мысль. А когда подошла ближе — увидела, что волосы у него покрыты белым налетом, слиплись комками.
— Что у тебя с волосами?
— Ничего, Раюша, мыл голову, да что-то неудачно.
Целый час добивалась я, чтобы врач разрешил мне самой помыть Николаю голову.
Однажды я сообщила Николаю, что мастер предложил нашей бригаде объявить себя ударниками и зарплату делить на коммунистических началах, то есть поровну.
Николай заинтересовался, подробно расспросил меня и сказал:
— Знаешь, это очень серьезный вопрос, я тебе сейчас твердо ничего ответить не могу. Конечно, ударниками должны быть все. Так и передай своим девчатам. А вот в части зарплаты, мне кажется, что здесь что-то не совсем верно. Рановато еще.
Значительно позже я поняла, как был прав Николай в отношении «коммунистического заработка».
Жадно расспрашивал он меня о планировке, о жизни Москвы. Где какое учреждение расположено, где какое строительство? Как обслуживает москвичей Трамвай-трест? По-прежнему ли давка в трамваях? Как реагируют рабочие на временные недостатки?.. Ничего не ускользало от его внимания, круг вопросов, волновавших Николая, был огромен.
Шел третий месяц пребывания Николая в терапевтической клинике 1-го МГУ. Было все более ясно, что лечение не дало положительных результатов. Остановить процесс прогрессирующего анкилозирующего полиартрита не удалось. Воспалительный процесс шел во всем организме, по-прежнему периодически воспалялись глаза, неся нестерпимые боли. В терапевтической клинике больше делать было нечего. Мне предложили забрать Николая домой.
Домой… Дом-то в Сочи! А на улице зима… Везти его в это время и по городу-то рискованно, не то что по железной дороге. Я попросила врачей оставить Николая в клинике до весны. Мне отказали.
Положение стало почти безвыходным. Я стала хлопотать о переводе Николая в кремлевскую больницу в надежде, что там знают новые способы лечения. В этом мне решил помочь директор клиники профессор Кончаловский.
Однако перевод в кремлевскую больницу сорвался. Опять все зашло в тупик. Тогда врачи клиники предложили сделать Островскому операцию — удалить паращитовидную железу. Это было что-то вроде последнего шанса: иногда после такой операции воспалительный процесс в организме прекращается.
И вот 13 марта Островскому сказали, что его переводят в хирургическую клинику на операцию. Для него это решение оказалось неожиданным. Он просил, чтобы его оставили в покое хотя бы на несколько дней, а там ему дадут комнату, и он совсем уедет из клиники. Но санитары, у которых было указание врачей, не могли входить в дискуссию. Они просто переложили Николая с кровати на носилки и повезли к хирургам. Я чувствовала ужас и бессилие…
Хотели оперировать сразу же, но профессор Николай Нилович Бурденко отложил операцию, пока не сделают всех анализов.
22 марта санитары унесли Островского в операционную.
Он прошептал, когда я наклонилась к нему:
— Попрощаемся, Раюша, может, уже не удастся больше увидеться… хотя меня не так просто угробить…
Я ждала в коридоре у двери операционной. Операция длилась два часа. С трудом сдерживала себя, чтобы не ворваться в операционную…
Наконец, бледного, без кровинки в лице, недвижного, покрытого простыней, пронесли мимо меня Николая в палату.
Я машинально последовала за ним. Села на табурет у кровати, заглянула в мертвенно бледное лицо.
Глаза, глубоко запавшие, закрыты, окаймлены темной синевой. Нос заострился. Шея и часть головы забинтованы. Дыхание едва заметно. Руки вытянуты поверх одеяла, чуть вздрагивают и кажутся совсем белыми.
Я взяла его руку. Она холодна. Но вот он слабым пожатием ответил мне и не отпустил моей руки. Дал знать, чтобы я не уходила. Прошло какое-то время, дежурный врач сделал знак, чтобы я ушла. А Николай не отпускает. Увидели все это больные соседи по палате и отвоевали мне право подежурить около него ночь.
Шесть часов спустя Николай пришел в себя.
Еле двигая губами, он сказал:
— Вот видишь, Раек, — я говорил, что меня угробить нельзя. Я еще буду жить, дай руку… Мне так легче.
Островский поправлялся медленно. Ввиду тяжелого состояния он был переведен в отдельную палату. Мне было разрешено дежурить у него ночами.
Прошло еще некоторое время. Каждый день врачи осматривали ноги Николая, все ждали улучшения. Но улучшения не наступило.
— Точка, — сказал Николай. — С меня хватит. Я отдал для науки часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого.
Больничная обстановка стала невыносимой: бесконечные разговоры о болезнях…
— Мучительно тяжело здесь жить, Раюша, нужно выбираться.
— Но куда?
Везти его в Сочи, обессиленного, ослабевшего, я не могла.
В отчаянии я пошла в ЦК партии. Хотела поговорить с Ярославским, но к нему не попала. Направили меня к заведующему лечебной частью. Я не могла без слез рассказывать о Николае и о нашем безвыходном положении. Он тут же написал на бланке ЦК партии начальнику Районного управления недвижимого имущества (РУНИ) Хамовнического района Москвы отношение о предоставлении вне очереди комнаты больному Островскому.
Между тем в клинике мне напоминали:
— Ваш муж — безнадежный больной. Клиника ему не нужна. Освободите место для того, кому она еще может принести пользу.
— Но нам сейчас некуда ехать. Дня через три-четыре мы получим комнату и тогда немедленно уедем отсюда. Подождите, пожалуйста!
— Нет! Иначе мы выставим кровать в коридор.
Рассказала я Николаю об этом разговоре. Он меня стал успокаивать:
— Вот что, Раюша, ты прежде всего не волнуйся. Дня три ко мне не приходи. Пусть попробуют меня выселить…
— Как же мне не приходить, а вдруг тебя выставят в коридор?
— Ладно, приходи, как всегда. Только дай мне мой браунинг, пусть будет под рукой. Не волнуйся, Раек, вот увидишь, все будет хорошо. Все уладится!
Какое там «уладится»! Я места себе не находила. Опять побежала в РУНИ. Каждый день туда заходила теперь перед тем, как идти в клинику. И вот, несколько дней спустя, меня встретили радостным сообщением:
— Получайте ордер на полкомнаты!
Полкомнаты!
Побежала по указанному адресу: Мертвый переулок, 12…
То, что я увидела, привело меня в отчаяние. Грязная, в клопиных следах комната до половины была перегорожена какой-то занавеской, дальше перегородкой служила кровать, на которой лежала умирающая старушка — мать соседки.
Как везти сюда Николая? Нужна перегородка, нужен ремонт! Опять — в РУНИ, просить помощи. На мое счастье, была там одна женщина, районная активистка (жаль, фамилии ее теперь я не помню), выслушав меня, она сказала:
— Дочка! Иди занимай эти полкомнаты! Я тебе пришлю доски и мастеров, они поставят стенку. Доски пришлю бесплатно: здесь ломают старые дома. Рабочим заплатишь сама.
11
«Сил нет, но берусь за карандаш»
Весна 1930 года. Бесшумно скользит по улицам карета «скорой помощи». Только что прошел дождь. Блестящий асфальт стремительно летит под колеса машины. Мы едем на нашу московскую квартиру.
На поворотах от тревожно-пронзительного сигнала Николай вздрагивает. Его невидящий взгляд устремлен к белому потолку машины, временами лицо делается напряженным: он молча подавляет набегающую боль.
О чем он думает? Не о том ли, что позднее сложилось в монолог Корчагина:
«…Я еще буду жить и бузотерить хотя бы назло арифметическим расчетам ученых эскулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим…»
Машина резко останавливается. Скрипнули зажатые тормоза. Автомобиль покачнулся и замер.
Собралась толпа.
Есть люди, которые любят всякого рода происшествия. Вид кареты «скорой помощи» ассоциируется у них с интересным зрелищем, забавным развлечением, и, не щадя времени, опаздывая на службу, они задерживаются и бессмысленно глазеют. Более нахальные лезут с вопросами.
Я-то привыкла к толпе, не обращаю на нее никакого внимания, но Николая она, как всегда, раздражает. Он нахмурился и торопит санитаров. Его поднимают на второй этаж. Переходим широкую переднюю — и мы дома.
Ломаные и путаные переулки, прилегающие к Арбату, своей беспорядочностью способны запутать приезжего человека. В одном из таких переулков, ныне носящем имя Николая Островского, в бывшем барском особняке со стенами полуметровой толщины мы и поселились.
Перегородка построена наспех: неоштукатуренная дранка делает перегородку похожей на огромную шахматную доску. Квартира набита жильцами, как улей пчелами; только поздно ночью прекращается шум на общей кухне, к счастью расположенной далеко от нашей комнаты.
В комнате — старая железная кровать, старый ломберный столик, стул. Еще одна «кровать», сооруженная из ящиков и досок, — для меня. И еще два «стула», из чурок. Все необходимое! Мы одни.
На всю жизнь запомнился первый вечер, проведенный нами на этой нашей первой московской квартире.
Далеко за полночь затянулась тогда беседа.
Жизнь обернулась по-новому. Многое нужно было обсудить, многое сказать друг другу.
Первые недели были особенно трудны и беспорядочны. Наш бюджет не позволял мне оставаться дома для ухода за Николаем. Получаемую им пенсию мы в Москву переводить не стали — оставили Ольге Осиповне в Сочи. О том, чтобы попросить помощи у государства для устройства, Островский не хотел и слышать:
— Было бы позором и для тебя, и для меня сейчас, в трудный период строительства, просить еще какой-то помощи, когда, в сущности, мы оба в силах работать!
До работы мне полтора часа езды. Ежедневно нужно было утром умыть Николая, перестелить постель, покормить его завтраком. Вставала я в пять утра, в шесть уже уходила.
Николай оставался один. Дверь я запирала, чтобы его никто не беспокоил. Тонкая палочка с марлей на конце, заменявшая Николаю малоподвижные руки, была единственной вещью, к которой он прикасался в мое отсутствие. Такой режим едва ли оказался бы под силу даже здоровому человеку. Каждый раз, возвращаясь, я видела его измученное лицо и не могла сдержать слез…
— Не волнуйся, Раюша, — утешал он меня, — мне не скучно, я весело провожу время в мечтаниях, а вот кушать давай скорее.
— Всех своих мечтаний я не выразил бы в десяти томах, — сказал он как-то. — Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью… Мечта для меня — одна из самых чудесных зарядок…
Быстро закончив хозяйственные дела, я бралась за газеты. От событий тех дней, от производственных побед страны вновь и вновь мы возвращались к делам фабрики, где я работала.
Я была кандидатом и готовилась стать членом партии. Николай помогал мне, радовался моим успехам. «Раенька работает и растет, как партиец, быстро и правильно, — напишет он Жигиревой 16 июля 1930 года. — Славная пацанка, живем мы с ней в доску, по-хорошему. Хоть в этом мне в жизни повезло».
— Если жена будет отставать от мужа, — говорил он мне в своей шутливой манере, — брак будет неравный, а неравный брак разрушает счастье.
Кажется, он снова верил в счастье. А для него вера означала уже почти уверенность.
Как-то я читала ему вслух какой-то роман. Лежа на высоко взбитых подушках, Николай внимательно, не прерывая, слушал. И вдруг остановил меня:
— Что, что сказал этот герой?
— «Люблю прозябать, все-таки какая-то надежда есть», — еще раз прочла я реплику одного из персонажей.
Николай тронул меня рукой за локоть:
— Помнишь, Рая, я тебе говорил, что не люблю слова «надежда». Видишь, здесь тоже подмечено, что надежда и прозябание фактически синонимы. Что было бы, если бы мы в 17-м году на что-то и на кого-то надеялись!
Вот письмо Розе Ляхович, написанное Островским в конце апреля 1930 года и хорошо раскрывающее его тогдашнее состояние:
«Дорогой тов. Розочка! Хотя сил нет, но берусь за карандаш. У меня вообще хватает горя, и еще одно горе —
вас не будет
[23]. Я вас так ожидал. Ведь не надо же горы писем писать, чтобы доказать факт крепкой дружбы, нас всех соединяющей. Точка. Экономлю силы. Итак, я, получив еще один удар по голове, инстинктивно выставляю руку, ожидаю очередного, так как я, как только покинул Сочи, стал учебной мишенью для боксеров разного вида; говорю — мишенью потому, что только получаю, а ответить не могу. Не хочу писать о прошлом, об операции и всей сумме физических лихорадок. Это уже прошлое. Я стал суровее, старше и, как ни странно, еще мужественнее, видно, потому, что подхожу ближе к конечному пункту борьбы.
Профессора-невропатологи установили категорически — у меня высшая форма психостении. Это верно. 8 жутких месяцев дали это. Ясно одно, Розочка, нужна немедленная передвижка, покой и родное окружение. Что значит
родное? Это значит — мать, Рая, Роза, Петя, Муся
[24], Берсенев, Шура, Митя Островский и Митя Хоруженко. В общем, те люди, в неподдельной дружбе которых я убежден. Точка. Тяжелый, жуткий этап пройден. Из него я выбрался, сохранив самое дорогое — это светлую голову, неразрушенное динамо, это же каленное сталью большевистское сердечко, не исчерпав до 99 % физические силы.
Вот это письмо я пишу целый день. Я должен уехать в Сочи немедленно еще потому, что здесь я нахожусь по 16 часов один. И в том состоянии, в каком я нахожусь, [это] приведет к катастрофе. Раек тратит все свои силы в этом завороженном круге — она спит четыре часа максимум в сутки. Точка…
Горячо приветствую установку на Москву (ведь я здесь буду жить, конечно, если доживу). Работу здесь всегда получишь…»
Далее, Островский поддерживает Розу в ее желании стать членом партии:
«В отношении КП (б) У — об этом я еще буду говорить с тобой. А как совет тебе вообще на это стремление — отвечаю глубоко утвердительно. Истина для меня, что раз не большевик, значит — весь человек не боец передовых цепей наступающего пролетариата, а тыловой работник. Это не отношу только к фронтовикам 1917–1920 гг. Ясно? Нет 100 %-[ного] строителя новой жизни без партбилета железной большевистской партии Ленина, без этого жизнь тускла. Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? Пусть поздно, пусть после боев, но бои еще будут. В чем же радость жизни вне ВКП(б)? Ни семья, ни любовь — ничто не дает сознания наполненной жизни. Семья — это несколько человек, любовь — это один человек, а партия — 1600 000. Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор. Двигай, Роза, и хоть, может, будут бить, иногда и больно ударять будут, держи штурвал в ВКП(б). Заполнится твоя жизнь, будет цель, будет для чего жить. Но это трудно, запомни, для этого надо много работать. Точка.
Смотри насчет здоровья. Если сорвешь здоровье, сорвешь все, всю жизнь — смотри на меня: у меня есть все, о чем мечтаешь ты, но нет сил — и нет ничего. Дальше. Мы обязательно встретимся. Отпуск проведешь у нас, в своей второй семье. Если рискуешь стать нетрудоспособной, бросай все немедленно и ремонтируй не заменимое ничем богатство бойца — здоровье.
Привет с 1 Мая. Привет всем.
Николай Островский».
Как-то в апреле вечером, когда я вернулась с работы, он встретил меня словами:
— Кончай скорее со всеми домашними делами! Перепиши несколько страниц, написанных мною.
Я решила, что речь идет об очередном письме к кому-то из друзей. Стала отговариваться: мол, некогда мне. А ведь действительно дел масса. Я отсутствовала 12 часов. Прибежишь с работы — не знаешь, за что хвататься.
— Нет, это не письмо, — возразил Николай.
И поставил мне условия:
— Не расспрашивай, о чем будешь писать, и не удивляйся. Единственная к тебе просьба — пиши как можно быстрее.
Я села переписывать. Конечно, я не расспрашивала… Просто переписала — и все. На следующий день прочла. Я еще не поняла, что это будет. Я поняла одно: теперь в этих записях — весь смысл его жизни.
Прослушав записанное, он многое тут же переделал, и я внесла в текст поправки.
С этого дня ежедневно по вечерам, когда я возвращалась с работы, я переписывала то, что он писал в мое отсутствие.
Он писал на обратной стороне какой-то машинописи:' эти листы я принесла с фабрики. Другой бумаги у нас не было.
К счастью, эти первые страницы я сохранила и после смерти Островского передала в Центральный Государственный архив литературы и искусства.
Что поразительно: Островский начал с заглавия. Образ, ставший символом его судьбы, его поколения, сразу же, прежде всего другого, явился на бумагу. С этих слов заглавия он и начал запись:
«Как закалялась сталь»…
Много позже, в беседе с корреспондентом английской газеты «Ньюс Кроникл» на вопрос: «Почему вы выбрали такое название?», — Островскпй ответил:
— Сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении. Тогда она становится крепкой и ничего не боится. Так закалялось и наше поколение в борьбе и страшных испытаниях и училось не падать перед жизнью.
…Теперь перед уходом на работу я готовила Николаю карандаши: оттачивала их и ставила в тяжелом подстаканнике на стул, пододвинутый к его кровати. На кровати с правой стороны оставляла бумагу. Он тогда еще мог сам ее взять.
Хотя Островский еще немного видел в то время — мог рассмотреть лицо товарища, если тот наклонится низко, разобрать рисунок на блузке, мог прочесть через лупу письмо, если поднести написанное близко к глазам, однако писать так, чтобы видеть написанное, он уже не мог. Лежал навзничь, неподвижно. Поэтому писал наугад.
Но каждый вечер я находила несколько исписанных листков и каждое утро оставляла несколько чистых. Теперь для Николая это было главным.
Наступало лето. В комнате душно. В раскрытое окно врывается грохот проезжающих мимо грузовиков и ломовых извозчиков. На лето следовало уехать из города: Николаю необходимо было отдохнуть после клиники. Надумали пробираться к югу, в Сочи, где жила Ольга Осиповна.
Но как ехать? Одному — невозможно. Вдвоем — не на что. Кроме того, я была связана работой. Бросить ее — означало опять сесть на его пенсию, да и отрывать меня от заводского коллектива Николай не хотел. Он решился ехать без меня. И тут на помощь пришел Миша Финкельштейн.
— Знаешь, Коля, — сказал он, — моя жена едет отдыхать в Сочи, она с удовольствием поедет с тобой.
Николай обрадовался.
— Действительно, братишка, — говорил он, — дорога хоть тяжела, но буду все же не один. Спасибо большое!
В Сочи он пробыл пять месяцев, лечился в Мацесте. Мы все надеялись, что мацестинские ванны помогут. Сочинский климат, материнская забота Ольги Осиповны — все это подняло настроение Николая. Немножко отодвинулись дни, проведенные в клинике. Снова его окружали родные, друзья.
«…Обычно пустая моя квартира в настоящее время оживляется, — пишет Островский П. Новикову из Сочи. — Сейчас у меня в гостях следующие: Катя с дочкой, мама Раи с внучком, маленькая женщина, подруга московского] товарища] Миши. 1-го июня прибывает новая делегация в лице Мити с ребятками и женой. 1-го июня двигает вторая делегация в лице «Райкома»
[25] и того же [числа] со ст[анции] Крымской прибывает последняя делегация в лице Лели, сестры Раиной. Итого — четырнадцать живых и развесело-хохочущих людей…»
В этот приезд в Сочи запись книги не велась. Но безусловно по ночам, когда утихало все в доме, он продолжал думать о своем детище.
И тут новый удар.
Николай узнал, что в то время, когда он лежал в клинике, в Сочи работала комиссия по проверке партийных рядов. Николай был уверен, что прошел чистку без осложнений, и был совершенно спокоен. Однако произошло нечто неожиданное: Островский механически выбыл из партии!
Трудно передать его потрясение, когда он узнал решение комиссии. Двое суток он не сомкнул глаз. Нервный шок был настолько сильным, что общее состояние сразу резко ухудшилось. Воспалились глаза. Он писал А. А. Жигиревой в эти дни:
«…Местные лентяи из Окпроверкома отказались по лености меня проверить, чем поставили меня вне партии. (После партсъезда непроверенный механически выбывает из партии.) Правда, все это юридические вещи… Отобрав партбилет, меня не оторвут от партии…»
Начались хлопоты по восстановлению. Долгие хлопоты. Только два года спустя пришло долгожданное справедливое решение: «В партии восстановить и считать проверенным».
Но этот документ Островский получил лишь летом 1932 года. Тогда же, в Сочи, он был в очень тяжелом состоянии.
Встреча с друзьями: с Феденевым, с Пузыревским — немного отвлекла его от переживаний тех дней.
Жигиревой Николай писал:
«Часто льется моя песенка здесь, и слыву за веселого парня. Ведь в сердечке бьется 26 лет, и никогда не затухает динамо молодости и огня. Ведь если жить, то не скрипеть…
Иногда вырывается из волевой осады боль и мятеж за скованное, но полное жизни тело.
Каким бы бешеным волчком закружился бы…»
В октябре кончился срок лечения. Сдав сочинскую квартиру райисполкому, Островский в сопровождении своей сестры Екатерины Алексеевны вернулся в Москву. Вскоре приехала и Ольга Осиповна.
Теперь он думал только об одном: скорее приступить к работе над рукописью.
Но сколько было еще впереди препятствий. И серьезных. И смешных.
Расскажу об одной истории, выбившей Николая из колеи осенью 1930 года.
Квартира в Мертвом переулке, где мы имели полкомнаты, разделялась на две части соединенными между собой коридорами. С парадной лестницы можно было попасть в большую переднюю, которая сообщалась с нашей полукомнатой дверью. В передней стоял наш шкаф с посудой. Здесь, в передней, мы готовили иногда обед (кухня была далеко, в другом конце квартиры). Готовя еду, прислушивались к Николаю, чтобы подойти к нему в любую минуту, если он позовет.
И вот однажды… В тот злополучный вечер, помню, небо было обложено серыми тучами, косой поток тяжелого дождя хлестал в окна. В такие дни в комнате было особенно сыро и неуютно.
…В парадную дверь постучали. Николай первым услышал осторожный стук. Он сказал:
— Пойди, мама, открой, вероятно, звонок испорчен.
Ольга Осиповна открыла дверь, и в переднюю вошел человек с большим чемоданом в руке. Одет он был в серое поношенное пальто. Он весело отодвинул плечом недоумевающую старушку, водрузил чемодан на стоявший в передней табурет и вытащил сложенную большую ситцевую занавеску.
Все это происходило в совершеннейшей тишине. Николай за закрытой дверью прислушивался и удивлялся, не слыша речи: до нас доносились только шаги в передней, а затем вдруг стук вбиваемого гвоздя.
Что же происходило в передней? Достав прихваченные с собой молоток и гвозди, незнакомец быстро,
с сосредоточенной деловитостью вбил в стену на высоте человеческого роста гвоздь, накинул на него готовую петлю занавеса и прикрепил другой конец к противоположной стене. Большая часть передней оказалась отгорожена занавеской. Отбив себе площадь метров в двенадцать, незнакомец облегченно вздохнул и тоном, не допускающим возражений, произнес:
— Здесь я буду жить. Передайте соседям, что с этого дня им придется пользоваться черным ходом, а на эту жилплощадь у меня имеется ордер.
Ошеломленная Ольга Осиповна стояла, ничего не понимая. Затем она вернулась к нам и рассказала о происшедшем.
Николай возмутился. Надо сказать, что с вторжением жильца для нас создавались большие неудобства: мы оказывались отрезанными от непосредственного выхода на улицу. Вынести же Николая из комнаты было теперь и вовсе невозможно.
Между тем новый жилец со вкусом располагался. В ту же ночь к дому подъехал ломовой извозчик, нагруженный разной домашней утварью. Наш сосед шумно устанавливал мебель и был, очевидно, в самом прекрасном расположении духа, потому что без умолку насвистывал и время от времени напевал импровизируя:
А комнатка, трам-там-там,
получится что надо,
а вот этот стульчик, трам-там-там,
мы поставим вот сюда.
И весело хохотал, очевидно очень довольный своей импровизацией.
Затем последовала какая-то ария.
Николай, несмотря на свое раздражение против вторгшегося жильца, не выдержал и рассмеялся:
— Ну, черт, пой, пой, я за тебя возьмусь!
Совместно с жившим в той же квартире парторгом одного из московских заводов Островский, занялся выселением незаконного жильца. И вот через несколько дней парторг с сияющим лицом вошел к нам и протянул Николаю бумажку от районного прокурора о выселении нашего «врага».
Было уже довольно поздно. Я показала глазами на дверь, ведущую в переднюю:
— Сходите предъявите ему сейчас.
— Да, да, — поддержал Николай, — сходи, интересно, какая у пего сделается рожа.
Парторг пошел, но через минуту возвратился и объявил, что нашего «противника» нет дома.
В этот вечер, а затем и ночью он, очевидно, так и не приходил домой. В течение всего следующего дня его тоже не было. Явился он только поздно вечером и постучался к нам. Вошел, приветливо улыбаясь, поздоровался, назвал нас всех по именам. Откуда он их узнал и для чего? В обращении его не было и тени фатовства и слащавости — наоборот, он держался просто и свободно. Подал мне бумажку. Я прочла и ахнула: это было решение инстанции, более высокой, чем райпрокурор, — отменяющее решение последнего о выселении нашего нового соседа.
— Позвольте, — пробормотала я, — как же так? Вы же не видели нашей бумажки! И вообще, как вы узнали, что у нас есть решение прокурора о выселении?
Сосед в притворном изумлении всплеснул руками.
— Что вы говорите? Ай-ай-ай! Это, очевидно, просто роковое совпадение. Я в целях самообороны предупредил ваше нападение.
Николай нахмурился:
— Бросьте дурить, как вы все-таки узнали?
— Что узнал?
— Ну, решение.
— Ах, решение. Да, да, понимаете, сам поражаюсь. Доброго здоровья! Позвольте бумажечку…
Проходили дни, недели, месяцы. Николай нервничал. Дело о выселении шло по инстанциям. Непостижимым образом наш «противник» узнавал обо всех наших действиях и своевременно принимал контрмеры. Он ловко лавировал, используя какие-то неизвестные нам связи. Прошла зима, затем лето. Осенью у жены нашего нового соседа родилась дочь. И вот это обстоятельство переменило наше к нему отношение. И кроме того, исключительная настойчивость и «живучесть» этого человека вдруг начали нравиться Островскому.
— Ну молодец, — говорил он, — прямо молодчина! Какая энергия!
Наш «враг», оказавшийся, кстати, театральным работником, был вовсе не плохим человеком, наоборот, он отличался веселостью и простотой, нисколько не сердился на наши нападки, а легко и весело отражал их, как теннисный мяч. И в тот момент, когда наше дело было уже почти выиграно, Островский вдруг прекратил его.
— Не надо, — сказал он, — он хороший парнюга. И потом — у него ребенок. Да и привыкли мы уже…
Впоследствии бывшие «враги» — Николай и новый сосед — стали поддерживать самые добрососедские отношения.
Пусть не покажется этот эпизод читателю малосущественным или несерьезным. Конечно, это были «мелочи быта». Но, во-первых, и в этих мелочах видны те трудности, которые достались людям нашего времени. Во-вторых, очень характерно изменение отношения Островского к этой истории — от первоначального возмущения к трогательной заботе о ребенке нашего нового соседа. И наконец, пусть знают нынешние читатели романа «Как закалялась сталь», в каких конкретных условиях писалась эта книга.
12
Двадцать часов в сутки…
«Когда я принялся писать мою книгу, я думал написать ее в форме воспоминаний, записей целого ряда фактов. Но встреча с товарищем Костровым, в бытность его редактором «Молодой гвардии», который предложил написать в форме повести или романа историю рабочих подростков и юношей, их детство, труд и затем участие в борьбе своего класса, изменила это намерение…»
И еще:
«О чем писать? Товарищи мне сказали: «Пиши о том, что сам видел, переживал. Пиши о тех, кого знаешь, о среде, из которой сам вышел. О тех, кто под знаменами партии боролся за власть Советов». С этого я начал…»
Он сказал себе:
«Писать можно не видя и не двигаясь…»
Текста уже не видел — писал, как получалось. А получалось так, что строка находила на строку, буква на букву, слово на слово. Разбирать написанное было трудно. Поэтому мы переписывали текст медленно.
Такие темпы не удовлетворяли Островского.
Однажды он предложил мне взять картонную папку и прорезать в ней полосы в размер строки.
— Ты понимаешь, что получится? Если положить в эту папку бумагу, то через прорези я буду писать прямые строчки.
Так родилась мысль о транспаранте.
Сперва это не очень получалось. Но техника пользования транспарантом совершенствовалась с каждым днем. Сначала в транспарант вкладывали по листику, потом стали вкладывать сразу пачку бумаги.
Транспарант лежал на коленях.
Колени не разгибались. Ужасная болезнь, которая привела к окостенению суставов, зафиксировала ноги в согнутом состоянии. Как это пи страшно, по именно это положение ног дало возможность Островскому писать самому.
Работал по ночам, когда во всем доме наступала тишина. Очередную исписанную страницу нумеровал и сбрасывал на пол. Утром пол нашей небольшой комнаты был засыпан исписанными листами.
Так он работал некоторое время. Потом рука стала болеть и отказала.
Теперь мне часто приходилось записывать под его диктовку — по вечерам, когда я возвращалась с работы.
Я пододвигала столик к изголовью кровати, чтобы Николай не надрывал голоса во время диктовки, садилась и ждала. Диктовал он медленно, неуверенно, отдельными фразами, с большими перерывами между ними. Продиктует три-четыре фразы, просит прочесть.
— Зачеркни… Перепиши… Это плохо…
И так по многу раз.
Время за полночь, пора кончать. Мой рабочий день начинается рано.
Только пошло дело — и надо прерывать работу…
Конечно, нервы у пего были напряжены до предела. Когда я переписывала написанное им самим и не могла разобрать чего-нибудь, он сердился.
Часто на память воспроизводил целые эпизоды. Иногда прерывал меня и тут же диктовал другой эпизод, который казался ему лучшим.
Позже Островский вспоминал:
«Когда я диктую, прежде чем рассказать о том или ином действующем лице, я мысленно в своем воображении представляю этого человека; этому мне помогает хорошая память. Я цепко запоминаю людей и через десяток лет могу вспомнить их. И вот, рисуя в своем воображении все действие, которое я диктую, я все время не теряю картины, созданной воображением. Когда картина обрывается, то обрывается и запись».
Писала я и переписывала готовый текст в самодельные блокноты.
Самодельные блокноты! Теперь это странно слышать. А в тридцатые годы страна еще не могла удовлетворить спрос на бумагу. Трудно было достать даже тетрадь! Поэтому приходилось просить друзей, живущих в разных городах, чтобы выслали бумаги.
С этой просьбой я обратилась к директору Пищевого комбината имени Микояна, куда входила и консервная фабрика, где я работала. Комбинат объединял три предприятия: консервную и кофейную фабрики и маргариновый завод. На кофейной фабрике расфасовывали чай, и оставались обрезки бумаги размером 14×25 сантиметров. Я получила разрешение на эту бумагу. Директор так и не узнал, какую помощь он оказал начинающему писателю Николаю Островскому.
Из этих-то обрезков мы и делали блокноты. Горевали об одном: откуда взять обложки? Удалось достать немного красной глянцевой бумаги. Ее хватило на две обложки. Сколько было радости! Николай тут же предложил из газетного текста вырезать буквы, из них составить фамилию автора, название произведения и наклеить на красную обложку.
Так впервые печатными буквами мы «набрали» слова: «Островский. Как закалялась сталь»
[26].
На первой странице каждого блокнота писали название романа и номер главы. Мы не предполагали, что в будущем эти блокноты, исписанные различными почерками, будут бережно храниться. Их изучают сегодня исследователи творчества Островского: критики, диссертанты и просто читатели.
Весь 1931 год шла напряженная работа над первой частью романа «Как закалялась сталь». Примерно к маю вчерне было написано пять глав. Посылая друзьям главы для перепечатки, Островский просил прочесть и сказать правду о его труде.
7 мая 1931 года он писал Розе Ляхович:
«Я первые отрывки пришлю тебе для рецензии дружеской, а ты, если сможешь, перепечатай на машинке и верни мне…»
26 мая — Новикову:
«…Что, если бы мне понадобилось перепечатать с рукописи листов десять на пишущей машинке?»
В июне — Жигиревой:
«Я бы хотел, чтобы ты прочла хотя бы отрывки из написанного… Я хотел бы знать твой отзыв…»
И ей же:
«…Имеешь ли ты свободное время и желание, чтобы познакомиться с некоторыми отрывками моей работы, если да, то я тебе их сгруппирую и пришлю. Может, у тебя среди партийцев есть кто-нибудь вроде редакторов или что-нибудь в этом роде, — так дала бы им почитать, что они на этот счет выскажут».
И опять Новикову и Ляхович в июле:
«Почему вы о качестве ни слова? Жду вашего слова. Жду… Критикуйте, говорите о качестве. Почему ни слова?»
В августе — Ляхович:
«Ты ни словом не обмолвилась о своем мнении насчет работы. Из этого — логический вывод: настолько плохо, что и говорить не хочешь. Нет большевистской смелости это сказать. Эх ты, «самокритик»! Я же просил — говори, где плохо, что плохо, ругай, издевайся, язви, подвергай жесточайшей критике все дубовые обороты, все, что натянуто, неживо, скучно, крой до корня. А ты что?»
Через И. П. Феденева глава из романа послана одному его знакомому редактору. «Там и будет дана оценка качеству продукции», — пишет Островский Розе Ляхович 14 июня. Это был эпизод «Конец Фимки Черепа», который Островский написал весной этого года и который предназначался им для еще не написанной второй части романа.
Посылает готовые главы в Новороссийск своему другу Мите Хоруженко.
Хочет знать мнение украинского писателя Михаила Панькова. О нем он с сожалением пишет Жигиревой:
«О Панькове тоже ни звука! Этот парень мне очень нужен был бы сейчас. Когда-то он обещал мне оказывать всемерное содействие как редактор в отношении начатой работы…»
Островский пытается связаться с приятельницей Жигиревой Ольгой Войцеховской, с которой его когда-то познакомила Александра Алексеевна (в те годы Войцеховская работала переводчицей в Академии наук УССР). «…Она меня интересует со стороны редакционного порядка…» — пишет он Жигиревой.
Да, Островский был весь поглощен книгой! А жизнь вокруг шла по своим законам, каждый из его родных и знакомых имел свои обязанности, каждого отвлекали свои дела. Николай нервничал, требовал большего участия и помощи в записи текста.
«Я начал людей оценивать лишь по тому, можно ли их использовать для технической помощи», — признается он в письме к Новикову 26 мая 1931 года.
Надо сказать, что наша домашняя обстановка в ту пору мало способствовала работе. В комнате, длинной, похожей на коридор, собрались три родственные семьи: мы с Николаем, наши матери, сестра Николая о маленькой дочерью, мой брат с женой и маленький сын моей сестры. Девять человек, в числе которых двое детей дошкольного возраста, и два безнадежно больных молодых человека: сам Николай и мой двадцатичетырехлетний брат Володя, тоже прикованный к постели — тяжелым заболеванием сердца. Жизнь свела вместе двух матерей: Николая и мою. Обе в большом горе, у обеих неизлечимо больные сыновья. Естественно, нервы напряжены… А тут еще дети шумят. Мне часто приходилось сглаживать разногласия. Жалко мне было всех. Николай тяжело переживал семейные неурядицы. При его нетерпимости ко всему, что казалось ему чуждым, он иногда срывался.
7 мая 1931 года пишет Розе Ляхович:
«Сейчас у меня такая нехорошая обстановка, как никогда. Мне и Рае очень тяжело дышать… Ты понимаешь, что печем дышать не только из-за тесноты, но и морально чуждой психологии тех, кто сейчас у нас».
28 мая — снова Розе Ляхович:
«Работаю, девочка, в отвратительных условиях. Покоя почти нет. Пишу даже ночью, когда все спят — не мешают».
Да, нервы были страшно напряжены. Мысль Островского работала безостановочно, и невозможность быстро записать «наработанное» доводила его до исступления. Надо только представить все это, чтобы понять его, по-настоящему, по-человечески понять. Ведь никто из окружавших нас людей, конечно же, не был человеком «морально чуждой психологии».
Разве можно было укорить в этом мою мать, которая болела за своего сына или дочь? Или сестру Николая — за то, что она вернулась к мужу, чтобы сохранить семью.
А ведь именно это вызвало протест Николая: «В семье произошел раскол, — писал он друзьям в Харьков 25 января 1931 года. — Ушла Катя к своему обормоту, нечего говорить, что все это возмутило нас и заорало много покоя…»
Недобрые слова срывались у Николая и в адрес моего брата Володи. Но об этом я узнала после смерти Николая. А ведь Володя в ту пору больше всех нас писал под диктовку Николая и переписывал написанное. Он ведь не вставал с постели, и ему не надо было ходить на службу… Впрочем, писали все. Все, кто мог.
Недавно я посчитала страницы восьми блокнотов, где записаны и переписаны первые четыре главы романа. Там около 500 страниц. Моей рукой исписано около 100. Столько же — рукой Володиной жены. Остальное записал Володя Мацюк — более 300 страниц.
Вскоре народу в нашей комнатушке стало меньше. Володю поместили в больницу. Уехала моя мама с внуком, отбыла и Екатерина Алексеевна с дочкой, а за ней и Ольга Осиповна.
Мы остались втроем: Николай, я и Володина жена Елена.
Когда Володю выписали из больницы, они с Еленой сняли в этой же квартире, у наших соседей Алексеевых, темный угол за загородкой у кухни. Володя и теперь в свободное время помогал записывать текст, а по вечерам, до глубокой ночи — писала я.
Вернулась Ольга Осиповна и все заботы по дому взяла на себя. Работа над книгой пошла быстрее.
Кроме того, по совету Коли Ольга Осиповна обратилась к соседке по квартире восемнадцатилетней девушке Гале Алексеевой с просьбой помочь Николаю. Галя согласилась. Она вместе с нами писала под диктовку шестую, седьмую, восьмую и девятую главы первой части романа.
Готовые главы уже можно было перепечатывать на машинке. Но средств нет. Что делать?
Снова помогли друзья. Отдельными главами мы посылали рукопись в Харьков — Петру Новикову, Розе Ляхович, в Новороссийск — моей сестре, машинистке по профессии. Сколько было волнений! Мы боялись, как бы не повторилось то, что случилось с повестью о котовцах, которая в 1927 году затерялась в пути.
Двадцать месяцев писал Николай Островский первую книгу романа «Как закалялась сталь». Почти два года напряженного труда при тяжелейшем недуге! За это время он болел крупозным воспалением легких. Едва спадала температура, он снова весь уходил в работу. Мы советовали ему сделать перерыв, набраться сил, но он и слушать не хотел. Шутил:
— Я упрямый, как буйвол.
Работал он самозабвенно. Бывало, чтобы лучше прочувствовать тот или иной диалог, проговаривал реплики за каждого из персонажей, меняя голос, интонацию.
Я не ошибусь, если скажу, что из 24 часов иногда он работал 18–20: создавал и складывал эпизоды, делил главы, выписывал характеры, сочинял диалоги, и все это на память.
Каждый вечер я узнавала от него, какой новый эпизод прибавился, какой новый персонаж появился, как закончилась (или началась) глава.
В эти дни, когда вся энергия Островского сосредоточилась на книге, неожиданно произошло несчастье, надолго выбившее его из рабочего состояния.
У соседа нашего был сын, маленький Николка, лет четырех-пяти. Помню, однажды вечером он распахнул дверь к нам в комнату и, выйдя на середину ее, спросила.
— Можно войти?
— Можно, можно, заходи скорее!
— А я уже зашел.
Николай засмеялся и быстро сказал:
— Так чего же ты спрашиваешь, если уже зашел? Разрешения войти спрашивают за дверью.
Николка быстро повернулся и стремительно вышел из комнаты.
Николай расстроился:
— Вот тебе раз, что же это он, Рая, убежал? Какой обидчивый гражданин!
Но в эту же секунду за дверью раздался голос Николки:
— Можно войти?
— Пожалуйста, пожалуйста! Вот молодец, — похвалил Николай, — исправил свою ошибку.
Через минуту Николка уже сидел у кровати, и оба Николая вели следующий разговор:
— Что же ты раньше не приходил ко мне в гости? Я один, мне скучно.
— Да все некогда, — озабоченно вздохнул гость.
— A-а, ну тогда конечно… А по-моему, Николка, ты давно хотел со мной познакомиться. Кто это несколько раз у меня под дверью скребся и пыхтел?
— А это мыши, — не задумываясь, ответил Николка и, в свою очередь, спросил: — А ты почему не приходил ко мне?
— Да все некогда, — ответил Николай в тон своему гостю и тоже вздохнул.
Глаза Николки вдруг сощурились, лицо засветилось хитростью и лукавством;
— А это кто у нас под дверью скребся и… и все скребся?
Тут Николай не выдержал и расхохотался:
— Ну, уж этого я не знаю! Наверное, крокодил хотел с тобой познакомиться.
— Крокодилы в доме не ходят, а плавают. А мне папа говорил, что ты не ходишь, а только лежишь и никого не видишь.
— Это правда. А зачем же ты спрашиваешь, почему я к тебе не пришел познакомиться?
— А я нарочно. А почему ты стал слепой и стал не ходить, а лежать?
— Почему? Ну слушай, я расскажу тебе…
И Николай рассказал мальчику, как воевал, как бил буржуев и был ранен.
Николка слушал внимательно и потихоньку охал.
С этого дня между ними завязалась крепкая дружба.
Николай рассказывал своему маленькому другу интересные истории, а Николка делился всем, что происходило во дворе, на улице. Иногда он приносил в кулачке слипшиеся конфеты и угощал дядю Колю.
— Это я тебе купил! Мне мама дала пять копеек, а я тебе купил.
Николай так привязался к Николке, что в дни, когда тот почему-либо не приходил, волновался и вечером посылал меня узнать, здоров ли его приятель.
Однажды он встретил меня словами:
— Николка сегодня не был, сходи узнай, не заболел ли он.
Поскольку такие случаи уже бывали, я не торопилась. Но Николай добавил:
— Я слышал, что у соседей была какая-то тревога. Сходи сейчас же.
Я пошла. Николай оказался прав: Николка слег с высокой температурой. Я сказала об этом Николаю.
Утром, когда я уходила на работу, он просил:
— Раюша, узнай, как там Николка.
Мальчику стало хуже. Врачи поставили диагноз: аппендицит. Предполагалась операция. Николай просил сообщать ему о ходе болезни ребенка. Он переживал не меньше его родителей.
Придя домой с работы, я нашла Николая возбужденным и встревоженным. Оказалось, что операция будет сегодня поздно вечером.
Наступила ночь.
Николай не спал и жадно вслушивался в каждый шорох, доносившийся из соседней комнаты.
Примерно во втором часу ночи послышались торопливые шаги.
И вдруг в тишину ворвался полный ужаса и отчаяния крик, а затем плач. Это вернулась из больницы мать Николки.
— Рая, зажги свет! — крикнул Николай.
Я повернула выключатель.
Невидящие глаза Николая были широко раскрыты и устремлены куда-то в пространство, словно он удивился, что после того, как щелкнул выключатель, темнота продолжала стоять перед ним.
— Умер, — одними губами сказал он, — умер…
Николку похоронили. Островский долго не мог вернуться к работе.
Но он вернулся. И довел ее до конца.
13
Победа
К 25 октября 1931 года все девять глав первой части романа были написаны. Еще недели две-три Николай прослушивал рукопись: вносил поправки, проверял монтаж. Закончил он эту работу к 16 ноября.
У нас было три «свободных» беловых экземпляра. Один контрольный. И черновик.
Беловой экземпляр послали в Ленинград Жигиревой — для передачи в одно из ленинградских издательств. Другой вручили Феденеву — для издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Третий отправили Новикову в Харьков — для издательства ЦК ЛКСМУ «Молодой большевик» (ныне «Молодь»).
Стали ждать ответа.
Время потянулось.
Как-то вечером, в один из выходных дней, Островский по обыкновению слушал радио, о чем-то сосредоточенно думая. Ольга Осиповна сидела и тихонько шила. Я читала.
— Если я получу безоговорочный отвод, это будет моей гибелью, — неожиданно сказал Николай.
Мы вздрогнули.
— Ты опять о книге, Коля? Ты только о ней и думаешь. Дай срок, получишь ответ! Не все же делают дела так быстро, как ты. У них же не только твоя книга, — заговорила Ольга Осиповна, стараясь успокоить сына.
— Ты, мамуся, не успокаивай меня, не думай, что я так легко сдамся. Ворошилов и Буденный под Новоград-Волынским по семнадцать раз в день ходили в атаку…
— Что ты хочешь этим сказать, Коля? — вмешалась я.
— Я хочу сказать, что если мне укажут на ошибки, то буду переделывать книгу до тех пор, пока не добьюсь, чтобы на ней было поставлено слово «да». Но а если все же мне это не удастся, тогда буду решать другой вопрос… — И едва слышно закончил: — Чтобы вернуться в строй, я, кажется, сделал все… Да, все, — повторил он задумчиво.
Я не уточняла, какой вопрос он «тогда» собирался решать. Я слишком хорошо помнила Новороссийск.
В дверь постучали.
— Открой, мамочка, — сказал Николай.
— А, Иннокентий Павлович, заходите, заходите, — радостно заговорила в дверях Ольга Осиповна, встречая Феденева. — Давно вас не было, Коля заждался…
— С какими новостями, Иннокентий Павлович? С хорошими или плохими? — задал вопрос Островский.
Иннокентий Павлович замялся:
— Да… как тебе сказать. Хорошего пока ничего нет. Рецензент считает, что ты пока со своей задачей не справился…
В комнате наступила тишина.
— Можешь больше ничего не говорить. Я понял все. Книгу не приняли.
Чтобы разрядить наступившую тишину, мы стали говорить, что на время Николаю надо бы оставить работу, отдохнуть, отвлечься, подлечиться. Но он не хотел нас и слушать.
— Завтра же возьмусь за работу, снова пересмотрю, перечитаю всю книгу, где найду нужным, исправлю…
Позже И. П. Феденев вспоминал, что, когда в издательстве ему показали отзыв на роман Островского, он колебался. Что делать? Сказать сейчас же все Николаю или потребовать передачи рукописи другому рецензенту и подождать еще одного отзыва?
— Однако мне вспомнились слова Коли: «Самая горькая правда мне дороже сладкой лжи». Он не любил, когда от него что-нибудь скрывали. И я решил ему рассказать все, как было. Мне не пришлось успокаивать его, наоборот, к великому моему изумлению, он сам стал успокаивать меня: «Теперь столько расплодилось писателей, и все хотят, чтобы их печатали. Если рукопись забракована, значит, она действительно плоха. Нужно поработать еще, чтобы сделать ее хорошей. Победа дается нелегко.
Такова была первоначальная судьба «московского» экземпляра.
Но был еще «ленинградский».
В начале декабря А. А. Жигирева откликнулась: она прочла рукопись и хорошо отозвалась о ней. Это очень обрадовало Николая, и он тотчас написал Жигиревой: «Ты неплохо отзываешься о написанном, радостно это… Я безусловно верю, что ты сделаешь все, что в силах, дабы редакция просмотрела и вынесла свое суждение… Я ведь хочу одного, чтобы книга не плавала по три года в редакционных дебрях. В литературу входят ударные массы, и редакции захлебнулись от тысяч рукописей, из которых свет увидят единицы.
Я ожидаю твоего письма большого… В своем письме напиши и о Корчагине. Как, сумел ли я хоть отчасти правдиво написать о юном рабочем комсомольце?.. И, не стесняясь, рассказывай, как меня кроют за книгу…»
Он писал ей это 9 декабря. Но Александра Алексеевна замолчала: видно, ей нечем было обрадовать автора. Вот что мы узнали от нее несколько лет спустя, уже после смерти Островского:
— Коля просил меня прочитать его рукопись и написать свое мнение, а потом передать на отзыв кому-нибудь из редакторов. Я читала рукопись и плакала… Коле я написала: «Я не литератор, но роман твой до души доходит», обещала прислать отзывы. Я отнесла рукопись в редакцию «Гудок». Там ее продержали месяц, хвалили, но не печатали. Я забрала у них рукопись и пошла в ленинградское отделение издательства «Молодая гвардия».
В конце января 1932 года пришло от Жигиревой обнадеживающее письмо. 7 февраля Островский сообщал Т. Б. Новиковой: «Ленинградский облполитпросвет рекомендовал ее (рукопись. —
Р. О.) Ленгизу
[27] издать, и книга проходит последние заграждения в Ленгизе. Со дня на день ожидаю приговора».
Был еще третий, «украинский» экземпляр рукописи. Но П. Н. Новиков молчал.
Наше напряженное ожидание немного разрядил Дмитрий Алексеевич Островский, который в декабре 1931 года приехал на несколько дней из Шепетовки навестить брата. И вот мы узнаем, что шепетовские комсомольцы на активе читали пять глав романа — по черновику, который еще в июне был послан Николаем Дмитрию Алексеевичу. О работе отозвались хорошо, «приветствуя работу над историей революционного движения в городе».
Комсомольцы Шепетовки связали Николая Островского с местной газетой «Шлях Жовтня» («Путь Октября»), органом шепетовского окружкома КП (б) У, предложили организовать литстраничку.
Николай писал А. А. Жигиревой:
«Сколько противоречий, сколько горечи, и тут же, родная, надежда на полезную творческую жизнь. Вновь оживает вокруг меня, забытого многими, сближение с молодежью, приветствуют мою работу, и мне дорого, и волнует, читать, что в городке, про который я писал, выносит молодежь резолюции одобрения…»
Окрыленный сообщением брата, Николай с еще большим рвением взялся за пересмотр рукописи. Наконец работа была закончена. По просьбе Островского И. П. Феденев отнес рукопись в издательство «Молодая гвардия» и журнал ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Мы решили попросить в книжном издательстве повторного рецензирования.
Из писем Н. Островского той поры:
7 февраля — Т. Б. Новиковой:
«Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Не прав тот, кто думает: большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось, безнадежном положении. Если меня разгромят… я еще раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путевку в жизнь». И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление… Ждите вести… хочу… о победе».
Прошло еще десять дней.
17 февраля — Розе Ляхович:
«До сих пор не имею окончательного решения насчет моей рукописи. Хождение по портфелям редакторов продолжается. Хотя бы дали срок. Знатоки говорят, что легче ослу стать лошадью, чем пройти впервые сей путь, и, несмотря на ряд хороших слухов, мое седьмое чувство предугадывает разгром».
Но он ошибся. Через несколько дней пришла радостная весть: книга принята!
Эту весть принес Островскому его духовный «отец» — так называл Николай Иннокентия Павловича Феденева. А 22 февраля Феденев пришел к нам с заместителем ответственного редактора журнала «Молодая гвардия» Марком Борисовичем Колосовым, который был также вторым рецензентом одноименного издательства.
Назавтра Николай написал Новиковым:
«Вчера у меня были Феденев и редактор журнала «Молодая гвардия» Колосов, — он как представитель издательства «Молодая гвардия». Когда книгу оформим, заключим с тобой договор. Введем тебя еще до издания членом Московской ассоциации пролетарских писателей и поможем пособиями в литучебе. «Твоя книга нами будет издана, она волнует, у нас нет однородного с ней материала. Я сам берусь за редакторскую правку. Через 8 дней я приду к тебе, и мы все углы сгладим. Ты, Островский, еще послужишь партии…» Если книга увидит свет, а к этому она движется, — ведь это будет наша общая победа. Не правда ли, Петя? Не правда ли, Марочка? Ведь в «Как закалялась сталь» вложены труды всех моих лучших друзей… С глубокого тыла я перехожу на передовые позиции… Учеба и учеба, а затем новая работа над второй частью. Большевик может работать, пока у пего стучит сердце. Да здравствует труд и борьба!»
Трудно передать радость Островского… Конечно, никто из нас тогда не представлял себе, какая судьба ожидает роман «Как закалялась сталь», мы не думали ни о миллионных тиражах, ни о поколениях, которым суждено было вырасти на этой книге. Тогда бы мы и не поверили в это.
Мы просто радовались за Колю, радовались тому, что он оживал на наших глазах.
Полетели радостные строки в Ленинград А. А. Жигиревой:
«Хочу поделиться с тобой хорошими вестями с лит-фронта. Вчера у меня были Феденев и редактор журнала «Молодая гвардия» товарищ Колосов. В Москве мою рукопись прорабатывали. Товарищ Колосов тоже ее прочел. И вот пришел и говорит:
«У нас нет такого материала, книга написана хорошо. У тебя есть все данные для творчества. Меня лично книга взволновала, мы ее издадим, я лично берусь выправить небольшие углы. Я свяжу тебя с писателями, мы тебя примем членом МАПП до издания книги». Обещал приехать через декаду за ответом. Итак, Шурочка, если в городе Ленина меня затрут, то есть резерв — прямое предложение издать книгу. Все это еще не документ, это не договор, а беседа, но это почти победа… А каковы у нас с тобой, Шурочка, дела в Ленгизе — успех или поражение? Ожидаю каждый день вестей от тебя… Моя работа оживляет утерянные связи. Я получаю письма от тех, кто меня давно забыл. Да здравствует труд и борьба! Пожелаем с тобой, чтобы Коля прорвался из железного круга и стал бы в ряды наступающего, несмотря на все страдания в прошлом и напряжение в настоящем, пролетариата…»
И тут нервная разрядка. Организм не выдерживает. Внезапно вспыхивает тяжелейшее воспаление легких. Жизнь Островского оказывается под угрозой. Две недели он лежит бледный, без кровинки в лице, с плотно сжатыми губами, прося только тишины и покоя. Мы с Ольгой Осиповной по очереди дежурим у его постели. Помогают нам И. П. Феденев и Миша Финкельштейн. Эти два человека делают все возможное и невозможное, приглашают врачей, достают дефицитные лекарства… Приходят на помощь и новые друзья из «Молодой гвардии».
4 марта кризис… Николай начинает медленно поправляться.
— Я слышал, — говорил он несколько дней спустя, — как вы сидели около меня, как шепотом переговаривались, но думал я не о болезни. Мне чертовски обидно было умереть, не закончив работы, в которую я вкладывал все свои силы. Жаль было Павку Корчагина…
Только 10 марта он находит силы, чтобы писать.
Новиковым:
«В разгар болезни 27 февраля приезжают Феденев и Колосов и говорят, что книга прошла в Доме писателей просмотр и получила теплый отзыв
[28]. Издательство «Молодая гвардия» заключает со мной договор. Колосов дал мне сейчас же 200 рублей на питание и уехал с Феденевым на редколлегию оформлять договор, чтобы меня не утомлять. За книгу я получаю 2000 рублей. Получил уже 750 р., а остальные 1-го августа. День издания книги — к юбилею комсомола. Выпускают ориентировочно в 10000 экземпляров. 5-го апреля со мной будет заключен «Молодой гвардией» договор на вторую часть книги «Как закалялась сталь» и выдан аванс 500 р. Дальше, на днях Колосов приезжал для беседы о некоторых добавлениях — и мы с ним проработали несколько дней над оформлением книги к печати. Меня уже приняли членом МАНН».
И в тот же день Жигиревой:
«В разгар болезни приезжают товарищи Феденев и Колосов и настояли на договоре на книгу. Я согласился и сейчас же от Колосова получил 200 рублей. Они так были нужны, ведь все — молоко, масло и др. — покупаем на кулацком рынке. Теперь о книге.
Заключен договор. Я получаю 2000 рублей. Сначала получаю 1000, а 1 августа (срок издания книги к юбилею комсомола) [остальные]. Дальше: «Молодая гвардия» 5 апреля заключает со мной договор на вторую часть книги «Как закалялась сталь». Мне доставляется издательством 80 книг — пособие по литучебе.
Меня уже приняли членом МАПП. И как только я поправлюсь, тов, Колосов приезжает ко мне, и мы совместно оформим книгу: где надо, добавим и сгладим углы. За эту работу тов. Колосов от издательства получает 750 рублей.
В «Молодой гвардии» меня окружили атмосферой содействия».
Письмо заканчивалось просьбой — «объясни все в Ленгизе». Вскоре по желанию Островского Жигирева забрала рукопись из Ленинградского отделения «Молодой гвардии». «Очень хорошо, — писал ей Островский, — что ты выцарапала рукопись у «Молодой гвардии», вообрази, что бы получилось, если бы Воробьев (редактор Ленинградского отделения издательства. —
Р. О.) принялся за печатание книги. В моем договоре точно установлено, что на это я не имею права. Должен отметить, что «Молодая гвардия» создает мне условия для дальнейшей творческой работы».
К этому времени пришло и известие с Украины, что книга будет издана на украинском языке.
«Жизнь для меня открылась во всю ширь… Я стал бойцом действующим…» — пишет Николай Жигиревой. II Новикову: «Дверь жизни широко раскрылась передо мной. Моя страстная мечта — стать активным участником в борьбе — осуществилась…»
Он полон желания работать, работать… И тут вспышка болезни опять выбивает его из строя на целую неделю. Едва оправившись, еще очень слабый, он 29 марта встречается с М. Б. Колосовым, чтобы снова поработать над текстом: роман намечен к опубликованию в ближайшем апрельском номере журнала «Молодая гвардия»; времени нет: надо спешить!
М. Колосов предложил изменить название романа на «Павел Корчагин». Опасался, что название «Как закалялась сталь» отпугнет массового читателя: подумают, что это книга техническая и не станут ее читать. К тому же была уже такая книга несколько лет назад: «Закалялась сталь».
Но Островский категорически отказался менять название романа:
— В книге я рассказываю не о Павле Корчагине, а о миллионах Корчагиных. О миллионах юношей и девушек, которые беззаветно шли в бой завоевывать свое счастье!
2 апреля к Николаю Островскому пришла писательница Анна Александровна Караваева, ответственный редактор журнала «Молодая гвардия». Николай интересовался, какое впечатление произвел на нее его роман. Вот как вспоминает об этой встрече А. Караваева:
«Он спросил:
— Мне вот что интересно: не кажется ли мой роман только автобиографией… так сказать, историек одной жизни? Бывает ведь немало единичных случаев, которые интересны сами по себе. Посмотрит на них человек, даже полюбоваться может, как на витрину, а как отошел, так и забыл. Вот такого результата каждому писателю, а мне, начинающему, особенно бояться надо…
Я сказала, что такой «случайности», «единичности» ему как раз бояться нечего.
Он мягко прервал меня:
— Только условимся, успокаивать меня по доброте сердечной не надо!.. Мне можно говорить прямо и резко обо всем… Я же военный человек, с мальчишек на коне сидел… И теперь усижу.
При этих словах я вдруг ясно почувствовала, как крепка и несгибаема его воля…
— Значит, полюбят моего Павку? — спросил он горячим полушепотом, и лицо его снова, как солнцем, осветилось безудержно счастливой улыбкой. — Значит, полюбят Павку?.. И других ребят тоже?.. Значит, ты, товарищ Островский, не даром живешь на свете — опять начал приносить пользу партии и комсомолу!..»
На второй день после этой встречи Островский писал Петру и Тамаре Новиковым:
«Друзья мои! За этот период здесь произошло много хороших моментов с моей книгой. Я сжато информирую. 15 апреля в № 4 журнала «Молодая гвардия», органе ЦК ВКП(б) и ЦК комсомола, будут напечатаны три печатных листа книги, и вся она будет в нем напечатана до издания тома.
Я получил заказ от издательства на второй том. Вам, друзья, я признаюсь: я ошеломлен и смущен всем происходящим… Позавчера у меня были гости. Приехала познакомиться Анна Караваева. Были Колосов, Феденев и тов. Андреев, редактор юношеской секции издательства «Молодая гвардия». А. Караваева — ответредактор журнала «Молодая гвардия». Я редко встречал такую умную и симпатичную партийку, как она… Моя комната оживилась, Ранее пустая, теперь часто заполняется интересными, талантливыми людьми, а каждое знакомство волнует и дает час-другой интересной беседы…»
И вот наконец 7 мая 1932 года мы получили апрельский номер журнала «Молодая гвардия», где начал публиковаться роман «Как закалялась сталь».
Это была победа!
14
Спасибо вам, добровольные секретари!
Между тем со здоровьем у Николая Островского было положение почти катастрофическое. «Кашляю зверски, иногда с кровью, ослаб и т. д.», — пишет он А. А. Жигиревой 20 июня 1932 года.
Дом, в котором мы жили, начали надстраивать. Мертвый переулок наполнился строительным шумом. Леса опоясали дом, частично перегородили окна. Целый день машины с грохотом разгружались под нашими окнами, поднимая клубы удушливой пыли.
В эти дни очень помогли Островскому молодогвардейцы. Они приняли практическое участие в улучшении жизненных условий Островского.
Прежде всего добились установки в квартире телефона. А потом через ЦК комсомола достали Островскому путевку в сочинский санаторий «Красная Москва».
Островский делится своей радостью с А. Жигиревой:
«18 мая ко мне приехали товарищ Феденев и Анна Караваева… Оказывается, мой роман в культпропе ЦК комсомола читали, и труд получил хороший отзыв. Ну и решили помочь мне развернуть творческую работу.
Поручили т[оварищу] Караваевой узнать, что надо мне для восстановления здоровья (оно у меня, Шурочка, отвратительное). Мы втроем договорились:
1. Немедля убрать меня из Москвы в Сочи, сначала в санаторий… а потом на квартиру. Жить в Сочи все лето, а к зиме в Москву, и так каждый год… ЦК даст в Сочи телеграмму, чтобы мне дали комнату и т. д. и т. п.
«Мы не можем тебя терять, — говорит Караваева, — ты еще поработаешь». Я очень взволновался этой встречей».
Сознание, что он нужен, что он может приносить пользу своему народу, своей партии, поднимало дух Николая Островского.
Конечно, в журнале роман сократили, и это его тревожило, но он понимал: когда делаешь в литературе первые шаги, тем более поправки и изменения в тексте неизбежны. В том же письме к Жигиревой он сообщает:
«Конец книги срезали: очень большая получилась — нет бумаги. Повырезали кое-где для сокращения, немного покалечили книгу, но что поделаешь — первый шаг».
Не был Островский доволен и технической стороной издания: «Я бессилен бороться с неряхами в редакции. Сколько ошибок, сколько опечаток?!.. Одно хорошо, что вся книга моя, и никто не влеплял своего».
Четыре года спустя в беседе с корреспондентом английской газеты «Ньюс Кроникл» Островский признался: «Если бы книга писалась сейчас, то она, может быть, была бы лучше, глаже, но в то же время потеряла бы свое значение и обаяние…»
Собираясь на юг, он хотел одного: продолжить работу. Он теперь жил только этим.
Мы готовились к отъезду Николая. Ольга Осиповна хлопочет над чемоданом, аккуратно и тщательно упаковывает немногочисленные пожитки. Среди провожающих — Феденев и Финкельштейн, друзья, чья забота в самые тяжелые моменты выручала Николая.
Провожает Островского и Галя Алексеева, его первый добровольный секретарь.
За окном — пронзительная сирена «скорой помощи». Санитары. Носилки. Убегающие километры асфальтовых улиц. Вокзал. Поезд. Паровозный гудок. Медленно проплывающие вагоны. Прощальные слова…
В этот раз я не могла сопровождать Николая. Сестра вызвала меня в Анапу к больной матери: врачи предсказывали печальный исход. С Николаем поехала Ольга Осиповна.
Ей разрешили жить при санатории и ухаживать за Николаем. Несколько дней он «отдыхал». Я не случайно беру это слово в кавычки. Конечно, и в санатории, оставаясь в одиночестве, особенно по ночам, когда затихала жизнь, он продумывал и отбирал материал для второй части романа «Как закалялась сталь». Там же он начал ее систематически записывать и был поглощен этим даже в дни «отдыха».
Он интенсивно занимался литучебой. И просто учился.
Из рассказов Ольги Осиповны и из воспоминаний санитарки санатория Н. А. Якуниной известно, что все приходившие к Островскому читали ему газеты, журналы, художественную и историческую литературу.
А он весь поглощен своей книгой. 5 июля пишет Гале Алексеевой из санатория «Красная Москва»:
«Лежу на балконе у моря, и свежий норд-ост дует в лицо. Кругом жизнь южного курорта. Знойное солнце. Веселый говор, счастливый смех женщин, а у меня крепко сжаты губы. Молчу. И от сурового парня уходят после 2—3-х слов. Думают, злой. Как и ты в первую встречу. Грусть заполнила всего. Море напомнило о прошлом, о разгроме всей моей личной жизни. И я не борюсь с грустью, она служит мне. Я пишу сейчас печальные страницы второго тома…»
Островский предполагал прожить в Сочи до осени, надеялся, что мацестинские ванны хоть немного облегчат физическую боль. А осенью — в Москву, «и так каждый год». Но московские квартирные условия (сырая комната, строительные работы в доме) удерживали его в Сочи. С другой стороны, врачи не советовали ему зимовать здесь. «Вчера огорчили врачи — вы и не думайте в Сочи оставаться с декабря по май. Дожди без конца и гниль, одним словом — амба», — писал Островский Караваевой 23 июля 1932 года. Николай все же выбирает Сочи.
Планы у него огромные. К этому времени И. П. Феденев от имени Островского подписал в Москве с издательством «Молодая гвардия» договор на второй том романа «Как закалялась сталь», заверив издательство, что «качество труда будет ступенью выше».
Из письма Островского А. Караваевой:
«Это для меня дело чести; и я делаю все, что могу, все, что дала мне партия за 13 лет, будет мобилизовано на труд. Тело изменило мне, не предало лишь сердце, горячее, и голова, не затуманенная, и в бессонные ночи (были такие) рождаются картины и образы. Жизнь не затухает, милый тов. Анна!»
Работа возвращает ему бодрость.
«…Со 2-го августа я здоров на 100 %. Уехав из санатория, я перестаю баловаться и — за работу. Нельзя медлить. Спешу жить, т. е. писать. Грусть отбросил прочь. Нельзя грустить. Люди из железобетона не могут это делать».
Руководители города предоставили Островскому комнату недалеко от санатория, вблизи моря, на Приморской, 18. В этой комнате, однако, едва помещался топчан, на котором лежал Островский: удобств не было никаких. Вдвоем жить в таких условиях (с Николаем оставалась Ольга Осиповна) было несладко. Но ничто не останавливало Николая. Пока стояли теплые дни, соседи, знакомые по санаторию выносили Островского на топчане под развесистый дуб, и там в одиночестве, что ему было крайне необходимо, он продолжал работу.
— Ты знаешь, — рассказывал он мне позднее (когда жил уже на Ореховой), — там, на Приморской, когда меня выносили во двор, под дуб, я старался лежать с закрытыми глазами, чтобы не привлекать любопытствующих соседушек и их гостей. Постепенно я отвлекался от окружающей обстановки и оставался наедине с комсомольцами, о которых писал. А ночью, когда мамуся перед сном оставляла мне транспарант с бумагой, карандаши, когда затихала жизнь во дворе, я уходил весь в работу. Ночь пролетала незаметно. Увлекаясь работой, я забывал о физической боли.
…Писать самому становилось все труднее и труднее. И вот на помощь, как и в Москве, пришли друзья. Вначале они переписывали рукопись, а позже писали под диктовку. Всех их Николай называл добровольными секретарями. Да, это были настоящие советские люди, которые шли к Островскому и отдавали ему свободное время и силы… Шли потому, что видели, какую радость они приносят этому больному самоотверженному человеку.
Мне хочется назвать имена этих людей.
Мария Михайловна Аликина, кассир электростанции.
Мария Петровна Барц, студентка.
Василий Романович Бондарев, сосед по квартире, работник Сочинского райисполкома.
Каллиста Павловна Брызжева — пенсионерка.
Ю. Ильина, кассир книжного магазина.
Таисия Лепехина, домохозяйка.
Л. Я. Салнэ, домохозяйка.
Миша Черемных, комсомолец…
И конечно, помогали Островскому и родные, и старые друзья: брат Дмитрий, племянница Зинаида и Лев Николаевич Берсенев.
…Я вспоминаю один из вечеров памяти Островского в Харькове. Открывал его представитель общества «Знание», который во вступительной речи обрушился на добровольных секретарей Островского за то, что те писали неграмотно и делали много ошибок. А я тогда свое выступление начала с благодарности тем, кто помогал Островскому. И сейчас хочу низко поклониться всем, кто поддержал его в то трудное время. Да, часто писали люди не очень квалифицированные. Но, если бы не они, неизвестно, когда бы читатель получил продолжение романа «Как закалялась сталь».
Вторую часть романа я не писала, так как оставалась в Москве. Николай не захотел отрывать меня от фабрики.
Но вот к ноябрьским праздникам я была командирована в числе делегации от Бауманского райкома партии Москвы в подшефный 151-й стрелковый Верхнекамский Краснознаменный полк, расквартированный в Одессе.
Руководители фабрики разрешили мне на обратном пути заехать в Сочи к Николаю. В моем распоряжении было четыре дня.
Николай в ту пору уже перебрался из каморки на Приморской улице в двухкомнатную квартиру на Ореховой, 29, — здесь было попросторней.
Долго и подробно расспрашивал меня Николай о жизни Москвы, о моей работе, о подшефной части. Узнав, что я избрана секретарем партийной организации цеха, порадовался моему росту. Я как бы отчитывалась перед, ним. Ведь он был мне не только мужем и другом — он был и моим партийным руководителем. Это он в 1930 году рекомендовал меня в партию. И мне радостно было видеть его улыбку — знак одобрения моих дел.
В эти дни он с нетерпением ждал из Москвы отдельное издание первой части «Как закалялась сталь». Роман был закончен печатанием в сдвоенном 8–9 номере журнала «Молодая гвардия» и уже в августе сдан издательством в типографию. Роман должен был выйти к 7 Ноября. Редактором книги был главный редактор издательства «Молодая гвардия» С. Остряков.
Николай жил «от почтальона до почтальона».
Он рассказывал мне о работе над второй частью романа. О том, что диктовал ежедневно. Когда никого из добровольных секретарей близко не было, выручала десятилетняя племянница Зиночка, дочь Дмитрия Алексеевича, который в те дни тоже гостил у Николая. Конечно, Зиночка не могла заменить взрослого человека: писала детским почерком, медленно. Мешало то, что она плохо знала русский язык. Зато бойко говорила и читала по-украински: когда надо было прочесть что-то по-украински, Зина была незаменима. Это была остроумная, живая девочка.
Как-то мы сидели с Николаем одни. Он печалился о том, что издание первой части задерживается, что работа над второй частью идет медленно, не всегда есть возможность быстро записать найденное, многое гаснет, пока придет кто-нибудь и запишет.
Потом он попросил меня что-то прочесть. Я встала, чтобы взять нужную книгу. В это время как вихрь влетела в комнату Зина:
— Тетю Рая, як гарно, що вп приихалы, бо мени дядю вже замучив: читай да читай…
Николай перебил ее:
— Ладно, ладно, секретарь, потом пожалуешься, а сейчас дай нам книгу.
Зина подскочила к этажерке, схватила книгу, сунула мне в руки и так же стремительно убежала.
Николай с гордостью и любовью сказал о ней:
— Сорванец! На меня похожа. Вечно у нее какие-то дела, все куда-то спешит. Соседи на нее жалуются: лупит и девочек и мальчиков. Уж она себя в обиду не даст.
И тут же в шутку прибавил:
— Если ты долго не получишь от меня письма, знай: виновата в этом будет Зина.
И я услышала следующее:
— Как-то Ольга Осиповна поручила Зине опустить письмо в ящик. Зине не хотелось идти к почтовому ящику, и она бросила конверт в стоявший у калитки пустой ящик из-под продуктов. Месяца через два Ольга Осиповна обнаружила там письмо: «Зина, что это такое? Почему письмо, которое я просила тебя кинуть в почтовый ящик, валяется в мусоре?» — Зина, не смущаясь, ответила: «Бабушка, вы же сказали кинуть в ящик. Вот я и кинула».
Николай рассказал все это с юмором и без малейшей обиды. Помолчав, сказал:
— А в общем, девочка хорошая, помогает мне. Хотя ей интереснее, конечно, побегать, поиграть со сверстниками.
В эти же дни Николая навестил Абрам Ляхович, брат Розы; пришел передать приветы от харьковских друзей и сфотографировать Островского. Так появился групповой снимок: Николай, Ольга Осиповна, Дмитрий, приехавший навестить брата, и я. Это единственный снимок, сделанный в 1932 году в квартире на Ореховой, 29.
И. наконец, в этот адрес получили из книжного магазина города экземпляры первой части романа «Как закалялась сталь». Вот как об этом рассказывала Ольга Осиповна:
— Радостный и взволнованный, Николай попросил дать ему книгу. «Я хочу ее сам посмотреть», — сказал он, обращаясь к Левушке Берсеневу, который сидел рядом. Долго, с большим напряжением Николай «рассматривал» книгу. Делал он это на ощупь. Но смог разобрать вытисненный на обложке рисунок: штык и веточку с двумя распустившимися лепестками. «Как хорошо художник оформил книгу! Он точно понял содержание! Ведь я рассказываю о молодежи, и вот эта веточка, на которой только, только начинают вырастать лепестки, — это и есть та молодежь, о которой я пишу. А штык — это оружие, с которым молодые шли в бой завоевывать свое счастье…»
Тут же, по заранее приготовленному списку, книги были розданы родным и друзьям. Первый экземпляр — маме. Надпись: «Ольге Осиповне Островской — моей матери, бессменной ударнице и верному моему часовому. Н. Островский. Сочи 22 декабря, 1932 г.»
Получила книгу и я. В декабре, в Москве, почта принесла мне этот подарок. На экземпляре, подаренном мне, он написал: «Рае Островской. В память дней, когда рождалась дружба. Моей подруге-жене дарю мою книгу. Н. Островский. Сочи, 1932 г.»
С этого дня он дарил мне с надписями по экземпляру каждого нового издания.
Сорок одну книгу я получила в подарок при жизни Николая Островского.
15
«Я вижу, где написано плохо…»
«Книга вышла. Она издана прекрасно, как говорят, на «большой». (Из письма Новиковым от 28 ноября 1932 года.)
Книга издана, а значит, признана! Значит — есть для чего жить!
«Из глубокого тыла я перехожу на передовые позиции…»
Напомню читателю то, о чем уже писала. Островский разграничивал свою жизнь на три неравных периода: первый — революционная борьба с оружием в руках, второй — борьба с природой, отнявшей глаза в самое нужное время, и третий — борьба за сердца миллионов читателей…
— В первый период я был здоров. Во второй — тяжело болен. А в третий был болен, пожалуй, но лишь с точки зрения разбирающихся в медицине…
Не раз с мягкой грустью он говорил:
— Не думалось мне, что я, боевой рубака, окажусь немножко полезным в писательском деле, а то бы подготовился, багажа бы поднакопил. Ну ничего, поторопимся…
И он торопился.
С еще большей настойчивостью и энергией продолжал работу над второй частью романа:
«…Работаю, как добросовестная лошадь. Пишу по ночам, когда тихо и никто и ничто не мешает. Пишу сам, потом переписывают. Выжимаю на работу все наличие физических сил…» (Новиковым, 28 ноября.)
«Причина моего молчания — напряженная работа над второй книгой. Я вчера закончил большую главу, и сегодня у меня «выходной день»…» (Жигиревой, 16 декабря.)
«Условия для моей работы тяжелые, но я борюсь со всем… Беру все преграды, а их уйма, упорством. Суровы мои дни, но все силы, всю жизнь отдаю книге…» (Жигиревой, 22 декабря.)
Первые две отработанные главы второй книги «Как закалялась сталь» Островский 27 декабря отправил Анне Караваевой. И сопроводил письмом. Вот выдержки из письма:
«Полон творческой энергии, но часто невозможность переложить ее на бумагу из-за отсутствия чьей-то руки приводит в ярость. Ведь мои темпы черепашьи. Я устаю раньше, чем иссякают созданные образы… Не верь, товарищ Анна, злостным слухам, что я «засыпался в доску» и стал писать меланхолические новеллы. Я, назло всем предсказаниям врачей о моей скорой гибели, упорно продолжаю жить и даже иногда смеяться. Ученые эскулапы не учли самого главного — это качество материала их пациента. А качество вывезло. Твой подшефный не только живет, но и работает. «Разве могут не победить те сердца, в которых динамо!» — говорил Павка Корчагин в своей горячей речи в 21-м году. Это относится и ко мне».
«Если худо, будь беспощадна. Я не свалюсь с ног, выносу любую критику, она мне лишь поможет выравнять изъяны».
Он чувствует боевую обстановку в стране, чувствует огромную, напряженную работу, которую проводит партия в осуществление решений XVI партийного съезда — съезда развернутого наступления социализма по всему фронту, — и он полон решимости наступать на своем фронте.
К 20 апреля шесть глав второй части романа уже находились в журнале «Молодая гвардия». Однако три главы еще не были написаны.
Вскоре пришло письмо от Караваевой с замечаниями по присланным главам.
1 июня 1933 года Островский сообщает Караваевой свой план доработки текста:
«Глава первая. Выбросить выкрутасы с автомобилями и проработать глубже период рабочей оппозиции и показать наглядно, как попали в эту «псевдолевую» удочку молодые…
Глава вторая без особых изменений. Тут контроль над словом и прочее, если считаете нужным, я выброшу эпизоды с «липовыми» студентами.
Глава третья. Оттенить ярче участие комсомола в борьбе с разрухой, массовыми явлениями мошенничества среди рабочих, бытовые моменты.
Четвертая глава или совсем ликвидируется, или «реконструируется».
Пятая глава (троцкистская оппозиция, смерть Ленина и ленинский призыв). Здесь проделаю самую большую работу, сообразуясь с твоими указаниями. Я сознательно запрятал Корчагина на задворки, боясь того, что меня упрекнут в выпячивании этой фигуры за счет остальных героев. Теперь Корчагин будет показан в действии. Попытаюсь развернуть показ борьбы за генеральную линию партии в ряде живых картин. Здесь буду работать больше, чем где-либо.
В остальных главах будут выброшены 80 процентов «болезней» и т. п., значительно сокращены и сжаты «семейные перипетии»…
Основная линия последних глав — это показ одного из большевиков, Павла Корчагина, и его товарищей такими, какими они были на самом деле, без выкрутасов…
Мнение молодогвардейцев о второй книге для меня решающее. Это отзыв штаба моей бригады. Думаю, что с «Молодой гвардией» не расстанусь до конца своей жизни. Она «моя».
6 июня 1933 года Островский отправил Караваевой последние три главы и всю рукопись второй части — книжному издательству «Молодая гвардия».
Позади девять месяцев напряженного труда. Устал безмерно. Необходима разрядка, отдых.
Островский разрешает себе передышку.
«Сейчас у меня «отпуск». Я отдыхаю, т. е. читаю новинки литературы…»
В эти дни еще новость: Петр Новиков сообщил, что подписал от имени автора договор на издание первой части романа «Как закалялась сталь» на Украине.
Обрадованный этой вестью, Островский отвечает:
«Я, конечно, подписал бы любой договор, даже без копейки гонорара, лишь бы книга была издана на украинском языке… — Ив прекрасном настроении он продолжает письмо: — Зина пишет, а я свищу куплеты тореадора».
22 июня 1933 года на Украину, в Харьков, в издательство «Молодой большевик» отправляется рукопись второй части романа.
Между тем приходит ответ и из издательства «Молодая гвардия»: там предлагают исправить текст по их замечаниям.
Островский сразу же берется за работу. Он намерен серьезно переделать вторую часть романа согласно указаниям А. А. Караваевой, представляющей журнал «Молодая гвардия», и замечаниям издательства «Молодая гвардия».
И тут болезнь. Планы приходится свертывать.
11 августа он пишет Караваевой: «Дорогая товарищ Анна! Одновременно с твоим письмом я получил от товарищей из издательства «Молодая гвардия» письмо, копию которого посылаю тебе. Я сейчас же приступил к переработке книги и вскоре увидел, какие трудности встали передо мной. Капитально «перетряхивать» книгу оказалось труднее, чем написать ее заново. Я понял, что на данном этапе это мне не под силу. Год с лишним напряженной работы отнял у меня все физические силы. Их у меня хватает лишь для тщательной правки и освобождения рукописи от путаных мест…»
Не имея сил работать над текстом дальше, Островский согласился с теми небольшими сокращениями и поправками, которые предложило ему издательство, хотя этот вариант теперь уже не удовлетворял его. Книга была подписана к печати в апреле 1934 года редактором Р. Шпунт. 8 июня Островский получил сигнальный экземпляр. И опять на сером коленкоре обложки — серебряный штык и веточка с двумя распустившимися лепестками: точное повторение того оформления, в каком вышла в 1932 году первая часть романа. Только цвет штыка другой: серебряный.
Молодогвардейский тираж в 10000 экземпляров не удовлетворил спроса. Издательство решило повторить издание обеих частей романа по отдельности. 10 сентября 1934 года была подписана к печати первая часть, а 21 сентября 1934 года — вторая часть романа. Тираж каждой книги — 30 тысяч.
Пошли они нарасхват. В библиотеках по месяцам ждали очереди. Островского буквально засыпали письмами с просьбой выслать книгу. Читатели, узнававшие, что автор тяжело болен, часто присылали рецепты, советы о лечении.
Еще в январе 1933 года пришло письмо из политуправления РККА: в письме сообщалось, что 80 процентов первого издания романа взяты в армейские библиотеки. Что могло быть лучше такого известия! Книга была буквально взята на вооружение!
1 июня 1934 года Николая Островского приняли в члены Союза советских писателей. Членский билет № 616 за подписью А. М. Горького был выслан ему в Сочи.
— Билет подписан Горьким! — говорил Николай. — Значит, он знает о моем скромном труде! Значит, верит мне, и я обязан оправдать это доверие! Болезнь побоку! Я не имею права болеть!
Уже после смерти Алексея Максимовича Горького его жена Е. Д. Пешкова рассказала следующее:
— Я не помню точно, когда Алексей Максимович говорил со мной об Островском. Кажется, это было после смерти Максима, во второй половине 1934 года, не раньше. Алексей Максимович советовал мне прочесть книжку «Как закалялась сталь», которая, кажется, должна была выйти или вышла. Он говорил не о художественной стороне этой вещи, а указывал на большое моральное значение, которое она должна иметь для молодежи. Рассказывая мне о самом Островском, он говорил, что его жизнь — яркий образец торжества духа над телом.
Об отношении А. М. Горького к Н. Островскому есть еще одно свидетельство. Оно принадлежит Антонину Аркадьевичу Раменскому, педагогу и журналисту, который в 1935 году дважды посетил Островского в Сочи. А. Раменский в том же году встретился в Москве с Горьким по поводу своей рукописи, посвященной работе комсомольцев Ленинградской области (о встрече с А. Раменским попросил А. М. Горького секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев). Раменский рассказывает:
Просмотрев бегло рукопись, «Алексей Максимович сказал, что править ее не будет, так как это дела комсомольские, а он в этих делах не мастак.
— Я вам дам записку к одному из редакторов «Молодой гвардии», там ребята разберутся лучше меня…
Достав листок бумаги, он написал в редакцию «Молодой гвардии» и, передавая его мне, спросил:
— Знаете такого писателя Николая Островского? — и он взял книгу «Как закалялась сталь». — Вот поднимись от меня по Тверскому бульвару и у Страстного монастыря на Тверской живет, — вернее лежит, этот человечище
[29]. Он слеп и недвижим, а вот нашел в себе великую силу написать книгу о комсомоле. Да какую книгу! У нас есть люди, которые по-разному к нему относятся, но это дело их совести. А по-моему, вот у кого надо учиться: у Островского! Мой тебе совет: зайди к нему, он сильно болен, может быть, и поговорить нельзя будет, но даже посмотреть на него обязательно надо, обязательно. Вот тогда поймешь, что такое жизнь и борьба…
Подумав немного, Алексей Максимович продолжал:
— Я тоже к нему присматриваюсь, вот второй раз читаю его книгу, и руки чешутся о нем написать. Как кончатся мои хвори, сам пойду к нему и поклонюсь, ведь это герой, это литератор нового мира, новой литературы — и ей принадлежит будущее… Велика наша Русь, и богата талантами, а подвигов нам тоже не занимать… Мы уже старики, а будущее принадлежит вам…»
В Архиве А. М. Горького хранится записка, написанная рукой Горького. Привожу ее текст: «Н. Островский. Сочи, Ореховая, 47. Справка у М. Е. Кольцова». Даты на записке нет. Но судя но адресу «Ореховая, 47» и по словам «Справка у М. Е. Кольцова», она относится к 1935 году, когда Островский жил на Ореховой и когда была опубликована в «Правде» (17 марта) статья Кольцова «Мужество».
Островский с нетерпением ждал высказывания А. М. Горького о его книге.
«Сегодня хороший день, — пишет он А. А. Караваевой 1 апреля 1934 года, — письмо от тебя и другое письмо, сообщающее, что на днях М. Горький опубликует статью о всех грехах твоего подшефного. Попадет мне на орехи, товарищ Анна, ведь я немало напутал в своей первой пробе руки. Признаюсь, я немного смущен: ведь великий мастер, особенно сейчас, награждает увесистыми ударами кое-кого из «оседлавших славу». Правда, я последнего не имею на своем счету, но все же отзыв Алексея Максимовича меня волнует».
Об ожидаемой статье он писал и Финкельштейну, и Новиковым, и Трофимову, и Жигиревой. Пять месяцев ждал он этой статьи. К сожалению, она так и не появилась.
Н. Островский продолжал работать над текстом романа «Как закалялась сталь». Он эту работу не прекращал до последних дней своей жизни.
Когда после выхода в свет второй части романа в московском издательстве «Молодая гвардия» стали готовить повторное издание, Островский самостоятельно пересмотрел и заново отредактировал первую часть книги. Об этом 19 апреля 1934 года он сообщает секретарю редакции журнала «Молодая гвардия» Соне Стесиной:
«Отредактировал для второго издания первую книгу: борьба за чистоту языка, все слова нарочитые и грубые выброшены».
Весной того года широко обсуждалась литературной общественностью статья А. М. Горького «О языке» — Н. Островский воспринял статью Горького как руководство к действию.
«Я открываю первую книгу своей повести, вновь читаю знакомые строки, — и статья Горького, этого великого мастера словесной живописи, открывает мне глаза; я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркивается, и если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет», — писал Н. Островский в статье «За чистоту языка», напечатанной в журнале «Молодая гвардия» летом 1934 года.
Работа Н. Островского над текстом новых изданий романа носила отнюдь не только литературно-эстетический характер; текст подвергался не просто литературной правке — вновь и вновь выверялось идейное звучание отдельных сцен и эпизодов.
Узнав о том, что книга переводится на польский язык, он вводит новые эпизоды, в которых раскрывает участие поляков в общей борьбе. Об этом он сообщает сотруднице издательства «Молодая гвардия» инструктору по массовой работе А. И. Подгаецкой:
«Во-первых, ввожу в эпизодах расстрела поляками нашей подпольной организации тот факт, что поляк-солдат, радиотелеграфист, имевший связь с подпольным комитетом, тоже был приговорен к расстрелу военно-полевым судом и расстрелян за два дня до общей казни, а другой солдат, писарь штаба, приговорен к 20 годам каторги. Этим самым борьба за Советскую власть рисуется не как дело лишь одних украинцев.
Во-вторых, образ поляка-революционера, машиниста, старика Полентовского Вячеслава Сигизмундовича, должен быть расширен в национальном разрезе в противовес польским панам типа Лещинского и других.
Есть еще два рабочих-поляка, принимавших участие в борьбе за Советскую власть. И если расширить обрисовку комиссара продовольствия Тыжицкого (тоже поляка, о нем сказано лишь два слова), то этим самым несколько сгладится то возможное впечатление, что все поляки сплошь отрицательные типы, что, конечно, ни в коем случае не входило в мои замыслы и что резко противоречило бы действительности».
Между тем выходит книга и на Украине. В июле 1934 года харьковское издательство «Молодой большевик» выпускает обе части романа «Как закалялась сталь» одной книгой. (Редактор Д. К. Вишневский.) Издание приурочено к юбилейному пленуму, посвященному пятнадцатилетию комсомола Украины.
На титульном листе первого украинского издания читаем: «Ленінському комсомолові України, що виховав мене, присвячую свою працю. Н. Островский».
О своей радости Николай немедленно сообщает в Москву Караваевой:
«Мои новости: И июля в Киеве происходил юбилейный пленум ЦК ЛКСМУ… Пленум и комсомольский! праздник прошли оживленно, с подъемом, издательство ЦК ЛКСМУ «Молодой большевик» к юбилею приурочило украинское издание «Як гартувалася сталь», обе части в одном томе. Книга сделана прекрасно. Она была роздана 500 делегатам пленума…»
Много сил и души вложил в это издание главный редактор «Молодого большевика», а впоследствии директор издательства К. Д. Трофимов, он редактировал второе, а позже и третье украинское издание книги.
Да, велик был спрос и на Украине. Книгу полюбили: три издания за два года!
Третье украинское издание было роскошное: часть тиража — в обложке серебристого цвета, с барельефом Корчагина, а супер целлулоидный, малинового цвета. Вплоть до сегодняшнего дня я не видела другого такого издания: Островский держал эту книгу около себя и всем, кто приходил, обязательно показывал.
Надо сказать, что в 1934 году на Украине текст романа издали по рукописи, полученной прямо от автора и почти без изменений. Так, впервые здесь были напечатаны слова о смысле жизни, которые позднее стали как бы эмблемой романа и заповедью для миллионов читателей во всем мире. Правда, они тогда не были еще достаточно отшлифованы Островским.
По сохранившейся рукописи можно проследить работу Островского над этим афоризмом. Читаем рукопись:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор
за подленькую и мелочную жизнь только для его «я», своего желудка, и чтобы, умирая, смог сказать, что вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире — борьбе
за идею коммунизма».
А вот как звучат эти строки в украинском издании. Я даю русский перевод:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое —
только для себя, и чтобы, умирая, смог сказать, что вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире —
борьбе за общее дело».
Но и эта редакция не удовлетворила Островского. В 1935 году он снова возвращается к этому тексту. Из украинского издания были убраны слова:
только для себя, а вместо слов
борьбе за общее дело размышление Корчагина было завершено словами:
борьбе за освобождение человечества.
В окончательной редакции, в московском издании романа 1935 года монолог Павла прозвучал так:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое
и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире —
борьбе за освобождение человечества».
Непрерывная работа Николая Островского над новыми изданиями заставляет нас поставить один принципиально важный вопрос: какой же вариант текста романа «Как закалялась сталь» следует считать каноническим? Вопрос не праздный: даже и много лет спустя об этом велись споры. Поэтому я хочу ответить на вопрос ясно и недвусмысленно.
Итак, до 1935 года роман «Как закалялась сталь» издавался несколько раз:
В журнале «Молодая гвардия» в 1932 году, № 4, 5, 6, 7, 8–9 (первая часть).
В журнале «Молодая гвардия» в 1934 году, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (вторая часть).
В издательстве «Молодая гвардия» — отдельной книгой — 1932 год (первая часть).
В издательстве «Молодая гвардия» — отдельной книгой — 1934 год (вторая часть).
В издательстве «Молодая гвардия» — двумя отдельными книгами — 1934 год (первая
и вторая части).
В издательстве «Молодой большевик» — обе части в одной книге — 1934 год, на украинском языке.
В каждом случае текст редактировали заново. Таким образом, получилось несколько разных редакций. Чтобы избежать в дальнейшем разнобоя, Островский, готовя роман для первого массового издания, решил создать окончательный текст. Для этого он заново пересмотрел рукописи вместе с редактором издательства «Молодая гвардия» И. Гориной. В этом виде роман и был опубликован в 1935 году массовым тиражом в «Молодой гвардии». Н. Островский называл это издание «третьим русским» и рекомендовал впоследствии печатать роман только по этому изданию.
Об этом он писал 23 мая 1935 года М. 3. Финкельштейну и Ц. Б. Абезгауз: «Приезжала редактор Горина. Пересмотрели с ней всю рукопись «Как закалялась сталь», и третье, массовое издание 100 тысяч выйдет вполне такое, как я хочу».
Любопытно, что, готовя роман для первого массового, третьего московского издания и опуская ряд сцен, Островский посылает письмо в Харьков К. Д. Трофимову с просьбой изъять соответствующие места из очередного украинского издания.
Исключается, например, эпизод с «рабочей оппозицией». «В этом третьем издании по моему желанию, — писал Островский Трофимову, — выброшен эпизод, где Павка попадает в рабочую оппозицию… Сделал
я это потому, что образ молодого революционера нашей эпохи должен быть безупречен и незачем Павке путаться в оппозиции».
Убраны и некоторые сцены со стариком Кюцамом.
Вот как Островский мотивирует это в письмо Трофимову:
«…После бесед с целым рядом руководящих товарищей, следуя их советам, я решил зачеркнуть во второй части романа «Как закалялась сталь» несколько строк, там, где описывается встреча Корчагина со стариком Кюцамом. Антисоветский топ старика режет уши — здесь надо кое-что переработать или просто зачеркнуть…»
Однако некоторые сцепы Островский восстанавливает. Например, восстановлен разговор Павла с матерью перед отъездом его из дому.
«— Я, маманя, слово дал собе девчат нс голубить, пока на всем свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя, долго буржуй не продержится… Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящие, — в Италию, страна такая теплая по-над мором стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем».
Многие страницы рукописи, убранные Островским из текста при его доработке, я впоследствии передала в ЦГАЛИ. Я хотела бы уточнить, что большинство из этих страниц были опубликованы в первом украинском издании и ушли из последующих изданий по воле автора, продолжавшего совершенствовать текст.
Закончив работу с И. Гориной, Островский послал Трофимову последние поправки и прибавил: «В будущих изданиях мне их делать не придется».
Так думал Островский. Но жизнь подсказала другое. Несмотря на напряженную работу над следующим романом «Рожденные бурей», он по-прежнему все время возвращался к книге о Корчагине. Последняя правка была им внесена в последнее прижизненное издание, которое вышло в московском издательстве «Молодая гвардия» в 1936 году. Я сохранила экземпляр, в котором по указанию Островского пометила эти поправки.
Их было немного, всего одиннадцать. Но Островский тщательно следил, чтобы они не затерялись. Во всех документах, материалах и рукописях у Островского был заведен строгий порядок: все исправления в тексте выписывались отдельно; составлялся перечень поправок, который и рассылался в издательства.
Как только Островский узнавал об очередном предполагаемом издании романа, он сейчас же посылал в издательство список необходимых изменений и исправлений и просил обязательно поместить на титуле номер очередного издания. Он сам вел учет изданий. По его просьбе была заведена общая тетрадь («розовая», как мы ее называли по цвету обложки), в эту тетрадь вписывали очередное издание с указанием города, издательства, тиража и цепы.
При получении новой книги, в часы отдыха Островский любил ее «смотреть».
— Ну, давай-ка сейчас книгу мне. Какой тираж? Сколько стоит книга?
Эти вопросы были всегда первыми. И если книга стоила дорого, это очень огорчало Островского:
— Надо, чтобы книга была дешевой, чтобы она была доступна любому!
16
Резонанс
К началу 1935 года роман Николая Островского выдержал несколько изданий на русском языке, был переведен на украинский и на польский. Читатели засыпали автора письмами, полными благодарности.
Николай Островский ждал, однако, и другой реакции: он хотел знать мнение профессиональных критиков. Он понимал,
что книга «далека от совершенства». С жадностью ловил в печати все, что писали о книге.
Вот как обрисовывает современный исследователь реакцию профессиональной критики на появление книги Островского:
«…За пределами журнала («Молодая гвардия». —
Р. О.) ее пока не замечает никто… Полное молчание толстых литературных журналов. Островского обсуждает комсомольская пресса.
Тогда было такое положение, что издательства сами выпускали библиографические вестники, рекламировали свою продукцию. Выходил тоненький справочник издательства «Молодая гвардия», посвященный «вопросам молодежной печати». Тираж был меньше пяти тысяч экземпляров. И выходил еще более тоненький его собрат, бюллетень критико-библиографического института, который назывался «Художественная литература» и имел тираж меньше трех тысяч. Вот эти-то два крошечных полусправочных бюллетеня и поместили в декабре 1932 года первые крохотные отзывы о книжке Островского. Молодежный справочник напечатал свой отзыв среди подборки о воспоминаниях бывалых людей (рядом был раздел «Творческий смотр молодняка», здесь фигурировали Решетов, Протва — «писатели»; Островский в «писатели» не попал, он прошел по разделу «В огне боев»). Справочник «Художественная литература» отметил молодого автора между перепиской с начинающими и «Трибуной консультанта», отзыв был благожелательным, в нем выражалась надежда, что в будущем автор лучше справится со сложностями художественной формы. О распространенности этого бюллетеня можно судить по тому, что сам Островский в течение почти полугода не мог достать его, чтобы прочесть о себе.
И еще выходил в ту пору такой же тоненький и очень злой журнальчик «Рост», созданный в свое время как организационный бюллетень РАППа. В середине 1933 года и он отрецензировал книжку Островского, простив автору «недостаточно богатую языковую культуру» ради правильности содержания…
Вот и все для начала.
Единственный орган печати, который с первой секунды регулярно и добросовестно поддерживал Островского, — это сама напечатавшая его «Молодая гвардия». Здесь бережно отрецензировали отдельное издание и выразили надежду, что в последующей работе автор избавится от стилистических несовершенств. Здесь поместили и первые отклики читателей, бурно приветствовавших Корчагина, — но даже и здесь никто еще не чувствовал,
что придет за этими первыми разрозненными откликами. Здесь регулярно поминали «молодого рабочего автора» в обзорах и перечнях и столь же регулярно выражали надежду, что вторая часть повести будет более умелой в литературном отношении…»
[30]
Первое время почти вся профессиональная критика хранила молчание. Однако потом она наверстала упущенное.
Приведу выразительный отрывок из речи ответственного редактора «Комсомольской правды» В. М. Бубекина на X съезде комсомола в 1936 году.
Бубекин:
— Молодежь жаждет видеть в книгах своих сегодняшних героев… Стахановцы — знамение нашего времени. Они вносят свои стахановские поправки и в требования к литературе. Одни произведения они отбрасывают прочь, другие произведения делают своими любимыми. Характерно, что очень часто это делается, невзирая пи на какие нормативы, установленные штатной критикой. Возьмите, например, книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Эта книга имеет большой заслуженный успех. А вы знаете, как критика встретила эту книгу? Заговором молчания. Сначала даже трудно было эту книгу издавать.
Секретарь ЦК ВЛКСМ
А. В. Косарев бросает реплику:
— Книжка «Как закалялась сталь» была издана вопреки литературной критике силами ЦК комсомола и «Молодой гвардией».
Бубекин:
— Правильно! А теперь литературные критики готовы приписать эту заслугу себе. Это с ними часто случается. Увидев, что книжка имеет успех, что ее берут нарасхват, они начинают шуметь: «Вот видите, а мы что говорили?»
(Смех в зале.)[31]
К концу года на позиции признания книги встала и «Литературная газета». 26 ноября 1936 года в ней было напечатано следующее:
«Литературные снобы, пытавшиеся не заметить книгу Островского «Как закалялась сталь», вынуждены были в конце концов нарушить заговор молчания и признать, что ее появление является событием для советской литературы. Но, аллилуйски повторяя это, льстиво восторгаясь успехом книги «Как закалялась сталь», многие из этих жрецов искусства все же настойчиво пытаются, как это ни странно, вывести Островского из советской литературы. Отдавая дань его благородству и мужеству, они пытаются говорить о нем как о человеке, стоявшем или «выше» литературы, или в какой-то «почетной стороне» от нее…»
Огромное значение для признания романа профессиональной критикой имел очерк Михаила Кольцова. Кольцов посетил Островского в Сочи 1 ноября 1934 года. Беседовали они долго, расстались друзьями; Кольцов ушел от Островского, покоренный силой его духа, мужеством. Очерк Кольцова так и назывался: «Мужество». 17 марта 1935 года очерк появился в «Правде».
«Бойкие молодые человеки, — писал Михаил Кольцов, — нарифмовав похлеще пару страниц в толстом журнале, сорвав хлопки на ответственной вечеринке, уже рвут толстые авансы, уже бродят важным кандибобером по писательским ресторанам, уже пудрят фиолетовые круги под глазами и хулиганят на площадях в ожидании памятников себе… Маленький, бледный Островский, навзничь лежащий в далекой хатенке в Сочи, слепой, неподвижный, забытый, смело вошел в литературу. Отодвинул более слабых авторов, завоевал сам себе место в книжной витрине, на библиотечной полке. Разве же он не человек большого таланта и беспредельного мужества? Разве он не герой, не один из тех, кем может гордиться наша страна?
И главное — что питало эту мужественную натуру? Что и сейчас поддерживает духовные, физические силы этого человека? Только безграничная любовь к коллективу, к партии, Родине, к великой стройке. Только желание быть ей полезным… У него есть персональная пенсия, близкие люди — лежать бы, не утомляться, сохранять оправданное бездействие. Но так велико обаяние борьбы, так непреодолима убедительность общей дружной работы, что слепые, параличные, неизлечимо больные бойцы сопутствуют походу и героически рвутся в первые ряды».
Выступление М. Кольцова всколыхнуло читателей. А вскоре и критики принялись внимательно читать книгу о Павле Корчагине, заговорили о ней.
Но и теперь плоды этого чтения доставляли автору отнюдь не только радость.
Первым в апреле выступил критик Б. Дайреджиев. Его статья «Дорогой товарищ» была напечатана в «Литературной газете» 5 апреля.
В эти дни Николай болел двусторонним плевритом. Собрав последние силы, он пишет 2 апреля писательнице В. И. Дмитриевой: «В период наивысшего подъема тело изменило мне… Я не могу работать. Самое страшное, что может быть в моей жизни…»
5 апреля И. П. Феденеву: «Неожиданно захворал… Температура, сердцебиение, бессонница и пр. столь же приятные вещи. Врачи категорически запретили работать, даже читать… Все кругом зовет к труду и действиям, а я засыпался. Ведем борьбу с болезнью… Получаю много, откликов на статью Кольцова…»
Остановлена основная работа. Отложены газеты, письма читателей. Не до них. Снова борьба за жизнь. И только 11 апреля Николай почувствовал себя немного лучше. Лечащий Островского врал Михаил Карлович Павловский, как всегда, забежал после рабочего дня навестить своего подопечного. Врач беспокоился, так как последние дни Островский чувствовал себя не очень хорошо: болела голова, пошаливало сердце.
Вот что рассказал мне впоследствии М. К. Павловский:
— Я собирался уже уходить. Николай Алексеевич меня остановил. «Михаил Карлович, — обратился он ко мне. — Если вас больные не ждут, посидите еще. Просмотрите газеты». Я остался. Быстро просмотрели с ним газеты «Правда», «Комсомольская правда». «А теперь давайте просмотрим мою, профессиональную газету — «Литературку», как мы ее называем…» Читаю Островскому заголовки статей. Назвал и эту: «Дорогой товарищ». Быстро, про себя пробегаю первые строки. И вдруг читаю: «Оптимизм Островского…» «Николай Алексеевич, а это статья о вас». — «Да ну? Читайте, читайте…» Откровенно сказать, первый абзац об оптимизме, идущем «от глубокого постижения путей истории», и об «оптимизме свиньи, роющейся на задворках истории», — я так и не понял. Да и Николай Алексеевич пропустил это. А вот следующий абзац уже касался Островского, который, как писал рецензент, «тем и велик, что он не самодоволен, не жирен»… Это насторожило Островского. «Ну, ну, читайте, что там еще есть?» Я продолжал читать…
В статье говорилось… о преемственности поколений революционеров, о стойкости Корчагина, о большевистском упорстве Корчагина и т. д. и т. п. В заключение вывод: «Дело в том, что Корчагин — это Островский… Он сделал все, что в силах сделать Павел Корчагин, но написанная вслепую в полном смысле этого слова книга нуждается в инструментовке, в технической шлифовке, в озвучании рукой мастера… Я позволю себе обратиться с публичным вызовом к писателю Всеволоду Иванову… о том, чтобы он взял на себя труд инструментовки книги Островского…»
Несколько дней Николай был подавлен, лежал молчаливо, никого не хотел видеть. Потом, собравшись с силами, телеграфировал Анне Караваевой:
«Прочел вульгарную статью Дайреджиева. Сердечно болен, однако отвечу ударом сабли «Литературной газете»…»
Весь месяц апрель Николай Островский был под впечатлением этой статьи. В письмах к друзьям он все время возвращается к выступлению Дайреджиева.
15 апреля пишет своему другу А. Солдатову:
«С 12/IV чувствую себя лучше, температура более-менее нормальная, и я уже начал работать. Заставляют, черти. Кажется, мертвого и то заставили бы написать ответ на заметку или, вернее, статью в «Литературной газете»… И ответил же я ему хорошо, если поместят в «Литературке», то сообщу, в общем, началась передряга, самая безалаберная статья, какую только может выдумать человек. У него счеты с «Молодой гвардией», и он через меня лягает журнал «Молодая гвардия», но и мне изрядно достается. То превозносит до небес, даже путевку транспаранту моему в «мировую литературу» дал, то предлагает Вс. Иванову озвучить, т. е. отшлифовать, мою книгу. Разве не гад после этого? Тогда чье же это будет произведение?»
16 апреля — в письме к Р. Шпунт:
«Между прочим, первый раз меня лягнули в печати — Дайреджиев в «Литгазете» своей статьей «Дорогой товарищ». Этот человек нашел нужным оскорбить меня, сказав, что я через книгу жалуюсь на окружающую меня действительность и т. д. и т. п. И под конец отослал меня на переделку к Вс. Иванову. Я ответил ему как следует».
Этот ответ не был опубликован при жизни автора. Только после смерти Николая Островского читатели получили возможность прочесть это письмо. Вот его текст, с небольшими сокращениями:
«Только сегодня прочел в «Литературной газете» от 5 апреля статью Бориса Дайреджиева «Дорогой товарищ». И хотя я сейчас тяжело болен — воспаление легких, но должен взяться за перо и написать ответ на эту статью. Буду краток.
Первое: решительно протестую против отождествления меня — автора романа «Как закалялась сталь» — с одним из действующих лиц этого романа — Павлом Корчагиным.
Я написал роман. И задача критиков показать его недостатки и достоинства, определить, служит ли эта книга делу большевистского воспитания нашей молодежи.
Во второй половине своей статьи критик Дайреджиев… пишет вещи, мимо которых я не могу пройти молча. Например: «Но здесь мы должны отметить ошибку редакции «Молодой гвардии». Дело в том, что Корчагин — это Островский. (Его история недавно была рассказана М. Кольцовым… в «Правде».) А роман — человеческий документ. И вот, по мере того как мир смыкался железным кольцом вокруг разбитого параличом и слепого Островского, семейная неурядица борьбы с обывательской родней жены Корчагина начинает занимать центральное место в последней части романа. Прикованный к койке, Островский не замечает, как мельчает в этой борьбе его Павка. Типичные черты Корчагина начинают вырождаться в индивидуальную жалобу Островского через своего героя. Редактор книжки т. Шпунт оказалась политически более чуткой, чем редакция журнала. Она свела к минимуму перипетии семейной ссоры, заострила политическую суть этой борьбы, тогда как журнал дал целиком эту растянутую часть романа, чем способствовал разжижению гранитной фигуры Павки Корчагина».
Зачем понадобились Дайреджпеву эти сенсационные сообщения, что Корчагин — это Островский…
Как все это режет ухо! Зачем понадобилось Дайред-жиеву написать неправду (я с трудом воздерживаюсь от более резкого выражения) об авторе романа и Павле Корчагине, которых Дайреджиев отождествляет? Когда и где увидел Дайреджиев индивидуальную жалобу автора на окружающую его действительность? Конец последней главы, о которой пишет Дайреджиев, в книге не опубликован. Но пинок, которым наградил критик редакцию журнала «Молодая гвардия», пришелся как раз мне в лицо. Я должен ответить на удар ударом.
Если вы, тов. Дайреджиев, не поняли глубоко партийного содержания борьбы Корчагина с ворвавшейся в его семью мелкобуржуазной стихией, обывательщиной и превратили все это в семейные дрязги, то где же ваше критическое чутье? Никогда ни Корчагин, ни Островский не жаловались на свою судьбу, не скулили по Дайреджиеву. Никогда никакая железная стена не отделяла Корчагина от жизни, и партия не забывала его. Всегда он был окружен партийными друзьями, коммунистической молодежью и от партии, от ее представителей черпал свои силы. Сознательно или бессознательно, но Дайреджиев оскорбил и меня как большевика и редакцию журнала «Молодая гвардия».
Дальше тов. Дайреджиев обращается с публичным вызовом к писателю Всеволоду Иванову взять на себя «инструментовку», «техническую шлифовку и озвучание» книги, после чего «она станет в уровень с лучшими образцами социалистического эпоса». Я ценю Вс. Иванова как писателя. Убежден, что он тоже был смущен этим театральным жестом Дайреджиева. Мы, молодые писатели, только что вступившие в литературу, жадно учимся у мастеров мировой и советской литературы. Берем лучшее из их опыта. Они пас учат.
А. С. Серафимович отдавал мне целые дни своего отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику свой опыт. И я вспоминаю об этих встречах с Серафимовичем с большим удовлетворением. Анна Караваева, будучи больной, читала мою рукопись, делала свои указания и поправки. Марк Колосов привез эту рукопись в ЦК комсомола.
Из их указаний я делал выводы и своей рукой выбросил все ненужное. Своей рукой! Так большевики помогали «озвучать» книгу. Книга имеет много недостатков. Она далека от совершенства. Но если ее вновь напишет уважаемый Всеволод Иванов, то чье это будет произведение — его или мое? Я готов учиться у Всеволода Иванова. Но переделывать свою книгу должен сам, продумав и обобщив указания мастеров литературы. Эти указания и советы нам, молодым, нужны как воздух: товарищеская творческая их помощь, большевистская критика. Ничего этого нет у Дайреджиева.
С коммунистическим приветом — Н. Островский.
11 апреля 1935 г. Сочи…»
На защиту Островского встала «Правда». 14 апреля 1935 года в газете было опубликовано коллективное «Письмо в редакцию». Авторы письма недоумевали по поводу статьи Б. Дайреджиева: «книга Н. Островского, оказывается, «написана вслепую в полном смысле этого слова» и под конец «вырождается в индивидуальную жалобу Островского через своего героя».
«Книга нуждается в инструментовке, технической шлифовке, в озвучании рукой мастера» — она, стало быть, не только слепая, но и немая…
Но дискредитации Дайреджиеву мало, — писала далее «Правда», — он доходит до издевательства над Островским. «Николай Островский пишет сейчас новую книгу, теперь уже, нужно надеяться, с помощью секретаря», который, очевидно, должен «озвучить и инструментировать» произведение Островского — поставщика сырья.
Нечего говорить, что подобная неумная путаная болтовня, выдаваемая «Литературной газетой» за критику, представляет собой клевету на человека, являющегося образцом большевистского мужества».
Письмо в «Правду» подписали А. Серафимович, A. Караваева, С. Салтанов, А. Безыменский, М. Колосов, Т. Киш, П. Бирюлин.
Николай Островский поблагодарил редакцию за поддержку. 1 мая 1935 года он послал следующую телеграмму:
«Москва. «Правда», Михаилу Кольцову. Пламенный первомайский привет. Глубоко признателен центральному органу партии «Правде» за большевистское внимание, защиту. Уважающий Вас Н. Островский».
С лета 1935 года статьи о романе появляются в журналах «Октябрь», «Литературный критик», «Знамя», «Советское студенчество», «Резец», «Красная новь». Об Островском пишут А. Александрович, В. Бойчевский, Б. Бялик, И. Виноградов, О. Войтинская, А. Волков, B. Герасимова, М. Голодный, В. Ермилов, В. Инбер, Г. Ленобль, Е. Усиевич и другие.
В два последних года жизни Островского о нем узнала вся страна. Узнали и зарубежные читатели. Более сорока изданий выдержал роман «Как закалялась сталь» за эти последние два года: 1935-й и 1936-й. Он был издан в десятках городов. Перечислю некоторые из них: Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Минск, Пятигорск, Свердловск, Казань, Саратов, Новосибирск, Горький, Вологда, Оренбург, Куйбышев, Уфа, Курск, Хабаровск, Омск, Красноярск, Минск, Смоленск, Ереван (на армянском языке), Тбилиси (на грузинском языке), Кудымкар (на коми-пермяцком языке), Тирасполь (на молдавском языке), Киев (на украинском языке)…
И по-прежнему потоком шли письма в адрес Островского. Читатели не знали точного адреса. Мы получали письма с такими адресами:
«СССР. Писателю Островскому».
«Сочи. Дорогому Николаю Островскому. Автору романа «Как закалялась сталь».
Эти конверты любовно хранились в особой папке. Окрыленный вниманием и любовью читателей, Островский писал Караваевой: «Тысячи писем, полученных мной со всех концов Союза, зовут меня в наступление…»
А в статье «Мой день 27 сентября 1935 года», написанной Островским для известного горьковского сборника «День мира», читаем:
«…Письма. Они идут ко мне со всех концов необъятного Советского Союза — Владивосток, Ташкент, Фергана, Тифлис, Белоруссия, Украина, Ленинград и Москва.
Москва, Москва! Сердце мира! Это моя Родина перекликается с одним из своих сыновей, со мной… автором единственной книги «Как закалялась сталь», молодым, начинающим писателем. Тысячи этих писем, бережно разложенных в папки, — самое дорогое мое сокровище.
Кто же пишет? Все. Рабочая молодежь фабрик и заводов, моряки-балтийцы и черноморцы, летчики и пионеры — все спешат высказать свою мысль, рассказать о чувствах, разбуженных книгой…»
При жизни Островского его роман успел перешагнуть и границы нашей Родины. Его издали в Чехословакии. И в знак благодарности сотрудники издательства прислали Островскому золотые часы с боем. Они били каждые четверть часа. Николай был очень рад этому подарку — теперь он сам мог следить за временем.
Напечатали роман и в Японии. Велись переговоры о его издании в Англии: там собирались выпустить роман в сокращении и дать ему название «Рождение героя». Спросили разрешения у автора.
Сначала Островский огорчился. Но, подумав, сказал:
— Пусть печатают в сокращении! Всего не сократят! Все равно молодежь Англии узнает о борьбе нашей молодежи!
Впоследствии роман «Как закалялась сталь» издали в большинстве стран мира.
Но автор не дожил до этого.
17
Награда
Движется конвейер. Непрерывной чередой идет лента. Вдоль нее стоят десятки работниц, укладывают в банки рыбу. Быстрые движения рук почти неуловимы. Бесконечная лента уносит наполненные банки в укупорочный цех.
Ко мне подходит работница. Ее лицо почти торжественно. Она широко и приветливо улыбается:
— Знаешь, Рая, сегодня по радио передавали, что твоего мужа наградили орденом Ленина.
— Сегодня? Правда?
— Честное слово, сама слышала, — уже на ходу подтверждает работница, направляясь к своему месту.
Помню, я опешила. О том, что комсомольцы Украины вошли в правительство с ходатайством о награждении Николая орденом, я знала, — он мне говорил об этом еще в августе, когда я проводила свой отпуск в Сочи. Но я не думала, что все произойдет так быстро. Ведь прошло не более двух недель, как я вернулась из Сочи…
Через полчаса на почте заполнила телеграфный бланк:
«Горячо поздравляю высокой наградой. Рая».
Придя домой вечером, нашла телеграмму из Сочи: «Какая награда, не понимаю, молнируй. Николай».
Оказалось, что передавали по радио ходатайство о награждении.
2 октября 1935 года я по обыкновению поднялась рано, но тут же вспомнила, что на фабрику спешить не надо: в райкоме, куда меня командировали, занятия начинались позднее, чем моя смена на фабрике.
Распахнула окно. В комнату ворвался свежий осенний ветер. Клен, растущий у самого окна, уже терял листья. Улица была почти пустынна. Редкие прохожие торопились к трамваю. Дворники сердито мели мостовую, поднимая клубы пыли.
Вчера получила от Николая письмо. Пишет, что работа захлестнула его. Пишет о радости творчества. В его словах — неиссякаемая энергия.
В Москве уже чувствовалось приближение Октябрьских торжеств.
Поехала в райком партии. На Смоленской площади купила газету. Развернула ее. Сразу бросилось в глаза:
«О награждении орденом Ленина писателя Островского Н. А.».
«Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: наградить орденом Ленина писателя Островского Николая Алексеевича, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за Советскую власть здоровье, самоотверженно продолжающего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливого произведения «Как закалялась сталь»…»
Прочла. Прочла еще и еще раз. Сердце прыгает как сумасшедшее. Улыбаюсь удивленным соседям по трамвайной площадке. Мысли далеко, в Сочи. Сошла не на своей остановке. Обнаружив это, решила ехать на телеграф. Снова села в трамвай и тотчас убедилась, что еду в обратном направлении.
С телеграфа молнировала в Сочи: «Высокой наградой орденом Ленина горячо поздравляю радуюсь вместе Рая».
Телеграфист, подчеркивая красным карандашом слова на бланке, прочел текст, приветливо улыбнулся и, протянув в окошечко руку, сказал:
— Разрешите и мне поздравить вас… Я читал роман… очень люблю его…
— Спасибо, — ответила я, пожимая руку телеграфисту. Оба мы были одинаково смущены.
Весь день было грустно. Хотелось в Сочи.
19 ноября я вернулась домой с работы, как всегда, поздно. Дома меня ждал Миша Финкельштейн.
— Только что из Сочи мне звонил Коля. Очень просил передать тебе сегодня же, чтобы ты 24 ноября была в Сочи.
Я разволновалась, не случилось ли чего? И почему именно 24-го? Николай всегда был против того, чтобы я уходила с работы хотя бы на час раньше, а тут вдруг экстренный вызов…
Но то, что сообщил Миша, рассеяло все мои беспокойства: 24 ноября должно было состояться вручение Николаю ордена Ленина.
И вот 24 ноября.
С утра, начавшегося раньше обычного, Николай был радостно возбужден.
— Мамочка, уже пора тебе на вокзал идти встречать Раю, — торопил он мать.
Ольга Осиповна была взволнована не менее сына:
— Сейчас, сынок, сейчас иду.
— Только, мамуся, с вокзала обязательно ехать на машине. Я хочу, чтобы сегодня вам было хорошо! Сегодня мой день, и, пожалуйста, не омрачайте его. — И в полушутку прибавил: — Прошу мне подчиняться!
— Ладно, ладно, Коленька, приедем на машине!
Николай остался один. На нем военная гимнастерка защитного цвета. Тщательно выбрито лицо. Бледен больше обычного.
Сестра Катя занята хозяйственными делами. Хлопочет: нечасто приезжают к нам члены правительства. Хочется, чтобы чистота была особенной.
О том, что одним со мной поездом едет Председатель Всеукраинского ЦИК Григорий Иванович Петровский и везет Николаю Островскому орден, я узнала, уже подъезжая к Сочи.
В Сочи задолго до прихода поезда вокзальная площадь и прилегающие улицы заполнились народом: колонны рабочих, красноармейцев, пионеров. Играют оркестры. Еле ощутимый ветерок колеблет знамена. Все вышли встречать «всеукраинского старосту».
Ольга Осиповна вместе с внучкой Катюшей — на перроне.
Ровно в 10.30 поезд останавливается.
Выстроен почетный караул.
Из вагона появляется Г. И. Петровский. Принимает рапорт. Здоровается с красноармейцами. Затем выходит на площадь.
По рядам, как рябь на море, бежит волнение, и сразу же гром аплодисментов, приветственные крики.
Город встречает гостей.
— Здравствуй, Раек! — окликает меня Ольга Осиповна.
Обнимаем друг друга, целуемся.
— Видишь, какой у нас праздник сегодня! Это все Коля виноват, — с улыбкой говорит Ольга Осиповна. — Пойдем к машине. Коля сказал, чтобы непременно в машине ехали.
— Да здесь же близко, пойдемте лучше пешком. Интересно посмотреть, как убраны улицы.
Решили идти пешком, а Николаю сказать, что приехали на машине. Чтобы не огорчался.
Вышли на площадь, заполненную народом. Далеко на трибуне, в президиуме митинга, разглядела седую голову Г. И. Петровского. Заметив микрофон, спросила:
— К нам в квартиру проведена трансляция?
— Конечно, проведена, и Коля все время слушает.
Машинально прибавили шаг.
Празднично одеты улицы. Флаги переплетаются с яркой зеленью кипарисов, с цветами. На фасадах домов — портреты вождей, портреты виновника торжества Николая Островского.
Вот и Ореховая улица. Чем ближе к дому, тем больше людей, тем яснее и громче слова из репродуктора, установленного на доме, где живет Николай.
Быстро миновали двор, веранду. Небольшая комната — в ней все так знакомо, так близко. Шкаф с книгами, небольшой стол, кровать, стулья — вот и вся обстановка. На столе радиоприемник. Ковер на полу и над кроватью Николая. На стене — большие портреты вождей.
Комната украшена только цветами. Цветы на столе, цветы на окнах, цветы на стульях. Цветами буквально затоплена маленькая квартирка.
— Поздравляю, Коля, горячо поздравляю с победой, — сказала я, подойдя к кровати Николая.
Расцеловались. Взволнованный, он взял мои руки, сжал их, возбужденно проговорил:
— Спасибо, спасибо, Раюша. Рассказывай, как ехала, что на вокзале делается, много ли народу?
Не раздеваясь, села у кровати и стала рассказывать.
— А вы на машине приехали? — перебил меня Николай.
— Нет, Коля, — запнулась я. — Не было возможности…
— Ма-мочка! — обиженно протянул Николай. — Ведь я же просил! Почему же вы не приехали?
— Да куда там ехать! Всего три квартала, а на улице целая демонстрация, — сказала Ольга Осиповна.
Я вмешалась:
— Это я, Коля, виновата. Моя инициатива была. Интереснее было пешком пройти, чем ехать.
— Ну ладно, ради сегодняшнего дня прощаю вам эту партизанщину, — пошутил Николай и тут же заторопил: — Скорей, скорей мойся с дороги и одевайтесь, товарищи! Скоро здесь будет Григорий Иванович, а ты, Раюша, наверное, вся в пыли с дороги. Марш, марш!..
В маленькую комнату, где я переодевалась, вошла Ольга Осиповна и тихо проговорила:
— Раюша, милая моя, я хочу тебе рассказать, в каком положении находится сейчас Коля. Ведь он после награждения собирается немедленно ехать в Москву, а ехать ему нельзя. Доктор Павловский говорит, что дней через шесть Колюшке станет так плохо, что он и сам все поймет… Я поняла доктора так, что у Коли… считанные дни остались…
Я молчала потрясенная.
Вошла Катя.
— Вот мы с Катей уговаривали его не ехать, а он и слушать не хочет, — закончила Ольга Осиповна и поднесла к глазам платок.
— Поговори ты с ним, Рая, может быть, тебя послушает, — попросила Катя.
— Если Николаю нужно ехать, едва ли что-нибудь удержит его. Тем более нельзя говорить ему о заключении доктора Павловского. А поговорить, попытаться удержать его здесь попробуем, — сказала я.
— Может быть, ты останешься, Раек, и этим удержишь здесь Колю! — проговорила Ольга Осиповна и посмотрела на меня.
— Едва ли Николай согласится, чтобы я осталась работать в Сочи. А может быть, сделать так: я возьму месяца на три отпуск за свой счет и побуду здесь? Только я сомневаюсь, чтобы Николай согласился на это… если он рвется в Москву.
— Скажи ему, что ты устала и хочешь отдохнуть в Сочи, — попросила Ольга Осиповна. Она надеялась, что это остановит ее сына.
А большой комнатой между тем завладели кинооператоры. Установили прожекторы. Провода змеями расползлись по полу. Лампы — тысячесвечовые солнца с блестящими рефлекторами — свисали с потолка. И когда монтер для пробы включил рубильник, комнату залил ослепительно голубой свет, и ударило жаром,
Николай весело переговаривался с монтерами, шутил. Вспомнил, что и он когда-то занимался этим ремеслом. Торопил нас:
— Ну как вы там? Не закончили еще своих туалетов? Смотрите, одевайте самое лучшее!
Непрерывно работало радио: транслировали митинг.
Вдруг из репродуктора:
— Слово предоставляется Председателю Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Григорию Ивановичу Петровскому:
Николай крикнул:
— Идите сюда! Садитесь и слушайте! Тишина!
Между тем репродуктор разрывался от звуков овации. И вот мы услышали голос старого большевика.
Николай слушал жадно. Глаза его, устремленные в одну точку, радостно поблескивали.
Когда закончилась речь, Николай забеспокоился. Лавина аплодисментов и эхо лозунгов свидетельствовали о том, что митинг закончен.
— Мамочка, Раюша, Катя! Скорей выходите во двор! Встречайте дорогих гостей!
Я задержалась и еще раз крепко пожала Николаю вздрагивающую руку.
Вышли на веранду. За забором, на улице — стеной люди. Веселые, улыбающиеся лица. Увидели нас:
— Привет Николаю Алексеевичу!
— Выносите его сюда!
— Передайте ему цветы!
К дому подъехала машина. Толпа расступилась, автомобиль плавно остановился у калитки. Григорий Иванович выходит из машины. Его сопровождают руководители Сочинского горкома партии.
— Да здравствует всеукраинский староста! — раздался из толпы голос.
— Да здравствует Николай Островский!
Григорий Иванович входит в комнату. Здоровается с Николаем, целует его, нежно касается руки:
— Добре, добре, сынок.
Николай лежит спокойный, улыбающийся. Только бледен очень.
Медленно, четко выговаривая каждое слово, с легким украинским акцентом Григорий Иванович говорит:
— Я очень рад, дорогой Николай Алексеевич, вручить вам орден Ленина и глубоко уверен, что он послужит вам к еще большему увеличению ваших сил и здоровья на дело служения строительству социализма.
Вместе с этим передаю вам все документы к ордену Ленина. Передаю вам также маленькое приветствие Председателя ЦИКа СССР товарища Калинина. Михаил Иванович написал вам несколько строк:
«Уважаемый товарищ Островский! Приветствую и вместе поздравляю Вас с получением ордена Ленина. От души желаю, чтобы эта награда послужила Вам приливом новых сил для Вашей столь полезной работы для народов Союза. С коммунистическим приветом М. Калинин. 21 ноября, 1935 года, Москва».
Горячо поздравляю вас, — продолжил Г. И. Петровский, — с высокой наградой, надеюсь, что она вызовет у вас прилив новых сил для вашей многополезной работы, для дела строительства социализма!
Петровский кончил речь.
Зажглись «юпитеры», ослепительно засверкали. Как огромная цикада, затрещал киноаппарат.
Григорий Иванович склоняется у постели Николая. В руках у него блеснул золотом орден Ленина. Он бережно прикрепляет его к гимнастерке Островского, по-отцовски дважды целует его.
Николай улыбается: видно, как по его щеке медленно скатывается капелька пота.
От горящих «юпитеров», ламп и большого количества народа в комнате становится нестерпимо жарко.
Я вытираю платком потный лоб Николая.
— Подожди, Рая, после, — шепчет он. И, сжав в руке дорогие документы, начинает говорить. Он говорит громко, звонким от волнения голосом… — …Я шел вперед потому, что меня окружала нежная ласка партии. И я теперь радостно встречаю жизнь, которая подарила мне возвращение в строй.
Только ленинская Коммунистическая партия могла нас воспитать в духе беззаветной преданности революции. Я хочу, чтобы каждый молодой рабочий стремился быть героическим бойцом, ибо нет счастья выше, как быть верным сыном рабочего класса, партии. И я могу сказать, что иначе быть не могло. В нашей стране только и могут быть такие молодые люди, ибо за нами стоит наша восемнадцатилетняя красавица, молодая, полная мощи, полная здоровья страна. Мы ее защищали от врагов, растили, вырастили, и мы теперь вступаем в счастливую жизнь, а впереди нас ждет еще более яркое будущее. Это будущее столь пленительно, что никто не может нас остановить в борьбе за него. И вот, как писала «Правда», слепой борец сопутствует великому походу народов…
Погасли «юпитеры». Стало немного прохладнее. Гости собрались уходить — им нужно на пленум. И тут телеграмма:
«Поздравляем с высокой наградой и горячо приветствуем. Мария и Виктор Ульяновы, Крупская».
Все ушли. Мы остались с Николаем одни.
— Раюша, освежи мне одеколоном или водой грудь и лицо: духота невероятная… Если бы не сознание того, что фильм о моем награждении нужен, что этого требует молодежь, которая хочет, но не может меня видеть, — никогда бы не согласился, чтобы меня снимали…
— Знаешь, Коля, — сказала я, начав обтирать его лицо, — мне хочется отдохнуть месяца два в Сочи, побыть с тобой. Так замоталась последнее время с работой, а здесь я буду тебе все же полезна.
— Если устала, я помогу тебе устроить отдых, Раюша, но… сам я собираюсь ехать в Москву. Мне нужен архив. Нужные материалы я здесь получить не могу. Давай лучше поедем вместе, и там я создам тебе все условия для отдыха. Будешь ходить в театры, музеи, читать.
— А может быть, тебе, Коля, не ехать? Архив выпишем. Перезимуем в Сочи… — проговорила я.
— Нет, нет, что ты! Ехать обязательно нужно.
Тогда я решилась:
— Ты знаешь, доктор Павловский категорически настаивает на том, чтобы поездку отложить. Говорит, что дорога тебя… утомит и нет нужды перегружать себя.
— Это моя забота, — ответил он твердо. — Я сам распоряжаюсь собой. Вот посоветуюсь завтра с молодежью. Ехать нужно, и, вероятнее всего, я поеду. Включи приемник, Раюша! В Ривьере, наверно, уже началось…
В этот вечер в театре «Ривьера» состоялся торжественный объединенный пленум Сочинского горкома партии, горсовета и горкома комсомола, посвященный вручению писателю Н. Островскому ордена Ленина.
Под бурные, долго не смолкающие овации в почетный президиум избираются руководители партии и правительства, избираются также Георгий Димитров, Эрнст Тельман…
В деловой президиум избираются Григорий Иванович Петровский, мать, брат и сестра писателя.
…Я включила радио, погасила в комнате свет, устроилась поудобнее у кровати Николая, поправила ему подушки и приготовилась слушать.
Выступали комсомольцы и пионеры. Их краткие речи дышали молодостью и юношеским задором. Николай внимательно слушал.
Вдруг объявили:
— Слово имеет мать писателя-орденоносца Ольга Осиповна Островская.
Николай вздрогнул.
— Ну, мамуся, не подкачай, — с улыбкой проговорил и замер.
Когда утихли аплодисменты, она сказала:
— Милые друзья! Много я вам не буду говорить. Каждый отец и каждая мать поймут мое состояние. Я счастлива, что он еще живет и радует и людей и меня…
— Молодец, старушка, нашла нужное слово, — сказал Николай и облегченно вздохнул.
Выступил брат Николая — Дмитрий Алексеевич.
В заключение с большой речью, неоднократно прерываемой аплодисментами, выступил Григорий Иванович Петровский.
В комнате тесно: пришли гости с подарками. Николай ощупывает руками маленькую, изумительно выполненную в деталях модель вагонетки — она наполнена отборным, высокосортным антрацитом. Черный и блестящий, он отливает на изломах, как полированный. Потом Николай проводит рукой по мраморной доске. На ней укреплена маленькая модель пушки.
Кто-то включает вентилятор, объясняет:
— Это не простой вентилятор, не стандартный, не серийный, а вентилятор-уникум, он сделан без учета себестоимости и затраченного на него общественно полезного труда. А сделан он с одной только мыслью, чтобы любимый писатель, включая его, сказал: «Какую замечательную, удобную, приятную вещь сделали для меня комсомольцы Харьковского электромеханического завода!»
Постель Николая завалена книгами. Это произведения молодых украинских писателей и поэтов.
Читаю надписи авторов на книгах: «Самому мужественному среди нас, самому достойному», «Славе и гордости украинского комсомола».
Николай смущенно улыбается:
— Спасибо, хлопцы, спасибо.
На патефоне одна за другой сменяются привезенные в подарок пластинки. На патефоне — надпись: «Бойцу революции, орденоносцу, писателю Николаю Алексеевичу Островскому от Президиума ЦИК СССР».
Николаю рассказывают, что Харьковский велозавод делает для него специальную передвижную коляску. Он смеется:
— Замечательно! Устрою на ней скоростной пробег Сочи — Харьков.
Член бюро ЦК комсомола Украины говорит:
— Николай Алексеевич, ЦК комсомола Украины от имени всех украинских комсомольцев просит тебя принять участие в украинском съезде комсомола.
— Спасибо, ребята, — улыбается Николай, — большое спасибо. Поскольку я действительный член комсомола Украины, я всей душой с вами, но ведь съезду от присутствия одной только души без тела пользы мало.
— А радио? Протранслируем тебя как полагается!
— Правильно, очень здорово! — оживляется Островский. — Меня съезду, а съезд мне протранслировать! Так и передайте ребятам, что мандат делегата съезда приму с благодарностью.
Николай шутит по поводу своего состояния: температура, по его определению, иногда «устраивает штучки», сердце временами «выкидывает фортели».
— Но все зависит от меня, важно не поддаваться…
В передней — голоса. Еще гости. Пришли старые моряки с легендарного броненосца «Потемкин», хотят поздравить Островского с наградой. Они тоже недавно награждены — по случаю тридцатилетней годовщины восстания на броненосце. И вот славные ветераны революции стоят у постели Николая. Самому молодому из них шестьдесят. Николай тронут их посещением, порывисто, горячо отвечает на их рукопожатия. Он начинает говорить. Как всегда в минуты душевного подъема, он бледнеет. Он говорит о двух поколениях. О них, поднявших гордые знамена восстания, и о своих сверстниках, с честью пронесших это знамя до наших счастливых дней. Он говорит о наших кораблях, о наших лейтенантах, о наших маршалах и о наших матросах.
— Вы подняли знамя свободы, — звонко и отчетливо звучит голос Островского. — Вы начали борьбу за счастье. А мы, — и Николай попытался сделать движение, забыв о своей скованности, он словно хотел обвести рукой комсомольцев, обступивших его кровать. — А мы убережем это счастье и пронесем его в поколения!
Когда он закончил, наступила глубокая тишина. Слышно только, как шуршит вентилятор. Я вижу — один из стариков отошел в глубину комнаты и быстро смахнул слезу. Потом тишина прорывается: комсомольцы взволнованно жмут руки седым ветеранам революции и Николаю Островскому.
А потом — молодой голос:
— Николай Алексеевич! Лучшая ударница Киевской кондитерской фабрики Ната Сидорчук передает вам от имени своих товарищей шоколадный торт.
Торт водворяется на стол, который благодаря заботам Ольги Осиповны и Кати буквально сверкает.
— Спасибо, товарищи кондитеры, за торт, но… — лицо Николая принимает притворно сердитое выражение, — должен вам заявить, что ваш подарок мне определенно не нравится, и я вынужден распорядиться о его немедленном уничтожении. Ребята! Немедленно приступать к ликвидации объекта. Мама! Проследите и донесите мне об исполнении.
Ната с кондитерской фабрики улыбается этому грозному решению и любовно оправляет резную бумажную бахрому под тортом. А гости весело садятся за стол.
— Первый бокал, — говорит, вставая, член бюро ЦК комсомола, — за первого стахановца в литературе!
Гости шумно поддерживают этот тост.
Патефон гремит любимую песню Островского: «И тот, кто с песней по жизни шагает…»
— Споем, ребята! — кричит Николай. И все подхватывают: — «Тот никогда и нигде не пропадет!..»
Назавтра Николай опять заговорил об отъезде в Москву. С трудом мне удалось перевести разговор на другую тему…
День был полон хлопот. Вечером ожидались гости: Григорий Иванович Петровский с женой Доминикой Федоровной, новые комсомольские делегации.
Вот и вечер. Гости, Григорий Иванович, его жена и ребята — комсомольцы с разных заводов и предприятий Украины, отдают должное приготовлениям Ольги Осиповны. А она неутомимо угощает всех, подкладывает закуску. Весело и незаметно идет время. И вот в самый разгар веселья Николай объявляет:
— Дорогие друзья! Я прошу слова!
За минуту до этого шутил, смеялся, и вдруг серьезный, даже несколько официальный тон, прозвучавший таким резким контрастом, что все мгновенно смолкли.
— Так вот, друзья, — начинает Николай. — Мне необходимо ехать в Москву. Для своей будущей книги я должен проработать архивные материалы, первоисточники, огромное количество справочной литературы. Где я могу получить все это? Только в Москве! И следовательно…
— И следовательно, — вставил кто-то, — нужно ехать!
— Правильно! — подхватил Николай. — Но не так смотрят мама и врач… Мама! Не хмурься! Они в один голос требуют, чтобы я оставался в Сочи. И вот теперь я обращаюсь к вам, Григорий Иванович и ребята комсомольцы. Скажите свое веское слово!
Повисло молчание.
Кто-то звякнул о стакан ложечкой; этот звук показался страшно громким.
Григорий Иванович нахмурился и сказал:
— Ехать, сынок, нельзя! — И решительно черкнул ногтем по скатерти.
Я внимательно смотрела на Николая. По его лицу пробежала тень досады.
— Так. Ну а вы, ребята, что скажете? Посоветуйтесь между собой и скажите, ехать мне или нет?!
Комсомольцы отошли в угол и, сбившись в тесный кружок, стали шепотом переговариваться. Я краем уха слушала их разговор — там явно произошел раскол, противники энергично препирались, чувствовалось, что всей душой они хотят помочь Островскому… только как? Московские архивы и библиотеки — это одна сторона дела, а вот московский климат и
переезд по железной дороге…
Прислушиваясь к спору комсомольцев, я улавливала в аргументации тех, кто стоял за отказ от поездки, некоторую нетвердость: ребята искренне понимали Николая, рвавшегося к работе над новой книгой, и охотно одобрили бы его решимость, но мнение Григория Ивановича, старейшего, уважаемого большевика, имело слишком большой вес…
Наконец совещание окончилось.
— Ну, Николай Алексеевич, решение вынесено. Правда, голоса наши разделились…
Николай заметил:
— Так, значит, есть большевики и меньшевики?
— Да, вроде… большинством голосов решили советовать от поездки воздержаться.
Ольга Осиповна просияла.
Николай сдвинул брови, вздохнул.
— Первый раз меня «большевики» не радуют. И вообще все эти решения меня мало устраивают! Но будем собирать голоса дальше. Я человек дисциплинированный и подчинюсь большинству. Итак, Доминика Федоровна, ваше слово!
— Знаешь, сынок, если надо… поезжай!
Николай повеселел.
— Наконец-то! Единственный человек меня поддержал. Дайте пожать вашу руку… Доминика Федоровна, может быть, вы повлияете на вашего строгого мужа, и он переменит мнение, а там…
Николай лукавил:
— А там, может быть, и мои ребята передумают, а? Ну так как, комсомолия? Может, передумали уже?
Ребята смущенно замялись:
Да мы, Николай Алексеевич, хотим, как лучше.
— Понимаю, хлопцы… Спасибо!
Николай помолчал мгновение, словно собираясь с духом, и наконец как-то неуверенно спросил:
— Ну а вы, Григорий Иванович, так-таки при своем мнении и останетесь?
Тут Григорий Иванович махнул рукой:
— Та як жинка каже, то нехай так и буде…
— Вот это здорово! — подхватил Коля. — Рая!
Ну как?
— Я согласна, Коля, — проговорила я.
Все заговорили, зашумели.
Комсомольцы подняли бокалы за здоровье и плодотворную работу Николая.
Николай выпил вместе с нами. У него был вид победителя.
Ольга Осиповна посмотрела в светящееся лицо сына и тихонько покачала головой:
— Ох и упорный же ты у меня. Целый парламент развел, а на своем настоял. Всех сагитировал.
— Недаром же я старый пропагандист, — отшутился Николай.
Он был бледен и счастлив.
18
«Надо торопиться…»
Мысль о создании романа «Рожденные бурей» появилась у Островского в 1933 году, когда он оканчивал вторую часть романа «Как закалялась сталь». Еще надо было написать две главы романа, которые он собирался завершить к 15 мая 1933 года, а в письме к А. А. Караваевой он уже сообщил о новом замысле:
«Сталь» — это первая отливка, труд, созданный в неподходящей даже для крепкого человека общежитейской обстановке. К счастью, у меня еще достаточно неисчерпаемых сил и стремлений к труду над собой, вопрос лишь в том, сумею ли завоевать себе у жизни необходимые мне три-четыре года. Тогда будет создан второй труд».
О чем он собирался писать, каким будет его новое произведение, Н. Островский рассказал в письме, опубликованном в газете «Комсомольская правда» в апреле 1935 года:
«Исполняю ваше поручение и сообщаю, над чем я работаю. Пишу роман. Название ему еще не дал. Оно придет само собой, когда книга будет написана.
Хочу рассказать этой книгой нашей молодежи о героической борьбе украинского пролетариата против кровавого польского фашизма. Хочу показать лицо тех, кто душит трудовой народ Западной Украины и Польши виселицами. Врага надо знать. Хищный стервятник точит когти и каждый час готов кинуться на великую страну социализма.
Книга расскажет о конце 1918 года и начале 1919 года. Западная Украина — Галиция. Большой город. Немецкие оккупационные войска бегут в Германию, преследуемые красными партизанскими отрядами.
В родовом имении крупного помещика графа Могельницкого еще при немцах фашистский штаб организует и подготавливает захват власти. Кто они, эти люди? Крупные помещики — Могельницкий, князь Замойский, Зайончковский, сахарозаводчик Баранкевич, епископ Бенедикт, ксендз Иероним, агент французской «Сюрте женераль» лейтенант Варнери, бывшие офицеры организованного генералом Пилсудским польского легиона австрийской армии. Руководит всем старший сын графа Могельницкого, полковник русской гвардии…
На другом полюсе организуются силы революции. Молодая Коммунистическая партия Польши посылает в город члена своего ЦК, старого революционера Сигизмунда Раевского…
В книге будет рассказано, как коммунисты руководили стихийным революционным движением крестьянства. В жестокой борьбе за власть Советов сплачиваются воедино революционные рабочие — украинцы, поляки, евреи, чехи. Здесь, рядом с отцами, плечом к плечу, их дети. По другую сторону баррикад — польская буржуазия, дворянство, помещики и с ними заодно — украинские помещики, кулачье…
Я уделяю большое внимание революционной молодежи — подпольной ячейке комсомола, работающей под непосредственным руководством партии…
Книга расскажет, как разжигали буржуазия и католическая церковь национальную рознь, натравливая поляков на украинцев и евреев.
Молодежь должна знать всю гнусность и подлость врага, его предательскую двуликость, хитрость и коварство в борьбе с пролетариатом, чтобы в грядущей нашей борьбе с фашизмом нанести ему смертельный удар…
Меня спрашивают, как новая книга перекликается с романом «Как закалялась сталь». Обе книги родственны. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении шестнадцати лет, а новый роман развертывает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении трех-четырех месяцев…»
Летом 1934 года Н. Островский сообщает Новикову, что уже «набросаны» «силуэты новой вещи». В письмах, статьях он много говорит о новом романе, о его героях, 16 августа 1934 года сообщает К. Д. Трофимову:
«Писать же я буду и пишу вторую книгу о молодежи, о новых людях нашей страны, о том, что хорошо знаю. Действие опять происходит на Украине — моей родине, которую я прошел пешком вдоль и поперек. Пишу о том, что ярко запечатлелось, что можно правдиво передать. Не перепевая темы, не повторяя людей, дать новое произведение, волнующее, зовущее к борьбе за наше дело, но в другом сюжете, в другой композиции… Это очень трудно, а для меня в особенности, вот почему я так много работаю, подготавливая материал, организуя его, много читаю и, подготавливая, учусь, прежде, чем начать работать…»
В ноябре сообщает А. А. Караваевой: «Я начинаю свою новую работу, составляю эскизные наброски плана».
А в мае 1935 года он уже отчитывается перед Сочинским горкомом партии: «Я пишу книгу для той молодежи, что поднимается на защиту рубежей своего социалистического Отечества, и встретит огнем и сталью, и уничтожит всех, кто попытается перейти эти рубежи…»
Работа велась очень большая. Нужны были документы, литература, встречи с людьми.
Как-то И. П. Феденев рассказал Островскому, что в одном из санаториев познакомился с Б. Г. Мархлевской, вдовой известного польского революционера. Николай попросил:
— Так познакомь меня с ней. Она сможет мне рассказать о польской буржуазии, о быте в Польше, может, у нее есть литература, нужная мне.
Знакомство состоялось. Бронислава Генриховна оказалась милой, приветливой, душевной женщиной. Много интересных подробностей о Польше рассказала она «товарищу Николаю». Она всех так называла: «товарищ Рая», «товарищ Катя».
Вскоре Островский написал Брониславе Генриховне в Москву:
«Как бы то ни было, но я должен приступить к своей работе, и вот здесь сразу же натыкаюсь на полное отсутствие исторического материала, то есть у меня нет книг, брошюр, статей военного и политического характера, охватывающих период, 1918, 1919, 1920 годы в наших взаимоотношениях с Польшей. То, что есть в моей памяти от давно прочитанного, виденного и слышанного, недостаточно для основы политического романа. Нужно прочесть все заново, продумать и обобщить.
Я буду Вам очень благодарен, если вы сможете узнать… список книг, изданных на русском языке по интересующим меня вопросам, и где их можно купить.
Возможно, есть переведенные с польского на русский язык мемуары Пилсудского или какого-либо иного белопольского лидера. Проработать эту фашистскую литературу мне было бы полезно. Врага надо изучать, тогда вернее будет удар. Особенно важно мне рассказать о первых ростках и собирании сил братской Компартии Польши… Если у вас есть телефон т. Гая
[32] (я думаю, Вы мне писали о т. Гае, бывшем командире краснознаменной дивизии, действовавшей на Польском фронте), то не может ли он мне указать, где добыть эти книги, поскольку он работает над историей гражданской войны, то, наверное, знает это».
В Москве я заходила к Брониславе Генриховне, чтобы узнать ее ответы на интересующие Николая вопросы.
Позднее, уже переехав в столицу, Николай еще не раз встречался с Мархлевской. По его просьбе она составила список польских имен, полных и в бытовом сокращении. Некоторые имена в романе Островский после этого изменил.
Общественный интерес к новой работе Н. Островского был чрезвычайно высок. Ее ждали и в журнале «Молодая гвардия» и в издательстве «Молодая гвардия», о чем свидетельствует письмо Николая Островского к А. А. Жигиревой:
«Молодая гвардия» делает все, чтобы я вернулся и приступил к работе.
Позавчера ко мне приезжал редактор из «Молодой гвардии», договорились о новой книге под условным названием «Рожденные бурей».
Читатели засыпали Островского письмами, которые почти всегда заканчивались словами: «ждем с нетерпением роман» или: «так хочется поскорее прочесть Ваш новый роман», а другие читатели советовали «поберечь себя».
Николая радовали такие письма, и иногда он спрашивал в шутку:
— Так как же мне поступать? Жалеть себя или побольше работать, чтобы поскорее дать книгу читателям?
В общем, эти письма очень поддерживали его. И он, преодолевая болезнь, работал по шесть с половиной часов в день. Он спешил. Он понимал, что любая нелепая случайность может оборвать его жизнь.
В Сочи у Островского был теперь постоянный штатный секретарь А. П. Лазарева. С ее помощью работа шла быстро. К январю 1935 года была вчерне написана первая глава. Еще недели через две — вторая. 8 февраля летит письмо в «Комсомольскую правду»: «Написано три главы. Каким вырастет это второе дитя, не знаю. Хочу, чтобы было умным и красивым». В апреле этого же года пять глав вчерне готовы.
Многие редакции просили Островского прислать для публикации отдельные главы — Островский посылал.
Первой опубликовала пять глав «Сочинская правда»: с 24 апреля по 18 июня 1935 года. Газеты в киосках шли нарасхват. Николай посылал своих близких по киоскам, чтобы закупить побольше экземпляров: ему хотелось послать вырезки друзьям.
Летом и осенью эти пять первых глав появились в журнале «Молодая гвардия» — в № 7, 8, 9 и 10 за 1935 год.
Напряженную работу над романом «Рожденные бурей» пришлось прервать, так как состоялось решение ЦК комсомола Украины о создании кинофильма по роману «Как закалялаеь сталь».
Николай согласился работать над сценарием совместно с кинодраматургом и режиссером Украинфильма Михаилом Борисовичем Зацем. Его радовало, что Павел Корчагин появится на экране.
«В тридцать шестом году, — писал он своему боевому другу Саше Пузыревскому, — увидишь Павку Корчагина в действии…»
Четыре месяца шла напряженная работа. И в сентябре сценарий вчерне был готов. 15 сентября 1935 года Островский рапортовал Г. И. Петровскому:
«Я выполнил свое слово, данное Вам при нашей встрече. Сценарий звукового кинофильма по роману «Як гартувалася сталь» написал».
Вскоре после этого Зац поехал на Одесскую кинофабрику, которая должна была ставить фильм, для переговоров.
В эти же дни Островский получил предложение от Караваевой опубликовать сценарий в журнале «Молодая гвардия» и аналогичное предложение от украинского журнала «Молодняк» из Киева.
17 ноября Островский ответил Караваевой: «Только что получил вашу телеграмму. Тотчас же телеграфировал моему соавтору Зацу в Одессу о высылке сценария, так как он увез черновики с собой…» И через десять дней снова ей:
«…Два слова о сценарии. Мой соавтор М. Зац очень просит тебя обождать, пока он отработает [сценарий] дней через 10…»
И только в начале декабря Островский узнал, что сценарий отправлен Зацем в Москву в журнал «Молодая гвардия» без доработки. Обеспокоенный этим, он пишет соавтору: «С нетерпением ожидаю от тебя отработанный сценарий…»
И в тот же день Караваевой:
«Михаил Борисович Зац послал тебе сценарий. Мы тебя просим: если можешь, повремени с его опубликованием.
Это еще сырье…» (подчеркнуто мною.
— Р. О.).
Письмо задержалось в пути. Прочли его уже после того, как сценарий был напечатан в журнале.
Одесская кинофабрика не приняла сценарий. Фильм не был поставлен.
Тяжело переживал эту неудачу Николай. Больше он не возвращался к сценарию, не писал о нем.
После смерти Островского, в 1937 году, М. Зац опубликовал эту их совместную работу отдельной брошюрой в издательстве «Искусство»…
Островский снова взялся за роман «Рожденные бурей».
Работа над романом шла полным ходом. Но вот она застопорилась: не хватало необходимой литературы. Надо было ехать в Москву для работы над материалами, для встреч с участниками событий, с соратниками по перу. Николай рвался в столицу, но переезд все откладывался не только из-за состояния здоровья, но и из-за отсутствия квартиры. Комната в Мертвом переулке, где я жила в ту пору со своей матерью, была маленькая, без удобств, в перенаселенной коммунальной квартире. Ехать туда — значило снова тесниться и мучиться.
Велись поиски подходящей квартиры. Снять ее не удавалось. Тогда 13 октября 1935 года А. Караваева и М. Колосов от имени журнала «Молодая гвардия» обратились с письмом к И. В. Сталину. По его указанию Моссовет предоставил Николаю Островскому прекрасную квартиру на улице Горького, недалеко от площади Пушкина, — ту самую, где сейчас музей…
Теперь поездка в Москву стала реальным делом.
Мягкий вагон. В купе убраны все спальные места, кроме одного: оно оставлено для Николая. Чтобы расширить полку, подставлены чемоданы, Николай лежит радостный, возбужденный. На груди — орден Ленина.
С Николаем едут его сестра, врач М. К. Павловский, журналист Г. Якущенко и друзья. Проводить Островского пришел на вокзал отдыхавший в Сочи знаменитый машинист-стахановец, орденоносец П. Ф. Кривонос. Перед отправлением поезда Кривонос побеседовал с машинистом паровоза и проинструктировал его, как нужно вести поезд, чтобы не было толчков и рывков.
— До свидания, Николай Алексеевич! Желаем большой удачи и плодотворной работы!
В дороге Николаю читали художественную литературу, иногда заводили патефон, ставили любимые пластинки, хором подпевали. И даже танцевали. По предложению Николая выпустили стенную газету «В Москву!», Проводница М. Д. Кильдишова рассказывала, как ее удивило, что Николай Алексеевич принимал участие в общем веселье, приглашал и их, проводниц, повеселиться вместе:
— Мы с удовольствием приняли приглашение Николая Алексеевича, пели, танцевали и даже написали заметку в газету.
На станциях, где останавливался поезд, Островского цветами встречали делегации комсомольцев и пионеров. В Ростове повидать Островского на вокзал пришли писатели во главе с Шолоховым-Синявским. А в Харькове вагон атаковали студенты университета имени Артема во главе с братом Островского Дмитрием, тоже студентом.
Все это я узнала позже, когда Николай приехал в Москву. В эти дни по заданию Бауманского райкома партии я работала в «тройке» по проверке партийных документов. Трудно мне было вырваться. Но товарищи пошли навстречу, отпустили. И вот я с И. П. Феденевым, А. А. Караваевой и И. А. Гориной поехала встречать Николая. Караваева и Горина отправились в Серпухов, мы же с Феденевым решили ждать поезда в Подольске: из-за больных ног Иннокентий Павлович не рискнул ехать в Серпухов по такому холоду, а я не могла его оставить.
…Ночь. Мороз. Пути занесены снегом. Скользко. Поезд опаздывает. На станции не могут толком сказать, когда он прибудет. Приходится выбегать к каждому прибывающему составу. Много раз возвращались разочарованные. Наконец «наш» поезд. Врываемся в вагон. Но… врач сразу, с холода, к Островскому не пускает. Пришлось предварительно обогреваться. Ожило купе Николая: шутки, смех, разговоры… Незаметно прошли оставшиеся километры.
И только перед самой Москвой, когда на минутку мы остались одни, я узнала, что почти всю дорогу Николая мучили боли в пояснице: проходили камни. Чтобы не огорчать окружающих, он скрыл боли. Лишь врач Михаил Карлович знал, какие муки переживает больной в это время.
Я наклонилась, чтобы поцеловать Николая.
Он шепнул:
— Возьми под подушкой бумажник, открой и достань из карманчика документ.
Я развернула бумажку. Читаю: «Свидетельство о браке». Удивилась:
— Зачем оно?!
— На всякий случай… Я попросил в загсе две копии. Одну для тебя.
Я поблагодарила. Тогда мне все это казалось ненужным, неважным. Я ведь свое свидетельство даже и не хранила: в голову не пришло. Хорошо, что не сказала ему это.
Только когда он умер, я поняла, о чем он думал в тот час.
И вот Москва. На вокзале, среди многих встречающих — работники Моссовета, занимавшиеся ремонтом и меблировкой квартиры. Выяснилось, что квартира не готова. Предложили Островскому несколько дней пожить в гостинице.
— Мне трудно зимой лишний раз переезжать. Если можно, поставьте вагон в тупик, я поживу в нем.
Вагон перегнали в санитарный тупик. Появился новый адрес: «Курская дорога. Вагон Н. А. Островского».
Сюда провели телефон, установили радио.
Снова началась московская жизнь. Это было И декабря 1935 года.
На новую свою квартиру Николай Островский приехал 14 декабря. Вечером попросил рассказать, как расположены комнаты, как меблированы. Это не было простое любопытство. Он непременно должен был все представить себе зрительно. И вот по нашим рассказам он «побывал» во всех комнатах. Особенно его интересовал рабочий кабинет. Тут нельзя было упустить ничего. Все до мелочей он должен был знать, чтобы любой человек по его просьбе мог найти нужную книгу, нужный документ.
В комнате — самое необходимое: кровать, письменный стол — для работы секретарей, радиоприемник, книжный шкаф, диван, два кресла — для гостей. И главное, телефон.
Единственное, чего не хватало и что вскоре было приобретено, — это пианино. Без музыки он не мог…
Несколько дней Николай Островский отдыхал. За это время надо было найти секретаря, так как А. П. Лазарева осталась в Сочи. Помог Г. И. Петровский. Он поручил своему секретарю договориться в Украинском постпредстве, чтобы оттуда отпускали в дневные часы машинистку А. А. Зыбину на работу к Островскому. Так и было сделано.
Теперь надо было связаться с организациями, которые могли дать необходимую литературу. Сделали и это. И вот с января 1936 года Островский продолжил работу над романом «Рожденные бурей».
Из Московской областной библиотеки, из библиотеки Наркомата обороны, из научного кабинета главной редакции истории гражданской войны ему доставляли материалы и документы, относящиеся к эпохе гражданской войны. Он тщательно изучал их, по его заданию мы делали в книгах пометки, к которым он собирался возвращаться во время записи романа.
Какие же книги читал он?
Еще в Сочи Островский прочел книги по списку, который сохранился:
«1.
Н. Е. Кокурин и В. А. Меликов, Война с белополяками. Госвоениздат, 1925.
2. «Гражданская война 1918–1921 гг.». Оперативно-стратегический очерк. ГИЗ. Отдел военной литературы, 1930.
3.
Влад. Меликов, Марна — Висла — Смирна. Государственное издательство, 1928.
4. «Операция на Висле в польском освещении». Перевод с польского под редакцией Будкевича»
[33].
Пользовался Островский книгой «История КП (б) У в материалах и документах», выпуск второй: 1917–1921 гг. Эта книга была прислана Островскому по распоряжению Г. И. Петровского.
В Москве он прочел книгу Пилсудского «1920 год» и книгу подполковника польской армии Артишевского «Острог — Дубно — Броды».
Особенно тщательно проработал следующие издания: «Предательская роль ППС в польско-советской войне», Издательство Военно-политической академии, 1931; «Франция и Польша» Рене Мартеля; «Красная книга». Сборник Наркоминдела о советско-польских отношениях 1918–1920 годов
[34].
Рабочий день Островского начинался рано. Прежде всего он прослушивал последние известия. Во время завтрака ему читали газеты, журналы (он получал 14 газет и 24 журнала) и многочисленные, ежедневно приходившие письма читателей.
К началу работы он был уже умыт, причесан, тщательно выбрит и одет (зимой — в своей любимой гимнастерке). Ни одна минута не пропадала даром.
С девяти часов начиналась литературная работа. Пока не было секретаря (А. А. Зыбина приходила к 12 часам), помогали родные: «добровольные секретари», как он нас называл. Читали ему архивные документы, газеты «Правда» и «Известия» за 1918–1920 годы. Сначала прочитывались только заголовки, и Островский отбирал нужное. Отмеченные выдержки переписывались на машинке и складывались в папку с надписью: «Выжимки». Записывалось лишь самое основное, так как необыкновенная память Островского сохраняла многое из прочитанного.
В длинные зимние вечера и ночи, когда затихала жизнь на московских улицах и дом погружался в сон, Островский продумывал и шлифовал эпизоды романа, чтобы утром диктовать готовые. Все это было непросто. Островский не мог сам фиксировать складывающийся в голове текст, как делают это все писатели, не мог тут же заносить на бумагу художественные находки, которые так важны для каждого автора: удачный оборот, свежий эпитет, хорошую расстановку слов и т. д. Он ничего не мог
попробовать на бумаге. Ему приходилось все удерживать в памяти до момента записи, наступавшего через много часов.
В определенное время к изголовью кровати придвигался маленький столик, за него садился секретарь. Запись велась от руки, так как в ходе работы возникали варианты и поправки. Лишенный возможности видеть готовый текст, Островский вынужден был и последнюю отделку написанного производить на слух.
Диктуя, он всегда держал в руках свою неизменную палочку. По его лицу можно было угадать, о ком и о чем он намерен диктовать. Если лицо его озарялось улыбкой, если юношеским блеском загорались невидящие глаза, если свободно двигалась палочка — это значило, что он со своими друзьями: Птахой, Олесей, Раймондом — они сейчас владеют его воображением, и о них начинается рассказ.
Если же сдвигались брови, лицо становилось суровым и напряженным, руки сильно сжимали палочку — значит, перед ним были Могельницкий, отец Иероним — враги, с которыми он собирался сражаться.
Увлекаясь, Островский иногда переставал диктовать и, забегая вперед, рассказывал о том, что будет с героями дальше. Он был счастлив.
А здоровье было на ниточке.
— Если мой секретариат работает в три смены, это значит болезнь, болезнь меня терзает, — как-то сказал он нам.
Неофициально ЦК комсомола запретил Островскому работать в выходные дни. Мы ухватились за это. Договорились с товарищами, чтоб не приходили к нему в дни отдыха. Отсылали отдыхать и секретарей. Не принимали гостей, которых обычно у нас было много.
Как-то в один из выходных дней остались втроем: Николай, его сестра Екатерина и я. Шутили, много смеялись: с Николаем никогда не было скучно. И в этот день все шутки исходили от него. В общем, всем было весело. А вечером он мне сказал:
— Знаешь, Раек, у меня память очень хорошая, но и она мне иногда подсовывает не то, что нужно. Сядь, я тебе кое-что продиктую.
Было 5 часов вечера. Николай стал диктовать восьмую главу романа «Рожденные бурей». Диктовал он очень быстро и точно.
Глаза его, устремленные в одну точку, были чуть прищурены. Пальцы судорожно выстукивали дробь, когда одна мысль перебивала другую.
Я смотрела на Николая и с жадностью и нетерпением ловила каждое слово. Что ждет героев Раймонда и Андрия Птаху впереди? Чем окончится эпизод захвата охотничьего домика? Какую судьбу им приготовил автор? Несколько раз порывалась спросить: неужели они погибнут? Но боялась перебивать. Писала быстро и все же едва успевала за потоком слов.
Устала. Пальцы начала сводить судорога. Наконец Николай сказал:
— Ну довольно, Раек, молодцы мы с тобой сегодня. Здорово поработали. Который час?
Было четыре часа утра.
— Ну и достанется нам на орехи, — забеспокоилась я.
— Ничего, я все упреки и выговоры приму на себя. Сколько страниц получилось?
— Сорок семь.
— Это рекорд! Дай мне выпить воды и ложись спать.
На другой день я, конечно, получила замечание от домашних: как это я допустила, чтобы в выходной день Островский работал так долго. Но ведь я иначе поступить не могла. Была готова целая глава. Надо было записать ее, освободить мозг Николая. В такой момент отказ от работы только усугубил бы его физическую беспомощность.
В январе 1936 года он закончил шестую главу и написал еще две: седьмую и восьмую. Эти главы были опубликованы в журнале «Молодая гвардия» в мае — июне 1936 года. Все восемь глав и составили первую редакцию романа.
Прежде чем отдавать каждую новую главу в печать, Николай выносил ее на суд друзей. Помню, читалась восьмая глава, та самая, которую записала я. Во время чтения присутствовала Ольга Осиповна, приехавшая из Сочи погостить к сыну. Она стояла, облокотись о спинку кровати у ног Николая, и внимательно слушала.
Речь как раз шла о том, как комсомольцам Андрию Птахе, Раймонду, Олесе, Сарре было поручено охранять в охотничьем домике семью графа Могельницкого, взятую под арест для обмена на партизан, захваченных белополяками в плен.
Комсомольцы нашли в домике гитары и стали петь и плясать. Утомились и уснули. И вот этим воспользовалась графиня Стефания: тихонько вышла из домика и сообщила о месте пребывания заложников.
Домик окружен. Комсомольцы приготовились к обороне. Им предложили сдаться. Они ответили: «Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна!»
И тут Ольга Осиповна разволновалась:
— Что же это будет, Коля? Зачем ты молодых, неопытных комсомольцев поставил в такое трудное положение? Ведь они погибнут! А перед ними только жизнь открывается! Им только жить!
Николай, улыбаясь, ответил:
— Ничего, мамуся, не волнуйся, они молодые, неопытные, поэтому и попали в такое трудное положение. Не раз еще они встанут перед трудностями борьбы, некоторые из ребят погибнут, другие будут искалечены, но в борьбе вырастут закаленными большевиками. Сейчас они потеряли бдительность, но больше это не повторится. А мы, писатели, обязаны помогать молодежи, чтобы она как можно меньше делала в жизни ошибок.
Работа над книгой давала Н. Островскому ощущение, что он в рядах бойцов. И тут, в эти напряженные, полные трудов дни, произошло радостное событие, как бы удостоверившее для Николая тот факт, что он в боевом строю, — его снова взяли на военный учет. 5 февраля 1936 года он пишет брату Дмитрию Алексеевичу: «Дорогой братишка!.. Наркомат обороны вернул меня в армию. Я теперь на учете П[олит] Управления] РККА как политработник со званием бригадного комиссара. Эта военная книжечка в кармане очень для меня дорога…» В этот же день — членам Сочинского горкома: «Еще одна приятная новость. ПУ РККА вернул меня в армию (я ведь 10 лет был снят с учета как
вовсе негодный к военной службе). Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики линии. Мне выдан военный билет политкомсостава и присвоено звание бригадного комиссара».
Эту радость разделяли и друзья Островского. По его просьбе Вера Васильевна Бердникова, работник Наркомата обороны — капитан Красной Армии, купила в военторге комсоставскую гимнастерку, прикрепила к воротнику знаки различия бригадного комиссара — ромбы и звезду на рукаве.
Эту форму Николай Алексеевич надевал в особо торжественных случаях. Первый случай — женский праздник Восьмого марта. Накануне этого дня он написал шуточное письмо А. П. Лазаревой.
«В честь международного женского дня, в знак уважения и дружбы к могущественному полу, я впервые завтра надену свой комиссарский мундир, предстану перед женским большинством в нашем доме как вояка и недодемобилизованный партизан. Пусть сверкают перед их глазами комиссарские звезды, золотые пуговицы, почетный ромб на петлицах и все остальное, что так пленяет сердца красавиц».
Май 1936 года. В Сочи закончилось строительство дома для Островского, этот дом — подарок правительства Украины. Начались сборы к отъезду. Много хлопот, но настроение у всех приподнятое. В предотъездную суету включился и Николай. С его участием отбирали книги из библиотеки, упаковывали и отправляли в Сочи. Закупали и отправляли книжные шкафы, необходимую мебель, шторы для многочисленных окон дома, посуду, хозяйственные мелочи. Купили рояль, и это была не роскошь, а необходимость — в часы отдыха Островский с упоением слушал певцов, которые к нам приходили.
Накануне отъезда устроили товарищеский ужин. Николай предложил тост за удачно проведенную московскую (творческую командировку». К нему все присоединились, пожелали Николаю творческих успехов в новом доме. Было очень весело, и задавал тон сам Николай.
Для переезда в Сочи Островскому был предоставлен вагон-салон. Устроились хорошо, но в пути Николая страшно измотало: наш вагон был прицеплен к хвосту поезда. Кровать с панцирной сеткой только увеличивала страдания: нам приходилось по очереди, наваливаясь на сетку всем телом, сдерживать тряску.
Опять на станциях Николая Островского встречали люди — с плакатами, с цветами. Он находил силы — улыбался… И хотя мы с Екатериной Алексеевной старались «регулировать» эти встречи, сдержать желающих было все равно невозможно.
Наконец прибыли в Сочи. Не чаем, как домой добраться, отдохнуть. Но и тут весь перрон и привокзальная площадь заполнены встречающими. Народу так много, что кажется, все жители города здесь. Едва поезд остановился, в вагон вошли секретарь горкома партии, руководители городских организаций. Пришли приветствовать Островского и пионеры; одна из пионерок тут же, у постели, зачитала приветствие и прочла стихотворение. Ну и конечно, пришла Ольга Осиповна с двенадцатилетней дочерью Екатерины Алексеевны Катюшей. И Левушка Берсенев… Все было торжественно, радостно. Но когда Николай узнал, что перрон вокзала заполнен людьми и его ждут, он попросил перевести вагон на запасный путь и подождать, пока народ разойдется. Всех нас поразило это решение Николая. Но он сказал:
— Одно дело, если бы я вышел к народу под ручку с женой, а так — что, поволокут меня как селедку.
Было и смешно и горестно.
— Подумать, он еще находит силы для шуток, — сказал кто-то из присутствующих.
К вечеру, когда с площади народ немного рассосался, на большом автобусе повезли Николая в новый дом в Пионерском переулке (сейчас это переулок Островского). Но и теперь вдоль шоссе стояли люди, громко приветствовали Николая, засыпали машину цветами. Кто-то ухитрился забросить букет роз в окно, и букет чуть не попал в лицо Николаю: я вовремя поймала его, оцарапав руки.
Отдохнуть после дороги почти не удалось: Островского ждала бригада кинематографистов из Ростова. У них было задание: снять полнометражный документальный фильм о жизни и работе Островского. Как всегда, Николай сказал: «Раз надо, будем делать».
Потянулись съемочные дни. К сожалению, фильм не получился. Не знаю почему, но не смогли его сделать. Сохранилось только несколько кадров. В год смерти Островского их демонстрировали на экранах Москвы. Сейчас эти кадры можно увидеть только в музеях Островского в Москве и в Сочи.
Островский намеревался работать. И тут болезнь. Желтуха. Неожиданная. Больше месяца в полузабытьи. Дежурили у постели дни и ночи. Смерть отступила. Николай стал медленно поправляться. Еще не сошла желтизна с лица, но уже секретарь все больше и больше времени задерживалась у Островского: шла подготовительная работа к записи романа. Ожили и мы. Получали от Николая задания. Жизнь стала постепенно входить в колею. А потом — печальное известие. Умер Горький.
Несколько дней Островский не в состоянии был работать. Продиктовал телеграмму-соболезнование. Тут же отослал ее в «Комсомольскую правду» и на радио.
А когда Горького похоронили, с еще большей энергией взялся за дело, как бы доказывая себе что-то…
«С 17 июля по 17 августа написано 123 печатные страницы. Это невиданное напряжение и темпы», — писал он мне 21 августа в Москву, куда я вернулась, чтобы подготовить квартиру к его возвращению.
Тогда же, в Сочи, он написал новые сцены в роман «Рожденные бурей»; перекомпоновал материал, по-новому распределив его в 12 главах. Для шестой главы романа написал совершенно новый эпизод, который в октябре 1936 года был опубликован в «Правде» под названием «Гудок». Этот рассказ о Васильке, брате Андрия Птахи, год спустя издательство детской литературы в Москве выпустило отдельной книжечкой для детей младшего возраста в серии «Книга за книгой». Но Островский уже не увидел этого…
Его заботило литературное качество нового романа. Островский стремился получить как можно больше критических замечаний по книге, чтобы учесть их при подготовке романа к отдельному изданию.
Буквально в день окончания работы рукопись была послана в 18 адресов: в ЦК ВЛКСМ, в Союз писателей, в издательство «Художественная литература», в отдел критики и библиографии газеты «Правда», в «Комсомольскую правду», в издательство «Молодая гвардия», в Наркомат обороны — К. Е. Ворошилову. Рукопись была послана и в Киев: Г. И. Петровскому, П. П. Постышеву, в ЦК ЛКСМУ, в издательство «Молодой большевик»…
«Сейчас рукопись «Рожденных бурей» послана целому ряду руководящих товарищей для оценки. Если они скажут, что книга достойна печати, будем издавать. Если нет, то я ее положу в архив. Мне незачем «выходить в свет» со скучной и неинтересной книгой», — писал Н. Островский А. А. Караваевой 1 сентября 1936 года.
Ему очень хотелось знать мнение наших ведущих писателей: М. А. Шолохова и А. А. Фадеева.
«Я хочу прислать тебе рукопись первого тома «Рожденных бурей», — писал он Шолохову, — но только с одним условием, чтобы ты прочел и сказал то, что думаешь о сем сочинении. Только по честности, если не нравится, так и крой: «Кисель, дескать, не сладкий и не горький». Одним словом, как говорили в 20-м году — «мура».
В телеграмме к А. А. Фадееву 11 октября 1936 года он писал:
«Дорогой товарищ Александр! Возьми [у] Ставского рукопись первого тома романа «Рожденные бурей». Прочти. 24 октября приезжаю [в] Москву, встретимся, обсудим дружески все недостатки моего романа. Крепко обнимало. Твои Николай Островский».
14 октября из Сочи была послана телеграмма секретарям Союза писателей В. П. Ставскому и А. Лахути:
«24 октября думаю приехать в Москву. Очень прошу подготовить обсуждение романа «Рожденные бурей» президиумом правления [на] моей московской квартире совместно с «Правдой», «Комсомольской правдой», Цекамолом [в] ближайшие после моего приезда дни. [С] коммунистическим приветом. Ваш Николай Островский».
В тот же день была послана телеграмма в журнал «Молодая гвардия», А. А. Караваевой и М. Б. Колосову:
«Дорогие друзья, прошу подготовиться [к] обсуждению романа «Рожденные бурей» на президиуме правления Союза советских писателей [на] моей московской квартире. Думаю приехать 24 октября. Ваш Николай».
За неделю до отъезда в Москву Николай решил собрать друзей и отпраздновать новоселье в своем сочинском доме. На этом празднике присутствовал Григорий Иванович Петровский с женой Доминикой Федоровной. Николай был возбужден и взволнован. Он сказал:
— Есть такая старая традиция — при закладке дома в фундамент его заложить бутылку с бумажкой, где указана дата закладки.
Прошлый год такая бутылка была заложена в фундамент вот этого дома Григорием Ивановичем, нашим вождем и другом, воспитателем комсомольского племени, в том числе и своего приемного сынишки, который старается быть достойным его забот, старается оправдать огромное его доверие… Вот почему, вернувшись в Сочи, я накинулся на работу. Поскольку я парень очень ненадежный, а «Рожденные бурей» должны быть во что бы то ни стало написаны, я не даю себе никакой отсрочки в работе и успокоюсь только тогда, когда книга будет закончена… Я должен жить, чтобы написать книгу, которая зажгла бы сердца молодежи. Я еду в Москву и начну там работать еще стремительнее, чем раньше. Я буду работать в три смены, чтобы к 20-й годовщине октября «Рожденные бурей» были бы полностью закончены. Это огромная и трудная, но и небывало радостная работа. И я никогда не думал, что жизнь может быть такой чудесной
[35].
24 октября Николай Островский вернулся в Москву. Дорога была утомительна, но возбуждение, вызванное непрерывными мыслями о завершении романа «Рожденные бурей», держало его в состоянии постоянного нервного подъема.
С первых же дней Островский начал готовиться к предстоящему у нас специальному совещанию Президиума Союза советских писателей. На совещании стоял один вопрос: роман «Рожденные бурей».
Николай по телефону приглашал людей, мнение которых хотел услышать, спрашивал, прочли ли они рукопись. Сам продумал и составил план совещания. Не забыл и о «буфете», где в перерыве товарищи могли бы перекусить, выпить чаю. Этот «буфет» был организован в комнате Николая, прямо на письменном столе. Заведовала всеми хозяйственными делами Екатерина Алексеевна. Я же должна была неотлучно сидеть около Николая, чтобы выполнять его просьбы. Он трогал меня за руку и тихонько просил то вытереть пот с лица, то что-то принести. Такой связной был нужен, потому что совещание проходило в столовой-гостиной, куда Николая перенесли и где не было звонка, которым Николай пользовался в своей комнате.
Совещание состоялось 15 ноября 1936 года. Присутствовали писатели и критики А. Асеев, В. Герасимова, М. Колосов, А. Серафимович, В. Ставский, Е. Усиевич, А. Фадеев, от «Комсомольской правды» — И. Бачелис и С. Трегуб, друзей Островского представлял И. П. Феденев. Председательствовал секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Л. Файнберг.
Островский взял слово первым:
— Прошу вас по-большевистски, может быть очень сурово и неласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе… Я настойчиво прошу вас не считать меня начинающим писателем. Я пишу уже шесть лет… Подойдите ко мне как к писателю, отвечающему за свое произведение в полной мере как художник и коммунист.
…Мне хотелось сказать о нашей дружбе. Я пришел в советскую литературу из комсомола. Традиции нашей партии и комсомола дают непревзойденные примеры творческой дружбы. Они учат нас уважать свой труд и труд товарища, они говорят о том, что дружба — это прежде всего искренность, это — критика ошибок товарища…
Откройте же артиллерийский огонь. Это даст мне еще больше сил и желания немедленно же приняться за работу, для того чтобы закончить первую часть своего нового романа…
В прениях выступили почти все. По-товарищески говорили и о достоинствах, и о недостатках нового произведения Николая Островского.
— Написано так, что запоминается, — сказал А. Серафимович. — Я запоминаю обстановку, я запоминаю то, что стоит за словами, за действиями у этих людей. Стало быть, дано умело. Мне хочется в порядке тех вопросов, которые у меня возникали при чтении, поговорить с вами… — Он перешел к подробному разбору романа, и заключил его такими словами: — Ваша «Как закалялась сталь» показалась мне сначала теплее и ближе, чем «Рожденные бурей», но я должен сказать, что мастерство у вас выросло. Ведь громадный, сложный материал, а вы его здорово разложили, сорганизовали, связали в одно органическое целое.
Затем слово взял А. А. Фадеев. Он поставил вопрос: «Можно ли говорить об Островском с профессиональной точки зрения?» И тут же ответил:
— Не только можно, но и должно, ибо автор этот — явление крупное.
А. Фадеев тоже отметил, что писательское мастерство у Островского стало выше по сравнению с «Как закалялась сталь», но что «редакторский карандаш должен касаться Островского, как и всех нас касается».
М. Колосов говорил:
— Независимо от погрешностей, которые в этом произведении имеются, писателям и критикам надо понять, что они имеют дело с произведением не начинающего писателя… Островский принадлежит как раз к подлинным, настоящим художникам, каких у нас в литературе немного. Он обладает подлинно художественным восприятием мира, его политическая мысль не абстрактна, а его внутренний мир населен живыми образами людей, характеров, событий и явлений… — И, как бы отвечая некоторым сторонникам того, чтобы отдать роман кому-то из мастеров на стилистическую «инструментовку», М. Колосов заключил: — Мне думается, что нет надобности прикреплять к Николаю Алексеевичу какого-то сверхмастера.
Критик И. Бачелис:
— Смысл этого романа и значение Островского в том, как показаны люди в той пропорции общего и частного, индивидуального и типического, которое здесь найдено. Это то, что нашел Островский и в чем секрет его очарования. Это живые люди, это настоящие люди, которых запоминаешь со всеми деталями… Островский очень скромно обходил вопрос о мастерстве. Напрасно. Из чего складывается настоящее мастерство? Из умения лепить людей, а потом из умения заставить этих людей действовать, чтобы они были все время в напряжении. По части лепки людей Островский на высоте, и по части действия людей у него тоже обстоит все благополучно. Островский сумел сделать то, чего нельзя сказать о многих наших писателях.
Один за другим выступали писатели В. Ставский, В. Герасимова, поэт Н. Асеев, критик Е. Усиевич, И. Феденев. Говорили и о недостатках. Но общее мнение было едино: роман «Рожденные бурей» — новая победа писателя Николая Островского.
В заключение Островский поблагодарил участников совещания, заметив, что критиковать нужно было «еще крепче»:
— В отдельности каждый из нас может ошибиться, как бы талантлив человек ни был, но коллектив всегда умнее, мощнее.
Я привела небольшие отрывки из выступлений на этом совещании. Здесь нет необходимости рассказывать о нем подробнее: выступления участников опубликованы в качестве приложения к роману «Рожденные бурей», выпущенному в издательстве «Молодая гвардия» в 1967 году.
Николай Островский был искренне
благодарен товарищам, принявшим участие в обсуждении романа. В заключительном слове он дал обещание ЦК комсомола работать в три смены и закончить роман через месяц. Товарищи возражали, предлагали поберечь силы, поправиться — все знали о тяжелом заболевании, перенесенном Островским в Сочи, — но он и слушать не хотел, отвечал шутя: «Я лечусь работой».
Долго не мог он уснуть
в тот вечер. Был рад, что работу не забраковали, что все верят в него.
Островский начал «доводить» рукопись.
Перед ним лежали все 12 глав романа с замечаниями и поправками. Тут же был приготовлен чистый экземпляр. Лист за листом мы читали текст вслух, Николай ловил поправки на слух, иногда просил перечитать по нескольку раз, и замечание или принималось полностью, или частично, или же отвергалось совсем. По мере того как текст проходил окончательную редактуру, его передавали мне, по одному-два листа. Я несла листы в соседнюю комнату, на машинку. От машинистки они поступали в столовую, где работал, как говорил Островский, «его штаб», состоявший из добровольцев-друзей, которые занимались считкой готовых листов с правленными.
Николай работал так быстро и напористо, что машинистки (их было две) и «штаб» отставали от него. Каждые 10–15 минут он звонком вызывал меня и передавал отредактированную страницу. Интересовался, как идет работа, много ли ошибок делают машинистки.
— Ошибок почти нет, — отвечала я.
— Смотрите, не подведите меня. Ведь я борюсь за качество. А вас там собралось много, наверное, болтаете…
Уже окончательно готовые главы сброшюровывали и отправляли в издательство. Редактором книги была И. Горина.
Так работали — с утра до поздней ночи — целый месяц. Месяц, установленный самим Островским как срок «доводки» романа. Месяц лихорадочной работы.
Мы, близкие, знали, что Николай торопится не потому только, что сам установил себе деловой срок. Иногда, когда все расходились и мы оставались в «узком кругу», он говорил:
— Надо торопиться, Раюша, надо очень торопиться!
Я не могла найти сил, чтобы возразить ему, но во мне что-то сжималось от этого: «очень торопиться»…
Он торопился. Около него одни сменяли других. Утомленные напряжением восьмичасовой работы, люди уходили отдохнуть, а Островский работал. Работал непрерывно, по 18 часов в сутки. Замечания обдумывал по ночам, а утром, когда появлялись помощники, не терял лишнего времени на размышления.
14 декабря 1936 года была закончена работа над первым томом. На вновь отпечатанных экземплярах рукописи, на первой странице, в верхнем правом углу, была поставлена надпись: «Окончательная редакция». С такой пометкой рукопись пошла в издательство. Тем не менее редактором было внесено в текст около трехсот поправок. С этими поправками и вышло первое издание романа.
Последующие издания стали выходить в «Окончательной редакции», которую создал сам автор.
Роман «Рожденные бурей» был задуман Островским в нескольких томах. Завершил он только первый том. Но, работая над романом, он иногда рассказывал о дальнейшей судьбе героев романа.
«Олеся станет женой Щабеля, мужественного комдива, которого она предпочтет Андрию, но она скажет: «Буду твоей, только когда кончится война». Но Щабель как-то в пьяном виде срывается, и Олеся не простит ему измены. А тут встреча с Андрием, случайно только уцелевшим в боях, в которых он, потеряв Олесю, полный отчаяния, искал смерти. Теперь они вместе.
Интересна и необычна судьба Пшеничка. Он в бою лишается ноги и становится обузой для отряда. Он чувствует себя ненужным, плачет с горя — для чего жить? Он здоров, полон сил, красив, но не находит себе применения. И вот весной он встречается на мельнице, где он работает, с Франциской. Она пожалела его своим большим женским сердцем, пригрела своей любовью. Но не могла долго остаться с ним; страдала ее женская гордость, когда на ее друга и на нее смотрели с жалостью. И она ушла от него.
Пшеничек инстинктивно тянется в отряд. Он просится к партизанам, но его высмеивают и грубо отталкивают: «Иди гусей пасти. А нам не время с тобой возиться!» Он все-таки умолил взять его хоть кашеваром — он ведь кондитер по профессии. Его привезли на становище, и он стал варить кашу и печь пироги с яблоками, такие необыкновенно вкусные, каких партизаны и не пробовали раньше. Он завоевал общую любовь.
В нем, однако, было
сердце бойца. Он не мог примириться со своей судьбой. Он чистил пулеметы бойцам, помогал разбирать их и так изучил это, что мог с закрытыми глазами разобрать и собрать пулемет.
Так он стал пулеметчиком, страшным для врагов. Пошла слава о безногом пулеметчике, который не знает промаха и не знает страха. Он получает два ордена. Теперь он уже с ногой — ему сделали протез. Он как победитель встречается с Франциской, и она возвращается к нему».
Смерть помешала Островскому написать все это.
Но первую книгу он завершил.
Правда, он не дождался ее издания: он умер, когда текст набирали в типографии.
Рабочие, узнав о смерти Николая Островского, работали бессменно: решили выпустить книгу ко дню похорон. И мы, родные, получили в день похорон это первое, траурное издание «Рожденных бурей» с памятной надписью от Центрального Комитета ВЛКСМ.
Это было 26 декабря 1936 года.
Мне остается рассказать совсем немного.
19
В общем строю
Давайте представим себе на минутку объем его работы в последние годы, когда он уже стал признанным писателем. Я имею в виду не основное его дело — работу над текстом романов, а всю общественную деятельность, круг общения с людьми, беседы, статьи, переписку…
Перечислю лишь некоторые его публицистические выступления за эти последние годы.
1934 год. А. М. Горький поднимает вопрос о языке художественной литературы. Журнал «Молодая гвардия» открывает раздел: «Дискуссия о языке». Николай Островский пишет статью «За чистоту языка».
1935 год. Его родная газета «Комсомольская правда» отмечает свое десятилетие. Он приветствует ее.
В газете «Сочинская правда» организована литературная страница. Он пишет обращение к молодым читателям.
По инициативе А. М. Горького создается сборник «День мира». Обращаются к Островскому с просьбой написать статью. Он пишет об обыкновенном своем дне — «Мой день 27 сентября 1935 года».
Статья «Счастье жить» написана в самый радостный день его жизни, когда страна наградила его орденом Ленина.
К 18-й годовщине Великого Октября он пишет статью «Счастье писателя» — для украинской газеты «Коммунист».
В период подготовки к X съезду комсомола Н. Островский избирается делегатом на различные районные, областные, краевые конференции комсомола: на краевую конференцию писателей Азово-Черноморья, на VIII Молдавскую областную конференцию, на IV Харьковскую городскую конференцию… Винницкий областной комитет просит «вручить настоящий мандат писателю тов. Островскому, организатору Шепетовской КСМ организации нашей области на II Областную конференцию Винничины»… II районная конференция комсомола Хреновского района Воронежской области избирает Островского почетным членом президиума «как лучшего, стойкого бойца революционера, любимого комсомольского писателя, энтузиаста, вселяющего в нас настойчивость в достижении целей и уверенность [в] дело Коммунизма». «Мы возбуждаем ходатайство перед Областной конференцией избрать тебя на X съезд Ленинского комсомола», — писали Островскому делегаты этой конференции 20 февраля 1936 года.
Эти события напомнили ему не менее радостный день — 20 октября 1933 года, когда сочинская комсомольская организация, готовясь к пятнадцатилетию ВЛКСМ, вручила ему новый комсомольский билет. В те дни он писал Жигиревой: «Сочинская комсомолия обменяла мой старый боевой билет, и рядом со своим партийным папашей лежит маленький билетик Ленинского комсомола, принадлежащий члену ВЛКСМ с 1919 г. Островскому Н. А. На нем № 8144911».
Шепетовские комсомольцы избирают Н. Островского своим делегатом на IX Всеукраинский съезд комсомола.
Заседания съезда, проходящие в Киеве, транслируют Островскому по радио.
6 апреля 1936 года. Репродуктор стоит у его изголовья; стараясь не проронить ни слова, Николай с жадностью слушает речи выступающих.
— Я самый аккуратный делегат, — шутит он. — Я «хожу» на все заседания и внимательно слушаю выступающих.
Наконец председатель объявляет:
— Слово предоставляется делегату, писателю-комсомольцу Николаю Островскому.
Гром аплодисментов долго не смолкает.
— Дорогие товарищи! — взволнованно начинает Островский свое выступление по радио. — Шлю свой пламенный комсомольский привет съезду молодых победителей, лучшим сынам Советской Украины, собравшимся на свой IX съезд. Дорогие друзья! Десять лет прошло с того дня, когда я последний раз выступал на конференции комсомола. Жестокая болезнь пыталась оторвать меня от родной комсомольской семьи, но это ей не удалось…
Свое выступление Островский посвятил молодому человеку нашей эпохи, его героизму, его верности социалистической Родине.
— Мировые рекорды труда, мировые достижения, огромный рост культуры, жажда знаний — вот чем охвачена наша страна, страна мирных строителей. Знамя мира поднято над нашей страной. Знамя прекрасное — оно надежда всего человечества… Мы все — в мирном труде, наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко… Мы стали заветной мечтой всех трудящихся мира.
Во время этого выступления я находилась рядом с Николаем. В руках у меня была тетрадь — в ней я накануне по просьбе Островского записала крупно красным карандашом вопросы, по которым он собирался выступить. Я должна была тихонько, чтобы не было слышно в микрофон, напоминать ему порядок вопросов.
Когда мы договаривались об этом накануне, я спросила:
— А как я узнаю, что ты уже кончил говорить по предыдущему вопросу?
И Николай придумал. Взяли небольшой кусочек шнура. Один конец держал он, другой я. Условились, что он даст мне знать, дернув слегка шнур.
Но этого всего не понадобилось. Текст он помнил прекрасно.
Делегаты Всеукраинского комсомольского съезда утвердили предложение Винницкой областной конференции и избрали Островского на X Всесоюзный съезд комсомола. Съезд проходил в Москве в середине апреля 1936 года, и работу его транслировали из Кремлевского дворца в квартиру Н. Островского. На этом съезде он тоже должен был выступить, помешал очередной приступ болезни.
В январе 1936 года к нам обратились из радиокомитета с просьбой записать на пластинку отрывок из романа «Как закалялась сталь» в исполнении автора.
Островский согласился не сразу. Ведь надо было прерывать основную работу, готовиться. Но, как всегда, решил: раз надо, значит, надо. Он выбрал отрывок из восьмой главы второй части романа. Память у Николая была отличная, и до сих пор ходит легенда, будто Островский знал весь роман «Как закалялась сталь» наизусть. Но это неверно, да и не нужно было это. А вот для того, чтобы прочесть отрывок для записи, его надо было действительно выучить наизусть. И по вечерам, после работы, Николай учил его.
Несколько раз я проверяла, правильно ли он читает. В трех или четырех местах, где он «спотыкался», я ставила галочки. Это значило, что во время записи я должна напомнить ему текст.
В день записи приехал автофургон с аппаратурой. Через окно в столовой протянули провода в комнату Николая. Он лежал с наушниками, соединенными с полевым телефоном в прихожей. У телефона села я с книгой и тоже с наушниками.
На одной стороне пластинки запись прошла гладко. Неплохо начал он и вторую часть, но вдруг по привычке, как делал он это во время диктовки романа, сказал слово «точка».
Пластинка была испорчена. И хотя Николай очень устал от напряжения, но согласился повторить отрывок.
Второй раз дело испортила я: не сумела вовремя подсказать фразу. Получилась большая пауза в тексте. Надо снова переписывать. Но сил у Николая уже совершенно не было. Он отказался. Да и я слишком разнервничалась; где гарантия, что будет лучше?
Так и пришлось товарищам уничтожать «точку». Запись эту, далеко не совершенную, можно прослушать в музеях Николая Островского в Москве и Сочи.
Люди, впервые переступавшие порог его комнаты, поражались его виду. Девять лет человек пролежал недвижно на спине. Могли двигаться только кисти рук с длинными пальцами музыканта. Он был худ и бледен, иссушен мучительной болезнью. Лишь в чудесных темно-карих глазах, окаймленных черными бровями и ресницами, не угасал огонек жизни. Они оставались ясными и прозрачными: казалось, что Островский все видит, хотя был он совершенно слеп.
Он улыбнулся, начал говорить — и посетители забыли, что перед ними тяжелобольной. Ему не хотелось вызывать у людей жалость. «Я совершенно здоровый парень. А то, что у меня не движутся руки и ноги, — это какое-то недоразумение…» Скрывая свои страдания, он цэ-сто повторял, что жизнь хороша и что он счастлив.
Ото говорилось вполне искренне. Ему нравилось, когда вокруг люди, и оживленно, и шумно; он любил споры, музыку, пение. И сам любил петь с друзьями. Таким был в далекие годы простой парнишка-комсомолец, таким Островский остался и в последние дни.
После выхода книги «Как закалялась сталь» отыскались многие старые друзья. Откликнулась бывшая медсестра Харьковского медико-механического института А. П. Давыдова, комсомольские работники двадцатых годов П. Кущ, М. Родкина, друзья юности Л. Борисович, Л. Беренфус…
Его постоянно можно было видеть в оживленной беседе с друзьями, с писателями, драматургами, артистами. Только за последние три года Николая Островского навестили: А. Афиногенов, В. Герасимова, М. Залка, В. Киршон, Б. Левин, Ю. Либединский, А. Новиков-Прибой, И. Рахилло, А. Серафимович, В. Ставский, А. Фадеев, М. Шолохов: поэты: А. Безыменский, С. Васильев, А. Жаров, В. Инбер, М. Светлов, И. Уткин, критики: К. Зелинский. С. Кирьянов, С. Трегуб.
Побывали у Островского и украинские писатели: А. Корнейчук, А. Головко, М. Зац, П. Панч, Н. Упеник и писатели-адыги: Т. Керашев, А. Хатков.
Приходили к нему сотрудники издательств Москвы, Киева, Минска. Навещали Анна Караваева и Марк Колосов: дружба, начавшаяся в совместной работе еще в 1932 году, не ослабевала до последних дней Николая Алексеевича.
Осень внимателен к Островскому был А. Серафимович. Высоко ценя дарование Островского, Серафимович в то же время ясно видел, чего ему недостает, и не жалел времени и сил, чтобы помочь Островскому в литературной работе. Островский это чувствовал, он уважал и любил Александра Серафимовича. Беседы их затягивались на долгие часы…
«Трижды был у меня А. Серафимович. Старик сделал подробный анализ моих ошибок и достижений. Очень и очень полезна мне эта встреча…» — писал Островский А. Караваевой 14 мая 1934 года. И еще, в письме в редакцию «Литературной газеты» от 11 апреля 1935 года: «А. С. Серафимович отдавал мне целые дни своего отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику свой опыт. И я вспоминаю об этих встречах с Серафимовичем с большим удовлетворением».
Глубокое уважение испытывал Николай Алексеевич к М. А. Шолохову. Островский прочитал «Тихий Дон» еще в 1929 году и сразу высоко оценил это замечательное произведение. Дружба между писателями началась позже, уже после выхода в свет романа «Как закалялась сталь». В ноябре 1935 года Островский подарил Шолохову свою книгу с такой надписью: «Товарищу Мише Шолохову, моему любимому писателю. Крепко жму Ваши руки и желаю большой удачи в работе над четвертой книгой «Тихого Дона». Искренно хочу победы.
Пусть вырастут и завладеют нашими сердцами казаки-большевики. Развенчайте, лишите романтики тех своих героев, кто залил кровью рабочих степи тихого Дона. С коммунистическим приветом! Н. Островский».
В ноябре 1936 года в Москве Шолохов со всей семьей посетил Островского. Этой встречи Островский ждал как праздника. Знакомясь с малышами — детьми Шолохова, он раздал им подарки, много шутил и смеялся с ними. Оставшись вдвоем, писатели много и горячо говорили. Николаю Алексеевичу очень хотелось знать мнение Шолохова о романе «Как закалялась сталь». К сожалению, их разговор не был записан, и восстановить его не удалось.
Нередко заходил к Островскому венгерский писатель Мате Залка. Живой, энергичный, красавец Мате не мог усидеть на месте. Во время разговора он обычно шагал по комнате. Они много спорили, и Николай в спорах не уступал.
Из письма Н. Островского А. Караваевой:
«Вчера открывается дверь и входит товарищ Мате. Я встретил его восклицанием: «А, кометы возвращаются!..» О Мате я тебе не буду писать, ты его знаешь больше меня. Этот венгерец не может не стать моим другом, если подойти к нему без предвзятости, просто так, как он подходит к тебе. С такими ребятами даже умереть не скучно».
А вот свидетельство Мате Залки:
«Впечатление, которое произвел на меня Островский, можно назвать резко контрастным. И главным образом, оно было ободряющим. То, что Николай лежит, что он разбит, не видит и т. д., — это все внешнее. Сущность: это силач, доблестный парень, боец, да, в нем все еще чувствуется красноармеец. Он полон жадности к жизни и любви к тому, что творится вокруг. А то, что он физически таков… это кажется даже ерундой, атрибутом, правда, страшноватым, но преодолимым, временным и, безусловно, не окончательным…»
Читатели романа «Рожденные бурей» легко угадают Мате Залку в образе храброго и пылкого революционера-венгра Шайно…
В последние годы бывали у Николая Островского артисты, музыканты, художники. Из композиторов К. Данкевич, С. Кац. Был председатель Комитета по делам искусств П. Керженцев, солисты Большого театра П. Лисициан, С. Хромченко, певица В. Духовская, чтец Д. Игнатьев, пианистка Т. Македонова.
Художник Яр-Кравченко и немецкий художник-антифашист Фогелер рисовали Островского. Портрет работы Яр-Кравченко был издан массовым тиражом, живописный портрет работы Фогелера передан мною на хранение в Музей Н. Островского в Москве.
Встречался Островский с И. Судаковым и другими руководителями ТРАМа (Театра рабочей молодежи), готовившими спектакль по роману «Как закалялась сталь». К сожалению, Островский не увидел спектакля — он был поставлен в ТРАМе после его смерти, в 1937 году.
Бывали у Николая Островского В. Э. Мейерхольд, артисты З. Райх, М. Царев.
Интересной была встреча с артистами Московского театра имени Ермоловой. Собрались все около Николая на открытой веранде нового дома в Сочи. Артисты исполнили сцену Мити и Любови Гордеевны из пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок».
Н. Островский сказал:
— Слушая ваши голоса, я думал, жизненно ли передается чувство. Игру Любови Гордеевны я почувствовал хорошо. Такие женщины есть в жизни… Митя в передаче Лекарева очень решителен… Подневольного, забитого человека можно показывать по-всякому. Все мы знаем, что судьба часто ставит человека на колени. Но можно ползать на коленях так, что хозяин взглянет и подумает: «Ну, сегодня он ползает, а завтра встанет и повесит меня…»
Очень веселой была встреча со студентами Московской консерватории. Пришли они к Николаю на улицу Горького, чтобы исполнить любимые его музыкальные произведения. Среди многих классических вещей была исполнена музыка Чайковского из балета «Лебединое озеро», «Соловей» Алябьева, «Полет шмеля» Римского-Корсакова.
Когда окончилась официальная часть, Островский обратился к молодежи:
— Все ли пришедшие комсомольцы?
— Да, все мы комсомольцы! — с гордостью ответили студенты.
— Тогда давайте забудем, что вы — будущие артисты, а я — писатель, давайте дружно, хором, по-комсомольски грянем боевые песни, как когда-то певали. И спляшем. Правда, плясать я не смогу, но в пении от вас не отстану…
И он как опытный запевала уверенно начал песню и повел за собой хор: его красивый голос не потерял от болезни ни тембра, ни силы.
А когда молодежь пустилась плясать, казалось, и он вот-вот вскочит с кровати и закружится…
Певица В. Духовская, гастролируя в Сочи, не раз бывала у Островского и исполняла песни под аккомпанемент композитора Сигизмунда Каца. Почти всегда концерт заканчивался «Орленком». Островский любил эту песню; слова «не хочется думать о смерти, поверьте, в шестнадцать мальчишеских лет» напоминали ему его юность.
Приходили к Островскому летчики, Герои Советского Союза В. П. Чкалов и А. В. Беляков (Г. Ф. Байдуков был болен), только что совершившие рекордный перелет из Москвы на Дальний Восток (их перелет в Америку был еще впереди). Навестили Островского делегаты X съезда комсомола: стахановцы, моряки, пограничники, школьники. Навестили и участницы спортивного перелета на учебных самолетах «У-2» Киев — Сочи — Киев Аня Доценко, Женя Зеленская и Зина Якушева, вместе с ними пришел секретарь ЦК комсомола Украины Сергей Андреев.
«Огромный человеческий конвейер» — так называл эти встречи Островский.
Широкое общение с разными людьми, живые беседы и споры, дружеская критика — все это делало жизнь Николая Островского насыщенной, полной. И надо сказать, он был легок в общении, обладал большим чувством юмора, любил посмеяться, пошутить и этим привлекал к себе людей. Только двоедушия не выносил. Открытый и искренний сам, он любое недоразумение выяснял сразу, старался быстро вывести «на чистую воду» тех, кто ее мутил. Если человек, которого Островский считал другом и которому верил, обманул его хоть раз, — разрыв с таким человеком бывал неизбежным и окончательным.
Еще не любил нытиков, людей, которые не умели радоваться. Таких Островский называл «людьми с рыбьей кровью».
Когда кончался рабочий день, в комнате Николая собирались все, кто в это время находился дома. Заводили патефон, танцевали, пели.
К кровати Островского были проведены электрические звонки. Это чтобы он мог всегда вызвать нужного ему человека. Иногда он ради шутки давал частые звонки, поднимал «тревогу»!
Как-то мы обедали в столовой. Вдруг раздаются частые звонки. Мы бросили все, вбежали к Николаю в комнату:
— Что случилось?
— А все пришли по тревоге?
— Да, все. А у тебя что случилось? — допытывались мы.
— Нет, вы скажите, все или не все пришли?
Узнав, что пришли все, он похвалил нас:
— Молодцы! У меня ничего не случилось, просто я проверяю вашу боевую готовность. Как быстро вы сможете прийти, когда будете нужны.
Он не мог без людей, всегда должен был знать, что люди рядом.
От земного, от реальности не отрывался никогда. Интересовался абсолютно всем, вплоть до того, много ли народа на улицах, что есть нового в магазинах, особенно для женщин. (Окружали его в основном женщины.) Он любил делать подарки. Как-то он подарил своей маме часы-брелок. Ольга Осиповна пришла его благодарить и с удивлением спросила:
— Откуда же ты узнал, что мне хотелось иметь такие часы?
— Так я угадал? Ты их хотела? — обрадовался он. — Если это так, значит, моя разведка хорошо работает!
«Разведка» — так называл он тех, у кого узнавал интересующее его. По заданию Николая мы ходили смотреть нужные ему фильмы, спектакли.
— Откуда он знает такие подробности, ведь он не видел этого фильма? — спросил нас однажды его гость.
Мы были его глазами…
Почти все, кто приходил к Островскому, удивлялись его осведомленности, его жизнелюбию.
Помню, явился рабочий парнишка. А прощаясь, сказал мне:
— Собираясь к Островскому, я хотел влить в него бодрость, эликсир жизни. А получилось иначе. Не я это сделал, а он: он мне влил этот эликсир. И вот теперь мне кажется, что я смогу свернуть горы…
30 сентября 1936 года к Островскому в Сочи приехал московский корреспондент лондонской газеты «Ньюс Кроникл» господин Родман. Беседа длилась долго. Родман задал Островскому много вопросов, и среди них такой:
— Скажите, если бы не коммунизм, вы могли бы так же переносить свое положение?
— Никогда! — ответил Островский.
А в беседе с лечащим врачом Михаилом Карловичем Павловским сказал:
— В деле моего самодисциплинирования огромнейшую роль сыграла партия. Я как-то рос с нею. Она боролась, напрягая все свои силы, она росла, крепла и сметала со своего пути все препятствия. Так же делал и я. Я маленькая дождевая капля, в которой отобразилось солнце партии.
Читатели буквально засыпали его письмами.
Беру почти наугад из потока:
«…Прочитав книгу «Как закалялась сталь», я подал заявление о вступлении в комсомол…» (Строитель из Москвы.)
«…В клубе Морзавода в Кронштадте состоялся доклад о книге «Как закалялась сталь».
…Готовясь к встрече XIX годовщины Октября, моряки парохода «Сухона» закончили коллективную читку романа, о чем они радиограммой сообщили Островскому
[36].
Как началось в 1935 году, так и по сей день продолжается. И сейчас в письмах, которые приходят в музеи Островского или лично мне, читатели сообщают о своих делах, победах.
А сколько с именем Островского связано страниц в жизни нашей армии! Во время Великой Отечественной войны книги Н. Островского буквально были в строю сражающихся. Он это предчувствовал. В выступлении на радиоперекличке городов Сочи — Киев — Шепетовка 12 октября 1935 года говорил:
— Когда грянет гром и настанет кровопролитная ночь, я глубоко уверен, что на защиту родной страны встанут миллионы бойцов — таких, как Павел Корчагин. Но меня среди вас уже не будет. И я прошу вас — рубайте за меня, рубайте за Павку Корчагина…
Так и было, когда час военного испытания пробил.
В музеях Николая Островского Москвы, Сочи, Шепетовки хранятся книги «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», которые вместе с бойцами шагали по дорогам Великой Отечественной войны. Некоторые из них залиты кровью раненых или погибших фронтовиков, некоторые пробиты вражескими пулями, обгорели. Вот история только одного экземпляра книги.
…Перед уходом на боевое задание экипаж катера СК-065 посетил Музей Н. Островского в Сочи. Там моряки встретились с матерью писателя. Ольга Осиповна подарила им однотомник произведений Островского: «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». Уходя в море, член экипажа Григорий Куропятников взял эту книгу с собой. В том бою на катер налетели фашистские самолеты. Катер загорелся, пламя быстро распространялось, взрыв был неминуем. Григорию Куропятникову оторвало руку… Но, обливаясь кровью, он дополз до проводов, перегрыз их зубами и предотвратил катастрофу. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Пострадала и книга. Ее страницы прострелены, обожжены, обагрены кровью.
Сейчас эта книга — в Ленинградском военно-морском музее.
А в Музее Островского в Москве хранится еще один экземпляр книги «Как закалялась сталь» — он издан в блокированном Ленинграде.
Музеи хранят свидетельства того, как все эти годы, прошедшие со дня смерти Николая Островского, его книги оставались в первых рядах борцов. На каждом этапе жизни нашей страны. На всех фронтах. Во всех концах мира.
Имя Николая Островского присваивается институтам, техникумам, школам, комсомольским организациям, пионерским дружинам, классам, производственным бригадам, целинным зерносовхозам, большому морозильному рыболовецкому траулеру в Петропавловске-на-Камчатке, теплоходам и т. д.
Когда 13 мая 1972 года вышел в первое плавание по маршруту Москва — Ростов-Дон — Москва теплоход, названный именем писателя, горьковский поэт-публицист Александр Цирульников написал посвящение:
А тебе к лицу наряд матросский,
ты волгарь отныне навсегда.
«Здравствуй, здравствуй,
«Николай Островский»! —
встречные приветствуют суда.
Книги Островского учат горячо и самозабвенно работать. Среди бригад коммунистического труда есть и бригады, носящие имя писателя или героя романа «Кат: закалялась сталь» — Павла Корчагина. Их можно встретить в Москве, Ленинграде, Киеве, Грозном, Шепетовке, Львове, Раменском и других городах.
Отмечая шестидесятилетие Островского, комсомольцы шахты № 22 ордена Ленина треста «Ленинуголь» сообщали в московский музей, что они стали на корчагинскую вахту. «Герой книги Николая Островского Павка Корчагин стал для нас символом вели, силы, мужества, преданного служения Родине, примером в труде».
Корчагинская вахта была объявлена и на Горьковском автозаводе. Каждая машина, выпущенная в дни юбилея Островского комсомольцами завода, получала дополнительный красный паспорт «Комсомольская гарантия». На ветровом стекле машины гордо сияла эмблема корчагинцев.
Ежегодно новое поколение молодежи вливается в ряды корчагинцев.
В марте 1973 года комсомольцы — юноши и девушки из пятнадцати республик нашей страны создали Всесоюзный ударный комсомольский отряд в составе 1200 человек. Они изъявили желание работать на ударной комсомольской стройке кислородно-конверторного цеха Новолипецкого завода — крупнейшей стройки третьего, решающего года пятилетки.
30 марта состоялось заседание Бюро ЦК ВЛКСМ, в решении которого записано:
«Придавая важное политическое значение созданному отряду, его успешной деятельности, Бюро ЦК ВЛКСМ постановляет: Присвоить Всесоюзному ударному комсомольскому отряду на строительстве кислородно-конверторного цеха Новолипецкого металлургического завода имя «Корчагинец»…
ЦК ВЛКСМ выражает твердую уверенность, что отряд «Корчагинец» оправдает высокое доверие, что все бойцы отряда будут работать по-корчагински, покажут образцы самоотверженного, высокопроизводительного, героического труда, внесут значительный вклад в сооружение крупнейшего объекта черной металлургии девятой пятилетки…»
В этот же вечер в Театре имени Ленинского комсомола встретились бойцы этого отряда. Ожил зал… Долго не смолкали голоса выступающих. Гремела музыка, лилась задорная комсомольская песня…
На митинге было принято письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду Ильичу Брежневу.
«Мы, члены Всесоюзного ударного отряда «Корчагинец», — писали комсомольцы, — собрались на митинг в зале, где на III съезде РКСМ Владимир Ильич Ленин дал комсомолу наказ быть ударной группой, во всякой работе проявлять свою инициативу, свой почин. Партия и комсомол доверили нам участвовать в сооружении важнейшего пускового объекта девятой пятилетки — кислородно-конверторного цеха Новолипецкого металлургического завода…
С чувством большой гордости и ответственности мы будем трудиться на сооружении Липецкой Магнитки, внося конкретный вклад в выполнение исторических решений XXIV съезда партии, декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС…
Наш тысячный отряд «Корчагинец» — первый среди ударных комсомольских отрядов, которые Ленинский комсомол направляет в решающем году пятилетки на важнейшие стройки. Эту честь мы оправдаем…»
В апреле 1974 года в Москве работал XVII съезд ВЛКСМ. Посланцы молодежи отчитывались перед страной о своих делах. Николай Островский незримо присутствовал на съезде. Первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины товарищ Гиренко в своем выступлении напомнил делегатам:
«В этом году исполняется 70 лет со дня рождения Николая Островского, пламенного певца комсомольской юности, сталь характера которого закалялась на фронтах гражданской войны, на первой ударной стройке киевского комсомола — легендарной узкоколейки. Между тем временем и нынешним пролегли десятилетия. Сегодня неизмеримо возросли масштабы комсомольских дел, но вечным останется неукротимый корчагинский дух, страстная жажда подвига во имя великой цели. Юность наших дней, выполняя важные поручения партии-, с энтузиазмом берется за строительство крупнейшей железной дороги — Байкало-Амурской магистрали. Мы просим ЦК ВЛКСМ определить для нашей организации конкретный участок работы. Молодежь Украины внесет свой вклад в строительство, сделает все чтобы как можно скорее ввести магистраль в строй. Мы предлагаем провести 29 сентября, в день 70-летия Николая Островского, Всесоюзный молодежный воскресник в фонд Байкало-Амурской магистрали».
Дружными аплодисментами поддержали делегаты это предложение.
На заключительном заседании съезда приветствовать делегатов пришли представители разных поколений творческой интеллигенции — известные писатели, артисты, художники, видные деятели культуры. С приветственным словом обратился народный артист СССР, кинорежиссер С. А. Герасимов. Он вручил съезду книгу Островского «Как закалялась сталь». Принимая дорогую реликвию, артист В. Конкин напомнил слова писателя-героя, ставшие девизом юности: «Только вперед, только на линию огня».
О том, как Павел Корчагин участвует в классовых боях во всех уголках нашей планеты, можно было бы написать отдельную книгу.
Вот перевод романа «Как закалялась сталь» на латышский язык, сделанный в предвоенной буржуазной Латвии, в стенах тюрьмы, куда русский экземпляр попал случайно… Вот роман «Как закалялась сталь» на персидском языке — единственный экземпляр, который удалось спасти из огня, когда полиция громила клуб демократической молодежи в Тегеране и жгла книги Островского во дворе — там хранился тираж только что изданного романа о Корчагине… Вот рукописные «издания» книги Островского, которые передавали друг другу солдаты борющегося Вьетнама…
И, как бы подводя итоги прожитой жизни Островского, IX пленум ЦК ВЛКСМ еще в 1966 году вынес решение:
Присудить премию Ленинского комсомола выдающемуся советскому писателю Островскому Николаю Алексеевичу, автору бессмертных книг: «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», произведений, которые стали боевым оружием комсомола в воспитании миллионов молодых советских патриотов, достойной смены старшим поколениям коммунистов.
Николай Островский не дожил до наших дней. Он всего этого не увидел. Но он знал: его книги будут бороться в общем строю и тогда, когда их автора уже не будет на свете.
Так и вышло.
20
Последние дни… Последние минуты…
Весной 1936 года, когда Островский собирался ехать в Сочи, Ольга Осиповна сообщила ему о смерти его отца, Алексея Ивановича Островского. Отец умер восьмидесяти двух лет, и хоть понимал Николай, что возраст преклонный и потеря неизбежна, но «голос крови» — как говорил он — твердил свое: несколько дней Николай не мог работать. Но едва пришел в себя, как он заторопил пас с записью «Рожденных бурей»! Смерть отца словно напомнила ему о сроках.
Думал, что у него есть пять лет.
Планы были максимальные, предельные.
Из письма Анне Караваевой от 2 августа 1935 года: «Предатель-здоровье вновь изменило мне: я неожиданно скатился к угрожающей черте… Несмотря на всю опасность, я, конечно, не погибну и на этот раз, хотя бы уж потому, что я не выполнил данное мне партией задание. Я обязан написать «Рожденные бурей». И не просто написать, а вложить в эту книгу огонь своего сердца. Я должен написать (то есть соучаствовать) сценарий по роману «Как закалялась сталь». Должен написать книгу для детей — «Детство Павки». И непременно книгу о счастье Павки Корчагина. Это, при напряженной большевистской работе, — пять лет. Вот минимум моей жизни, на который я должен ориентироваться».
Пять лет. Но жизнь распорядилась иначе.
Он не успел закончить роман «Рожденные бурей». Хотя и спешил. После совещания он разрешил себе отдохнуть один день, а затем закипела работа по окончательному редактированию «Рожденных бурей». Вся квартира превратилась в «штаб». Машинки стучали, как пулеметы.
Месяц спустя, в декабре 1936 года, первый том романа «Рожденные бурей» был готов к сдаче в печать. В этот же день, 14 декабря, Николай Островский написал Ольге Осиповне:
«Милая матушка! Сегодня я закончил все работы над первым томом «Рожденных бурей». Данное мною Центральному Комитету комсомола слово — закончить книгу к 15 декабря — я выполнил.
Весь этот месяц я работал «в три смены». В этот период я замучил до крайности всех моих секретарей, лишил их выходных дней, заставляя работать с утра и до глубокой ночи…
Сейчас все это позади. Я устал безмерно… Сейчас я буду отдыхать целый месяц. Работать буду немного, если, конечно, утерплю. Характер-то ведь у нас с тобой, мама, одинаков…»
Весной он надеялся вернуться в Сочи. Но этому желанию уже не суждено было осуществиться. Едва была завершена работа над романом «Рожденные бурей», в состоянии Николая Алексеевича наступило резкое ухудшение. Приступ почечной болезни принял угрожающий характер.
15 декабря, возвратившись из университета, я открыла дверь квартиры — на пороге меня встретила Екатерина Алексеевна, бледная, со вздрагивающими губами:
— Коле очень плохо. Не заходи сейчас к нему. Он, очевидно, вздремнул. Ему сделали укол морфия.
Я поняла: раз он прибегнул к морфию, то дело действительно плохо. Вспомнила, как в 1928 году в Сочи во время тяжелого, тогда еще первого приступа почечной болезни врач дал ему порошок морфия, чтобы облегчить страдания. На всякий случай он оставил еще два порошка, но Николай ими не воспользовался ни тогда, ни впоследствии. Когда во время приступов я напоминала ему об этих порошках, он отшучивался:
— Ты хочешь, чтобы я стал морфинистом?
Когда боли проходили, был горд своей выдержкой.
А сейчас принял укол морфия. Значит, дело плохо.
Страдания сразу переменили его лицо. Еще недавно оно горело вдохновением, удивительной, казалось, неисчерпаемой энергией, а теперь…
Мы срочно вызвали из Харькова Дмитрия Алексеевича, хотели вызвать и Ольгу Осиповну. На приезд старшего брата Николай согласился, но маму вызывать запретил. Не разрешил он сообщать о своей болезни и по радио, о чем товарищи очень просили.
— Нельзя этого делать. Так ведь и матушка может узнать. Не надо ее волновать… Да и напрасны ваши тревоги! Все пройдет!
Боли были мучительны и уже не проходили вовсе. Но Николай держался. Ежедневно интересовался положением на фронтах Испании.
— Держится ли Мадрид? — все спрашивал брата. И на утвердительный его ответ говорил: — А меня, кажется, громят…
Были мобилизованы лучшие медицинские силы, созывались консилиумы. Делалось все возможное, но положение Островского становилось все опаснее. В доме круглосуточно дежурил врач и медицинская сестра; они находились в столовой, чтобы в нужное время оказать помощь. У постели Николая дежурили мы с Катей.
Держался он мужественно. Часто терял сознание от боли. Очнувшись, спрашивал?
— Я стонал?
И радовался, что мы стонов не слышали.
— Это хорошо. Значит, смерть меня не может пересилить…
Он просил меня не пропускать занятий в университете. Но вот наступил момент, когда он сказал:
— Подежурь около меня эту ночь, а завтра не ходи на занятия. Товарищи поймут, что ты не могла. Да я и сам поговорю с ректором.
В комнате полумрак, тишина. Наступила ночь. Тихо и в соседней комнате, хотя там собрались все домашние, врач и медицинская сестра. Нас предупредили: положение крайне серьезное. Чтобы Николай не догадался о степени опасности, мы скрывали от него, что в доме врач и медсестра.
Ночью он не спал. Мучили беспрерывные боли. Попросил меня приготовить кофе. Я вышла из комнаты и оставила дверь приоткрытой, чтобы врач и сестра могли издали наблюдать за больным.
Я вышла в кухню и тотчас услышала голос Николая?
— Сестра, зайдите…
Стало ясно, что обмануть Николая не удалось: он знает все, но, чтобы не волновать нас, молчит.
Медсестра зашла к нему.
— Давно вы работаете фельдшерицей? — спросил он.
— Двадцать шесть лет.
— Вам, вероятно, приходилось видеть много тяжелого во время вашей работы?
— Да, тяжелого я, конечно, видела много.
— Ну вот… И я… тоже ничем вас не порадую…
Сестра попыталась успокоить его, но он ее прервал:
— Не надо. Я слишком хорошо сознаю свое состояние. Я твердо знаю, что никого ничем не порадую… А жаль. У меня так много незаконченной работы осталось…
Я вернулась к нему. Он заговорил со мной о том, что человек должен быть стойким и мужественным и не сдаваться под ударами жизни.
— В жизни всякое бывает, Раек… Вспомни, как жизнь меня била, старалась выбить из строя. А я не сдавался, упорно шел к намеченной цели. И вышел победителем. Свидетели тому — мои книги.
Я молча слушала. Он попросил меня не бросать учебы… Потом вспомнил наших старушек матерей:
— Старушки паши всю жизнь в заботах о нас провели… Мы им столько должны… А отдать ничего не успеваем… Помни о них, Раюша, береги их…
Бесконечная была эта ночь. Утром, часов в пять, меня сменила Екатерина Алексеевна. Мы перестелили постель. Николаю как будто стало полегче. Клонило ко сну. Катя села в кресло. Сидела тихо, чтобы не прервать сон брата.
Часов в одиннадцать она тихонько, сняв обувь, чтобы не слышно было шагов, — все еще надеясь, что Николай дремлет, — вышла из комнаты, с тревогой обратилась к врачу:
— Коля как-то странно дышит…
Врач с медсестрой мгновенно оказались около больного. Но уколы уже не помогли… Николай был без сознания. Не приходя в себя, он умер вечером, в 19 часов 50 минут 22 декабря 1936 года.
Смерть вырвала из его рук оружие.
«Если хоть одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся…»
Но сопротивляться уже было нечем — я подумала об этом, читая медицинское заключение о его смерти: неизлечимый, хронический анкилозирующий полиартрит, костное зарастание большинства суставов; одновременно туберкулез обоих легких и расширение бронхов левого легкого; кроме того, почечная болезнь… камни… уремия…
Ему было только 32 года.
В те дни газеты вышли с траурными сообщениями. От ЦК партии — в газете «Правда»: «ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти члена ВКП(б), талантливого писателя-орденоносца Николая Алексеевича Островского…»
От ЦК комсомола — в «Комсомольской правде»: «Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи с глубокой скорбью извещает всех членов комсомола и советскую молодежь о безвременной кончине пламенного большевика, горячо любимого, талантливого писателя-орденоносца, члена ВЛКСМ с 1919 года Николая Островского».
От обкомов, крайкомов комсомола, от союзов писателей СССР, РСФСР, от литераторов Украины, Грузии, Дальнего Востока, Северной Осетии, от научных и общественных организаций Москвы и Ленинграда, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Татарии… — письма, письма и телеграммы, телеграммы.
Звонок из Киева: «Штаб корпуса имени Котовского, старые и молодые котовцы, скорбят о безвременной кончине нашего почетного бойца, писателя Николая Островского».
Звонок из Мадрида в газету «Правда» — Михаил Кольцов:
— От нас ушел
писатель и мужественный, сильный борец. Да, сильный. Очень сильный… И творчество его было опять-таки борьбой, неутомимой, страстной, целеустремленной.
В чешских газетах «Лидове Новины», «Право Лиду», «Чешске слово» — некрологи. В «Руде право», органе Коммунистической партии Чехословакии — горячие слова: «Кипучая деятельность и борьба были главным содержанием недолгой жизни этого прекрасного человека. Островский был писателем и борцом». В Барселоне, в газете Объединенной социалистической партии Каталонии «Требалл» — сообщение: «Телеграф принес печальное известие из Советского Союза. Умер пролетарский писатель Николай Островский. «Объединенная социалистическая молодежь» Каталонии выражает свою искреннюю скорбь советской молодежи по поводу смерти ее друга, бойца, писателя, человека, чья прекрасная жизнь была чудесным образцом мужества и воли».
С 12 часов 23 декабря в Союзе писателей открывается доступ к телу покойного. Тянется очередь по улице Воровского… Идет молодежь, идут старики, идут матери с детьми.
В зале тесно от венков. Цветы, цветы… Траурная музыка…
Кончена жизнь. Остаются книги.
«Самое прекрасное для человека — всем созданным тобою служить людям и тогда, когда ты перестаешь существовать».
Он оправдал свои слова.
Основные даты жизни и деятельности
Н. А. Островского
1904, 29 сентября. В селе Вилия Острожского уезда бывшей Волынской губернии (ныне Ровенская область) в семье Алексея Ивановича и Ольги Осиповны Островских родился сын Николай.
1910–1913. Н. Островский учится в церковноприходской школе в селе Вилия. Кончает школу с похвальным листом.
1914. Начало первой империалистической войны. Н. Островский вместе с родителями поселяется в Шепетовке.
1915–1916. Н. Островский учится в Шепетовском двухклассном училище. Исключен из школы по настоянию учителя закона божьего. Работает кубовщиком в привокзальном буфете на станции Шепетовка.
1917. В августе вновь поступает в первый класс Шепетовского двухклассного Народного училища.
1918. Весной заканчивает первый класс Народного училища. Работает на электростанции подручным кочегара, затем помощником электромонтера.
Осенью поступает во второй класс вновь организованного Высшего начального училища. Выполняет отдельные поручения подпольной организации большевиков: расклеивает листовки, сообщает о передвижении немецких войск.
1919. Продолжает учиться и работать на электростанции.
20 июля вступает в комсомол.
9 августа вместе с частями Красной Армии уходит на фронт.
1920. В июне вместе с частями Красной Армии возвращается в Шепетовку, работает в Волревкоме, участвует в обысках по изъятию продуктов и материальных ценностей у буржуазии.
В августе в связи с наступлением белополяков на Шепетовку вновь уходит на фронт.
19 августа в бою под Львовом тяжело ранен. Отправлен в военный госпиталь в Киев.
В октябре демобилизован. Возвращается в Шепетовку к матери. Продолжает учиться в Высшем начальном училище.
(С 1921 года — Единая трудовая школа.)
1921. Переезжает в Киев. Работает в Главных железнодорожных мастерских помощником электромонтера. Избран секретарем комсомольской организации. Одновременно учится на вечернем отделении Электротехнической школы ЮЗЖД.
Осенью участвует в строительстве железнодорожной ветки до станции Боярка. Заболевает тифом. Лечится в Шепетовке у матери.
1922. Возвращается в Киев, в Главные железнодорожные мастерские. Заболевает ревматизмом. Лечится в санатории в городе Бердянске. Едет в Шепетовку, затем снова в Киев, снова в Шепетовку. Врачебной комиссией признан инвалидом.
1923. Переезжает в Берездов к сестре. Работает техником в местном райкоммунхозе.
Летом в Берездове Шепетовским окружкомом комсомола создана комсомольская ячейка. Избран секретарем.
27 октября Берездовским райпартко-мом принят кандидатом в члены КП (б) У.
1924. Переведен в город Изяслав райорганизатором комсомола.
На II Шепетовской окружной конференции избран членом Шепетовского окружкома комсомола, делегатом на VIII Волынский губернский съезд КСМУ, который проходит в Житомире.
25–28 июня. На съезде избран кандидатом в члены губкома комсомола.
9 августа Изяславским райпарткомом принят в члены партии.
Сентябрь: лечится в Харькове, в 1-м Государственном украинском научно-исследовательском медико-механическом институте.
1925. Продолжает лечение в Харькове, затем в Славянске, в Евпатории.
1926. В мае едет лечиться в Крым, в санаторий «Майнаки» (Евпатория).
В июле переезжает в Новороссийск, в семью Мацюк.
В августе едет в Харьков к Новикову, затем в Москву к Пуринь, в надежде найти подходящую по его состоянию работу.
В конце сентября возвращается в Новороссийск. Женится на Р. П. Мацюк.
1927–1928. Болезнью прикован к постели. Занимается самообразованием. Пишет повесть о котовцах.
Учится в Заочном Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. Посылает повесть о котовцах в Одессу друзьям. На обратном пути рукопись затеряна. Новороссийский окружком партии направляет Островского на лечение в Сочи в санаторий № 5, на Старой Мацесте. Н. Островский остается жить в Сочи.
1929. В октябре уезжает в Москву лечиться в клинике 1-го МГУ.
1930. В марте переносит тяжелую операцию по удалению паращитовидной железы.
В апреле поселяется в доме № 12 по Мертвому переулку (ныне пер. Н. Островского). Начинает писать 1-ю часть романа «Как закалялась сталь».
Май — октябрь: лечится в Сочи.
В октябре, по возвращении в Москву, продолжает записывать роман.
1931. 16 ноября заканчивает первую часть романа. Отправляет рукопись в Ленинград А. А. Жигиревой и в Харьков П. Н. Новикову. В Москве И. П. Феденев относит рукопись в издательство «Молодая гвардия».
1932. В апрельском номере журнала «Молодая гвардия» начинают печатать первую часть романа. Последние главы напечатаны в № 8–9.
В июне Н. Островский снова едет в Сочи на лечение в санаторий «Красная Москва». Остается в Сочи. Начинает записывать вторую часть романа.
В
ноябре в издательстве «Молодая гвардия» в Москве выходит первая часть романа «Как закалялась сталь».
1933. Продолжает работу над романом.
В мае заканчивает вторую часть и
в июне посылает в Москву, в издательство «Молодая гвардия».
22 июня посылает в Харьков, в издательство «Молодой большевик». В связи с 15-летием ВЛКСМ Сочинский горком комсомола вручает Н. Островскому как почетному комсомольцу комсомольский билет № 8144911.
1934. В журнале «Молодая гвардия» в № с 1 по 7 публикуется вторая часть романа.
1 июня принят в члены Союза советских писателей.
8 июня получает из книжного издательства «Молодая гвардия» сигнальный экземпляр второй части романа «Как закалялась сталь».
В июле роман выходит на украинском языке — первая и вторая части в одной книге.
11 июля 500 экземпляров розданы делегатам юбилейного пленума ЦК ЛКСМУ.
Для польского издания романа «Как закалялась сталь» на польском языке дописывает новые эпизоды о поляках-коммунистах.
В конце года выходит из печати первая часть романа на польском языке в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» (национальный сектор).
Издательство «Молодая гвардия» повторно издает обе части романа в отдельных книгах. Островский пишет статью «За чистоту языка».
1935. Работает над романом «Рожденные бурей».
В апреле — июне пять глав опубликованы в газете «Сочинская правда».
16 мая отчитывается на бюро Сочинского горкома партии. Пересматривает роман «Как закалялась сталь»: вводит новые эпизоды, сокращает ненужное — создает окончательный текст романа.
Во второй половине года в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» выходит роман в новой редакции, первая и вторая части в одной книге. Н. Островский совместно с М. Зацем работает над кино-сценарием по роману «Как закалялась сталь». Пишет статью «Мой день».
1 октября Н. Островский награжден орденом Ленина. В связи с этим
23 октября на собрании партийного актива города Сочи выступает с речью.
24 ноября в день вручения ордена Ленина выступает с речью «Да здравствует жизнь». Выступает на перекличке городов Сочи — Киев — Шепетовка, на краевой конференции писателей,
9 декабря уезжает в Москву.
1936. Продолжает работу над романом «Рожденные бурей».
28 января взят на учет ПУ Ра РККА как политработник, с присвоением звания бригадного комиссара.
В апреле избирается делегатом IX съезда комсомола Украины.
6 апреля выступает на съезде по радио.
15 мая выезжает в Сочи, в новый дом, построенный по решению правительства Украины. Там
в августе кончает первую книгу «Рожденные бурей».
24 октября возвращается в Москву.
15 ноября на квартире Островского по его просьбе заседает Президиум правления Союза советских писателей, обсуждает первый том романа «Рожденные бурей».
14 декабря — первый том романа окончательно отредактирован.
22 декабря в 19 часов 50 минут Н. Островский скончался.
26 декабря урна с прахом Островского замурована в стене Новодевичьего кладбища в Москве.
В этот день выходит в свет первое, траурное издание первой книги романа «Рожденные бурей».
31 октября 1952 года урна с прахом Островского захоронена в могиле на Новодевичьем кладбище.
29 сентября 1954 года на могиле установлен памятник.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Родители Н. Островского — Ольга Осиповна и Алексей Иванович Островские.

Коля Островский — ученик церковноприходской школы в селе Вилия. 1913.

Н. Островский. 1918.

Школа в селе Вилия, где учился Н. Островский в 1910–1913 годах.

Комсомольский билет Н. Островского.

Шепетовка, где жил Н. Островский.

Иван Семенович Линник, прототип предревкома Долинника в романе «Как закалялась сталь».

Цилия Исааковна Исаева, прототип партработника Игнатьевой в романе «Как закалялась сталь».

Здание ревкома в Шепетовке.

Дмитрий Григорьевич Чернопыжский, прототип комиссара просвещения учителя Чернопысского в романе «Как закалялась сталь».

Федор Филиппович Передрейчук, один из прототипов матроса Жухрая в романе «Как закалялась сталь».


Н. Островский с комсомольцами. 1922.

Н. Островский (крайний слева) среди членов Берездовского райпарткома. 1923.

Н. Островский. 1923.

Партийный билет Н. Островского.

Н. Островский (верхний ряд, в центре) среди делегатов VIII Волынского губернского съезда комсомола. 1924.

Н. Островский, 1924.

Н. Островский. Рядом — фельдшер Харьковского медико-механического института Ф. В. Лукашев. 1925.

Н. Островский среди больных (на коляске справа). Евпатория, санаторий «Майнаки». 1926.

Н. Островский среди родных и близких в Новороссийске. 1926.

Санаторий «Горячий Ключ», где лечился Н. Островский. 1927.

Иннокентий Павлович Феденев, прототип Леденева в романе «Как закалялась сталь».

Хрисанф Павлович Чернокозов, прототип Чернокозова в романе «Как закалялась сталь».

Н. Островский в санатории на Старой Мацесте № 5. Сочи, 1928.

Александра Алексеевна Жигирева. В романе «Как закалялась сталь» выведена под своим именем.

Лев Николаевич Берсенев. Прототип Левушки Берсенева, нотариуса, в романе «Как закалялась сталь». 1928.

Н. Островский с друзьями — Розалией Борисовной Ляхович и Моисеем Ефимовичем Карасем. 1929.

Петр Николаевич Новиков. В романе «Как закалялась сталь» выведен под своим именем.

Марта Яновна Пуринь. В романе «Как закалялась сталь» выведена под фамилией Лауринь.

Михаил Зиновьевич Финкельштейн.

Александр Иосифович Пузыревский. Прототип командира полка Пузыревского в романе «Как закалялась сталь».

Комната в Москве, Мертвый пер., 12, где была написана Н. Островским первая часть романа «Как закалялась сталь».

Н. Островский, 1929.
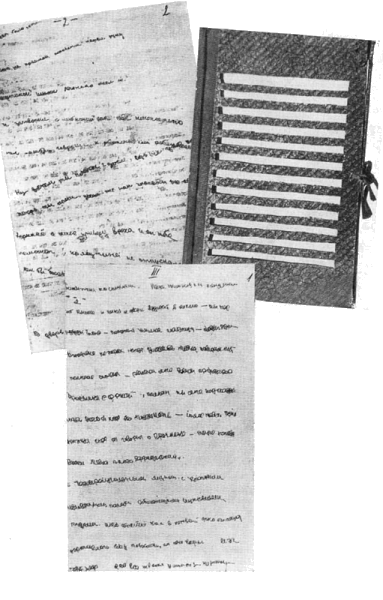
Страница рукописи романа «Как закалялась сталь», написанная слепым Н. Островским,
Транспарант Н. Островского.
Страница рукописи романа «Как закалялась сталь» Н. Островского, написанная слепым писателем при помощи транспаранта.



Анна Александровна Караваева.

Марк Борисович Колосов.

Первое издание первой части романа «Как закалялась сталь».

Первое издание второй части романа «Как закалялась сталь». Суперобложка.

Комната на Ореховой, 47, где Н. Островский закончил вторую часть романа «Как закалялась сталь», Сочи, 1933.

А. Серафимович в гостях у Н. Островского. Сочи, 1934.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР о награждении орденом Ленина писателя Н. А. Островского.

Председатель Всеукраинского ЦИК Григорий Иванович Петровский прикрепляет орден Ленина Н. Островскому. Сочи, 1935. 24 ноября.

Н. Островский выступает по радио. Сочи, 1935.

Членский билет Союза советских писателей. Выдан Н. А. Островскому 1 июня 1934 года.

Н. Островский с матерью Ольгой Осиповной Островской и сестрой Екатериной Алексеевной Соколовой. 1935.

Н. Островский с женой Раисой Порфирьевной Островской. 1935.

Н. Островский с женой Раисой Порфирьеэной Островской. 1935.

Комната Н. Островского в московской квартире, где он работал над романом «Рожденные бурей». 1936.

Н. Островский с братом Дмитрием Алексеевичем Островским. 1936.

Н. Островский за работой. У машинки секретарь Александра Петровна Лазарева. Сочи, 1936.


Н. Островский в форме бригадного комиссара. Москва, 1936.

Первое издание романа «Рожденные бурей».

Памятник на могиле Н. Островского в Москве. Новодевичье кладбище.

Книги Н. Островского, присланные в музей с разных фронтов Великой Отечественной войны.

Танк «Николай Островский» и его экипаж.

Нагрудный знак № 001 лауреата премии Ленинского комсомола Николая Островского.

Премию Ленинского комсомола, присужденную Николаю Островскому, по поручению ЦК ВЛКСМ вручает летчик-космонавт Юрий Гагарин Р. П. Островской. Москва, 1967,2 февраля.
Краткая библиография
Основные издания сочинений Н. А. Островского
Как закалялась сталь. Часть 1. М., «Молодая гвардия», 1932.
Как закалялась сталь. Часть 2. М., «Молодая гвардия», 1934.
Как закалялась сталь. Части 1 и
2. М., «Молодая гвардия», 1934.
Як гартувалася сталь. Киів, «Молодий більшовик», 1934.
Как закалялась сталь. М., «Молодая гвардия», 1935.
Как закалялась сталь. М., «Молодая гвардия», 1936.
Как закалялась сталь. Вступительная статья М. Кольцова. «Роман-газета», № 10–11. М., 1935.
Рожденные бурей. [Траурное издание.] М., «Молодая гвардия», 1936
Собрание сочинений. В 3-х т. Предисловие В. Полевого. М., Гослитиздат, 1955—1956
Собрание сочинений. В 3-х т. Вступительная статья В. Озерова. М., «Молодая гвардия». 1967–1968.
Сочинения. В 3-х т. Вступительная статья С. А. Трегуба. М., «Правда», 1969.
О Николае Островском
Николай Островский. Сборник материалов. Орел, Изд-во обкома ВКП(б), 1938.
Е. Балабанович. Николай Островский. Биографический очерк. Изд. 2-е, доп. М., Гослит. музей, 1946.
С. Трегуб, Николай Алексеевич Островский. М., «Молодая гвардия), 1950.
Н. Венгров, Николай Островский. Изд. 2-е, доп. и испр. М., Изд-во АН СССР, 1954.
Д. В. Юферев, Н. А. Островский. Критико-биографпческпй очерк. М… Гослитиздат, 1954.
Николай Островский. Сборник материалов. Краснодарск, книжн, изд. — во, 1954.
Л. И. Тимофеев, О художественных особенностях романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Изд. 2-е, доп. и испр. Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956.
А. П. Давыдова, Воспоминания о Николае Островском. Симферополь, изд-во «Крым», 1964.
Е. Островская, А. Лазарева, Биографический очерк. Николай Островский. Краснодарск. книжн. изд-во, 1964.
Николай Островский. Фотографии, документы, иллюстрации. М., «Молодая гвардия», 1964.
С. А. Трегуб, Жизнь и творчество Николая Островского. М., «Художественная литература», 1964.
Через роки. Киів, «Молодь», 1964.
А. Б. Маковский, — Сталь пламенеет. Слово о Николае Островском. М., «Знание», 1965.
Марк Колосов, Встречи с Островским. В кн.: Колосов М. Б., Сложная жизнь. М., «Советский писатель», 1968.
A. А. Караваева, Книга, которая обошла весь мир. М., «Книга», 1970.
Л. Аннинский, «Как закалялась сталь» Николая Островского. М., «Художественная литература», 1971.
B. С. Трусов, Рожденный бурей. О Николае Островском. М., Политиздат, 1973.
INFO
077
Островская Р. П.
Николай Островский. М., «Молодая гвардия», 1974.
240 с. с ил., портр. (Жизнь замечат. людей. Серия биографий. Вып. 7 (540). 100 000 экз.
О 70302—194 / 078(02)—74 325-74
8Р2
Примечания
1
Запись в книге отзывов Музея Н. Островского в Сочи, 16 мая 1961 года.
(обратно)
2
Ныне Ровенская область.
(обратно)
3
Роза Андреевна Хмельницкая — двоюродная сестра Николая.
(обратно)
4
Справка дана 11 марта 1929 года. Из личного архива Р. П. Островской.
(обратно)
5
Все цитаты из произведений и писем И. Островского, кроме оговоренных особо, даются по изданию: Н. А. Островский, Соч. В 3-х т. М., 1967–1968.
(обратно)
6
Из личного архива Р. П. Островской.
(обратно)
7
Архив Музея Н. Островского в Москве.
(обратно)
8
Архив Музея Н. Островского в Москве,
(обратно)
9
«…На почве тяжелой простуды во время работы по постройке узкоколейки заболел прогрессирующим, анкилозирующим полиартритом, вызвавшим в 1928 году полную неподвижность во всех суставах и одеревенелость позвоночника…» Из истории болезни Н. Островского. Заключение доктора М. К. Павловского. 27 мая 1935 года, Сочи.
(обратно)
10
Из истории болезни Н. Островского. Клиника 1-го МГУ. 1929. Музей Н. Островского в Москве.
(обратно)
11
Архив Музея Н. Островского в Москве. — Переписка И. Островского и Л. В. Беренфус.
(обратно)
12
Хмельницкий областной партархив Обкома КП (б) У.
(обратно)
13
Хмельницкий областной партархив Обкома КП (б) У.
(обратно)
14
Архив Музея Н. Островского в Москве.
(обратно)
15
Из личного архива Р. П. Островской.
(обратно)
16
Архив Музея И. Островского в Москве.
(обратно)
17
Сейчас эта книга хранится в Музее Н. Островского в Москве.
(обратно)
18
Все эти фотографии переданы мною в Музеи Н. Островского в Москве.
(обратно)
19
К. И. Николаева (1893–1944) — член КПСС с 1909 года. С 1917 года была на руководящей работе.
(обратно)
20
Р. С. Землячка в ту пору работала в Центральной контрольной комиссии при ЦК ВКП(б). Чернокозов обращался с просьбой оказать материальную помощь больному Н. А. Островскому.
(обратно)
21
Архив Музея Н. Островского в Сочи.
(обратно)
22
Архив Музея Н. Островского в Москве.
(обратно)
23
Р. Ляхович собиралась переехать в Москву, но это дело отложилось. П. Новиков и М. Карась обещали приехать в гости и не приехали.
(обратно)
24
Моисей Ефимович Карась.
(обратно)
25
Так в шутку Николай называл меня.
(обратно)
26
Все сохранившиеся блокноты переданы мною на хранение в ЦГАЛИ.
(обратно)
27
Ленгиз — Ленинградское объединенное издательство, куда входило издательство «Молодая гвардия».
(обратно)
28
На совещании по работе с молодыми писателями 22 февраля 1932 г.
(обратно)
29
В ту пору Н. Островский жил в Москве на Тверской улице, ныне ул. Горького.
(обратно)
30
Л. Аннинский, «Как закалялась сталь» Николая Островского. М., 1971, стр. 14–15.
(обратно)
31
«Комсомольская правда», 1936, 18 апреля.
(обратно)
32
Гай Бжешнянц (1887–1938) — советский полководец, герой гражданской войны.
(обратно)
33
Архив Музея Н. Островского в Сочи.
(обратно)
34
Там же.
(обратно)
35
Архив Музея Н. Островского в Москве.
(обратно)
36
Архив Музея Н. Островского в Москве.
(обратно)
Оглавление
1
Встреча
2
«Моему сердцу 22 года…»
3
Ольга Осиповна. Детство Николая Островского
4
Боевые бури
5
«Я — один из тех, кого воспитал комсомол»
6
Трудная зима
7
В середине пути
8
Круг друзей
9
«Я с головой ушел в классовую борьбу»
10
Во власти врачей
11
«Сил нет, но берусь за карандаш»
12
Двадцать часов в сутки…
13
Победа
14
Спасибо вам, добровольные секретари!
15
«Я вижу, где написано плохо…»
16
Резонанс
17
Награда
18
«Надо торопиться…»
19
В общем строю
20
Последние дни… Последние минуты…
Основные даты жизни и деятельности
Н. А. Островского
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Краткая библиография
INFO
*** Примечания ***