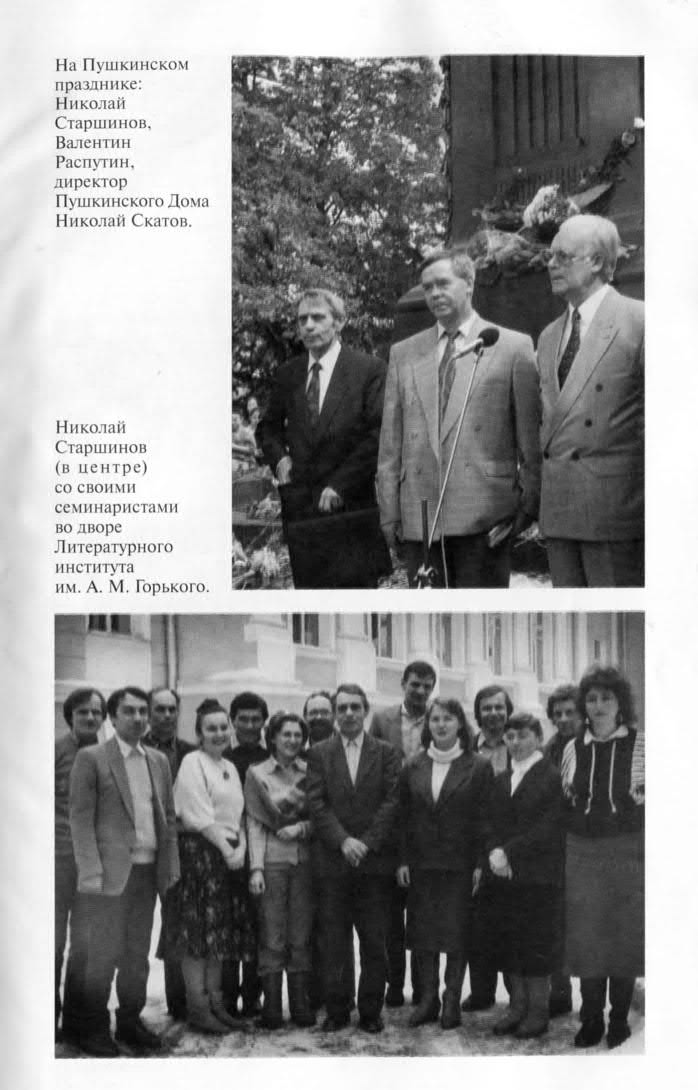СТАРШИНОВ



НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Если в маленьком, но гордом европейском государстве Литве уже издана собственная литературная энциклопедия, то, наверное, про героя нашей книги в ней написано следующее:
Старшинов Николай Константинович — выдающийся литовский поэт русского происхождения. Родился в 1924 году на территории современной Ирландии.
На первый взгляд выделенная курсивом фраза абсурдна, но при более внимательном ее прочтении — не лишена смысла. Разберем по порядку имеющиеся в ней положения.
«Выдающийся литовский поэт…». А как же не выдающийся и как же не литовский, если его имя встречается в учебниках, по которым учатся литовские школьники? В других странах, в России, например, или в той же Ирландии этого ведь пока нет!
Пойдем дальше: «…русского происхождения». А какого же еще, если отец его родом из крестьян Владимирской губернии, а мать — из крестьян губернии Тульской. Правда, есть у меня подозрение, что подмешались когда-то в кровь предков Старшинова несколько капель цыганской крови — очень уж любил он петь, и охота к перемене мест постоянно его одолевала, да и волосы у него были черные, глаза — карие, а кожа — смуглая.
Положение третье: «Родился в 1924 году…» Тут уж никаких сомнений быть не может, так в паспорте записано. Не можем же мы подвергать сомнению то, что записано в паспорте. Правда, сам Старшинов подвергал, утверждая, что родился он не 6 декабря, как то указано в документе, а 19-го — в день, когда православный люд чествует святителя Чудотворца Николая Угодника Божиего. Поэтому, собственно, его и назвали Николаем.
И, наконец, четвертое положение, самое очевидное: «…на территории современной Ирландии». Дело в том, что двухэтажный деревянный дом в Грохольском переулке, где появился на свет будущий поэт, был в свое время неосмотрительно снесен московскими властями, а ушлые ирландцы тут же выпросили этот исторический кусок земли себе под строительство посольства. Территория же посольства, по нормам международного права, является суверенной территорией своего государства. Да Старшинов и сам признавался: «Я родился на ирландской земле…» Может, поэтому его и в руководящую партию большевиков не брали. Как еще руководить альманахом «Поэзия» доверили? Ведь в семидесятые годы прошлого века беспартийный руководитель печатного органа, да еще в издательстве ЦК ВЛКСМ — это случай уникальный! Не обошлось ли тут без попечительства Николая Чудотворца?
Вот и получается, что любимый многими и уважаемый всеми Николай Константинович Старшинов при углубленном изучении его биографии оказывается то ли литовским ирландцем, то ли ирландским литовцем. Только вот стихи на русском языке писал и любил свою матушку-Россию до боли сердечной…
И вообще он был весьма загадочной личностью. Никто даже не знал толком, как правильно к нему обращаться. Как только его не называли: Старшинов, Старшинов (разница в ударении), ротный запевала, гвардии рядовой, учитель, вождь, второй Сабанеев, Зимний Никола, Николай Константинович, Константиныч, Коля, Колятина, Колюша, Колюня… — и он не возражал, особенно против двух последних обращений. Что касается ударения в фамилии, то правильным будет второе. Николай Константинович, хотя и не делал из этого проблемы, но говаривал при случае, что Старш
инов — это хоккеист, а поэт — Старшинóв. (Хотя сейчас выясняется, что и хоккеист стихи пишет и даже публикует их.) Ударение на последнем слоге фамилии делал его отец, и Николай Константинович здесь просто следовал семейной традиции.
Конечно, был он личностью не только загадочной, но и замечательной. Недаром в серии «ЖЗЛ» в 1984 году (к шестидесятилетнему юбилею поэта) уже выходила книга «Старшинов». Правда, «издана» она была в одном подарочном экземпляре, зато ее авторский коллектив включал в себя десятки имен. Это Николай Глазков и Роберт Рождественский, Владимир Костров и Николай Карпов и многие, многие другие поэты, чьи посвященные Старшинову стихи любовно собрали под серийной обложкой «ЖЗЛ» его коллеги по издательству «Молодая гвардия». Причем коллеги эти были, как я предполагаю, женского пола, всегда неравнодушные к Старшинову, на зависть его молодым коллегам мужеского пола.
Помимо стихов, поэм, рассказов, очерков и статей творческое наследие Старшинова включает в себя книгу воспоминаний о писателях «Что было, то было…», на страницах которой в лицах и часто с юмором воспроизведена история русской литературы второй половины XX века. В числе его учителей были Александр Твардовский и Михаил Светлов, Ярослав Смеляков и Леонид Мартынов, в числе друзей — Наум Коржавин и Николай Глазков, Константин Воробьев и Николай Рубцов, в числе собеседников — Анна Ахматова и Николай Заболоцкий, Валентин Катаев и Владимир Высоцкий.
А в числе учеников Старшинова вообще кого только не было! Как выразился поэт Александр Щуплов: «Все мы вышли из старшиновской шинели…»
Кроме того, Старшинов широко известен как собиратель частушек. Его уникальная коллекция этих озорных произведений устного народного творчества, изданная «Молодой гвардией» в девяностые годы прошлого века, наделала много шума.
Прославил он свое имя и рыбацкими подвигами. Иначе чем же еще объяснить, что вот уже около десяти лет проводятся спортивные соревнования по подледному лову рыбы, зарегистрированные Госкомспортом России как «Кубок памяти Николая Старшинова».
* * *
Я заранее прошу у читателей прощения за несколько легкомысленный тон предпринятого мною жизнеописания Старшинова. Он объясняется тем, что буквально все знавшие его люди, к которым я обращался с просьбой поделиться со мной воспоминаниями для книги, наставляли меня писать ее как можно веселее. И я их понимаю: сам Николай Константинович был человеком остроумным и жизнелюбивым и всегда старался скрашивать окружающую его действительность к месту припомненной частушкой или литературной байкой.
Я выражаю искреннюю признательность за предоставленные материалы и воспоминания Марии Абакумовой, Евгению Артюхову, Александру Боброву, Владимиру Бровцину, Ларисе Васильевой, Николаю Дмитриеву (увы, ныне покойному), Николаю Карпову, Виктору Кирюшину, Евгению Константинову, Владимиру Кострову, Геннадию Красникову, Нине Красновой, Владимиру Крупину, Николаю Машовцу, Татьяне Чаловой, Анатолию Шамардину, Александру Щуплову. Их воспоминания не только помогли мне в работе над книгой, но и составили отдельный раздел, во многом дополняющий портрет Николая Константиновича.
Работая над книгой, я пользовался воспоминаниями и советами вдовы поэта Эммы Антоновны, его дочерей Елены и Руты, а также его племянника Константина Константиновича и племянницы Надежды Константиновны Терентьевых.
Особую благодарность следует выразить многолетнему соратнику Старшинова по альманаху «Поэзия» Геннадию Красникову, литературному критику Любови Калюжной и моему научному руководителю профессору Любови Федоровне Алексеевой за то, что они не только вдохновили меня на сей труд, но и подвигли его исполнить.
При этом я осознаю, что все оказавшие мне помощь в работе над книгой люди не нуждаются в моей благодарности. Не ради благодарности и не ради меня они делали это, а ради светлой памяти Николая Константиновича.
ПРИЕМНЫЙ СЫН ДЕРЕВНИ
Николай Константинович Старшинов родился 6 декабря (по новому стилю) 1924 года в Москве, ставшей к тому времени столицей послереволюционной России. Сам он днем своего рождения, как уже сказано, считал еще и 19 декабря — на Зимнего Николу. Видимо, когда он рос, семейные события его родители отмечали по старому стилю, поскольку к новому, введенному в 1918 году, еще не привыкли. По этому поводу Николай Константинович шутил, что у него два дня рождения, и оба из них отмечал: первый — дома, с родными, второй — на работе, с коллегами и друзьями.
О родословной Старшинова известно немногое, и большей частью из его же произведений. Так, дед по отцовской линии «…век ходил за плугом по нашенской владимирской земле». До рождения своего внука, воспевшего его в стихотворении «Борозда» (1976), он, судя по всему, не дожил. Написано это стихотворение явно на основе семейных преданий, и в нем изложена история рода Старшиновых, история, в общем-то для Центральной России обычная:
Силенку-то мой дед имел,
И кроме
Он слыл весельчаком…
Да вот беда — В его большом и многодетном доме
Достатка не случалось никогда.
От недородов и долгов измучась,
Он сам не охладел к родным краям,
Но разделить свою крутую участь
Не пожелал подросшим сыновьям.
Голодным псом глядеть из подворотни?
Считаться самых низменных кровей?..
Нет, в городе оно куда вольготней!
И он в Москву отправил сыновей.
Забегая далеко вперед, скажем, что и сам поэт слыл весельчаком (достаточно вспомнить его знаменитое собрание частушек или перлы Ефима Самоварщикова), так что «ген веселости» вполне мог перейти к нему от деда Никиты. Кстати, обратите внимание, как причудливо изменилась в новорусском языке семантика слова «крутой» («крутая участь») по сравнению с семидесятыми годами прошлого века.
Сохранилась фотография 1890-х годов, на которой «крестьянин села Дергозина Владимирской губернии Никита Старшинов» запечатлен на фоне Чистопрудного бульвара в Москве. По какой надобности и как часто он бывал на Чистопрудном бульваре, к сожалению, неизвестно. Однако его сын Константин Никитич (отец поэта) указывает в автобиографии, что родился он 7 мая 1880 года в Москве. А для этого Никита Старшинов с супругой должны были в то время в ней жить. Так что скорее всего «в Москву отправил сыновей» не дед, а еще прадед поэта.
О деде по материнской линии сведений не имеется, так же как и о бабушке, кроме того, что были они крестьяне Тульской губернии.
А вот бабушек со стороны отца в поэзии Николая Старшинова оказалось сразу две. Одну, из стихотворения «Жил я когда-то в прекрасной деревне…», звали Глафира Андреевна; правда, поэт оговаривается, что она была ему «совсем неродной». Другая — «моя бабушка Анна», стирающая белье в речке и кормящая с руки буренку в стихотворении «Ива глядит из тумана…», его родная бабушка.
Родители поэта Константин Никитич и Евдокия Никифоровна, хотя и были московскими жителями, во многом сохранили крестьянские устои. Во всяком случае, семья была даже по тем временам многодетной: Николай стал восьмым и последним ребенком, мать родила его в 42 года. Он посвятил ей и ее памяти много пронзительных строк. Созданный им поэтический образ женщины-матери — ничуть не меньшая заслуга перед российской словесностью, чем шедевры его фронтовой лирики. А вот об отце, хотя в воспоминаниях он отзывается о нем с исключительной теплотой, в стихах упоминается лишь однажды, да и то в связи с матушкой. В поэзии Старшинова вообще наблюдается «дискриминация по половому признаку». Прекрасной половине человечества в ней уделено гораздо больше внимания, нежели сильной. Недаром почти все исследователи отмечали присутствие в его творчестве сильного женского начала.
Итак, в стихотворении «Твое имя» (1956) Старшинов детально, наверняка основываясь на реальных событиях, воспроизводит историю любви своих будущих родителей:
…Однажды приехал на Святки
К вам, в деревню Покровка,
Московский мастеровой
С разливной, голосистой,
Рыдающей двухрядкой.
Разве ты понимала,
Что это был суженый твой?
Он к тебе подошел
И, фуражку почтительно снявши:
— Добрый вечер! — сказал, —
Таково-то житье да бытье…
Как зовут тебя, барышня?
— Нянька… Нет… Дуня…
Фабула стихотворения состоит в том, что маму поэта, Евдокию, практически никто и никогда не называл по имени. До замужества (а замуж ее выдали восемнадцати лет) она служила в няньках, окружающие так ее и называли. Потом дети звали ее «мама», муж — «мать», внуки — «бабушка».
Проведя всю сознательную жизнь в заботах о детях, сначала чужих, потом своих, она «никаких гимназий не кончала», то есть никогда не ходила в школу, и с трудом могла читать и писать, научившись этому самостоятельно. Впрочем, в те годы это не было редкостью. Ее мужу с образованием повезло немногим больше: он окончил лишь три класса городского начального училища и с двенадцати лет пошел работать. В той же автобиографии он сообщает, что оставить учебу и «пойти в люди» вынужден был по настоянию отца. Судя по этому факту, «в большом и многодетном доме» Никиты Старшинова «достатка» действительно не было. Но более чем скромное образование не помешало Константину Никитичу в Первую мировую войну служить писарем, а после Октябрьской революции работать бухгалтером в «Экспортлесе». Так что если женился он, будучи мастеровым, как сказано в вышеприведенном отрывке, то, выражаясь современным языком, впоследствии сделал неплохую карьеру, пройдя в «Экспортлесе» путь от счетовода до старшего бухгалтера.
Однако должность бухгалтера на заре советской власти не была столь доходной, как теперь, на заре капитализма. Жила многодетная семья Старшиновых, еле-еле сводя концы с концами. Прокормить «ораву» — такое у нее существовало «самоназвание» — в восемь человек на зарплату скромного служащего было ой как непросто. А обуть и одеть — тем более. Особенно если учесть исторические реалии двадцатых — тридцатых годов.
«Пища у нас была самая простая и дешевая: мы трижды в день ели первое. Скажем, утром — щи, в обед — лапша, вечером на ужин — борщ. Ну и, конечно, каши, картошка. Никаких колбас, консервов, сыра. Я и сейчас больше всего люблю первое…
Между прочим, в семье у нас никто не жаловался на желудок — ни у кого не было ни гастритов, ни язвы…
Вспоминается мне и один забавный случай. Мой отец работал тогда в «Экспортлесе». По поводу какого-то юбилея у них должен был быть банкет. И моя мать уговорила его взять меня с собой. Мол, пусть Колька хоть что-нибудь вкусненькое там попробует.
И действительно, я «напробовался» там всяких мясных закусок, салатов, шпрот, плотно наелся вторым. И когда подали на стол сладкое — пирожные, торт, которых я ни разу не пробовал, — есть я уже не мог. Едва не плача от обиды, смотрел на них и только…» Так уже на склоне лет с присущей ему самоиронией вспоминал Николай Старшинов первый в своей жизни банкет.
Поскольку привычных в зажиточных семьях десертов вроде тортов и пирожных в доме не водилось, любимым лакомством у младшего поколения Старшиновых был посыпанный солью черный хлеб, обмакиваемый в подсолнечное масло. Даже в дни рождения детей праздничный стол не накрывался: именинника просто поздравляли, а подарком был поход в кино. Зато по воскресеньям, выделяя этот день из других, на столе появлялся и белый хлеб, к которому утром мать выдавала по кусочку сливочного масла. И лишь в редкие семейные торжества, когда приходили гости, накрывался праздничный стол, на котором были пироги с капустой и рисом, колбаса, сыр, шпроты. Детям такие торжества запоминались надолго.
Больших усилий стоило родителям и одеть свое многочисленное потомство. На обновки отцовской зарплаты не хватало, поэтому младшие донашивали то, что не успели износить старшие. Братьев у Николая было много, и до него вещи доживали благодаря лишь самоотверженным усилиям матери, которая, по его воспоминаниям, «вечно что-то перешивала, перелицовывала, выкраивала». Вспоминал он об этом и в стихах:
Она уже четыре дня
Была за швейною машиной:
Обнову шила для меня,
Для своего восьмого сына.
И столько испытала мук,
Чтобы, минуя все заплаты,
Мне куртку выкроить из брюк
И пиджака старшого брата!..
(«О детстве», 1945)
Не меньше времени у Евдокии Никифоровны поглощала беготня по магазинам и рынкам. Ей поневоле приходилось экономить и выискивать продукты, выражаясь словами автора «Горя от ума», «числом поболее, ценою подешевле». Если прибавить к этому необходимость топить печь, убирать в квартире, обстирывать кучу народа, то понятно, что возможности уделять много внимания детям у нее не было.
Тем более не было такой возможности у Константина Никитича. Шесть дней в неделю он проводил на работе, и почти каждое воскресенье к нему из деревни приезжали земляки со своими крестьянскими заботами. Он писал для них в различные инстанции письма, прошения, жалобы и т. д. — наверное, это пополняло как-то «продовольственную корзину» семьи, хотя деревня тогда и сама голодала.
Однако в семье свято соблюдалась православная традиция: на заутреню в церковь Спаса, что стояла когда-то на Большой Спасской улице, отец по воскресеньям водил всю семью. Потом, в середине тридцатых годов, эту церковь постигла участь большинства московских церквей: ее снесли. Картина ее уничтожения запечатлелась в памяти будущего поэта: «Сначала пригнали трактора, накинули тросы на колокольню. Трактора с разгону пытались обрушить ее, но тросы обрывались. И тогда ее взорвали…»
Через много лет, уже в начале девяностых годов XX века, когда отменили «Главлит» и в редакцию поэзии издательства «Молодая гвардия» стали в большом количестве поступать рукописи с религиозной тематикой, Николай Константинович пожаловался однажды своему коллеге, что подборки молодых авторов раздражают его слишком частым употреблением слова «Бог». «Понимаешь, — сказал он, — ведь это для них стало литературным приемом!» Коллега, сам в ту пору молодой человек, в душе с ним не согласился, сочтя, что раздражение мэтра во многом обусловлено атеистическим воспитанием старшего поколения советских людей. Он (а это был ваш покорный слуга) тогда понятия не имел, что мальчиком его старший товарищ еженедельно выстаивал заутрени, а потом видел, как церковь, в которой его крестили, сносят с лица земли…
Но вернемся к родителям поэта. Была у его отца еще одна «традиция», уже не православная, хотя и русская. Поведать о ней будет корректнее словами самого Николая Константиновича:
«Сколько я помню, отец ежедневно выпивал. Зарплату отдавал матери до копейки. Но оставался после работы на сверхурочную службу. И этот приработок шел на выпивку. Придя домой вечером, он выпроваживал всех из кухни и готовил себе закуску. Ставил на керосинку большую сковородку и выкладывал на нее все, что осталось у нас от завтрака, обеда и ужина: гущу от щей, от лапши, борща, кашу, картошку. Если оставались кусочки селедки, они тоже шли на сковородку, и даже оставшийся кисель попадал туда же. Потом он все это поджаривал до корочки. Резал на кусочки. А потом каждую рюмку закусывал этим блюдом.
Прямо против нашего окна, на той стороне переулка, был кинотеатр «Перекоп». И отец не без юмора говорил о своей закуске: «Это мое фирменное блюдо — перекоп!» Действительно, там все было перекопано…»
Надо полагать, для обремененного большим семейством и рутинной службой бухгалтера ежевечерняя порция спиртного была единственным удовольствием, которое он мог себе позволить. Но при всех трудностях жизни Константин Никитич сохранил добродушный характер: он никогда не повышал голоса и не применял мер «физического воздействия» при воспитании детей. А главное, по натуре он был оптимистом, благодаря чему постоянную нехватку денег и другие «мелкие неприятности» его семейство переносило стойко и с юмором.
Желание доставить домашним радость нередко толкало Константина Никитича на непрактичные покупки, сокращавшие и без того скудный семейный бюджет. Так, однажды он купил ребятам подержанный велосипед, который в те годы считался роскошью. Но тот через несколько дней развалился, поскольку оказался совершенно изношенным. Потом к совершеннолетию старшего сына приобрел старое ружье, которое, хотя и было иностранным, не стреляло вовсе. Затем как-то по весне купил в Загорске (ныне Сергиев Посад) козу, чтобы обеспечить семью, переезжавшую на лето в деревню, молоком. Он вел ее пешком до дома пятнадцать километров, но коза вскоре околела, оказавшись больной. Случались и другие авантюры подобного рода. Представляя свою покупку, Константин Никитич имел привычку приговаривать: «Ну вот вам велосипед-самокат!..» Или: «Ну вот вам ружье. Оно само будет стрелять!..» Или: «Вот купил вам козу. Она сама будет доиться!..»
По этому поводу его дети сложили шутливое присловье: «Живем теперь хорошо. У нас есть теперь все: велосипед-самокат, ружье-самострел, иголка-самошвейка, поросенок-саморосток, коза-самодоилка!..» Шутила ли по этому поводу хозяйка дома, берегшая каждую копейку, остается только догадываться. Но при детях, во всяком случае, родители не поругались ни разу. Кстати говоря, младшему сыну Константин Никитич, очень любивший музыку, как-то купил гармонь, тоже, конечно, подержанную, которую тут же окрестили «гармошка-самоигралка». История умалчивает, как долго она прослужила, но и уже вернувшись с войны, Николай имел обыкновение на ней наигрывать.
Несмотря на некоторую иронию, с которой домашние воспринимали хозяйственные «комбинации» (так они их называли) отца семейства, авторитет его был непререкаем. Даже любимые ими шутки про «самодоилки», «самоигралки» и т. д. при отце не озвучивались. Хотя, как уже говорилось, он никогда и пальцем никого не тронул. А вот матушка могла иногда в сердцах стегануть своих непослушных чад ремнем. «Правда, потом, — пишет в воспоминаниях Старшинов, — плакала, показывала на своих ногах огромные, вздувшиеся от неоднократных родов и беготни вены: — Вот лопнут, тогда узнаете, как жить без меня… Еще пожалеете, что не слушались…» После этого братья расходились по углам притихшие и пристыженные.
Был в воспитательном арсенале матушки будущего поэта еще один действенный прием, рассчитанный на пробуждение в детях сыновних чувств. Зимним утром, когда квартира за ночь остывала и следовало затапливать печь, она начинала собираться в сарай за дровами, приговаривая при этом как бы про себя, что надо бы, дескать, дровец принести. Долго искала веревку для вязанки, не торопясь одевалась — братья дружно делали вид, будто ничего не видят и не слышат. Наконец она выходила в коридор, и тот, у кого первого не выдерживали нервы, а вернее, просыпалась совесть, бросался ее догонять, возвращал в дом и шел за дровами сам.
Эта ситуация повторялась изо дня в день, превратившись в своеобразную психологическую семейную игру. Согласитесь, выходить из тепла на мороз, собирать в вязанку заледеневшие поленья, тащить их по лестнице — не самое большое удовольствие для подростка. Поэтому «проигрывал», то есть шел за дровами тот, у кого на данный момент оказывалась выше сознательность. Интрига же игры заключалась в том, что следовало «придержать» свою совесть на те мгновения, в которые догонять матушку бросится кто-то другой из братьев, но позволить ей самой идти в сарай при любом «раскладе» нельзя.
Зато в воскресенье, когда дома был отец, никакой игры не получалось. Первому, кто попадался ему на глаза, он велел идти за дровами, и поручение немедленно и беспрекословно выполнялось.
При разном подходе к методам воспитания родители были едины в желании дать детям хорошее образование. Отец, видимо вспоминая свое детство, часто повторял им одну фразу: «Вы учитесь… Ничего, как-нибудь проживем…» И они учились, проявляя завидное упорство. Когда одного из братьев не принимали в университет, поскольку детей служащих тогда в высшие учебные заведения брали с ограничениями, чтобы освободить дорогу к высшему образованию для пролетариата, он пошел работать электромонтером и, заработав рабочий стаж, в университет все-таки поступил.
В результате все братья достигли, каждый в своей области, значительных успехов. Старший из братьев, Лев, 1909 года рождения, пошедший по стопам отца, стал крупным финансистом, одно время служил даже начфином кремлевского гарнизона. Константин, родившийся в 1911 году, стал ученым — кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрами сразу в двух институтах. Родившийся в 1916 году Петр дослужился до капитана первого ранга, командовал крейсером «Дзержинский», затем был заместителем начальника штаба Балтийского флота. Сергей, предпоследний ребенок в семье, родившийся в 1922 году, прошел путь от слесаря-инструментальщика до главного инженера ленинградского завода грампластинок «Мелодия».
Их единственная сестра Серафима, 1913 года рождения, была для младших братьев — Сергея и Николая «и мамкой, и нянькой», пока в 1935 году не вышла замуж. Овдовев в войну, она подняла на ноги двоих детей, работала старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте текстильной промышленности.
Все братья материнскими молитвами на войне уцелели, и хотя жизнь разбросала их по городам и весям необъятной страны, каждый год 14 марта, в день рождения Евдокии Никифоровны, они собирались в ее доме вместе с женами и детьми. Как вспоминает одна из ее многочисленных внучек, «бабушка всегда торжественно готовилась к этому дню: пекла пироги с капустой и мясом и собирала угощение…». Еще бы: гости собирались не только из Москвы — из Владивостока, Новосибирска, Ленинграда.
Николай Константинович, уже будучи известным писателем, очень гордился своей семьей. У него даже была теория, согласно которой единственный ребенок в семье подобен сосне, выросшей в чистом поле. Крона такой сосны развесиста, но ствол искривлен и уродлив. Ни на что путное — ни для постройки избы, ни на мачту корабля — она не годится. Другое дело — сосна, выросшая в лесу! Там она вынуждена тянуться вверх, поэтому вырастает высокая, стройная — людям от нее много пользы…
Но вернемся в его детские годы. К тому времени, с которого он себя помнит, а это, надо полагать, конец двадцатых годов, из восьми детей в семье Старшиновых осталось шесть. («Планированием семьи» посредством абортов тогда не грешили — рожали, сколько Бог даст. А если ребенок умирал во младенчестве, говорили: «Бог дал — Бог взял».) Жили, как это принято в многодетных семьях, дружно, при этом на старших возлагалась забота о младших. Николай, как самый младший, оказался в «привилегированном» положении — о нем заботились все. В своих воспоминаниях он даже сетует на то, что слишком частые поблажки со стороны старших отрицательно сказывались на его воспитании: он рос в определенной мере избалованным ребенком. (Нам, конечно, трудно представить себе «избалованным» ребенка, чье любимое лакомство — черный хлеб с солью и постным маслом.)
Старший из братьев — Лев был в ту пору уже практически взрослым человеком и по отношению к младшим выполнял роль «второго отца». Например, когда Николай заболел скарлатиной — болезнь и сейчас опасная, а тогда часто смертельная, — именно он отвез его в больницу. Он же и навещал его там. В палату, правда, посетителей не пускали: инфекционное все-таки отделение, но через открытое окно можно было передавать маленьким «затворникам» их любимые игрушки. А вот матушку домочадцы в больницу не пускали после того случая, как, увидев ее, больной разревелся. При старшем же брате он плакать стеснялся, будучи «мужчиной».
Помимо «второго отца» была у Николая и «вторая мама» — сестра Серафима. В число ее домашних обязанностей входил присмотр за младшими братьями. Она же занималась и «эстетическим развитием» будущего поэта: читала ему детские книжки, знакомила, как говорится, с устным народным творчеством в виде разнообразных куплетов, песенок и частушек, которые знала во множестве. Первые поэтические строки, сохранившиеся в его памяти, были такие:
У меня калоши есть,
Берегу их к лету.
А по совести сказать,
У меня их нету.
Это сейчас калоши стали почти анахронизмом, а в Москве тридцатых годов их отсутствие говорило о материальной несостоятельности.
С раннего детства приучали Николая и к классической литературе. Дело в том, что в семье Старшиновых уцелело, несмотря на все перипетии революционных лет, довольно много старых книг. Отец еще до революции подписывался на журнал «Нива», и сохранились все приложения к нему, включавшие русскую и зарубежную классику. Совместное ежевечернее чтение (к сожалению, ныне утраченная традиция) этих книг, судя по воспоминаниям поэта, было в семье целым ритуалом:
«Каждый день после ужина за прибранным столом собиралась вся наша семья. И кто-то из старших братьев или сестра читали нам вслух стихи. Два, а то и три часа.
Зато к четырнадцати-пятнадцати годам я очень неплохо знал русскую поэзию. Да и не только русскую.
Пушкин, Лермонтов, Крылов, Кольцов, Некрасов, Тютчев, Фет, Никитин, Суриков, А. К. Толстой, Полонский, Апухтин, Бунин, Блок, Есенин, Маяковский и другие поэты с тех пор остались в моей памяти. А еще Лонгфелло, Беранже, Гейне и даже «Фауст» Гете».
«Неплохо знал» — конечно, мягко сказано. Николай Константинович знал сотни стихотворений наизусть, поскольку обладал поистине феноменальной памятью на стихи, не утратив эту удивительную способность запоминать их на слух и в зрелом возрасте. Кстати, обратим внимание на слово «зато» во втором абзаце приведенных воспоминаний. Оно свидетельствует о том, что ребенку, даже будущему поэту, не так-то просто усидеть три часа на одном месте, слушая «взрослые» стихи.
А вот что он слушал с неизменным удовольствием, так это оперы, хотя сам потом признавал этот выбор странным. Но этому есть объяснение. В тридцатые годы по радио (а оно заменяло тогда телевизор) оперы звучали очень часто. Их транслировали прямо из театров: Большого, Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Оперной студии имени Шацкого. Репертуар этих театров еще мальчиком Старшинов выучил практически наизусть. Уже в шестидесятые годы прошлого века за громогласное исполнение арий из опер Моцарта, Вагнера, Глинки, Чайковского и других, в том числе не слишком известных композиторов, он будет не единожды отлучен от ресторана Центрального дома литераторов, тогда еще соответствующего своему названию.
Конечно, операми не ограничивалось «музыкальное образование» Николая. Любили петь и в семье, по праздникам за столом звучали русские народные песни. Еще одной «школой искусств» был двор:
«Теплыми весенними и летними вечерами на скамью под тополями усаживался с гитарой старый холостяк Борис Иванович. И давал целый концерт. В его репертуаре были городские песенки и куплеты времен нэпа и последующих лет, бытующие в Москве. Пел он их вполне серьезно, даже трагично, хотя многие из них звучали комично, пародийно. Были наивны, но и трогательны».
В качестве примера «наивной трогательности» поэт приводит такую запомнившуюся ему песенку:
Жизнь наша потока быстрее,
Пусть мчится, пусть мчится она,
Покуда невинная фея
В бокал наливает вина.
Спешите жить, спешите жить,
Чтоб все от жизни взять.
Ведь все равно, ведь все равно
Придется умирать…
Исполнялись Борисом Ивановичем и довольно известные в то время куплеты, не лишенные афористичности:
Если вы утонете
И ко дну прилипнете,
Год лежите, два лежите,
А потом привыкнете.
Если вас разденут раз,
Вы невольно вскрикнете.
Раз разденут, два разденут,
А потом привыкнете!..
Дворы в старой Москве вообще были особыми мирами, теперь исчезнувшими. Не был исключением и двор, в котором прошло детство Николая. Его семья жила в двухэтажном деревянном доме на восемь квартир в Грохольском переулке (это рядом с институтом Склифосовского).
Квартира, кстати, У Старшиновых была отдельная, трехкомнатная, что в те годы в общем-то являлось роскошью. Племянник поэта Константин Константинович Терентьев, долгое время там проживший, вспоминает.
«Дом был старый. В большой комнате по углам стояли подпорки, которые удерживали потолок от падения. Зимой температура в комнате была приблизительно плюс 12–13 градусов. Семья у дяди Колиных родителей была большая, и поэтому квартира была без соседей. Но в то время все дети разлетелись. В квартире было три комнаты, кухня, туалет. Две комнаты были примерно по 8–9 квадратных метров, большая — 18. На кухне были русская печь с лежанкой и керосинка, водопровод. Между комнатами была еще голландская печь. Русскую печь бабушка топила по большим праздникам (церковным) и пекла пироги. В комнатах был порядок — никаких лишних вещей, только все самое необходимое. Убранство большой комнаты (гостиной) — книжный шкаф, полный книг, сундук, где хранились внесезонные вещи, комод с бельем, а на нем зеркало, часы-ходики, обеденный стол и просто стол, тумбочка, кровать. В прихожей был звонок — колокольчик».
Рядом с деревянным стоял трехэтажный кирпичный дом на двенадцать квартир. Вместе с несколькими дровяными сараями и шестью огромными тополями два этих дома и образовывали двор с населением около ста человек. Причем двор был огорожен каменным забором; видимо, до революции все это принадлежало одному хозяину. Атмосфера во дворе напоминала семейную. Как в любой семье, случались ссоры, не обходилось порой без скандалов, но жили при этом именно семьей, то есть обособленной «ячейкой общества».
Отопление в домах было печное, потому жильцы запасались на зиму топливом. И вот когда кому-нибудь привозили дрова, все дееспособное население выходило на помощь. А мороки с дровами немало — разгрузи, распили, расколи и убери в сарай. В двух домах — двадцать квартир. Значит, никак не меньше двадцати авралов в год. Давно известно: ничто так не объединяет, как совместный труд. Конечно, эта взаимопомощь была жизненно необходима: не убери дрова вовремя на место, может статься, что убирать будет нечего. Даже анекдот такой ходил: ««Хозяин, дрова нужны?» — «Нет!» Утром проснулся — дров нет». Приходил весь двор на помощь и тогда, когда у кого-то из жильцов случалось несчастье…
В наше время интернационализм не в почете, но в своих мемуарах Старшинов акцентирует внимание на этом вопросе, поэтому обойти его нельзя. Цитирую: «Разнообразным был состав жильцов: кроме русских жили татары, мордва, евреи, поляки. И никогда на почве национальной не было у нас инцидентов. Действительно, была дружба народов, над которой сейчас иронизируют. Но она была, была!..»
«Дети разных народов», говоря словами известной в свое время песни, вместе играли во дворе в салочки и казаков-разбойников, чижики и классики, гоняли футбольный мяч. Но самым популярным занятием было запускание воздушных змеев, все провода вокруг были опутаны нитками и мочалками от змеиных хвостов.
Ребята постарше играли в лапту и городки, сражались в волейбол и дрались со сверстниками из соседних дворов. В рассказе Старшинова «Мои новые ботинки», во многом автобиографичном, есть эпизод, когда дворовый хулиган Сынок, персонаж крайне отрицательный, защищает главного героя от хулиганов из другого двора. И дело тут не в проснувшихся в нем добрых чувствах, а в существующем порядке. Перефразируя известную английскую пословицу, подросток той эпохи мог бы сказать: «Мой двор — моя крепость».
Когда выпадало много снега, ребята дружно помогали дворнику дяде Ване вывозить его со двора на улицу. Вы в детстве когда-нибудь помогали вашему дворнику убирать снег? Или хотя бы помните, как его звали? Я, например, нет.
Во взрослой жизни Николай Константинович был человеком на удивление общественным. Вокруг него всегда объединялись люди: друзья, ученики, коллеги, поклонники. И в строю, говоря его словами, он чувствовал себя, как дерево в лесу. Нет никакого сомнения, что немало этому способствовало его «дворовое воспитание».
И все же самое большое, решающее влияние на «воспитание чувств» будущего поэта оказал удивительный мир русской деревни.
«…Мне и сегодня видится наше село Рахманово, залитое ярким утренним солнцем, наша, четвертая от церкви, изба-пристройка, идущие к заутрене старухи в черных платьях, с ботинками, перекинутыми на шнурках через плечо (обувь из бережливости надевалась только перед церковью. —
С. Щ.); перевалившиеся за палисадники кусты цветущей сирени, огромные лохматые ветлы, усыпанные грачами, галками и воронами. В ушах еще стоит их ярмарочный яростный гомон.
Помнятся наши детские игры — бабки, городки, лапта — и мои грибные походы и рыбалки. Я целыми днями пропадал в лесу, или на речке Сумери, или на мельничном омуте у Вори, за что и получил от мальчишек прозвище Лесовик.
А старые угольницы (места перегонки дров на древесный уголь. —
С. Щ.), где мы лакомились самой сладкой земляникой, куда мы ходили по вечерам собирать ночные фиалки и светлячков!..
Конечно, помню я и песни, и частушки, которыми славилось наше Рахманово…»
Все это Николай Старшинов написал в автобиографии для книги «Лауреаты России» после присуждения ему Государственной премии имени М. Горького. Было это в 1984 году. А ровно за шестьдесят лет до этого, в год рождения восьмого сына, Константин Никитич решил, что семье нужен свой «домик в деревне». Родная деревня его отца — Дергозино — была далековато, с таким семейством не наездишься, и выбор пал на село Рахманово, откуда была родом его мать. Оно расположено поблизости от платформы Ашукинская Ярославской железной дороги, то есть совсем недалеко от Москвы. Там и была поставлена небольшая изба-пристройка, примыкавшая к другой избе, в которой, по всей вероятности, жили родственники Константина Никитича по материнской линии. С тех пор каждое лето вплоть до самой войны младшие дети (кто еще не окончил школу) проводили на природе, ведя деревенский (именно деревенский, а не дачный) образ жизни под присмотром Евдокии Никифоровны.
Самое первое деревенское впечатление Николая оказалось не слишком приятным, поскольку связано с пережитым страхом:
«В большой компании деревенских ребятишек мы ходили по грибы. Мне и было-то всего лет пять-шесть, и со мной была моя мать. Мы уже возвращались домой, вышли из леса на луговину, когда увидели мчащегося на нас быка. На его рогах что-то горело, он был разъярен.
Как мы узнали потом, работающие на большой дороге (Ярославское шоссе. —
С. Щ.) каменщики решили позабавиться — каким-то образом надели ему на рога бересту, подожгли ее и разбежались. Вот он и разбушевался — раскидал весь их инвентарь: лопаты, кирки, тачки и самовар. В это время мы вышли к нему из леса. И он бросился на нас. Мать вскинула меня на плечи и понеслась со мной к лесу. Другие ребятишки — они были постарше меня — бросились врассыпную кто куда.
За одним из них — он был в красной рубахе — бык и погнался.
Парнишка взлетел, как белка, на березу. Бык долго прыгал вокруг нее, бодал ее, мычал, бил землю ногами…
Помню, что вечером, когда пригнали стадо в деревню, бык набросился на своего хозяина, хлестнувшего его кнутом, катал по земле и пропорол ему живот. Хозяин едва спасся, схватив быка за кольцо, вдетое в нос. Подоспевшие соседи отогнали рассвирепевшее животное».
Конечно, проучить кнутом следовало не животное, а тех идиотов, которые устроили у него на голове костер. Но, видимо, хозяину быка крепко досталось от родителей напуганных ребятишек, и он решил устроить над ним «показательный процесс», за что и поплатился. Но это к слову.
Важно то, что этот страшный случай ничуть не помешал прямо-таки всепоглощающей любви маленького Николая к местной природе. Как только его начали отпускать на речку одного, а произошло это еще в дошкольном возрасте, он стал пропадать у воды целыми днями. То ли старшие братья и деревенские друзья не выдерживали его «ритма жизни», то ли он с детства предпочитал общаться с природой один на один, но компании у него на рыбалке обычно не было. Купаться в жаркий июльский день на той же речке, или идти в ночной поход за светляками, или ворошить в сенокосную пору сено — это, конечно, веселее в коллективе, а вот рыбалка, если относиться к ней серьезно, требует уединения.
Казалось бы, о какой серьезной рыбалке может идти речь, если речку в некоторых местах можно перешагнуть, а у рыбака вместо лески на самодельной удочке обычная швейная нитка с маминой катушки и крючок из проволоки. Оказывается, может. Все дело в отношении. Главное — проснуться до солнца — а летом оно встает ой как рано, когда другим ребятам снятся самые сладкие сны, — и успеть к утренней зорьке на свое заветное уловистое место. И не важно, что ловятся в этом месте окушки размером с палец, важен сам процесс.
Был, правда, здесь и один неприятный момент. Путь к речке начинался с узкой тропинки между своим и соседским огородом, где обитал страшный и ужасный дед Шишок с огромной черной бородой, багровым носом и злыми глазами. И как бы ни прокрадывался мимо него каждое утро маленький рыболов, дед Шишок все равно его обнаруживал и бормотал вслед (уже бегущему со всех ног) разные непотребные ругательства. Никакого отношения к нечистой силе он, конечно, не имел, а сторожил от мальчишек свой выкопанный в огороде погреб, в котором сохранялись на заготовленном
с зимы льду кринки с молоком. Потому и принимал крадущегося на рассвете сорванца за вора. Это было понятно, но все равно страшно.
Остальной же путь босиком по сверкающей на всходящем солнце росе был сплошным удовольствием и сопровождался только приятными встречами. Дойдя до речки, рыбачок шел вдоль нее к своему заветному бочагу, непременно в двух местах останавливаясь, чтобы проверить, как чувствуют себя его старые знакомые. Это были несколько крупных плотвиц, всегда в эти утренние часы плавающие под кустом ивняка, и один маленький щуренок, греющийся на солнышке в крохотном заливчике рядом с листом кувшинки. Ловиться на удочку ни те, ни другой не желали, все попытки перехитрить их с помощью разнообразных насадок закончились ничем, зато теперь ими можно было каждое утро любоваться.
Заветный бочаг со всех сторон
зарос ольхой и черемухой, сплошь оплетенными хмелем. А между ними стеной во весь рыбацкий рост стояла крапива, и в ней им были протоптаны тропинки к воде. Речка здесь глубокая, но коряжистая, поэтому ужение требовало немалого мастерства, чтобы не зацепить снасть за коряги или нависшие над водой кусты. Зато окуньки клевали безотказно.
А однажды улыбнулось ему настоящее рыбацкое счастье: поймал он на свой самодельный крючок большую щуку и даже подвел ее благополучно на обычной нитке к берегу, где она, ошарашенная таким нахальством, позволила взять себя за жабры и выбросить из воды. Рыбак, схватив свою добычу в охапку, помчался с ней домой и от восторга кричал так, что посмотреть на нее собралось полдеревни. И все удивлялись безмерно, а он стоял «счастливый на всю жизнь», как напишет потом в рассказе «Моя первая щука».
Эта щука, опрометчиво позволившая себя поймать семилетнему мальчишке, сослужила своим сородичам плохую службу. Она превратила его из просто страстного рыболова именно в «щуколова».
Я думаю даже, что вряд ли кто-нибудь из рыбаков-любителей за свою жизнь выловил на удочку больше щук, чем Старшинов.
Неразрывно связаны с Сумерью и другие важные события в жизни маленького Николая. Здесь его учили плавать. Так, как это принято у деревенских мальчишек: раскачав за руки и за ноги, бросают «ученика» подальше в воду, и он, нахлебавшись воды, поневоле осваивает стиль «по-собачьи». Методика, как утверждают все, по ней обучавшиеся, безотказная.
Ежегодно, когда после спада воды речка совсем мелела, собравшиеся со всего села ребята устраивали «субботник» по строительству запруды. Это был настоящий трудовой праздник, доставлявший участникам много удовольствия. Кульминацией праздника являлась массовая охота на неуспевшую уйти с иссякшей на время водой живность: раков, гольцов, налимов.
Став немного постарше, лет с двенадцати, Николай начал ходить на другую протекавшую неподалеку речку — Борю, воспетую еще Аксаковым. Она больше Сумери, говорят, в ней и сейчас можно поймать рыбку-другую, а тогда она, по словам Старшинова, «была чистой и рыбной». Он, во всяком случае, «без хорошего улова с нее не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и две-три щуки».
Рыбачил он в омуте Истоминской мельницы. Что такое мельничный омут и как в нем ловили рыбу, лучше рассказать словами очевидца:
«Мельничные омуты, которых теперь и не найдешь, имели много общего между собой. Мне так и думается, что каждый из них изображен Левитаном.
Этот бревенчатый настил, эти кладки, повисшие над быстротекущей водой, эти кусты ивняка, окружившие бегущую воду. А по краям омута — кувшинки…
Мельничные омуты всегда были украшением природы. Человек, нисколько не обижая и не уродуя ее, создавал новую красоту.
Этот шум падающей воды, это воркование слетевшихся к мельнице голубей!.. Еще мальчишкой в те далекие годы я написал стихи, одни из первых, — так очаровал меня тогда мельничный омут.
И тропинки эти мне знакомы,
И крутой уклон горы знаком.
И шумит, шумит призывно омут
Где-то здесь, за ближним ольшняком.
Я стою у самого обрыва.
За спиною — темный лес застыл.
Предо мной, внизу — реки заливы,
У воды — бревенчатый настил…
И вот я выходил на этот старый бревенчатый настил, ложился на бревна и долго разглядывал в щели гуляющую под ним рыбу.
Там поспешно проплывали стаи плотвы, притаившийся у сваи окунь вылетал за зазевавшимся пескарем. Степенно проходила стая язей…
А ловить с настила было почти невозможно — близок локоть, да не укусишь: туда никак нельзя было закинуть снасть. А если и удавалось это, то попавшуюся рыбу никак нельзя было вытащить — она не проходила в щели между бревнами.
Я отлавливал несколько живцов, ставил две-три жерлицы (снасть на щуку. —
С. Щ.) возле кустов, а сам занимался ловлей плотвы и окуней на удочку.
Целый день я крутился возле омута.
Здесь же и купался, если было жарко, здесь же ловил рыбу, собирал ягоды и грибы…»
Этой идиллической картине менее семидесяти лет. Сейчас в тех местах дача на даче, а тогда этим рукотворным уголком природы Николай наслаждался большей частью в одиночестве. Зерно на мельнице уже не мололи, она была приспособлена под лесопилку, которая работала лишь время от времени.
Уединенность у облюбованного омута обернулась однажды для Николая первым серьезным жизненным испытанием. Торопясь спрятаться от разразившейся грозы под мельничной кровлей, он не заметил оставленную под опилками дисковую пилу и очень сильно порезал пятку. Просить помощи было не у кого, и ему пришлось, перевязав рану разорванной майкой, добираться до дома пять километров по лесу под проливным дождем. При этом надо было поторапливаться, поскольку надвигалась ночь, да и кровь не унималась. Прежде он не замечал, как много на пройденном десятки раз пути ям и кочек.
На следующий день его отправили в Москву, где сделали операцию, и целый месяц он ходил на костылях. (Жизнь вообще как-то немилосердно обращалась с ногами Старшинова, всегда легкого на подъем, готового в самую дальнюю дорогу. Даже после тяжелейших фронтовых ранений он сохранит до последних дней свою любовь, говоря словами Марины Цветаевой, к «пешему ходу».) Неизвестно, рыбачил ли Николай после этого случая на Истоминской мельнице, или же он произошел уже в предвоенный год.
Война и смерть отца оборвут связь остальных членов семьи Старшиновых с Рахмановом. После войны поэт посетит родные места лишь дважды. И обе встречи не принесут ему радости.
Первый раз это произойдет в середине шестидесятых. Он пробудет там всего полчаса, видимо проездом, зайдет в родную избу-пристройку, с горечью обнаружит, что ничего, связанного с его детством — старого комода, длинных вместительных скамеек, — не сохранилось; все вещи и книги — чужие. Ему расскажут, что принадлежали они тем самым Акундиновым, которые перед войной поселились в соседнем доме, а во время войны перебрались в пустующую пристройку.
История семьи Акундиновых трагична. Главу семейства, командира крейсера, и его жену, политработника, репрессировали, а недееспособных членов семьи — бабушку и двух девочек-подростков — выселили из Москвы. Со старшей из сестер, Люсей, Николай тогда подружился, поскольку оба увлекались поэзией. Дружили они так: Люся вдохновенно читала свои стихи, а Николай, занимавшийся в московской литературной студии, нещадно их критиковал за старомодность.
Говорили они и о родителях Люси. Она утверждала, что папа и мама — честные люди, никакие не враги народа, и забрали их по ошибке. Николай категорически с этим не соглашался, поскольку «был пятнадцатилетним мальчишкой, который верил в то, что все происходящее в стране правильно, справедливо». Кроме того, он рос в простой семье, среди его близких и знакомых репрессированных не было, потому о темной стороне строительства нового мира он, как и многие его современники, ничего не знал.
Покидая родную избу, поэт возьмет на память книгу стихотворений К. Р. — великого князя Константина Романова, изданную еще до революции. Среди стихов великого князя он благодаря своей феноменальной памяти узнает те, что читала ему когда-то Люся, выдавая в надежде произвести на юношу впечатление за свои:
Напоенный душистым дыханьем берез,
Воздух в юную грудь мою просится, —
И волшебных, чарующих полная грез
Далеко моя песня разносится!
И улыбнется грустно невинному плагиату, и вспомнит, как упрекал «автора» в старомодности.
А через несколько лет после этого он узнает, что их избу-пристройку снесли, как бы оборвав связь времен между ним и его детством. Но в самом конце восьмидесятых сердце Николая Константиновича не выдержит долгой разлуки с родными местами, и он вновь посетит Рахманово. Подивится тому, что гора, на которой стоит село, стала по сравнению с детскими годами ниже, а луг рядом с ней — меньше. Расстроится из-за того, что сильно обмелела и заросла речка и никто не строит на ней запруд. Пройдет по асфальтовой дорожке мимо знакомой церкви и того места, где стояла родная изба. Зайдет на кладбище, где ему покажут заброшенную могилу Люси и расскажут конец ее печальной истории: она умерла во время войны от голода, заперевшись от жестокого к ней мира в той самой избе-пристройке.
Есть у Старшинова удивительное, полное грустной нежности стихотворение:
Ива глядит из тумана
На отраженье свое.
Здесь моя бабушка Анна
В речке стирала белье.
Утром буренку поила,
Хлебом кормила с руки…
В гуще прибрежного ила
Роются кулики.
В этих вот, с детства знакомых,
Лучших на свете местах
Сам я бродил меж черемух,
Слушал неведомых птах.
Здесь я, теряя рассудок,
Видел, как возле реки
Из голубых незабудок
Ты заплетала венки.
(«Ива глядит из тумана…», 1986)
Это о Рахманове, о Сумери и, наверное, о Люсе.
Но вернемся в Москву, в школьные годы Николая Старшинова. Его 282-я школа и по сей день стоит на своем месте, правда, сильно видоизменившись. Мало того, в ней потом училась дочь поэта Рута, а совсем недавно и внук Антон. Она да еще находящиеся рядом Астраханские бани — единственные, пожалуй, уцелевшие архитектурные свидетели его жизни в то далекое от нас время.
Учился он без особых проблем, но, по собственному его признанию, не слишком усердно. При этом степень усердия целиком зависела от того, какие чувства вызывал у него тот или иной педагог (речь идет о старших классах). Добросовестнее всего, например, он зубрил английский, потому что «англичанка» Лидия Сергеевна, она же классная руководительница, была молода, «чрезвычайно красива» и обаятельна. Все ребята в классе были к ней неравнодушны, что весьма способствовало хорошей успеваемости по данному предмету. Даже через много лет Николай Константинович мог к случаю «блеснуть» в шутку знанием слова «table» («стол»). Правда, при этом припоминал, что любимая учительница так и не смогла добиться от него правильного (английского) произношения звука «t», пришлось ей смириться с обыкновенным русским «т».
Очень нравилась Николаю математика, поскольку вел ее добрейший Николай Андреевич. Он и пошутить любил, и в шахматы с ребятами играл. А когда началась война и он ушел на нее добровольцем, то с фронта писал Николаю письма, настолько они были дружны.
А вот уроков литературы будущий писатель не любил, и оценки по этому предмету у него были неважные, хотя, как мы помним, знал наизусть множество стихотворений и хорошо ориентировался в русской и мировой классике. Да еще и сам пробовал писать стихи. Казалось бы, должен ходить в любимцах у учительницы литературы, но именно с ней отношения не сложились: она была равнодушна к его дарованиям, он — к ее урокам. А потом при участии этой дамы, которая к тому же была завучем, произошло событие, настолько глубоко потрясшее юную душу, что рассказать о нем своими словами я не берусь. Поэтому цитирую:
«Мне еще с восьмого класса очень нравилась одна девочка из соседнего класса. А если точнее сказать, это была настоящая первая моя любовь. Чистая, многолетняя, безответная. Да сама девочка и знать не знала о моих чувствах к ней.
Будучи пареньком непосредственным, я не мог сдержать своих эмоций и однажды написал в школьном дневнике: «Мне очень нравится Клава Е.!».
Когда Евфросиния Васильевна (та самая «литераторша». —
С. Щ.) увидела эту запись, она вызвала меня в учительскую, задала мне взбучку и пригрозила: «Погоди, я вывешу твой дневник с этими позорными признаниями на доску, чтобы все видели, до какой глупости можно дойти, если твоя голова забита всяким мусором!..»
После этого «разговора» ни о каком контакте с ней не могло быть и речи. Я переживал, что она действительно покажет всей школе мой дневник, что его увидит и сама Клава Е. И ей будет стыдно за меня и за себя…
Несколько дней я ходил как убитый в ожидании наказания… К счастью, своей угрозы Евфросиния Васильевна не выполнила…»
Хотя Евфросинии Васильевне хватило ума не доводить дело до позора, в рассказе «Мои новые ботинки», написанном уже в 1960 году, она под именем Нины Ворчалеевны приведет свою угрозу в исполнение. Будет фигурировать в рассказе и Клава Е. под «псевдонимом» Наташа Цветкова. А в поэме «Песня света», целиком посвященной его первой любви, Старшинов представит ее читателю как Галю Чайковскую. Чувство это существенным образом повлияло на его творчество.
Даже в автобиографии 1984 года он напишет:
«…Не могу забыть свою первую школьную любовь, такую светлую и такую горькую и безответную, — она, вопреки утверждению поэта, никак не может «отосниться» мне «навсегда»…
С ней связаны едва ли не самые главные в жизни мечты — мечты «о доблестях, о подвигах, о славе». О своей прекрасной Незнакомке, девочке с печальным, «сумеречным светом глаз», летящей по Садовой-Спасской улице в мою 282-ю школу…»
Горячо и безответно влюбленный юноша, к тому же с детства часами слушавший стихи, был обречен на то, чтобы самому начать писать их. Так оно и случилось. Правда, свои первые стихотворные строки Старшинов написал в честь победы испанских республиканцев над фашистами под Теруэлем. Время было такое: школьники носили пилотки-испанки в знак солидарности с борцами за республику и на больших картах Испании, которые висели в классах, ежедневно отмечали линию фронта. Николай был достойным сыном своего времени, разделявшим энтузиазм сверстников. Даже Клаву Е. — а она, надо сказать, была жуткой двоечницей — он в мечтах спасал от исключения из школы самым героическим образом: «Уедем с тобой из школы / В Африку, к абиссинцам. /…/ Проклятого Муссолини / Наголову разобьем».
Стихи, посвященные испанским событиям, он послал в «Пионерскую правду». Их вернули автору «с соответствующими замечаниями» и советом «обратиться в Московский дом художественного воспитания детей, где была литературная студия». Николай воспользовался советом (значит, отнесся к сочинительству серьезно) и с 1938 по 1940 год в этой студии занимался. Любопытно, что в те же годы ту же студию посещала Юлия Друнина. Однако тогда, занятый мечтами о Клаве Е., будущий поэт внимания на свою будущую жену не обратил.
Вряд ли занятия в студии оказали заметное влияние на становление его таланта, но определенная польза в них, несомненно, была. Исай Рахтанов, а затем Борис Иринин, руководившие студией, часто приглашали туда своих друзей — писателей и поэтов, в том числе знаменитых. Например, Михаила Исаковского, чьи стихи и песни уже тогда знали все. «Меня в ту пору поразило, как скромно, даже застенчиво держался Михаил Васильевич…» — таким запомнил его во время той встречи Старшинов. Он и сам, став известным, предпочитал держаться скромно (за исключением тех моментов, когда в ресторане ЦДЛ душа поэта просила песен).
Студийцы смотрели спектакли в Театре юного зрителя (студия помещалась в здании театра), ходили на литературные вечера в Политехническом музее, где слушали блиставших тогда Джека Алтаузена, Николая Асеева, Иосифа Уткина. Конечно, сами студийцы были еще детьми, и в собственных их творениях ум с сердцем, а также форма с содержанием частенько бывали не в ладу. Вот как, к примеру, совмещал блоковские мотивы с драматическими событиями в мире пятнадцатилетний Старшинов, тогда еще и вкуса вина не знавший:
Пускай в опасности Египет, —
Я предсказаний не терплю, —
Но мной стакан не первый выпит,
И я в хмелю, и я в хмелю.
Я здесь — не дальше и не ближе,
Пивная — дом, скамья — кровать.
И о поруганном Париже
Не буду больше горевать…
Стихи смешные, и я цитирую их только потому, что сам Николай Константинович делал это неоднократно — видимо, они его развлекали. Если же сравнить их с написанным тогда же стихотворением о мельнице, приведенным выше, сразу становится видно, насколько пейзажная лирика давалась ему лучше так называемых стихов на злобу дня.
Скоро от «поруганного Парижа» война докатилась до Москвы. К этому времени в жизни большой и дружной семьи Старшиновых произошло много перемен. Старшие братья Лев и Константин и сестра Серафима обзавелись собственными семьями. Петр после окончания Ленинградского военно-морского училища уехал служить во Владивосток, призвали в армию и Сергея. Так что в родительском доме остался лишь самый младший сын. Константина Никитича перед самой войной парализовало: после инсульта у него отнялись правая рука и нога.
Когда немцы стали регулярно бомбить Москву и жители при объявлении воздушной тревоги спускались в бомбоубежища, Евдокия Никифоровна садилась рядом с больным мужем, брала его за руку и до отбоя воздушной тревоги от него не отходила. На уговоры сына пойти в бомбоубежище она отвечала одно: «От отца я никуда не пойду. Помирать — так вместе». Сам же Николай, когда начинали реветь сирены, вместо того чтобы спускаться в бомбоубежище, поднимался на чердак своего деревянного дома, где «проводил ночь» с соседкой, тоже школьницей и тоже бойцом МПВО — местной противовоздушной обороны.
Дело в том, что бомбили немцы в основном по ночам — в темноте бомбардировщик труднее обнаружить и сбить. Но и самой Москвы сверху не было видно, поскольку действовал строжайший приказ о полном затемнении. Поэтому первые эшелоны вражеских самолетов сбрасывали во множестве зажигательные бомбы, от которых начинались пожары, освещавшие город для прицельного бомбометания. Москва, как могла, защищалась. Высоко в небе висели аэростаты, от них тянулись к земле тросы, перекрывая для самолетов часть воздушного пространства. А на чердаках всех домов дежурили женщины и подростки, гася разбрызгивающие огонь «зажигалки». Вот как об этом вспоминал Николай Константинович:
«Там стояли большие ящики с песком, на них лежали длинные щипцы, которыми надо было схватить «зажигалку», пробившую крышу, и сунуть ее в песок.
Мы вслушивались в наступившую на какое-то время тишину и слышали неровное, прерывистое гудение вражеских самолетов, видели голубые лучи прожекторов, непрерывно обшаривавших московское небо.
Когда самолет попадал в луч прожектора, мгновенно его находили и другие прожекторы и брали в перекрестье. Он маневрировал, пытаясь сойти со световой дорожки, нырнуть во тьму.
Мы видели, как в небе то там, то тут вспыхивали звездочки взрывов зенитных снарядов — зенитки отгоняли самолет за черту города. А когда сбитый самолет падал, оставляя за собой хорошо заметный в лучах прожекторов дымный след, на нашей крыше и на крышах соседних домов гремело «ура!».
Утром Николай и его соседка Лида Трофимова, как и тысячи других московских старшеклассников, шли в свои школы — занятий никто не отменял. Правда, случались в занятиях и перерывы. Вот еще одна цитата из автобиографии Старшинова:
«Когда осенью 1941 года немцы уже подходили к Москве, директор нашей школы Николай Семенович Лукин обратился к ребятам-старшеклассникам с предложением поехать под Малоярославец рыть траншеи и строить оборонительную линию. И мы поехали — и Ваня Терехин, и Саша Кувшинников, и Роза Мещанкина, и Валя Жогова, и многие, многие другие. И не беда, что вместо солдатских траншей нам пришлось рыть силосные ямы для свиноводческого совхоза и убирать картошку. Хоть так, но мечты наши воплощались в жизнь…
Немцы рвались к Москве. Они несколько раз бомбили нас. Они подошли уже вплотную к нашей станции. Николай Семенович установил круглосуточное дежурство на станции Ворсино, и только благодаря этому мы успели уехать с последним товарным поездом в Москву…»
Зачем в прифронтовой полосе понадобились силосные ямы, мне, откровенно говоря, непонятно. Возможно, ямы предназначались не для силоса, а для самих животных, если их не успевали вывезти, или дело было в царившей тогда неразберихе… Главное, что ребятам удалось выбраться из района боевых действий, а ведь многие москвичи, из строивших оборонительные сооружения, оказались на оккупированной территории — без жилья и каких-либо средств к существованию. Часть из них угнали на работу в Германию, кто-то попал в концентрационные лагеря: арийцы с порабощенными народами не церемонились.
Москва переживала трудные дни. Она ощетинилась противотанковыми ежами, однако уверенности в том, что ее удастся отстоять, не было. Седьмого ноября, стоя на Пушкинской площади у памятника поэту, Николай смотрел, как проходят к Белорусскому вокзалу для отправки на передовую участники парада на Красной площади.
А меньше чем через год и сам он наденет «родную длиннополую шинель…».
В сорок четвертом, вернувшись домой на костылях, он пойдет смотреть другой «парад» — проходящих по московским улицам под конвоем пленных немцев. Оба эти события отразятся в его творчестве.
Тогда же, в сорок четвертом, вручат ему, как бойцу противовоздушной обороны, еще одну награду — медаль «За оборону Москвы».
НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ
В солдатский строй он встал в семнадцать лет, не успев даже сдать все экзамены за девятый класс (остались физика и химия). Почти законченное среднее образование в те суровые годы позволяло получить образование военное, то есть стать офицером. Их, особенно лейтенантов, командиров взводов, в армии катастрофически не хватало, ведь по уставу они сами водили своих солдат в атаки в отличие от старших офицеров, командующих из укрытий.
В сельской местности школы были, как правило, начальные, поэтому деревенских ребят отправляли на фронт сразу, а городских — чуть погодя, после ускоренных офицерских курсов. Так что в августе 1942 года, когда армии врага рвались к Сталинграду, Николай Старшинов попал в учебный батальон под Горький (Нижний Новгород), «в знаменитые Гороховецкие лагеря». Оттуда его направили во 2-е Ленинградское пехотное военное училище, эвакуированное из блокадного Ленинграда в Удмуртию, в город Глазов.
Жизнь курсанта известна: ранний подъем, две минуты на одевание, зарядка на свежем воздухе, даже в мороз, а потом строевая подготовка и марш-броски, занятия по тактике и матчасти. Да еще наряды. Когда приходилось мыть полы в казарме, Николай каждый раз вспоминал про вены на ногах матери и думал о своей нечуткости, о своей вине перед ней.
Жизнь «курсантов Глазова» военной поры отягощалась еще и ветхим обмундированием, и полуголодным существованием в условиях постоянного холода. Даже в бане, посещать которую военнослужащему положено раз в неделю, температура воздуха и воды не превышала десяти градусов, правда, тепла. Но неистощима смекалка русского солдата, особенно если он будущий офицер. Чтобы согреться или просто не замечать в бане по-глазовски «теплой атмосферы», курсанты во время мытья непрерывно пели. Особенно любимой была русская народная песня «Летят утки», исполняемая «на свой лад, сверхпротяжно и жалостливо». Ох, и вспоминались тогда, наверное, Николаю родные Астраханские бани, что находились неподалеку от его дома.
В «Записках сержанта» (мечта Старшинова написать целую книгу под таким названием, к сожалению, осталась неосуществленной) есть весьма красноречивый эпизод, повествующий о глазовском периоде жизни:
«После операции (я совсем не мог ходить — у меня распухло левое колено, были страшные боли, и врачи обнаружили у меня флегмону) возвращался я из лазарета на костылях (опять костыли!
— С. Щ.) в нашу казарму. Стоял сорокаградусный мороз. Я был в старой, видимо, уже побывавшей на фронте шинели или послужившей до меня другому курсанту. В поношенных ботинках, в замызганных обмотках.
И вид у меня был жалкий и заморенный, такой, что повстречавшаяся мне в пути старушка остановилась, жалостливо оглядела меня с головы до ног:
— Что же это, сынок, вид у тебя совсем никудышный?.. Тощий ты такой… Видать, и голодный…
— Да не очень сытый…
Она проводила меня до казармы. У пропускного пункта вынула из сумки буханку хлеба — наверное, свою двух-трех-дневную карточную норму — и отдала ее мне…» (Как же милосердны русские женщины! Недаром образы старушек в произведениях Старшинова напоминают иконописные образа.)
Зато поэтическое воплощение тех же курсантских будней куда оптимистичнее:
Былое — как во сне,
Как из чужих рассказов…
Но грех не вспомнить мне
Удмуртский город Глазов,
Тебя, река Чепца,
Сугробы на привале.
Меня здесь, как бойца,
Три месяца ковали.
Суровые места,
Я с вами связан кровно.
У этого моста
Мы разгружали бревна.
Мороз трещал — да как!
Бураны свирепели,
А мы, чеканя шаг,
Лихие песни пели.
Гранили на плацу
Солдатскую сноровку
И шли «хлебать Чепцу»
В промерзшую столовку…
(«Курсанты Глазова», 1987)
У курсантов был «обряд», сопровождавший каждый поход в столовую. «Пошли хлебать Чепцу!» — шутили они, имея в виду замечательно чистую воду реки Чепцы, протекающей через город. Действительно, суп, чуть замутненный мукой, сдобренный комбижиром и несколькими кусочками картошки, немногим отличался от речной воды, особенно если успевал остыть.
Товарищ Николая, еще более «никудышный», чем он сам, в отчаянии ударил однажды кулаком по койке и выкрикнул, неизвестно кому угрожая: «Вот погоди, выучусь на лейтенанта — нажрусь досыта!» И заплакал…
Увы, мечта его об офицерском пайке так и не осуществилась. Как поведал первый биограф поэта Владимир Коробов (в книге «Николай Старшинов. Литературный портрет», вышедшей в издательстве «Советская Россия» в 1985 году, после присуждения Старшинову Государственной премии России), «…едва были изучены азы военной науки, проведены первые стрельбы, собран и разобран по нескольку раз кряду тяжеленный пулемет «максим», как — уже через два месяца после начала занятий — недоучившиеся курсанты в январе 1943 года направляются в действующую армию. Война диктует свои законы: готовились скороспелые лейтенанты, а удались не менее зеленые сержанты».
В это время войска Ленинградского и Волховского фронтов прорывали блокаду осажденного Ленинграда, войска Донского фронта перешли в наступление, чтобы уничтожить окруженную под Сталинградом армию Паулюса, большое наступление развернулось на Северном Кавказе. И пополнение, конечно, было необходимо.
Дорога на фронт оказалась затяжной: состав тащился с черепашьей скоростью, часами простаивал в тупиках, пропуская эшелоны с танками и орудиями. Вчерашние курсанты маялись от вынужденного безделья и постоянного чувства голода. В Кирове их наконец-то переодели в новое обмундирование, выдали добротные английские ботинки армейского образца.
С ботинками этими вышла история, свидетельствующая о том, что был тогда сержант Старшинов совсем еще мальчишкой. А может быть, проявилась пресловутая «непрактичность», присущая поэтам. Короче говоря, на одном из полустанков казенную обувь он обменял на кринку молока и буханку хлеба, получив в придачу поношенные ботинки. Хлеб тут же был съеден, молоко выпито, а дырявая обувка неармейского образца осталась, грозя ногам своего неожиданного владельца новыми бедами.
Когда проезжали Москву, на станции Перово их состав в очередной раз загнали в тупик, и судьба подарила Николаю свидание с матерью. И здесь не обошлось без доброго женского участия. Пожилая женщина, с которой он разговорился у вагона, взяла у него адрес и сообщила домашним о его местонахождении. Дальнейшее — со слов Старшинова из его «Записок сержанта».
«Уже через полтора часа я увидел, как по путям бежит маленькая женщина, держа в руке узелок. Она несколько раз споткнулась о рельсы и шпалы, но бежит и бежит — ближе, ближе, ближе…
— Мама!..
— Сынок!..
Как она спешила!..
Она принесла мне свою пайку хлеба — четыреста граммов — и теплые варежки. Я отдал ей свой сахар. Она не хотела его брать, но я уверил ее, что сахара нам дают больше, чем нужно. А хлеб мне пришлось взять, потому что она уверяла меня, что сейчас у нее его много…
Она, конечно, заметила, что я в старых изношенных ботинках. Но я вышел из положения, солгав ей, что у меня есть и новые, как у всех, что я берегу их для фронта — там они будут нужнее. Едва ли она поверила этому и все смотрела на ботинки и вздыхала…
А через несколько минут наш эшелон двинулся вперед, на запад».
Под Калугой эшелон выгрузился, и начались пешие переходы по весенним, набухшим ледяной грязью дорогам. Осознав на деле опрометчивость своего недавнего поступка, сержант Старшинов стал просить ротного старшину сменить ему ботинки, но тот с интендантской невозмутимостью послал его по известному адресу, поскольку ботинки, согласно ведомости, за ним уже числились.
Помог счастливый случай, убедительно доказывающий, что вопрос «о пользе искусства» в армейских условиях имеет однозначно положительный ответ.
Капитан Ветров из штаба полка слыл среди солдат суровым человеком. На их взгляд, он имел дурную привычку снимать затворы с винтовок уснувших часовых, а утром устраивать им серьезные взбучки. От роду ему было лет двадцать, но он уже имел за плечами боевой опыт и тяжелое ранение. На вторые сутки марша, обнаружив в избе, где разместился на ночь, гармонь, капитан решил потешить себя музыкой и пошел искать гармониста. Таковой нашелся в пулеметной роте — молоденький, щуплый, чернявый сержант. Ветров привел его к себе, угостил, как водится, самогонкой, и тот до утра играл «На Муромской дорожке», «Коробочку», «Синенький скромный платочек»… Расчувствовавшись, капитан на сей раз не стал тревожить мирный сон часовых, а спросил сержанта, как может его отблагодарить. Сержант попросил новые ботинки — старые-то, мол, совсем развалились. Выслушав историю про растрату казенного имущества, капитан резко отчитал младшего по званию, но приказал ротному старшине, как тот ни махал ведомостью, выдать сержанту ботинки.
Щеголяя через четверть часа в новеньких тупоносых ботинках, тот с благодарностью вспоминал отца, подарившего ему когда-то двухрядку. (Правда, он и эти ботинки не уберег. Через несколько месяцев испортили напрочь английскую обувку осколки немецкой мины.)
Назначили сержанта Старшинова на должность помощника командира пулеметного взвода, то есть у него теперь были подчиненные, за жизнь которых он нес ответственность. Кроме того, он нес ответственность за своевременную чистку пулеметов и винтовок, рытье окопов, выпуск «Боевого листка» и т. д. В общем, обязанности командирские, а паек солдатский. Но хоть пулемет на себе таскать не надо — это удел рядового состава.
Кстати, один из немногих выживших в летней кампании 1943 года солдат того пулеметного взвода Павлин Владимирович Малинов поделился уже через много лет воспоминаниями о своем помкомвзвода:
«До сих пор удивляюсь, почему он был крепче нас. У него как у командира было больше обязанностей, но он везде поспевал и физически был выносливее. (А сам Старшинов в воспоминаниях удивлялся нечеловеческой выносливости своих подчиненных, переносивших на маршах тяжеленные «максимы», которые в Гражданскую возили на тачанках. —
С. Щ.) <…> Старшинов умел понимать не только команды, но и человека. Жаркий летний день. Мы только что вырыли окопы, расселись на лугу. Старшинов ведет политзанятия. Он чувствует, что изнуренные люди дремлют от усталости. Говорит своим глуховатым голосом: «Ладно, спите, я покараулю минут пятнадцать».
Полагаю, для того времени, чтобы отменить политзанятия ради отдыха солдат, помимо чуткости требовалась и определенная смелость.
О том, что он до войны не только играл на гармошке, но и слагал стихи, Николая заставил вспомнить «Боевой листок», который хотя и был всего лишь листком, но, как и всякое средство массовой информации, постоянно требовал новых материалов. И он стал сочинять для него пользовавшиеся популярностью стихи, посвященные взводному житью-бытью. Так, героем одного из них стал всеобщий любимец и кормилец повар Батуев:
Под старой сосною, у самой дорожки
Стоит на посту часовой.
И дремлет, качаясь. И кружатся мошки
Над сонной его головой.
И снится ему, будто повар Батуев
С большой поварешкой в руке
Овсяную кашу, густую-густую,
Ему подает в котелке.
Конечно, нетрудно заметить, что автор откровенно позаимствовал размер и интонацию лермонтовского стихотворения «На севере диком стоит одиноко…», зато как отражены «чаяния масс»!
А во время долгих, изнурительных переходов складывались уже самостоятельные строки:
Уткнулся в тучу месяц тонкорогий.
То пылью ветер бросит, то дождем.
Сегодня мы прифронтовой дорогой
Всю ночь как заведенные идем.
(«Уткнулся в тучу месяц тонкорогий…», 1943)
Общеизвестно, что Маяковский «вышагивал» свои стихи. Поневоле вышагивал их и Старшинов: в связи с предстоящим наступлением войска постоянно меняли дислокацию, чтобы скрыть направление главного удара. В монотонном ритме шагов сотен пар ног безусловно есть нечто медитативное, способствующее стихосложению. Как-то, уже после войны, в редакции одной газеты он рассказал о рождении стихотворения «Уткнулся в тучу месяц тонкорогий…», открывающего его двухтомник «Избранные произведения» (1989):
«Мы шли без отдыха, спали на ходу, натыкаясь на впереди идущего, когда всю колонну останавливали. Ночью моя часть, где я был помощником командира пулеметного взвода, проходила Полотняный завод. Пушкинские места. Усадьбы Гончаровых я не увидел. Врезались в память картина пожара и следы откатившихся боев: горящая деревня на холме, подбитая техника вдоль дороги, огромные ветлы в ночи, освещенные отблесками огня, на берегу какой-то реки. Потом только посмотрел по карте — Суходрев.
И вот, миновав Полотняный завод, я начал в каком-то полусонном состоянии складывать строчки этого стихотворения, затвердил его, потому что даже записать было нечем».
Удивительно, но на войне была своя литературная жизнь и даже проводились совещания молодых поэтов. В одном из них Николай едва не принял участие. Это важное событие запомнилось ему на всю жизнь, как и связанный с ним «комический случай», также свидетельствующий о несомненной пользе искусства.
Все началось опять же с «Боевого листка», который попал в руки корреспонденту дивизионной газеты, перепечатавшей бывшие там стихи. Некоторое время спустя сержанта Старшинова вызвали в штаб батальона, где вместо ожидаемого нагоняя (а зачем еще вызывают в штаб) он получил сухой паек и направление на совещание молодых поэтов, проходившее в прифронтовой полосе. Удивительно и то, что происходило это в июле 1943 года, в разгар битвы на Курской дуге, знаменитой самым крупным танковым сражением в истории войн. А немного севернее, под Смоленском, выдалось небольшое затишье — и сразу наряду с пушками заговорили музы (ежедневные бомбежки и обстрелы никто не отменял: немцы народ педантичный; как вспоминал Старшинов, в те дни их бомбили ровно с девяти до половины десятого утра).
К сожалению, когда Николай и его собрат по перу из минометной роты пришли в наполовину сожженную деревню, где проходило совещание, оно уже закончилось, а его руководители — Иосиф Уткин и Антон Пришелец — уехали. Зато с двумя запоздавшими молодыми поэтами очень «доброжелательно, по-отечески» поговорил полковник из политотдела армии, который, видимо, и организовывал совещание. Он не только пообещал боевым сержантам напечатать их стихи в армейской газете (а это куда «круче» дивизионной), но и сдержал слово. А Николаю еще и построчное замечание сделал, указав на то, что слово «пепелище» пишется через «о» — «попелище». Добрый полковник, наверное, был украинец. Но я уверен, что на Старшинова как на будущего учителя и воспитателя молодых дарований этот полковник оказал большое и хорошее влияние, наглядно показав, что главное для наставника молодежи даже не профессионализм, а доброжелательность.
Принесло пропущенное совещание и практическую пользу:
«Обычно, получив офицерский паек, командир нашего пулеметного взвода лейтенант Угаров забирался в кусты, вскрывал консервы из горбуши и хрустел галетами, торопливо намазывая их сливочным маслом.
На этот раз он сел, не прячась, на поляне под сосной и разложил на траве весь свой провиант.
— Ну, садись! — сказал он мне миролюбиво. И впервые за все время нашей совместной службы предложил мне галеты: — Бери, пробуй!..
Я недоумевал по поводу перемены, происшедшей с ним, но сунул в рот галету. А он продолжал еще дружелюбнее:
— Ну чего там было-то, на совещании поэтов? Рассказывай!..»
А когда выяснилось, что печатается его помощник не только в «Боевом листке», но и в «дивизионке», лейтенант «не в службу, а в дружбу» попросил написать письмо в стихах своей любимой девушке, чтобы покорить ее сердце. И даже предложил выгодные условия сотрудничества:
— Ты заберись в кусты да пиши. А уж я прослежу сам, чтобы тут и пулеметы почистили и винтовки и окопались хорошенько. Все сам проверю!
На сей раз, выполняя «социальный заказ», Николай взял за образец уже собственное четверостишие:
Канонада началась на зорьке.
Мины зашуршали надо мной.
И смешался запах дыма горький
С запахом черемухи лесной.
Письмо любимой Угарова начиналось так:
Расцвела черемуха в овраге,
Дым зеленый заволок кусты…
Я тебе пропел бы эти саги,
Если б знал, что их услышишь ты.
Далее следовали еще шесть столь же «душещипательных» строф. Их автор утверждал впоследствии, что «все нелепости, которые получились в этом стихотворении, шли от души, а не от издевки». Мне, честно говоря, это кажется сомнительным — слишком уж очевидна разница в мастерстве между «образцом» и «подражанием».
Впрочем, «саги» «произвели на возлюбленную Угарова неизгладимое впечатление». Ее ответное письмо «оказалось на редкость трогательным», и она просила еще писем в стихах. Может быть, и стал бы Николай Старшинов новым Сирано де Бержераком, но в ближайшем бою и лейтенанта, и его самого тяжело ранило, после чего пути их разошлись навсегда.
Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: пулеметчик — одна из самых опасных военных профессий. Противники прежде всего стараются подавить огневые точки друг друга. В обороне еще полбеды: есть спасительный окоп. В атаке же пулеметный расчет становится для врага мишенью номер один. Дело в том, что приданный стрелковой роте пулеметный взвод не просто идет вместе с ней в атаку, он идет впереди нее, дабы при стрельбе не задеть своих же солдат.
Есть в тактике наступательного боя такой прием: если цепь пехотинцев вынуждена залечь из-за плотного огня противника, то вперед, на несколько десятков метров, выдвигаются пулеметные расчеты и своим огнем прикрывают поднимающихся пехотинцев, сами превращаясь на это время практически в смертников. Пехота подтягивается к пулеметам и снова залегает, после чего пулеметчики перебегают еще на несколько десятков метров вперед. И так до конца. Именно такая тактика была применена в том, последнем для старшего сержанта Старшинова бою под Спас-Деменском.
Он часто рассказывал потом о поразившем его эпизоде перед атакой:
«Мой друг Павлин Малинов, второй номер нашего пулеметного расчета, вылез из окопа, уселся на бруствер, развязал неторопливо вещмешок, достал из него ломоть ржаного хлеба и стал его уплетать.
— Что ты делаешь?! Лезь в окоп! — крикнул я ему.
— Да вот у меня еще хлеб остался, надо доесть. Все равно сейчас пойдем в наступление. Убьют — будет обидно: сам голодный, а хлеб не съел. А то еще и фрицы его уплетут…»
А в опубликованных незадолго до кончины Николая Константиновича «Записках сержанта» за этим эпизодом следуют некоторые разъяснения к нему:
«…Из-за прошедших многодневных дождей дороги развезло. Плохо стало с доставкой продуктов питания. Не подтянулись к передовой ни «катюши», ни артиллерия.
Наступление началось без артподготовки».
Не стану пересказывать все перипетии этого «захлебнувшегося» наступления — они подробно и с большим знанием дела изложены самим Старшиновым в тех же «Записках сержанта». Остановлюсь на главных событиях.
После очередной перебежки вперед разрывом мины разворотило пулемет и ранило лейтенанта Угарова, наводчика Максимова и подававшего ленту Малинова. Первые двое смогли подняться и самостоятельно отправились в санбат. А вот Малинов был без сознания. Сам Старшинов уцелел, так как находился в нескольких метрах от пулемета. Только мелкие осколки рассекли ему брови и лоб. Оттащив Малинова от пулемета и передав санитару, он продолжил наступление уже в роли стрелка. Руку выше локтя обожгло пулей, но в горячке боя он не обратил на это внимания. Когда поредевшая цепь атакующих уже вплотную приблизилась к немецким траншеям, рядом с ним разорвалась мина. Последнее, что услышал, был чей-то крик: «Нас обходят слева!..»
Очнувшись, он попытался подняться, но тут же рухнул на землю: обе ноги были перебиты. Никого из своих (живых) вокруг не было. Мимо пробежали немцы, и когда их топот затих, его «словно подхлестнуло к действию яростное желание жить». Стащив с себя вещмешок, противогаз и шинель, всю ночь — самую долгую в его жизни — он полз обратно, к нашим окопам, часто теряя сознание, волоча за собой винтовку и оставляя кровавый след. Винтовка страшно мешала: цеплялась за кочки и траву, била по раненым ногам, но бросить ее было нельзя:
его «уверили в том, что без личного оружия не возьмут в санбат». Боль не ощущалась, но мучили жажда, всегда сопровождающая большую потерю крови, и страх попасть в плен.
Через сорок с лишним лет в поэме «…И я открыл глаза…» (1985) он еще раз вспомнит все перипетии своего последнего боя, посвятив ему седьмую главу поэмы. Это, на мой взгляд, лучшая его поэма. Перед лирическим героем, находящимся в состоянии клинической смерти, видениями проходят несколько главных событий его жизни. Одно из них — даже не сам последний бой, а бесконечно долгий и мучительный от непереносимой жажды путь от рубежа захлебнувшейся атаки до своего переднего края.
И так велика была эта, не забывшаяся и через сорок лет жажда, что путь свой лирический герой мерил от одного убитого солдата к другому — в тщетной надежде обнаружить в их флягах воду. Таких пустых фляг он насчитал около двадцати:
Вот опять убитый.
Но что за бред —
И опять в его фляге
Ни капли нет!
У меня все спеклось
В пересохшем рту.
И ползти уже больше
Невмоготу!..
…Я еще двадцать раз
Умирал в ночи…
Но меня воскресили потом
Врачи…
Конечно, реальные события той ночи в деталях отличались от реальности художественной. Так, один раз он очнулся рядом с маленькой лужицей, которую выпил вместе с жидкой грязью. А один из убитых оказался еще живым, но тяжело раненным в живот и умолял помочь. Помочь Старшинов не мог, но обещал прислать санитаров и дальше полз в буквальном смысле «за себя и за того парня».
На рассвете он дополз к нашим позициям, а скоро санитары принесли и раненного в живот солдата. Обоих погрузили на повозку и отправили в санбат, где война еще раз достала их. Пока возница докладывал о новых поступивших, невдалеке остановились «катюши», дали залп и тут же уехали. По этому месту сразу ударили немецкие тяжелые минометы. У артиллеристов ведь на войне еще и своя война — они издалека охотятся друг за другом.
И накатила на Старшинова горькая обида на «катюши». «Черт бы их подрал! — ругался он. — Столько сил потратил, столько мук принял, и все зря — сейчас добьют».
Но уцелел он и на сей раз. А вот почти спасенный им рязанский парень, который все мечтал вслух, как вернется в родную деревню к матери, когда его перекладывали на носилки, был уже мертв. То ли по дороге умер, то ли уже здесь добили.
В санбате Старшинову повезло еще раз:
«Два санитара внесли меня в землянку и положили на операционный стол. Огромного роста хирург ввел мне противостолбнячную сыворотку и заговорил с женщиной, помогавшей ему, — то ли с операционной сестрой, то ли тоже с хирургом, промывавшей мои раны на ногах:
— Осколочное ранение… Перелом большой и малой костей левой голени… Обрыв ахиллова сухожилия и нерва, большой дефект мягких тканей…
Он передохнул:
— Отсутствие большого пальца правой стопы, повреждение соседних…
Он еще раз передохнул, поднял мою руку:
— Сквозное пулевое ранение правой руки на два сантиметра выше локтевого сустава…
Он снова передохнул:
— Пока очистите от осколков левую голень и приготовьтесь к ампутации левой стопы.
Женщина возразила:
— А может, сохраним ногу? Почистим рану. Наложим гипс… Может, заживет, он же совсем еще мальчик…
— Да посмотрите, нога висит почти на одной коже… Да и мусора в рану набилось…
— Но может, все-таки попробуем сохранить?..
Хирург обратился ко мне:
— Когда ранило?
— Вечером. Я полз всю ночь к своим…
Хирург снова заговорил с женщиной:
— Вот видите, он всю ночь полз… Тут может быть и заражение крови, и гангрена, и столбняк…
Она стала говорить почти умоляюще, слезы появились у нее на глазах:
— Ну все-таки давайте попробуем сохранить… Давайте попробуем…
И уставший за ночь от бесконечных операций хирург уступил ей…
Поступившие на следующий день в санбат раненые рассказывали о том, что после нашей артподготовки и нескольких залпов «катюш» немцы сами покинули первую линию обороны. И наши заняли ее без единого выстрела…»
Так эта история изложена в «Записках сержанта». Вместе с тем, по воспоминаниям старшей дочери поэта Елены Николаевны, отец, рассказывая ей о войне, говорил, что сам настоял на отмене ампутации стопы, несмотря на очевидную угрозу гангрены. Наверное, нога была сохранена общими усилиями.
* * *
Итак, фронтовой путь старшего сержанта Старшинова был недолгим, уложившись в расстояние между Калугой и Смоленском. Всего пять месяцев провел он в действующей армии. Путь домой через госпитали сначала под Вязьмой, потом под Махачкалой занял столько же времени. Но эти пять месяцев не просто наложили отпечаток на его дальнейшие жизнь и творчество — они определили их.
О пребывании Старшинова в первом из госпиталей известно мало (только то, что располагался он в лесу под Вязьмой и к нему вела узкоколейка), но очевидно, что оно было кратковременным: из прифронтовых госпиталей тяжелораненых при первой возможности отправляли в тыловые.
В госпитале, развернутом в небольшом рыбацком дагестанском поселке, он провел все оставшиеся месяцы 1943 года. Постепенно срастались перебитые кости на левой ноге, затягивалась рана на правой, один за другим выходили засевшие в ступнях осколки. Правда, никак не заживала простреленная навылет рука, хотя эта рана не относилась к разряду тяжелых. Ему сделали еще одну операцию: извлекли застрявший в ране лоскуток ткани, забитый туда пулей, после чего рука быстро поправилась.
Эта операция навсегда запомнилась ему, во-первых, тем, что проводилась без анестезии, поскольку, как выразился хирург, «новокаина-то у нас нэма…». А во-вторых, тем, что он влюбился в хирургическую сестру, которая держала его во время операции. Была она молода, красива, и, главное, в глазах ее стояли слезы сочувствия к мужественно переносящему боль юноше. Кто бы при таких обстоятельствах не влюбился?!
Радостным и запоминающимся событием стала для Николая встреча со старшим братом. Лев навестил его в госпитале по дороге в Иран, куда направлялся в командировку. Понятно, что в Иран тогда командировались те, кто принимал непосредственное участие в организации знаменитой тегеранской встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля, состоявшейся в конце ноября 1943 года и определившей будущие отношения между союзниками.
Лев Константинович был тогда начфином (по-граждански главбухом) кремлевского гарнизона — должность не только сверхответственная, но, полагаю, в те времена и опасная. Тем не менее он выкроил несколько часов, чтобы повидать «младшенького» — вот что значит братская любовь!
Перед Новым годом Николаю в качестве подарка «досрочно» выдали костыли. Первая попытка встать на них окончилась неудачей: после четырех месяцев лежания переход в вертикальное положение привел к головокружению и немедленному возвращению в прежнее — горизонтальное, теперь на полу. Но уже на следующий день он ловко передвигался на костылях, благо опыт такой у него сохранился с детства; и даже Новый год встретил, как положено — в хорошей компании, с вином и своей госпитальной любовью.
А в первых числах нового года пришел приказ о перебазировании госпиталя ближе к движущемуся на запад фронту. Всех, кого можно было выписать, в том числе и недолеченного старшего сержанта Старшинова, выписали. Домой он поехал на костылях, демобилизованным инвалидом войны.
Костыли, а потом трость так и остались неизменными спутниками его жизни. Трость у Старшинова была, как теперь говорят, эксклюзивная, можжевеловая, ее собственными руками вырезал для любимого дяди его племянник Константин.
Осенью то ли 1988-го, то ли 1989 года Николай Константинович взял меня с собой на рыбалку на свою любимую реку — Медведицу. Осень была поздняя, официально рыболовная база уже закрылась на зиму, и «хозяева» (о них речь впереди) расположили нас в маленькой теплой избушке.
Утром и вечером мы на лодке объезжали установленные в заливах реки переметы. Я греб, а Николай Константинович вываливал подсаком в лодку попавшихся щук и насаживал новых живцов — окуней и плотвиц, специально заготовленных обожавшими Старшинова «хозяевами» к его приезду. Дул ледяной ветер, уже со снежной крупой, и возвращались мы продрогшие до костей, но весьма довольные, поскольку привозили каждый раз по две-три здоровенные щуки. Пускали мы и кружки на налима, правда, безрезультатно.
Но не рыбалкой запомнилась мне та поездка, а пережитым шоком, когда я увидел обнаженную ниже колена ногу Николая Константиновича, которую он принялся перебинтовывать. На ней зияла незажившая с войны рана. Как он с этим жил столько лет да еще ходил порой по многу километров, к тому же сохраняя при этом бодрость духа, никакие мудрецы не объяснят.
«Мы не от старости умрем — от старых ран умрем», — сказал однажды за все военное поколение его старший товарищ Семен Гудзенко, умерший в 1953 году от опухоли мозга — следствия фронтовой контузии. Николай Старшинов продержался до 1998-го. Он так и умер со свищом на ноге, который лечил пятьдесят с лишним лет — у лучших хирургов, у гомеопатов, у бабушек-знахарок, ему даже пересаживали кожу. Лечение шло с переменным успехом, но в последние годы жизни рана даже обострилась. Приблизительно за год до нашей совместной рыбалки написал он стихотворение, посвященное памяти замечательного писателя фронтового поколения Константина Воробьева:
Война! Твой страшный след
Живет в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след —
И в книгах, что на полке…
Я сорок с лишним лет
Ношу твои осколки.
Чтоб не забыл вдвойне
Твоих великих тягот,
Они живут во мне
И в гроб со мною лягут,
Война…
(«Война! Твой страшный след…», 1987)
Но были связаны
с войной и счастливые минуты жизни. Однажды, например, пришло в редакцию «Пионерской правды» письмо следующего содержания:
«Дорогая редакция! Прочитал я в «Пионерской правде» (№ 82 за 1978 г.) очерк Николая Старшинова «Нет, я спасу тебя!». Не тот ли это Коля Старшинов, который спас меня?..
Такого забыть нельзя.
Последний раз мы виделись в полевом госпитале. Я был ранен и доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии: переломлены обе руки, разбито плечо. Через день привезли раненого Колю Старшинова. Он услыхал мой голос и рассказал об исходе боя. Больше о нем я ничего не знаю…
Малинов Павлин Владимирович».
Второй номер пулеметного расчета Павлин Малинов не был любителем поэзии и стихов не читал, иначе давно бы узнал про своего друга. Зато он был школьным учителем, а потому читал «Пионерскую правду».
Старшинов, которому передали письмо (благо редакции «Пионерской правды» и альманаха «Поэзия», где работал Николай Константинович, находились в одном здании издательства «Молодая гвардия»), бросил все дела и поехал к нему в село Красногор Уренского района Горьковской области. Встреча боевых товарищей была радостной и далеко не единственной.
Да и само сознание того, что он причастен к самой великой победе в истории человечества, всегда поддерживало Старшинова в трудные минуты жизни, а таких в ней было предостаточно.
Жизнь моя! Она бывала всякой.
Пела синевой любимых глаз
И молчала зло перед атакой…
Может, потому и удалась!
(«Жизнь была и сладкой и соленой…», 1976)
Однажды, наверное, именно в трудную полосу жизни, к нему домой зашел Глеб Паншин (один из ближайших друзей Старшинова, написавший впоследствии о нем книгу «Штрихи к портрету друга») и обнаружил, что семилетняя дочь поэта Рута играет отцовскими медалями.
— Зачем ты позволяешь Рутке медали портить? Она из твоей «За отвагу» сапожной щеткой что-то выковать хочет…
— Да пусть… Кому они теперь нужны…
— Но ведь медали-то боевые, заслуженные!
— Ну и что?..
Медали, правда, Старшинов все-таки убрал в стол. А случай этот доказывает лишь то, что был он по натуре сугубо гражданским человеком. Это судьба, общая для всего военного поколения, сделала его «гвардии рядовым». Но он никогда не жаловался ни на судьбу, ни на раны, утверждая, что ему крупно повезло: из его одногодков с войны вернулись лишь три процента от ушедших на нее…
* * *
Военная тема в творчестве Старшинова. Было бы прегрешением против истины утверждать, что поэтом его сделала война. Все-таки поэтами рождаются. Тем не менее сам он в одном из интервью отметил: «Годы войны в моей судьбе — как фундамент у дома, основа его».
Свое двухтомное собрание избранных произведений, вышедшее в 1989 году и тщательно им самим подготовленное, он открыл «фронтовым циклом» стихотворений (термин условен, сам поэт их в цикл не выделял). Поскольку принцип построения собрания — строгая хронологичность в расположении стихотворений, можно утверждать, что начиная именно с этого цикла он считал свое творчество достаточно зрелым, чтобы быть представленным читателю. Ни те ночи, что он провел на крыше родного дома, гася немецкие «зажигалки», ни несколько месяцев учебных лагерей не оставили заслуживающих внимания поэтических строк, во всяком случае по мнению их автора. Он напишет о том времени, но позже.
Всего в «Избранное» включено десять стихотворений, датированных 1943 годом, то есть написанных в течение тех пяти месяцев, которые он провел в действующей армии. Это не много, но не будем забывать, что не перо являлось тогда основным «орудием труда» сержанта Старшинова, а гашетка пулемета.
Отличительная черта его фронтовых стихотворений — их зримая предметность. Время обобщений пока не пришло, да и не до них было. Что находилось перед глазами поэта? Конкретный бруствер, за который надо шагнуть под пули, вот эта «проклятая падь», которую нельзя отдать врагу, тульская гармошка, скрасившая уставшим бойцам недолгие минуты отдыха. Разумеется, это не просто батальные зарисовки или своеобразные репортажи с фронта — практически в каждом из этих стихотворений есть какая-то опорная строка или строки уже обобщающего плана. Но появляются они в связи с конкретными событиями и впечатлениями фронтовой жизни, столь недалекой от смерти. И оттого впечатления эти особенно сильны.
Такой «военный импрессионизм» не был особенностью только Старшинова, он отличал раннее творчество большинства поэтов военного поколения, по объективным, конечно, причинам.
Заканчивается «фронтовой цикл» стихотворением «Сушь», что не случайно. Это первое поэтическое воплощение последнего фронтового впечатления сержанта Старшинова — тяжелейшего ранения. Конечно, если строго следовать временному принципу деления его военной лирики на циклы, это стихотворение следовало бы отнести к «госпитальному циклу» (термин также условен), поскольку написано оно могло быть уже только в госпитале. Но при чтении создается настолько полное впечатление об одновременности самого события и рассказа о нем, и, главное, оно настолько психологически точно ложится последним звеном фронтового пути поэта, что отделить его от фронтовых стихотворений невозможно.
Марля с ватой к ноге прилипла,
Кровь на ней проступает ржой.
— Помогите! — зову я хрипло.
Голос мой звучит как чужой.
Сушь — в залитом солнцем овраге.
Сухота в раскаленном рту.
Пить хочу! И ни капли во фляге.
Жить хочу! И невмоготу.
Ни ребят и ни санитара.
Но ползу я, пока живу…
Вот добрался до краснотала
И уткнулся лицом в траву.
Все забыто — боль и забота,
Злая жажда и чертов зной…
Но уже неизвестный кто-то
Наклоняется надо мной.
Чем-то режет мои обмотки
И присохшую марлю рвет.
Флягу — в губы:
— Глотни, брат, водки,
И до свадьбы все заживет!
(1943)
Следует отметить в этом стихотворении и некоторые «поэтические вольности»: время события здесь перенесено на знойный летний день, хотя, как мы помним, полз он к своим с перебитыми ногами сырой августовской ночью. И здесь напрашивается прямая литературная аналогия с рассказом Всеволода Гаршина «Четыре дня», принесшим в свое время ему известность, в котором описывается схожая ситуация. Участник Русско-турецкой войны на Балканах 1877–1878 годов, Гаршин был тяжело ранен в ногу и тоже описал чувства человека, страдающего не только от раны, но и от изнуряющего зноя. Старшинов высоко ценил творчество этого писателя, особенно его военную прозу, и в первую очередь — рассказ «Четыре дня», хотя и трудно сказать, был ли он знаком с ним до того, как написал свое стихотворение.
После ранения в творчестве Старшинова наступил новый период. Война как окружающая действительность для него закончилась, каждодневный ратный труд сменился вынужденной бездеятельностью; наступило время раздумий. Это заметно сказалось как на тематике, так и на характере его творчества. Кроме стихов, навеянных фронтовыми воспоминаниями, пишутся и такие, как «Поспать бы еще немного…», в котором поэт вспоминает свои ночные дежурства на московских крышах зимой 1941/42 года, или «Ничто здесь не скроется…» и «Снегурочка», посвященные уже госпитальной, полумирной-полувоенной жизни. То есть мир, суженный прежде буквально до прорези пулеметного прицела, теперь расширился (несмотря даже на прикованность к больничной койке), и соответственно расширился круг тем, которые волнуют поэта.
Причем поэтические реалии последнего стихотворения были таковы, что до конца своих дней Старшинов получал письма от бывших военных медсестер, посчитавших лично себя героинями стихотворения «Снегурочка» (1944). Они даже вспоминали особые географические и лирические подробности их госпитальной истории, но, увы, как раз та, которой были посвящены стихи, — Нина Матросова — не отозвалась. Да и как не узнать себя любой из молоденьких медсестер тех лет в таком портрете:
Как волшебница в сказке какой,
На подушках расправила складки
И поистине щедрой рукой
Раздала порошки и облатки.
И хоть ветер все резче и злей
Бьет по синим продрогнувшим стеклам,
Только кажется: Стало теплей
Нам
Под взглядом Снегурочки теплым.
Таким образом, уже в госпитале военная тема перестала быть для поэта единственной, и постепенно в его творчестве начинает преобладать лирика философского и любовного плана, что в общем-то естественно. Не случайно переломным в этом отношении явился именно победный 1945 год, хотя лично для сержанта Старшинова война как «окружающая действительность» закончилась в августе 1943-го.
В стихотворениях же, датированных 1944 годом, главным лирическим героем еще остается русский солдат. Тогда же, в сорок четвертом, написано, пожалуй, самое знаменитое стихотворение Николая Старшинова:
Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.
Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.
(«Ракет зеленые огни…»)
«В летописи войны — это, может быть, одни из самых правдивых строк. В них такое будничное, прозаическое отношение к смерти, равное подвигу! В них любовь к родному точно и просто передана через суровый, молчаливый, ежедневный, ежечасный ратный труд солдат. Громкие слова здесь были бы равносильны фальши», — пишет Геннадий Красников.
Не случайно это стихотворение всегда поют под гитару, собравшись в дружеском кругу, ученики Старшинова.
Сокурсник Старшинова Анатолий Мошковский в очерке «Два поэта» поделился любопытными воспоминаниями о ситуации, сложившейся вокруг этих строк в стенах Литературного института:
«Многие стихи лепились в то время по привычному трафарету: бойцы бежали с винтовками наперевес и во весь голос кричали: «За Родину! За Сталина!» А в старшинов-ской атаке никто не крикнул даже «За Россию!..»
Естественно, подобное вольнодумство и «антипатриотизм» насторожили некоторых ханжей на кафедре творчества, но принесли Коле институтскую известность и уважение… Правда, это стихотворение в авторской редакции не напечатали… Впрочем, Ф. И. Панферов скоро опубликовал его в «Октябре», смягчив концовку:
Никто не вымолвил «Россия»,
А шли и бились за нее.
Слабей, но все-таки стихи увидели свет. В подлинном виде концовка стихотворения была напечатана через несколько лет».
Итак, в феврале 1944 года Николай Старшинов возвращается домой и вскоре благодаря счастливому стечению обстоятельств становится студентом Литературного института, что определяет его дальнейшую судьбу профессионального литератора. Но Великая Отечественная война не окончена, не отпускает она от себя и демобилизованного сержанта Старшинова — он продолжает писать о ней в настоящем времени, а порой даже в будущем, как, например, в стихотворении «Эх ты, мама, моя мама…» (1945), ставшем впоследствии довольно известной песней. Поэт будет ощущать себя солдатом еще долго и после первого Дня Победы:
И вот в свои семнадцать лет
Я стал в солдатский строй…
У всех шинелей серый цвет,
У всех — один покрой.
У всех товарищей-солдат
И в роте, и в полку —
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку.
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Льют бесконечные дожди,
И вся земля — в грязи,
А ты, солдат, вставай, иди,
На животе ползи.
Иди в жару, иди в пургу.
Ну что — не по плечу?..
Здесь нету слова «не могу»,
А пуще — «не хочу».
Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло.
И я иду, и я пою,
И пулемет несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.
«И вот в свои семнадцать лет…»
Это написано в 1946 году. И только в середине пятидесятых в таких стихотворениях, как «О юности», «Я был когда-то ротным запевалой…», «Санитарные поезда», он начнет вспоминать о войне в прошедшем времени.
Но вернемся к 1945 году и написанному тогда стихотворению «Мы праздновали первый День Победы…», которое критик Вадим Дементьев охарактеризовал как «ликующее». Примечательно, что в этом стихотворении впервые пересекаются параллельные до этого линии — военная и любовная. Это, на мой взгляд, глубоко символично. Как и стихотворение «Сушь», оно явилось как бы переходным от одного творческого этапа к другому — после первого Дня Победы военная тема постепенно стала отходить на второй план (хотя осталась с поэтом навсегда). И, возможно, не случайно написано оно совершенно несвойственным для Николая Старшинова белым стихом, как бы подчеркивая его особое место в творчестве поэта:
(А ты простаивала в карауле
В октябрьский дождь, в февральский снегопад.
Ты шла под пули, раненых спасая,
Простых солдат, таких же, как и я.)
Ты слушала рассеянно сержанта,
Обменивалась взглядами со мной.
И мне казалось, мне казалось, что…
Командующий за столом сержант даже некоторым образом противопоставляется простым солдатам, к которым лирический герой причисляет и себя. А поскольку речь идет о девушке, имеющей вполне конкретный прототип — Юлии Друниной, то и лирический герой в данном стихотворении для читателя, знакомого с биографией поэта, максимально приближен к конкретному человеку — Николаю Старшинову, который, как мы знаем, сам был сержантом, к тому же старшим. Налицо настойчивое желание поэта говорить от имени именно рядового солдата, и я полагаю потому, что именно в рядовом солдате он видел главного творца победы. Недаром свою единственную поэму о войне, во многом автобиографическую, он назвал «Гвардии рядовой» (1944–1946), а не «Гвардии сержант».
Правда художественного произведения вовсе не обязана соответствовать правде факта, даже если это произведение автобиографично. И в поэме автор не только «разжаловал» себя до рядового, но и раздвинул границы личного участия в боевых операциях — от битвы за Москву до штурма Берлина. Сделал он это, разумеется, не от желания выказать себя более бывалым солдатом, чем был на самом деле, а так того потребовала сюжетная линия произведения. После рефреном повторенной строки «Я родился в городе Москве» самым логичным продолжением развития сюжета было такое:
Ты бежишь, припомнив все сначала,
Мокрый бинт сползает с головы…
Это очень гордо прозвучало:
«Я — защитник города Москвы!»
Как уже говорилось, писать о войне в прошедшем времени Старшинов начал лишь через несколько лет после победы. Но осознав ее как прошлое, все чаще осмысливал ее как минувшую юность. В одном из стихотворений семидесятых годов, адресованных «полегшим» солдатам, он называет их своими одногодками, хотя его одногодки составляли лишь часть от общего числа погибших на войне. Таково уж свойство человеческой памяти. Всматриваясь в их навсегда оставшиеся молодыми лица, теперь, через тридцать лет после победы, он уже не различал их по годам призыва, как делалось это (и не могло не делаться) в послевоенные годы. Теперь все они его одногодки, часть фронтовой юности. А юность, несмотря ни на какие испытания и лишения, все равно пробуждает в зрелом человеке светлые о ней воспоминания.
В одном из стихотворений, написанных к тридцатилетнему юбилею Победы, он признавался даже в некоторой ностальгической грусти своего поколения по тем героическим дням:
О, эти вздыбленные дни,
Их не смирить вовек…
И все же
Для нас, жестокие, они
Чем отдаленней, тем дороже.
(«Да, эти дни прошли давно…», 1975)
Ностальгия эта какому-нибудь записному пацифисту, может быть, покажется нарочитой, но на самом деле происходила она от закономерной гордости за поколение победителей. Не случайно, по воспоминаниям Глеба Паншина, «на встречах с читателями, на литературных вечерах Николай Старшинов обычно начинал чтение своих произведений с военной темы: «Я был когда-то ротным запевалой…», «Ракет зеленые огни…», «Зловещим заревом объятый…». А в последние годы — «Песня о пехоте», «Два фото»…».
В 1970—1990-х годах Старшинов обращался к военной теме чаще всего в дни празднования очередных победных дат, что ни в малейшей степени не говорит о какой-либо конъюнктурности этих произведений. Просто памятные даты будили память. Кроме того, старшее военное поколение поэтов в эти годы начало уходить, и он оставался знаковой фигурой военного поколения в целом, одним из тех заслуженных ветеранов (наряду с маршалами и героями Советского Союза), которых накануне праздника Победы осаждают корреспонденты центральных газет и вокруг которых проходят главные юбилейные торжества. Так, в редакцию поэзии издательства «Молодая гвардия», где Николай Константинович работал уже на моей памяти, поздравить его с этим праздником приходило едва ли не больше народа, чем даже с днем рождения. Естественно, что такая эмоциональная нагрузка находила свое отражение в творчестве. Самое известное из его «юбилейных» стихотворений «Два фото» (1988):
Сколько лет прошло с тех пор!..
Но и нынче для беседы
Вдруг заглянет репортер
Перед праздником Победы:
— Показали бы вы мне
Фронтовые ваши фото.
Как жила там на войне
Наша матушка-пехота?
— Как? А вот, родимый, так:
Мы от стужи посинели,
Ну а враг, страшась атак,
Подсыпает нам шрапнели.
И опять бомбит с утра.
И опять ревут моторы…
Нас «снимали» снайпера,
А не фоторепортеры.
Но, пока душа жива,
Веселей гляди, пехота…
Впрочем, есть, осталось два,
Два моих военных фото.
Все припомню, как взгляну
Я на них из дали дальней:
Вот — я еду на войну.
Вот — на койке госпитальной.
Этим стихотворением Старшинов закрывает первый том своих избранных произведений, специально указывая на то, что военная тема является для него важнейшей из всех.
Но не только собственными стихами вписал он свое имя в историю русской батальной поэзии. Когда к сорокалетию Победы в издательстве «Современник» готовили двенадцатитомное собрание произведений о Великой Отечественной войне «Венок славы» — проект по своим масштабам и значимости уникальный, — именно Николаю Старшинову было доверено составление поэтической части издания. Доверено потому, что он являлся одним из лучших в стране знатоков русской поэзии 1940—1980-х годов и, пожалуй, лучшим из них, если обратиться к той ее части, которая связана с военной тематикой. Как вспоминал он сам, работа над составлением «Венка славы» на два года заняла все его время.
Но этим он не ограничился. В те же годы из присылаемых в альманах «Поэзия» стихотворений Николай Константинович составил и пробил в печать, «пользуясь» юбилейной датой, книгу «Поэзия моя, ты — из окопа». Вот что рассказывал о ней сам составитель:
«Восемнадцать авторов, все участники войны: пулеметчики, артиллеристы, медсестра… Это не профессионалы, редко у кого из них есть книги. Но они живут поэзией, она греет им душу. Думаю даже, что как поэты, поэтические имена — они вряд ли состоялись, но у каждого из них есть по десятку-другому стихов, которые не уступят и стихам профессиональным. Считаю, что их слово должно дойти до людей сегодняшнего дня, остаться в будущем. Думаю, что такая судьба будет у стихов недавно умершего ветерана войны Игоря Иванова:
Безусые, почти что дети,
Мы знали в тот суровый год,
Что кроме нас никто на свете
За этот город не умрет…
Эти строчки мог написать только переживший войну человек!»
Добавим от себя: не просто переживший войну, но человек несомненно талантливый. Одно это четверостишие, открытое для читателей Старшиновым, что называется, «томов премногих тяжелей».
Так что в поэтическую летопись Великой Отечественной войны он вписал не только свои выдающиеся строки, но и строки своих фронтовых товарищей, многих из которых никогда не видел в лицо.
Им, товарищам-солдатам, в неисчислимом множестве полегшим на полях сражений, посвятил Старшинов стихотворение, равных которому по пронзительности немного найдется во всей фронтовой лирике:
Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи — солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Идут, подтянуты и строги,
Идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
Шумит листва,
Шуршит трава.
И от ромашек-тонконожек
Мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас
В последний раз.
И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной —
Просто чудо! —
Пятак.
Из желтоватого металла.
Он, как сазанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зеленой окисью края.
А вот — рубли в траве примятой!
А вот еще… И вот, и вот…
Мои товарищи — солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
(«Зловещим заревом объятый…», 1945)
РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Когда он вернулся с войны домой в феврале 1944 года, отца уже не было в живых. В многоголосой когда-то квартире в Грохольском переулке обитали теперь две вдовы: мать и старшая сестра Николая с двумя детьми — его племянниками. Так что долгожданная встреча с родным домом была и радостной и горькой одновременно.
Муж сестры Серафимы, Константин Терентьев, штурман дальней бомбардировочной авиации, погиб, совершая свой 180-й боевой вылет. А ведь он не был даже профессиональным военным: до войны окончил штурманские курсы в клубе Осоавиахима. (Была тогда такая массовая добровольная общественная организация — Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, — впоследствии преобразованная в ДОСААФ.)
Сама Серафима, отдыхавшая с детьми летом 1941 года в Тверской (тогда Калининской) области у родственников мужа, оказалась на какое-то время в оккупации. (В предвоенное лето там вместе с ними гостил и Николай.) Потом, когда немцев отогнали, Серафима вернулась под отчий кров, где легче было поднимать детей на ноги.
Пришедший из госпиталя Николай уделял племяннику и племяннице много времени, как бы поменявшись ролями с воспитывавшей когда-то его сестрой. Она была занята на работе, бабушка — по хозяйству, а детьми стал заниматься прыгающий на костылях дядя: читал им книги, показывал фокусы, рассказывал про войну. Жили все одной дружной семьей, но трудно: холодно и голодно. Судя по тому, что «дядя Коля вспоминал, как до войны он не любил манную кашу и как было бы хорошо поесть ее теперь», последний раз все они ели досыта именно до войны.
Тяготы существования двадцатилетний «дядя Коля» скрашивал юмором. Племянники и став взрослыми не забыли шутку, вполне отражающую реалии тех лет.
«В это время все продукты выдавались по карточкам, — рассказывает Константин Константинович Терентьев. — И вот однажды, когда баба Дуня пришла из магазина с продуктами, дядя Коля, я и сестра стали помогать бабушке раскладывать продукты по местам хранения. Когда же сливочное масло положили в масленку и осталась одна промасленная бумага, дядя Коля большим пальцем руки собрал остатки масла, сложил пальцы соответствующим образом и говорит: «Вот вам кукиш с маслом».
А однажды у них сгорели сразу все валенки, положенные на ночь в печь для просушки. Мало того, что сами едва не угорели насмерть (хорошо, Николай вовремя проснулся и выгнал всех на улицу), так еще остались в тридцатиградусные морозы без теплой обуви. По словам племянницы поэта, «это была беда, которую, чтобы понять, надо пережить».
Вынужденное безделье тяготило Николая, что отразилось в тогда же написанном стихотворении:
Домой! В Москву!
В Москву! Живой!
А кем теперь ты стал? Обузой.
А абажур над головой
Повис оранжевой медузой.
Не можешь спать — вставай в ночи.
Сжимая свой костыль рукою,
Ходи по комнате, стучи,
Сестру и мать лишай покоя.
И жизнь свою зови пустой…
Но ведь постой,
Постой,
Постой!
Беда не так уж велика.
Зачем себя считать в отставке?
Да мы еще наверняка
И в жизнь внесем свои поправки.
Хромой?
Ну что же, что хромой!
Не все же видеть в худшем свете.
Мы не затем пришли домой,
Чтоб гастролировать в балете!
(«Домой! В Москву!..», 1944)
Бывший фронтовик (как и многие из них) оказался на жизненном распутье. Гражданской профессии у него не было, заниматься физическим трудом не позволяло здоровье.
Перспектива стать обузой для родных выглядела более чем вероятной. Значит, следовало приобретать какую-либо специальность, пожизненная хромота для которой не помеха. Судя по всему, Николай намеревался пойти, по семейной традиции, учиться на бухгалтера, во всяком случае, усиленно начал вспоминать хорошо дававшуюся ему в школе математику. Мысль стать профессиональным литератором, несмотря на овладевшую им уже в полной мере страсть к поэзии (он ходил сразу в три литобъединения: при газете «Комсомольская правда», при издательстве «Молодая гвардия» и при журнале «Октябрь»), как-то не приходила ему в голову. Но здесь сохранившая его от смерти на войне судьба все решила за него.
Еще в школьные годы он часто бывал в доме своего одноклассника Кости Еголина, отец которого, профессор-некра-совед, с симпатией относился к пишущему стихи товарищу сына. Когда, на костылях, в старой шинели и застиранной гимнастерке, Николай зашел навестить школьного друга, Александр Михайлович, увидев его, растрогался (его старший сын погиб еще на финской войне) и, узнав о затруднительном положении бывшего солдата, решил принять участие в устройстве его судьбы. «Вы, Коля, помнится, писали стихи, — сказал он, — почему бы вам не пойти в Литературный, участникам войны — немалые льготы при поступлении…»
Взяв тетрадь со стихами и аттестат зрелости, Николай явился в Литературный институт, где секретарша ректора объяснила ему, что на дворе месяц март, студенты готовятся к весенней сессии и никакие льготы не могут помочь к ним присоединиться. Всякому, кто знаком хоть немного с системой высшего образования, это в общем-то очевидно. Но ждать полгода до следующего набора означало для Николая стать на это время «обузой» — абитуриентам стипендия не полагается.
На его счастье, Александр Михайлович Еголин, помимо того что был профессором-некрасоведом, возглавлял отдел литературы и искусства в ЦК партии. По тем временам, думается, это было покруче, чем портфель министра культуры. Поэтому очевидность невозможности зачисления в институт в конце учебного года для него была вовсе не очевидной. Один его дружеский звонок ректору решил дело: на следующий день Николая зачислили на первый курс. Правда, сдать экзамены сразу за два семестра он не смог, и его «оставили на второй год» — с первого сентября он снова стал учиться на первом курсе уже с новым потоком студентов. Проводить по два года на каждом курсе быстро вошло у него в привычку.
По собственным словам Старшинова, он «был нерадивым студентом и поэтому проучился в институте с 1944 года по 1955 год, почти двенадцать лет», что даже для этого славного заведения долгое время являлось рекордом (который побил-таки потом Евгений Евтушенко, получивший диплом Литинститута лишь через несколько десятилетий после поступления в родную альма-матер: видимо, лавры старшего товарища не давали ему покоя). В дипломе, правда, написали для порядка, что поступил Старшинов в институт в 1951 году. Несколько раз его отчисляли то за неуспеваемость, то за прогулы. Уходил он и по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Потом подавал заявление, и его снова восстанавливали. Зато за это время он, как говорил, «успел побыть однокурсником многих ныне широко известных прозаиков и поэтов», а со многими из них и подружиться.
Но не стоит думать, что такая вольготная учеба сложилась у Старшинова благодаря высокому покровительству. За время его пребывания в стенах института в нем сменилось восемь ректоров — бытовало даже крылатое (в масштабах вуза) выражение: «Директора приходят и уходят, а Старшинов остается!..» Ни один покровитель не стал бы звонить каждому из них ради «нерадивого студента».
Просто Литинститут — не совсем обычное учебное заведение: студентов в нем мало, факультетов нет вовсе — вместо них творческие семинары. В советские времена он принадлежал Союзу писателей, а не Министерству высшего образования, как большинство вузов, потому и порядки там были особые, с поправкой на творческий «контингент». Так что случай Старшинова был и выдающийся и характерный одновременно.
Весьма необычным путем, например, попала в студенты и Юлия Друнина. Когда ее, только что комиссованную из армии, не взяли в Литинститут в середине учебного года (дело было в декабре 1944-го), она самовольно начала посещать занятия и семинары, став студенткой, так сказать, «явочным порядком». Училась она тоже долго, с перерывом в три года после рождения дочери.
Еще более странным образом оказался тогда в Литературном институте Наум Коржавин, которого туда не принимали как «идеологически
невыдержанного». Однажды его вызвали на Лубянку, где пожурили за публичное исполнение антисталинских стихов, а заодно и посоветовали учиться. Вышел он из «готического здания ЧК» (строка из его стихотворения), откуда не чаял выйти вовсе, студентом Литературного института. Правда, проучился в нем только два года, после чего был выслан из Москвы в Караганду, где и прожил до всеобщей реабилитации 1954 года. Впрочем, когда вернулся из ссылки с дипломом Карагандинского горного техникума в кармане, «Колятина» (так «Эмка» по-свойски обращался к Старшинову) все еще был студентом.
Учился Старшинов хотя и «нерадиво», но с удовольствием. Ведь преподавали в Литературном институте, вели творческие семинары и учились во все времена люди неординарные. Недаром в своей книге «веселых и грустных» воспоминаний «Что было, то было…» Старшинов уделяет им немало места. Приводит он в числе других и такой эпизод, произошедший в институте в период ректорства Федора Васильевича Гладкова, автора знаменитого когда-то романа «Цемент»:
«…Пожалуй, самым запоминающимся оказался случай, произошедший в День Победы 1945 года.
Отмечая такое великое событие — кончилась война! — Литературный фонд расщедрился и решил дать нам возможность широко отметить наконец-то одержанную полную победу. Нам выдали большое количество талонов на водку, которая в ту пору по коммерческим ценам стоила очень дорого, а по талонам — копейки. А вот талонов на еду не дали.
В результате этого мы перестарались и по-праздничному захмелели. И один из наших студентов после этого зашел со студенткой в кабинет директора да и остался там с ней ночевать.
Когда на следующее утро туда пришла уборщица наводить порядок, она обнаружила на директорском диване эту парочку, прикрывшуюся старой солдатской шинелью. Она созвала народ, свидетелей. Получился скандальный случай…
И вот на следующий день на доске приказов и объявлений мы прочитали: «Студентку первого курса Ф. перевести с очного отделения на заочное, а студента второго курса М. отчислить из института за осквернение директорского дивана»!
Приказ этот несколько дней красовался на доске, вызывая у всех собравшихся возле нее замечательно солнечные улыбки…»
Согласитесь, что студенты не всякого учебного заведения, даже спьяну, пойдут любить друг друга в кабинет ректора. И уж тем более мало в каких заведениях формулировки приказов столь красноречиво точны и художественно убедительны.
Но, конечно, не только подобные этому забавные случаи запечатлелись в памяти «вечного студента» Старшинова. Лекции будущим светилам литературы, как правило, читали настоящие светила науки, о Пушкине им рассказывал Сергей Михайлович Бонди, о Шекспире — Михаил Михайлович Морозов, о древних литературах — Сергей Иванович Радциг, логике учил Валентин Фердинандович Асмус, языкознанию — Александр Александрович Реформатский… Это были образованнейшие и интереснейшие люди, бесконечно преданные литературе, само общение с которыми способствовало «воспитанию чувств» у студентов. Все они давно занесены в энциклопедии как выдающиеся представители каждый в своей отрасли знания.
Так, в связи с С. И. Радцигом Старшинов вспоминает такой анекдотичный, но очень трогательный случай:
«Когда один из студентов, поэт М., «горел» на его экзамене, Сергей Иванович бросил ему спасительную соломинку — задал вопрос, на его взгляд, совершенно простейший:
— Скажите, пожалуйста, многоуважаемый, что было изображено. на щите Ахиллеса?
И когда экзаменуемый студент поэт М. не смог на него ответить, Сергей Иванович разрыдался. Горькие слезы текли по его благородному, изборожденному морщинами лицу, а он вытирал их белоснежным платком, приговаривая:
— Поэт М., как же вы можете жить, не зная, что было изображено на щите Ахиллеса? Я просто не представляю себе — как можно жить, не зная этого?!
И его святые слезы капали на экзаменационную ведомость…»
Между прочим, перечисление всего того, что изображено на щите Ахиллеса, в известной книге Н. А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» занимает около страницы.
Под стать профессорам были и руководители творческих семинаров: Павел Антокольский, Сергей Городецкий, Леонид Леонов, Константин Паустовский, Илья Сельвинский, Николай Тихонов, Константин Федин, Михаил Светлов…. — цвет советской литературы.
«Правда, — опять цитирую Старшинова, — Михаил Аркадьевич Светлов проработал в институте недолго: творческие семинары он иногда проводил в пивном баре на площади Пушкина, это не очень нравилось институтскому начальству. Из-за этого расхождения во взглядах поэт однажды и оставил преподавательскую работу…»
Проучившись в институте долго, Старшинов сменил нескольких творческих руководителей. Одно время он даже 64 посещал семинар прозы, который вел тот самый Осип Брик, входивший когда-то в окружение Владимира Маяковского (который, в свою очередь, входил в окружение жены Осипа Брика — Лили). Мало того, если верить утверждению Владимира Коробова, Старшинов «прилежно выжимал из себя несколько месяцев «экспериментальные» рассказы». А не верить ему нет никаких оснований, поскольку его книга о поэте вышла еще в 1985 году и наверняка была написана не без консультаций с Николаем Константиновичем. Однако образцов этой «экспериментальной» прозы, по всей видимости, не сохранилось.
«Затем состоялось «возвращение блудного сына», — как выразился тот же Владимир Коробов, — в родную стихию, в семинар Николая Тихонова».
Николай Семенович Тихонов — автор известных революционно-романтических баллад и стихотворений (а также знаменитых когда-то строк: «Праздничный, веселый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить, / Вижу я, что небо небогато, / Но про землю стоит говорить») — был тогда председателем правления Союза писателей СССР, а потому ему, в отличие от Светлова, не возбранялось проводить занятия вне стен института. Проводил он их обычно у себя дома, за чаем, развлекая семинаристов рассказами о своих поездках по Европе, Азии и Америке. Литературной же учебой особо не докучал, ограничивая «мастер-класс» обязательным отзывом для деканата в конце учебного года.
Заканчивал же институт Старшинов уже в семинаре Сергея Васильевича Смирнова.
Позднее (начиная с середины семидесятых годов) Николай Константинович и сам более двадцати лет руководил творческим семинаром в родном Литинституте, «пропустив» через свои руки несколько поколений молодых дарований. При этом он предпочитал работать с заочниками, утверждая, что их творчество интереснее, поскольку жизненного опыта у них больше. Расхождений же во взглядах с институтским начальством на организацию учебного процесса у него, как у Светлова, не было, так как к тому времени он уже раз и навсегда завязал с «проклятой русской жаждой».
Но вернемся в год 1944-й. Садившиеся тогда за парты Литературного института молодые люди в видавших виды гимнастерках были особым поэтическим поколением, которое потом назовут «военным».
Литературоведческий термин «военное поколение советских поэтов» относится к поэтам, чье творчество связано с Великой Отечественной войной. Но не ко всем, писавшим о ней, а лишь к тем, чей путь в литературу начался с фронтовых дорог. Например, Александра Твардовского, Константина Симонова, Алексея Суркова и других поэтов старшего поколения, чьи стихи и песни широко звучали уже во время войны, к «военному поколению» не причисляют, хотя по фронтовым дорогам в качестве корреспондентов различных газет «с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом» (К. Симонов) они тоже прошли немало. Не относятся к этому поколению (терминологически, конечно) и те из входящих в послевоенные годы в литературу поэтов, кто по разным причинам не хлебнул «фронтового лиха», — тот же Наум Коржавин или Виктор Боков, хлебнувшие лиха-другого, или Василий Федоров, во время войны работавший на оборонном заводе в Сибири.
Так вышло, что военное поколение, не успев вернуться с войны, вступило в литературную борьбу с поколением предвоенным. «Борьба поколений» вообще является неотъемлемой частью литературного процесса, но к тому же самосознание молодых писателей, пришедших в Литературный институт с фронта, с боевыми наградами на груди и часто на костылях, кардинально отличалось от самосознания других поколений студентов этой кузницы кадров для советской литературы. Оно было не то чтобы более самодостаточным (молодости всегда присуще это качество), оно было самодостаточным с гораздо большим на то основанием — по объективным причинам.
Сергей Наровчатов, тоже представитель военного поколения — старшей его ветви, в статье «Путь поэта», посвященной творчеству Старшинова, писал об этой самодостаточности так: «Многое, очень многое отняв у таких ребят, как он, жестокие сороковые годы немало дали им взамен. Они дали им спокойное и горьковатое чувство исполненного долга, нераздельное от ощущения внутреннего достоинства».
Именно это «ощущение внутреннего достоинства» ярко проявилось в старшиновском стихотворении 1945 года, которое его ровесниками было воспринято, по словам Владимира Коробова, «как своего рода манифест», хотя опубликовано оно было лишь в 1957-м:
Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.
О том, что было, — откровенно, честно…
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.
Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны…
А я молчу…
Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели…
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
(«Солдаты мы…», 1945)
Для тех, кто знаком с общественно-литературной ситуацией послевоенного времени, намек этого стихотворения понятен. Для тех, кто не знаком, поясню: партийное руководство страны взяло курс на скорейшее восстановление разрушенного войной народного хозяйства, и полная горьких воспоминаний поэзия вчерашних солдат пришлась явно не ко двору как «упадническая». Сразу после объявления победы над Германией (с 15 по 22 мая) проходил пленум правления Союза советских писателей, где его руководитель Николай Тихонов употребил выражение «линия грусти». Линию эту он усмотрел в некоторых лирических произведениях молодых поэтов. Масла в огонь подлил Алексей Сурков, опубликовав в «Литературной газете» разгромную рецензию на составленный Дмитрием Кедриным для издательства «Молодая гвардия» сборник стихов молодых поэтов. Сборник должен был выйти под общей редакцией самого Суркова, а вышла вместо этого весьма некрасивая история с разгромом молодых авторов. Вряд ли Сурков был искренен в своем гневе. Дело в том, что незадолго до этого самому Суркову крепко досталось от руководящих органов за его «Землянку» с «четырьмя шагами до смерти» (как и Михаилу Исаковскому за гениальную, переворачивающую душу песню «Враги сожгли родную хату»), Скорее всего, обжегшись на молоке, Сурков дул на воду. Молодым, однако, от этого легче не было. В те годы жесткого партийного руководства литературой «публичная порка» часто сопровождалась серьезными оргвыводами.
Тем не менее в августе 1945 года в «Молодой гвардии» все же вышел сборник «Солдатская песня» под редакцией и с предисловием Алексея Суркова. Он был составлен из стихов, печатавшихся в дивизионных, армейских и фронтовых газетах. Стихотворений Николая Старшинова, как и других поэтов из тех, кого отобрал Дмитрий Кедрин, в нем не было.
Так что «манифест» Старшинова не случайно пользовался популярностью среди сверстников-поэтов. Сурков отнюдь не был одинок в своих претензиях, предъявляемых к молодым авторам. Приняв слова Тихонова как «руководство к действию», на их перевоспитание бросилась свора литературных критиков. Они требовали от вчерашних фронтовиков новых тем, воспевания мирного строительства, оптимизма и веры в светлое будущее. Вера в светлое будущее у них, к слову сказать, была, но война еще не отболела в душах, и писать настоящие стихи они могли только о пережитом и выстраданном, то есть о войне, а это им, по сути дела, запретили.
Наиболее тогда известные из молодых — Михаил Луконин и Семен Гудзенко вынуждены были даже «огрызнуться» от имени всего военного поколения через ту же «Литературную газету»: «Дело дошло до того, что всякое упоминание об опасностях, героической смерти и павших друзьях зачисляется в разряд упаднических настроений, якобы тормозящих движение вперед».
Не миновал «критической дубины» и Старшинов. В 1946 году Александр Яшин, руководивший литобъединением при журнале «Октябрь», отобрал сразу шестнадцать его стихотворений, которые показал главному редактору журнала Федору Панферову. Тому стихи очень понравились, и он решил их напечатать. Старшинов даже вычитал верстку, находясь на седьмом небе от счастья, но тут грянуло печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем, в частности, говорилось: «Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь… воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий… Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах». (Показательными жертвами этого постановления, как известно, стали Анна Ахматова и Михаил Зощенко, исключенные из Союза советских писателей.)
Номер «Октября» от греха подальше переверстали, из шестнадцати стихотворений Старшинова осталось одно — самое безобидное. Но и оно попало в общую критическую мясорубку, которую устроил «Октябрю» журнал «Знамя». В роли «мясника от критики» выступил Даниил Данин:
«Поэзия «листка на веточке» всегда является поэзией непреодоленного субъективизма. Еще чаще она — плод преувеличенной поэтизации автобиографических «мелочей жизни» поэта. И, конечно, под такими автобиографическими деталями следует разуметь не только внешние события, но и случайные настроения, ощущения, мысли… И здесь уместно вспомнить любопытную и не лишенную мудрости французскую поговорку: «Случайная мысль — это не мысль».
Опасность преувеличенной, бездумной поэтизации всевозможных «мимолетностей» всего страшней для молодого поэта, отношение которого к жизни и к слову только еще формируется. А до какой степени несущественности и внутренней бессодержательности может довести стремление к «самовыражению» по всякому поводу, к «воспеванию» своих минутных настроений и крошечных наблюдений, показывает, например, стихотворение молодого поэта Николая Старшинова «Осень»:
Налетели ветры с севера,
Наступили холода.
А меня сегодня радует
Незамерзшая вода.
Над раскинувшимся озером
Наклонился рыжий лес.
Листья кружатся и падают
В отражение небес.
А идти ко дну, шершавые,
Не желают, не хотят…
Так по озеру и плавают,
Словно выводки утят.
Вот и все! Автор, разумеется, видит в этой картинке нечто многозначительное. Но смешно нападать на стихотворца, нуждающегося в простой литературной консультации. А вот редакции «Октября», которая опубликовала эту «Осень» в № 7–8 за 1946 год, должно быть вовсе не смешно, а грустно, потому что публикацией такой поэзии она порождает у молодых поэтов и у читателей совершенно ложное представление о требованиях нашего времени к лирике, о внутренних достоинствах, какими лирика должна обладать, чтобы быть современной».
Понятно, что для критика стихотворение молодого поэта послужило лишь поводом. Он нападал на журнал в целом и разносил в пух и прах все, попадавшееся под руку. Но это понятно теперь, на расстоянии полувека, а тогда нарочитая издевка, напечатанная в «толстом» журнале, нанесла болезненный удар по самолюбию автора. Начиналось все с ожидания большой подборки, а закончилось «избиением младенцев». Старшинов, по его собственным словам, «затаился», полагая, что теперь «Октябрь» от него «откажется», поскольку он его «подвел».
Но Федор Иванович Парфенов, сделавший имя на многотомном романе о коллективизации «Бруски», был опытным литературным бойцом и, надо полагать, политиком. «Октябрем» он командовал начиная с 1931 года и (с некоторыми перерывами) вплоть до своей кончины в 1960-м, что говорит о его несомненном таланте руководителя. Кроме того (а может быть, несмотря на это), он был человеком мужественным и порядочным и своих «не сдавал». К тому же он с большой симпатией относился к творчеству молодого поэта. Уже в шестом номере «Октября» за 1947 год благодаря его усилиям были напечатаны поэма Старшинова «Гвардии рядовой» и ставшее знаменитым стихотворение «Ракет зеленые огни…», в котором, правда, как уже говорилось, по цензурным соображениям была несколько испорчена концовка.
Вторым «злым гением» Старшинова стала Вера Инбер, широко известная тогда посвященной блокадному Ленинграду поэмой «Пулковский меридиан». К слову сказать, была она племянницей Льва Троцкого — врага Сталина номер один, что не помешало ей получить в 1946 году Государственную премию.
В следующем, 1947 году к ней попала на внутреннее рецензирование в издательстве «Советский писатель» рукопись первого сборника Николая Старшинова, на которую она написала разгромный отзыв. Вообще внутренние рецензии на рукописи молодых авторов часто бывают разгромными, поскольку издательские портфели нерезиновые. Но любопытно, что с особым рвением Вера Инбер прошлась именно по военной лирике поэта:
«У некоторых наших молодых поэтов существует «особое мнение» о влиянии войны на поэзию.
Мнение это высказывалось и устно, и в печати и вкратце сводится к тому, что «фронтовое» поколение поэтов не может и не должно писать так, как писалось до войны.
Вихрь мыслей и чувств, неизбежный в минуты опасности на фронте, огненный, прерывистый ритм боев и т. д. — все это не могло не отразиться прежде всего на ритме поэтического произведения.
Сплошное «сомкнутое» течение мыслей сменялось синкопами, какие бывают между разрывами двух мин. Отдельные звенья логической цепи прорваны, и туда врываются вихревые ассоциации. Появляются психологические и смысловые провалы, «воздушные ямы» стиха, долженствующие изображать динамику боя.
Лично мне все это представляется в корне неверным.
Не все, допустим, должны писать обязательно ямбом. Не все должны следить за тем, чтоб не была упущена ни одна «петелька» мысли. Но концы с концами сводить необходимо.
Зачем валить на войну нежелание поэта поработать как следует над своим произведением, выверить свои ассоциации, довести до читателя ход мыслей?
Зачем собственную незрелость подпирать авторитетом Великой Отечественной войны?
В результате неправильно понятых «уроков войны» мы наблюдаем порой своеобразный «неоимажинизм», явление вреднейшее, глубоко чуждое нашей поэзии.
Эти общие замечания относятся, в частности, и к сборнику стихов Н. Старшинова…»
В целом же рецензентом был сделан вывод, что автор находится «на ложном пути». Заканчивалась рецензия нелестной характеристикой: «Это поэт-неженка, любящий описывать то, что ему легко, и покидающий читателя при первой же трудности. Все это надо в себе преодолеть. Данный сборник издать мне не представляется возможным».
Следует заметить, что «громила» Вера Инбер не только молодых поэтов. Так, на долгие годы она перекрыла путь к читателю Леониду Мартынову статьей в «Литературной газете» по поводу его книги «Эрцинский лес» — следующая вышла лишь через двенадцать лет. Об этом можно прочитать и в воспоминаниях Старшинова «Что было, то было…», в главе, посвященной литературной судьбе этого замечательного представителя русской философской лирики. Видимо, родственные связи с врагом «отца народов» побуждали известную поэтессу постоянно доказывать власти свою лояльность такой вот ценой.
Тем не менее по настоянию другого рецензента, Николая Грибачева, тоже лауреата Государственной премии, издательство заключило со Старшиновым договор, выдало аванс и вернуло рукопись на доработку.
В те послевоенные годы редакцией поэзии в «Советском писателе» заведовал Александр Жаров, автор слов марша советских пионеров «Взвейтесь кострами». По словам Старшинова, он отличался тем, «что очень немногие могут помянуть его добрым словом, поскольку и сам он добротой не отличался. И вкусом — тоже». Между ними по поводу доработанной рукописи произошел спор, после которого договор с молодым автором расторгли, а аванс потребовали вернуть.
Последнее более всего возмутило мучившегося от постоянного безденежья Старшинова. Понятно, что возвращать аванс ни один уважающий себя писатель не станет, но бухгалтерия издательства стала гасить долг, не выплачивая ему гонорары за переводы, а это было обидно вдвойне. Он пошел искать правду в комиссию по работе с молодыми при Союзе писателей и даже нашел ее: «Секретариат Союза писателей вынес решение о том, что издательство «Советский писатель» не право в своих взаимоотношениях с автором и не имеет оснований для расторжения с ним договора и возвращения выданного ему аванса» («Советский писатель», как и Литературный институт, входил в состав «империи» Союза писателей СССР).
И все-таки первая книга Старшинова вышла в другом издательстве — «Молодая гвардия» — и уже в 1951 году. Она называлась «Друзьям», но друзья с трудом узнавали в ее авторе того Колю Старшинова, которого знали. Как писал Владимир Коробов, «собственная жизнь поэта, его биография, его мысли и чувства остались в большинстве своем за бортом этого сборника. В результате долгих издательских перипетий ни одно из самых значительных и заметных стихотворений, написанных к тому времени и «устно» достаточно широко известных в литературных кругах, в первую книгу Н. Старшинова не попало. Львиную долю сборника занимали стихи, написанные по газетным впечатлениям о международных событиях тех лет».
Действительно, если судить по географическим названиям, можно подумать, что написал книгу какой-нибудь объехавший полмира политический обозреватель: Малайя, Эллада, Китай, Янцзы, Греция, Британия, Атлантический океан, Эгейское море, Бискайский залив и т. д. А каковы лирические герои! Марсельский докер, пелопонесские партизаны, китайский солдат, негритянский юноша, болгарская девушка и девушка из Бильбао, старая гречанка — все, как сказал классик, «промелькнули перед нами». А ведь иностранных подданных Старшинов до сих пор видел только на фронте сквозь прицельную планку своего «максима».
В общем, его первый поэтический сборник получился неудачным. Он сам впоследствии признавал это, полагая даже, что из-за него остался в те годы в тени своих товарищей по перу из фронтового поколения поэтов: Семена Гудзенко, Михаила Луконина, Александра Межирова, Сергея Наровчатова, Бориса Слуцкого, Константина Ваншенкина, Евгения Винокурова…
Но если отсутствие в сборнике лучших на тот момент стихотворений Старшинова лежит на совести редактора и цензора, а вернее сказать, эпохи, то писать в таком количестве «паровозы» (стихи на общественно-политическую тематику, ставившиеся обычно в начале поэтических сборников для ублажения «главлита») его, я полагаю, никто не заставлял. (Единственное, что заставили написать, — открывающее книгу стихотворение о Сталине. Но таков был порядок.) Просто тема борьбы за мир и свободу во всем мире со школьной скамьи привлекала его, и он, избрав путь профессионального литератора, остался ей верен, ничуть не кривя душой.
Другое дело, что раскрытие данной темы не слишком удавалось поэту еще с детских лет. Впрочем, это вопрос спорный. Например, в первой же рецензии на книгу «Друзьям», опубликованной во втором номере журнала «Смена» за 1952 год, о «международных» стихотворениях говорится как о несомненных творческих удачах:
«В одном строю идут сегодня девушка из Бильбао, греческий партизан, китайский солдат, марсельский докер, борющийся за мир, — все те, которых поэт любовно называет друзьями…
Обо всем происходящем в мире автор умеет говорить так, что, кажется, сам становится участником этих событий.
Солдаты свободы идут к океану,
И некуда деться врагу!
…И я забываю про старые раны,
Я больше лежать не могу…
Сердце поэта там, где идет борьба за мир и свободу…»
Написали рецензию, к слову сказать, друзья поэта по институту, тоже бывшие фронтовики Григорий Лобарев и Владимир Нарожнов. Став старше и искушеннее в поэзии (по его словам, это произойдет в конце пятидесятых годов), Старшинов поймет, что борьба за что бы то ни было в общем-то не его стихия. Но совсем отказаться от гражданской лирики так и не сможет. Правда, в основном его перо будет «приравнено к штыку» в борьбе за сохранение природы: он слишком ее любил, чтобы не писать об издевательствах над ней.
Тем не менее в 1984 году, в разгар холодной войны, он напишет стихотворение «Заокеанским поджигателям», полное гнева по отношению к бывшим союзникам по второму фронту. Стихотворение достаточно длинное, поэзии в нем гораздо меньше, чем политики. Но, перечитывая его сегодня, в разгар борьбы с терроризмом по методике Буша, поражаешься, насколько оно актуально и теперь, когда холодную войну Советский Союз давно проиграл. А завершающие его строки про небоскребы после американской трагедии одиннадцатого сентября вообще выглядят предсказанием в духе Нострадамуса, что еще раз доказывает пророческую силу поэтического слова, даже когда оно вроде бы опускается до злободневной публицистики:
…Видно, господа,
Вам в мирной жизни вовсе нет покоя:
То здесь, то там поднимется вражда,
Посеянная вашею рукою.
А как хотели б вы разжечь пожар,
Разжечь такой пожар неугасимый,
Чтобы весь мир у ваших ног лежал
Испепеленной вами Хиросимой.
Вот был бы сущий праздник вам тогда,
Вот было б торжество звериной злобы…
Одно неясно: где вы, господа,
Застраховали ваши небоскребы?
Но вернемся к Старшинову в 1952 году. Не всякий молодой поэт, прочитав в прессе, что стихи его плохи, поверит в это, но в то, что они хороши, поверит всякий. Вдохновленный хвалебными отзывами, Старшинов ходил по редакциям с гордо поднятой головой, хотя и удивлялся про себя, почему, расхваливая одни стихи, критики упорно не замечают другие, из раздела «Лирика», на его взгляд, лучшие в книге. Да и о поэме «Гвардии рядовой» помалкивают.
На фоне неожиданно теплой атмосферы, сложившейся вокруг него, особенно холодным показался Николаю Старшинову ушат воды, вылитый на его голову Александром Твардовским, самым признанным (и справедливо) поэтом того времени, который к тому же руководил и самым престижным в стране журналом «Новый мир».
«В конце пятьдесят второго года, — пишет Старшинов в автобиографии, — после выхода в свет моей первой книжки, я набрался храбрости и отнес в «Новый мир» тринадцать стихотворений и поэму. Я был уверен в том, что их встретят хорошо, и поэтому попросил Софью Григорьевну Караганову — она заведовала там отделом поэзии — показать всю мою подборку главному редактору, Александру Трифоновичу Твардовскому.
Примерно через месяц я получил ответ. Александр Трифонович прочитал стихи, два из них отобрал для печати.
И действительно, в следующем году в мартовском номере «Нового мира», который я раскрыл с трепетом, было опубликовано одно мое стихотворение — «Руки моей любимой». Второе из отобранных почему-то не появилось.
Я зашел в редакцию и попросил С. Г. Караганову вернуть мне все непошедшие стихи. Видимо, она хотела пощадить мое самолюбие — несколько дней тянула с возвращением рукописи и наконец очень неохотно отдала ее мне, сказав, что на полях есть пометки — они сделаны Александром Трифоновичем.
Я с нетерпением принялся листать рукопись, надеясь — чего греха таить! — найти на ее полях комплименты. И нашел их… необыкновенно мало…
Напротив четверостишия:
Там, где берег подмыт волной,
Как нацеленная стрела,
Среди бурой травы речной
Щука встала и замерла, —
стояло — «хор.».
Под одним стихотворением было: «Это начало чего-то, а так все содержание: «люблю побродить…».
Под следующим стихотворением я прочитал: «Опять неплохо, но неизвестно к чему, зачем. Нет ударной строчки».
На этом более или менее приятная часть замечаний кончалась — сколько я ни искал, больше ничего утешительного для себя не нашел. И это по поводу шестисот с лишним строк!..
Зато под многими стихами стояли суровые и, как мне тогда показалось, недоброжелательные и совершенно несправедливые оценки:
«На эту тему у П. Кустова лучше. — А. Т.».
«Не годится. — А. Т.».
«Мало товару. — А. Т.».
«Слабо. — А. Т.».
И наконец, две совершенно убийственные. Под стихами «Государственный человек»: «Это похоже на что-то козьма-прутковское. Не тот тон, не те слова. — А. Т.». А под стихами «Врачу» и того хуже: «Это — в больничную книгу отзывов».
Я был не только подавлен этими краткими, но выразительными высказываниями поэта, а и обижен до глубины души. Как это чаще всего бывает в подобных случаях, всю вину я переложил с больной головы на здоровую — мол, какой жестокий человек: в хорошем-то не захотел разобраться, а все плохое разглядел. И поэтому некоторые из этих стихов даже без всякой правки я напечатал в своей следующей книге.
И теперь очень сожалею об этом…
Потребовалось много лет (пять-шесть) для того, чтобы я понял, что оценки моих стихов были совершенно правильными, а замечания на полях — при всей их жестокости и резкости — справедливыми.
Александр Трифонович на примере моих же стихов хотел мне дать понять, «что такое хорошо» и, в основном, «что такое плохо», показать — как нельзя писать стихи.
Теперь-то я вижу, что стихотворения мои были или просто слабыми, или очень слабыми. Но как же нам не хочется признаваться в этом — даже самим себе!..»
Конечно, не хочется. Как говаривал Сергей Есенин, критику только дураки любят. И, например, правоты других своих критиков — Алексея Суркова, Даниила Данина, Веры Инбер — Старшинов так и не признал. А все потому, что их критика была конъюнктурной, а критика Твардовского — конструктивной.
Книга, в которой он напечатал не понравившиеся Твардовскому стихотворения, называлась «В нашем общежитии» и вышла в 1954 году в том же «Советском писателе», где его несколько лет назад обвинили в причастности к «неоимажинизму» и где в свое время он сам станет членом правления (то есть будет решать, кого издавать, а кого — нет). Эта книга была даже меньше по объему, чем первая, но, по словам Владимира Коробова, «шире первой, разнообразнее по поэтическому оформлению». Впрочем, и второй своей книгой Старшинов впоследствии был недоволен, полагая, что и ее испортил редактор, причем на сей раз из самых добрых побуждений. Дело в том, что помог «пробить» книгу и вызвался быть ее редактором руководитель творческого семинара Старшинова Сергей Васильевич Смирнов. Он был замечательным человеком, но поэтом определенного, описательно-бытового, направления. Под эту гребенку он и причесал рукопись своего ученика. Лучших его стихотворений не оказалось и во втором сборнике. Правда, некоторые стихи из него войдут потом в «Избранное» поэта.
В 1955 году Николай Старшинов защитил наконец, зато на отлично, дипломную работу, после чего в его творческой жизни произошли большие перемены. Большие перемены происходили в это время и в его личной жизни…
ПЛАНЕТА «ЮЛИЯ ДРУНИНА»
Николай Старшинов и Юлия Друнина встретились в конце 1944 года в Литературном институте. Их жизненные пути до этой встречи (да и после нее) удивительно похожи даже с учетом того, что война вообще нивелировала судьбы людей. Они родились в одном году, в одном городе, посещали в детстве одну литературную студию (хотя тогда не заинтересовались друг другом); у обоих, пока они воевали, дома умерли отцы; оба были комиссованы из армии после тяжелых ранений и пришли в Литературный институт в середине учебного года (Друнина годом позже); оба проучились в нем гораздо дольше положенного; оба стали известными поэтами (правда, известность Друниной была шире), лауреатами многочисленных премий и наград; и оба до конца дней остались верны идеалам своей юности, даже когда общество от этих идеалов отказалось.
Похожи не только судьбы, порой удивительным образом перекликаются и стихи этих поэтов. Вот два четверостишия, первое из них принадлежит Друниной, второе — Старшинову:
И даже в криках и в дыму,
Под ливнем и огнем
В окопе тесно одному,
Но хорошо вдвоем.
(«Приходит мокрая заря…», 1944)
Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло.
(«И вот в свои семнадцать лет…», 1946)
Тема, идея, размер, ритм — совпадает все, несмотря на то, что в стихотворении Друниной речь в общем-то идет о взаимоотношениях на войне мужчины и женщины, а не просто солдат.
Их любовь вспыхнула сразу в один из декабрьских дней 1944 года, когда «только что демобилизованный батальонный санинструктор <> в солдатских кирзовых сапогах, в поношенной гимнастерке и шинели» самовольно явилась на занятия студентов первого курса Литературного института. После лекций Старшинов пошел ее провожать. По дороге они «взахлеб читали друг другу стихи» конечно, о войне. Друниной уже были написаны прославившие ее потом «Зинка», «Целовались, плакали и пели…», «Штрафной батальон» и, наверное, самые главные ее строки:
Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И сотни раз — во сне…
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(«Я только раз видала рукопашный…», 1943)
Было чем «похвастаться» и Старшинову.
Через много лет после описываемых событий в книге, которая так и называется: «Планета «Юлия Друнина» он со светлой печалью вспомнит перипетии первых дней их любви, грустные и веселые одновременно, как это часто бывает в жизни:
«…Нам было по двадцать лет. Она была измучена войной, полуголодным существованием, была бледна, худа, очень красива. Я тоже был достаточно заморенным. Но настроение у нас было возвышенным — предпобедным…
Через несколько дней мы сбежали с лекций, и я снова провожал ее. Мы зашли к ней домой. Она побежала на кухню и вскоре принесла мне тарелку супа. Извинилась, что нет хлеба. Я спросил:
— А себе?
— Я свою долю съела на кухне. И больше не хочу.
Суп был сильно пересолен, имел какой-то необычный темно-серый цвет. На дне тарелки плавали картофельные крохи. Я проглотил его с большим удовольствием, поскольку был голоден…
Только через пятнадцать лет, когда мы развелись и пошли после суда обмыть эту процедуру, она призналась:
— А ты помнишь, как я угощала тебя супом?
— Конечно, помню!
— А знаешь, что это было?..
— Грибной суп?
Оказалось, что это был вовсе не суп, а вода, в которой ее мать варила картошку «в мундирах». Юля только потом при разговоре с ней это выяснила.
Я спросил:
— Что же ты мне сразу-то не сказала об этом?
— Мне было стыдно, и я думала: если ты узнаешь, у нас могут испортиться отношения.
Смешно, наивно, но ведь и трогательно…»
Действительно, странные люди эти поэты: признаться, что на войне страшно, имея медаль «За отвагу», не стыдно, а в том, что накормила голодного человека не слишком изысканным «супом» — стыдно.
Очень скоро они стали «неразлучны, ходили повсюду только вместе», держась за руки, как положено влюбленным. Хотя со стороны это должно было выглядеть чудно: люди в шинелях идут не строем, а взявшись за руки. (Через много лет Старшинов с обидой воспримет досужие домыслы некоторых «воспоминателей», которые после гибели Друниной начнут говорить чуть ли не о ее испорченной личной жизни во время их брака. Ведь многие, знавшие в послевоенные годы эту пару влюбленных, потом не могли поверить в то, что они расстались.) Некоторое время спустя Николай «покинул родимый дом» (Есенин) в Грохольском переулке и перебрался на Малый Демидовский под крыло тещи — Матильды Борисовны, женщины весьма колоритной — «непоследовательной и сумбурной», как охарактеризовал ее зять. Впрочем, дома молодые бывали мало: дни проводили в институте, вечера — на занятиях одного из литературных объединений.
Существовавшие тогда в Москве несколько сильных лит-объединений ни по составу участников, ни по рангу руководителей не уступали Литературному институту, так как были организованы «с учетом материальной базы», то есть при крупных печатных органах. Там они впервые услышали стихи Николая Глазкова, Семена Гудзенко, Наума Коржавина, Михаила Львова, Александра Межирова, Алексея Недогоно-ва, Ксении Некрасовой, Вероники Тушновой… По-разному сложились потом судьбы этих поэтов — как сказал классик, «иных уж нет, а те далече», но в первые послевоенные годы все они жили одними интересами, а потому — дружили.
Юлия Друнина была красива, талантлива, и многие ее товарищи по перу испытывали к ней не только дружеские чувства. Например, про нее, Старшинова и Коржавина (которого друзья называли Эмкой) были даже сложены шутливые стихи:
Юлька, Колька и Наум
Собирались в Эрзерум.
Юлька с Колькой ели вишни,
Ну а Эмка — третий лишний.
Впрочем, любовный треугольник не мешал им оставаться добрыми друзьями: именно Старшинова попросил Коржавин проводить его до «готического здания ЧК» на Лубянке, куда был вызван для «профилактической беседы», результаты которой могли стать для него самыми плачевными.
Повышенным вниманием пользовалась Друнина не только
у сверстников, но и у литературных мэтров, в частности
у Павла Антокольского и Степана Щипачева. Однако большая взаимная любовь и твердость характера служили ей надежной защитой от гусарского натиска именитых поклонников.
В апреле 1946 года, когда Старшинов и Друнина учились на втором курсе, у них родилась дочь Лена. Это радостное событие внесло в их жизнь массу проблем. Обе бабушки участвовать в воспитании внучки отказались. У Евдокии Никифоровны и так на шее было двое внучат, да и лет ей уже было немало. У Матильды Борисовны нашлись какие-то свои причины, главная из которых, судя по всему, — неровные отношения с дочерью; даже скромную студенческую свадьбу молодые сыграли на квартире у одного из однокурсников. А когда в марте 1947 года они стали участниками Первого Всесоюзного совещания молодых писателей, Юлия Друнина, по ее словам, «с великими сложностями договорилась с одной женщиной, чтобы она присматривала за дочкой…».
Так что растить Лену им пришлось самостоятельно. Юлия Друнина на три года ушла из института. Николаю отпуск по уходу за ребенком не полагался, но учиться он тоже практически перестал — возможно, из солидарности, а возможно, потому, что много времени отнимали заботы о дочери и о хлебе насущном. Хотя справедливости ради надо сказать, что учеба в Литературном институте никогда не была слишком напряженной — это не Физтех и не Бауманский, так что на двенадцать лет растянувшаяся учеба Старшинова — более следствие свойств его души, нежели обстоятельств.
Тем не менее «главным родителем» был именно он, поскольку жена, по его словам, «в быту была, как, впрочем, и многие поэтессы, довольно неорганизованной. Хозяйством заниматься не любила». Так что купал дочь и гулял с ней чаще отец.
В материальном плане самыми трудными были первые послевоенные годы. Старшинов вспоминал:
«Ютились в маленькой комнатке, в общей квартире, жили сверхбедно, впроголодь. <…> Приходилось продавать одну карточку, чтобы выкупить хоть какие-то продукты на остальные, к тому же и не очень достаточные…
Стипендия в Литературном институте была тогда мизерной — 147 рублей, на послереформенные деньги — 14 рублей 70 копеек. Как инвалиды Великой Отечественной войны и пенсии мы получали примерно такие же. У нас росла дочь. И мы еле-еле перебивались с хлеба на воду…
А дочка, тяжело переболев в первые месяцы, нормально росла, у нее был хороший аппетит. Случалось, что она прибегала на кухню и, если там находилась плошка с варевом, предназначенным для кота соседки, мгновенно разделывалась с ним…»
Молодые родители, как могли, подрабатывали литературным трудом (другим не могли по причине инвалидности). Вместе переводили стихи живого классика чувашской литературы Якова Ухсая для издательства «Советский писатель», но опыта у них еще было мало, и из десяти переведенных ими стихотворений отвечавший как редактор за книгу классика Ярослав Смеляков отобрал только три.
Как-то Николай даже пострадал за свое трудолюбие. Сидя на лекции, он читал «самотек», присланный в газету «Известия», где подрабатывал внештатным литконсультантом. Бдительный преподаватель заметил, что «он прячет какие-то подозрительные
бумаги» и, в духе времени, доложил по инстанции — хорошо, что в учебную часть, а не сразу в «органы». Выручил Старшинова однокурсник, бывший парторгом института: при разборе «дела» он объяснил заинтересованным товарищам его суть. В результате Старшинов «отделался лишь выговором за нарушение учебной дисциплины…».
Иногда перепадали гонорары за публикации и выступления. Но не будем забывать, что они были молодыми поэтами, а поэтам (особенно молодым), как подметил Сергей Есенин, «деньги не даются». Например, однажды компания в составе Семена Гудзенко, Юлии Друниной, Михаила Луконина, Александра Межирова, Вероники Тушновой и Николая Старшинова выступала в Архитектурном институте, за что им вручили по конверту с деньгами. После выступления компания немедленно отправилась в ближайший коммерческий ресторан, где их гонорара хватило лишь на то, чтобы выпить по сто граммов водки, причем без закуски. Затем в ход пошли личные сбережения Гудзенко, на которые заказали еще по пятьдесят, но уже с закуской. Зато потом будущие классики советской литературы до закрытия ресторана гуляли за счет военных моряков, которых Межиров растрогал чтением стихов Сергея Есенина.
Получив гонорар за свою первую книгу «В солдатской шинели», Юлия Друнина «решила приодеть» мужа (обратим внимание: не себя, а мужа!), и ему был куплен «почти новый роскошный пиджак сиреневого цвета». Пиджак, однако, оказался в полтора раза больше своего хозяина, и обновку пришлось отнести в комиссионку. Эта торговая операция стоила семейному бюджету приблизительно половины полученного гонорара.
Кстати говоря, в поэтическом сборнике жены Старшинов принял самое непосредственное участие — в нем есть одно его стихотворение — «Дорога Геленджик — Новороссийск», как он признался, «пожалуй, самое слабое и самое длинное в книге».
История этого не злонамеренного, вынужденного плагиата такова. Когда книгу (а вернее, тоненькую книжечку, какими обычно бывают первые сборники поэтов) сверстали, в ней оказались пустыми последние три страницы. В наше время такие страницы издательства заполняют рекламой своей продукции, а тогда авторы должны были дополнять или сокращать текст до нужного объема. Сокращать и без того тощую книжку было жалко, а собственных устраивающих редактора стихотворений, чтобы ее дополнить, у Друниной на тот момент не было. Вот Старшинов и предложил ей свое, правда, не лучшее, поскольку лучшие тоже редактора не устраивали. С тех пор никто из них это стихотворение не публиковал, так что в литературоведческих анналах оно, наверное, числится за Друниной.
А первый в жизни Николая костюм купил ему старший брат Лев. На Первом Всесоюзном совещании молодых писателей Старшинов щеголял в новенькой с иголочки цивильной паре.
Повезло «приодеться» и его жене. Однажды к ним домой пришла домработница Веры Инбер и принесла от нее подарок: платье, туфли, по килограмму сливочного масла и сахара. История умалчивает, случилось это до или после того, как Инбер «зарубила» рукопись Старшинова в «Советском писателе».
В 1948-м Николай Старшинов попал в больницу с тяжелейшей формой туберкулеза. Жизнь ему спас, как утверждает его дочь Елена Николаевна, медицинский прием, называемый «искусственный пневмоторакс», и, как утверждал он сам, любовь жены. «История болезни» изложена им в стихотворении 1957 года:
Врач от моих ознобных глаз
Отвел усталый взгляд:
— Вы понимаете, для вас
Там лучше во сто крат.
Там легче няню вам позвать,
Там тише разговор… —
И вывезли мою кровать
В больничный коридор.
И ширмой обнесли вокруг,
И заслонили свет.
И лишь тогда я понял вдруг,
Что мне спасенья нет.
Я помню: я сгорал в огне,
Впадая в бред ночной…
И ты тогда пришла ко мне,
Склонилась надо мной.
Во мне сошлись мороз и зной,
Слепящий свет и мгла.
Ты взглядом встретилась со мной —
И глаз не отвела.
…О, сколько суток длилось так!
Но вот в один из дней
Я приподнялся на локтях
При помощи твоей.
Как много снега намело
Морозным ноябрем!
А как бело, А как светло,
Как хорошо кругом!
И поднялась в моей груди
Горячая волна.
…Ты никуда не уходи:
Ты мне, как жизнь, нужна!
(«Стихи о любви»)
Если в основном стихотворение посвящено событиям десятилетней давности, то его последние две строки относятся к 1957 году, когда
она в общем-то уже ушла, хотя официально развод был оформлен в самом конце пятидесятых. Но в 1948-м они еще были «неразлучны», и Юлия Друнина, сама едва не умершая во время войны от тяжелейшей болезни легких, провела «в больничном коридоре» у кровати мужа немало времени.
Удивительно, что впоследствии при обязательных в советские времена флюорографических обследованиях врачи не обнаруживали у Старшинова никаких следов болезни. Этим обстоятельством он почему-то очень гордился.
В пятидесятые годы страна почти выбралась из военной разрухи, жизнь Старшинова в материальном плане стала налаживаться, а вот семейная жизнь, напротив, разлаживаться. К этому периоду относятся воспоминания его старшей дочери Лены, краткие, но содержательные:
«Меня воспитывал отец. Помню его худого, с иссиня-черным кучерявым чубом. Мы жили втроем в одной комнате в коммуналке на Земляном Валу. Рядом находился театр Транспорта (ныне им. Гоголя). Мои любимые спектакли-сказки отец смотрел со мной много раз. Он меня выгуливал, правда, подолгу стоял, читая, у газетных стендов, а я маялась. Он водил меня на каток в сад им. Баумана, в Третьяковку, где закрывал своей рукой мне глаза у картины «Иван Грозный и сын его Иван», на которой царь убивает сына. Он сделал то же и увел меня, когда в вагон пригородного поезда, влекомого — как сейчас помню — дымящимся паровозом, ввалилась развеселая компания.
Приучал к чтению, рассказывал о войне, о том, как выползал из боя с перебитыми ногами, как, доползя, послал санитара к раненному в живот товарищу, как в госпитале не дал ампутировать ногу. Так всю жизнь и прихрамывал.
Учил: «Первая не бей, но сдачу давай всегда!» Азартный рыбак, дома завел аквариум, правда, часто при смене воды его обитатели, в основном гуппи, уплывали в канализацию. Как-то зимним вечером принес в бумажном кульке двух желтых цыплят из зоомагазина. Они выросли в белых задорных курочек, которых мы отдали знакомым в деревню.
Отец был неистовым футбольным и хоккейным болельщиком — припадал к черной тарелке репродуктора, кричал: «Гол!» — в эти моменты он был невменяем. Напевал или насвистывал мелодии песен: «Хороша страна Болгария…», неаполитанские: «О, Марекьяре, плутовка!», классику — шубертовскую «Баркаролу»… Самоучка — играл на гармони. Композитор Свиридов, с которым отец в последние годы подружился, нашел у него абсолютный слух.
Отец часто кухарничал — варил щи, кашу. Добытчицей была мать.
Отец делал со мной уроки. За провинности сурово драл меня солдатским ремнем — до сих пор помню медную со звездой пряжку!
Мы с ним часто ездили к его маме — бабе Дуне. Я так любила ее дом и семью!»
Итак, «добытчицей была мать», а отец, по сути, домохозяйкой. Объясняется эта нестандартная ситуация тем, что литературная судьба Друниной в те годы складывалась более удачно. Если Старшинов, по его словам, был «равный среди равных», то есть один из плеяды поэтов фронтового поколения, то поэтесса у фронтового поколения была одна — Юлия Друнина. Поэтому поэзия ее сразу стала востребована и любима (вполне заслуженно!), что выражалось в более существенных, чем у мужа, гонорарах. При этом если «все трудности и послевоенной жизни Юля переносила стоически — я не слышал от нее ни одного упрека, ни одной жалобы», как вспоминал Старшинов, то «в последние годы нашей совместной жизни от нее можно было услышать и сетование, что она не может одеться так, как ей хотелось бы, что это несправедливо». Так «любовная лодка», выражаясь словами Владимира Маяковского, медленно, но верно разбивалась о быт.
А потом в жизни Юлии Друниной появилась другая любовь. В 1954 году она познакомилась с вернувшимся из ссылки кинодраматургом Алексеем Каплером, автором сценария одного из самых известных советских довоенных фильмов «Ленин в Октябре». Он был на двадцать лет старше ее, к тому же женат, но, говорят, слыл донжуаном и оказывал на женщин прямо-таки магическое действие. Недаром молва приписывала ему роман даже с дочерью Сталина Светланой (что позже она подтвердила в своих воспоминаниях «Двадцать писем к другу»).
В конце концов Старшинов и Друнина развелись, оба были счастливы во втором браке, но растянувшийся на годы процесс расставания был мучителен, особенно для Старшинова. Он продолжал любить свою первую жену в то время, когда она уже полюбила другого, не мог забыть и тогда, когда он сам полюбил другую.
В «Стихах о бывшей любви», датированных уже 1964 годом, есть у него такие строки:
И я тебя позабываю…
Я нить за нитью обрываю,
Которыми (о, что за бред —
Я сам себе боюсь признаться!)
Мы были связаны тринадцать,
Тринадцать самых лучших лет.
Вот нить суровой дружбы нашей.
Ну кто, тебя со мною знавший,
Хотя бы лишь подозревал,
Что сколько, мол, она ни вьется,
Когда-нибудь да оборвется?..
Но эту нить я оборвал!
А эта нить любви…
За годы
Она прошла огни и воды.
Казалось, ей вовек не сгнить,
Ее не сжечь, не взять железу…
Но, душу до крови порезав,
Я оборвал и эту нить!
А это — просто нить привычек.
И я ее без закавычек
Порвал.
Но вот опять она.
И снова, боль превозмогая,
Порвал ее.
Но вот другая,
Еще,
Еще одна
Видна…
Ноя тебя позабываю,
Я нить за нитью обрываю.
Еще, Еще,
Еще одна…
Обратим внимание, что на первое место поэт ставит «нить суровой дружбы», имея в виду их общую принадлежность к фронтовому поколению. Любовь, подкрепленная «суровой дружбой», конечно, «больше, чем любовь». Потому еще столь болезненным было расставание, что совершалось оно как бы наперекор судьбе, соединившей их в «первый день Победы» в награду за героическую юность.
Тем более что судьба дала их любви еще один шанс, вместе отправив в 1957 году с писательской делегацией на празднование четырехсотлетия присоединения Карачаево-Черкесии к России. Старшинов вспоминает об этой поездке как о «самой последней и самой счастливой». Но в стихах, ей посвященных, главенствует по каким-то причинам мотив вины лирического героя перед любимой:
Я сам себе несу беду,
Как в прошлый раз принес…
(«Я сам себе несу беду…», 1957)
Он просит любимую «и в этот раз» простить его.
В тогда же написанном стихотворении «Ужели очерствели мы с годами?..» сама величественная природа Кавказа вмешивается, чтобы спасти эту любовь:
Я слышал голос умиротворенья:
«Вы оба и правы и не правы.
. . . . . . . . . .
Взойдите на вершину и взгляните.
Как ваши разногласия малы!»
Спасти любовь пытается лирический герой Старшинова и в стихотворении «Горный воздух и свеж и сладок…» (1958):
Я тебя на ходу целую,
Как ни разу не целовал.
. . . . . . . . . .
…Я в рассыпавшемся снегу
Всю тоску твою заморожу.
А веселие разожгу.
Но, увы, любовь, как писала Друнина в известном стихотворении «Белый флаг» (1985), наверное, уже по другому поводу, «была добита…».
Поэтический же диалог участников этой драмы продолжился, оставив после себя немало замечательных образцов любовной лирики, в том числе входящее во все антологии стихотворение «Мы любовь свою схоронили…» (1960) Юлии Друниной:
Мы любовь свою
Схоронили,
Крест поставили
На могиле.
«Слава богу!» —
Сказали оба…
Только встала любовь
Из гроба,
Укоризненно нам кивая:
— Что ж вы сделали?
Я — живая!..
В одном из стихотворений Старшинова того периода прорывается обида:
И все, что у меня имелось дорогого, —
Все связано с тобой…
Я, как на божество, Молился на тебя.
А ты вокруг другого
Кружилась, как Земля вкруг Солнца своего.
(«Нет, в синий космос из земного плена…», 1960)
Его лирический герой преодолевает «притяжение» этой любви, и теперь любимая «видна, как тусклая планета, не ярче всех других, не ближе всех других». Конечно, эпитет «тусклая» — следствие обиды, но метафора поэта стала явью: именем Юлии Друниной теперь названа одна из малых планет.
В это же время в его творчестве появляются стихи о новой любви:
я тебя целую, дорогую…
А давно ли целовал другую,
Самую любимую на свете?
(«Голуби», 1959)
Но исчерпать тему расставания с «самой любимой» поэт так и не сможет и будет периодически возвращаться к ней в своем творчестве, оправдывая слова Друниной:
И что бы в жизни
Ни случилось, что бы —
Осуждены солдатские сердца
Дружить до гроба,
И любить до гроба,
И ненавидеть
Тоже до конца…
(«Уклончивость — она не для солдата…», 1983)
Несмотря на то, что, по наблюдению критика Юрия Иванова, «в шестидесятые годы возникли самые, пожалуй, светлые и счастливые страницы его лирического дневника — «Пришли мне Руту», «Твоя улица», «Письмо в Литву», «Стихи, обращенные к дочери», лирический герой Старшинова не может смириться с потерей «бывшей любви». Эта потеря и через годы продолжает мучить его:
А еще есть сон с повторением:
Снег. Равнина белым-бела.
И следы на снегу сиреневом.
Это ты от меня ушла…
(«Стихи о бывшей любви», 1964)
Впрочем, стихи о бывшей любви, если определение «бывшая» понимать как «прошедшая», «минувшая», написать нельзя, так как нет повода к стихам. «Я вас любил: / любовь еще, быть может,/В душе моей угасла не совсем…» — вот гениально обозначенное Пушкиным состояние души поэта, при котором она наиболее настроена на любовную лирику.
Уже 1975 годом обозначено одно из самых проникновенных стихотворений Старшинова:
До свиданья, моя дорогая,
Пусть судьба тебя в небе хранит…
Самолет, все быстрей убегая,
Задрожал и рванулся в зенит.
Пусть пробьется, серебряно-светел,
Сквозь клубящийся облачный лед,
Сквозь гремящие ливни, сквозь ветер
Уносящий тебя самолет.
Убоясь реактивного грома,
Врассыпную пошли ястреба…
Ты опять улетаешь к другому.
Да хранит тебя в небе судьба!
(«До свиданья, моя дорогая…»)
События, послужившие поводом для этого стихотворения, относятся, по словам Александра Боброва, ко времени создания одной из самых ярких советских комедий «Полосатый рейс», вышедшей на экраны в 1961 году. В создании этого фильма принимал участие Алексей Каплер, бывший тогда на гребне популярности, и Юлия Друнина имела обыкновение летать к нему на съемки, которые проходили на Черноморском побережье. Впрочем, утверждать наверняка, что в стихотворении отражены именно те далекие события, я не берусь.
Только еще через несколько лет к лирическому герою Старшинова придет осознание: «Захлопнуты наглухо ставни в прошедшие времена». И придет оно именно во время «позднего свиданья», когда, ночью бродя «по берегу моря», они говорят о вещах более важных, чем даже любовь: «И снова о счастье и горе, и снова — о зле и добре». И уже сама драма, совершившаяся почти двадцать лет назад, представляется ее участникам в ином свете, потому что их «сердца полны» «не тем, что… горько поссорит, а тем, что еще породнит». И только после этого поэт напишет строки, в которых разрубит свой гордиев узел:
Вроде жизнь наладилась сполна,
Я ступил на ясную дорогу:
Дочка вышла замуж,
И жена
Тоже вышла замуж, слава богу!
Ой ты, добрый ветер, гой еси,
Молодцу теперь — сплошная воля…
Покачусь по матушке-Руси
Расторопней перекати-поля.
Задохнусь от подступивших чувств,
Осененный ливнями и громом, —
Нынче каждый придорожный куст
Будет мне служить родимым домом.
До чего же я его люблю,
Ветер, бьющийся за поворотом.
Ну-ка вместе дунем: улю-лю!
И вперед — по нивам и болотам…
(«Вроде жизнь наладилась сполна…», 1977)
Хотя, как подметил Борис Пуцыло, «стихам Н. Старшинова свойственна конкретная привязанность ко времени…», в данном случае само время существует в двух измерениях — реальном и лирическом. Понятно, что толчком к написанию стихотворения стало замужество старшей дочери поэта, ведь «замужество жены» случилось за полтора десятилетия до этого. Тем не менее в лирическом событии произведения он объединил два события реальных, давая своему лирическому герою «сплошную волю».
Стихотворение это (главным образом первая строфа) своей афористичностью и грустной, доброй иронией восхищало многих современников поэта. При этом каждый открывал в стихотворении видные только ему стороны, что говорит о его многоплановости.
«Герой старается уверить нас и себя, что все ему нипочем и даже, может быть, оттого, что он покинут всеми, ему еще лучше — он свободен! — но мы-то чувствуем, что эта улыбка скрывает слезы… Лирика Николая Старшинова постоянно будит в нас сочувствие и сострадание к своему лирическому герою» (Виктор Коротаев).
«…Есть у Старшинова стихотворение, в котором ироническая усмешка так очаровательна, что не сразу понимаешь всю ее прелестную горькую подоплеку… Неожиданный, взрывной эффект в конце строфы построен по законам трагикомедии! Это как бы по-чаплински комически отозвавшееся эхо пушкинской молитвы: «Как дай вам Бог любимой быть другим», но только после того уже, как «любовная лодка разбилась о быт» (Геннадий Красников).
Датировано это стихотворение 1977 годом. А тогда, в середине пятидесятых, он покатился «по матушке-Руси» с истинно русским размахом, даже не обошлось без цыган.
Вот что вспоминает об этом времени старшая дочь поэта: «Как-то — мы с отцом, как обычно, были вдвоем — в дверь позвонила цыганка. О чем-то они говорили, затем цыганка отломила от нашей булки кусок и сказала отцу: «Положи кусок под подушку на ночь, а потом отдай его собаке — чужой, не своей собаке!» (Теперь я думаю, что это был приворот моей матери.) А я тот хлеб съела!
Когда я закончила первый класс, мы переехали опять-таки в коммуналку, но побольше. Наша семья распалась. Я с матерью жила в одной комнате, отец — в другой. С горя отец стал сильно пить, курить (а после фронта чуть было не умер от туберкулеза!). Скандалил. Позже обменял свою комнату и уехал. Общались мы в основном по телефону. Летом он приезжал ко мне в родительские дни в пионерлагерь, что был во Внукове».
А вот отрывок из воспоминаний его племянницы:
«…У Коли наступила черная полоса: они разошлись с Юлей. Надо сказать, что до этого момента, даже после фронта, Коля не пил и не курил, а тут его понесло…
И все равно он не забывал свою маму, сестру и нас. Очень было трогательно и больно наблюдать, как, приходя к нам, беседовал со своей мамой: он рассказывал про свои горести и невзгоды, а моя бабушка с нежностью и любовью уговаривала своего сынка не пить, бросить это, на что Коля обещал ей бросить».
«Бросил это» он уже после смерти матери, лет через двадцать после того, как начал, изрядно помучив пагубной привычкой свою вторую жену и пережив клиническую смерть. Бросить ведь труднее, чем начать. О силе привычки можно судить по словам Глеба Паншина: «Коля до поры выпивал ежедневно и, что называется, профессионально: утром с похмелья, днем многократно и помаленьку — для поддержания тонуса, вечером — сколько душа примет».
Впрочем, с Глебом Паншиным Николай Старшинов познакомился уже в шестидесятые годы, когда привычка «укоренилась», а тогда, в середине пятидесятых, он «покатился по матушке-Руси» в прямом смысле. Согласитесь, жить в одной квартире с женой и дочерью на правах соседа не весело, и он стал все чаще куда-нибудь уезжать. Брал командировки, где только давали, не было командировок — брал путевки в дома творчества писателей в Переделкине или в Голицыне, кончались путевки — брал курсовки (это когда жилье снимаешь неподалеку, а ешь в столовой Дома творчества).
Но нет худа без добра: кочевая жизнь несла с собой множество новых впечатлений и знакомств, которые необходимы творческому человеку ничуть не меньше, чем козьма-прутковская «похвала» («Похвала необходима гению, как канифоль смычку виртуоза»).
Так, в мае 1956 года Старшинов жил в Доме творчества в Переделкине, где «нередко совершал прогулки по поселку с Юрием Карловичем Олешей», автором знаменитой сказки «Три толстяка», романа «Зависть» и не менее знаменитой книги прозаических миниатюр «Ни дня без строчки». Еще чаще встречался с Владимиром Александровичем Луговским — широко известным тогда поэтом, бывшим в послевоенные годы наставником Старшинова в литобъединении при «Комсомольской правде». Вместе наблюдали они по вечерам близко подлетевшую тогда к Земле комету Галлея, обсуждали трагическую смерть одного из столпов советской литературы — Александра Фадеева, застрелившегося здесь же, в Переделкине, на своей даче и оставившего письмо в ЦК КПСС, содержание которого долгие годы оставалось под запретом. О встречах с этими и многими другими писателями, творившими русскую литературу XX века, расскажет потом Старшинов в своей последней книге «Что было, то было…».
А уже летом того же года он шел по «муромской дорожке», от Судогды к Мурому, собирая по заданию редакции журнала (может быть, «Юности», где к тому времени работал) материал о работе РТС (районных тракторных станций). Впечатления, полученные в этой командировке, сложились потом в рассказы «Двое» и «Сашка Комар». Особенно замечателен глубоким проникновением в российскую действительность второй.
Фабула его такова. Работающий шофером Александр Комаров, по прозвищу Сашка Комар, человек, как говорится, безотказный, откликается на все просьбы односельчан. Поэтому они постоянно норовят зазвать его в гости и угостить. Угостившись, он имеет обыкновение засыпать за рулем, чем частенько подводит положившихся на него людей. За это они его нещадно бранят. Потом опять угощают, потом опять бранят. Такой вот замкнутый круг.
Примечательно, что датирован рассказ уже 1965 годом. Приблизительно к этому же времени относятся воспоминания Глеба Паншина о самом поэте, отчасти напоминающие жизненные перипетии героя его рассказа:
«Мне часто случалось бывать в Москве по служебной надобности. Новомосковский поезд причаливал к Павелецкому вокзалу около семи утра, и я обычно направлялся первым делом на Малую Грузинскую, где Старшиновы получили свою первую (двухкомнатную) квартиру в писательском доме.
К моему появлению там жена Николая Эмма уже была на работе, а дочь Рута — в школе. И поначалу я почти всегда заставал на крохотной кухоньке сборище пренеприятных типов, усердно и угодливо похмеляющих поэта Н. Старшинова. А главное — не бескорыстно! Эти пройдохи (фамилии некоторых помню, да называть омерзительно!) приходили, зная семейный распорядок, не случайно. Бутылку принести — не накладно, так ведь и самому можно выпить. А когда Коля принимал несколько крохотных рюмочек «лекарства» и его слегка развозило, они подсовывали ему свои вирши. Он тут же, по близорукости склонившись носом к самому столу, черкал, правил их «нетленные» сочинения, и они потихоньку, как-то воровски и по одному, сматывались. Куда? Наверное, в журнальные и газетные редакции».
Побывал в те годы Старшинов и в длительной командировке «в славном городе Кудымкаре», столице Коми-Пермяцкого округа. Вместе с мало кому известным тогда Виктором Астафьевым они переводили для готовившегося к изданию сборника «Зори над Иньвой» «избранные произведения» местных авторов: Астафьев — прозу, Старшинов — поэзию. А «славным городом» они окрестили Кудымкар за удивившую их чистоту нравов, царивших в нем: кудымкарцы все как один отказывались брать с них деньги за оказываемые им услуги, а на рынке бабку, запросившую с «приезжих людей» лишний полтинник, соседки прогнали с ее места.
В не менее славный город Сыктывкар, столицу Коми АССР, тоже переводить поэзию коми, он ездил в компании поэта Ивана Молчанова, тогда известного всем благодаря стихотворению Владимира Маяковского «Письмо любимой Молчанова, брошенной им», в котором поэт-трибун пригвоздил литературного противника, бросившего любимую, к позорному столбу, как будто сам никогда этого не делал, Как вспоминает Старшинов, Молчанов «после доброго застолья не раз отводил меня в сторону и по страшному секрету говорил: «Вы еще не знаете подлинной причины самоубийства Маяковского! Он покончил с собой, потому что понял, как несправедливо обошелся со мной. Это раскаянье мучило его все последующие годы. Он так и не смог отделаться от него. Не вынес этого. И пустил себе пулю…».
Вот уж воистину: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» (Тютчев).
* * *
Но вернемся к Николаю Старшинову. Вот что удивительно: именно начав «катиться», он наконец-то окончил Литературный институт и устроился на работу штатным сотрудником, да не куда-нибудь, а в журнал «Юность» (во многом благодаря его главному редактору Валентину Катаеву), ставший вскоре после своего образования в 1955 году самым многотиражным литературно-художественным журналом в стране. Мало того, одновременно Старшинов начал руководить литературным объединением при МГУ — самым сильным в Москве. Впрочем, от «Юности» он тоже много разъезжал по городам и весям, а занятия литобъединения частенько проводил не в стенах университета, а где-нибудь на природе, например, на Плещеевом озере или на Оке.
Первая запись в трудовой книжке Старшинова, сделанная 12 октября 1955 года, гласит: «Зачислен в редакцию журнала «Юность» на должность литсотрудника». Несмотря на скромную должность (лишь с февраля 1959-го он стал числиться старшим редактором по литературной консультации и работе с молодыми авторами), Старшинов практически исполнял обязанности заведующего отделом поэзии.
В работе он сразу же стал руководствоваться принципом «не ждать милостей от природы», и сам обращался за стихами для журнала к тем поэтам, чье творчество ценил. Это обогащало и редакционный портфель, и самого Старшинова (в духовном, естественно, плане). Благодаря журналу он познакомился с Анной Ахматовой, Леонидом Мартыновым, Николаем Заболоцким…
Катаевская «Юность» была веселой. К примеру, когда главный редактор решил упорядочить выход журнала (чтобы он поступал подписчикам в первых числах месяца), он пообещал: «Если мы выпустим к сроку номер, я устраиваю за свой счет в «Праге» банкет для всех работников редакции и типографии, от которых зависит его своевременный выход в свет».
И действительно устроил. История в лице Старшинова, правда, умалчивает, продолжилась ли эта замечательная традиция при подготовке следующих номеров журнала.
Сам Старшинов, как вспоминает поэт Николай Карпов, мог себе позволить прервать затянувшееся, на его взгляд, заседание редколлегии предложением сплясать «казачка». А ведь он даже не был ее членом, хотя и принимал часто по долгу службы участие «в прениях». Членами же были писатели, довольно известные во второй половине XX века, потому старшиновские воспоминания о ее работе мне представляются весьма любопытными:
«Редколлегия «Юности» собиралась в ту пору довольно дружно (хотя часто редколлегии являются органами формальными, а их члены сродни свадебным генералам. —
С. Щ.). За чаем. Чтобы чая всем и на все время ее работы хватало, Валентин Петрович сам купил огромный самовар, и не электрический, а настоящий — на углях, который разводили во дворе Союза писателей.
В редколлегии тогда были И. Андроников (писатель и литературовед, занимавшийся творчеством М. Ю. Лермонтова, а к тому же народный артист СССР, мастер устного рассказа. Его телевизионные фильмы на темы культуры и искусства собирали большие зрительские аудитории. —
С. Щ.), Г. Медынский (автор романа «Марья» о послевоенном колхозе более известен своей публицистикой, посвященной проблемам воспитания. —
С. Щ), Н. Носов (детский писатель, «родитель» знаменитого Незнайки. —
С. Щ.), М. Прилежаева (писательница, сделавшая главным героем своих произведений вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. —
С. Щ.), В. Розов (драматург, автор многих популярных пьес. По одной из них — «Вечно живые» — снят фильм «Летят журавли», классика советского кинематографа. —
С. Щ.). Продолжительность ее работы зависела в основном от того — присутствовал или нет на ее заседании Ираклий Андроников. Если его не было, все вопросы решались в течение полутора-двух часов. Если же он присутствовал, заседание затягивалось на три-четыре часа.
Ираклий Луарсабович успевал в это время рассказать десятки былей и небылиц, анекдотов, успевал спародировать выступления многих поэтов и прозаиков, передать их жесты, мимику, интонации. Благодаря ему на заседаниях было весело и шумно. Пожалуй, один Николай Николаевич Носов улыбался очень редко. А если и улыбался, то лишь иронически и чаще в адрес Андроникова… Странное дело, как раз в это время большой популярностью пользовались его «Приключения Незнайки», его веселые рассказы. А у него самого было не доброе, не открытое, как у его детского героя, лицо. Было в нем что-то желчное. Особенно пристрастно и недоброжелательно относился он к стихам о любви…
Не хватало чувства юмора очень честному, но слишком прямолинейному Григорию Александровичу Медынскому. Сказывалась, вероятно, его прежняя педагогическая работа.
Мария Павловна Прилежаева, в прошлом тоже педагог, была тоньше, ироничнее.
Все это надо было уравновесить, привести к общему знаменателю, найти золотую середину при самых разных мнениях о каком-то произведении.
Валентин Петрович умел с этим справиться — где с помощью изящной шутки, где очень серьезно, тактично.
Иногда он всю ответственность за публикацию какого-то произведения брал на себя полностью, даже вопреки мнению подавляющего большинства членов редколлегии. Особенно часто это бывало, когда решалась судьба молодых прозаиков и поэтов…
Сложнее всего в журнале было с публикацией стихов, присланных из провинции. Их авторы не были достаточно известны, и «протащить» их стихи в Номер было сложнее. Впрочем, Катаев не придавал особого значения известности и месту жительства автора…
И все-таки в журнале постоянно сокращалось место, отведенное поэзии. Сначала она занимала с десяток страниц, потом постепенно эти сокращения по странице, по две в год довели ее до минимума. И делалось это за счет молодых…
Я пытался отстоять свою постоянную площадь, и когда это не удалось, взбунтовался — написал обстоятельное письмо редколлегии с протестом против такого отношения к поэзии вообще и к стихам молодых в частности. Оно было достаточно резким и категоричным, и, честно говоря, я не ожидал положительного результата, собирался даже в случае неудачи уйти из журнала.
Обсуждение письма длилось недолго, но проходило бурно. Меня активно поддержали Андроников и Прилежаева. Медынский сохранял нейтралитет. Отрицательно отнесся к письму только Носов. Он в категорической форме заявил, что «Юность» — журнал, который издается Союзом писателей, и делать его должны писатели-профессионалы.
Валентин Петрович отнесся сочувственно к моему воплю о помощи, и мне на долгое время было отведено на каждый номер от восьми до десяти страниц!..»
Но что такое десять страниц (большинство из которых к тому же заранее распределены между постоянными авторами журнала) на многотысячную армию пишущих и желающих публиковать стихи?! У Старшинова даже есть рассказ, называющийся «Приемный день», где он под именем поэта Яворова по средам и четвергам с 14 до 18 часов отбивается от толпы начинающих дарований.
Зато в свободное от приема авторов время Старшинов мог себе позволить совмещать полезное с приятным. Например, однажды Катаев поручил ему поискать для журнала неопубликованные стихи Сергея Есенина, творчество которого в те годы хрущевской оттепели активно «реабилитировалось».
В архивах Института мировой литературы ему действительно посчастливилось найти несколько нигде не печатавшихся до этого есенинских стихотворений, и впервые они были представлены читателю в четвертом номере «Юности» за 1957 год. Этим фактом своей трудовой биографии Старшинов очень гордился, и по праву.

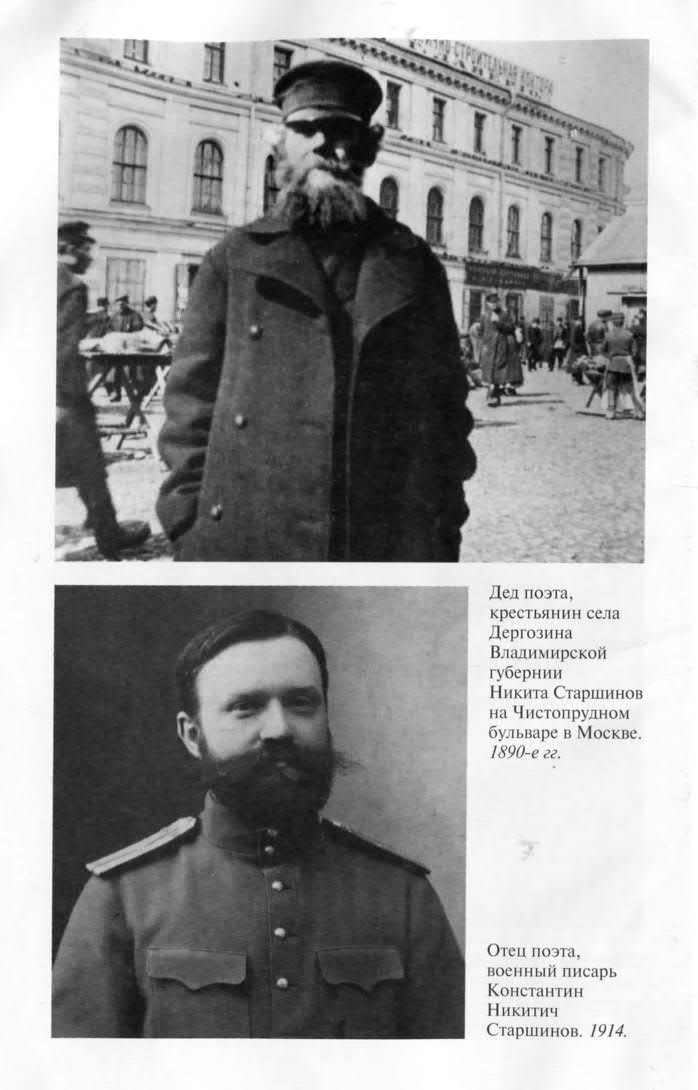













Зная о любви Старшинова к творчеству Есенина, Катаев настойчиво советовал ему написать повесть о детстве и юности поэта, обещая немедленно опубликовать ее в журнале, даже если она будет «весьма посредственной». Дело в том, что тогда интерес читателей к Сергею Есенину, чьи стихи долгое время находились под запретом как чуждые оптимизму победившего пролетариата, был чрезвычайно велик. Катаев твердил Старшинову: «Вы не видите своего счастья, которое само просится к вам в руки… Этим необходимо воспользоваться немедленно. Это нужно и вам, и журналу. Другого такого случая может и не быть!.. Иначе вы при всей вашей любви к поэту отдадите его в руки ремесленников, которые все окончательно испортят да еще и наживутся на этом…»
Но в отличие от опытного литературного «волка» Катаева Старшинов мало смыслил в конъюнктуре рынка и писать «посредственную повесть» отказывался, ссылаясь на отсутствие материала.
Тогда Катаев отправил Старшинова в командировку в Константиново, надеясь, что есенинские места и встречи с земляками поэта, еще помнящими его, вдохновят не понимающего своего счастья сотрудника журнала на работу над повестью.
Путь из Москвы в Константиново занимает (во всяком случае, в наше время, при наличии автомобиля и отсутствии пробок) около трех часов. Старшинов в конце пятидесятых годов XX века добирался туда около трех суток, зато получил массу впечатлений и даже сделался на некоторое время «Львом Николаевичем Толстым» (менее именитых писателей в гостиницу поселка Дивово не селили).
Сорок лет спустя Старшинов изложил подробности этой командировки в полном мягкого юмора очерке «Вперед, к Есенину!..». А вот писать повесть о нем так и не взялся. Катаев тогда «обиделся и даже рассердился». И, может быть, был прав.
ПРИШЛИ МНЕ РУТУ
Отправлюсь скоро
Я в путь нелегкий.
Пришли мне руту,
Мой друг далекий.
И я уйду, навсегда влюбленный,
С твоею рутой, травой зеленой.
Н. Старшинов
«В 1959 году в Литве проходили вечера русской советской поэзии. Туда приехали кроме М. Светлова, В. Тушнова, Б. Слуцкий, Р. Рождественский, В. Захарченко, Д. Блынский и я.
Помню, шел я ночью по коридору каунасской гостиницы. Настроение мое было хуже не придумаешь. Не ладились у меня семейные дела…
Тут я и встретил Светлова. Он сразу определил мое состояние и сказал мне как-то совсем по-отечески:
— Я вижу, старик, тебе одиноко. Мне — тоже. Пошли ко мне в номер. У меня есть бутылка коньяка и лимон. Вот мы и скоротаем вдвоем ночь, может, нам и поуютнее будет на свете. Вместе всегда легче.
И действительно, мы просидели в его номере всю ночь. Переговорили обо всем на свете. Как бы между прочим он несколько раз повторил мне:
— Да ведь и мои семейные дела, Коля, тоже не очень складно сложились. Но я махнул рукой — ничего не поделаешь… Будем жить так…»
«Жить так» Старшинову, слава Богу, оставалось уже недолго. Из Каунаса делегация московских поэтов отправилась в столицу Литвы Вильнюс, где он встретил свою будущую жену Эмму, ставшую впоследствии Эммой Антоновной, хотя отца ее звали отнюдь не Антоном, а Антанасом.
Был он в свое время довольно зажиточным крестьянином, имея во владении четыре гектара земли. После Второй мировой войны, когда в Литву надолго пришла советская власть, он, как до этого и российские крестьяне, оказался перед выбором: колхоз или Сибирь. Будучи человеком разумным, он выбрал первое и даже возглавил вновь образованный сельский совет.
Часть его односельчан, однако, не пожелав выбирать между колхозом и Сибирью, ушла в лес, став, как тогда говорили, на путь вооруженной борьбы с советской властью, хотя это было делом обреченным: советская власть, опиравшаяся на армию, только что перемоловшую германскую военную машину, была крепка как никогда. Тем не менее борьба эта растянулась на несколько лет (вспомним замечательный фильм на эту тему Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать»).
Есть и спать «лесные братья» (так называли себя ушедшие в лес) часто расходились по домам, где их порой отлавливали соответствующие органы. Во время одной из таких облав были схвачены несколько односельчан Антанаса, после чего уцелевшие бандиты (так «лесных братьев» называли официально) пообещали убить его как пособника нового режима.
Вовремя предупрежденный об этом соседями, он успел бежать из родной деревни в Вильнюс, где «лесные братья» не могли до него добраться. Ему удалось устроиться на работу в Вильнюсский университет по хозяйственной части, получить жилье, и скоро к нему присоединилось его семейство — жена и две дочери. Так крестьянская девочка Эмма стала столичной жительницей, коей остается по сей день, сменив, правда, столицу Литвы на столицу России.
После школы она окончила курсы звукооператоров и стала работать на радио, благодаря чему и состоялось ее знакомство со Старшиновым. Вот что вспоминает по этому поводу сама Эмма Антоновна:
«В октябре 1959 года в Литве проходили Дни русской литературы. Мы готовили о них передачу: записывали выступления поэтов. Заведующий нашей литературной редакцией учился когда-то в Литературном институте вместе с Колюшей, только на разных факультетах. Он предложил пригласить московского гостя вечером в кафе, и мы всей редакцией пошли в кафе «Неринга», где собиралась вся вильнюсская интеллигенция. Посидели культурно, чинно. Прощаясь — на следующий день они уже уезжали — Колюша попросил мой адрес. Я спросила:
— А зачем он вам?
— Я хочу прислать тебе свои книжки.
Я дала свой адрес, и уже через несколько дней получила три книжки, поэтические. С письмом. Самое страшное, что надо было отвечать на это письмо. Ведь мы русский язык плохо знали, особенно письменный. Для нас он был почти как иностранный. Я помню, мы всем коллективом отвечали Колюше на это письмо, за книжки благодарили и так далее.
В своем письме он просил написать, как мне понравились стихи. Я еще тонкостей русского языка не понимала, чтобы о поэзии судить, но честно призналась, что стихи не очень понравились. Теперь-то я понимаю, что с моей стороны это было наглостью. Но он написал мне второе письмо, приблизительно такого содержания: «Конечно, мне не очень приятно, что стихи мои не понравились, надеюсь, что дальнейшие стихи мои будут лучше». А в общем, у меня никаких даже мыслей не было, что эта история будет иметь последствия».
Последствия, однако, были, и самые серьезные:
«Потом письма стали приходить по два в день, потом он стал звонить. Потом стал приезжать в Вильнюс, примерно два раза в месяц. Когда он мне первый раз сказал, что собирается в Вильнюс, я спросила: «Зачем?» Он казался мне недосягаемым: поэт из Москвы, да и старше гораздо — такая разница. И поэтому я не видела смысла общения с ним. Но он все-таки приехал, это было вскоре после Нового года.
У меня возникла проблема: куда его
девать. Устроила я его в гостиницу «Вильнюс». Просила на работе, чтобы заказали ему гостиницу, тогда ведь с этим было трудно. А потом он сам завел какие-то знакомства и устраивался без моей помощи. У меня сложилось впечатление, что он всю свою книжку «Песня света», которая вышла в 59-м году, проездил в Вильнюс. Потому что когда я приехала в Москву, у него ничего уже не осталось, денег не было.
Слова «любовь» он не произносил. Мне кажется, он не любил этого слова. Говорил: «Нам надо вместе жить… мне без тебя плохо…» Весь какой-то несчастный, видно, после той жизни, которая была у него в последние годы. Я к нему очень хорошо относилась, не скажу, что это — любовь с первого взгляда, но какая-то теплая дружба была между нами.
С другой стороны, был у меня какой-то страх — уехать в Москву, никого не зная и даже язык плохо зная. Словом, решиться на этот шаг было довольно трудно. Но он стал уговаривать. И подключил к этому других. По телефону Олег Дмитриев даже осуждал меня за то, что я «издеваюсь над великим русским поэтом». Как-то в Вильнюс приезжал Николай Доризо — тоже уговаривал. В конце концов я решилась уехать.
Конечно, дома был шок. Родители переживали, как я уеду — одна, в чужой город. Говорили: «Ты даже не знаешь, что он из себя представляет!» Я тогда резко повела себя с ними, не послушала. А Колюша очень хорошо ко мне относился. Внимательный был, трогательный, стихи читал — свои и классиков русских. Когда в Москву приехали, по утрам, только проснусь, уже Есенина читает или Пушкина: приучал к русской поэзии. Ведь русскую поэзию я вообще не знала, только самый минимум, то, что проходили в школе.
Когда мы поженились (это было в шестидесятом году, восьмого июля) и стали жить вместе, я его полюбила. У него комната тогда была в коммуналке, на Молодежной улице. Там мы прожили шесть лет. Отношения с моими родителями скоро наладились. Мы в тот же год, в августе, поехали в Литву. И они вида не подали, что недовольны мною, приняли, как полагается. У Колюши даже создалось впечатление, что его они любят больше, чем мужа сестры. Он тоже очень хорошо к ним относился».
Об отношении Старшинова к своим новым, литовским, родственникам и самой Литве можно судить по его стихам. Тесть Антанас предстает в них как «милый и правильный», Литва «приветила» его «совсем как сына» и «отдала… в жены свою родную дочь». А литовская деревня — та самая, из которой бежал лет двенадцать назад Антанас, спасая свою жизнь, — стала для Старшинова на какое-то время в буквальном смысле «вторым домом».
И вот что любопытно: признаваясь в любви к этим местам, поэт отнюдь не считает их частью своей родины, хотя сентенция «моя Родина — СССР» являлась в советском мировоззрении основополагающей. Для него Литва — «сестра моей России» и «кровная родня». Но, обращаясь к ней с благодарностью, он ни разу не называет литовскую землю своей или нашей, скорее всего, в силу присущего ему чувства такта, и употребляет различные формы местоимения «ты» (а не «мы»), как, например, в стихотворении «Литве» (1964):
За хлеб и соль тебе спасибо!..
Пускай тебе твои моря
Приносят эшелоны рыбы
И горы чудо-янтаря.
Пусть будут век чисты, как дайны
[1],
Твои озера и ручьи.
Пусть налитым зерном комбайны
Завалят житницы твои.
Чтоб запах хлеба, запах тмина
Из всех твоих пекарен шел…
Сравним этот отрывок с четверостишием из другого посвященного Литве стихотворения «В гостях» (1965):
Вон сколько тут ясных и синих,
На редкость приветливых глаз!
Совсем как в глубинной России,
В рязанской деревне, у нас…
«У нас» даже обособлено автором для придания большего веса данному местоимению. А ведь в рязанских деревнях (в Константинове или у друзей на рыбалке) он в общей сложности провел куда меньше времени, чем в литовской деревне, где месяцами жил в доме у бабушки своей жены.
Малой родиной Старшинова следует считать если не Москву (к которой не слишком подходит термин «малая»), то подмосковную деревушку, в которой он проводил в детстве летние месяцы, приобщаясь к сельской жизни. Тем не менее самое родное для себя, то есть родину в личном восприятии, он определил именно как «глубинную Россию». Не «Союз нерушимый республик свободных», который он, кстати говоря, искренне любил и горько оплакивал, и даже не всю саму по себе необъятную Россию (в стихотворении «Скоро, скоро вернусь я…» поэт называет «чужими краями» и Черноморский край, и Уральские горы), но и не конкретную «малую родину», а средне- и северорусские провинциальные земли — рязанскую, орловскую, смоленскую, тверскую и т. д., — определяемые им как «глубинная Россия».
В этом, кстати, заключается определенное отличие Старшинова, родившегося в столице, от поэтов, родившихся и выросших в провинции. Для них, как правило, «самая любимая родина» совпадает с малой родиной. Для Сергея Есенина это — рязанские просторы, для Павла Васильева — павлодарские степи, для Александра Твардовского — перелески Смоленщины, для Николая Рубцова — «глухие луга» Вологодчины. При этом все названные поэты значительную часть жизни прожили в Москве и посвятили ей немало ставших классическими строк. И все же самое родное для них — там, на малой родине.
В то же время для Валерия Брюсова, например, именно Москва стала самым родным на земле местом. Его малая родина — большой город, поэтому он в нем органичен, и город питал его творчество.
Конечно, и Старшинов очень любил Москву. «Я родился в городе Москве», — с гордостью повторял он в ранней своей поэме «Гвардии рядовой». Однако заряжаться творческой энергией (так уж вышло) поэт мог только наедине с природой, и с течением лет периодическое «превращение в дикаря» становилось для него все необходимее. Но поскольку он был, по собственному признанию, «не родным — приемным сыном деревни», его сыновняя любовь вылилась в поклонение всей среднерусской полосе, а не какому-то одному «уголку земли», как у большинства поэтов.
Может, потому и считают литовцы Старшинова «своим», включая его стихи в школьные учебники, что он не считал литовскую землю «своей». Не проявлял, так сказать, имперских амбиций. Однако выход в 1990 году Литвы из состава Советского Союза он воспринял как личную обиду. По словам Эммы Антоновны, Старшинов заявил тогда, что ноги его больше не будет в Литве, и сдержал это горькое обещание, хотя очень скоро из состава СССР вышли и более «родные» России республики, в том числе и сама Россия.
Забегая вперед, скажем, что еще не одна смертельная обида легла в девяностые годы на душу Николая Константиновича: уж очень многими мерзостями сопровождались проводимые тогда политиками реформы…
Но вернемся в шестидесятый год. Он работал в журнале, почти каждый день ходил на работу, а молодая жена, как поется в старинной русской песне, «скучала по мужу», сидя взаперти в своей комнате. Дело в том, что семья соседей, состоявшая из шести человек, в одной комнате просто не помещалась и потому днем разбредалась по квартире, смущая своим постоянным присутствием не привыкшую к коммунальному житью литовскую барышню.
В свободное от службы и писательства время Старшинов усиленно развлекал молодую жену: водил в театры, в кино, в гости, в Лужники на футбол. Но чаще всего звонил с работы и приглашал в Центральный дом литераторов, куда он направлялся во главе дружной компании товарищей по перу. Эти «выходы в свет» его жена любила еще меньше, чем спортивные мероприятия, поскольку ЦДЛ и трезвость — понятия, увы, несовместные.
Для всякой власти безопаснее, чтобы писатели выпивали и закусывали, нежели писали. Идеологи литературы времен господства в ней метода социалистического реализма прекрасно это понимали, а потому создавали им для этого льготные условия.
Вспомним описание ресторана в «Доме Грибоедова» (или попросту «в Грибоедове») из «Мастера и Маргариты», в который не хотела пускать вахтерша булгаковских героев, поскольку у них не было писательских билетов: «По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене».
Конечно, во время создания Булгаковым несколько гротескного изображения писательского ресторана в «Доме Герцена» (Грибоедов — это своеобразный псевдоним), расположенного на Тверском бульваре, Старшинов еще запускал с другими ребятишками воздушных змеев в своем «уютном дворике» в Грохольском переулке. Когда он сам стал посещать «Дом Герцена», там уже находился Литературный институт. А ресторан переехал на улицу Воровского — в «Дом Ростовых», переименованный по такому случаю в Центральный дом литераторов.
Лиловых лошадей на потолках и ламп на столах там не было, зато был знаменитый «дубовый зал», где сиживали едва ли не все корифеи советской литературы, а кроме того имелись два буфета: верхний и нижний, которые особо ценились писательской братией за демократичность обстановки и отсутствие ресторанной наценки. Ассортиментом же напитков и прочего эти буфеты выгодно отличались от общедоступных. Там, например (уже в восьмидесятые годы минувшего века), всегда можно было купить дефицитнейшие в то время сигареты «Ява», за которыми в табачные киоски, если они там появлялись, выстраивались длинные очереди курильщиков.
Поэтому, получив вместе с членским билетом Союза писателей доступ к ресторану ЦДЛ, каждый, удостоившийся этой чести, поневоле начинал чувствовать себя человеком избранным, часто без всяких других на то оснований.
«ЦДЛ, — вспоминал по этому поводу Старшинов, — был для нас родным домом. Каждый писатель чувствовал себя в нем не только своим человеком, но и нередко классиком.
Вот я и написал как-то об этом от имени такого «классика»:
Мне ЦДЛ
Не надоел,
Хоть я в нем часто
Пил и ел.
Он для меня —
Родная пасека.
Я для него —
Живая классика…
А поскольку в этом доме мы чувствовали себя своими людьми, то и поведение наше там бывало часто более свободным, чем полагалось бы».
Лиц, отличившихся особо свободным поведением, как то: битьем посуды или чужих физиономий, а также киданием в литературных оппонентов пустых бутылок и т. п., в воспитательных целях отлучали от «родной пасеки» на полгода. У входа в ресторан висел соответствующий приказ со списком отлученных.
Пару раз попадал в черный список и Старшинов, но по особой статье: ему «инкриминировали» громкое пение. Хотя пел он не фальшивя и «репертуар был вполне приличный — от оперных арий до неаполитанских и русских народных песен» (он, как помним, с детства помнил наизусть многое из музыкальной классики), его сольные выступления раздражали руководство ЦДЛ. Как-то в ответ на требование заместителя директора Михаила Минаевича Шапиро «прекратить безобразничать» Старшинов грянул гимн пролетариата — «Интернационал» («Вставай, проклятьем заклейменный!..). И был препровожден в милицию — за издевательство над святыней.
«Так жили поэты…» (Блок) в своем «родном» Доме литераторов. Все это потом кануло в Лету вместе с методом социалистического реализма. В «дубовом зале» давно уже гуляют «новые русские», платя и не снившиеся писателям деньги за удовольствие приобщиться таким образом к русской литературе. Но это к слову…
Не стоит думать, однако, что озорство в ЦДЛ было основным занятием Старшинова в шестидесятые годы. Прежде всего он всю свою жизнь был тружеником. Чтобы оставить после себя 43 книги поэзии, прозы и литературной критики, большую часть времени надо провести за письменным, а не ресторанным столом. Блок ведь тоже писал: «Я пригвожден к трактирной стойке…», а из-под его пера тем не менее выходили один стихотворный цикл за другим. Но это тоже к слову.
Вернемся к вновь начавшейся семейной жизни Старшинова. Скоро молодая жена стала уговаривать мужа устроить ее на работу, и он устроил, причем по специальности — на радио, в престижную редакцию иностранного вещания. Но тут уже мужу пришлось скучать по жене: радиовещание не признает ни выходных, ни праздничных дней. Так что приблизительно через год он, по выражению Эммы Антоновны, «уволил ее с этой работы». А потом, в 1963 году, у них родилась дочь, которую они назвали необычным для России именем — Рута, после чего вопрос о скуке отпал сам собой.
Еще до этого события, в октябре 1962 года, Старшинов уволился из «Юности». Как записано в трудовой книжке, «освобожден по собственному желанию». Этому предшествовал уход из журнала Валентина Катаева.
Один из столпов советской литературы Валентин Петрович Катаев был человеком весьма энергичным, знал толк в журнальном деле, а потому тираж «Юности» рос в геометрической прогрессии. То есть ничто не предвещало его ухода. Но судьба в лице руководящих органов сыграла с ним злую шутку. По воспоминаниям Старшинова, произошло это следующим образом:
«В этот день Валентин Петрович пришел в редакцию крайне возбужденный: ему предложили пост — главного редактора «Литературной газеты». И он дал свое согласие.
Валентин Петрович загорелся мыслью обновить газету, сделать ее «читабельной», а инициативы у него всегда было предостаточно.
Он даже поделился своими соображениями, как постарается перестроить в ней работу, наметил, кого из сотрудников «Юности» возьмет с собой, какие новые разделы заведет на страницах газеты.
Газетная работа, конечно, суетливее журнальной. Но он был готов к этому. И, продолжая строить планы, уехал за рубеж…
Вернулся оттуда полный желания приступить к работе на новом месте, прикидывая и новое оформление газеты, и новую верстку.
И вдруг…
За время его поездки решение о назначении его главным редактором «Литературной газеты» было отменено. А объяснили ему это примерно так: журнал «Юность», который он сделал популярным, играет сейчас не менее, а может быть, и более важную роль, чем газета. Поэтому, мол, и решено было оставить его в «Юности».
Он, конечно, понял, что это лишь отговорка. Дело было в другом. «Литературная газета» во многом определяла литературную политику. Катаев был часто неуправляем, значит, и неудобен…
Обидевшись, он заявил, что уходит и из «Юности». Но его сразу не отпустили.
Кончилось это тем, что он в знак протеста перестал ходить в редакцию, не получал зарплату. Так продолжалось около года. Катаев полностью отстранился от работы в журнале.
Стало очевидным, что туда он больше не вернется, и его просьба об освобождении от должности главного редактора «Юности» в конце концов была удовлетворена…
В «Юность» был назначен новый редактор — Борис Полевой».
Вот ведь как бывает. Не помани начальство Катаева более высоким постом, продолжал бы он с удовольствием командовать своим детищем. Или откажись он от зарубежной поездки, глядишь, и не обошлись бы с ним по принципу «с глаз долой — из сердца вон».
Не то чтобы Старшинов сильно любил Катаева или Катаев Старшинова — они тогда были слишком разновеликими фигурами. За семь лет совместной работы главный редактор ни разу не назвал своего редактора по работе с молодыми авторами по имени, или по имени-отчеству, или по фамилии, только на «вы» — такова уж была его манера общения. Зато Катаев доверял литературному вкусу Старшинова, благодаря чему тому удавалось печатать в журнале стихи не только признанных авторов, но и подборки начинающих тогда поэтов: Олега Дмитриева, Риммы Казаковой, Николая Карпова, Владимира Кострова, Станислава Куняева, Владимира Павлинова, Бориса Пуцыло, Дмитрия Сухарева и других, ставших впоследствии широко известными.
Конечно, далеко не все предлагаемые им стихи шли в печать. Например, ему так и не удалось опубликовать в «Юности» ни одного стихотворения талантливого и парадоксального Николая Глазкова, несмотря на многократные попытки. Неприятная история вышла и с подборкой Владимира Солоухина, у которого Старшинов сам попросил стихи для журнала.
Дело в том, что Катаев был человеком настроения, а потому сотрудники редакции, прежде чем идти к нему с чьими-то произведениями, «разведывали, какое оно у него на сегодняшний день». Если хотели рукопись «зарубить», причем чужими руками, несли Катаеву, когда тот был не в духе. Если хотели «продвинуть», ждали добродушного настроения.
Старшинов же, уверенный в стихах своего товарища по Литинституту, к тому же уже достаточно известного поэта и прозаика, пошел на прием «без разведки». И получил резкую отповедь от главного редактора: «Послушайте, я всегда верил вашему вкусу, считал его совсем неплохим. Но то, что вы сейчас мне подсовываете, просто безобразие… Посмотрите, он даже рифмовать толком не хочет… Печатать это — позор! Верните, немедленно верните эту рукопись автору!..»
Справедливости ради следует сказать, что в рифмах автор «Владимирских проселков» действительно порой бывал небрежен. Посрамленный Старшинов, тем не менее, не сдался и через месяц положил на стол «главного» ту же подборку Солоухина, дождавшись на сей раз его хорошего настроения. Почему он был уверен, что тот не признает уже читаных стихов, неизвестно.
Хитрость удалась. «Послушайте, да это же просто прелестно! Посылайте в набор всю подборку. А когда выйдет номер с этими стихами, вам нужно будет объявить за них благодарность!..» — восхищался Катаев, читая ее. Его реакция — прямо противоположная предыдущей — наглядно показывает, насколько субъективно восприятие поэзии: оно зависит не только от субъекта, но и от его состояния души.
К сожалению, до благодарности дело не дошло. Уже в верстке, когда Солоухин вычитал свои стихи, Катаев, подписывая номер в печать, снял их. То ли настроение было соответствующее, то ли вспомнил что-то, с ними связанное. Объясняться с автором пришлось без вины виноватому Старшинову. Солоухин сильно обиделся тогда на «Юность», а заодно и на приятеля. Уже через много лет, когда Старшинов попросил у Солоухина стихи для альманаха «Поэзия», тот под довольно комичным предлогом отказал: «Я ведь теперь все больше модерн пишу…» — намекая на традиционную литературную ориентацию альманаха.
Не знаю, как сейчас, а в советские времена к неприятным сторонам работы редактора отдела поэзии наряду с невозможностью печатать все то, что тебе нравится, относилась и обязанность печатать «спущенные сверху» творения, как бы они тебя ни раздражали.
Бывало такое и со Старшиновым: как ни возражал он на редколлегии против публикации в журнале поэмы высоко ценимого Катаевым Евгения Евтушенко «Считайте меня коммунистом!», называя ее конъюнктурной и неинтересной, редколлегия ее одобрила. Случалось, однако, что ему удавалось отстоять свою позицию. В воспоминаниях о Катаеве Старшинов приводит такой забавный и в то же время поучительный эпизод:
«— Послушайте, — сказал он мне как-то в коридоре. — Вот вам стихи Александра Жарова, пошлите их в набор. Сразу! Там стихотворений пять — отправьте все!
Я прочитал стихи и пришел к нему:
— Валентин Петрович, а стихи-то у Жарова очень слабые…
— Послушайте, конечно, слабые, — согласился он. — Что же вы от него хотите — хороших он не писал никогда, откуда же они у него вдруг возьмутся?
— А зачем же тогда нам их печатать?
— Послушайте, он встретил меня на лестнице — мы живем в одном подъезде — и сунул мне свои стихи… Куда же их теперь девать?
— Вернуть ему, Валентин Петрович.
— Послушайте, но ведь он после этого будет нас поливать грязью на каждом углу…
— Ну и пусть поливает!
Он недовольно и брезгливо поморщился, а потом согласился:
— Ну ладно, я верну ему рукопись… Но, послушайте, вы еще совсем молодой человек и ничего не понимаете в литературных делах… Литература — это цепь компромиссов!..»
Сам Катаев, однако, поступил весьма бескомпромиссно, когда год не ходил на работу в возглавляемый им журнал.
Борис Полевой, автор «Повести о настоящем человеке» (о легендарном военном летчике Алексее Маресьеве), как и Валентин Катаев, считался юношеским писателем. Наверное, потому его и назначили руководить журналом «Юность».
Под его началом Старшинов проработал около года, а потом ушел на вольные хлеба. Что явилось причиной? Ведь скоро должен был родиться ребенок, так что оклад в 180 рублей был отнюдь не лишним. Возможно, «новая метла» мела по-новому, возможно, Полевой лишил его и той доли самостоятельности, которая была при Катаеве, или просто надоело тянуть служебную лямку, с творческими людьми такое случается. Кроме того, новый главный редактор, как это часто бывает, пришел со своей командой и потому «старослужащих» особо не уговаривал остаться.
Уйдя из журнала, Старшинов взялся за перевод книги украинского поэта Владимира Сосюры. Книга была большой, включала в себя поэму и около двухсот стихотворений, а сроки издательство установило очень жесткие. Чтобы в них уложиться, он, в свою очередь, установил себе жесткий режим: работал «с шести утра и до глубокой ночи, а когда полностью выдыхался, делал двухдневный перерыв — и снова за работу».
Сдав через два месяца переводы в издательство, он вдруг обнаружил, что эти титанические усилия не прошли для него бесследно: ни переводы других авторов, ни собственные стихи не получались. В таком состоянии творческой летаргии поэт находился около года, шутя по этому поводу, что слишком «насосюрился». Он даже написал потом в назидание молодым заметку, которая называлась «О разумной трате поэтической энергии».
Впрочем, временный спад творческой активности можно объяснить и житейскими обстоятельствами, а именно прибавлением семейства, что всегда сопровождается немалыми хлопотами. Рожать его молодая жена захотела в Вильнюсе, видимо потому, что в такие моменты будущие мамы нуждаются в собственных. В Москве его ничего не держало, и они перебрались в Литву.
Следующие четыре года в Москве Старшинов только «зимовал», с конца апреля до октября проживая в литовской деревне, и даже, по выражению Эммы Антоновны, «выучил штук десять литовских слов». Там, как он говорил, «легко дышалось, хорошо работалось и хорошо ловилось». Кроме того, жить в деревне гораздо дешевле, чем в Москве, как бы ни были умеренны цены в ресторане ЦДЛ. Подробности его деревенско-литовского быта почти с дневниковой точностью зафиксированы в стихотворении «Я, как грач, хлопотлив и черен…» (1965):
Я, как грач, хлопотлив и черен.
И, хотя зовусь москвичом,
Я в полях, что заждались зерен,
Появляюсь с первым грачом.
Тут уж некогда веселиться —
Ишь как начало подсыхать,
На ладони лежит землица, —
Сразу видно, пора пахать!
А когда, подрастая, травы
Ниже клонятся над росой,
Я имею святое право
На рассвете сверкать косой.
А еще я могу на зорях
Слушать, как поют петухи,
Щук зубастых ловить в озерах
И в сарае писать стихи.
Но едва подступает осень,
Прибавляется мне хлопот:
Чем в полях тяжелей колосья,
Тем обильней течет мой пот.
Из земной, из бездонной глуби, —
О, картофельная страда! —
Достаю я за клубнем клубень,
А спина болит — не беда.
Не в романс, не на экране,
Не витийствуя за столом,
Это здесь я стираю грани
Между городом и селом.
Потому-то в моем народе
Я считаться своим могу…
Стало пусто на огороде,
Пусто в поле и на лугу.
Птиц на юг угоняет голод,
И со мной ты, земля, простись.
Только я улетаю в город
Позже всех перелетных птиц.
Не думаю, что он сам ходил за плугом, как на то намекает вторая строфа: с его больной ногой это вряд ли было возможно. Но косить, жать рожь и копать картошку ему доводилось вволю, не говоря уже о ловле «зубастых щук» и писании стихов.
На это стихотворение один из друзей-учеников поэта Борис Пуцыло написал забавную пародию, обыграв в ней всем известную страсть старшего товарища к рыбной ловле:
Я, как грач, хлопотлив, наверно,
Только, может быть, чуть почерней,
Как потеплет — я на поле первый,
Озабочен проблемой червей.
Ни один не проскочит мимо, —
Комья мерзлые все раскрошу,
Этот жирный — его для налима,
Этот тощий — его мы ершу.
Ну а этот — пойдет для плотвицы,
Ведь задуматься если, она
В царстве водном не главная птица,
Хоть по-своему тоже нужна.
Отряхнув непернатое тело,
Отдышаться сажусь на стерню.
Разлюбезно-полезное дело
Каждой рыбке готовить меню.
Озирая окрестные дали,
Слышу — в поле грачиный плач…
Что, голубчики, опоздали?
Это я — самый быстрый грач.
Рядом с деревней, где жил Старшинов, протекала маленькая чистая речушка, вдоль которой он, прихрамывая, уходил километров на десять, выискивая по омутам рыбу. Было у него и любимое озеро — Канчёгино, где ему была известна каждая выемка в береге. На это озеро он пригласил однажды порыбачить другого заядлого рыбака — Константина Воробьева, повести которого «Убиты под Москвой» и «Крик» считал «самыми правдивыми из всего, что было создано в нашей художественной литературе о войне». Хотя официальные критики, возможно, и не нюхавшие пороху, осуждали писателя за «настроение безысходности» и «искажение правды о войне».
Жил Воробьев в Вильнюсе, где его хоть как-то печатали, так что ехать ему было недалеко. Выпили литовской самогонки за встречу, после чего Воробьев долго ругал цензуру, снявшую в «Новом мире» его повесть о коллективизации «Друг мой Момич»; воспрепятствовать этому не смог даже сам Твардовский, пытавшийся отстоять ее на уровне ЦК партии (выше уровня тогда не было).
Но цензура цензурой, а рыбалка рыбалкой. На следующее утро помимо разной мелочи Воробьев поймал четырех больших лещей, чего самому Старшинову, рыбачившему на этом озере сотни раз, никогда не удавалось. Он вспоминал об этом с восхищением и без тени зависти (возможно, еще и потому, что его «специализацией» была ловля щук).
Литовско-деревенская жизнь оставила заметный след в творчестве Старшинова: стихи, рассказы, поэма «О старом холостяке Адаме», переводы литовских поэтов. Впрочем, еще Пушкин, говаривавший: «Деревня — мой кабинет», на собственном примере показал, как благотворно влияет на творческую результативность сельское уединение.
Кроме того, вслед за Пушкиным, воспевшим в программном стихотворении «добрую старушку» — свою старую няню, Старшинов открыл для себя в литовской деревне тему бабушки и обращался к ней довольно часто (это легко объяснимо: жили московские гости у родной бабушки Эммы Антоновны). Но вот что замечательно: если в пейзажных стихотворениях этого периода часто встречаются литовские слова или названия, добавляющие в них «местного колорита», то образ бабушки начисто лишен каких-либо национальных прибалтийских черт. Это общечеловеческий тип вековечной труженицы-крестьянки:
На руках, как борозды, морщины,
В них навек запахана земля.
(«Только-только солнце, полыхая…», 1962)
Близость к земле и ощутимый возрастной рубеж настраивали лиру поэта и на философский лад:
Мне сорок лет, а я в подпасках,
Еще учусь пасти коров.
Рассвет осенний хмур, неласков,
Он по-закатному багров.
. . . . . . . . . .
Земля плывет в осенних красках,
Как полотенце в петухах…
Я в сорок лет еще в подпасках, —
Когда-то буду в пастухах?
(«Мне сорок лет, а я в подпасках…», 1965)
Как-то раз, прочитав эти стихи в российской глубинке, он услышал сочувственное предложение доверчивых сельчан: «А вы оставайтесь у нас, мы вас сразу пастухом сделаем!..»
Пока он осваивал пастушескую профессию, в московском отделении Союза писателей медленно, но верно подходила его очередь на улучшение жилищных условий. И в 1966-м Старшиновы получили свою первую отдельную двухкомнатную квартиру в писательском доме на Малой Грузинской улице. По словам Эммы Антоновны, они так устали от коммунального быта с многодетными соседями, что переехали, не дождавшись даже, когда в новом доме подключат газ и воду. Трехлетнюю Руту заблаговременно отправили в деревню к бабушке.
Из старой обстановки с собой взяли только письменный стол и холодильник. Ну и, конечно, заслуженный «Ундервуд», с которым Старшинов не расставался ни при каких обстоятельствах. Этот купленный на послевоенной толкучке добротный немецкий механизм служил ему верой и правдой до конца дней. Периодически он, конечно, ломался, поскольку печатал Старшинов очень много: статьи, рассказы, предисловия, рецензии, письма, стихи, свои и чужие. Он составлял большое количество поэтических сборников и имел обыкновение набирать тексты собственноручно. Потом, правда, уже в молодогвардейские годы, когда объемы все новых и новых составительских перепечаток для Старшинова станут просто неподъемными, на помощь ему придут женщины: и в издательстве, и дома.
Так вот, когда «Ундервуд» ломался, вызывался мастер (обычно это был Владимир Ведякин — не только замечательный поэт, но и замечательный специалист по ремонту пишущих машинок), который приводил немецкого ветерана в форму, и тот опять начинал бойко строчить, напоминая хозяину о развороченном когда-то немецкой же миной пулемете «максим». При этом печатал Старшинов одним пальцем, но довольно быстро.
Забавно, что с течением лет у него появились еще три пишущие машинки, одна другой современнее. Они были жутким дефицитом (во всяком случае, для частных лиц) и распределялись, как и писчая бумага, по спискам Литфонда. Не покупать при таких обстоятельствах орудия писательского труда, когда подошла очередь, было просто глупо — в другой раз могут не предложить. Но печатать Старшинов упорно продолжал на «Ундервуде», поскольку слишком к нему привык.
Итак, установив на письменный стол пишущую машинку и присоединив к этому новенький диван, случайно купленный Эммой Антоновной в соседнем мебельном магазине (тоже дефицит), Старшинов обзавелся на сорок втором году жизни собственным кабинетом. После этого он перестал проводить в Литве по полгода, из чего следует, что не последней причиной его приобщения к сельскому хозяйству — «О, картофельная страда!» — было элементарное отсутствие в Москве условий для работы.
Впрочем, Прибалтика еще долго и неослабно притягивала его. Каждый год (вплоть до известных событий) он проводил там не меньше двух недель. Не только в ставшей вторым домом деревне Иодгальвей, но и на Балтийском побережье: в Дубултах, Юрмале, Паланге.
Вообще, как вспоминает Эмма Антоновна, он любил север и не любил юга, предпочитая Балтийское море Черному. На черноморские курорты он ездил, «делая одолжение» жене и дочери. Тому, пожалуй, есть две причины: первая — природная склонность, вторая — тяжелые личные воспоминания, связывающие Черноморское побережье с прошлой жизнью.
Когда Руте исполнилось шесть лет, у Старшинова появилась возможность брать семейные путевки в дома творчества (с детьми младшего возраста туда не пускали, чтобы те не мешали дядям и тетям-писателям «ковать нетленку», как тогда говорили). А домов творчества на обоих курортных побережьях и в других местах Советского Союза у Литфонда было предостаточно. (Замечательная была у Союза писателей СССР структура — Литературный фонд — и очень богатая. Есть она и сейчас, но уже далеко не такая богатая и совершенно не замечательная.)
Так вот, женская составляющая семьи Старшиновых, несмотря на врожденную любовь и Эммы Антоновны, и Руты к Литве, с удовольствием грелась под южным солнцем и плескалась в теплых волнах Черного моря. Глава же семейства в Планерском или Пицунде к морю выходил только утром — погулять, а днем предпочитал сидеть в номере и работать. Купаться в море он особо не любил и плавать почти не умел (дальше стиля «по-собачьи», освоенного в детстве, дело не пошло). К тому же и изувеченная на фронте нога вряд ли позволила бы ему стать заправским пловцом. Да и стеснялся он ее показывать.
Но главное, он не любил ловить рыбу в море! И, возможно, это третья причина, по которой он предпочитал Балтийское побережье. Там всегда рядом
с местом отдыха в море впадала какая-нибудь река: Неман, Лиелупе, Швентойи, где он и «предавался» своей рыбацкой страсти. В Швентойи он даже поймал однажды на удочку угря — добычу весьма редкую.
* * *
В ноябре 1967-го в возрасте восьмидесяти пяти лет скончалась матушка Старшинова Евдокия Никифоровна. Он до конца жизни не мог простить себе того, что, загуляв где-то в очередной раз с литературной братией, не поспешил откликнуться на ее просьбу приехать и потому не был рядом с ней в ее последние минуты. Это чувство вины вылилось в пронзительное стихотворение, о котором первый биограф поэта Владимир Коробов сказал, что
боится его перечитывать:
А тут ни бронзы, ни гранита —
Бугор земли да крест простой.
Она,
Ничем не знаменита,
Спит под цементною плитой.
А ради нас она, бывало,
Вставала поутру, чуть свет.
Кормила нас и одевала,
Тепло и хлеб свой отдавала
В годины горестей и бед.
В делах — с субботы до субботы…
А дочери и сыновья
Дарили ей одни заботы.
И больше всех, конечно, я.
Да, ей была со мной морока:
Я пил и летом, и зимой.
И ни намека,
Ни упрека,
Ни боже мой…
Ах, боже мой!..
И если стынет,
Обитая
Под сенью ветхого креста,
Душа, такая золотая,
Какой же быть должна плита?..
А тут — ни бронзы, ни гранита —
Цемент, невзрачный и немой.
Она ничем не знаменита.
Ни боже мой…
Ах, боже мой!..
(«А тут ни бронзы, ни гранита…», 1972)
Вскоре после этого, хотя и ожидаемого, но горестного события смерть едва не подстерегла самого поэта (уже в третий раз, если считать ранение и туберкулез). Дело было в Ленинграде, где проводилось очередное совещание писателей.
Большинство писательских совещаний, а также съездов, форумов, конференций проводится обычно по типовой схеме: с утра пораньше — официальные мероприятия, а с вечера до глубокой ночи — застолье с разговорами, спорами, байками… Народ-то собирается литературный — «повествовательный». Такой режим, как правило, сказывается на здоровье участников, даже самых закаленных, недаром эти ночные радения, отнюдь не «сухие», кто-то метко окрестил «ударом по печени».
В то злополучное утро литераторов, что называется, «с большого бодуна» повели осматривать запасники знаменитого Эрмитажа, расположенные в подвальных помещениях. А подвалы, даже если они знаменитые, отличаются духотой, то есть недостатком кислорода. Разумеется, для отравленного алкоголем организма это крайне опасно, поскольку резко повышается нагрузка на сердце.
Когда Старшинов после осмотра уникального собрания культурных ценностей поднимался из подвала по лестнице, его сердце, не выдержав перегрузки, остановилось. По счастливому стечению обстоятельств рядом оказался медпункт, в котором оказался опытный врач, у которого оказалось все необходимое для реанимации. Прямой укол адреналина в сердечную мышцу, массаж и искусственное дыхание вернули поэта к жизни, а далее в короткие минуты подоспела «скорая», опять же по счастливому стечению обстоятельств проезжавшая мимо.
Потом он напишет поэму «…И я открыл глаза…», которая начнется словами: «Когда я умер…». Это последняя (датирована 1985 годом; правда, он писал поэмы подолгу) и самая проникновенная из его поэм. Она состоит из десяти самостоятельных глав, но сейчас мне хотелось бы остановиться на второй главе, посвященной матери.
Тема материнской любви вообще одна из главных в творчестве Старшинова. Как помним, был он в семье самым младшим, а значит особо любимым ребенком. Однако если сравнить два материнских образа — из ранней поэмы «Гвардии рядовой» и последней, то откроется поучительная картина воспитания сыновних чувств.
В поэме «Гвардии рядовой» «старушка низкорослая» напоминает материнский образ у Сергея Есенина, часто называвшего мать именно старушкой («Ты жива еще, моя старушка?..», «Снова я вижу старушку мою…», «Старушка милая,/Живи, как ты живешь…»). Некоторая снисходительность такого обращения к матери у Есенина явилась следствием приобщения к столичной жизни и ранней славы, у Старшинова же — от ощущения себя бывалым солдатом, что явно проскальзывает в эпизоде встречи двадцатилетнего лирического героя с матерью на вокзале:
— Коленька… Сынок… Последний… Родненький…—
И, еще чего-то мне шепча,
Все хотела выпрямиться вроде как,
А была мне только до плеча.
И, шинель поглаживая волглую,
Спрашивала (вынь ей да положь):
— Далеко ли едешь и надолго ли?
Как же так, ботинки без калош?..
В наивных вопросах матери, конечно, отражена вся мера ее любви, заботы и волнения, но «главный» здесь — лирический герой. Еще бы, он — «защитник города Москвы!», а значит, и всех ее жителей, и собственной матушки тоже.
Прямо противоположная картина разворачивается в сцене свидания с матерью в поэме «…И я открыт глаза…». Находящийся в состоянии клинической смерти лирический герой и мать, которой уже нет среди живущих, меняются местами: роль «главного защитника» безоговорочно передается сидящей над колыбелью матери. Теперь она не «старушка низкорослая», в ее облике проявляются черты Богоматери (сияние), а сам герой «уменьшается» до младенца, нуждающегося в опеке:
…Я погиб…
И когда осознал, что погиб,
Мне послышался тихий,
Размеренный скрип.
И внезапно сиянье
Раздвинуло тьму,
Но откуда оно пролилось —
Не пойму…
Что такое?
Да что там скрипит и скрипит?
…Это мать
У моей колыбели не спит.
Днем и ночью,
Меня от напастей храня,
Наклоняется низко,
Целует меня.
Видно, так суждено ей
До старости лет
Жить, меня ограждая
От будущих бед.
От смертельных болезней,
От ложных шагов,
От неверных друзей
И от верных врагов…
. . . . . . . . . .
До последних ее,
До мучительных дней
Это жило, болело,
Не старилось в ней…
…И когда я погиб,
И когда я погиб,
Мне послышался тихий,
Размеренный скрип.
Я услышал;
Скрипит колыбель и скрипит…
Это мать
У моей колыбели не спит.
Тихий, размеренный скрип колыбели — это, конечно, не только воспоминания лирического героя о младенческих днях. Это вековечный скрип земной оси, символизирующий бесконечность сущего. Это «скрипящая в трансцендентальном плане, немазаная катится телега» Георгия Иванова, с которой ассоциируются и жизнь человека, и история человечества, и судьба России. Это «скрип да скрип под березою… скрип да скрип под осиною» Николая Рубцова, возвещающий радость и гармонию земного бытия. Это знаменитый «скрип моей колыбели» Николая Тряпкина. Это метафорическое выражение бессмертия материнского начала и беспредельности материнской любви.
* * *
Четыре минуты клинической смерти и несколько месяцев на больничной койке в ленинградской клинике многое переменили в сознании Старшинова, но не отучили от пагубной привычки. Не настолько, оказывается, страшна костлявая старуха, чтобы после встречи с ней русский человек «завязал». Как вспоминает Глеб Паншин, «какой-то период Коля не выпивал после этого случая. А затем помаленьку, помаленьку снова стал «брать на грудь» — и… по-несло-поехало».
И лишь спустя еще несколько лет, в 1972-м, в жизни Старшинова произошли два события, круто поменявшие его дальнейшую жизнь. Во-первых (летом), он бросил пить, во-вторых (осенью), снова пошел на редакторскую работу — на этот раз в молодогвардейский альманах «Поэзия», который за годы его «правления» стал, пожалуй, самым популярным поэтическим изданием в стране, особенно в провинции.
Начнем с «во-первых». Тема эта довольно деликатная, поэтому лучше подать ее в интерпретации самого Старшинова, позволяя себе — «на правах биографа» — лишь некоторые комментарии:
«Я попал в больницу имени Соловьева, в отделение алкоголиков. Лег туда сам, потому что понял: болезнь моя зашла так далеко, что если я немедленно не покончу с ней, мне потом от нее не избавиться, будет поздно.
(Фраза «лег туда сам» означает, что лечение не было принудительным, — такое существовало в советские времена и имело целью возвращение «заблудших» в ряды полезных членов общества.)
За многие годы постоянных выпивок я сильно изменился. Если прежде, «употребляя», я был веселым, добродушным и обязательным человеком, любил петь песни, то в последние годы стал раздражительным и агрессивным, мог даже ввязаться в драку, мог не выполнить своих обещаний, мог подвести себя и людей…
(Поэт Николай Карпов вспоминает, как однажды Старшинов признался ему, что завязал с выпивкой из-за боязни не успеть сделать того, что может и должен. Эмма Антоновна тоже приложила руку к принятию мужем таких кардинальных мер, угрожая разводом. Она же полагает, что его злоупотребление алкоголем вовсе не являлось болезнью, а было нормой поведения посещающей ЦДЛ литературной братии.)
Отделение это считалось престижным — «кремлевским»: лежали там известные актеры, художники, писатели, научные работники, руководители разного рода предприятий средней руки.
(Обратим внимание на «ценностную» градацию: известные представители творческих профессий приравнивались, по кремлевским меркам, к средней руки хозяйственникам. И это было в эпоху, когда искусство находилось под опекой власти. Что же говорить о нынешних временах господства капитала над властью! Где теперь представители творческих профессий?!)
Назвать его соответствующим ему именем — «кремлевское»-™! — было неловко. И тогда был найден выход из такого положения: отделению было присвоено замечательное название: «Отделение по исправлению дефектов речи». Хотя ни одного картавого, шепелявого или заики в нем не было.
Когда я, впервые переночевав там, вышел из палаты в коридор, то едва не столкнулся
с Вилем Липатовым. Он обрадовался моему появлению здесь, обнял меня, как родного человека, и тут же сделал доброе дело:
— Здорово, Колька, и ты тут?! В какой палате? В девятой? Да там народу полно — десять человек! А я сейчас, если ты не против, переведу тебя к себе — я-то лежу один! Вдвоем будет веселее…
Виль находился в этом отделении не первый раз, был, можно сказать, здесь уже своим человеком. Поэтому я мгновенно оказался в одной палате с ним…
(Надо полагать, что некоторыми привилегиями Виль Липатов пользовался у персонала «Кремлевки» отнюдь не из-за частого пребывания там, но благодаря всенародной известности фильма «Деревенский детектив», снятого по его повести — с главным героем сельским участковым Анискиным.)
С утра мне ввели большую дозу инсулина и велели лежать три часа. Виль ушел на прогулку. Пришла нянечка. Она еще не знала, что я принадлежу тоже к пишущей братии, и потому, убирая палату, добродушно журила Липатова:
— Уж эти мне писатели!.. Вот Виль Владимирович, такой славный человек, а как навалит горы книг, папок, бумаг всяких. Убираешь, убираешь, а их становится все больше и больше… Да все они, писатели, такие… Вот вашу койку недавно занимал тоже один писатель…
— Это кто же?
— Да Сергей Сергеич Наровчатов!.. Тоже, бывало, у него и на столике, и на тумбочке, и в тумбочке, и на стуле чего-чего только не было — и тетради, и блокноты, и книги всякие… И тронуть их не смей!.. А то, чего доброго, что-то выбросишь или затеряешь…
Так я узнал, что занимаю такую почетную койку, на которой моим предшественником был сам секретарь Союза писателей, главный редактор «Нового мира»!..
(Здесь Старшинов несколько опережает события. Его старший товарищ по фронтовому поколению поэтов Сергей Наровчатов возглавил «Новый мир» уже после избавления «от дефектов речи», в 1974 году. Кстати, его перу помимо прочего принадлежат критические статьи, посвященные творчеству Старшинова: «Путь подъема» и «Путь поэта».)
Впрочем, народ здесь вообще выглядел очень благообразно — никогда и не подумаешь, что находишься в таком отделении… В самом деле — «кремлевское»…
Хотя случалось здесь всякое.
Озадачил меня однажды директор большого автобусного парка.
Я не раз видел, как медсестра давала ему антабус, заглядывая в рот, под язык — проверяла, не запрятал ли он туда таблетку. Удостоверившись в том, что он ее проглотил, отпускала. А он летел стрелой в туалет, где у него уже было приготовлено снадобье против антабуса. Он выпивал одним приемом полстакана лимонного сока и, довольный этой процедурой, уходил в свою палату. Оказывается, лимонный сок нейтрализует действие антабуса.
Как-то я спросил у него:
— Что же вы делаете? Зачем? Ведь вы травите свой организм.
На что он мне вполне резонно отвечал:
— Да меня заставили пройти принудительное лечение. Если бы я отказался от него, меня сняли бы с работы и исключили из партии. А так я как бы пройду курс лечения, получу об этом справку. А употреблять-то все равно буду по-прежнему. Без этого у нас не обойдешься…
(Как говорится, без комментариев. Хотя любопытно, что за справки выдавали в том отделении? Не об избавлении же, в самом деле, от дефектов речи…)».
А вот Старшинов опроверг «тезис» автобусного директора: по выходе из больницы он легко обходился без спиртного до конца дней, оставаясь при этом душой всякой компании, где с удовольствием играл на гармошке, пел песни и частушки, для чего большинству наших соотечественников необходимо соответствующим образом «созреть». На предложения же выпить водки у него теперь была наготове стандартная отговорка, что после лечения в «Соловьевке» его организм даже «Буратино» (был такой лимонад) не принимает по причине его чрезмерной «крепости». При этом самих выпивающих в его присутствии, насколько я помню, он никогда не осуждал и не оговаривал, как часто поступают люди, ставшие трезвенниками.
Однако друзей и тех из своих многочисленных учеников, которые стремились превзойти учителя именно в области пития, он со свойственным ему тактом предупреждал о пагубности чрезмерного увлечения алкоголем. Глеб Паншин, например, приводит в своей книге такие строки из письма к нему Старшинова: «…Главное — будь здоров. Прошу: не пей ради Бога. Не тянись за молодыми и здоровыми, не заводись. Пошли всех подальше и не пей!»
Всякий бросивший пить человек сталкивается с проблемой: куда девать освободившееся время. Старшинов гармонично распределил его между главной своей страстью — поэзией и игрой в подкидного дурака с Владимиром Костровым. Правда, главные карточные баталии развернулись несколько позже, когда Старшинов и Костров стали жить в соседних выстроенных Литфондом домах в Протопоповском переулке (тогда, в атеистические времена, он звался Безбожным, возможно, потому там и селили писателей).
А вот поэзия целиком поглотила Старшинова уже тогда, в 1972-м, когда он возглавил альманах
с одноименным названием.
НАШ АЛЬМАНАХ «ПОЭЗИЯ»
Татьяна Александровна Чалова (к слову, дочь замечательного поэта Александра Яшина) проработала в редакции поэзии издательства «Молодая гвардия» всю свою сознательную жизнь. Будучи очевидицей возникновения альманаха «Поэзия», она утверждает (не знаю, насколько обоснованно), что образовали его исключительно ради того, чтобы трудоустроить бывшего телохранителя Никиты Сергеевича Хрущева, оказавшегося после снятия своего патрона с поста главы государства не у дел.
Официальная же версия, заявленная в предисловии к первому выпуску альманаха, гласит, что «назначение альманаха «Поэзия» — продолжение и умножение лучших поэтических традиций, эстетическое воспитание молодежи, творческое объединение молодых и известных литераторов».
Справедливости ради следует сказать, что, судя по именам представленных в нем авторов — Леонид Мартынов, Николай Ушаков, Самуил Маршак, Егор Исаев, Ярослав Смеляков… — первый редактор альманаха Сергей Павлович Красиков разбирался неплохо если не в самой поэзии, то, во всяком случае, в поэтических именах.
Татьяна Александровна вспоминает:
«Сменой эпох была передача альманаха Николаю Константиновичу Старшинову в 1972 году. Он пришел со своим пониманием поэзии, со своей системой жизни, со своими друзьями и неисчислимым количеством знакомых. Наши стражи правопорядка бабульки-вахтеры могли встать насмерть на пути у Василия Дмитриевича Федорова, не имеющего обыкновения носить с собой удостоверение личности, и я его, чуть не плачущего, за руку приводила в издательство. И спокойно, как родного, пропускали к нам распоследнего графомана с авоськой, набитой школьными тетрадями с полным собранием его сочинений. Я сатанела от одного их вида, а Николай Константинович с терпением и интересом истинного рыбака часами беседовал с такими посетителями о жизни, читал их откровения.
«С подачи» Николая Константиновича издали мы в 1976 году книгу пастуха из Белгородской области Владимира Михалева «Радость». Подхожу я однажды в начале рабочего дня к дверям альманаха и застаю очень робко ожидающего человека, спросившего Старшинова. Я пригласила его в комнату, напоила чаем, заняла беседой до прихода его редактора. Владимир Васильевич Михалев потом уже, когда шли большой компанией в столовую, признался мне: «Я ведь думал как? Я думал, сидят такие бюрократы. Я только посмотрю… и уйду». И про Николая Константиновича: «Я думал, знаменитый поэт, фронтовик!.. И вдруг — такой свет!» (Судя по всему, автора из провинции поразили доступность и простота в обращении с ним Старшинова. —
С. Щ.)
В золотой век издательства мы были в центре поэтической жизни страны. К нам приходили и издавались Василий Федоров и Леонид Мартынов, Борис Ручьев и Николай Ушаков, Эдуард Межелайтис и Павел Боцу, Расул Гамзатов и Давид Кугультинов…
С приходом в редакцию Николая Константиновича Старшинова к нам зачастили его давние ученики и друзья по литературному объединению МГУ и журналу «Юность». Когда они набивались в нашу небольшую комнату, все как на подбор рослые, упитанные, в комнате становилось темно: Олег Дмитриев, Владимир Костров, Евгений Храмов, Владимир Павлинов.
Стал захаживать к нам и Николай Иванович Глазков. Обычно он сидел молча в углу, но если возникала пауза в разговорах, любил заполнять ее примерно так: «А что сказал Глазков тогда-то…» И выдавал афоризм вроде:
Как в городе, так и в селе
Приятно быть навеселе».
Согласитесь, компания, которую составляют творцы подобных афоризмов, заслуживает восхищения. Не уступали Глазкову в остроумии и иные друзья-соперники, ученики Старшинова, о чем поведал другой «старожил» редакции — Геннадий Красников:
«Нередко печатаясь в альманахе «Поэзия» у бывшего своего литературного наставника Николая Старшинова, Олег Дмитриев, талантливый поэт и очень остроумный человек, с придирчивостью следил за тем, кого же из бывших питомцев учитель пригревает чаще на страницах своего издания. Как-то Дмитриев лежал в НИИ — лечился от излишнего веса голоданием, а Старшинов, чтобы тому не было скучно, переслал ему в палату только что вышедший номер альманаха. В постоянном разделе «Всегда в пути» наш «больной» обнаружил стихи Владимира Кострова, который в тот период был действительно частым автором альманаха. Вскоре Старшинов получает от своего ученика коротенькую записочку, в которой было всего несколько строк:
В НИИ — голодный, как монах,
Листаю Колин альманах,
Один Костров — «Всегда в пути»,
Вот странник, мать его ети!..»
В рубрике «Всегда в пути» давались стихи признанных мастеров поэтического цеха. Молодым авторам отводилось место (и немалое) в рубриках «Первая встреча» и «Вторая встреча». Кроме того, альманах всегда широко представлял стихи участников Всесоюзных совещаний молодых писателей и Всесоюзных фестивалей молодой поэзии. Это объясняется еще и тем, что подобные мероприятия, как и издательство «Молодая гвардия», находились под патронатом отдела культуры ЦК ВЛКСМ. Для классиков и юбиляров предназначались рубрики «Литературные портреты» и «Наши публикации», в которых помимо солидных подборок стихотворений вниманию читателей предлагались статьи о творчестве вышеупомянутых классиков и юбиляров. Для поэтов из провинции, которым особенно трудно пробиваться на страницы столичных журналов, а также для представителей «союза нерушимого республик свободных» существовала рубрика «У нас в гостях» (далее следовало уточнение, кто именно у нас в гостях, например, «поэты Астрахани» или «поэты Армении»). Для поэтов из «несвободных» республик и государств имелась рубрика «Из зарубежной поэзии». В рубрике «Мастерская» печатались уже не сами стихи, а критические статьи о них. Одно время была в альманахе и такая рубрика — «Для самых маленьких». Завершала каждый выпуск альманаха рубрика «Парнас, Пегас и кое-что про нас», где, как легко догадаться, публиковались ироническая поэзия и пародии; здесь же печатался весьма известный в 70—80-е годы XX века Ефим Самоварщиков — ближайший родственник блиставшего тогда же на 16-й полосе «Литературной газеты» Евгения Сазонова.
За более чем двадцатилетнюю историю альманаха отдельные его авторы (из учеников Николая Константиновича) успели пройти едва ли не через все эти рубрики, включая зарубежную поэзию (в качестве переводчиков).
Впрочем, тот же Олег Дмитриев печатался в альманахе «Поэзия» и до прихода в издательство «Молодая гвардия» своего учителя. Своим человеком всегда там был и сам Старшинов. Уже в дебютном, первом номере альманаха по просьбе редакции он отвечает на анкету о состоянии современной поэзии.
Стоит привести анкету полностью. Она любопытна тем, что отражает и состояние поэзии конца шестидесятых годов XX столетия, и позицию Старшинова, лишенную обычной для того времени идеологической риторики. Размышления его в чем-то актуальны и сегодня.
«Какая, на Ваш взгляд, наиболее отличительная черта современной советской поэзии?
О состоянии поэзии, о ее отличительных чертах нужно, вероятно, судить по высшим ее достижениям. В настоящее время наиболее активно и интересно работают наши выдающиеся поэты Л. Мартынов, Я. Смеляков, А. Твардовский. Они в значительной, если не в решающей, степени делают поэтическую погоду. Но ведь и в первые годы после войны от произведений этих поэтов во многом зависел уровень нашей поэзии. Претерпела ли их поэзия за двадцать лет какие-то изменения? Конечно, да. Но я не думаю, что эти изменения столь принципиально велики, чтобы особо выделять их, ставить во главу угла. Значит, и о каких-то отличиях поэзии наших дней от поэзии, скажем, сороковых годов я не могу говорить. Изменился, расширился круг тем. Повысился общий уровень культуры стиха. Вот, пожалуй, и все, что можно ответить на первый вопрос.
Часто можно слышать: комсомольский поэт, комсомольская поэзия. Как Вы это понимаете?
«Комсомольскую поэзию» я понимаю шире, чем буквальный смысл этих слов. Это прежде всего лучшие стихи, которые близки комсомольцам, молодежи, волнуют ее, помогают ей стать на правильный путь, стать современными, самостоятельными людьми, мужественными, умными и тонко чувствующими.
В чем, на Ваш взгляд, состоит новаторство современных модных поэтов? Чем Вы объясняете их шумный успех?
Я не думаю, чтобы можно было говорить всерьез о «новаторстве современных модных поэтов». Одни из них прибегают к белому и свободному стиху, более расширительно пользуются рифмами, пытаются сделать стих более разнообразным ритмически, к сожалению, нередко расшатывая его и даже разрушая, иные вносят в поэзию элементы фельетона, происшествия, очерка, другие внедряют в стих понятия, связанные с современной наукой и техникой. Но и то, и другое, и третье нельзя назвать новаторством, ибо все это в разное время уже имело место в русской поэзии. Если же говорить об успехе, то надо вспомнить значение этого слова. Это, во-первых, удача в достижении чего-нибудь; во-вторых, признание этой удачи. Я же думаю, что к «модным» поэтам более, чем «успех», подходит слово «ажиотаж».
Как известно, явление это временное, искусственное и нездоровое. Вызвано оно в значительной мере тем, что «модные» поэты проворнее других успевают откликнуться на те (кстати, чаще всего не главные) вопросы, явления, происшествия и веяния, которые появляются в текущее время. И делают они это, как правило, торопливо, поверхностно и часто даже спекулятивно, в угоду любителям сенсаций, чей вкус и требования ниже среднего уровня. О каком же успехе может быть речь?
Многие деятели науки у нас и за рубежом широко пропагандируют так называемую кибернетическую поэзию. Стихам, написанным человеком, противопоставляются стихи, написанные машиной. Верите ли Вы в возможность вытеснения настоящей поэзии поэзией кибернетической?
Не верю. На месте поэтов, которые верят в великие поэтические способности кибернетических машин и хотят быть последовательными, я бросил бы писать стихи и отдал бы все силы для того, чтобы сконструировать такую машину. Почему-то никто из поэтов — сторонников кибернетической поэзии не решился на это…»
Во втором номере альманаха идут стихи самого Старшинова. В шестом — пародия на его стихи. Объясняется такое тесное сотрудничество, скорее всего, тесной дружбой Старшинова с заведовавшим тогда в издательстве «Молодая гвардия» редакцией поэзии поэтом Вадимом Петровичем Кузнецовым. А имя Старшинова как редактора появляется на обложке одиннадцатого выпуска альманаха (хотя им был собран и подготовлен к печати уже и десятый номер).
* * *
Пожалуй, пора разъяснить статус альманаха «Поэзия» в структуре издательства «Молодая гвардия». Дело в том, что альманах не был самостоятельной единицей, а входил в состав редакции поэзии. Кстати, именно поэтому Старшинов смог, не будучи членом коммунистической партии, возглавить это издание. Должности, начиная с заведующего редакцией, были номенклатурными, то есть люди на них назначались аппаратом ЦК ВЛКСМ из проверенных на комсомольской и партийной работе кадров.
Формально над Старшиновым было немало начальников: заведующий редакцией, главный редактор, директор издательства (это не считая Главлита — весьма серьезной организации, осуществлявшей цензуру). Однако авторитет самого Старшинова к этому времени уже был достаточно высок (секретарь Союза писателей, член приемной комиссии этой организации, постоянный руководитель творческих семинаров практически всех совещаний и фестивалей молодых писателей), чтобы составлять альманах по собственному усмотрению. О своих взаимоотношениях с руководством за двадцать лет работы в альманахе незадолго до смерти он вспоминал так:
«За эти годы директорами издательства были Валерий Николаевич Ганичев, Владимир Ильич Десятерик, Валентин Федорович Юркин.
О них у меня сложилось хорошее впечатление, и, как это ни странно, в первую очередь потому, что они не вмешивались в дела альманаха, не давали руководящих указаний. Считали, выходит альманах вовремя, большим тиражом, раскупается, имеет своих читателей — ну и все в порядке. И сам я к ним наведывался редко.
Можно рассказать об одном забавном случае, который произошел, когда директором был Валерий Николаевич. Я слышал, как рассказывали поэт Николай Глазков и сам Валерий Николаевич об этом.
Пришел Глазков к Ганичеву, и у них произошел такой диалог:
— У вас в издательстве, в редакции поэзии, Валерий Николаевич, уже несколько лет без движения лежит рукопись моих стихов. Нельзя ли ускорить ее издание?
— Я поэзией не занимаюсь.
— Но у меня есть и проза!
— Прозой я тоже не занимаюсь.
— У меня есть очерки.
— Очерками я тоже не занимаюсь.
— А у меня есть переводы!
— Переводами я тоже не занимаюсь.
И тогда Глазков с присущей ему хитрой наивностью спросил:
— А чем же тогда вы здесь занимаетесь?..
Другой бы на месте Ганичева обиделся и выпроводил из своего кабинета такого «дотошного» автора.
А Валерий Николаевич отнесся к нему с пониманием — как к поэту. Позвонил заведующему редакцией поэзии Вадиму Кузнецову:
— Вадим, ну что вы мурыжите Глазкова? Издайте его, что ли…
И в 1975 году «Молодая гвардия» выпустила, пожалуй, первую настоящую «глазковскую» книгу стихов Николая Ивановича «Незнакомые реки»…»
На мой взгляд, хваля руководство в первую очередь за «невмешательство», Старшинов не то чтобы слукавил, но в силу своей скромности сказал не всю правду, которая заключается еще и в том, что руководство (как и редакторский состав) всегда относилось к нему с пиететом. Он был своего рода «визитной карточкой» издательства. Во всяком случае, Валентин Федорович Юркин, по сей день занимающий пост генерального директора ОАО «Издательство «Молодая гвардия», принимая от меня заявку на эту книгу, обмолвился: «Николай Константинович — для нас святое!»
При этом, надо сказать, Старшинов доставлял начальству немало хлопот. И впервые это произошло сразу же после его прихода в альманах «Поэзия».
Он взялся за него с большим энтузиазмом: верный приобретенной еще в «Юности» привычке «не ждать милостей» от поэтов, обратился сам к любимым поэтам, в том числе к Ярославу Смелякову, с просьбой дать для альманаха стихи. Смеляков ответил, что из-за болезни новых стихотворений сейчас не пишет, и предложил напечатать в альманахе те, что не вошли в его последний поэтический сборник, вышедший как раз в «Молодой гвардии». Среди этих нескольких стихотворений, снятых в последний момент из книги даже не цензурой, а женой тяжело больного поэта, являвшейся «по совместительству» его литературным секретарем, были стихи о самоубийстве Маяковского «Я себя под Лениным чищу…». А в нем были задевавшие честь четы Бриков строки:
Ты себя под Лениным чистил,
душу, память и голосище,
и в поэзии нашей нету
до сих пор человека чище.
Ты б гудел, как трехтрубный крейсер,
в нашем
общем многоголосье,
но они тебя доконали,
эти лили да эти оси.
Не задрипанный фининспектор,
не враги из чужого стана,
а жужжавшие в самом ухе
проститутки с осиным станом.
Эти душечки-хохотушки,
эти кошечки полусвета,
словно вермут ночной, сосали
золотистую кровь поэта…
Стихотворение это, опубликованное полностью в десятом номере альманаха (1973), наделало много шума. Как рассказывал мне когда-то Вадим Петрович Кузнецов, некоторые известные деятели советской культуры расценили его как разжигающее национальную рознь.
Секретарь правления Союза писателей Константин Симонов разослал членам редколлегии альманаха письмо, в котором требовал от них ответа на два вопроса: были ли они ознакомлены со стихотворением до его публикации и как они к нему относятся. Смело встал на защиту редакции и редактора лишь Василий Дмитриевич Федоров, ответив, что видел и одобрил (хотя на самом деле прочел уже опубликованным), тот самый Федоров, которого третировали «бабульки-вахтерши». Остальные члены редколлегии либо отмолчались, либо осудили публикацию.
Самого Смелякова уже не было в живых, и все шишки посыпались на «Молодую гвардию». Объясняться ее тогдашнему директору, а ныне первому секретарю Союза писателей России Валерию Николаевичу Ганичеву пришлось на ковре у первого секретаря Московского городского комитета КПСС Виктора Васильевича Гришина. Тот вроде бы «проявил политическую мудрость», и ничьи головы не полетели.
Тем не менее (возможно, это просто совпадение) десятый номер альманаха оказался последним, где редактором значился Сергей Павлович Красиков. Очень сильно (и это уже наверняка не случайность) изменился в дальнейшем и состав поредевшей редколлегии.
Вот редколлегия альманаха «Поэзия» десятого номера: Абашидзе И. В., Воронько П. Н., Исаев Е. А., Казакова Р. Ф., Костров В. А., Кузнецов В. П., Кулиев К. Ш., Львов М. Д., Максимов М. Д., Межелайтис Э. Б., Наровчатов С. С., Орлов С. С., Ручьев Б. А., Слуцкий Б. А., Соколов В. Н., Сулейменов О. О., Федоров В. Д., Цыбин В. Д., Яшен К. Н.
А вот — одиннадцатого: Кузнецов В. П., Куняев С. Ю., Луконин М. К., Львов М. Д., Наровчатов С. С., Олейник Б. И., Осетров Е. И., Старшинов Н. К., Сулейменов О. О., Федоров В. Д., Фокина О. А.
Впрочем, все вышедшие из редколлегии альманаха поэты остались его постоянными авторами, что с хорошей стороны характеризует как их самих, так и редакцию альманаха.
Во второй раз Старшинов подвергся резкой критике со стороны части творческой интеллигенции, опубликовав в разделе иронической поэзии двадцать пятого выпуска альманаха (1979) стихотворение упомянутого выше Ефима Самоварщикова «Вполне естественно…»:
Один поэт, из наших классиков,
На переделкинском пруду
Лишь мизерных ловил карасиков
На иноземную уду.
Хоть жизнь он вел довольно светскую,
Но послабей писал, чем Блок.
И ясно: на уду на шведскую
Он карпа выудить не смог…
И вот с трибуны VII съезда писателей СССР ленинградская поэтесса Майя Борисова, процитировав это стихотворение, начала яростно обвинять Старшинова в продолжении травли Бориса Пастернака, к тому времени уже двадцать лет как покойного.
В общем-то переделкинский пруд и шведская уда, якобы намекающая на Нобелевскую премию, лишь с большой натяжкой могли дать основания предположить в герое, на мой взгляд, абсолютно невинной эпиграммы именно Бориса Пастернака, да и рыболовом он не был…
Короче говоря, история эта темная, и, чтобы в ней разобраться, необходимо для начала разъяснить личность автора эпиграммы — Ефима Самоварщикова. Дело в том, что он — прямой потомок Козьмы Пруткова по линии коллективного творчества. Однако если в XIX веке за Козьму трудились лишь четыре талантливых автора — Алексей Константинович Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Михайловичи Жемчужниковы, то за Ефима на протяжении его недолгой (ему было пятнадцать лет, когда альманах перестал выходить), но славной жизни — несколько больше — все, обладающие чувством юмора сотрудники, а также друзья альманаха. В разные годы это были, кроме самого Старшинова, Николай Карпов, Александр Аронов, Александр Иванов, Вадим Черняк, Михаил Молчанов, Александр Бобров, Виктор Завадский, Александр Щуплов, Владимир Скиф, Феликс Ефимов, Андрей Мурай, Владилен Прудовский, Владимир Тепляков, Павел Суров, Александр Матюшкин-Герке, Алексей Пьяное, Григорий Медведовский, Геннадий Красников, Павел Калина, Сергей Щербаков и другие.
При этом гонорары получали истинные авторы ефимовских перлов, поскольку у самого Ефима Самоварщикова как у коллективного псевдонима, понятно, не было паспорта. Не возбранялось соавторам Ефима и печатать затем эти перлы под собственными именами, чтобы обессмертить заодно и себя.
Так, сам Старшинов даже включил раздел «Из Самоварщикова» в свое главное, двухтомное Собрание избранных произведений, вышедшее в 1989 году в издательстве «Художественная литература». Есть там и возмутившая отдельных почитателей творчества Бориса Пастернака эпиграмма на незадачливого рыболова.
Историю ее появления Старшинов специально для особо бдительных представителей творческой интеллигенции изложил в очерке «Как я «травил» Бориса Пастернака…»:
«Проживали мы с Владимиром Костровым в Доме творчества в Малеевке и ловили в местном пруду карасей. Попадались нам и довольно крупные. И окуни приличные тоже иногда ловились. И даже карпы. Хотя у нас были самодельные ореховые удилища и самые примитивные рыболовные снасти.
А по соседству с нами ловил карасей Юрий Смирнов (теперь мало кому известный поэт. —
С. Щ). У него и удилища были шведские, и леска японская, и поплавки шведские да итальянские. Полный интернационал. А карась ему попадался самый мелкий.
Вот он и попросил как-то:
— Ребята, дайте мне своих карасей, которые покрупнее, да и карпов.
Я их закопчу и потом вас угощу. А коптильня у меня немецкая…
Раза два мы отдавали их ему. Но ни вяленых, ни копченых ни разу не попробовали. Смирнов объяснил это тем, что вот, мол, жена к нему неожиданно приехала и увезла рыбу в Москву, а потом неожиданно гости нагрянули, пришлось угощать их…
Вот я и решил пошутить над ним, как над слабым рыболовом, которому не помогают и зарубежные снасти. И написал эти стихи.
Карасиков в них я отразил достаточно точно, иноземные снасти — тоже. А вот малеевский пруд никак не входил в размер строки, и я заменил его на переделкинский, поскольку принципиального значения это не имело — дома творчества находились и там, и там.
Но оказалось, что все это не так-то просто…»
Много лет спустя тот самый Владимир Костров (который ловил со Старшиновым карасей в Малеевке), находясь на отдыхе в Ниде, рыбачил на Куршском заливе в одной лодке с известным кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Дожидаясь поклевок, они развлекали друг друга рыбацкими байками, и Костров, к слову, упомянул имя «лучшего рыбака среди поэтов».
— Это тот самый Старшинов, который травил Бориса Пастернака?! Позор ему. Такие вещи нельзя прощать!.. — такова была реакция мастера комедийного жанра…
Вот так рождаются нелепые легенды, которые тянутся за человеком при жизни и после смерти, иногда — при всей комичности их происхождения — нешуточно портящие своим невольным героям репутацию и честное имя…
Но вернемся к Ефиму Самоварщикову. Судя по предваряющей его появление в альманахе статье, задумывался он редакцией в первую очередь как внештатный литературный консультант, разбирающий редакционную почту, в которой преобладали стихи читателей. Стихи эти, по мнению их авторов, были ничем не хуже тех, что являли миру баловни поэтической судьбы, печатавшиеся в альманахе. Порой так оно и случалось — тогда Старшинов с восторгом читал «самотек» окружающим (даже домой носил, чтобы перед женой похвалиться) и делал все возможное, чтобы их опубликовать. Но гораздо чаще редакцию альманаха (как и редакции других печатных органов) атаковали графоманы.
Однако графоман графоману рознь. По определению самого Старшинова, среди них выделяются «талантливые графоманы». Они выдают порой на гора перлы, достойные пера того же Николая Глазкова, правда, в отличие от него не ведая, что творят. Как образец подобного рода поэзии Старшинов любил цитировать такое четверостишие:
Наша родина прекрасна
И цветет, как маков цвет.
Окромя явлений счастья
Никаких явлений нет.
Тот же автор помимо «гражданской лирики» баловал редакцию лирикой любовной:
Мне улыбка тянет губы,
Как прилипла — не сошла,
Потому что моя Люба
Вся из отпуска пришла!
Предъявила свои части,
Ничего не утаив,
И стоит, сияя счастьем:
«Вот они — и все твои!..
Николай Константинович особенно восхищался тем, как одно нестандартно употребленное обобщение «вся» оживляло тривиальную картину возвращения возлюбленной. Он написал автору этих строк письмо, в котором просил разрешения опубликовать их в юмористическом разделе альманаха, но получил в ответ гневную отповедь обиженного в лучших чувствах человека. А ведь тот годами добивался права быть напечатанным на страницах альманаха! Но — на «серьезных» страницах.
Чтобы неожиданно-гениальные и просто нелепо-смешные строки «самотечных» авторов не канули в Лету, Старшинов и сотрудники альманаха затеяли давать на последних страницах каждого выпуска короткие, но «глубокомысленные» рецензии от имени «литературоведа» Ефима Самоварщикова, в которых эти строки выносились на всеобщее обозрение с соответствующими комментариями.
Впервые собственное творчество и рецензии Самоварщикова были явлены миру в восемнадцатом выпуске альманаха (1976). Представляя его читателю в статье «С пером и сердечностью», редакция так объяснила появление в своем коллективе нового сотрудника:
«Редко, очень редко встречается начинающий поэт с отзывчивым и вызывающим у него доверие критиком. Критик, во-первых, сам не пишет стихов. А ежели это так, то, естественно, у молодого поэта может возникнуть сомнение: как же он сумеет научить тому, чего сам не умеет? Во-вторых, критик может либо не все правильно понять — и у автора найдется повод быть недовольным; либо поймет все — тогда у автора и подавно будет повод обижаться.
Взвесив все «за» и «против», учитывая абсолютно справедливые требования, предъявляемые начинающими поэтами к критикам, мы привлекли к работе в альманахе внештатного литературного консультанта и одновременно поэта Ефима Самоварщикова…»
Первый его поэтический шедевр, а одновременно и наставление молодым авторам, назывался «Это очень просто…»:
Я часто думаю об этом
И потому сказать хочу,
Что стать прославленным поэтом
Почти любому по плечу.
Вот край и правда непочатый
Для поэтической души —
Вовсю пиши стихи, печатай,
Вовсю печатай и пиши!
А чтобы вышло гениально,
Побольше нужно мастерства:
Ты просто должен идеально
Расставить знаки и слова…
А вот его первая рецензия, читая которую, не знаешь, чем больше восхищаться: мастерством критика или талантом автора (а может, наоборот: мастерством автора или талантом критика?):
«Дорогой товарищ Г-в! Мне понравилась ваша уверенность в себе, ваш нежный до проникновенности лиризм, что-то большое, щемящее… Вы лирик по натуре, по душевной своей конституции.
На грядках пробилась травка,
Осыпался дождь, прошел.
Пила и топор в отставке,
Забытый стоит козел…
Это хорошо. И козел к месту. Тут ни убавить, ни прибавить. От следующих ваших стихов веет каким-то добрым, интимным чувством:
Этой ночью стало тихо
И не слышно больше жаб.
Лунный лебедь сиротливо
На реке поносит рябь.
Здесь прощупывается развитая мускулатура стиха, задеваются тончайшие нежные струнки читательских душ, создается трогательное настроение. Тема «имярек-лебедь» удивительно удачно продолжается вами и в других стихах:
Наша черемуха-лебедь
Брызгает с веток росу.
Утро Истоминой млеет,
Брачное время в лесу.
Очень точно замечено. Хотя четвертая строка несет в себе заряд нездоровой эротики и диссонирует с общей тональностью произведения.
В письме к нам вы пишете: «Прошу напечатать новые стихи. Думаю, что они Вам понравятся!» Вы угадали: стихи нам понравились. А кроме этого, понравилась ваша уверенность в себе, ваш нежный до проникновенности… (см. начало письма)».
Правда, в те, «застойные» годы далеко не все присылаемые в редакцию откровения могли быть напечатаны даже в юмористическом разделе. Попробовали бы вы тогда опубликовать рецензию на такое, например, заверение ветерана:
Пусть в ногах стресс
и зубы выпали,
решения XXVII съезда
КПСС — выполним!
Подобное бережно хранилось в архиве Самоварщикова вплоть до «эпохи гласности».
Более подробные, хотя и более субъективные сведения о начале славных дней и дел Ефима Самоварщикова содержатся в воспоминаниях Александра Щуплова «Так жили поэты…» (в разделе «Старшиновская шинель»).
* * *
Жизнь тем временем текла своим чередом. В 1975 году Старшинов с семейством переехал в новую, трехкомнатную квартиру, о чем скоро пожалел. Если раньше он жил практически в центре Москвы, в пределах пешей досягаемости и большинства центральных издательств, и ЦДЛ, то теперь перебрался почти на окраину (по тем временам) — в район Тимирязевской академии.
За окном, правда, был чудесный вид: опытное поле тружеников сельскохозяйственной науки, на котором паслись племенные лошади и коровы, напоминая Николаю Константиновичу милое его сердцу Рахманово, но станции метро «Тимирязевская» тогда не было и в помине. На работу в «Молодую гвардию», находящуюся на Сущевской улице, теперь приходилось добираться троллейбусом.
По московским меркам это, может быть, и недалеко, даже пересадок делать не надо, поскольку Тимирязевка и Сущевка расположены на одном шоссе — Дмитровском. Но троллейбусы намного короче поездов метрополитена и ездят не с такой регулярностью, поэтому «брать» их жителям «спальных» районов, желающим попасть утром в центр, а вечером — обратно, приходилось «с боем». Для инвалида войны Старшинова это стало целой проблемой. Причем не столько физической, сколько моральной.
Он вообще не любил, не хотел и не умел толкаться, расталкивать сограждан. Это было его фобией, выражаясь научно. По словам Эммы Антоновны, он и в партию (тогда единственную) не вступал только потому, что «туда лезут все карьеристы», как она, будучи женщиной практичной, его ни уговаривала. Он даже стеснялся своей дружбы с Робертом Рождественским, в то время «главным» официальным поэтом, потому что боялся, как бы кто не подумал, что он дружит с ним из корысти.
Видя его мучения, Эмма Антоновна настояла, чтобы он написал еще одно заявление в Союз писателей «на улучшение жилищных условий».
К слову сказать, в Издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия» (как и в других солидных организациях) в те годы существовала своя строительная программа — строились дома, в которых очередники, определяемые профсоюзным комитетом, получали совершенно бесплатно новое жилье. Для «рядовых» сотрудников строили под Москвой, в Лобне (по Савеловской железной дороге), для «номенклатуры» — в самых престижных районах Москвы под эгидой ЦК ВЛКСМ.
Старшинов, сам будучи почти «номенклатурой», то есть очень уважаемым в издательстве человеком, конечно, мог претендовать на элитное «комсомольское» жилье, но не делал этого. Как выразилась Эмма Антоновна, «ему неудобно было от «Молодой гвардии» просить, потому что там люди стоят в очереди, которые много лет работают в издательстве, и других вариантов получить квартиру у них нет».
Еще об одном случае со Старшиновым из того же ряда, касающемся другого дефицита — автомобиля «Жигули» — поведал мне Виталий Исаченко, работавший тогда в «Молодой гвардии» фотохудожником. Получилось так, что на единственную машину, выделенную комсомолом для работников издательства (точнее, право на ее покупку), было два претендента-очередника: он и Старшинов, который как инвалид войны и вообще человек заслуженный имел преимущество. Но Старшинов сказал, чтобы «открытку» отдали коллеге, а у него есть возможность купить машину и через Союз писателей.
Кстати говоря, сам он за руль никогда не садился — не по этой был части.
— Хотелось бы, да не могу, — говорил он Глебу Паншину. — У меня с техникой нелады. Мне в детстве даже ходики не доверяли заводить. Всегда чего-нибудь да испорчу…
— Как же ты на фронте с пулеметом управлялся?
— Война — другое дело. Она всему научит… А вот Эмка мне даже бибикать в машине не позволяет.
На покупке «копейки» — первой модели «Жигулей» — настояла как раз Эмма Антоновна, когда они еще жили на Малой Грузинской, и управлялась с ней довольно лихо. Потом была «трешка», потом — «шестерка», которая жива и по сию пору.
Надо сказать, финансовое благополучие хотя и пришло к Старшинову гораздо позже, чем ко многим другим деятелям литературы (когда ему перевалило за пятьдесят), но все-таки пришло. Повезло. А ведь многие писатели (и часто лучшие из них) так и умирают в нищете.
Начиная с конца семидесятых годов на него посыпались и другие житейские блага. В 1978 году Литфонд выстроил для своих членов очередной дом рядом с метро «Проспект Мира». По сравнению с муниципальным жильем квартиры в нем можно было считать хоромами: помимо комнат — большие холлы и лоджии, в советском градостроительстве числившиеся как нежилая площадь (на жилую существовали строгие нормы). Один из ордеров на квартиру в этом доме достался Старшинову.
Ездить на работу в «Молодую гвардию» стало совсем близко. К тому же его соседями оказались многие близкие друзья, в том числе Владимир Костров. С ним у Старшинова завязался «матч века» в подкидного дурака. Всего они сыграли более двадцати тысяч партий, победам в которых вели пристальный и сложный подсчет. При этом результаты подсчета у них разнились, у каждого в свою пользу: один утверждал, что ведет по партиям, другой — что по «сетам» (игра до десяти побед в партиях одного из участников). Это «противостояние» служило поводом для постоянных шуток со стороны их общих друзей.
Предвижу недоуменный вопрос: когда же Старшинов успел так много сделать в своей жизни, если столько времени проводил за карточной игрой? Отвечаю: он не смотрел телевизор! Исключение составляли лишь футбольные матчи с участием «Спартака» (сейчас, полагаю, он бы и их смотреть не стал), поскольку был страстным болельщиком. А когда «Спартак» встречался с литовским «Жальгирисом», происходила, по словам Эммы Антоновны, «целая семейная драма».
Еще одним поводом занести Старшинова в Книгу рекордов Гиннесса мог бы стать факт его потрясающих способностей в эпистолярном жанре: говорят, на женский праздник Восьмое марта он писал поздравительные открытки всем знакомым женщинам (не обязательно любимым) в количестве четырехсот штук.
Откровенно говоря, я бы счел это литературной легендой (поскольку сам не написал ни одной), но есть многочисленные свидетельства того, что он отвечал и на всю приходившую на его имя почту, которая была огромной. Ему писали друзья,
ученики, но главное — авторы, авторы, авторы… Поэт Виктор Кирюшин, как-то оказавшийся со Старшиновым на рыбалке, рассказал мне, как глубокой ночью, когда остальные, переговорив все рыбацкие разговоры, уснули, застал мэтра за правкой чьих-то стихов.
— Да вот, в Москве не успел, а не ответить неудобно, — объяснил он изумленному собрату по перу и удочке.
А Владимир Коробов в монографии о Старшинове отметил, что тот «написал о поэзии молодых едва ли не больше, чем все наши критики вместе взятые. Достаточно сказать, что только для составления антологии «Молодые голоса» (вышла в издательстве «Художественная литература» в 1981 году. —
С. Щ.) он внимательнейшим образом прочитал четыреста (!) книг и рукописей». Согласитесь, на фоне четырехсот книг четыреста открыток выглядят не так уж фантастически.
Но это еще далеко не все. Сдав в производство сборник «Молодые голоса», он тут же взялся за другой грандиозный проект: антологию стихов о русской природе. Поднять такую тему одному было не по силам даже Старшинову, поэтому он привлек к составительству своего верного ученика Николая Карпова и только что пришедшего работать в альманах молодого тогда поэта Геннадия Красникова. Общими усилиями (хотя, как пошутил Николай Карпов, порой они напоминали Лебедя, Рака и Щуку из басни Крылова) трехтомная антология была составлена и вышла в издательстве «Современник» под названием «Земли моей лицо живое» в 1982–1984 годах.
А тут подошло сорокалетие Победы в Великой Отечественной войне, и Старшинов принял участие в составлении десятитомного «Венка славы», отвечая за поэтический раздел этого уникального по охвату материала издания. Но этого ему показалось мало: ведь в «Венок славы» включались в основном произведения признанных поэтов. И параллельно он задумывает, составляет и «пробивает» в печать сборник «Поэзия моя, ты — из окопа», в котором участвуют ветераны войны, не ставшие профессиональными литераторами, — благо материала у него за время работы в альманахе накопилось предостаточно.
Раз уж речь зашла о составительстве, нельзя не упомянуть и однотомник Н. А. Некрасова, вышедший в издательстве «Художественная литература» в 1988 году (серия «Русская муза»), — это издание великого национального поэта замечательно не только мелованной бумагой, но и глубокой вступительной статьей Николая Старшинова.
Находил он время и для собственного творчества, хотя в письмах постоянно жаловался на то, что работать удается лишь урывками. Работой же он называл создание собственных произведений, а все остальное — делами, что видно из его письма к Глебу Паншину (7 июля 1977 года):
«…Где-то осенью хочу (в октябре — ноябре) взять отпуск за свой счет и добить пьесу. Дальше уже медлить невозможно. А еще я должен съездить в Болгарию и Молдавию. К Евгению Носову в Курск тоже очень хотел бы попасть с тобой, и на Сейм (река в Курской области. —
С. Щ.). Книжка моя в «Сов. писателе» выйдет в сентябре — октябре. А в «Сов. России» — избранное (я назвал её «Милая мельница») в январе-феврале.
Так что дела-то идут, а вот работать не удается. Лодыри мы, Пуцылы!»
(Борис Пуцыло, выходец из литературного объединения МГУ и частый партнер Глеба Паншина и самого Старшинова по игре в подкидного дурака, отличался необязательностью в исполнении добытой для него Николаем Константиновичем литературной поденщины — рецензий и переводов, которые в те времена давали основной заработок «нераскрутившимся» литераторам. Видимо, поэтому его имя в окружении Старшинова стало нарицательным.)
Пьеса, о которой идет речь в письме, — это драматическая сказка в стихах «Леснянка и Апрель», созданная на фольклорном материале. Работа над ней продолжалась с 1975 по 1980 год. Она — единственный, но весьма успешный драматургический опыт Старшинова. Вскоре после ее первой публикации в журнале «Наш современник» пьеса была поставлена на сцене Одесского театра юного зрителя и не сходила с его подмостков в течение многих лет. Знающие толк в юморе одесситы продолжали смотреть старшиновскую сказку даже после развала СССР (к сожалению, не знаю, как обстоят дела теперь), что служило предметом особой гордости Николая Константиновича и морально поддерживало его в последние годы жизни, совпавшие, увы, с перестроечной вакханалией, когда в числе большинства деятелей русской культуры он оказался за ее (жизни) бортом.
Но это случилось уже в девяностые годы XX столетия. А в восьмидесятые Старшинов был вознагражден наконец-то по заслугам: за пять лет — три ордена и две престижных премии.
Такое обилие наград сразу, скорее всего, определилось тем, что они в Советском Союзе вручались по определенному регламенту: к юбилейным датам страны, крупных организаций или отдельных заслуженных лиц. При этом «квоты» на награды распределялись по организациям и предприятиям, руководители которых совместно с парткомом и профкомом выбирали среди своих подчиненных достойных быть награжденными.
Выступая на юбилейном вечере памяти поэта, посвященном его восьмидесятилетию, генеральный директор «Молодой гвардии» Валентин Федорович Юркин заметил, что при распределении правительственных наград в молодогвардейском коллективе про Николая Константиновича не забывали никогда, хотя «в табели о рангах» занимал он относительно скромное место редактора.
В 1981 году проходил VII съезд советских писателей. В связи с этим государство наградило многих из них орденами и медалями. Удостоился ордена «Знак почета» и Николай Старшинов. Почему не удостоился в 1971 году (V съезд) или в 1976-м (VI съезд)? Возможно, молод еще был для правительственных наград, а может быть, задержало их и отсутствие партбилета.
В 1984-м к собственному шестидесятилетию Старшинов получил орден Дружбы народов, а к пятидесятилетию Союза писателей — медаль «За трудовое отличие».
В 1985 году широко отмечалось сорокалетие Победы в Великой Отечественной войне. Как участник войны, поэт фронтового поколения и составитель поэтического тома в юбилейном многотомнике «Венок Славы» Старшинов был награжден орденом Отечественной войны I степени — очень почетным и, несомненно, заслуженным.
То же касается и премии Ленинского комсомола, присужденной Старшинову двумя годами ранее, в 1983-м, с формулировкой «За произведения последних лет и многолетнюю плодотворную работу с молодыми авторами». Более заслуженной премии Ленинский комсомол, пожалуй, не присуждал никогда, хотя вручалась она, как правило, именно молодым авторам. В числе лауреатов этой премии были и ученики Николая Константиновича, например, Николай Дмитриев, который получил ее еще раньше своего учителя — в 1981-м (и полагаю, не без деятельного участия Старшинова).
В следующем, юбилейном своем году Николай Старшинов стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. Горького, присужденной ему за книгу стихов «Река любви». Выдвигая эту книгу на соискание Государственной премии, руководство Союза писателей, конечно, учитывало тот факт, что в 1984 году Старшинову исполняется шестьдесят лет. В этом возрасте поэту его уровня пора было быть лауреатом. Многие товарищи Николая Константиновича по фронтовому поколению, в том числе Юлия Друнина, давно уже в анкетах к стандартному словосочетанию «член Союза писателей» добавляли весомую фразу «лауреат Государственной премии». Но, с другой стороны, многие не менее достойные премий поэты не получали их вовсе. Стихи их от этого, конечно, хуже не становились.
Вообще подозреваю, что за всеми премиями стоят не столько сами творения, сколько взаимоотношения их творцов с окружающей действительностью. Это вовсе не значит, что сами творения плохи, хотя бывает, конечно, и так (вспомним, к примеру, «Малую землю» Леонида Ильича Брежнева), но вот уж к кому-кому, а к Николаю Константиновичу Старшинову это никак не относилось.
Выдвижение на премию такого уровня, как Государственная, сопровождалось многими формальностями, в том числе обсуждением выдвинутых кандидатур и их творчества в периодической печати (такой советский вариант пиара). Это требовало определенных усилий, но была в этом и положительная сторона: никогда о творчестве Старшинова не было опубликовано так много статей, как тогда.
В самом же государстве в это время назревали большие перемены. «Эпоха застоя» после смерти в 1982 году Леонида Брежнева сменилась «эпохой торжественных похорон» высших руководителей страны: в 1984-м умер Юрий Андропов, в 1985-м — Константин Черненко. Первым секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, впоследствии первый и последний президент СССР. Наступила «эпоха перестройки».
«Жизнь такова, какова она есть, и больше не какова…» Памятуя об этой сентенции Владимира Кострова, я не стану вдаваться в подробности перестроечного периода, хотя, конечно, глупостей тогда было наворочено немерено: то антиалкогольная кампания, то обмен денег, то ускорение, то замораживание вкладов, то хозрасчет… По поводу последнего Старшинов любил напевать частушку:
Перестройка, перестройка…
Я и перестроилась:
Раньше я с одним спала,
Теперь к троим пристроилась.
А Ефим Самоварщиков, пораженный переводом на хозрасчет отхожих мест, разразился таким четверостишием:
О перестройки бодрый шаг! —
Платил в общественной уборной
И, вышедши, смеялся так,
Что заплатить пришлось повторно.
Пока страна стояла в очередях, отоваривая талоны на водку и сахар, литературная жизнь в ней закипела с удвоенной силой.
Этому способствовало то, что идеологические вожжи были ослаблены, и издательства, а также газеты, журналы, альманахи стали печатать все, что раньше если и читалось, то лишь в самиздате. Ницше, Розанов, Замятин, Краснов, Солженицын, Гумилёв, Набоков… — скрытые доселе пласты литературы перевертывали сознание и будили творческую энергию. В знаменитой своим потайным вторым этажом книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту, куда пускали лишь обладателей членских билетов Союза писателей, многие из них оставляли тогда значительную часть своих заработков. В числе постоянных посетителей лавки был и Старшинов.
* * *
Возможно, в одно из таких посещений ему и пришла в голову мысль опубликовать коллекцию своих озорных частушек. В сущности, всякая удачная частушка — озорная, это закон жанра (хотя сам Старшинов выделял еще частушку лирическую). Ее озорство порой основано на игре слов или забавном намеке, как, например, в таком двустишии:
Капуста, капуста, капустица…
Постоит, постоит и опустится…
А порой — на применении ненормативной лексики, проще говоря, мата. Такие Старшинов называл «частушками с картинками», и они составляли значительную часть его собрания. В то же время практически любую частушку можно спеть (и напечатать) в двух вариантах: первозданном и «облагороженном», где ненормативная лексика заменяется нормативной, но при этом минимальная фантазия позволяет вернуть все на свои места. Вот, например, как выглядят некоторые частушки из раздела «Разрешите вас потешить», самого «озорного» в старшиновской коллекции, при переизданиях:
Разрешите вас потешить
И частушки вам пропеть.
Разрешите для начала
На нос валенок надеть.
Когда была молода,
Когда была резва,
Через хату
По канату
Сама к тебе лезла.
Деньги есть, так девки любят,
На кроватку спать кладут.
Денег нет, так всё отрубят
И собакам отдадут!
Понятно, что все выделенные курсивом слова легко и «без потери смысла» могут быть заменены одним-единственным, но непечатным. На мой взгляд, «озорство» при таком «облагораживании» не только не теряется, но даже усиливается. Есть, однако, примеры, когда заменить непечатное слово печатным невозможно, настолько точно оно употреблено. В этих случаях принято ставить многоточие:
В ярославскую тюрьму
Залетели гуленьки.
Залететь-то залетели,
А оттуда —…!
Впервые с таким жанром устного народного творчества, как частушка, Старшинов познакомился в своем любимом Рахманове, где проводил летние каникулы. Там на мощенном досками пятачке перед пожарным сараем почти ежевечерне собиралось местное население (телевизоров-то не было) попеть, поплясать, пообщаться. И никогда дело не обходилось без гармошки и частушек. Недаром гармонисты тогда считались первыми парнями на деревне и сами становились персонажами великого множества частушек.
Когда Старшинов учился в Литературном институте и слушал лекции специалиста по фольклору профессора Сергея Константиновича Шамбинаго, он понял, что частушка, несмотря на ее внешнее «легкомыслие», — это весомая часть народной культуры и к тому же, как всякий фольклор, нуждается в собирании. Большое влияние на него оказали и посвященные частушке труды религиозного мыслителя Павла Александровича Флоренского, определившего частушку как «бродящее вино народной жизни». Возможно, вдохновленный примером Флоренского, издавшего «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда» (1912), он начал их собирать и сам.
Особенно обидным и несправедливым Старшинов полагал то, что в советских сборниках частушек, а также в репертуарах профессиональных исполнителей частушек народной жизнью и не пахло. Ясно было, что сочинялись выдаваемые за народное творчество здравицы в честь родной партии, колхозного строя и т. д. вовсе не народом, а далекими от него ремесленниками. Вот пример такой здравицы:
Позаботилось о нас
Новое правление.
И на ферме введено
Электродоение.
А вот пример истинно народного творчества:
Есть в колхозе птицеферма
И вторая строится.
А колхозник видит яйца,
Когда в бане моется.
Такая откровенная дискредитация близкого его сердцу жанра и привела к тому, что Старшинов стал собирать частушки именно озорные, ни в каких сборниках не отраженные, хотя бы для того, чтобы сохранить их. При этом методы использовал самые разнообразные, вплоть до «провокационных». Например, выступив где-нибудь в российской глубинке со своими стихами, просил организаторов встречи (обычно это были комсомольские секретари) собрать для записи фольклора местных певуний и выставлял угощение — несколько бутылок вина. Поначалу девушки, стесняясь именитого столичного гостя, исполняли частушки сдержанного содержания, но после рюмочки-другой заводились и переходили на привычный репертуар — только успевай записывать.
Просил Старшинов присылать частушки и своих корреспондентов, а таких у него по всему Советскому Союзу было великое множество. Принимали активное участие в пополнении коллекции и ученики Николая Константиновича. Довольно выразительно об этом рассказала Нина Краснова (раздел «Старшиновская шинель»).
Неоднократно Николай Константинович рассказывал о частушке по радио, а радио, особенно в провинции, тогда слушали миллионы. После каждого такого выступления в редакцию на его имя приходили сотни писем с частушками, среди которых попадались истинные шедевры.
Ну и конечно, привозил он богатые уловы частушек из своих рыбацких поездок. Останавливаясь на постой в какой-нибудь деревне, он никогда не забывал поговорить о них с местными жителями.
Старшинов не только собирал частушки, он написал о них серьезное исследование и даже выдвинул научную гипотезу, касающуюся их создателей:
«Хочу обратить внимание на то, что не отмечалось никем из фольклористов. Подавляющее большинство частушек, записанных мной, напеты мне женщинами — в селах, в небольших городках и поселках, на фабриках, где в основном используется их труд. В частности, на текстильной фабрике в Переславле-Залесском, на рязанской чаеразвесочной фабрике.
Больше того, многие частушки и написаны от женского лица. Это дает основание предполагать, что и творцами и распространителями их являются чаще всего женщины. Да-да, и очень одаренные женщины!
В самом деле, сколько мастерства и таланта нужно иметь, чтобы так озвучить строфу, чтобы придать ей, если хотите, такое изящество, пластичность при всем ее озорстве:
Перед мальчиками
Хожу пальчиками.
Перед зрелыми людьми
Хожу белыми грудьми!»
Однако при всем уважении к Николаю Константиновичу и к женщинам, я все же полагаю, что большинство частушек, в том числе от женского лица, написаны озорниками мужского пола. Ведь он и сам при случае сочинял их. Хотя, конечно, и среди женщин попадаются такие озорницы…
Еще в брежневские времена часть частушек из коллекции Старшинова каким-то образом попала за границу (видимо, кто-то из читавших ее скопировал). Сам он узнал об этом, когда Евгений Евтушенко дал ему почитать изданный в Америке русским эмигрантом Владимиром Козловским сборник «Неподцензурная русская частушка». В частушках Старшинов с удивлением узнал не только им собранные, но и им самим сочиненные.
Потому неудивительно, что ему всегда хотелось восстановить историческую справедливость и опубликовать коллекцию под именем ее настоящего собирателя. Когда в конце восьмидесятых годов такая возможность стала реальной, он, естественно, предложил рукопись своего собрания частушек в первую очередь издательству «Молодая гвардия».
Реакция руководства издательства была далеко не однозначной, что, учитывая специфику рукописи, вполне понятно. Например, тогдашний главный редактор Николай Петрович Машовец, к слову сказать, близкий друг Старшинова, был против публикации «неадаптированного» текста частушек. В конце концов нашли компромисс: небольшую часть тиража, предназначенную для академических целей, издать с ненормативной лексикой, а для массового читателя текст все же привести к общепринятым нормам.
Своеобразно отреагировали на рукопись и рядовые сотрудники издательства. Как припомнил Валентин Федорович Юркин, когда дело дошло до корректуры, много лет проработавшие в издательстве женщины-корректоры просто отказались ее вычитывать. Пришлось Старшинову самому идти их уговаривать, что ему, конечно, удалось, тем более что для убедительности он самолично исполнил для них под гармошку некоторые образчики этого озорного народного жанра.
Тем временем наступающий рынок диктовал издательствам свои условия, и в результате почти весь тираж сборника частушек «Я приду на посиделки» (1991) вышел в «академическом» варианте. Тогда это было в новинку, и вокруг сборника возникло много шума. Многие друзья Старшинова из патриотического стана осудили его «за развращение русского народа». Василий Белов утверждал даже, что Старшинов сам сочиняет похабные частушки, а потом выдает за фольклор. Более подробно все эти «тернии» отражены в беседе Геннадия Красникова с Николаем Старшиновым, которая помещена в разделе «Старшиновская шинель».
Станислав Говорухин опубликовал гневную статью, после которой издательство посетили работники прокуратуры, чтобы выяснить, нет ли здесь состава преступления против нравственности и не следует ли завести уголовное дело против издательства.
Николай Константинович страшно переживал, поскольку не любил доставлять кому-либо неприятности. Но больше всего его расстраивало то, что за несколькими матерщинными частушками (а их на самом деле в коллекции меньшинство) критики не хотят видеть частушек просто гениальных.
А вот кому издание озорных частушек принесло много радости, так это пятилетнему внуку Николая Константиновича Антону. Нет, читать он еще не умел, зато дедушка подружился с самим Юрием Никулиным, и теперь Антон мог хоть каждый день ходить в цирк.
Да, выдающийся комик сразу разглядел в озорных частушках не похабщину, а здоровый народный юмор. Вот как вспоминает свое знакомство с ним Старшинов:
«Как-то пришел я домой с работы, а жена мне говорит:
— Тебе тут уже несколько раз звонил директор цирка Юрий Никулин. Он даже оставил свои телефоны — служебный, московский домашний и дачный. Просил позвонить ему.
Пока мы с ней гадали, по какому поводу я понадобился замечательному актеру (я-то знал и любил его, прекрасного артиста кино и цирка, а он-то меня едва ли знал), раздался звонок телефона:
— Николай Константинович, с вами говорит Юрий Владимирович Никулин. У меня и Эмиля Эмильевича Кио есть к вам большая просьба… Дело в том, что вчера нам дали на два часа книжечку частушек, составленную вами. Так мы, когда читали ее, все два часа хохотали… Вот у меня и у Кио к вам просьба: помогите нам приобрести эту книжечку… (Нетрудно представить, какой популярностью она пользовалась, если даже Никулину ее одолжили лишь на два часа. —
С. Щ.)
На следующий день Никулин и Кио приехали в альманах «Поэзия» издательства «Молодая гвардия», где я тогда работал. Юрий Владимирович подарил мне книжку «200 анекдотов от Никулина», а я ему и Кио вручил по книжке частушек.
К одному из готовящихся к изданию сборников частушек, составленных мной, он написал краткое вступление: «Мы с Николаем Старшиновым — родственные души: я всю жизнь собираю анекдоты, а он — частушки».
Так молодогвардейский сборник озорных частушек стал лишь первой ласточкой, за которой последовали другие. Закон рынка: спрос рождает предложения, которые посыпались к Старшинову от различных издательств…
* * *
Времена стремительно менялись, и альманах «Поэзия» старался идти в ногу со временем. На его страницах вместо обязательных когда-то стихов о комсомольских стройках и поэзии братских республик стали печататься духовные стихи и поэзия русского зарубежья, появилась новая рубрика «Философские беседы». Наряду со своими постоянными, «проверенными» авторами альманах начал широко представлять авангардную поэзию: метафористов, метаметафористов, иронистов, верлибристов, концептуалистов и т. д. Это, по словам Николая Константиновича, значительно разнообразило поэзию альманаха, давало возможность молодым поэтам разных направлений высказываться, «соревноваться»…
Впрочем, основные заботы по альманаху в конце восьмидесятых годов Старшинов переложил на плечи Геннадия Красникова, который с 1978 года работал вместе с Николаем Константиновичем вплоть до закрытия альманаха, а себе оставил главным образом представительские функции: прием авторов, проведение вечеров и встреч с читателями, организационные вопросы. Объяснял он это, во-первых, возрастом (силы человеческие небеспредельны, а работы помимо альманаха невпроворот) и, во-вторых, пользой дела, справедливо полагая, что в новых условиях молодой и энергичный коллега (хотя это сухое слово плохо подходит для определения их отношений) принесет гораздо больше пользы изданию, если не опекать его чрезмерно.
Так, удачно дополняя один другого, они смогли сохранить альманах «Поэзия» в перестроечные годы не только как издание, но и как центр духовного притяжения поэтов (подробнее об этом — в воспоминаниях Нины Красновой). Любопытен, кстати, подбор имен в последнем составе редколлегии, сложившейся незадолго до закрытия альманаха: Евгений Витковский, Глеб Горбовский, Ольга Ермолаева, Василий Казанцев, Григорий Калюжный, Виктор Кирюшин, Виталий Коржиков, Владимир Костров, Геннадий Красников, Новелла Матвеева, Борис Олейник, Александр Сенкевич, Юрий Сорокин, Николай Старшинов. Как видим, здесь много новых фигур, среди которых поэты не только разных литературных школ, но порой и мировоззренческих направлений.
И все же альманах закрылся. Не помогли ни имя Старшинова, ни энергия Красникова. Почему? Ответ в пророческих строках Ефима Самоварщикова:
Исчезла бумага,
Нигде не достать —
Даже в издательских коридорах.
Но я не из тех,
Кого можно сломать, —
Буду писать на заборах!
Они напечатаны в 59-м выпуске альманаха. Это было последнее публичное выступление автора нетленных афоризмов: 60-й, юбилейный номер альманаха «Поэзия» так и не вышел, хотя был полностью подготовлен к печати. Что поделаешь, если в 1991 году в стране, в связи с ее перестройкой, кончилась бумага… Тогда происходили вещи и пострашнее — кончилась сама страна…
31 декабря 1991 года Старшинов, как записано в трудовой книжке, был «освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию».
Можно только добавить к этому, что альманах «Поэзия» — это отдельная и значительная страница в истории русской литературы второй половины XX столетия, отразившая важнейшие тенденции литературного процесса той эпохи. Без публикаций альманаха не состоялись бы многие поэтические явления и имена — не случайно в литературоведческих исследованиях как в России, так и за рубежом часто можно встретить ссылки на опубликованные в нем материалы. Потому не сомневаюсь, что история самого альманаха, собиравшего вокруг себя творческие силы многих эстетических направлений и многих поэтических поколений, будет еще написана.
А лучше — продолжена!
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
В одном из своих поздних рассказов, который называется «Есть такое место на земле», Старшинов признался в своей мечте поселиться однажды на берегу озера:
«Я много лет мечтал, что найду его, оно должно быть.
Оно даже снилось мне в детстве, в юности и в зрелом возрасте!
За эти годы мне встречались во время моих многочисленных поездок на рыбалки очень красивые места, но такого, о каком я все время думал, не попадалось. И я уже потерял всякую надежду на это.
Но вот…
Дом поэта Владимира Соловьева стоит в селе Осечно на берегу озера Судомля, в тридцати километрах от Вышнего Волочка…
Выходишь из дома на крыльцо, перед тобой — стройная колокольня Троицкого собора, возведенного здесь два с половиной века назад. В ясную, тихую погоду его отражение с куполами и звонницей покоится на всей голубой глади озера.
Посмотришь направо — там огород. И за оградой, через два десятка картофельных гряд — берег озера. Прямо в огороде растут камыши, над водой планируют стрекозы. Рядом с дощатым мостиком стоит лодка, а около нее цветут белые лилии и кувшинки. Стаи малька вьются вокруг лодки. Нет-нет да и всплеснет рядом крупная рыба.
Хочешь, лови ее прямо с мостка, из своего огорода, хочешь, садись в лодку и поезжай в любой уголок озера.
На Судомле есть несколько островков, заросших ольхой, ивняком, березами. На противоположном берегу, на холмах — сосновый бор. Все же такое место на земле нашлось!»
С Владимиром Соловьевым, по утверждению Эммы Антоновны, Старшинов познакомился на каком-то областном совещании писателей, куда его часто приглашали как известного селекционера поэтических талантов. Поскольку Вышний Волочек находится в Тверской области, надо полагать, совещались именно тверские писатели. Но это в об-щем-то не важно. Важно то, что Соловьев пригласил Старшинова на рыбалку. А его, как мы знаем, хлебом не корми — позови на рыбалку в новые места.
Но на этот раз рыбалка переросла в дело более серьезное. Очарованный красотой здешних мест, Старшинов загорелся мыслью воплотить свою давнюю мечту в жизнь: купить дом на берегу озера. Именно этого озера.
И вот однажды, когда он вернулся из очередной командировки, Эмма Антоновна сообщила ему о телефонном звонке Соловьева. Тот просил передать, что в их деревне продается дом. У нее, как она призналась, и в мыслях не было, что дом присматривает сам Николай Константинович.
В это время у них была казенная дача во Внукове (когда в знаменитом дачном поселке писателей Переделкине стало слишком тесно, Литфонд начал строить дачи для своих новых заслуженных членов там). Кроме того, Старшиновы осваивали по мере сил собственный дачный участок на Истринском водохранилище, где в восьмидесятые годы получили земельные наделы в шесть соток многие московские писатели.
Казалось бы, что еще нужно?! Потому идея главы семьи купить дом в тверской деревне за четыреста верст от Москвы поначалу встретила сильное противодействие со стороны домашних. Тем более что происходило это уже в 1991 году, когда бедлам в стране был такой, о котором вспомнить страшно, и трата денег на приобретение сомнительной недвижимости действительно представлялась верхом непрактичности.
Но Николай Константинович настоял на своем. Думаю, он понимал или чувствовал, что в наступившие времена ему необходимо «место на земле», где можно укрыться от окружающей действительности. А действительность была чудовищной. В конце 1991 года он пережил одну за другой три личных трагедии: смерть Юлии Друниной, окончательный развал Советского Союза и закрытие альманаха «Поэзия».
Самоубийство Юлии Друниной потрясло тогда многих. Любимая читателями, материально благополучная, горячо встретившая перестройку, обласканная властями, депутат Верховного Совета, в итоге она вернула депутатский мандат и ушла из жизни, написав в одном из последних своих стихотворений «Судный час» такие горькие строки:
…Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Конечно, самоубийство — грех. Но в данном случае это был поступок генерала, проигравшего битву.
Все, во что верило ее поколение и за что стояло насмерть в схватке с фашизмом, рухнуло в одночасье. Да, коммунистическая идея в историческом масштабе себя не оправдала. И все же блаженны те поэты военного поколения, которые умерли, как Семен Гудзенко, «от старых ран», не дожив до судного часа их страны.
Для Николая Константиновича эта смерть стала тяжелым ударом, но перенес он его мужественно, смиряя скорбь делами: вместе с дочерью Леной ездил на организованные поклонниками творчества Друниной вечера ее памяти, написал о ней книгу.
8 декабря 1991 года (через две недели после похорон Юлии Друниной) в Беловежской Пуще в Белоруссии состоялась встреча президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии С. С. Шушкевича, на которой они подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании на его территории Содружества Независимых Государств (СНГ). И это стало официальной причиной исчезновения с карты мира Союза Советских Социалистических Республик.
А еще через две недели ввиду закрытия альманаха «Поэзия» в издательстве был подписан приказ об освобождении Старшинова от должности в связи с выходом на пенсию. В мировом масштабе эти события, конечно, несоизмеримы, но в рассказе Эммы Антоновны о том времени они стоят в одном ряду:
«Он очень переживал, не передать словами, закрытие альманаха. Я думаю, это подорвало даже в какой-то мере его здоровье. Во-первых, он стал не при деле, стал никем. Журналы закрывались, издательства разваливались. Во-вторых, я ему говорила:
— Колюш, да брось ты, сиди спокойно работай, не обращай внимания, что происходит в стране. Когда-нибудь все это утрясется.
— Нет, я не ожидал, что такое может быть, что рухнет Советский Союз.
Главное, он очень болезненно пережил отделение Литвы. Сказал: «Я больше туда не поеду». Обиделся. Так и не ездил потом…»
Нельзя, кстати, сказать, что Старшинов остался совсем не при деле. Он по-прежнему вел семинар в Литературном институте, составлял книги для тех издательств, которые еще оставались на плаву, продолжал, несмотря ни на что, ездить по стране (то в командировки от Союза писателей, то по приглашениям учеников), много писал. Правда, со стихов перешел на прозу. В 1994 году в редакционно-издательской фирме «РОЙ» вышла книга его литературных мемуаров «Лица, лики и личины», куда вошла и серьезная литературоведческая работа «Н. Некрасов и А. Блок».
А стихи теперь случались редко, и все больше горькие, как это стихотворение, написанное в 1994 году и названное «Песня» (можно сказать, лебединая):
Расшумелось сине море.
Возле моря я бреду.
У меня такое горе,
Что я места не найду.
Впереди поселок дачный
Крыши поднял в синеву.
Но хожу я мрачный-мрачный —
Что живу, что не живу.
Как я скорбь свою осилю,
Как потомки нас простят:
На глазах у всех Россию
Черны вороны когтят.
Днем и ночью, днем и ночью
Рвут ее, впадая в хмель…
И летят по миру клочья
Наших дедовских земель.
Расшумелось сине море,
Раскричалось воронье…
Ой ты, горе, мое горе,
Горе горькое мое.
Что касается моря, оно здесь — литературный прием. Последний раз Старшинов был на море в конце восьмидесятых годов, когда вместе с семьей отдыхал в Ниде. Отдыхавшие там же литовские поэты, его постаревшие ровесники, стихи которых он переводил когда-то ва множестве, теперь с надеждой смотрели на Запад (где никто и никогда переводить их стихи не станет). Но к нему они по-прежнему относились с искренней симпатией: возили на рыбалку, катали на яхтах и вообще считали своим (как и теперь считают, если включили его имя в школьную программу).
Выйдя же на пенсию, Старшинов с ранней весны до поздней осени (как когда-то в литовской деревне Иодгальвей) стал жить в тверской деревне Лукино на берегу открытого им для себя под конец жизни озера Судомля. За несколько бутылок водки местный умелец сладил ему плоскодонку, на которой он бороздил озерные просторы со своей щуколовкой (удочкой, приспособленной для ловли щук на живца).
В эти последние его годы он, по словам домашних, перестал знать меру в своем увлечении рыбалкой. Вставал в четыре утра и уплывал на озеро. Возвращался часа в два-три пополудни, обедал, два-три часа спал и снова отправлялся на озеро. За сезон он вылавливал несколько сотен щук и обгорал на солнце так, что открытыми частями тела — лицом и руками — напоминал негра преклонных годов, выучившего русский. Привозимый улов раздавал местным бабушкам; а у соседской кошки выработался условный рефлекс — встречать его на мостках, куда причаливалась лодка, в ожидании своей доли добычи.
Не обходилась его деревенская жизнь и без крестьянских забот. Так, весной 1992 года, когда свобода в очередной раз, следуя пророчеству Велимира Хлебникова, пришла «нагая» и старшее поколение россиян всерьез опасалось возвращения голодных времен, Старшиновы засадили весь огород картошкой, выращивать которую оставили главу семейства. Вскоре, как рассказывала Эмма Антоновна, Николай Константинович позвонил ей в Москву с требованием выслать подмогу, поскольку сам с прополкой такого количества грядок уже не справлялся.
Завершилась фермерская карьера Старшинова курьезным случаем с выпалыванием фасоли, которую Рута, осваивающая азы сельскохозяйственной науки, посадила по картофелю. После этого от крестьянской повинности его освободили, и он с удовольствием вернулся к своим удочкам и «Ундервуду», который непременно возил с собой из Москвы в деревню и обратно.
В эти годы он продолжал работать над литературными воспоминаниями, наконец-то сел за «Записки сержанта», написать которые собирался много лет, да все времени не хватало. Не переставал он следить и за литературным процессом, который в то смутное время хотя и впал в кому, но периодически подавал признаки жизни.
Один из таких всплесков литературной жизни в виде роскошно изданной антологии русской поэзии «Строфы века» (1995), составленной Евгением Евтушенко, настолько возмутил Старшинова предвзятостью отбора имен и произведений, оплевывающих Россию, — в духе перестроечного нигилизма, что он откликнулся на это событие статьей «Фальсификация русской поэзии», где обвинил составителя в русофобии, и дополнил ее эпиграммой:
Полухохол, полуполяк,
Полулатыш, полутатарин,
Полурусак, полупруссак,
Полупростак, полумастак,
Да что ж ты, мать твою растак,
России так неблагодарен?!
Зато много добрых слов написал Старшинов о своем новом земляке скульпторе Николае Андреевиче Силисе (тоже полулатыше, причем в прямом смысле слова, по отцу), который большую часть года проживал на берегу того же озера Судомля в расположенной рядом с Лукино деревне Глебцево. Поводом для этого стало не столько творчество известного скульптора, сколько его деятельность «местного значения», но гражданственного масштаба: на свои деньги тот покрыл крышу якобы охраняемого государством Троицкого собора, чтобы спасти от окончательного разрушения его фрески, восстановил регулирующую уровень озера плотину и —
словом! — спас несколько реликтовых сосен. Последний эпизод заслуживает цитирования, поскольку возвращает веру в человечность людей:
«На озере Судомля есть исключительный по красоте уголок, называется он Вересковый Носок. Верес (можжевельник) уж вытравлен кислотными дождями. Но сохранилось здесь пять огромных реликтовых сосен.
Это место давно облюбовали туристы и рыболовы. И ведут они себя здесь по-дикарски, хотя и приезжают сюда на современных автомобилях и мотоциклах. Круглосуточно жгут костры, вырубают для них молодую поросль. Добрались и до сосен. Отщипывают от самой большой из них кору и смолистую древесину.
Чтобы спасти деревья, Николай Андреевич купил металлическую сетку и обмотал ею бронзовые стволы сосен. Но через три дня сетку эту похитили, видимо, для крольчатников или курятников.
Уже совсем отчаявшись спасти деревья, Силис покрасил серой краской пораненное место ствола и написал на нем: «Не губите!».
Прошло три года. Сосен с тех пор больше никто не трогал…»
Лично у меня слезы на глазах наворачиваются от этого «не губите!».
А у Старшинова наворачивались на глазах слезы, когда он смотрел на беспробудное пьянство своих, уже можно сказать, односельчан. В очерках того периода он с горечью пишет о том, что в этих дивных местах, богатых дичью, рыбой, ягодами, грибами, где, казалось бы, живи и радуйся, жизнь местного населения сводится к не приносящему достатка изнурительному крестьянскому труду и водке, которая здесь и цель (похмелиться), и средство (платеж). Но больше всего его угнетало то, что мужики даже песен не поют, когда напиваются.
Вот ведь как бывает: сам немало подруживший с зеленым змием, в последние годы жизни Старшинов стал апологетом трезвости. И это не поза «завязавшего» и не старческая причуда — просто до этих пор он не встречался с таким повальным и безысходным пьянством, какое захлестнуло русскую глубинку в постперестроечный период. Не случайно самое последнее из написанных им стихотворений именно об этом:
От пьянки нету голосу
И волосы — копной.
Идет с гулянки по лесу
Иванушка хмельной.
Вот было дело дельное —
Не держит и земля:
Зарплата двухнедельная
Пропита до рубля.
И от его транзистора
Гудут и лес, и дол.
Гремит вовсю неистово
Заморский рок-н-ролл!
Какого рода-племени,
И сам он позабыл…
И, как знаменье времени,
Растет сынок-дебил.
И дочь родная Аннушка
Едва-едва жива…
Иванушка, Иванушка,
Иванушка, Ива-а-а…
Больны твои ребятушки —
И твой сынок, и дочь.
Самой России-матушке,
И той совсем невмочь.
Когда же ты опомнишься?
Возьмешься ли за ум?
Когда же ты исполнишься
Былых достойных дум?
И, протрезвев, оглянешься,
Хмельная голова?
Или таким останешься,
Иванушка, Ива-а-а?..
(«От пьянки нету голосу…», 1995)
В сущности, это всем нам, Иванушкам, последнее предупреждение…
* * *
А в начале августа 1997 года была его последняя рыбалка. Когда он вытаскивал в лодку щуку, с ним случился инсульт. Тело парализовало, но, слава Богу, в какой-то степени сохранилась речь, и он смог окликнуть проплывавших мимо рыбаков.
Потом была больница в Вышнем Волочке, где приехавшим навестить его друзьям он как истинный рыбак все пытался показать руками, какой большой оказалась его последняя щука.
Потом был госпиталь ветеранов в Медведкове, где он услышал впервые прозвучавшую по радио песню «Лодочка» («Все твердят, что ты хорошая»). Песню эту написал на его стихи композитор Анатолий Шамардин, он же и исполнил ее в программе «Москва и москвичи», «пробившись» в эфир ради своего соавтора и старшего друга. В воспоминаниях он пишет, что, слушая песню, Николай Константинович, несмотря на мучившие его боли, был счастлив. И я думаю, что это не преувеличение, к которым обычно склонны авторы, говоря о собственных произведениях.
Дело в том, что Старшинов всегда испытывал белую зависть к тем своим друзьям и товарищам по перу, чьи стихи становились хорошими песнями. Им, например, написана работа о творчестве Алексея Фатьянова, в которой доказывается право известного поэта-песенника считаться просто большим поэтом уже на том основании, что песни на его стихи любимы народом и стали поистине народными. А воспоминания Старшинова о Евгении Долматовском, авторе текста особо любимой им песни «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы…» заканчиваются так: «Сам я был бы счастлив, если бы хоть одна моя песня оказалась такой долгожительницей…»
По меньшей мере одна из его песен такой долгожительницей оказалась. Это ставшее песней стихотворение «Голуби» (по его словам, «шутливое, легковесное»), в конце пятидесятых годов опубликованное в журнале «Юность»:
Не спугните… Ради Бога, тише!
Голуби целуются на крыше.
Вот она, сама любовь, ликует, —
Голубок с голубкою воркует.
Он глаза от счастья закрывает,
Обо всем на свете забывает…
Мы с тобою люди, человеки,
И притом живем в двадцатом веке.
Я же, как дикарь, сегодня замер
Пред твоими знойными глазами.
Волосы твои рукою глажу —
С непокорными никак не слажу.
Я тебя целую, дорогую…
А давно ли целовал другую,
Самую любимую на свете?
Голуби, пожалуйста, ответьте,
Голуби, скажите, что такое?
Что с моей неверною рукою,
Что с моими грешными губами?
Разве так меж вами, голубями?
Разве так случается, скажите,
В вашем голубином общежитье?
Автор музыки к этой песне, судя пр всему, неизвестен, но тогда ее как-то сразу запела молодежь на московских улицах. С этим даже связан забавный эпизод, когда Старшинов, оказавшись поздно вечером в районе Белорусского вокзала без сигарет, попросил «закурить» у компании юношей и девушек, распевавшей на всю площадь «Голубей». Возможно, вид у него был не слишком презентабельный (наверное, шел из ЦДЛ), но только компания в резкой форме попросила его удалиться.
— Мою песню поете, а закурить не даете! — возмутился Старшинов, после чего его как самозванца едва не побили, но он вовремя прикрылся оказавшейся в кармане книжкой с собственным портретом и напечатанным в ней текстом песни. После этого его не только угостили сигаретой, но почти под руки повели к пригородной электричке, чтобы взять с собой в Звенигород, куда компания направлялась продолжать гулянье. Насилу он вырвался из дружественных рук своих неожиданных поклонников…
А уже в наше время дочь поэта Рута, слушая как-то передачу радио «Шансон», где слушателям предлагали присылать заявки на забытые теперь, но любимые когда-то песни, позвонила и попросила редакцию разыскать и передать песню, начинающуюся словами: «Не спугните… Ради Бога, тише! / Голуби целуются на крыше…». К чести редакции, песня была тут же отыскана, правда, в исполнении Аркадия Северного, больше известного своим «блатным» репертуаром. В соответствии со своим амплуа текст певец переделал на свой манер, например, припев звучит так: «Не шумите,
гады, ради Бога, тише…» Но, видимо, это обратная сторона популярности, и обижаться на такие интерпретации не имеет смысла. Зато внук поэта Антон заводил мне эту песню в цифровом формате, то есть на диске, который проигрывается через компьютер. Вот она — не оборвавшаяся связь времен…
К сожалению, записей других популярных в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века песен Старшинова: «Река любви» и «Река Ловать» («От Витимских скал / До Великих Лук/Меж тобой и мной — / Океан разлук…»), мне разыскать не удалось (а может, плохо искал). Катушечные магнитофоны, на которые их когда-то записывали, давно отжили свой век, а фондовые записи, в советские времена свято хранившиеся в архивах Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, в наше время частью разворованы, а частью просто пропали в бедламе перестройки…
Но вернемся к Николаю Константиновичу. К зиме 1997 года он немного оправился от первого инсульта и свой последний, семьдесят третий день рождения встретил дома. Тем, кто его навещал, жаловался на адские боли и просил Эмму Антоновну завести им «Лодочку»:
Камышами да осокою
Речка вся позаросла.
А весной, с водой высокою
Наша лодка уплыла…
Река, даже не конкретная, а как обозначение текущей воды, была не только пожизненной любовью Старшинова — она была его философией: «Всё течет и всё кончается…»
В первых числах нового года случился второй инсульт, после которого он на несколько дней впал в кому. Потом наступило кратковременное облегчение, и в ночь на 6 февраля 1998 года Николая Константиновича не стало.
Проститься с поэтом на гражданскую панихиду в Центральный дом литераторов и на отпевание в церковь Большого Вознесения у Никитских Ворот, где когда-то венчался Пушкин, пришло столько разных людей, что ни зал Дома литераторов, ни церковь сразу всех не вмещали — заходили по очереди.
В первый раз собрались вместе несколько поколений его учеников: выходцы из литературного объединения МГУ, выпускники Литературного института разных лет, участники самых разных совещаний молодых писателей, которых он выводил в большую литературу. Встретившись, они пересчитали свои ряды и с горечью убедились, что в них уже не хватает многих и многих, в том числе самых близких учителю: Владимира Павлинова, Евгения Храмова, Олега Дмитриева, Геннадия Касмынина, Павла Калины…
Похоронили Николая Константиновича Старшинова на Троекуровском кладбище, где покоятся заслуженные москвичи: генералы, народные артисты, выдающиеся ученые, известные писатели, ну а теперь и «успешные» бизнесмены. Новые ряды памятников прирастают так быстро, что оказавшись там в мае 2003 года в связи с другим печальным событием — хоронили поэта Вадима Кузнецова, друга и коллегу Старшинова по «Молодой гвардии», — хотел я на обратном пути к автобусам поклониться могиле Николая Константиновича, но самостоятельно не сумел ее найти. Заблудился среди памятников почившим генералам, которые здесь преобладают.
А на граните, под которым покоится прах «гвардии рядового» Николая Старшинова, ни воинского звания, ни звания «поэт» не высечено. Только имя, даты рождения и смерти да крест, как положено крещеному. Да еще веточка рябины. Так решили близкие, рассудив, что не генералами и не поэтами встречают люди свой последний час, а рабами Божьими.
* * *
Когда Николая Константиновича не стало, Эмма Антоновна, по ее словам, «была очень злая на этот дом» у озера, ведь именно в этих местах у него на рыбалке случился инсульт. Она даже хотела продать дом (и покупатель нашелся), но не смогла — приросла уже душой к здешним местам. Так теперь и проводит каждое лето в тверской деревне, проклиная ее под осень и мечтая о ней всю зиму.
А Рута стала заядлым рыболовом! Недаром уже в десятилетнем возрасте она обловила на Дону всю писательскую делегацию, о чем Старшинов рассказал в книге «Моя любовь и страсть — рыбалка». Теперь, вырвавшись из Москвы в Лукино. она первым делом садится в отцовскую плоскодонку и выезжает на озеро с удочками. Вот что значит наследственность!
Дали о себе знать гены (еще бы!) и у старшей дочери поэта — Елены Николаевны. В зрелом уже возрасте она вдруг начала писать стихи. В художественном плане они пока уступают стихам ее родителей, но в историческом — очень точны, по крайней мере одно из них, с названием /Отец»:
Он лодку вел протокою,
Заросшею осокою.
По озеру Судомля,
Что плещется у дома.
И рано-рано утречком
Закидывал он удочку.
Поэт он был немалый,
Да и рыбак бывалый.
Чуть свет переступал порог,
Чтоб видеть над водой парок.
Теченье, мысли так тихи…
Клевали рыба и стихи.
И хоть совсем не русый,
Мужик насквозь он русский.
И то навзрыд, то как огонь,
В руках его жила гармонь.
Навек его пленили
Любовь и грусть России.
И строки с нежной силой
Ей отдавал, красивой.
А позвала набатом,
И он ушел солдатом.
С тех пор застыли колкие
Шрапнели в нем осколки.
Прихрамывал, но ходкой
Была его походка.
Порывист, как мальчишка,
А семьдесят уж с лишком.
Он смолоду буянил,
Подвыпив в ресторане.
Такого песняка давал,
А после сам и завязал.
И, невеликий ростом,
Простой был, да непрост он.
И, не скупясь, душою
Одаривал большою.
И год за годом снова
Учил таланты слову.
Не оскудеть поэтами
Родной земле поэтому.
Как горько — став уже седым,
Отчизны вновь увидел дым.
Продажна и разнузданна,
Была им Русь не узнана.
И словно ранил в спину нож,
Когда совсем его не ждешь.
И ныла непрестанно
В душе и сердце рана.
Рыбачил он, как понял вдруг,
Что с ним удар — ни ног, ни рук
Уж нет. Но щуку, что поймал,
Он телом в лодке удержал.
Полгода он, бездвижный, угасал,
Но все ж успел — и книгу дописал.
Так, до последнего боец,
С бедой сражался мой отец.
И память поплыла по водам синим…
Прощается ветла, осот, осинник.
Он в лодочке — ныряет поплавок.
И вот последний, в никуда, рывок.
Колюша, Колюня, Колюшка,
Он рос озорной, как частушка,
В семье, по-крестьянски большой,
Поскребыш, сыночек меньшой.
РЕБЯТА, БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Это были последние слова умирающего поэта, обращенные к пришедшим навестить его друзьям. По сути, это его духовное завещание, обращенное ко всем нам. Завещание, которое подтверждено его творчеством. И конечно, понимать его следует шире, чем заботу только о лесе. Речь идет о живой природе вообще.
Уже в 1946-м послевоенном году, когда страна восстанавливала разрушенные города и партия в приказном порядке настраивала писателей на воспевание мирного строительства, Старшинов пишет стихотворение «Муравьи», в котором вандалом объявляется не враг или чуждая идеология (что в контексте времени было бы логично), но человечество в целом:
Над головой дожди звенели,
В лесу терялись колеи.
И вот в тени косматой ели
Закопошились муравьи.
Они спешат своей тропою
И подбирают на пути
Былинку,
Высохшую хвою
И все, что в силах унести.
Торжественно, благоговейно
Тащили в кучу этот хлам.
И вот воздвигли муравейник,
Как люди воздвигают храм.
Он встал незыблемой скалою
На муравьиные века…
А ты сровнял его с землею
Одним ударом каблука.
Удар каблука — может быть, даже случайный, уничтожающий целый мир, со своим храмом, со своими «муравьиными» веками… А ведь еще совсем недавно и автор, и муравей были равны перед «ударом каблука» в виде снаряда или мины, деля один окоп:
В бруствере ход муравей-землекоп
Вырыл себе для жилья…
Видишь, сегодня и ты в свой окоп
Юность зарылась моя.
(«В бруствере ход муравей-землекоп…», 1943)
Теперь трудно сказать, чей «удар каблука» явился толчком к написанию стихотворения — самого ли автора или кого-то, кто находился в лесу рядом с ним, а может, поводом послужил уже разрушенный кем-то муравейник. Да это в данном случае и не важно. Кто бы ни был прототипом разрушителя муравьиного храма (а шире — храма природы), героем, вернее, антигероем стихотворения стал царь природы — человек. Старшинов осуждает человека (в том числе и себя), который «проходит как хозяин по широкой Родине своей» (М. Исаковский), не смотря при этом под ноги. Осуждает не декларативно, а просто констатирует факт совершения явно неблаговидного поступка.
Есть в литературоведении такое понятие — «основной эмоциональный тон». Оно введено в обиход Б. Корманом в монографии «Лирика Н. А. Некрасова»: «Подобно тому, как в отдельном лирическом стихотворении есть единство настроения, за которым стоит известная мысль, так в совокупности лирических стихотворений поэта есть более высокое «сквозное» единство эмоционального тона, за которым стоит известное миросозерцание. Поэтому в ходе анализа лирики поэта необходимо определить основной эмоциональный тон и стоящее за ним отношение к действительности».
Основной эмоциональный тон самого Н. А. Некрасова Б. Корман определил так: «В эмоциональном тоне лирики Некрасова соединились чувство всеобнимающей любви к людям труда и постоянное ощущение своей вины перед ними…»
Так вот, если в данном определении
людей труда заменить на
живую природу, то оно идеально подойдет к лирике Старшинова. (Конечно, и к людям труда он относился с любовью, но чувства вины перед ними не испытывал, будучи сам великим тружеником.)
Эта совпадающая главная нота в эмоциональных тонах двух поэтов — чувство вины перед слабым из-за невозможности его защитить, — вероятно, определила и тот факт, что именно лирику Н. А. Некрасова Старшинов считал эталоном гражданственности и пропагандировал в течение всей своей творческой и общественной деятельности.
Впрочем, не думаю, что высказанная им в стихотворении «Муравьи» мысль о бесправии природы перед человеком тогда (в 1946-м) отражала осознанную позицию поэта. Ведь в первой его книге, вышедшей в 1951 году, было немало стихов, наполненных пафосом обуздания природы вполне в духе времени. Таких, например:
На сотни верст разбужено пространство:
и Днепр, и Волга, и Амударья
зажгут огни своих электростанций…
Как ты могуча,
родина моя!
(«Родина»)
А вот такого стихотворения, как «Муравьи», в котором вчерашний сержант «силой гениального чутья» угадал основную проблему современности, в ней не было. Да и быть по тем временам не могло. По прошествии времени Старшинов отошел от создания идеологически заряженных опусов на тему покорения природы и начал писать на тему ее защиты не только осознанно, но и публицистически заостренно:
Видно, чего-то мы перемудрили,
Стали чего-то не понимать.
Все покоряли тебя — не покорили,
Как же такое — родную мать!
(«Природе», 1979)
Действительно, ставшее уже устойчивым выражение «покорение природы» существует в русском языке параллельно с сочетанием «природа-мать», которое вошло в обиход еще в XIX веке. И как-то до Старшинова никому не приходило в голову, что покорять родную мать, по меньшей мере, странно, а по большей — кощунственно.
Горечь, часто сквозящая в его стихах на экологические темы, порой сменяется откровенной злостью по отношению к отдельным представителям рода человеческого, как то происходит, например, в стихотворении «Притча о поэте и торгашах». Фабула его такова. Проходя по базару, где торгуют всякой живностью, поэт в порыве сострадания к «братьям меньшим») попытался усовестить «торгашей», но, разумеется, не встретил понимания. Тогда он обратился напрямую к «зверям» с призывом обрести свободу. Результат не заставил себя ждать — животные разбежались, птицы разлетелись. И тогда:
Замер базар. Он услышал впервой
Звероподобный, надрывистый вой.
Это оплакивали торгаши
Недостающие барыши.
(«Притча о поэте и торгашах», 1957)
Просторечное словечко «впервой» придает стихотворению парадоксальный смысл: звероподобными, оказывается, могут быть люди, продающие чужую жизнь за медяки, но не сами звери. Ведь «звероподобного воя» на базаре до тех пор, пока не обидели торгашей, не слышали.
Поневоле вспоминается есенинское:
«Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству…»
Взаимоотношения человека и природы в произведениях Старшинова не всегда дисгармоничны. Примером тому может служить стихотворение «Только-только солнце, полыхая…» (1962), в котором между бабушкой и пчелами царит полное взаимопонимание:
Бабушку никак нельзя обидеть,
Ведь она рабочая,
Своя!..
Никакого внутреннего противоречия в этом нет. Дело в том, что «слабую половину человечества» в образах бабушки, матери, сестры, любимой Старшинов вообще не отделял от природы! То есть женское начало в его философской системе не могло быть разрушающим, и женщина для него — такая же неотъемлемая часть природы, как, например, река.
Что касается «сильной половины», то она, в свою очередь, еще раз поделена пополам: на одной стороне — старый Адам (герой поэмы «О старом холостяке Адаме») и Поэт, на другой — торгаши и лесорубы. Именно последние противостоят природе и жизни, разрушая («одним ударом каблука») чужие храмы.
Есть у Старшинова еще одна притча — о щуке и пескаре, довольно самоироничная. Главным действующим лицом здесь снова выступает поэт, но уже в конкретном облике автора. Оканчивается притча признанием:
Мне что-то жалко стало шустрого
Рубаху-парня, пескаря.
(«Притча о щуке и пескаре», 1963)
Таких «рубах-парней» — и пескарей, и плотвиц, и окуньков — за свою долгую рыбацкую карьеру он пересажал на крючок тьму-тьмущую, поскольку предпочитал ловить щук на живца. Так что его любовь ко всему живому отнюдь не выходила за пределы нормы, как, например, у представителей некоторых индуистских каст, которым религия запрещает даже пахать землю, дабы ненароком не раздавить червя или бабочку.
Отношение Старшинова к природе было более разумным и практичным (я бы сказал — истинно крестьянским) и точнее всего выражено в его строках:
Вот я в лес вхожу — задел осинку,
Как бы зря не сбить с нее листа!
(«Осенний лес», 1964)
Именно в выражении «зря не сбить» и заключена, пожалуй, философия автора. Потому что, например, в страстно любимой им рыбалке он видел не вмешательство в жизнь природы, а, наоборот, слияние с ней. Слияние настолько полное, что даже стрекоза в одноименном стихотворении принимает его за дерево, то есть элемент привычной для нее среды обитания.
В стихотворении 1966 года «Роща, моя роща…» Старшинов, напротив, очеловечивает деревья и даже предлагает им, как водится меж добрыми людьми, свой кров:
Роща вся трепещет.
Она озябла…
Ну, поедем, роща,
Со мной в Москву!
Роща, конечно, отказывается, иначе стихотворение пришлось бы разворачивать в сюрреалистическую поэму. Но в самом обращении к ней звучит такая заботливость, что происходящее воспринимается как реальность, а не как художественный прием. Говоря словами замечательного писателя и натуралиста Михаила Пришвина, каждая березка из этой рощи для поэта «не ботанически живое существо, а человечески живая березка».
* * *
В книге «Глаза земли» тот же Пришвин выразился так: «Дом моего таланта — это природа». С полным основанием эту сентенцию можно отнести и к творчеству Старшинова, с той оговоркой, что домом его таланта была «негромкая» природа срединной и северной Руси:
В этих ложбинах, ольхой поросших,
Каждая малость ласкает взгляд:
К таволге льнет мышиный горошек,
И горделиво глядит гравилат.
В этих ложбинах души не чая,
Вижу я, как на бугре, вдали
Розовым пламенем иван-чая
Рвется наружу огонь земли.
В этих любимых моих ложбинах,
Где и всего-то — пырей да осот,
Сердце взлетает до ястребиных,
Синих и чистых своих высот.
(«В этих ложбинах, ольхой поросших…», 1978)
Троекратным повторением «в этих ложбинах» он возвел заурядный элемент пейзажа (пырей и осот — вообще-то сорные растения) до уровня символа, ассоциирующегося в его сознании с чем-то самым чистым и высоким. И обратим внимание: в качестве возвышающего символа выбрана ложбина, то есть самая низкая часть местности.
Помимо впечатляющего поэтического мастерства (стихотворение насквозь пронизано звуковыми повторами, благодаря чему прочитывается на одном дыхании), в нем проявляются и солидные ботанические знания автора: на двенадцать строк текста приходится семь типичных для описываемого ландшафта видов растений. Причем они не просто перечислены, а каждому дана краткая художественная характеристика: мышиный горошек «льнет к таволге», гравилат «горделиво глядит», иван-чай «рвется розовым пламенем». Даже традиционно сорные «пырей да осот» не нарушают общей гармонии, хотя и объединены, справедливости ради, сниженным «всего-то».
И еще один штрих: когда речь заходит о самом родном и любимом, у Старшинова (не только в этом стихотворении) как бы непроизвольно вырывается притяжательное место-имение: «В этих любимых
моих ложбинах…»
Это стихотворение уникально по количеству включенных в него названий растений, но отнюдь не является исключением — растительный и животный мир присутствует если не во всех, то в очень многих произведениях Старшинова. Кроме того, немалое их число специально посвящено отдельным представителям фауны и флоры. Особенно им были любимы муравей и пчела, щука и пескарь, соловей и жаворонок, иван-чай и ванька-мокрый, осина и береза.
Главное, что восхищало Старшинова в «братьях меньших», — это проявляемая ими воля к жизни. Первый свой анималистический портрет — стихотворение «Стриж» он написал в 1945 году, когда сам учился ходить без костылей. То, что стрижи из-за непропорционально длинных крыльев, способствующих быстроте полета, не могут взлетать с ровной поверхности, отчего, случайно оказавшись на земле, часто гибнут, — факт в орнитологии хорошо известный. И поэт живописует инстинктивную борьбу птицы за свою жизнь, которая для нее воплощена в полете:
Прыгал он
И проползал за пядью пядь
Ближе к кочке.
И добрался.
И опять
Над полями,
Над клочками пестрых крыш
Остриями крыльев
Небо
Режет
Стриж.
Всю бескомпромиссность этой отчаянной борьбы Старшинов показывает одним, страшным для рожденного летать словом «проползал». Вспомним крылатую фразу Горького: «Рожденный ползать — летать не может». Здесь мы видим прямо противоположное: рожденный летать вынужден ползти. Заключительная строка стихотворения: «А ведь только что барахтался в песке», обособленная от остальных даже графически, выходит за рамки сюжета и по сути является наставлением автора самому себе.
Подобный внутренний диалог с самим собой имеет место и в последующих произведениях такого рода, с оговоркой, что сам автор не всегда способен следовать примеру героев собственных произведений по причине ограниченности своих физических и духовных возможностей. Об этом программное стихотворение поэта, созданное уже в 1984 году:
Иду под открытою синевой
Тропинкою полевой,
И жаворонок где-то над головой
Голос пробует свой.
Уже немало стукнуло мне,
И уверяю вас,
Что песни жаворонка по весне
Я слышал тысячи раз.
Но каждая так светла и чиста,
Но столько трепета в ней,
Что выше кажется высота,
А синева — синей.
Она разливается, как бубенцы,
Над полем и над селом…
О, бедные книжники-мудрецы,
Сидящие за столом!
Мы слову можем честно служить,
Над рукописями корпеть,
Но песню такую нам не сложить
И так ее не пропеть.
А этот поет, не щадя головы,
Трепещет все существо.
И рухнет на землю из синевы,
И трактор запашет его…
(«Иду под открытою синевой…»)
По существу, перед нами образ
идеального певца (или поэта — здесь эти понятия синонимичны) в представлении Старшинова.
Обращает на себя внимание единственный в стихотворении (достаточно драматичном) восклицательный знак, стоящий в конце назывного предложения. Им автор подчеркивает определение «бедные», которое здесь равно определению «несчастные». То есть ему жаль не жаворонка, гибнущего под гусеницами трактора, а спокойно доживших до почтенных лет мудрецов, потому что им не дано сложить и пропеть
такую песню. А не дано по одной простой причине: между «честно служить» и «петь, не щадя головы» есть существенное различие, определяемое мерой дара или творческой страсти.
Возможно, кто-то из других исследователей творчества Старшинова найдет аналогию между его книжниками-мудрецами и библейскими фарисеями-книжниками, но сам автор такой аналогии не предусматривал, поскольку его «книжники» лишены отрицательных качеств.
Развязка сюжета традиционна: певец гибнет. Это закономерная плата за
такую песню, потому в последних строках стихотворения есть восхищение, но нет скорби.
И даже трактор, запахивающий певца, не вызывает чувства протеста, так как он здесь не является средством насилия над природой, а исполняет роль «колеса судьбы». Почему певец «рухнет на землю из синевы», поэт не объясняет; скорее всего, он обыгрывает одну из поведенческих особенностей птиц семейства жаворонковых — периодическое пикирование с большой высоты на землю. Это выглядит весьма эффектно и породило немало народных поверий, одно из которых гласит, что сердце жаворонка порой разрывается во время пения. Такое поверье не столь широко известно, как схожая с ним легенда о «лебединой песне», но не менее красиво.
Другой знаменитый пернатый певец — соловей, хотя и упоминается в поэзии Старшинова гораздо чаще, чем жаворонок, похоже, не вызывает у него такого, переходящего в поклонение, восхищения. В посвященном этому признанному по части выведения трелей лидеру среди птичьего царства стихотворении — «О чем поешь, волшебник маленький…» — поэт избирает тот период в жизни соловья, когда он не поет, а заботится о продолжении своего соловьиного рода. Он для него прежде всего труженик, воспитывающий птенцов:
С утра до полночи работая,
Тебе летать, тебе искать,
Чтобы потомство желторотое
И пропитать, и обласкать.
И только потом — певец:
Пусть голос твой земля-кормилица
И не услышит в летний зной,
Я знаю — песни сами выльются,
Но только будущей весной.
Чувства, которые испытывает автор по отношению к своему герою, — это уважение и, пожалуй, нежность. Но не поклонение, как в случае с жаворонком. Объясняется эта разница в отношении поэта к двум представителям отряда воробьиных, возможно, расстоянием в двадцать с лишним лет, разделяющих эти стихотворения («О чем поешь, волшебник маленький…» датировано 1961 годом, «Иду под открытою синевой…» — 1984-м), в течение которых его отношение к окружающему миру существенно изменилось.
Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое могло поставить в восприятии Старшинова пение жаворонка выше соловьиного. Дело в том, что соловей (наряду с розой), на протяжении веков являясь главным атрибутом любовной лирики и в восточной, и в европейской поэзии, давно стал символом
книжно-интернациональным. Жаворонок же, первым из певчих птиц возвращающийся весной в наши северные края, в честь чего в крестьянском укладе существует специальный праздник с выпеканием «жаворонков» из теста, оказывается таким же родным и близким русскому сердцу, «как северный наш василек» (С. Есенин).
Подобное родственное отношение к своему персонажу можно наблюдать и в стихотворении «Ода ваньке-мокрому» (1969):
Ливень льет… Мороз жесток…
Солнце брызжет майской охрой…
Все цветешь ты, ванька-мокрый,
Ненаглядный наш цветок.
Твой хозяин молодой,
Он с цветами крут бывает:
То совсем не поливает,
То совсем зальет водой.
Что царит в его уме?
Он вас держит — вот жестокий! —
То на самом солнцепеке,
То в углу, в кромешной тьме.
Он до жуткой духоты
Надымит в своей каморке
И сует огрызки, корки
И окурки — все в цветы.
Вон герань едва жива,
Даже кактус чахнет, глянь-ка…
Лишь тебе, дружище ванька,
Все на свете — трын-трава.
Не страшась любых невзгод,
Ты растешь в кастрюле ржавой,
Удалой да моложавый
И цветущий круглый год.
Любопытно, что, определенно предпочитая дикорастущие растения комнатным (кроме данного стихотворения, они вообще отсутствуют в текстах поэта), для ваньки-мок-рого Старшинов не только сделал исключение, но и отнесся к нему с высшей степенью восхищения. В этом отношении образ ваньки-мокрого схож с образом жаворонка. Между ними, однако, есть различие. Жаворонок — воплощение идеального певца вообще. Ванька-мокрый — воплощение стойкости именно
русского характера. Он даже по своему словообразованию напрямую ассоциируется с национальной игрушкой ванькой-встанькой.
Отсюда логично вытекает еще одно: к первому герою отношение автора, безусловно, восхищенное, ко второму — восхищенное с некоторой долей иронии (я бы даже сказал, самоиронии, так как данный цветок автору — «дружище», что подразумевает определенное «родство душ»). Эта ироничность в основном создается за счет «трын-травы» и «ржавой кастрюли», весьма прозрачно намекающих на печально известный русский авось, и в данном контексте, конечно, уместна. Кроме того, она усиливает второй план стихотворения — самокритический, который разворачивается по ходу развития сюжета.
На вопрос о прототипе «молодого хозяина» ближайший ученик и друг Николая Константиновича Владимир Костров уверенно ответил, что прототипом явился сам поэт, а не кто-то из его окружения. А Геннадий Красников поведал следующее: «Вообще у многих знакомых Старшинова сам поэт ассоциировался с этим неувядающе-неунывающим цветком, и нередко приходилось слышать, как, обращаясь к Николаю Константиновичу, в шутку читали: «Не страшась любых невзгод, / Ты растешь в кастрюле ржавой, / Удалой да моложавый / И цветущий круглый год». Да и к тому же на окне в редакции альманаха «Поэзия» поклонницы Старшинова высаживали этот «удалой да моложавый» цветок (стихотворение написано до прихода Старшинова в альманах. —
С. Щ.), ржавая кастрюля из-под которого была порой утыкана окурками, оставленными юными дарованиями, посещавшими редакцию. Случалось с ним и как в стихотворении: то совсем не поливали, то заливали водой».
Таким образом, «Ода ваньке-мокрому» — единственное стихотворение Старшинова, где он являет себя читателю в третьем лице. Это, конечно, должно иметь свое объяснение.
Скорее всего, оно таково. Хозяин цветка — человек хотя и не злой (он по-своему пытается ухаживать за цветами), но неаккуратный и даже «глупый» (так здесь читается эпитет «молодой»), нуждающийся в порицании. Однако по законам жанра поэт должен оставаться для простых смертных существом высшего порядка. «Ведь поэзия есть сознание своей правоты» (О. Мандельштам). Вот и пришлось автору прибегнуть к такому нечасто встречающемуся в лирике художественному приему, как сокрытие своего лирического героя под маской третьего лица.
Общий, в меру иронический настрой произведения заявлен уже в заглавии соединением «высокого штиля» («Ода») с просторечным названием комнатного растения. Добродушная ирония никак не мешает, впрочем, искреннему восхищению «Ванькой». (Кстати говоря, как и большинство комнатных растений, ванька-мокрый не «коренной россиянин». Его научное название — бальзамин, а родина — горные леса тропической Африки.)
Причастность к традиционно русской фауне и флоре — частое, но отнюдь не обязательное условие создания Старшиновым восхищающих его самого образов из мира природы. Еще одним достаточным условием является поражающая воображение красота:
Ну как в этой скудной низине
Возник — к лепестку лепесток —
Вот этот пронзительно-синий,
Еще небывалый цветок?
Такой развесело-кудрявый,
Что жалко и тронуть рукой.
И шепчутся чахлые травы:
«Откуда он взялся такой?»
(«Ну как в этой скудной низине…», 1969)
Чтобы оттенить «пронзительную» синеву «небывалого цветка», поэт идет даже на намеренное снижение достоинств окружающего пейзажа: низина здесь «скудная», травы «чахлые» (сравните со стихотворением «В этих ложбинах, ольхой поросших…»).
Еще более угнетающий пейзаж нарисован в стихотворении «Этот луг до конца заболочен…» (1983):
Этот луг до конца заболочен,
Но дорога и здесь пролегла.
У налитых водою обочин
Затаилась зловещая мгла.
И на соснах больных шелушится
Чешуей золотушной кора.
Словно ватой покрыта пушица,
И над нею гудит мошкара.
Но средь этой удушливой гнили,
От которой в рассудке темно,
Белоснежными звездами лилий
Вдруг меж кочек проглянет окно.
Чудо-лилия, ты здесь — чужая…
Но она остановит: постой! —
Чистотою своей поражая
И почти неземной красотой.
Болото с застойной водой вообще единственная форма природного ландшафта, которую Старшинов не любил. Оно являлось для него антагонистом текущей воды и формой ее смерти. На этом фоне его поражает «чужая красота».
Конечно, «чужая» лилия не всей окружающей поэта советской действительности (что вполне можно прочесть в подтексте стихотворения, если «искать черную кошку в комнате, где ее нет»), а болотной растительности, так как белая кувшинка (так бы назвал «лилию» ботаник) обычно заселяет озера и пруды, но не болота. Однако и «своей» для северных пейзажей «лилию» никак не назовешь, поскольку настоящие лилии предпочитают гораздо более теплый климат.
Вообще прочно укоренившееся в обиходной речи ненаучное, но благородное название «лилия» по отношению к кувшинке (так же как жасмин по отношению к доморощенному чубушнику) отражает не столько пристрастие общественного сознания к благозвучным именам, сколько подсознательную тягу северной народности к родству с пышной южной флорой.
Традиционные представители северной флоры, которые в отличие от «небывалого цветка» и лилии не блещут «ни роскошью, ни красотою броской» — кипрей, пустырник, ромашка, василек, лютик и т. д., — вызывают у Старшинова, как правило, менее бурные эмоции. Это понятно. «Небывалый цветок» и «чудо-лилия» — явления уникальные, встречи с подобным случаются крайне редко. Те же белые водяные лилии, в естественной для них среде обитания — озерах и речных заливах — наблюдаемые поэтом сотни раз, не стали главными героями стихотворений, хотя упоминаются в нескольких. А близкие его сердцу лесные и луговые травы (то же касается главных лесообразующих пород: сосны, ели, березы, осины, ольхи) сопровождают поэта из стихотворения в стихотворение. Поэтому он испытывает по отношению к ним уже не восторг, а нежность.
К осине он даже вслед за Есениным («Здравствуй, мать голубая осина!») обращается как к матери:
Я ж тебя любовью сына,
Сына кровного, люблю.
(«Встреча с осиной», 1966)
Осина вообще любимое дерево Старшинова. Недаром один из поэтических сборников он назвал «Осинник».
В книге «Природа, мир, тайник вселенной…» Михаил Эпштейн приводит любопытные статистические данные о количественном использовании образов различных пород деревьев в русской поэзии: «На первом месте, безусловно, береза, образ которой раскрывается в 84 стихотворных произведениях (из рассмотренных около 3700, посвященных природе). Далее в порядке убывающей частоты следуют: сосна — 51, дуб — 48, ива — 42, ель и рябина — по 40, тополь — 36, клен и липа — по 30. Другие деревья описываются значительно реже: осина и пальма — по 7…».
Оставим за рамками нашей книги вопрос о том, почему осине — одной из главных древесных пород средней полосы России — явно недодано как народной любви (Иудино дерево), так и поэтического внимания (наравне с экзотической пальмой), хотя вопрос этот сам по себе весьма интересен. Для нас в данном случае важно, что Старшинов с его обостренным чувством вины перед природой выбрал своим «поэтическим деревом» именно осину, как бы исправляя допущенную по отношению к ней несправедливость.
Научное название осины — тополь дрожащий. Назвали ее так за свойство листьев трепетать при малейшем дуновении ветра, что происходит из-за поперечного крепления черешка к листовой пластине (у всех остальных привычных нам лиственных пород черешки крепятся к листьям вдоль своего основания). Благодаря такому усовершенствованию осина легче других деревьев освобождается осенью от старой листвы, но и шумит при этом сильнее. Эта ее особенность часто обыгрывается Старшиновым при описании состояний своей души. Как правило, это состояние элегической грусти:
Вот и мне недавно пробило сорок,
Ишь в какой я возраст уже залез…
За окном осинник трепещет. Шорох.
Шорохом наполнен осенний лес.
(«Вот и мне недавно пробило сорок…», 1965)
Совсем другое настроение связано у Старшинова с кипреем (иван-чаем) — растением жизнестойким, первым заселяющим лесные вырубки и пожарища. Если оно появляется в стихотворении, значит, автор не намерен поддаваться элегическим настроениям — жизнь продолжается, несмотря ни на что, даже на одиночество:
Чем-то небо меня одарит?..
Но, бестрепетно зиму встречая,
На пригорке горит и горит
Одинокий цветок иван-чая.
(«Первый утренник», 1976)
Мотив одиночества, главенствующий в лирике вообще, свойствен и лирике Старшинова. Но он в отличие от многих авторов нигде не говорит о своем одиночестве открыто. Скорее всего, поэт просто стесняется этого чувства, оно как бы способно бросить тень на его фронтовую юность, когда он чувствовал «себя в строю, как дерево в лесу». Поэтому личная бесприютность обычно выражается им через окружающий пейзаж. Вглядимся в портрет одинокого дерева на фоне ненастной ночи:
Ночь.
Вода залива ветром взмылена.
Берег — в белой пене, как в снегу.
Дерево, похожее на филина,
Зябнет на пологом берегу.
Дерево нахохлилось, сутулится,
Всю его листву бросает в дрожь.
Распоровший облако
Над улицей
Тонкий месяц занесен, как нож.
Волны все угрюмей бьют по берегу,
Ветер так и свищет по жнивью.
Неуютно, одиноко дереву, —
Я с ним до рассвета простою…
(«Ночь…», 1970)
О себе автор заявляет лишь в последней строке стихотворения, выражая сочувствие одиноко растущему дереву. Но почувствовать чужое одиночество способен лишь тот, кто одинок сам. И если он готов простоять до рассвета с деревом, значит, никто его этой ночью не ждет и о нем не беспокоится. Пейзаж, нарисованный Старшиновым, безлюден, но если читатель начнет воссоздавать его в своем воображении, то на берегу залива рядом с «нахохлившимся» деревом обязательно увидит одинокую человеческую фигуру.
Есть у Старшинова одно стихотворение, где пейзаж из умиротворенного неожиданно превращается в тревожный:
Иду, ничем не озабочен.
Дорога вьется вдоль реки.
Темнеет.
Около обочин
В траве мерцают светляки.
Я рад вечернему затишью,
Меня покой берет в полон…
Но вот уже летучей мышью
Расчерчен синий небосклон.
Мелькая над рекой, над хатой,
Все небо — вдоль и поперек —
Избороздил зверек крылатый,
Метущийся в ночи зверек.
Как будто это, сна не зная,
Отчаянно,
Едвадыша,
По небу мечется больная
И одинокая душа…
(«Иду, ничем не озабочен…», 1973)
Здесь идиллический пейзаж, а вместе с ним и душевный покой автора неожиданно во втором четверостишии нарушаются. Сам автор при этом остается за кадром; охватившая его тревога обнаруживается с появлением летучей мыши. Ощущение тревоги нарастает с каждой строкой. Но поначалу речь идет о хрупкости «гармонии в природе», которой «не искал» Заболоцкий и которая, казалось бы, уже найдена Старшиновым.
Заключительная строфа открывает нам, насколько хрупок душевный покой самого поэта — не напрямую, а через возникшую у него ассоциацию. Ведь он не может не знать, что летучая мышь всего лишь занята своим обычным делом — охотой на насекомых. И тем не менее вместо нее ему представляется мечущаяся в ночи больная и одинокая душа.
Теперь, если вернуться к началу стихотворения, троекратное упоминание о своем душевном равновесии: «Иду, ничем не озабочен…», «Я рад вечернему затишью…», «Меня покой берет в полон…» — представляется уже не избыточным утверждением, а попыткой убедить себя в существовании «гармонии в природе» с помощью своеобразной медитации.
* * *
Особое место в художественном мире Старшинова занимает вода. Как заметил Юрий Иванов, «Старшинову привычно разговаривать с рекой, как с живым существом…». Возможно, это объяснялось его страстью к рыбалке, благодаря которой он проводил у воды (и на воде) немало времени. А возможно, напротив, он пристрастился к рыбной ловле именно из-за любви к водной стихии. В его текстах фигурирует около сорока названий рек и речек — вряд ли подобное можно встретить у какого-либо другого поэта.
Ревностное отношение Старшинова к рекам простиралось так далеко, что, не обнаружив в произведениях Сергея Есенина имени реки Оки, на берегу которой тот родился, он провел в связи с этой «несправедливостью» целое исследование (статья «Почему нет Оки?»).
Одну из своих книг (как уже говорилось, удостоенную Государственной премии России) он назвал «Река любви», объединив в одно целое самые значимые для него понятия. А названия, как утверждал Вадим Кожинов, «конечно, выражают основной тон самих книг».
Река олицетворяла для Старшинова любовь не только к женщине, но и к России:
Посмотри на взволнованный Трубеж,
На туманную пойму Нерли, —
Ты и сам беззаветно полюбишь
Красоту этой вечной земли.
(«У Спаса-Преображенского собора», 1969)
Сами названия рек завораживали его, как музыкальные фразы. «Вильняле!..» — восклицал он, заканчивая одноименное стихотворение, и долго еще прислушивался к этому слову, будто к затихающему звучанию последнего аккорда. «И речка — ах, какое имя! — Сумерь…» — напрямую, от полноты чувств признавался он в любви к самому звучанию имени реки своего детства. У этой реки, связанной с самыми светлыми воспоминаниями, особая, слышная только самому чуткому уху музыка:
Ты, сохраняя тишь,
Полная светлой грусти,
Сумерь моя, журчишь.
(«Моя Сумерь», 1971)
Своя песня у реки Зуши, с которой поэта тоже связывают какие-то очень личные воспоминания:
Но ты послушай, нет, послушай,
Ты подожди, ты подожди!..
Сейчас опять над речкой Зушей
Шумят протяжные дожди…
(«Но ты послушай, нет, послушай…», 1970)
Нашла свое музыкальное воплощение и символическая река любви:
И все же есть река любви!
Она бежит, хоть нету моченьки…
А ведь когда-то дни и ноченьки
Над ней гремели соловьи.
Да, знаешь, были времена,
Когда в объятиях течения
И радости и огорчения,
И жизнь и смерть несла она.
Как мне она была горька!
Я был готов уже отчаяться…
Но, как известно, все кончается, —
И ты уже не та, река.
Не та, не та, совсем не та:
Где гребни волн с крутыми взлетами,
Ну где они, с водоворотами
Твои былые омута?
Теперь течешь едва-едва,
И соловьи не манят трелями,
И возвышается над мелями
Полуметровая трава.
Но я прошу тебя: журчи,
Пой песенки леску прибрежному,
Ведь все-таки тебя по-прежнему
Питают светлые ключи.
(«Река любви», 1962)
Это стихотворение стало песней, в шестидесятые годы прошлого века довольно популярной. Звучала она в исполнении и Марии Пархоменко, и Алисы Фрейндлих.
ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ — РЫБАЛКА
Есть два типа рыболовов. Первые исходят из принципа «в этой речке рыбы нет». Попав на водоем и закинув удочки, они ждут клева минут десять — пятнадцать и, если такового не наблюдается, со спокойной душой идут пить водку (как предлагал своему приятелю чеховский герой).
Вторые исходят из принципа прямо противоположного: где есть вода, там есть и рыба. Они способны дождаться поклевки даже в той речке, где рыбы действительно нет. Это — элита рыбацкого племени, наиболее азартная и умелая его часть. Именно таким рыбаком был Старшинов. По словам Владимира Бровцина, директора рыболовно-спортивной базы «Медведица», рыбачившего с Николаем Константиновичем на протяжении двадцати лет, он никогда не заканчивал рыбалку первым, как бы они ни уставали, ни намокали и ни замерзали. А по собственному признанию Старшинова, он мог «целые сутки сидеть в лодке, не есть, не пить, лишь смотреть на воду и на поплавки».
«Целые сутки», конечно, преувеличение, но всю светлую часть суток — от рассвета до темноты — он в самом деле способен был проводить за этим занятием, забывая о таких насущных вещах, как еда и питье. Когда он рыбачил на своем любимом озере Судомля, насильно вручаемый ему на день «рыбацкий паек» часто привозил назад нетронутым, включая даже воду. При этом он проплывал в лодке со своей «щуколовкой» не один километр.
И дело тут не в сверхчеловеческих возможностях, просто сам процесс рыбной ловли поглощал его настолько, что происходило «исчезновение времени» (так называется один из рыбацких рассказов Старшинова). В другом рассказе он с некоторым даже возмущением приводит часто высказываемое досужими людьми предположение о том, что любит рыбалку за «возможность спокойно обдумать свои новые произведения, не спеша прояснить свои планы и замыслы».
— Когда я ловлю рыбу, я ловлю рыбу. И только, — объясняет он людям, не понимающим таких простых вещей.
Зато потом полученные на рыбалке впечатления выливались в стихи, рассказы и очерки, составившие со временем отдельную книгу «Моя любовь и страсть — рыбалка», вышедшую в 1990 году в издательстве «Физкультура и спорт» стотысячным тиражом и мгновенно исчезнувшую с прилавков книжных магазинов. Это не учебник по технике рыбной ловли, хотя какие-то описанные в ней приемы ужения очень интересны, и не путеводитель по рыбным местам Советского Союза, хотя география рыбацких путешествий Старшинова довольно обширна. Это — книга впечатлений и встреч, причем рыбакам в ней отведено не меньше места, чем рыбам.
С каким восхищением и сочувствием пишет он в рассказе «На всю жизнь» о преданном до последних дней жизни любимому занятию пожилом рыбаке:
«…Проходя по берегу, я увидел ползущего по-пластунски к воде человека.
Прошел два шага, и он, заметив меня, замахал рукой, показывая мне, чтобы я не подходил ближе — не спугнул рыбу. А потом все объяснил:
— Тише, тише… Это я голавля здесь хочу поймать… Здоровенный ходит… Такая хитрая и осторожная животина… Если он тебя не видит, брось ему кузнечика — он его мгновенно схватит. А если тебя увидел, либо скроется, либо разгуливать будет вокруг да около, даже хвостом подденет его, а взять не возьмет…
Так я и познакомился с дедом, отчаянным рыболовом.
Он искусно ловил голавлей, прибегая ко всякого рода хитростям. А как-то пригласил меня на рыбалку. Все лето потом мы ходили с ним по речке…
На следующий год он признался:
— Трудно мне уже пробираться по кустам да по круто-склону — ноги не держат. И далеко не уйдешь — за день намучаюсь так, что сил никаких нет. Может, поедешь со мной на озеро, там лодку достанем…
И целое лето мы ловили с ним рыбу на озере с лодки.
На другой год он не мог добраться и до озера, до лодки… Я думал, что кончились его рыбалки. Да не тут-то было! Настоящий рыбак остается всегда рыбаком.
Иду я как-то ранним утром вдоль речки и вижу: ведет деда под руку его дочь. И несет табуретку. Подвела отца к воде, поставила табуретку на самом берегу, попробовала, крепко ли стоит, хорошенько усадила рыбака. И ушла.
А он закинул удочку и замер…
Потом почти ежедневно видел я, как дочь вновь и вновь приводила его к речке на рассвете и уводила вечером, помогая ему нести табуретку и ведерко с рыбой.
Видел я, как он терпеливо сидел весь день под палящим солнцем и под затяжными осенними дождями. Сидел часами, безмолвно и неподвижно.
До последних дней…»
Николай Константинович и сам до последних дней был верен своей «любви и страсти». Удар, как мы помним, настиг его в лодке, когда он ловил щук.
В числе спутников Старшинова на рыбацких тропах были и люди известные: Ярослав Смеляков, Виктор Астафьев, Константин Воробьев. Особый разговор — его многочисленные ученики, которых он активно привлекал к любимому занятию, начиная с Владимира Кострова. Есть также веские основания предполагать, что и классика советской литературы Ярослава Смелякова пристрастил к рыбалке именно Старшинов. Они ведь одно время были соседями по лестничной площадке. И как раз тогда Смеляков пополнил собой ряды заядлых рыболовов. Николай Константинович вспоминал:
«В начале шестидесятых годов, будучи уже далеко не молодым человеком, Ярослав увлекся рыбной ловлей. Со всей страстью. Он болезненно переживал свои неудачи на рыбалке и по-детски радовался успехам. Человек острого ума, щедро наделенный чувством юмора, он нередко лишался его на рыбалке.
Весной 1962 года мы ловили рыбу на Плещеевом озере, там, где некогда Петр Первый еще в отрочестве сделал первую попытку создать русский флот.
В лодке было пятеро: лодочник, Смеляков, Костров (родители Владимира Кострова жили тогда в расположенном на берегу озера Переславле-Залесском, у них и останавливались наши рыбаки. —
С.Щ.), моя жена Эмма и я.
У Смелякова что-то не клевало. А моя жена каждую минуту просила меня:
— Надень мне нового червя! Мне противно брать его в руки.
Я надевал. Она забрасывала удочку по-женски неумело, через голову, и снова попадала в водоросли.
Я шипел на нее:
— Перебрасывай скорее! Там трава. Оборвешь крючок.
Она вытягивала удочку, и на ее крючке оказывалась рыбка.
Она снова просила:
— Надень червя.
Я опять надевал, она забрасывала в траву и снова вытаскивала рыбешку.
А у Ярослава по-прежнему не клевало. Он мрачнел, мрачнел, наконец не выдержал — матюгнулся и:
— У какой-то соплюшки-девчонки каждую минуту на крючке рыбка, а у меня, большого советского поэта, — ни одной!..»
Владимир Костров, ставший впоследствии тоже большим поэтом, стал и большим любителем рыбной ловли, товарищем Николая Константиновича в поездках по рекам и озерам. Однажды — это было в марте 1989 года — они привлекли
к зимней рыбалке и меня (в качестве обладателя транспортного средства).
Незадолго до этого я купил первый в своей жизни автомобиль — «Жигули» шестой модели и только осваивал азы вождения, что ничуть не смутило мэтров российской словесности. Они соблазнили меня поездкой в Тверскую область, под Вышний Волочек, где в озерах, по слухам, начал хорошо ловиться по последнему льду крупный окунь.
Завершилась наша поездка, несмотря на ее авантюрность, вполне благополучно (не считая первого в моей водительской практике разбитого стекла задних габаритов и первого штрафа за превышение скорости).
Удачной оказалась и рыбалка. Окунь, надо признаться, в любимом Старшиновым озере Судомля брал не слишком крупный, размером с палец, зато безотказно. В соседнем озере так же безотказно хватала мотыля мелкая плотва. В сенях избы, где мы поселились, стоял большой таз, туда мы сваливали свой улов, который, если не ошибаюсь, шел на корм поросятам.
Выбрав из таза перед отъездом то, что покрупнее, я привез домой довольно солидную, по московским меркам, добычу, правда, так и оставшись, несмотря на все усилия Николая Константиновича по приобщению меня к рыбацкому племени, рыболовом первого типа.
А вот Эмма Антоновна, вопреки ее удачно начавшейся на глазах Ярослава Смелякова рыбацкой карьере, к этому занятию не пристрастилась вовсе (в отличие от Руты, которая хотя и с запозданием, но пошла по стопам отца). Женщины благодаря практической направленности ума вообще часто неприязненно относятся к мужскому увлечению рыбной ловлей, видя в нем лишь повод отлынивать от домашних обязанностей.
В семье же Старшиновых это обстоятельство усугублялось тем, что и сам Николай Константинович, и его домашние рыбой как продуктом питания пренебрегали. Николай Константинович потому, «что еще в раннем детстве подавился навагой, в которой, как уверяют любители рыбных блюд, и костей-то, кроме позвоночника, нет», и с тех пор вид даже самой маленькой рыбьей косточки начисто лишал его аппетита. А Эмма Антоновна и Рута не ели рыбу то ли из семейной солидарности, то ли из женской вредности (да простят они мне эту шутку). На самом деле они ее просто не любят.
Короче говоря, домашние относились к его «любви и страсти» с иронией, а он, в свою очередь, с иронией относился к их ироничному к ней отношению, что видно из следующего признания возвращающегося с рыбалки «добытчика»:
«Когда я, уехав на несколько дней за тридевять земель, возвращаюсь без улова, искусанный комарами, исхудалый, они иронизируют:
— Ну и рыбачок!.. Приехал едва живой и пескаря завалящего не привез. Раз не умеешь ловить, надо бросать это дело!.. А то тебя куры засмеют…
Если же я привожу много рыбы (ведь и такое бывает!), они снова недовольны:
— Ну вот, привез свою рыбу. Кому она нужна-то?! Возись с ней сам! Чистить ее — все руки исколешь, а потом никто и есть ее не будет. Зачем ты только мучаешь ее и себя заодно?..
Словом, возвращаюсь с рыбой — плохо, без рыбы — тоже нехорошо».
Но бывали в его рыбацкой судьбе и триумфы. Об одном из них рассказала мне Эмма Антоновна. Однажды, прогуливаясь в компании сестры (дело происходило в Литве), она набрела на ловящего рыбу «Колюшу». И на изумленных глазах женщин он вытащил одну за другой нескольких щук. Зрелище, по словам Эммы Антоновны, было захватывающее.
Ловля щук вообще являлась его рыболовной специализацией, как поэзия — «специализацией» литературной. То есть лавливал он и другую рыбу во множестве, но главный жар рыбацкой души отдавал охоте за щукой. Спиннинга при этом не признавал, называя себя рыбаком консервативным, «с неохотой, с трудом и внутренним сопротивлением» воспринимающим «все новшества, касающиеся ловли рыбы, от снастей до насадки». Ловил на живца с помощью специальной удочки, названной им «щуколовкой». На случай, если эта книга попадет в руки любителей не только поэзии, но и рыбалки, привожу подробное описание данного способа ловли, благодаря которому Старшинов на протяжении многих лет вылавливал не менее сотни щук за сезон:
«Их я больше всего люблю ловить с помощью оборудованной мной самим щуколовки. Она проста. Прочное жесткое удилище. Леска 0,5–0,6. Большой поплавок, не дающий живцу уйти на дно. Металлический поводок. Грузило, которое держит живца на определенной глубине. И, наконец, двойник или тройник, смотря по обстоятельствам и клеву.
Я насаживаю небольшую плотвичку, окунька или ерша и двигаюсь на лодке вдоль камыша. Закидываю удочку. Даю живцу погулять несколько минут. Если поклевки нет, продвигаюсь дальше на несколько метров.
Снова закидываю живца. Если не берет, двигаюсь дальше. Конечно, стараюсь определить по характеру берега, растительности, по глубине, может быть здесь щука или нет. Иногда обнаруживаю ее по выпрыгиванию мелкой рыбешки из воды…
Наконец после очередного заброса спокойно плавающий поплавок рывком уходит под воду. Я даю возможность щуке пройти несколько метров, отпуская леску. Щука останавливается. Даю ей время заглотить рыбешку. Потом резко подсекаю…»
Еще один оригинальный способ ужения рыбы в условиях плохого клева Старшинов описывает как очевидец:
«Как-то рыбачил я в Тульской области на речке Проне вместе с моим давним другом и напарником по рыбалкам Глебом Паншиным и поэтом Анатолием Брагиным.
Глеб Иванович — опытный и умелый рыбак, а Анатолий, несмотря на то, что вырос в деревне, неумелый, начинающий…
Глеб Иванович каким-то чудом выловил несколько голавликов и плотвиц там, где, казалось бы, никакой рыбы и быть не могло. А Брагин не поймал ни одной рыбешки.
Вот он и подошел к Глебу Ивановичу и спрашивает:
— Что ж это, Глеб Иванович, происходит —
у вас рыба клюет, а у меня не хочет?
— А ты как ловишь-то ее?
— Как надо — заброшу удочку и сижу тихо. Пригнусь, спрячусь за куст и не шевелюсь…
— Ну кто ж так ловит?! Рыбу надо привлечь, приманить…
— А как?
— Да очень просто. Надо взять здоровенный булыжник, бултыхнуть его в воду, поближе к удочке. Вот на шум и муть, поднятую им, вся рыба и сбежится.
— Правда?
— Ну как хочешь. Я всегда так делаю. А то бы и сидел без улова, как ты…
Я, конечно, не думал, что Анатолий примет все это всерьез.
Но смотрю и вижу: вылез он на обрыв, побродил по берегу, нашел огромный валун и покатил его к реке.
Стояла тридцатиградусная жара, и он, весь в поту, с четверть часа подкатывал валун к обрыву. Потом спустился к воде, получше пристроил удочку, снова поднялся на край обрыва, столкнул валун в воду, мгновенно спрыгнул к воде и замер с удочкой. Так он просидел с полчаса, боясь даже пошевельнуться.
Рыба не клевала.
Тут к нему подошел Глеб Иванович:
— Ну как дела, Анатолий?.. Усилился клев?..
— Нет, не берет, Глеб Иванович!
— А ты приманил ее?
— Все сделал, как вы советовали, — и валун здоровенный прикатил, и так им бабахнул по воде, что только брызги вовсю полетели!..
— Странно… Попробуй-ка еще разок, может, с первого раза и не получилось…
Ну уж тут я никак не ожидал, что Анатолий поверит вновь этому совету.
А он опять поднялся на край обрыва, обошел всю примыкающую к реке луговину, отыскал новый валун и, обливаясь потом, покатил его к реке. Перебросил удочку, грохнул валун рядом с поплавком, спрыгнул к воде и снова замер с удочкой…»
* * *
Увлеченность Старшинова рыбалкой, конечно, сказалась на его поэтическом творчестве. И дело даже не столько в количестве посвященных ей строк, сколько в отношении к теме. Если о растениях, зверье и птицах он пишет с трепетной любовью созерцателя, то представителей подводного царства: щуку, налима, ерша, пескаря, линя, карася и других — любит иной любовью, рыбацкой. Есть у него короткое, но емкое стихотворение, которое называется «Признание в любви» (1961):
— Карась,
Ты радость, жизнь моя и страсть! —
Сказала щука,
Открывая пасть.
В общем-то оно не только о рыбах, но и о рыбаках. И, обратим внимание, «рыбьи портреты» Старшинов постоянно (за исключением тех случаев, когда речь идет о защите природы) рисует в шутливой манере. Вот, например, перед нами любимая им щука:
Как говорится, ну и будочка:
Глаза навыкат, страшный рот…
(«Притча о щуке и пескаре», 1963)
В той же манере рисует он и собственный портрет, когда речь заходит о рыбацкой страсти:
И мое испитое лицо
Все щетиной густой обрастает,
Как травой-камышом озерцо…
(«Линь», 1966)
Этот ироничный тон помогает ему уйти от взаимоотношений рыбака и рыбы как охотника и жертвы, превращая их в партнеров по некоей игре. В ту же игру постоянно играют и сами обитатели подводного мира. Так, щуренок, «спрятавшись от стаи окуней», мечтает проглотить, «как жалкого червя», налима, который отгрыз ему хвост, но тут появляется «тетя-щука» и обрывает мечты щуренка, попросту его съев. В другом стихотворении щука охотится за плотвой и пескарем, пока за ней охотится сам автор. Следующим на сцену выплывает «обжора» налим, который «все съест и не подавится…».
Заметим, что Старшинов крайне редко вспоминал о пищевых цепях в природе, когда говорил о птицах или зверье. И это не случайно. Рассказывая о хищных (даже каннибальских) повадках подводных обитателей, он, сам того не замечая, искал оправдание своей страсти. Охотой же он никогда не увлекался, поэтому лесных и полевых обитателей в качестве потенциальной добычи не рассматривал.
Впрочем, здесь возможно и другое, без апелляции к подсознательному, объяснение: будучи именно рыболовом, Старшинов гораздо больше знал о повадках рыб, чем других представителей фауны, потому и писал о них в подробностях. В одном из интервью он сказал: «А вообще-то если бы было время, я бы написал книгу о рыбах даже не с точки зрения рыболова, а об их нравах. В частности, о щуке я хотел бы чуть ли не целую книгу написать».
Жаль, что ему не хватило времени на такую книгу. Но и написанного оказалось достаточно, чтобы воздвигнуть себе нерукотворный памятник, к которому не зарастает тропа любителей рыбной ловли. И это не метафора, а установленный факт.
Как-то Эмма Антоновна показала мне журнал «Рыбалка на Руси» (кем-то ей подаренный), где в разделе новостей сообщалось, что «13 декабря 2003 г. на льду Федоровского залива Иваньковского водохранилища прошел седьмой Кубок памяти Николая Старшинова» и что «в соревновании приняло участие 9 команд из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга».
Еще не до конца уверенный в том, что речь идет о Николае Константиновиче, а не о каком-нибудь известном ихтиологе или спортсмене, я «сел на телефон» и вскоре, приятно удивленный благожелательностью сотрудников редакций рыболовных журналов, вышел на главного редактора «Рыболовного альманаха» Евгения Константинова. Вот что он рассказал:
«Учась в Литературном институте имени Горького на семинаре прозы, я с большим удовольствием посещал и поэтические семинары, которые вел Николай Константинович Старшинов. Сам заядлый рыбак, я с детских лет знал наизусть такие стихотворения поэта, как «Притча о щуке и пескаре», «Ах, лесная речка Пудица…», «Вот камыш поднимает щетины…». Что же говорить о любви к рыбалке человека, их написавшего!
Уж не знаю, до какой степени студентам было интересно знать о рыбацких успехах Мастера, но буквально на каждом семинаре, на которых я побывал, Николай Константинович обязательно выкраивал две-три минутки, чтобы поведать молодежи об улове на своей последней рыбалке.
Как-то я набрался смелости и после занятий попросил Мастера оставить автограф на его книге «Моя любовь и страсть — рыбалка», а затем подарил Николаю Константиновичу журнал «Юность» с моей повестью «Щучье племя». Мы познакомились и в дальнейшем при встречах обязательно говорили о нашем любимом увлечении.
Мне запомнился такой короткий разговор: «Женя, в этом сезоне я поймал сто тридцать одну щуку! — вдохновенно говорил Николай Константинович. — Рыбачу в лодке с утра до вечера. И что интересно — на воде совершенно не чувствую своих годов, а как только выйду на берег, сразу наваливается усталость…»
Приступив к изданию «Рыболовного альманаха», мы решили, что ни одна книга не выйдет без стихов и историй о рыбалке, написанных Николаем Старшиновым. Второй выпуск альманаха посвятили памяти поэта. А 22 марта 1998 года организовали на Истринском водохранилище соревнования по подледной ловле рыбы на блесну, которые назвали «Кубок Старшинова». Проводились соревнования по специально разработанным правилам «свободного поиска», которые в дальнейшем были утверждены Госкомспортом России. Среди рыболовов-блеснильщиков «Кубок Старшинова» завоевал огромную популярность и теперь ежегодно проводится на водоемах, которые так любил Николай Константинович».
Так что не ученый муж и не чемпион по блеснению освятили своим именем спортивные соревнования по подледной ловле, а поэт Николай Старшинов, который и на блесну-то никогда не ловил, предпочитая ей живца. Он, кстати, и на зимнюю рыбалку редко ездил (только когда на улице было не по-зимнему тепло), потому что его искалеченные ноги мерзли даже в валенках.
Владимир Бровцин признается в своих воспоминаниях, что лет десять уговаривал Старшинова приехать к нему на Медведицу зимой, а тот все отговаривался неотложными делами, хотя ранней весной и поздней осенью приезжал ежегодно, несмотря ни на какие дела. И наконец уговорил — приехал Николай Константинович к нему на зимнюю рыбалку, отвел душу поимкой нескольких горбачей (так называют крупных окуней) и даже написал стихотворение:
Я шел к реке. Едва светало.
Снег рассыпали облака.
Но за кустами краснотала
Уже видна была река.
И в дымке розово-лиловой
Рассвет уже гасил звезду,
И суетились рыболовы,
Как стаи галочьи, на льду.
Сейчас и я налажу снасти,
А повезет мне или нет,
Я все равно изведал счастье —
Такая тишь, такой рассвет!
(«Я шел к реке. Едва светало…», 1982)
«А спустя некоторое время, — продолжает Владимир Бровцин, — он прислал письмо, писал о своих новостях, вспоминал рыбалку. Написал, что у него вновь открылась трофическая язва на раненой ноге и придется долго лечить ее. И тогда я понял, отчего Константинович никогда не ездит на зимние рыбалки».
Эта история ни в коем случае не ставит под сомнение обоснованность выбора вида соревнований, освященных именем «лучшего рыбака среди поэтов и лучшего поэта среди рыбаков», как называли Старшинова друзья. Напротив, есть у Евгения Константинова и Владимира Бровцина совместный план: провести очередной розыгрыш «Кубка Старшинова» на льду милой его сердцу Медведицы.
Все-таки рыбаки — люди благородные и благодарные! Недаром говорят, что общение с природой укрепляет организм и очищает душу. Как утверждал сам Старшинов:
Я ручаюсь: природа излечит
Все, чем сердце сегодня болит.
(«Это все удивительно просто…», 1972)
Как бы в подтверждение этих слов он приводит в одном из рассказов поведанную ему знакомым любителем рыбалки историю собственной болезни. У того парализовало правую сторону тела, после чего передвигаться он мог с большим трудом. Передвигался он главным образом от одного врача к другому, причем безуспешно, пока кто-то из них не посоветовал ему «потихоньку заняться рыбалкой». С тех пор прошло пятнадцать лет, он стал большим докой в рыбацком деле, а о прежней болезни напоминает лишь чуть приволакивающаяся нога.
В другом рассказе Старшинова приводится пример поразительного рыбацкого долголетия:
«Я познакомился с ним, когда ему было семьдесят пять лет…
…Дед… каждое утро выезжал на своей самодельной утлой лодочке. В любую погоду. Было ли тихо на дворе и солнечно, дул ли шквальный ветер, поднимающий большие волны.
Дед двигался по озеру вдоль берега и объезжал его по всей окружности — километров семь.
Управлялся он обычно одним веслом. В зубах его был шнур, на котором волочилась за лодкой огромная блесна. Так дед ловил щук на дорожку…
Рыбак он был не очень умелый и не очень везучий. Но настоящий, преданный озеру, воде, ловле. В свои семьдесят пять лет он был бодр, поджар, невелик ростом, несколько медлителен. Но ничего явно старческого у него не было ни в походке, ни в самой его фигуре — держался он прямо, подтянуто.
Меня удивляли его последовательность, постоянство, когда он каждое утро как бы зарядку делал — объезжал все озеро.
Это продолжалось больше двадцати лет!
И лишь однажды, когда деду шел уже сотый год, я не увидел его утлую лодчонку.
Соседи его сказали:
— Умер дед зимой — не дотянул до весны, до открытой воды… А то бы и еще пожил…»













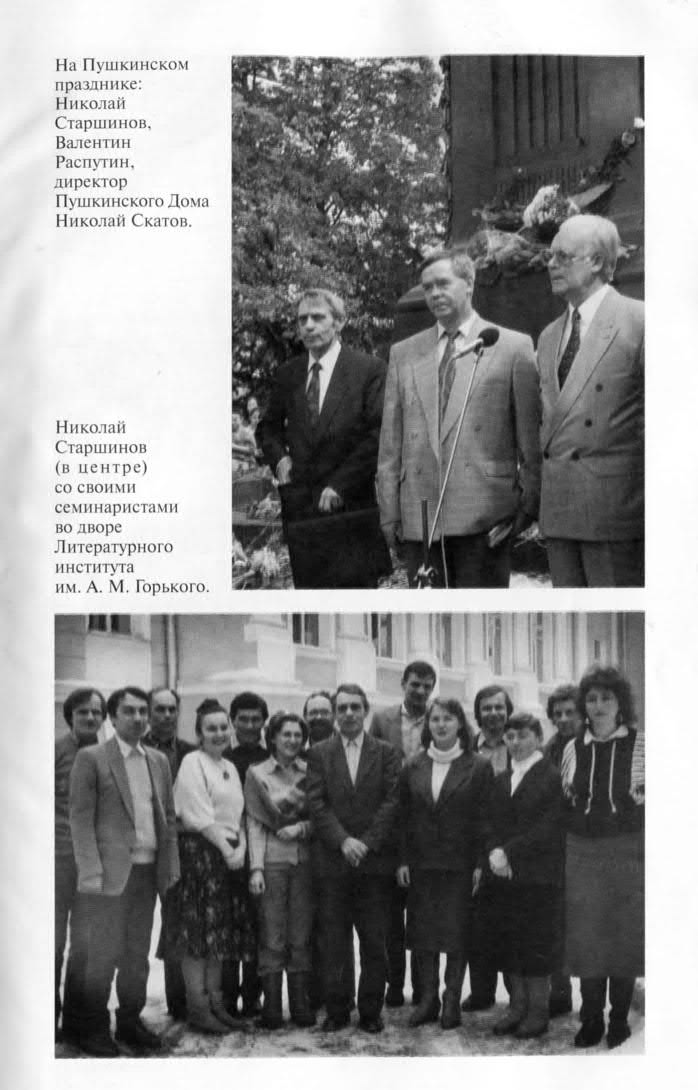

Это к вопросу об укреплении организма. Тему же очищения души Старшинов подробно развил в стихотворении «И в этой холодной избе…» (1970). Я лично был свидетелем, как в одной подгулявшей компании поэтов его читали наизусть в несколько голосов, будто пели песню.
И в этой холодной избе,
Что с края села задремала,
Я сам предоставлен себе,
А это, ей-богу, немало.
Вот после рыбалки приду
Да скину одежду сырую,
В печурке огонь разведу,
Ухи наварю — и пирую.
И все уже мне по плечу,
Никто и ничто не помеха.
Хочу — и до слез хохочу,
Хочу — и рыдаю до смеха.
А что же мне радость скрывать?
За счастье считать неудачу?..
Ложусь в ледяную кровать,
Как мальчик обиженный, плачу.
В свидетели память зову.
Да, был я наивен, как дети,
И мне не во сне — наяву
Все виделось в розовом свете.
И я, молодой идиот
(А трезвая школа солдата?):
«О, как же мне в жизни везет!» —
Так сладко я думал когда-то.
А может, и правда везло,
И нечего портить чернила?..
Ну ладно, болел тяжело,
Ну ладно, любовь изменила.
Ну ладно, порой и друзья
Ко мне относились прохладно.
Ну ладно, жил в бедности я,
Подумаешь, тоже мне, ладно!
Нельзя ж убиваться, нельзя
Размазывать трудности эти…
Зато я какого язя
Сегодня поймал на рассвете:
Иду — по земле волочу.
А три красноперки в придачу?!
И снова до слез хохочу,
И снова до хохота плачу.
СТАРШИНОВСКАЯ ШИНЕЛЬ
Наставничество Старшинова — тема для отдельной книги и притча во языцех. При жизни поэта художник Лисогор-ский изобразил его в дружеском шарже с рюкзаком, набитым молодыми дарованиями. А когда поэта не стало, Александр Щуплов, перефразируя афоризм Достоевского «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», от имени нескольких поколений его учеников сказал, что все они вышли из старшиновской шинели, в которой поэт пришел с войны. Даже своих немногочисленных «литературных врагов» Старшинов нажил именно на почве воспитания талантов.
Особо широкую известность в свое время получило противостояние Николая Константиновича Старшинова и Владимира Дмитриевича Цыбина, на мой взгляд, весьма напоминавшее знаменитую ссору гоголевских героев: Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Оба поэта, выражаясь языком литературоведов, были «почвенниками», то есть в своем творчестве опирались на национальные традиции, любили российскую глубинку и писали о ней. Так что в мировоззренческом плане им делить было нечего. А вот учеников они поделили: Старшинов своих печатал в издательстве «Молодая гвардия», а Цыбин своих — в одноименном журнале.
По мнению Ларисы Николаевны Васильевой, находившейся в приятельских отношениях с обоими участниками этой вражды, «корни ее таились в разности и сходстве их характеров. Оба они по призванию были учителями, но при этом Цыбин был человеком большим и громким, а Старшинов тихим и скромным. Поэтому у Цыбина все ходили в гениях, зато у Старшинова — больше печатались. И поскольку он никого не обижал, то ученики никогда его не оставляли…»
Конечно, на путь «поэтического наставничества» Старшинова толкнула сама судьба, определившая его после окончания Литературного института в журнал «Юность» «заведовать» именно молодыми авторами. Благодаря этой должности он оказался и руководителем литобъединения МГУ — главного университета страны, будучи сам еще довольно молодым человеком, автором двух тоненьких сборников стихотворений. Не каждый, кстати, и отважился бы взяться учить писать стихи обладающих немалым самомнением (и не без оснований) студентов МГУ. Правда, за его плечами был опыт войны, что придавало ему определенный вес в глазах членов литобъединения: будущих физиков и лириков, а также химиков, биологов, математиков, журналистов, географов, юристов и т. д.
Старшинов не стал изображать из себя мэтра, коим в ту пору не являлся, а, как выразился Владимир Костров, «держался скорее товарищем». Давал студийцам высказаться и потом резюмировал общее мнение, порой мягко поправляя его. Такая манера «воспитания талантов» сохранилась у него навсегда, и, став мэтром, он не давил на молодых собеседников своим авторитетом, а тактично подсказывал, как сделать их «нетленку» еще нетленнее.
Но, главное, был у Николая Константиновича врожденный дар учителя — не случайно в своих воспоминаниях он с такой благодарностью рассказывает о собственных наставниках: Леониде Мартынове, Михаиле Светлове, Ярославе Смелякове, Александре Твардовском, Николае Тихонове, помогших когда-то ему самому научиться отделять зерна поэзии от ее плевел.
Старшее поколение учеников Николая Константиновича (к сожалению, ныне сильно поредевшее) — члены литобъединения МГУ — довольно громко заявило о себе в 70—80-е годы ушедшего столетия. Олег Дмитриев, Николай Карпов, Владимир Костров, Владимир Павлинов, Дмитрий Сухарев, Евгений Храмов — их даже и неудобно сегодня называть чьими-либо учениками. Они и были не столько учениками, сколько близкими друзьями Старшинова: их объединяли совместные рыбалки и застолья, бесконечные споры о литературе и периодические карточные баталии.
Из этого же литобъединения ушли в большую литературу известный поэт, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев и не менее известный прозаик в недавном прошлом ректор Литературного института имени А. М. Горького Сергей Есин. А всего, по утверждению Владимира Кострова, более сорока его студийцев стали впоследствии членами Союза писателей. Согласитесь, цифра впечатляющая, даже если и немного преувеличенная.
Потом было несколько выпусков творческого семинара Старшинова в Литинституте, таланты, открытые им на совещаниях молодых писателей различных уровней, и, наконец, те, кто заходил наудачу в альманах «Поэзия» со своими стихами, да так и «приживался» там, тоже попав в разряд учеников его редактора.
Причисляют себя к ученикам Старшинова и многие его бывшие коллеги по издательству «Молодая гвардия», а также младшие товарищи по поэтическому цеху. Они хотя и не посещали его творческих семинаров, но благодаря общению с этим воистину замечательным человеком ох как многому научились! Удивительное, кстати, дело: во время работы над этой книгой мне даже пришлось столкнуться с ревнивым отношением некоторых «подлинных» учеников Николая Константиновича (тех, чье ученичество подтверждено документально) к ученикам «самопровозглашенным». Дескать, нечего примазываться к нашей славе!
Конечно, можно спорить, является ли, например, Геннадий Красников учеником Николая Старшинова, если входить в литературу ему помогал главным образом Евгений Евтушенко и в издательство «Молодая гвардия» он попал уже сформировавшейся личностью со своим, часто отличавшимся от старшиновского, видением поэзии. А Николай Константинович писал в своих воспоминаниях, что это ему «повезло: больше десяти лет довелось работать в альманахе «Поэзия» вместе с Геннадием Красниковым». Какое уж тут, казалось бы, ученичество! Многолетние, нашедшие общий язык со-редакторы альманаха — вот лежащее на поверхности разъяснение их взаимоотношений. Но если считает Красников, что многим обязан Старшинову, составляет его книги, пишет о нем статьи и предисловия и называет себя его учеником, то почему — нет?.. Плохо, когда отрекаются от Учителя, а когда настаивают на своем ученичестве — что же в этом плохого?
Далее публикуются некоторые из предоставленных мне учениками и друзьями Николая Константиновича воспоминаний о нем, поскольку они во многом дополняют его портрет.
Мария АВВАКУМОВА
Он единственный
Аввакумова Мария Николаевна, поэт, переводчик. Родилась в 1943 году в с. Верхняя Тойма Архангельской обл. Окончила факультет журналистики Казанского университета. Работала корреспондентом в газетах Узбекистана, Татарстана, Калининской обл. Участвовала в геофизических экспедициях в Забайкалье, в пустыне Кызылкум, на Камчатке. Автор книг стихотворений «Северные реки», «Зимующие птицы», «Неоседланные кони», «Из глубин». Живет в Москве.
…………………..
По-разному помнишь людей. Чаще — за зло, реже — за добро. Кому-то на добрых везет, я же не могу этим похвастаться. Зато от одного только Николая Старшинова я получила заботливости за десятерых. Он появился в моей жизни, можно сказать, давно: в Калинине это было (теперь Тверь), где, заядлый рыбак, он «выуживал» и поэтический молодняк. Попалась среди пескарят и я. Потом были первые публикации в альманахе «Поэзия», который много лет вел Николай Константинович. Первые добрые слова по поводу моих строчек тоже пришли и послышались от него. А когда моя жизнь в очередной раз сорвалась с орбиты (что не всегда по нашей воле), когда я осталась ни с кем и ни с чем, кого же мне по-доброму вспомнить? — опять же его. (Он рассыпал свои драгоценные крохи, может быть, и не вполне понимая, что они для нас.) Дабы выжить, я несколько сезонов провела в поле — в пустыне, тайге, на промозглой Камчатке. С геологами и геофизиками. Представьте себе мощный порыв тепла! — такое чувство испытывала я, получая из «цивилизации» несколько строк, а то и книжечку стихов от Николая Константиновича. И я со товарищи, бывало, учитывалась у костра стихами… Можно ли это забыть, когда из-под ног уплывала почва?! К выходу первой книжечки он тоже приложил некие усилия. И она вышла как раз в самый катастрофический период моей жизни, когда меня вполне могли бы загнать подальше Макара и его телят. Невероятно, но факт.
С течением лет и мы не молодели. И тот, кто «был на фронте ротным запевалой», тоже. Помимо душевных ран у него были еще и буквальные — физические ранения: до сих пор носит он осколок, нога мучает, не заживая столько лет!
[2] Вот уж и на палку приходится опираться. Так что про Ваньку-встаньку — это и про него.
Конечно, есть дети, есть внуки, этим не обижен. Но главным местом жительства души был для Старшинова альманах «Поэзия» при издательстве «Молодая гвардия». В альманахе хватало места множеству сочинителей в рифму и без. Как безразмерное рабоче-крестьянское общежитие поэтов… как целое государство, примеряющее крылья, — этот старшиновский альманах. Такого, я думаю, не было ни в одной стране мира. И как больно мне держать в руках его последний — пятьдесят девятый номер; нет больше альманаха. Как нет многого — доброго и светлого. У кого подымется рука бросить камень в тогдашних редакторов Старшинова и Красникова? Конечно, иным приходилось попадать туда через тернии. Но как же без них? Даже и неприлично как-то без терний. Кто-то злорадно скажет: «А много ли звезд в итоге?..» Я на это отвечу: «А часто ли попадают в драгу крупные самородки?»
Десятилетиями редактор альманаха честно и неуклонно занимался намыванием золота: запуская руки по локоть в ледяную воду потока, имея, казалось бы, незавидную отдачу. Но именно так намывается золото, по крупинке, в складчину. Глеб Горбовский, Николай Тряпкин, Тимур Зульфикаров, Николай Дмитриев, Галя Безрукова, Нина Краснова, Иван Жданов, Евгений Рейн, Ольга Фокина, Анатолий Брагин, Эдуард Балашов, Дмитрий Сухарев, Евгений Евтушенко, Владимир Микушевич… Сколько разных «нарядных» имен!.. Нет, альманах Старшинова — уже история. И пусть времена потеснили нас, Николай Константинович, — дело вашей жизни сделано. Дай Бог так всякому!
Чудесная глазковская традиция дружеских записок была продолжена Николаем Старшиновым. (Многие еще помнят хохмы Николая Глазкова, добрейшего и мудрейшего поэта.) Множеству людей — к праздникам и без них — летели два-три старшиновских голубя-слова. Кто так добр к нам сейчас?.. К кому так добры мы?.. Измельчали.
Оскудели. Но только не он. Как-то мой земляк — журналист архангельской районки обходным маневром обратился к Старшинову с просьбой написать слово-другое обо мне. Николай Константинович не нашел возможным отказаться. В районке появилась статья «Знаю ее, верю ей и уважаю». Так сказал он обо мне. Но я-то думаю, что и уважает он многих, и верит во множество людей. Таков уж этот человек. Человек со светом внутри.
В довершение моего безыскусного портрета-признания вот еще одно признание — человека, много лет проработавшего рядом с Николаем Константиновичем и любившего его (имя не называю, не имея на то разрешения):
«Он любит все натуральное, без подделки. Потому — камни, дерево… что угодно — настоящее.
Высочайшего вкуса, тончайшего интеллекта человек. Бесконечно нежный и ранимый, бесконечно добрый и чистый. Умница и мужчина. Все при нем.
Любит живопись, скульптуру, музыку — народную и оперы. Обожает Козловского… Живет книгами: знает, любит, ценит, собирает. Знает поэзию уникально: кого угодно будет вам читать упоенно наизусть.
Любит — бисквиты, кремовые торты, мед, маслины, пироги с капустой, гороховый суп… Любит сладкое. Любит цветы.
Он — единственный».
Вот и мне
Что-то нежное, что-то живое
захотелось о друге сказать.
1994 г.
Евгений АРТЮХОВ
«Разборки»
Артюхов Евгений Анатольевич, поэт. Родился в 1950 году в г. Реутове Московской обл. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Профессиональный военный и журналист. Автор книг стихотворений: «Жавороночный ключ», «Дыхание строя», «Доля». Живет в Москве.
…………………..
Когда наш творческий семинар в Литинституте взял Николай Старшинов, мне вскоре стало ясно, что судьбою подарен «счастливый билет». Нет, читая мою подборку, посланную к вызову на весеннюю сессию, Старшинов был отнюдь не в восторге, но как же четко и объективно он отметил недостатки, как обстоятельно и, главное, обходительно все объяснил, не упустив при этом отметить и то, что, на его взгляд, удалось:
«29.04.77 г…В этих стихах есть стремление создать свои сюжеты, построить свою образную систему. Именно поэтому, как мне кажется, многое в них получилось придуманным — слишком велико было это стремление сказать по-новому, по-своему… Искусственность, придуманность стихов — их главный недостаток. А вот стихотворение «Дед», написанное в традиционном бытовом плане, получилось банальным. Лишь в стихотворении «По-прежнему стремились ввысь…» мне показались удачными заключительные строки».
Потом пошли семинарские занятия. Старшинов сидел за столом руководителя, но занятие он как бы и не вел: слушал выступающего, его оппонентов, подавал какие-то реплики, в основном смягчающие особо горячие наскоки, и подводил итог обсуждению, непременно выделяя то лучшее, что отмечено у молодого поэта и на что ему в дальнейшем надо ориентироваться.
Я не помню его злого лица, в моей памяти он либо внимательно слушает, либо улыбается своей мягкой, располагающей улыбкой. Жаль, что записей того времени у меня не осталось, да и письма его я сохранил далеко не все. Тогда мне казалось, что это относится исключительно ко мне, точнее — к моей литературной кухне и никого больше не касается. Теперь я смотрю по-иному. Ведь в каждое из них он вкладывал много себя самого, своего понимания поэзии, ощущения стиха, и поэтому они безусловно ценны и поучительны.
«10.04.78 г. Дорогой Евгений! В присланной вами подборке стихов истинные удачи чередуются с обидными промахами и неудачами. Даже лучшее в этой рукописи стихотворение «Март», которое могло бы (и должно!) стать главной вашей удачей, подпорчено несколькими смутными строками и небрежными рифмами.
Смотрите, как хорошо вы можете сказать о весне, идущей на смену зиме, которая все еще выпускает несметные рои «белых мух», как точно умеете передать настроение:
Так зачем, забегая вперед,
уподобясь лукавой ухмылке,
тополиная ветка цветет
в узкогорлой молочной бутылке.
И стих здесь крепкий, даже изящный. А вот «узкогорлая бутылка» неточна. Молоко-то как раз (за исключением «Можайского», которое мало кто знает, кроме москвичей) бывает в широкогорлых бутылках. И еще:
Бойко вскидывать голову ввысь
и, снежинки от глаз отметая,
видеть, как журавли поднялись
далеко от родимого края.
Как летит и дырявит рассвет
острый клин, оставляя разметку
для грядущих, летящих вослед
вот на эту лукавую ветку.
Все здесь ладно — с настроением, с умением сделаны строки. Но смущает одно — журавли не садятся на ветки (а здесь «грядущие, летящие вослед» журавлиному клину тоже воспринимаются как журавли).
В этом же стихотворении есть такие плохие рифмы, как «упрямством — пространство» (хотя бы «упрямство — пространство»), «двора — тепла», «озоном — сезонный» (лучше бы «озоном — сезонным»). Смутными кажутся мне строки: «Засыпая не то что разлад, / а само ожиданье порухи». Корябает слух звуковой стык: «кривда двора». Вот если сделать поправки — стихи будут совсем хорошими.
Полностью неудачным кажется мне стихотворение «Горит последняя листва». В нем нет свойхтгаблюдений, убедительных и точных деталей. Кроме того, оно «залитературен-ное». Легче всего призвать на помощь классику, цитировать ее в своих стихах да заявить, что Пушкин все объял. Своего-то здесь нет ничего.
Очень хорошо сказано в конце стихотворения «Покуда полдень не настал…» о душе:
Она свободна и чиста.
Но как легко ее обидеть
и в танце бабочки предвидеть
полет спаленного листа!
Но все оно еще небрежно, все недоработано. Сколько в нем плохих рифм.
Вы уже умеете писать с достаточным изяществом, отточенно. Убирайте звуковые стыки: «мимо медленно» (мимо-ме), «а они» (аони). И все-таки я рад, что у вас теперь почти есть хорошее стихотворение «Март», на которое вы сами должны равняться».
…На обложке альманаха «Поэзия» с порядковым номером 26 значилось: «Избранное». Он включал в себя лучшие стихи, опубликованные в предыдущих. В нем, сюрпризом для меня, оказалось стихотворение «И муравей — мой современник…».
Я был на седьмом небе от счастья. Ну а Николай Константинович, понимая это, как хороший врач, прописывал лекарства от головокружения:
«20.11.79 г. Дорогой Евгений! Присланные на кафедру творчества стихи в целом порадовали меня. Работаете вы хорошо, серьезно. В лучших из присланных стихов есть и поэтическая мысль, и подробности жизни, которые одевают ее (мысль) в плоть, есть настроение, чувство. У большинства стихов удачные концовки, которые вытекают естественно из всего предшествующего им, усиливают действие стихов… Что же мешает вам, почему все-таки многие стихи нельзя считать уже законченными, состоявшимися?
В первую очередь — длинноты. Скажем, стихи «Пригород» хорошо начаты. Но вся средняя их часть растянута, она лишь расслабляет их, размагничивает. Необязательна, например, строфа:
«И тем самым выскажет живущим, / без того уставшим от утрат, / что пути не ведавший в грядущем / отыскал конечную из дат / и ушел, не зная этой даты…». Но ведь читателю все ясно это из предыдущей строфы. Вы разъясняете ему то, что уже ясно. Во второй половине стихотворения снова идут необязательные, вялые строки. (Кстати, в цитате, приведенной мной выше, сливаются два слова, и получается «издат», какое-то издательство — Гослитиздат, например.)
Очень затянуты и стихи «Здесь, в столетней липовой аллее…». Я их начал бы с четвертой строфы: «Мне бы задержаться ненадолго», поместив одну из предыдущих строф после нее. Многословием страдают и стихи с хорошей концовкой «Покуда полдень не настал…». На треть бы их сократить, и они от этого только выиграют.
Хочу отметить еще и некоторые частности. Старайтесь избегать усеченных рифм, все-таки они режут слух. «Тень — плите», «наугад — снега», «моего — бегом» (здесь вообще нет никакого созвучия, ведь произносим мы «моево»), «стрекоза — азарт», «учил — строчить», «хорошо — шелк», «стрекозы — низкорослых», «устав — листа» и т. д. и т. п.
Ведь ложкой дегтя можно испортить бочку меда. В основном же мне работа ваша нравится. Желаю новых удач!»
Время неумолимо приближалось к защите диплома.
«23.06.80 г. Дорогой Евгений! Дипломная работа ваша, по сути дела, готова, она получилась добротной, и у меня по ней почти нет замечаний. Пожалуй, я исключил бы из нее стихи «Мороз трещал, без роздыху…» и «Октябрьской порой так и рвешься взлететь…» — они не из лучших. Да посмотрел бы еще расположение стихов. Может быть, что-то поменять местами. Так, идущие подряд стихи «Помню — каждый день, как именины…», «Колокол ударил близко, глухо…», «Посреди лесного захолустья…», «Угощали други чем придется…» написаны пятистопным хореем. Вероятно, лучше их разъединить. Есть у меня еще три-четыре построчных замечания — они на полях рукописи…»
После таких разборок руки не опускаются, а, напротив, сами тянутся к перу. И мне хорошо работалось тогда — с удовольствием, даже как-то весело, что ли, азартно. И не мне одному, а и многим моим однокашникам — Владимиру Емельянову из Ижевска, волгоградцу Борису Гучкову, москвичу Михаилу Молчанову, минчанке Алле Тереховой, ленинградке Ольге Рабкиной, Наташе Пановой из далекого узбекского Навои…
Александр БОБРОВ
Светлый лик
Бобров Александр Александрович, поэт, прозаик, публицист, переводчик. Родился в 1944 году на ст. Кучино Московской обл. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, аспирантуру Академии общественных наук. Кандидат филологических наук. Автор более десяти книг стихотворений и прозы: «Разнолесье», «За Москвой-рекой», «Красный холм», «Русские струны», «Белая дорога» и др. В течение долгого времени возглавлял секцию поэтов в Московской писательской организации.
…………………..
Пожалуй, любое воспоминание о поэте — это повод вспомнить человеческую, нравственную составляющую всякого таланта. Ведь книги, изданные стихи — остаются нетленными, даже если лучшие из них почти не востребованы читателем, как происходит в наше антипоэтическое время, а вот живой облик их автора — ускользает. Или, если вспомнить другое — возвышенно однокоренное слово — лик. Неправомерно, наверное, применять его по отношению к человеку Старшинову, лишенному всяческой рисовки и патетики, но к тому образу, который запечатлелся в стихах, в неизбывной памяти его многочисленных друзей, учеников и почитателей, оно подходит, потому что сливается в нашем представлении с замечательным образом истинно русского поэта и гражданина. Он ушел из жизни несколько лет назад, но до сих пор звучит в ушах его глуховатый голос, заразительный смех, та особая замоскворецкая скороговорка, когда он начинал что-то горячо доказывать или возмущаться…
Достал заветную шкатулку с письмами писателей, дорогих для моей души, стал искать старшиновские и невольно погрузился в прошлое, в щемящие сердце воспоминания.
Первое письмецо от Николая Константиновича бережно храню. Он написал его четверть века назад и передал, видимо, с какой-то оказией, сообщая радостнейшее для молодого стихотворца известие: «Дорогой Александр! По-моему, по-настоящему хорошая книжка получилась, небольшая, но крепкая. Нужно название. Замечаний у меня почти нет». Помню, дыхание перехватило от счастья и гордости, что почти нет замечаний у самого Старшинова, который выпестовал как руководитель студии, опытный редактор издательства «Молодая гвардия» и альманаха «Поэзия», признанный мастер целую плеяду поэтов: Владимир Костров, Олег Дмитриев, Дмитрий Сухарев, Римма Казакова. О нашем поколении — от рязанки Нины Красновой до подмосковных Николая Дмитриева и Геннадия Красникова — излишне говорить. Ведь мог бы просто позвонить по поводу удачи с первой книжкой, нет — написал, как бы запечатлев для счастливого автора на бумаге сей факт.
Есть и другие письма, посланные по почте из разных городов и весей страны. В них почти нет «писательских раздумий», а уж тем более поэтических наставлений. Все, что Старшинов, наставник и преподаватель Литинститута, хотел сказать и вспомнить, он опубликовал в книгах. Последняя мемуарная «Что было, то было…», выпущенная посмертно в издательстве «Звонница-МГ», вобрала в себя многие заветные воспоминания и поучительные байки, которые так любил рассказывать Николай Константинович.
Вот письмо из Вильнюса: «Дорогой Саша! Я живу в Литве уже неделю. Гулял на литовской свадьбе три дня. (Хорошо звучит под пером давно не пьющего Старшинова. —
А. Б.) А сегодня пошел побросать удочки. Попытался ловить рыбу в реке Нерис, километрах в 12-ти от Вильнюса. Очень быстрое течение, много камней и травы. Словом, поймал всякой мелочи да две плотвы грамм по 200 и окуня такого же веса. Все собираюсь сесть за стихи…» Он писал о рыбалке вдохновенно в стихах и прозе, потому что по старой русской традиции записки охотника или об ужении рыбы — не описание добычи, а гимн природе, встреченным людям.
Ну а в письмах это выливалось вот в такие трогательные отчеты коллеге-рыболову.
Но в каждом письме — еще и разговор по делам. Не по своим, а с заботой о других. В цитируемом спрашивает: «Не появился ли в «Литературной России» мой литературный портрет Сергея Викулова? Надо поддержать: хороший поэт и фронтовик…»
Фронтовое братство для Николая Константиновича было свято. «Старшинов умел понимать не только команды, но и человека. Жаркий летний день. Мы только что вырыли окопы, расселись на лугу. Старшинов ведет политзанятия. Он чувствует, что изнуренные люди дремлют от усталости. Говорит своим глуховатым голосом: «Ладно, спите, я покараулю минут пятнадцать». Так вспоминал пулеметчик Павлин Малинов, который был ранен, но вынесен из-под огня щуплым помкомвзвода. Через тридцать лет директор Красногорской школы Малинов прочитал в «Пионерской правде» очерк поэта Старшинова, написал в редакцию: не тот ли? И поэт поехал в Уренский район Горьковской области обнять фронтового товарища. Но кроме сентиментальных встреч появились новые хлопоты: Малинову было трудно работать, болела голова от давней контузии, а военной инвалидности — не было. «Как же так! — возмущался Старшинов. — Он был ранен и контужен на моих глазах взрывом мины. Но в истории болезни про контузию впопыхах не записали. Малинов не слышит на правое ухо, я помню, что мина разорвалась справа, а написано только про раненую руку и плечо. Ужас какой-то!» Написал для газет статьи, нашел другого однополчанина-очевидца А. С. Казакова, пошел во ВТЭК и добился своего: военная инвалидность Малинову была оформлена.
Поехал зимой сообщить радость другу. Возвращался в плацкартном вагоне на неудобной боковой полке (никогда удостоверениями и регалиями фронтовик, лауреат Государственной премии не потрясал), поставил под лавку новые ботинки, проснулся перед Москвой — нету. «Что же мне делать, как идти?» — стал недоумевать вслух поэт. «Запасные надо брать», — мрачно дал чисто русский совет попутчик. А соседка пожалела — пожертвовала домашние тапочки. «Спасибо ей. Хорошо, что у меня нога маленькая, да и живу я недалеко от Казанского, если на трамвае — не в метро же идти…» — рассказывал, смеясь, Старшинов.
Легкий был человек, светлый, незлобивый. А ведь самого страшно мучила фронтовая рана, часто с палочкой ходил.
Судьба одарила многих поэтов счастьем дружбы с Николаем Константиновичем. Не буду говорить о других, скажу о том, что как бы заново открылось мне при написании этих заметок: старший друг старался поддержать, развить, похвалить публично то лучшее, неоскверняемое (по выражению Блока), что есть во мне, проявить в стихах свои человеческие качества, если вспомнить начальные строки из совета молодым. Он как бы это распознавал и чувствовал не анкетно-биографически, а сердцем. Знал, что я люблю дорогу по русскому Северу, и рассказывал о своих путях по Вологодчине, про рыбалку на Шексне и домик в Тверской губернии с озером прямо за огородом, читал новые переводы карельских рун. Понял, что люблю природу и рыбалку почти так же, как он, и подарил мне к 50-летию набор рыболовных снастей. Вычитал из стихов, что я боготворю своего старшего брата, погибшего за два года до моего рождения, летчика — Героя Советского Союза Николая Боброва, и включал стихи о нем во все антологии, которые составлял. Почувствовал, что мне дорога и собственная служба в армии, и наша общая давняя Победа, и написал статью в тогдашней «Правде» о молодых, хранящих память войны, процитировав строки из моей песни с рефреном: «Мы — дети Победы, мы — вызов войне…»
Пишу эти строки и не скрываю светлых слез, повторяю как заклинание строки из стихотворения, которое я пел на его авторских вечерах под гитару:
Что мне судьба ни готовь,
Вынесу беды любые.
Вера, Надежда, Любовь —
Птицы мои голубые…
Его голубые птицы продолжают лететь по белому свету.
Владимир БРОВЦИН
Бровцин Владимир Викторович, директор рыболовно-спортивной базы «Медведица», расположенной на одноименной реке, притоке Волги. Родился в 1956 году в Москве. Учился в Институте нефти и газа им. Губкина, работал программистом. В октябре 1977 года в связи с болезнью отца, тогдашнего директора базы «Медведица», уехал из Москвы к нему в Тверскую область. Работал на базе спасателем, плотником, администратором. Последние пятнадцать лет, после выхода отца на пенсию, руководит ею.
…………………..
Старшиновка
Ко мне на Медведицу Николай Константинович редко приезжал неожиданно. Мы переписывались, и я знал, чем он живет и над чем сейчас трудится. Знал, что каждой весной, устав от бесконечной московской суеты и дождавшись долгожданного тепла и открытой воды, он ищет возможность засесть, наконец, где-нибудь с удочкой, отдавшись любимой страсти — рыбалке.
В ту весну я приехал по делам в Москву. Мы созвонились и договорились о дне поездки. И вот уже везет нас электричка, а затем автобус на север, за Волгу. О чем-то говорим, а сердце ждет: уже скоро, скоро вновь увидим любимые наши места. И вот мы в Неклюдове. Садимся в моторную лодку — и вперед по Большой Пудице на Медведицу, на рыболовную базу.
Наскоро попив чая, отправляемся на рыбалку. Быстрыми гребками веду лодку — Боровик, Пудица, Костин бор, Акатовский плес, масса маленьких заливчиков и бухточек, коих на Медведице не счесть. Пока плывем и определяем место лова, Константинович рассказывает о семинарах и студентах, о новых частушках, о знакомых и незнакомых мне людях и, конечно, о своих планах. Планов в голове Константиновича всегда неимоверно много. Но разговор продолжается лишь до начала рыбалки. Как только я ставлю лодку на якорь, мы забрасываем удочки и затихаем. Поплавки покачиваются на глади реки, а вокруг разлита тишина; лишь звуки текущей воды да с ближней опушки леса доносится бормотанье тетеревов.
Вот дрогнул и пошел под воду поплавок на удилище Константиновича. Подсечка — и первая рыба уже бьется на крючке, а затем оказывается в нашем садке. «С открытием сезона поздравляю Старшинова!» — говорю я почти стихами. Он прищуривает глаза, слегка заметная улыбка трогает его лицо, и голосом с чуть заметной хрипотцой отвечает: «Ни-че-го, ладная плотва попалась». И вновь червяк на крючке отправляется в воду.
Весной рыбу приваживать ни к чему, выбрал правильно место и все — клев обеспечен. Константинович первый начинает шутить: ядреные частушки по поводу, едкие рыбацкие замечания, реплики в случае удачи или, наоборот, при сходе рыбы. Все как всегда. Вот уже и солнце покатилось по небу в сторону березового острова — первый рыбацкий весенний день заканчивается. Садок забит почти под завязку. Больше плотвы, но есть в улове и неплохие окуни. Назад к дому гребу не торопясь. Когда выходим на берег, уже темнеет.
Присели на лавку. Недалеко, в прибрежных кустах, раздался странный звук: вж-ж-жик, вж-ж-жик — и так без перерыва. Константинович спросил: «Что за пичуга?» — «Не знаю», — ответил я. Посидели, послушали еще. С редкими перерывами птица вела свою однообразную ноту: вж-ж-жик, вж-ж-жик. «Вот засаживает!» — засмеялся Старшинов. Мы ушли в дом, поужинали, решили сыграть «вариант» (игра в подкидного дурака по правилам Старшинова — Кострова: до десяти побед одного из участников), — а за открытым окном без устали «трудилась» неизвестная пичуга. Наконец мы улеглись спать да так и заснули под ее, мягко говоря, не совсем мелодичное пение.
На следующий день за рыбацкими хлопотами о птице забылось, но вечером все повторилось снова. Константинович даже пошутил: «Прямо как я: ночами только и трудится».
Вскоре после своего отъезда Старшинов прислал мне книгу о птицах. Я прочел ее от корки до корки, но «нашей» не нашел. И сам Константинович позднее говорил, что узнавал у друзей и знакомых о странной «медведицкой» пичуге, но ни один из предложенных ими вариантов названия птицы к нашей гостье не подходил.
Спустя год, весной, так же рано Старшинов вновь приехал на базу. Обнялись, поздоровались, и один из первых его вопросов был о птице: «Ну как, прилетела, вжикает?» «Да нет, вроде не слышал», — ответил я. Однако в первый же вечер после его приезда она дала о себе знать. Когда мы услышали уже знакомое до боли «вж-ж-жик, вж-ж-жик», улыбнулись не сговариваясь и пошутили по поводу редкостного «трудолюбия» и постоянства птицы. А она вела свою песню все громче и яростнее.
А через некоторое время (не помню, кто сказал это первым) диковинную нашу пичугу рыбаки окрестили «старши-новкой». Мол, как приедет Константинович на базу ранней весной, так и птаха наша уже на месте. Никто потом больше не стал вдаваться в ее «родословную», и вот уже больше пятнадцати лет ранняя весна начинается у нас с прилета «старшиновки». Многие рыболовы уже и не шутят, а просто спрашивают, приезжая на базу: «Володя, а «старшиновка» уже завела свою песню?» Я обычно отвечаю: «Вот вечером и послушаем…»
Боровик
Старшинов не очень любил ловить в жару, а тут его приезд пришелся на начало лета. Он сказал, что сильно выдохся, устал: студенты его семинара защищали дипломные работы, в издательстве тоже запарка.
Солнце палило нещадно, было душно даже с утра. Отсидев, однако, утреннюю зорьку на «сиже» (место, где заранее подкармливается лещ), Константинович попросил: «Махнем куда-нибудь в глушь, где волна поменьше и моторки не снуют без конца». Мест таких на Медведице было несколько, 208 но я впервые предложил поехать на Боровик. Боровиком у нас называется место, где в Медведицу впадает речка Чернавка, потому что там на высоком правом берегу стоит столетний сосновый бор.
На входе в речку малявочником я наловил малька: решили поискать окуня. Признаться, так далеко на лодке по Чернавке я и сам еще не забирался. Мы прогребли сначала два, потом три километра. Ловили в разных местах, окунь шел, но хотелось плыть дальше. Речка начала сужаться, и наконец мы заплыли так далеко, что одно весло стало задевать левый берег, а другое — правый. По пути обнаружили две бобровые хатки, деревья здесь практически смыкались над головой. «Как здесь удивительно тихо, — произнес Константинович, — мне подобные места ближе, чем широкая река, здесь больше похоже на речку моего детства».
В одном из бочагов нам повезло: удалось выудить
с десяток очень крупных окуней. Попался и щуренок, который тут же был отпущен на волю. А окуни были хороши, только совсем без своих обычных ярких зеленых полос — практически черные. «Отчего?» — поинтересовался Старшинов. «А вода здесь темная, с болот стекают ручейки, как кофейная гуща, да и хвои сколько понасыпано», — сделал я предположение.
День клонился к вечеру, мы выбрали сухой бережок и, решив передохнуть, размять ноги, вышли на него. Побродили по лесу, а затем на полянке рядом с речкой развели небольшой костерок. Константинович присел, достал из кармана неизменную «Новость» и закурил. Затем поведал мне о скором завершении его сказки-пьесы «Леснянка и Апрель» и поделился новой задумкой: «Знаешь, Володя, я в литературе всю жизнь, встречался с достаточно известными людьми, много всего накопилось, теперь вот хочу книжку написать об этом».
Книга такая вышла, правда, нескоро, под названием «Лики, лица и личины». Многое из того, что прочел я потом в этой книге, было мне известно из рассказов Старшинова. Такая за ним водилась привычка — проверять на друзьях находящиеся в работе вещи. Выслушивая различные мнения, он часто в них что-то переделывал. Так же было, например, и с книгой «Моя любовь и страсть — рыбалка».
Заканчивая разговор, Старшинов признался: «Ну вот, зарядился я у тебя на Медведице, душой отошел. Теперь пора и за дела, хватит еще сил повоевать в столице». Всю обратную дорогу он шутил, сыпал частушками, видимо, подбадривал меня как гребца, чтобы веселее греблось. Когда уже подплывали к базе, сказал: «А окуни на Боровике хороши! Следующий раз приедем с Володей Костровым — и сразу сюда?» — «Обязательно, — ответил я, — только приезжайте пораньше».
Добравшись до дома, сели обедать и ужинать заодно. Моя мама хлопотала вокруг стола, стараясь угостить Константиновича всякими вкусностями. А он в очередной раз приговаривал: «Анна Ивановна, не суетитесь так, для меня главное — горячее, это, видимо, еще с детства, могу не стесняясь и дважды в день первое покушать». А потом, обращаясь ко мне: «Володя, ты не представляешь, до чего надоели всякие полуфабрикаты и вечные бутерброды. Я с удовольствием ем любую деревенскую стряпню».
Утром я проводил его на рейсовый катер. Прощаясь, Константинович сказал: «Однако осенью на щуку жди, приеду. Меня, правда, Глеб Паншин зовет осенью на Оку. Да мы его налимами заманим медведицкими — не устоит Глебушка налима половить. Заодно посоревнуемся: кто — кого!»
Николай ДМИТРИЕВ
Вспоминая Старшинова
Дмитриев Николай Федорович (1953–2005), поэт. Родился в с. Архангельском Рузского р-на Московской обл. Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт, долгое время работал учителем русского языка и литературы в г. Балашихе Московской обл. Автор книг стихов «Я — от мира сего», «О самом-самом», «С тобой», «Тьма живая», «3 000 000 000 секунд» и др. Любимый ученик Н. К. Старшинова. Жил в Москве.
…………………..
С Николаем Константиновичем Старшиновым я познакомился в 1974 году в коридоре издательства «Молодая гвардия». Кто-то посоветовал мне отнести стихи в альманах «Поэзия», и я, без особой надежды, отправился туда. Кое-где я уже тогда напечатался, но по отношению к литсотрудникам у меня сложилось очень определенное мнение: они больше заняты собой.
Но этот сухонький, слегка прихрамывающий темноволосый человек почти мгновенно это мнение перечеркнул. Он уже познакомился, оказывается, с моей рукописью (я принес ее в альманах за два дня до встречи), тут же усадил меня за редакционный стол и занялся построчным разбором.
— Давайте сравнение «точно» заменим на «словно», а то похоже на «так точно!» — с добродушнейшей улыбкой, упреждающей саму возможность даже легкой обиды со стороны незнакомого ему человека, произнес он.
Первое впечатление от встречи потом подтверждалось постоянно. Старшинов оказался тактичнейшим, тонко чувствующим собеседника человеком. Он органически не мог обидеть кого-либо (за редкими исключениями, но об этом позже).
А его обижали очень часто. Причем даже люди, его боготворившие.
— Какой вы замечательный человек! — слышалось со всех сторон.
— Что бы вам такое хорошее сделать?!
А сделать надо было немногое: похвалить какие-то его стихи, строчки. Он тогда просто расцветал.
Старшинов получал маленькие, но больные уколы постоянно.
— Так вы муж Юлии Друниной?! — восклицало очередное окололитературное существо. — Вот это да!
Конечно, Друнина была известнее Старшинова. Ее стихи, очень эмоциональные, очень доступные, с точными лирическими формулировками завоевали огромную аудиторию.
Привлекали ее бескомпромиссность, узнаваемость в каждом стихотворении. Даже верность одной теме (что служило пищей для пародистов) шла ей на пользу.
Но надо принять во внимание и то, что она одна-единственная женщина среди поэтов, участвовавшая в боевых действиях (в качестве санинструктора). К тому же, в отличие от знаменитой кавалерист-девицы, обладала удивительным женским обаянием.
Уколы Старшинов получал даже от гостиничных горничных:
— А вы не тот ли Старшинов, знаменитый хоккеист?
Старшинов улыбался, вяло отшучиваясь.
Он считал свою первую книжку стихов не совсем удачной и видел в этом причину выпадения своего имени в послевоенные годы из фронтовой поэтической «обоймы». И это при том, что некоторые его стихотворения, написанные им еще в годы войны, почти мальчиком, являлись классикой военной поэзии («Ракет зеленые огни…» и др.).
Пышно расцвела и привлекла к себе всеобщее внимание так называемая «тихая лирика». Старшинов не прошел, так сказать, и по этому департаменту, хотя у него много прекрасных стихотворений о русской природе, о деревне.
В стихотворении «Иду, ничем не озабочен…», как в зародыше, явилось многое из того, что сделалось сутью феномена «тихая поэзия»: «углубленный звук», по определению Егора Исаева, высокая духовность и глубоко национальное, очень русское мировосприятие.
Это стихотворение совершенно по звуку, по интонации, оно — из тех, что можно перечитывать всю жизнь, находя все новые и новые точки соприкосновения со своей душой. Во всяком случае, для меня — это так.
Старшинов любил природу среднерусской полосы самозабвенно.
Вот он собирается на рыбалку, на свою любимую речку Медведицу, что в Тверской области.
Домашние, как это часто водится, не очень любят такие отлучки, но противодействовать старшиновской страсти не в силах.
Николай Константинович поспешно собирает все, что необходимо для рыбалки, очень хочет побыстрее улизнуть из роскошной московской квартиры с креслами, обтянутыми натуральной кожей, с дверью в цветных витражах.
В нем осталось что-то очень деревенское, хотя большую часть жизни он провел в столице. На рыбалку собирается так, как Алеша Бесконвойный из одноименного рассказа Шукшина собирается топить баню: каждое движение любовно продумано, исполнено особого значения. Наконец выходим на улицу, едем на Савеловский вокзал.
Проводница с недоверием вертит старшиновское удостоверение инвалида Отечественной войны. И правда, Старшинов очень моложав. Мне это слово вообще-то не нравится. Молод, просто молод!
И женщины молодые на него заглядывались.
— Это мне внимание уделяется за всех, кто погиб на фронте. Нас же, с 24-го года, три процента в живых осталось, — полушутя-полусерьезно не раз повторял он.
На реке Медведице нас встречает хозяйка Дома рыбака, Анна Ивановна Бровцина. Старшинов давным-давно и навсегда приклеил к ней литературный ярлык: комендантша Белогорской крепости. Точнее не придумать. Анна Ивановна распорядительна и иногда добродушно ворчлива. Старшинова боготворит. Ни от кого не терпит ни малейшей критики в его адрес. Более того: одного гостя, которого она немножко подозревала в вольнодумстве по отношению к старшиновским достоинствам и добродетелям, она спровоцировала примерно таким вопросом:
— Ведь правда, что Николай Константинович — ангел?!
— Да, конечно! При том, что какие-то недостатки есть у всех…
Только этого гостя в Доме рыбака и видели! Больше он приглашения не удостоился.
Было к Старшинову и фанатичное отношение, и любовь со стороны самых разных людей, и глубокая привязанность. При нем все старались быть лучше. В этом, я думаю, главная загадка его обаяния.
….В пять утра выходим на лодке рыбачить. С неба, касаясь воды, свисает борода молочно-розового тумана. Звуки передаются по воде на сотни метров: можно переговариваться с рыбаками у противоположного берега, не повышая голоса.
Ловим на кружки. Кружок — это круглый пенопластовый поплавок с живцом, небольшим карасиком. Кружки мы отправляем в свободное плаванье. Они с одной стороны белые, с другой — оранжевые. Если кружок перевернулся — значит, там уже сидит щука. Ее надо еще умело подсечь — потянуть руками прямо за леску. Точнее, чуть дернуть, а уж потом осторожно потянуть.
Старшинов заставляет сделать это меня, рыбака начинающего. У меня не получается, щука сходит, блеснув в глубине чешуей.
Жалко невероятно! И стыдно перед учителем. Старшинов непреклонен:
— Подсекай еще одну. Учись!
В конце концов я упускаю еще три щуки и уже наотрез отказываюсь портить рыбалку.
Подсекает Старшинов — и в лодку шлепается семикилограммовая хищница, «младшая сестрица крокодила», как написал поэт Борис Корнилов.
Старшинова иногда спрашивали:
— Вы, наверное, ловите рыбу и стихи сочиняете?
— Нет! Я, когда ловлю, отдыхаю и головой. Просто наслаждаюсь тишиной.
Рыбалка для него — отдельный мир, сказочный, заповедный. Он даже не брился, когда отдавался этой страсти.
И все же нет-нет, да обращался к литературной жизни:
— Вот думают некоторые, что Некрасов — это что-то хрестоматийно-простенькое. А ведь у него Блок учился! «Помнишь Бозио? Чванный Петрополь не жалел для нее ничего. Но напрасно ты кутала в соболь соловьиное горло свое». Это же поздний Блок — по звуку, по интонациям.
Старшинов, как и Некрасов, любил играть в карты. Некрасов был заядлым ружейным охотником, Старшинов — рыболовом. Я думаю, Старшинов и как редактор приглядывался к опыту Некрасова. Николай Константинович, при том, что он был традиционалистом, не терпел модернистских вывертов, был терпим к поэтам, далеким ему по стилю, по художественному мировоззрению.
Он очень любил Леонида Мартынова, ценил творчество Ивана Жданова. Он открыл мне Николая Глазкова, Анатолия Чикова.
Его размышления о литературе отличались необычайной взвешенностью, отстоенностью, выверенностью.
Я поначалу не понимал, почему он жалеет Евтушенко. Евгений Александрович вроде бы в жалости не нуждался: огромные тиражи, миллионные аудитории, известнейшие песни. Нет ли здесь какой-то позы или, прости меня Боже, зависти?
— Он так запутался, столько написал лишнего!
И ведь правда! Сейчас это очевидно.
Старшинов увлеченно бросался в литературную борьбу. Известно его противостояние с Цыбиным. Образовался кружок цыбинцев и старшиновцев. Что-то вроде гвардейцев кардинала и мушкетеров.
Про себя я называл Старшинова «дедом Тревилем». Эта борьба началась не с расхождения во взглядах на поэзию. Старшинов придавал огромное значение личным качествам писателя, не прощал мелкие, подленькие поступки, ловкачество. Другие грехи мог простить.
Однажды в Центральном доме литераторов я увидел цыбинцев, сидящих за одним столиком и славословящих Учителя. Мне захотелось их осадить. Я подсел к ним и предложил:
— Назовите хоть несколько строчек вашего Учителя.
В ответ — смущение и гробовое молчание, а потом — возмущение. Ясно было, что объединяли их интересы, далекие от высокой поэзии. А мы стихи Старшинова знали наизусть.
…Я иногда смотрел на Старшинова — и он мне казался человеком не только нашего времени. Он и правда связал, можно сказать, целые эпохи. Он воевал с пулеметом «максим» — с чапаевским пулеметом! Он был знаком с возлюбленной Маяковского! Он помнил горькие плоды коллективизации. Я знал людей старше его, но необыкновенная старшиновская памятливость на людей и события словно бы увеличивала его возраст, уводила его корни глубоко-глубоко.
Он полемизировал с Аксаковым о тонкостях рыбной ловли, как с современником, он ставил в пример вечно странствующего Пушкина молодым поэтам, проводившим лучшие годы в чаду цэдээловского буфета.
Работоспособность его была удивительной. Он отвечал, по-моему, на все письма.
Римма Казакова призналась мне:
— Я бы тебе не стала отвечать, если бы не пример Старшинова (я в семнадцать лет послал Казаковой четыре стихотворения и записку, которая ей не понравилась несколько жалобным тоном. —
Н. Д.).
Спал Николай Константинович в среднем четыре часа в сутки! У него была способность оставлять светлую память о себе при жизни. Помню, мы с женой приехали на Медведицу без него, и я припоминал каждое его слово, каждый шаг.
Сейчас, когда уже прошли годы после смерти Николая Константиновича, Володя Бровцин, сын хозяйки Дома рыбака, бродит по берегу Медведицы, как по старшиновскому музею, бормоча его стихи, вспоминая каждый жест, каждое слово.
Счастливая судьба!
2004 г.
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
Рота Старшинова
Калюжный Григорий Петрович, поэт. Родился в 1947 году в г. Макеевка Донецкой обл. Окончил Кировоградскую школу высшей летной подготовки. Долгое время работал штурманом гражданской авиации на внутренних и международных авиалиниях. Автор поэтических сборников «Разбег» (1976), «Грозы» (1982), «На встречных курсах» (1986), «Зона ожидания» (1989), «Открой поэта» (1991). Живет в Москве.
…………………..
Впервые я увидел Николая Константиновича Старшинова весной 1974 года на литературном празднике в Кутаиси. В ряду маститых поэтов он торопливо, чуть ли не скороговоркой, прочел свое стихотворение: «Я был когда-то ротным запевалой…» Вероятно, на этом и закончилось бы мое с ним знакомство, но вечером того же дня для «подающих надежды дарований» был организован конкурс одного, обязательно короткого, стихотворения. Я прочел стих, воплотивший настроения моего послевоенного детства:
Мне безымянная приснилась высота.
Гудят шмели, ромашки расцветают,
Я — лейтенант. Моя душа — чиста,
Со всех сторон нас молча окружают.
. . . . . . . . . .
Мне повезло: вокруг меня бойцы
Годятся мне по возрасту в отцы.
Идет по кругу щепоть самосада,
Они спокойны. Им речей — не надо.
Не надо им о долге повторять,
Перечислять тяжелые утраты…
Ничем нас у России не отнять.
Спасибо ей, что мы ее солдаты.
Председателем конкурсной комиссии был известный грузинский писатель Нодар Думбадзе, поначалу встретивший выступление молодого ленинградского пиита весьма приветливо. Однако по мере моего чтения его лицо почему-то стало резко мрачнеть, а на заключительные строки он и вовсе отреагировал откровенно враждебным взглядом. Почему?! После конкурса я с немалым удивлением узнал от местных литераторов, что прочитал верноподданнические стихи, которых-де русские поэты (Пушкин, Лермонтов, Есенин) никогда не писали. Моих возражений они не принимали. Свидетелем нашего спора оказался Старшинов. Видя мою затравленную отстраненность от всех участников торжества, он подошел ко мне и с почти озорной веселостью посоветовал не расстраиваться, а, наоборот, радоваться тому, что на меня не навесили ярлык шовиниста. Стыдно признаться, но я не понимал значения слова «шовинист» и попросил его объяснить. Старшинов внимательно, как бы испытующе посмотрел на меня и вдруг так расхохотался, что к нам стали подходить, думая, что мы травим анекдоты.
Тогда же, в Кутаиси, он попросил у меня подборку стихотворений и тут же устроил их разбор. Особенно заинтересовал его опубликованный в журнале «Аврора» незадолго до этого «Сом». Похвалив его, он никак не мог согласиться с некоторыми неточностями приемов ловли сома на удочку. Я возражал: «Вы поймите, Николай Константинович, я не о соме писал, а о себе — десятилетнем подростке, который никаких рыболовных наставлений не читал, пользовался исключительно слухами. Вы говорите, что сом на подмасленное тесто не ловится, но ведь у меня он и не клюет на эту наживку». «А потом, — не сдавался Старшинов, — у вас годовалый сом, размером дай Бог с ладошку, и вдруг «шатает берега»?! Кто в это поверит?»
Я объяснял, что в стихотворении описана не реальность, а состояние мальчика, проведшего на берегу лесной реки, в одиночку, не одну ночь среди пугающих шорохов и звуков, там ведь и гадюки водились, было страшно, а у страха глаза велики, вот и сом показался огромным!..
Я вернулся в Ленинград в полной уверенности, что убедил своего неожиданного доброжелателя из числа московских литературных тузов. На этом наши отношения со Старшиновым по моей вине прервались. Дело в том, что обстановка в 205-м летном отряде, где я работал в то время штурманом самолета ТУ-104, была чрезвычайно напряженной, и не только из-за нехватки штурманов. Годом ранее, впервые в истории «Аэрофлота», был совершен вооруженный захват авиалайнера как раз из нашего отряда. За ним последовала целая серия захватов. Один из них (Сухумский) памятен мне тем, что в нем, как нам доложили на разборе полетов, участвовал сын известного писателя Думбадзе… Никаких сообщений в печати об этих трагедиях не было. Их замалчивание объясняли нежеланием травмировать психику пассажиров. Нас же, летчиков гражданской авиации, изначально отобранных по признаку антистрессовой психики, это, естественно, не касалось, но мы давали подписку о неразглашении. Наряду с этим выявилась еще одна трагедия, о сокрытий которой я подписку не давал. Она имела прямое отношение к моему сближению со Старшиновым в дальнейшем. Так совпало, что тогда же громкий и очень авторитетный в Ленинграде писатель Федор Александрович Абрамов, защитник деревенской России, в запале публично призвал меня сосчитать сверху, сколько погибает в России сел и деревень. Сличая наличие населенных пунктов с полетной картой 1947 года больше для очистки совести, нежели всерьез, я неожиданно пришел к ошеломляющему выводу, что они ежегодно гибнут
не десятками, не сотнями, а тысячами! В печати же вообще об этом не говорилось. Мои попытки хоть как-то осветить эту тему тоже не имели успеха. Я стал доказывать, что мы живем в аварийном мире, где никто ни за что не отвечает. В ответ меня обвиняли в провоцировании паники, ибо «стремительное сокращение сельских поселений в условиях научно-технического прогресса — явление всемирное, вполне закономерное, нормальное» и т. д. Подобные обвинения были отнюдь не безобидными, поскольку тот, кто выступал против нормальных явлений, естественно, попадал в разряд ненормальных. Меня вполне могли списать с борта на землю с известным диагнозом. Стремясь защитить себя от подобной перспективы, я подал заявление о приеме в Союз писателей, но, несмотря на солидные рекомендации, мою кандидатуру отклонили. Было отчего затосковать. И вдруг от Старшинова пришло письмо. Он писал:
«Дорогой Григорий!
Антологию я собрал полностью, а все-таки работа над ней продолжается.
Я возвращаюсь к Вашему «Сому». Рыбаки надо мной смеются, и действительно, даже по рыболовному справочнику, который мне пришлось открыть, сом лишь на
пятом году жизни достигает 1000 гр.
(1 кг) веса. А у Вас «годовалый сом» уже вовсю обрывает лески (у него в губе три (!) «оборванных крюка»), а потом, когда Вы его отпускаете, он идет по речной протоке, «шатая берега»! Глыба! А в годовалом соме, дай Бог, 200 гр. Дальше — «подмаслив тесто», Вы ловите сома. Но он на тесто никогда не берет. Ему нужны рыба, лягушка, кишки птиц, мясо — словом,
животная насадка, а не
растительная.
Я предупреждаю Вас —
лучше уберите срочно это тесто и сделайте возраст сома неопределенным. Иначе, когда будет читать редколлегия (а в нее входят два старых рыболова С. В. Смирнов и В. В. Дементьев) и сделает свои замечания (а тогда уже будет поздно исправлять), я даже не смогу им ничего возразить, ибо они будут правы. Придется «Сома» снимать, а без него Вы будете выглядеть очень худо… И вообще в подобных случаях точность не мешает. Ведь стихи будут читать и еще сотни людей, понимающих в рыбалке, и будут смеяться над нашим неведением… Зачем?
Всего Вам доброго.
Н. Старшинов 2/V—78 г.»
Я был обрадован, что Старшинов не только не забыл обо мне, но даже хлопотал о моем присутствии в анатологии! С другой стороны, меня огорчили его замечания, почти дословно совпадающие с прежними. В ответном письме я отказался внести предлагаемые правки и решил, что после этого он уже наверняка поставит на мне крест.
Летом того же 1978 года я был переведен в Москву и стал летать за рубеж. Прощаясь, мой командир по-отечески посоветовал мне не торопиться афишировать свои наблюдения по наличию селений «у них» и у нас. Я понял, что меня отстояли ленинградские летчики. И это в то время, когда среди перебежчиков за границу деятели от искусства были не редкостью! Постепенно, во время полетов на Запад, выяснилось, что там сельские поселения, несмотря на «планетарность научно-технического прогресса», никуда не исчезают. Так расстаяли все мои сомнения в том, что стремительное сокращение сел и деревень в России имеет запланированный характер. Нужно было бить в колокола! Однако меня в Москве не только печатать, но даже и выслушать толком
не хотели. Однажды я заявился в журнал «Юность», где зав. отделом поэзии был Натан Злотников. Он-то и отфутболил меня к Старшинову: мол, сельские трели аккурат по его части. А к нему как раз мне идти меньше всего и хотелось. Ведь ни одной строчки из моих стихов он так и не опубликовал. Что же навязываться?
Однако в издательство «Молодая гвардия» я все-таки пошел, поскольку в нем имелись и другие издания. И там, у самого входа, нос к носу столкнулся со Старшиновым. Он пригласил к себе. Когда мы вошли в редакцию возглавляемого им альманаха «Поэзия», я невольно попятился — так много было там народа. «И все они к вам?!» — «Ко мне», — весело ответил Старшинов. «Ну, тогда я пошел». — «Почему?» — искренне удивился он. «Как почему? У вас тут как минимум сто человек — целая рота!» — «Ничего, будете сто первым», — сказал он с улыбкой, в то же время подталкивая меня в свой кабинет как бы вне очереди. Не успел Старшинов усадить меня, как в дверь буквально ввалилось несколько человек и он вполне естественно переключился на них. Только они ушли, вошли новые. Константинович молча развел руками — мол, подожди, и до тебя очередь дойдет. Но она все не доходила. Несколько раз он давал мне стихи своих посетителей и спрашивал мнение. Это были довольно беспомощные опусы, однако Старшинов, против моего ожидания, так никого и не отфутболил. Более того, он сидел в кабинете до тех пор, пока не переговорил с каждым, включая меня. Я говорил ему о гибели деревень второпях, поскольку было уже довольно поздно. К тому же его заместитель Геннадий Красников опаздывал на электричку, и я не решился даже заикнуться о своих стихах. На прощание, уже в метро, Старшинов сказал мне: «Не пропадайте, приходите…» — «Как же приходить, если у вас уже и без меня не менее ста поэтов имеется». Он ответил как и в первый раз: «Ничего, будете сто первым». Теперь эти его слова прозвучали для меня как вызов.
Как-то я купил книгу Старшинова. Там было такое стихотворение:
Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи — солдаты
Идут вперед за взводом взвод.
Далее рассказывалось, как идущая на передовую пехота встретила разбросанные на земле деньги, но никто за ними даже не нагнулся:
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
Это стихотворение было настолько созвучно моему тогдашнему настроению, что у меня тут же родился ответ на недавний вызов Старшинова:
Быть может, я поэт сто первый…
Все ж не без юмора Творца
В наш век вошел обычай скверный
Вести в итоге счет с конца.
. . . . . . . . . .
И вот решил в честь командиров
Я покорить Парнас московский.
Прощай, Володенька Барилов.
Прощай, Рязанов, и Стрелковский.
Не для торгашеских аршинов
Я вас оставил до поры —
В надежде, что поэт Старшинов
Заметит и меня с горы.
И скажет: «Не в строю шагает
И много на себя берет,
Но ничего не покупает
И ничего не продает…»
Его реакция была неожиданной: «Гриша! Какая гора?! Я сижу в такой помойной яме среди графоманских рукописей, боюсь, так и помру в ней!» Я увидел перед собой безмерно уставшего, одиноко несущего свой крест Константиновича. Оставив свою рукопись, я ушел от него в большом смятении. Спустя две недели мне позвонил Геннадий Красников: «Срочно приходите вычитывать гранки». — «Какие гранки?» — не поверил я своим ушам. «Вашей поэмы «Метель». Вообще-то мы в альманахе поэмы принципиально не печатаем, но для вас решили сделать исключение». Той же весной 1982 года вышла в издательстве «Современник» моя книга стихов «Грозы» с предисловием Старшинова. Он писал: «Чувство ответственности за человека, за свою судьбу и за судьбы других проходит через многие его стихи. Этим чувством пронизана и маленькая поэма «Метель», в которой есть такие значительные строки,
написанные на борту самолета:
Когда ж невольно на мгновенье
На землю опускал я взор,
Картина виделась мне та же:
Земля — корабль, что бури ждет,
И только чувство экипажа
Ее от гибели спасет».
Это предисловие окрылило меня и вместе с тем заставило поволноваться. Ведь штрих о том, что строки из поэмы были написаны мною в самолете, мог стать серьезным поводом для служебного разбирательства: не стихотворствую ли я во время полета? Но мои опасения не оправдались. Однако и разрываться между двумя работами — летной и литературной — с каждым годом становилось все тяжелее. Когда я ушел из авиации, «рота Старшинова» стала для меня единственной в своем роде школой поэтического общения, где можно было и спорить, и высказывать наболевшее. Старшинов и его неизменный помощник Красников были душой такого общения. Благодаря им любые, даже самые острые баталии, чаще всего заканчивались миролюбиво. Нужно сказать, что двери альманаха были всегда открыты для поэтов всех направлений, и, разумеется, в нем случались стихийные бои сторон. Как-то я доказывал, что мы, живя в аварийном мире, должны стремиться к чистоте эфира, к немедленной ответственности и т. д. Меня тут же обвинили в том, что я посягаю на свободу личности. Даже мой близкий друг объявил мне, что я все свожу к самому себе, к своему мировоззрению. «Николай Константинович, и вы так думаете?» Старшинов ответил мгновенно: «Я думаю, Гриша, что настоящий поэт обязательно
всё сводит к себе и это
всё пропускает через свое сердце. Вопрос только в том, как он это
всё и во имя чего выражает. Я думаю, что без этого качества поэт вообще невозможен. И Пушкин ведь
всё сводил к себе, и Лермонтов, и Блок, и Есенин. Не всем одинаково удалось это, конечно. Мне вот по моей редакторской должности приходится читать сотни рукописей способных молодых поэтов, но, увы, круг их интересов очень ограничен. Больше устаешь не от количества прочитанного, а от мелкотемья…»
Я не без смущения подумал тогда, что как личность он мне почти не известен. И только ли мне одному? Поэтому когда осенью 1984 года он предложил мне съездить с ним на рыбалку, я согласился при условии, что мы возьмем с собой фотографа Вячеслава Карева. Ведь через два месяца Старшинову исполнялось 60 лет, и мне пришло в голову опубликовать с ним беседу к этой дате. На рыболовной базе, что на реке Медведице, нам со Старшиновым отвели отдельную комнату, где после дороги мы мгновенно уснули. Среди ночи я проснулся и при свете луны увидел сидевшего на кровати в согнутом положении Константиновича. Он разматывал с ноги, чуть выше щиколотки, потемневший от крови бинт. «Что с вами?!» — испугался я. «Ерунда, — сказал он, заметно смущаясь оттого, что разбудил меня, — осколки от немецкой гранаты выходят». И действительно, включив свет, мне удалось извлечь пинцетом осколочек железа размером с помидорное семечко. Утром, проснувшись в полной уверенности, что рыбалка сорвалась, я с удивлением узнал, что Константинович уже удит с Володей Бровциным в лодке на лесной речке Пудице, притоке Медведицы. К обеду рыбаки вернулись. Володя нес удочки, за ним прихрамывал сияющий Старшинов. Он буквально преобразился, на лице — восторг, хотя, насколько я помню, восхитительного улова не было.
Это счастливое преображение он сам замечательно выразил в ранее написанном стихотворении «Ах, лесная речка Пудица — родниковая вода…», посвященном, кстати, Володе Бровцину и Саше Замятину,
с которыми я имел немалое удовольствие общаться. Разговор же с самим Константиновичем, из-за его полного ухода в рыбалку, состоялся уже в Москве. Однако эту беседу с ним ни к юбилею, ни после так и не опубликовали. Включаю ее в свои воспоминания как документ того времени.
«— Я родился в Москве, а вырос в деревне Рахманово под Загорском (ныне Сергиев Посад. — Г.
К.). Почти круглые сутки находился на чистом воздухе в лесу на реке. Травы и деревья знал хорошо. Меня ведь лесовиком звали в деревне. Ребята деревенские сидят на завалинках, а я убегу в лес, рыбу ловлю. Все детство на природе. А природа, она облагораживает человека, все самое красивое с ней связано, все самое здоровое. Ты вот сказал, что меня не берет никакая душевная коррозия. Видимо, с малых лет я получил какой-то большой заряд оптимизма, которого, вот видишь, до шестидесяти лет хватает. Хотя у меня было время и разочароваться во всем, и стать пессимистом, потому что по ходу моей жизни было так, что и люди, которым я помогал, подлости потом мне делали, и сам я не так жил, как хотелось бы в идеале… Но был такой заряд с детства. Может быть, природа, может быть, большая семья. В нашей семье восемь детей было.
— Вы хотите сказать, что пессимизм и эгоизм зарождаются там, где ребенок растет одиноким в семье?
— По-моему, это убожество, когда ребенок растет в семье один. Он ведь сразу формируется как эгоист. Его пичкают. Ему одному все внимание. Он никогда ни с кем ничем не делится. А пессимизм — это оторванность, это одиночество. Одинокий ребенок ни чувства брата, ни чувства сестры не знает. А большая семья большой жизненный заряд дает. Она дает чувство семьи… Русский национальный характер всегда отличался цельностью. Сострадание и сопереживание неотъемлемые наши черты. Это неспроста. Испокон века у нас крепкие семьи были, 3–4 ребенка считалось только-только, а нормально, так 5–6, хотя и 12, и 14 было. Потом, раз большая семья, то, конечно, и трудности материальные. А их надо преодолевать. И человек как-то к этому с малых лет приспосабливается.
— То есть в большой семье появляется напряжение каких-то неизбежных преодолений?
— Ну да, преодолений — неизбалованность, участливое отношение друг к другу. А когда один ребенок растет, мне кажется, это противоестественно. В природе нет такого. Все в природе растут большими семьями: цветы, птицы, деревья, травы, рыбы… Мало что растет в одиночку. Настоящий строевой лес вырастает, так сказать, в коллективе. Одинокая сосна, например, всегда крючковатая, всегда разлапистая. А в строевом лесу ей мешают соседние сосны, и она тянется к солнцу, вверх и вырастает стройной. Одинокое дерево, хотя оно, может быть, и крепкое, для строительства не годится. Так и зажравшийся человек, которому все соки отдавали, только для себя их и использовал.
— Николай Константинович, у вас есть такие строки: «Река вошла в болото ржавое. И больше не было реки». То есть мысль ваша такова — с одной стороны, будь в коллективе, а с другой — не теряй самого себя. В природе вы все время прослеживаете чисто человеческое.
— Ну да. Природа ведь всегда идет параллельно с человеческой судьбой. Как только река остановилась или остановлена плотиной, так вода сразу и зацветает. Или возьмем деревенский колодец, пока из него много воды берут, вода в нем свежая, родниковая.
И наоборот, если мало им пользуются, вода в нем значительно хуже. Во время войны, когда через деревни проходили части, все вычерпывали из колодца, все выскребали до дна — ведром глотка воды не наберешь. Зато потом там такая хорошая вода была. А когда вода застаивается, естественно, туда и всякие жуки падают, она разлагаться начинает. И с человеком точно так же, если он замкнулся на себе, душа его застаивается. Человек живет общением.
— Судя по вашим стихам, и не только с людьми. Я имею в виду рыбную ловлю.
— Я считаю, что она мне много дает. Из-за нее мне приходится много ездить. Рыбалка — это действительно моя любовь, с которой вся жизнь прошла. Эта моя страсть вспыхнула с поимки щуки в пятилетием возрасте.
— Я побывал с вами на рыбалке несколько раз и заметил, что для вас как бы не существует граней, вы и в городе свой, и в деревне. А ваши стихи о рыбах наводят меня на мысль, что вы и в подводном царстве не чужой. Читая, например, ваше стихотворение «Линь», кажется, что вы вместе с линем поднимали со дна пузыри, прежде, чем написали его.
— Это удивительная рыба — линь. Как-то он особняком стоит. Многие рыбы — плотва, окунь, лещ — стаями ходят. А линь индивидуалист большой. Он живет в одиночку, во-первых; во-вторых, он спит почти две трети жизни, своеобразный водяной Обломов. Где-то в мае пробуждается и уже в августе — сентябре засыпает, зарывается в ил. В-третьих, его не берет никакая хищная рыба почему-то. В связи с этим даже легенда есть: линя, мол, не глотает хищная рыба потому, что она от него лечится, трется об него, и эта его слизь (а он весь в слизи такой) залечивает хищным рыбам раны. Это муть, конечно, ерунда. Щука и полечится, и сожрет. Тут причина в чем-то другом. И потом, линь очень трудно ловится на удочку. Вот у меня, в частности, случай был, я после чего стихи-то написал. Дело было в Литве. Смотрю, поплавок зудит мелко-мелко, как будто ветром его знобит. Это потому что линь не заглатывает червяка, как другие рыбы, — ran и все!. Он сосет его за кончик. И здесь не поймешь, когда его подсечь. Ну, думаю, буду до победного конца сидеть… Вдруг — раз! Зуд поплавка закончился. Вытаскиваю — он дососал этого червяка прямо по крючок и бросил, глупый. Ну, думаю, сейчас. Заправляю свежего червяка. Опять поплавок зазудел. Подсекаю. Эх! Пусто. Закидываю… Опять поплавок позудел и перестал…
— Так и не поймали?
— Нет, вот слушай. За несколько часов он меня буквально извел. Я и за ракиту прятался, и на траву ложился, чтобы он меня не видел. И, может, он бы меня весь день морочил, но мне повезло. Видимо, при определенных метеорологических условиях у него аппетит и решительность пробуждаются. Откуда-то облачко набежало, и несколько капель дождя упало на озеро. И вдруг мой поплавок — вж-ж-и-и! Я — раз! Чувствую, моя удочка вот-вот сломается. Еле выволок. Вот такой вот гигант! Он же красавец бронзового цвета! Ты видел линей? У них разные оттенки. Такие маленькие глазки у него, и он не резкий, но очень упрямый, упрется и тащит как бык. Вот после этого случая я и написал стих. А вообще-то, если бы было время, я бы написал книгу о рыбах даже не с точки зрения рыболова, а о их нравах. В частности, о щуке я хотел бы чуть ли не целую книгу написать.
— Николай Константинович, вы не обмолвились, говоря о рыбьих нравах? Нравы у людей, а у рыб повадки.
— Это, может быть, смешно, но если меня сравнивать с рыбами (и сам я иногда себя с рыбами сравниваю), так вот, если бы я был рыбой, то какой? Плотвой, окунем, щукой? Видимо, я был бы налимом! Почему? Потому что я чувствую себя гораздо лучше, когда прохладно, когда непогодь. А когда жарко, я сонный, не то чтобы ленивый, но мне трудно все делать. И налим такой же. Когда лето, когда жарко, он вялый, беспомощный спит под корягой. Его тогда хищники хватают. Но стоит похолодать, когда все рыбы, наоборот, становятся вялыми, сонными, тогда у него самая энергия, самый аппетит. Буран, снег метет, вихри, темная ночь страшная (по ночам особенно вся рыба подавлена), и тут он ходит, а днем он опять-таки отдыхает. А я тоже по ночам до пяти часов утра работаю, так что, видимо, я к налимам примыкаю…
— Это, конечно, шутка, но в ней чувствуется нешуточная потребность в одиночестве, знакомая каждому поэту.
— Честно говоря, я даже не люблю с кем-то рядом ловить. Очень редко кого я в это время терплю, потому что хочу быть один.
— То есть рыбалка для вас полное выключение?
— Да, полное. Я люблю один сидеть в лодке или на берегу где-нибудь, чтобы никто меня не видел…
— По-моему, рыбалка это предлог. Многие ваши стихи населены и цветами. Вот:
В этих ложбинах, ольхой поросших,
Каждая малость ласкает взгляд.
К таволге льнет мышиный горошек,
И горделиво глядит гравилат.
В этих ложбинах души не чая,
Вижу я, как на бугре, вдали
Розовым пламенем иван-чая
Рвется наружу огонь земли.
В этих любимых моих ложбинах,
Где и всего-то — пырей да осот,
Сердце взлетает до ястребиных,
Синих и чистых своих высот.
Это стихотворение завораживает, особенно строка: «И горделиво глядит гравилат». Правда, я не знаю, что такое гравилат.
— Гравилат — это дикий цветок. Обычно он растет в тени, у кустов, на опушке леса. Он растет на тонком, очень изящном стебле. Цветок у него темно-багрового цвета, как пучок такой, из пучка лепесточки торчат. Он не то чтобы редкий цветок, но встречается не часто.
— Я заметил, что вас тянет в места глухие, ничем не выдающиеся на первый взгляд.
— Действительно, я почему-то люблю неприметные утолки, ничего там нет особенного, вот ольха и все. Незаметное такое местечко, а душевный всплеск рождается. Я написал об этом: «И посыплются милости с неба, и окатит меня синевой, и проглянет земля из-под снега прошлогодней пожухлой травой. И засветятся кочки болота бархатистою зеленью мха…» Я очень люблю всякие мхи, люблю по мховым болотам бродить: ягель, лишайник, кукушкин лен… Мне очень нравятся эти растения. Есть в названиях растений какая-то магия — колокольчик, лютики, гравилат…
— Наверное, вы бы не знали всех этих названий, не пожив в деревне?
— Ну, конечно, конечно, какой там гравилат. Городские удивляются, откуда я знаю всякие травы, названия цветов? Для них это просто цветок, а как его по имени-отчеству величают, им неведомо, Трава, цветок — вот и все. Между тем почти все растения целебные, ими все живое исцеляется.
— Николай Константинович, мне кажется, живой язык тоже лечит, особенно деревенский. Нет ли здесь ниточки?
— Ниточка тут есть. Поскольку сельские жители ближе к природе, то и язык у них более живой. Горожанин о неуродившейся ржи скажет, например, что рожь редкая, колоски далеко отстоят друг от друга или что-нибудь в этом роде, а деревенская бабка говорит: «От колоса до колоса не слыхать голоса». Это значит плохая рожь, не уродилась.
— Многие поэты часто ставили себя над природой или против своей воли оказывались вне ее. Как вы себя мыслите в этом плане?
— Конечно, я себя мыслю частью природы. Частью, которой я себя все больше чувствую.
— И никогда не чувствовали себя царем природы?
— A-а?! Нет, никогда…
(Смеется).
— Это не случайный вопрос. Маяковский в зрелом возрасте с гордостью признавался, вот дословно: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Ведь это сказано большим поэтом.
— Маяковский — большой поэт, но его фигура при всем при том трагическая, хотя бы потому, что он наступал на горло собственной песне. И еще время было такое, когда вся ставка была на технику, а с природой вообще не считались. Многие тогда были заражены сознанием того, что природа несовершенна, ее хотели усмирить, укротить и так далее. Я считаю, что это ужасно. Я уже писал об этом: «Видно, чего-то мы перемудрили, стали чего-то не понимать. Все покоряли тебя — не покорили, как же такое — родную мать!..»
— Значит, трагизм Маяковского и в том, что он отстранился от природы, считая ее неусовершенствованной вещью?
— И в этом. В природе все совершенно и разумно… Скажем, я ловлю рыбу. В одном углу озера ловится окунь, и в другом ловится окунь, между ними двести метров, а они окрашены по-разному, как будто из разных водоемов, почему? Оказывается, в одной части озера дно темнее, а буквально в двухстах метрах дно песчаное, светлое. Там, где темное дно, окунь гораздо темнее, чем там, где светлое. То есть природа — это какой-то гениальный организм, который мгновенно реагирует на малейшие отклонения. Все живое она регулирует. Окунь как бы входит в сам организм природы, и она защищает его, как себя.
— Может ли поэт, не имея чувства природы, иметь цельное чувство родины, чувство связи времен?
— Мне кажется, эти чувства как-то соединены в одно целое и друг без друга быть не могут. Природа и родина даже корень один имеют. Конечно, человек, не чувствующий природы, лишен в какой-то мере части чувства родины.
— Известно, что наш народ самый читающий в мире. Вместе с тем, и это не только мое мнение, именно поэзии у нас не уделяется должного внимания. О текущих проблемах и новинках кино мы узнаем из еженедельной телевизионной передачи «Кинопанорама». Эстрада и спорт не сходят с экрана телевизора. А поэзию, ее насущные проблемы телевидение фактически не освещает, если, конечно, не считать передачу «Вокруг смеха».
— Честно говоря, меня всегда это удивляло… Разумеется, хорошо, что у нас развивается спорт, и дай Бог, чтобы он процветал. И все-таки спорт, исключая шахматы, — это в основном работа мышц, а поэзия — это в чистом виде работа души, чувств, ума. Конечно, ее в печати так не освещают. Дай Бог, чтобы в Литературной газете в месяц раз или два появилась статья о поэзии, о литературе.
— Николай Константинович, поэзия тоже представляет нашу страну с главной ее стороны, с духовной. Если она завяла, то, кажется, нужно бить тревогу; если она процветает, то почему вокруг нее тишина?
— Я не скажу, чтобы у нас сейчас был расцвет поэзии, но и упадка в ней нет. Несмотря на то, что за последние десять — двенадцать лет мы потеряли таких первоклассных поэтов, как Исаковский, Твардовский, Тихонов, Симонов, Мартынов, Смеляков, Луконин, Орлов, Антокольский… Все равно у нас есть, на мой взгляд, достаточно большая группа поэтов, которые и интересны, и полезны широкому зрителю и читателю.
Я думаю, что их недостаточно пропагандируют. Поэзия тоже нуждается в пропаганде, тем более что сегодня средства пропаганды настолько сильны, что они могут забить что угодно. Ведь книжка поэта выходит тиражом десять — двадцать тысяч экземпляров. Это двадцать тысяч читателей максимум. А телевизор смотрят сразу восемьдесят — сто миллионов в день.
— И последний вопрос. Какие качества вы цените в поэте?
— В идеале поэт должен соответствовать тому, что он пишет. Ни один к одному, ни абсолютной копией, конечно, но в основных чертах должен соответствовать».
Получив от ворот поворот в отношении публикации этой беседы со Старшиновым, я решил не сдаваться и подготовил к наступавшему 40-летию Победы в Великой Отечественной войне новую беседу с ним. Все повторилось — ее тоже не опубликовали. Здесь я привожу только те фрагменты из нее, которые существенно дополняют прежние.
«— Вырос в многодетной семье… Отец настаивал — учитесь, ничего, худо-бедно живем, но пока я жив, учитесь! Еще в Первую мировую отец был военным писарем. Поэтому к нему в Москве обращались незаконно обиженные земляки-односельчане, и он множество писем, просьб и жалоб написал. Сначала Ягоде, а затем Ежову. Не знаю, почему его не арестовали… Был он страшно наивным и набожным. Водил меня в церковь. Но перед самой войной, когда слег от инсульта, потребовал продать иконостас и ризы, которые у нас имелись, и на вырученные деньги купить мне гармонь, а себе — портрет Сталина. На этот портрет он по утрам вместо иконы молился и благодарил вождя за то, что он выучил восьмерых его детей… Это было и смешно, и трагично, но это было…
— Тем не менее у вас, кажется, нет стихов, воспевающих Сталина?
— У меня долго не выходила первая книжка, мне просто условие поставили, что она не пойдет в набор до тех пор, пока не будет стихов о Сталине. Это сегодня трудно понять, но тогда это требование имело силу закона. Не сразу, как-то само собой написалось стихотворение о родине, где были такие строки: «К Сталину со всех земель планеты письма благодарные летят». В общем-то это было правдой, ведь фашизм был побежден при нем. Как только эти строки появились, книжка тут же пошла в набор и вышла в 1951 году в издательстве «Молодая гвардия».
— Вашему поколению выпало много пережить. Но вот один юный неформал публично заявил: от нашего героического прошлого тошнит. Что же получается, поколение отцов все без исключения виновато, иначе какое же оно поколение?! Что вы на это скажете?
— Ну, оплевать все и всех легче, чем разобраться… Вот ко мне из бюро добрых услуг на своей машине приезжал страшно практичный молодой человек. Он мне просверливал дырки в стене и похваливал мою библиотеку. Я вижу, в книгах он разбирается, спрашиваю: «А вы что окончили?» — «Я медицинский окончил». Я говорю: «А как же так?!» А он мне говорит: «А какой же дурак сегодня будет работать за 140 рублей, ощупывать, ослушивать умирающих потных стариков и старух… Я здесь имею дело с кирпичом и зарабатываю 150 рэ в три дня. Сейчас, если ты не лопух, можно жить вот так!» Для него, хотя он и давал клятву Гиппократа, не важно, каким способом выколачивать свои 50 рублей в день. Он, конечно, тоже может предъявить претензии к моему поколению, но я их не могу принять. Мы были бескорыстными. К тому же что я мог видеть мальчишкой? В школе мы только и делала, что глаза в учебниках вытыкали то Блюхеру, то Тухачевскому, то Егорову, как врагам народа. А в шестнадцать лет моих началась война, тут уже не до разборов было.
— Да, но среди обвинителей вашего поколения могут быть и вполне бескорыстные люди… Один студент сказал пожилой женщине: «Мы хотим, чтобы вы скорее ушли, с вами умрет и ваше былое!..» Это могло быть сказано вполне бескорыстным человеком.
— В известной пословице два смысла — сын за отца не только не отвечает, но как бы автоматически и право судить отца имеет. На самом деле это право должно быть выстрадано личным опытом… Много бед на землю принесено бескорыстными людьми от неведения. Помнишь, благими намерениями дорога в ад стелется. Проще всего поставить на нас крест и сказать: вы нас погубили, а значит, вы подлое поколение…
— Николай Константинович, сегодня обвиняется не только ваше поколение. В печати появляются мысли «о невменяемости» нашего народа, о его «дурости»… Вот в шестом номере журнала «Нева» за 1989 год одна поэтесса пишет: «Снова нэп. Торгаши-барыши. Вот чем ты обернулась, свобода… И чего было ждать от народа, Для которого все хороши…» И дальше: «Нет, Россию никто не спасет, Ей не вырежешь дурость, как гланды…»
— Это, конечно, очень серьезное обвинение всего народа в дури, в тупости, для которого все хороши. Я не знаю, кто она, эта поэтесса, молодая или старая, но эти строчки написаны ею не от зрелого ума. Во-первых, нэп в свое время накормил страну, дал ей возможность прийти в себя. Во-вторых, хотя по сути дела наш народ коварством и хитростью и был поставлен на колени, но не таким уж был он рабом — «для которого все хороши». В частности, об этом говорят частушки, в которых есть и характер, и боль, и озорство, и юмор. Так, из моей деревни Рахманово дед получил восемь лет за частушку:
Ой, калина, калина,
Нос большой у Сталина,
Больше, чем у Рыкова
И у Петра Великова!
Здесь нет благословения тирану. Я говорю не о тех частушках, которые нам подсовывали, о счастливой колхозной жизни, а о гонимых печатью, вроде этой:
Птицеферма, птицеферма,
Птицеферма строится.
А колхозник видит яйца,
Когда в бане моется!
Эта частушка намного нравственней тех журналов и телепередач, которые пропагандируют по западному образцу открытым текстом секс. На этом фоне наш народ чуть ли не кастратом выглядит. Между тем он всегда очень трезво смотрел на эти вещи. Вот еще дореволюционная частушка:
У моей милашки ляжки —
Сорок восемь десятин.
Без порток, в одной рубашке
Обрабатывал один!
Это сказано о пашне. Что-то богатырское, былинное, идущее от Микулы Селяниновича слышится в этих строках. И я не вижу в них никакой похабщины. Насколько это здоровее и физически, и морально, чем все эти телевизионные воркования или вопли певцов-извращенцев, чьи евнушечьи голоса, звучащие ежедневно с экрана телевизора, выдают их с головой… Вот еще частушка, ее не найдешь ни в одном сборнике:
Перед мальчиками
Хожу пальчиками.
Перед зрелыми людьми
Хожу белыми грудьми.
Частушка способна передать не только озорство, но и удивительное целомудрие народа, его несказанную нежность или неизбывную печаль…»
Беседы со Старшиновым, обыкновенно возникавшие по зову моей души, внутренне сроднили меня с ним. И я, конечно, переживал, что их не публиковали. Сам же он ни словом, ни намеком интереса к судьбе оных не проявлял, хотя и сетовал на непролазное непонимание со стороны редакторов и критики. Например, он говорил, что в «Рыболове» из стихотворения «Линь» изъяли следующую строфу:
И темнеет, и снова светает,
И мое испитое лицо
Все щетиной густой обрастает,
Как травой-камышом озерцо…
«Почему изъяли? Потому что решили, будто «испитое лицо» означает пропитое, от пьянки идет! А одна дуреха-критик меня облаяла, мол, как можно входить с таким «испитым лицом» в поэзию?! С испитым как раз можно. Слово «испитой» означает исхудалый, изнуренный, тощий. Вот и лицо Дон-Кихота в романе
испитое, то есть оно изможденное, изнуренное жизнью, заботами. А она решила, что у меня лицо в стихотворении
пропитое. Разница же между этими словами огромная. Они имеют абсолютно противоположное значение». Тут Николай Константинович без всякого преувеличения прочел мне целый курс о случаях употребления слова «испитой» в русской литературе. Причем его примеры, и прозаические, и поэтические, лились как из рога изобилия, что было для него нетипично. Имея глубочайшие языковые познания, он специально их не выявлял. Вообще своей скромностью и деликатностью, как и отзывчивостью, он решительно превосходил всех своих собратьев по писательскому союзу, о чем красноречиво говорит огромное число литераторов, по собственной воле ставших под его крыло. И каждого он не обошел своим отеческим или дружеским вниманием. Подтверждением такого внимания может служить следующее письмо:
«10. IX.85
Дорогой Гриша!
Получил сегодня твое письмо — спасибо за память!
Письмо небольшое, но информация в нем интересная и разнообразная (я получил в один день и письмо от Гены Касмынина, и когда сложил ваши два письма, получается уже картина сельской и вашей жизни!).
Я-то думаю, что поездка эта будет для вас очень полезна. Россию надо знать не по газетам. А вы побывали уже в нескольких уголках ее и более или менее северных (Молоко-во) и более или менее южных (Моршанск). И народ посмотрели, и условия жизни, и вам есть что с чем сравнить.
Я же сижу в Пицунде уже две недели, почти не вылезаю из своей трехкомнатной «конуры» с видом одновременно и на море (оно в 100 метрах), и на горы (они в километре), и на озеро (оно в двухстах метрах). Когда устаю работать, выхожу на балкон, час загораю и любуюсь, как на озере играет форель. Она ежеминутно выпрыгивает из воды и летит, как птица, над водой с десяток метров иногда.
Я здесь довольно много сделал для себя (в моих масштабах): почти дописал поэму (в ней будет строк 500) и три стихотворения. Правда, за 12 дней всего 3 раза искупался.
Видимо, темпы работы моей замедлятся (я даже на рыбалку ни разу не сходил, хотя меня приглашали и удочки давали — я своих не взял специально, чтобы не отвлекаться), а темпы отдыха возрастут.
Гриша, будь здоров, привет семье, а я, если все будет в норме, приеду (прилечу на аэробусе) вечером 22 сентября. 23 уже зайду в изд-во.
Обнимаю.
Н. Старшинов
Написал 6 страниц выступления на выборах в бюро поэтов, которые будут 9 октября… Приеду — покажу».
Из подобных писем, а их должно быть немало, проглядывает не только его хлопотливая, поэтическая душа, но складывается и картина литературных отношений, которые он сам же и создавал. По своей обязательности Старшинов состоял в переписке чуть ли не со всем легионом своих авторов. Они были для него многочисленной «родней по вдохновенью». Бывало, скажешь ему: ну что вы, Николай Константинович, возитесь с таким-то, у него не стихи, а сплошная вода?» Он тут же отодвигал все свои дела и начинал выражать несогласие, либо цитируя наизусть запавшие в душу строки, либо выхватывая из кипы папок одному ему известную рукопись: «Вот Краснопевцев, чуть ли не пешком добирался до Москвы из своей умирающей деревни, ночевал в скирдах — читай». Читаю:
Чьи-то смуглые длинные ноги
Растревожат вдоль улиц собак.
Кто-то едет вдали по дороге
И доехать не может никак.
«Да, это замечательно». Старшинов не просто радовался такому ответу, он торжествовал, как ребенок. Не могу припомнить, кто бы еще был так счастлив, найдя удавшиеся строки у другого поэта. Сам поэт, он любил поэзию во всех ее истинных проявлениях.
Июль 2005 г.
Николай КАРПОВ
«Учитель, перед именем твоим…»
Карпов Николай Николаевич, поэт, прозаик. Родился в 1932 году в г. Рославле Смоленской обл. Девятилетним мальчиком был вывезен из оккупированного Рославля в Германию и в 1941–1945 годах находился в лагере. Окончил геофизический факультет МГУ. Работал в научных экспедициях на Кольском полуострове, в Забайкалье, горах Путорана. Преподавал в Московском заочном пединституте. Автор книг стихотворений «Северный базар», «Черничная поляна», «Растения заговорили», «Как умеют любить сердца» и знаменитой туристической песни «Едкий дым создает уют…». Ближайший ученик Старшинова. Живет в Москве.
…………………..
В течение многих лет, начиная с 1972 года, я по душевной потребности вел дневники. В этих разношерстных дневниках о быте и бытии чаще других имен упоминается по разным поводам мой покойный Учитель — поэт Николай Константинович Старшинов, с которым я был знаком еще с 1955 года, когда он вел литобъединение при МГУ на Ленинских горах, и не расставался, и постоянно общался вплоть до его безвременной кончины 6 февраля 1998 года. Я счастлив, что судьба подарила мне такого Учителя, и свидетельствую, что ни одно мое более-менее крупное литературное начинание не обошлось без его доброго и взыскательного участия. С его благословения выходили все мои книги стихов, а мой дебют как прозаика в начале девяностых тоже подвигнут им. И первая публикация в 1956 году в «Юности», оказавшаяся столь удачной — стихотворение «У костра» стало популярной песней, поющейся и посейчас под названием «Пять ребят», — тоже состоялась благодаря ему, его умению увидеть в «опытах в стихах» начинающего автора то, что будет непременно востребовано. Могу сказать также, что и сейчас, когда Учителя уже нет среди нас, я буду продолжать свое ученичество до бесконечности — у меня остались его пометки на полях моих книг, письма от него, а в памяти хранятся сотни встреч и бесед с ним и, конечно же, его стихи.
Просмотрев в своих дневниках все записи, касающиеся Николая Константиновича, я вижу со стыдом, что они эгоистичны, в них речь идет главным образом о том, что я получил от него — как, когда и чем поддержал он меня на моем пути к любимой литературной работе. И в этом смысле я в неоплатном долгу у своего покойного Учителя. Но тем не менее решаюсь все-таки предложить фрагменты своих дневников читателю, ибо даже такие, какие есть, они рисуют облик Учителя, вернее, показывают его спасительную роль в судьбе одного из его учеников, которых у него десятки, если не сотни — ведь его работу в единственном в СССР альманахе «Поэзия» можно без натяжки назвать руководством «Всесоюзным заочным литературным объединением». А что касается отбора выдержек из дневников для публикации, то вначале казалось, что некоторые, как бы дежурные записи, вроде памяток «позвонить Н.К.С.» или «договориться с Колей о совместном походе в Книжную лавку», следует исключить. Но потом пришло решение предложить абсолютно все, хотя бы потому, что для меня, автора этих дневников, каждое воспоминание об Учителе дорого, и я полагаю, не только мне. Его личность, его роль в литературе последнего пятидесятилетия настолько велики и неосознанны еще, что нельзя упускать из поля зрения ни одного штриха к его портрету. Возможно, этот мой труд пригодится кому-то, кто обязательно напишет книгу об Учителе — человеке светлом и уникальном.
Из дневников 1973–1998 годов
14.01.75. Какой поворот всей жизни! Пришла вчера телеграмма от Коли Старшинова с просьбой срочно позвонить. Звоню — он предлагает мне перейти к нему на постоянную работу в альманах «Поэзия».
24.10.77. Сейчас собираюсь готовить подборку для «Юности». Посоветовался с Колей — не будет ли большим нахальством с моей стороны обратиться туда на том основании, что впервые печатался там, а сейчас у меня выходит первая книга, и он сказал мне в шутку, что это «нахальство средней руки»…
07.03.78. Вчера был в своей «литературной среде» — МГ (издательство «Молодая гвардия». —
С. Щ.), 6-й этаж: Коля Старшинов, Таня Чалова-Яшина, а вместо Саши Щуплова — Володя Костров… Говорили о многом, но — о главном… О судьбах поэтов, о предназначении поэта, в конечном итоге — о совести…
05.09.78. Вчера у Коли Старшинова в МГ читал его статью «Личность поэта». Там есть противопоставление «спешащих за модой» и «ограниченных»… Это не что иное, как люди, для которых литература — судьба и литература — профессия. Последние пишут «как надо», «как ждут» и могут быть трусами, воспевающими смелость. А у первых таких проблем не встает — о чем писать. Они пишут жизнь…
13.11.78. С радостью и любовью слушал передачу радиостанции «Юность», целиком посвященную Коле Старшинову. Это для меня торжество справедливости — долгожданное. Он заслуживает большего, и будет ему большая слава, только бы не повторился почти десятилетний период мрака в его жизни… Дай-то Бог!
31.01.79. День «литературной среды»… С утра поехал в МГ и пробыл там весь день до вечера. Время прошло в беседах и чаепитии. Познакомился с поэтессой Ладой Одинцовой… Нашли с ней общий язык, разговорившись о Чижевском… И тут в который раз потряс меня мой любимый Коля Старшинов. Сначала он, наблюдая нашу увлеченную беседу, по своему обыкновению что-то прибеднился — вот, мол, о чем говорят, о каких высоких материях, а потом с невинным видом достал тетрадь стихов Чижевского, о чем я вовсе не знал, не знал, что Чижевский писал еще и стихи… И собирается Коля давать подборку в альманахе. Вот так! На этой изданной тетради чьей-то злой
рукой написано о Чижевском подло и низко. Там и слова, что он лжеученый, что он сумел «пролезть» в Академию наук, и много другой пакости. Видимо, это было то время, когда Чижевский был репрессирован… Вернулся домой я уставшим, но чуточку более богатым…
09.12.79. Вечером поехал на творческий вечер Коли Старшинова — и какой заряд бодрости, радости, веры я получил! Он как поэт явно недооценен, и сегодня ему воздали должное все выступавшие, все, читавшие его и свои стихи. Жалею, что мне не хватило смелости выступить, но в следующий раз сделаю это обязательно! Сегодня словно все, что мы знали о Старшинове, сложилось воедино, осветилось добротой и стало видно, какой это Поэт! Это было торжество поэзии народной в самом глубоком и незамутненном смысле слова, торжество верности и бескорыстности, торжество поэтической правды. И я почувствовал себя счастливым, что судьба свела меня двадцать два года назад с этим Человеком.
16.02.80…Что-то мои последние стихи не находят положительной оценки у Коли Старшинова. Меня это огорчает и тревожит. Вот сейчас из большой подборки выделил только «Светит месяц» и «Григ». С ироническими чуть получше — там «Поэты и пародисты», «Баронесса» и «Признание». Но все с оговорками и доработками. Надо, значит,
работать!
30.03.80. Перед глазами стоят лица наших с Колей Старшиновым и Галей Рой «семинаристов». В основном это, видимо, хорошие люди, не из той современной саранчи, что все пожирает на своем пути. Вот скромная библиотекарша из Торжка Таня Большакова. Она окончила Литинститут, но это не придало ей уверенности в себе, в своих силах. А стихи у нее — хотя их и мало — настоящие. Таких людей надо поддерживать хотя бы для того, чтобы не возобладали в литературе иные — нахальные, пробивные, бесталанные… (Примечание: речь здесь идет о семинаре в Калинине, где я помогал Старшинову вести этот семинар.)
04.05.80. Целый час «работал» по телефону с Колей Старшиновым над составлением книги «Поэма о России» для издательства «Советская Россия». «Проработали» и согласовали, какие стихи брать у Ярослава Смелякова, Александра Трифоновича Твардовского и Николая Рубцова. Их после разговора с Геной Красниковым можно будет перепечатывать в свободное время и на уставшую душу. Работа эта тяжелая (составление), но очень для меня полезная. Я ведь плохо знаю стихи своих старших современников и даже сверстников. Поднаберусь от Коли опыта и вкуса. Сам уже обнаружил воочию, что начал работу слишком нетребовательно и «наотбирал» слишком много. Надо построже подходить, чтобы не отнимать у Коли много времени полуночными разговорами. У него его и так мало…
16.04.81. С утра, точнее, ближе к обеду поехал в МГ на встречу с Колей Старшиновым. Он взял на себя труд и прочел всю рукопись моей новой книги и сделал много замечаний. Тревожится, хочет, чтобы к 50-летию у меня была хорошая книга. Теперь у меня три дня на исправления и доделки. Управлюсь ли за это время? Если нет — тогда сдавать в производство будем в мае, а не в апреле. Попробую уложиться и начну сегодня — посмотрю еще раз все замечания и что-то, может быть, выправлю прямо сейчас. А потом три дня разумной работы — и, как знать, может быть, и удастся… Помогал мне и Гена Красников — посмотрел целую пачку новых стихотворений и помог отобрать для показа Старшинову. Что-то он скажет? Завтра договорились созвониться… На душе тревожно…
16.05.81. Вчера поздно вечером, где-то в двенадцатом часу, позвонил Коля Старшинов. Он возвратился с десятидневной рыбалки. Немного отдохнул, подышал воздухом. Долго говорили, и я «выложил» ему все новости, какие только знал. Он рассказал, что прошлой ночью они видели в небе светящуюся трапецию со светящимся шаром и звездой в лучах, скрещивающихся в вышине, и длилось это видение не менее двух часов. Поскольку он давно уже, к счастью, не пьет, видение действительно значит было. Но что оно означает? Сигнал непознанного или отголоски современной обстановки в мире, когда нужно гнать и гнать и испытывать новые виды защиты от грубых угроз в наш адрес? Так или иначе, это видение будоражит воображение и вносит какую-то свежесть и тайну в наше устоявшееся, однообразное бытие…
04.06.81. Одна из немногих, если не единственная радость в моей жизни — это поездки в Книжную Лавку. И сегодня я договорился с Колей Старшиновым и вместе съездили туда и привезли много хороших книг, в том числе для детей сказки Гофмана.
12.08.81. Итог сегодняшней поездки — положительные и резко отрицательные эмоции. Положительные — из Книжной лавки, где купил Брюсова, Тихонова и кое-что еще, а отрицательные — возмущение от статьи Цыбина в «Литера-турке». Это просто подонство так писать о благородной работе Коли Старшинова в поэзии и о его талантливых учениках — Коле Дмитриеве и Гене Касмынине…
02.09.81…Съездил за книгами неудачно, но зато пообщался со Старшиновым. Все-таки светлый он человек! И в то же время — «ерш», у которого душа держится в глазах. Когда-нибудь поймут и оценят, как много он сделал для нашей поэзии своим бескорыстным наставничеством и «собирательством талантов».
05.10.81. Вернулся Коля Старшинов из Карелии — радостный, отдохнувший и с клюквой… Я всегда радуюсь, когда он немного отвлекается и приводит себя в боевой вид — «перематывает обмотки» и «вперед»…
04.12.81. С утра поехал отвез Коле бумагу, купленную для него в Литфонде, посидел с ним и с Эммой за чаем, проводил его в «Современник» (он возил туда «Дорогу к читателю»)…(Вечером) поговорил по телефону с Колей. У него все в порядке — он успел сделать все свои дела, и главное, «Дорога к читателю» попала в славные добрые руки. Обрадовал он и меня — сдал в «Детгиз» рукопись сборника, где есть и мои стихи…
18.12.81. Собирались сегодня ехать на традиционную вечеринку по случаю дня рождения Коли Старшинова, но он заболел и будет дома, видимо, ближайшие дня три. Такие вот невеселые новости…
19.12.81. День рождения Коли Старшинова. Ездили к нему, напросившись еще вчера, и просидели более двух часов. Попил с ними чаю, а с Эммой Антоновной выпили по рюмочке за здоровье Коли. Подарками моими он, кажется, остался доволен — и стихами, и «прибором для одновременного составительства 4-х книг стихотворений» (деревянный стакан с нарезанными закладками разного цвета). Слушал, как он говорит по телефону и как
полезны эти разговоры тем, с кем он говорит, и как они его отвлекают от его работы. Просто поразительно, как он в этой круговерти дел и разговоров успевает и сам еще что-то писать! А может быть, ему эта атмосфера нужна так же, как мне преобладающий покой с эмоциональными встрясками редких встреч? Наверное, здесь что-то близкое к истине…
09.02.82. Утром звонил мне Коля Старшинов и обрадовал доброй вестью: завтра в самой «Правде» будет рецензия Станислава Кунаева на «Молодые голоса» (сборник молодых поэтов, составленный Старшиновым. —
С. Щ.). И почувствовал я, как дорожит он признанием своего труда, который он вложил в эти голоса! И это естественно и как-то даже трогательно. Нужно будет завтра купить в киоске несколько экземпляров газеты, чтобы подарить Коле «про запас».
03.04.82…Вот и повидался с Колей и купил в Лавке хорошие книги. Коля как-то мудро говорил о женщинах, об их тяжелом житье, о тяге к духовному и тайне сердца старинной. И лицо его было добрым и светлым.
16.06.82. Звонил только что Коля Старшинов. Он во Внукове
[3] сидит, правит свою прозу для «Современника». У него радостная весть — его выдвинули на Гос. премию им. Горького. Дай Бог, чтобы ему дали — это будет только справедливо!
26.10.97. Друзья мои болеют. Николай Константинович лежит уже третий месяц после тяжелого инсульта. Но появилась надежда, что постепенно встанет на ноги и даже будет работать. Лежит, и тоже очень долго, Натан Злотников, и тоже с инсультом. И я ничем, кроме добрых слов сочувствия, помочь им не могу. Как это ни горько. Может быть, только договорюсь, если в этом будет необходимость, со знакомым опытным невропатологом, чтобы она посмотрела их и дала советы. Кажется, она специализируется именно на инсультах. Хотя бы так помочь им обоим.
09.01.98. Тяжелый, мрачный вечер. Коле Старшинову очень плохо — он в коме. Сегодня у него были многие врачи и сказали, что продлится это бессознательное состояние 4–5 дней, а потом прояснится. Дай Бог ему одолеть недуг и пойти на поправку.
10.01.98. Вечером, отрешившись от всего, уединился и слушал концерт по радио «Орфей», посвященный памяти Великого Русского Композитора — Георгия Васильевича Свиридова, ушедшего от нас 6 февраля. В первом отделении исполнялись музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Я слушал и плакал, вспоминая, что сейчас, в эти минуты, недвижно лежит мой друг и Учитель Коля Старшинов и борется со Смертью…
13.01.98. Ровно в 16.00 позвонил Старшиновым, и Рута сказала, что Коля вышел из комы — открывает глаза и что-то бормочет. Слава Богу! Теперь Жора Зайцев и Володя Костров хлопочут, чтобы поместить его в тот же военный госпиталь, где он лежал по возвращении из своего «поместья». Сначала его положат, видимо, в реанимацию, чтобы определить, какие участки головного мозга у него поражены теперь, помимо пораженных ранее. Перевозить его сейчас уже можно. Так что надежда наша воскресает понемногу. Как бы хорошо, если бы он поднялся хотя бы до состояния, когда смог бы ходить по дому и выходить на улицу в свой Протопоповский переулок!
07.02.98. Только что постучалась ко мне медсестра (Н. Н. Карпов лежал в больнице. —
С. Щ.) и передала, что на мое имя пришла телеграмма о кончине моего Учителя Николая Константиновича. Умер он вчера. Панихида в ЦДЛ будет во вторник. Поеду проститься. А если хватит сил — должно хватить! — то и на кладбище, к месту последнего его успокоения…
Какое совпадение! И мой родной отец Николай Константинович Карпов, и отец духовный, опекавший меня с 1955 года до последних дней, прожили примерно одинаковое время — около 73 лет, и скончались оба зимой, тоже почти в одно и то же время — один 08.01.54 г., другой 06.02.98 г. Мое физическое сиротство было облегчено Николаем Константиновичем Старшиновым в течение всей жизни, до сего дня… И что еще крепче иных уз привязывает меня к нему: последняя его журнальная публикация в «Домашней энциклопедии» совпала и с моей публикацией там же. Мало того, там опубликована впервые фотография, где мы с ним стоим на Кузнецком Мосту лет 15 тому назад — здоровые и веселые. А в книге своей «Что было, то было…» очень может быть, что последним дополнением стало его доброе слово обо мне и моих иронических стихах.
08.02.98. Надо привыкать к совершенно иной жизни — без Коли. Без его постоянной с 1955 года поддержки, без его советов, которые всегда были во благо мне и моей работе литературной. Теперь я его встречу только там, и не знаю, долго ли осталось до этой встречи. Кажется, я окончательно собрался с силами и завтра поеду, чтобы проститься с ним. Проводить его на кладбище и видеть, как гроб опускают в мерзлую землю, сил моих физических и психических не хватит. В среду надеюсь вернуться сюда, но работать до конца срока вряд ли смогу. Буду просто приходить в себя после этого удара судьбы. И набираться сил, чтобы продолжить в меру своих способностей общее дело.
11.02.98. Вот и проводили мы Колю в последний путь. Пишу «мы», потому что нас было очень много — тех, кого он не то что вырастил, а выпестовал в альманахе «Поэзия», в Литинституте, а раньше всего — в «Юности» пятидесятых. Панихида прошла по-людски. Люди, разрозненные дикой жизнью, в условиях геноцида, встречались, обнимались, целовались, шли к гробу, стояли — смотрели в последний раз в лицо Учителя, клали цветы, выходили в рекреацию и говорили о нем и о литературе, о российской словесности.
26.02.98. Со смертью Коли Старшинова я лишился духовной защиты. Это на первый взгляд. Но если вдуматься, то ничуть не лишился, ибо в памяти моей множество бесед с ним, его пометки на полях моих рукописей и книг, факты его участия в судьбе моих произведений и, наконец, — его стихи, в которых я всегда найду поддержку и опору. Светлый он человек был и останется, пока живы мы, его ученики и последователи, борцы, в меру отпущенных способностей и сил, за литературу нравственную.
12.03.98. Каждое утро просыпаюсь с надеждами, а ложусь спать разочарованный самим собой — сделать удается мало. Видно, иссякла во мне к этому времени «поэтическая энергия», которую открыл и описал в своей книге «Памятный урок» мой Учитель Николай Константинович Старшинов. Жизнь после его ухода от нас будет совсем иной — сиротливой. Стать таким, каким был он, нельзя, таким можно только быть. А это от Бога… Слишком я суетлив и слишком уж тщательно стараюсь все предвидеть и предопределить. А не надо всего этого — надо жить так, как жил мой друг и Учитель Коля Старшинов. Он постоянно что-то делал, и дел у него было много, — так много, что казалось, никак не успеть. А он все-таки успевал. И успевал еще и всех нас, своих учеников, обихаживать, приободрять, ненавязчиво учить. И как мало мы все ему вернули! Но кое-что все же вернули: он радовался нашим удачам, даже небольшим.
29.03.98. Пустота, образовавшаяся после смерти Коли Старшинова, разрастается. Теперь уж не позвонишь, не поговоришь с ним, не посоветуешься. Как много и щедро делился он со мной всем, что имел! А я? Интересно, принес ли я ему какую-то радость, облегчил ли когда-нибудь жизнь? Наверное, все-таки да. Ведь есть что-то из написанного мной, удостоившееся его похвалы. Мои удачи были его радостью. Какая щедрая душа помещалась в его сухощавом теле!.. Ищу, с кем сравнить его среди литераторов, и не нахожу.
Владимир КОСТРОВ
Русский поэт
Костров Владимир Андреевич, поэт, переводчик, публицист. Родился в 1935 году в д. Власихе Костромской обл. Окончил химический факультет Московского университета (1958), Высшие литературные курсы (1963). Работал инженером на заводе в Загорске, журналистом в журналах «Техника — молодежи», «Смена», «Новый мир». Первая книга в коллективном сборнике «Общежитие» вышла в 1961-м. Затем выходили сборники стихов «Первый снег», «Кострома — Россия», «Нечаянная радость», «Избранное», «Открылось взору» и др. Автор слов ряда известных песен. Лауреат Государственной премии России. Один из первых учеников и ближайший друг Николая Старшинова. Живет в Москве.
…………………..
Пожалуй, в октябре 1955 года я, начинающий стихотворец, писавший песни для студенческих капустников и стенгазетные фельетоны, впервые пришел на занятия в литературное объединение МГУ им. Ломоносова, что на Ленинских горах.
Спустя десятилетие после войны страна явно оживала, строились высотки, студийцы теперь отдавали дань новой моде — на химиках, физиках, юристах, биологах защитные и темные цвета Москвошвея сменялись цветными свитерами, пестрели ковбойки и даже шейные платки, клёши и полуклёши отступали перед отутюженными и заутюженными брючками.
Что-то менялось и в молодых душах и стремилось выплеснуться в стихах, песнях, веселых и дерзких капустниках.
В одной из аудиторий главного здания нас приветливо встретил удивительно молодой, улыбающийся, невысокий, смуглый, какой-то ладный и очень красивый человек.
— Давайте знакомиться. Я Николай Старшинов. Веду отдел поэзии в журнале «Юность».
В нашем пестром собрании он выглядел несколько простовато, был одет опрятно, но без вызова, говорил и читал негромко, держался скорее товарищем, может быть, с некоторой лукавой сердечностью. Не сразу как-то поверилось, что Николай Константинович прошел войну, был тяжело ранен, окончил Литинститут, издал несколько книг и поэм, был мужем уже обретающей широкую известность Юлии Владимировны Друниной.
Стихи его вначале не производили оглушающего впечатления, казались нам несколько уравновешенными, излишне зависящими от сюжета. И если как в человека я влюбился в него сразу и навсегда, то стихи его овладевали мною постепенно, через второе, третье, четвертое прочтение. В них для внимательного читателя живет и поныне неувядающая красота сообразности и соразмерности, они по-народному лукаво-простодушны и порою завершаются почти библейскими обобщениями.
Даже в бесконечно богатой русской стихотворной поэзии Николай Старшинов, по мнению друзей и товарищей, давал пример почти полного слияния автора и лирического героя. Сюжеты стихов возникали из личной жизни, почти всегда в них присутствует конкретный пейзаж, где каждая травинка названа по имени, а иногда и становится героем сочинения, веселого и сочувственного, как то происходит в «Оде ваньке-мокрому». Стихотворение это есть литературный портрет или памятник русскому простонародью.
И то правда, не только «яйцеголовые» имеют право на свою поэзию, часто избыточно переполненную культурными и понятийными привлечениями. Высокая простота, внятность, владение всем масштабом живого языка и для гениев были главнее конспирологической переусложненности.
Пожалуй, самый крупный знаток и собиратель нашей озорной частушки, сам Николай Старшинов всегда осуждал публикаторов самодельного «матерного рококо».
В своих стихах он больше этик, чем эстетик, и, согласно христианской традиции, понимал иерархию между частным и общим, преходящим и вечным. «Отвязанный» в лексике литератор вызывал у него отвращение.
Николай Константинович Старшинов — выдающийся воспитатель и издатель целого поколения молодых поэтов, прошедших через публикации в журнале «Юность», бесчисленные всероссийские и всесоюзные семинары, через редактируемый им альманах «Поэзия», через его мастер-классы в Литературном институте.
Свою известность и любовь читателя он заработал честными трудами в разных жанрах: поэзии, прозе, драматургии, книгах воспоминаний, критических статьях и доброжелательных предисловиях.
С ним дружили и его творчество ценили Ярослав Смеляков, Леонид Мартынов, Александр Прокофьев, Сергей Марков, не отдававшие даром своего внимания.
И еще он любил Родину и людей до самоотречения.
По творческому своему поведению, по человеческому существу своему Николай Константинович, мой дорогой Коля, отвечал и отвечает простому и высокому определению «Русский поэт». О каждом ли из нас сможет сказать так благодарный будущий читатель?
Геннадий КРАСНИКОВ
Беседы с Учителем
Красников Геннадий Николаевич, поэт, эссеист, драматург. Родился в 1951 году в г. Новотроицке Оренбургской обл. С четырнадцати лет работал электриком, корреспондентом районной газеты. Окончил факультет журналистики МГУ. Много лет редактировал альманах «Поэзия» издательства «Молодая гвардия». Автор сборников стихотворений «Птичьи светофоры», «Пока вы любите…», «Крик», «Не убий!..», «Голые глаза», книги литературных эссе «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба». Живет в Москве.
…………………..
— Николай Константинович, как в наше время спасти себя, свою душу, можно ли «отключить» грубые инстинкты самосохранения, а ввести в действие духовные силы, сохранить себя на высоте «образа и подобия» Творца?
— О сохранении человека как «образа и подобия» Творца русская литература беспокоилась во все времена. Об этом в XIX веке болел душою и Николай Семенович Лесков, задумавший написать целую книгу о людях «праведных». Эпиграфом к ней были взяты слова: «Без трех праведников несть граду стояния». Лесков так объяснял свой замысел: «Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его, ни в чьей русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, но и страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, читатель?»
— А вы знаете в сегодняшней нашей смутной жизни «трех праведных», или уже не устоять земле нашей?
— Пусть это не покажется странным, но действительно знаю, и не трех, а гораздо больше, хотя их меньше, чем хотелось бы и чем это требуется теперь. Вот живет в Новомосковске Тульской области Глеб Иванович Паншин (умер в 2003 году. —
Г. К.), талантливый писатель, неравнодушный человек. На одном энтузиазме, вопреки обстоятельствам, он построил в городе спортивный техникум с залами европейского уровня, в которых проводятся международные соревнования. Когда произошел экономический обвал и практически недоступными для людей оказались литературные журналы, он организовал в Тульской области общероссийский литературный журнал «Поле Куликово», который редактирует уже несколько лет, вытаскивая его буквально на нервах, зубами, на себе развозя пачки его номеров по всем областям, чтобы хоть как-то поддержать издание…
— Как я знаю, Глеб Паншин — тяжело больной человек, а на такое подвижничество и не всякий здоровый отважится… Но ведь это — единственный пример.
— Почему же? Вот в Тверской области, в деревне, рядом со мной живет известный скульптор Николай Силис, тот самый, которого когда-то Хрущев обругал на известной выставке в Манеже. На весь мир известный человек, он скромно живет в своем домике, не обращая внимания на трудности быта, на неустроенность, но зато на собственные средства восстановил и отреставрировал местную церковь, построенную еще в XVII веке. Чтобы сохранить нерестилище на местной реке, опять же за свой счет и по собственному проекту соорудил плотину. Районным руководителям при нем не «разгуляться» — он грудью встанет на защиту природы… А русский писатель Иван Васильев, ныне покойный, который в своем нижегородском селе построил военно-художественный музей! Нет, есть, есть «праведные» люди в нашем Отечестве, настоящие подвижники. Правда, в жизни они отнюдь не святые, могут и выпить, и выругаться, если надо, но оттого-то они и «не выдуманные», а настоящие, живые… Причем каждый из них мог бы жить весьма обеспеченно, работая лишь на себя, на свой карман; все для этого у них есть. Но такая жизнь им не по душе.
— Однако литературе, наверное, сейчас не до героев и подвижников, — она, как и вся страна, тоже переживает период безвременья?..
— Я бы так не сказал. Во-первых, что меня радует, так это то, что интерес к литературе сохранился, особенно в провинции, которая сейчас даже в большей степени становится средоточием культуры России. Как-то мы с Владимиром Крупиным, Владимиром Костровым, Семеном Шуртаковым, Владимиром Ситниковым проехали по Нижегородской и Кировской областям, выступали в городских, районных библиотеках, в леспромхозах — и всюду полные залы. Приходили учителя, школьники, студенты, рабочие, задавали массу вопросов. Причем чувствуется, что люди читают, следят за литературным процессом, знают новинки. Кстати, о положительных героях: разве работники наших библиотек — не герои? Ведь люди в некоторых местах месяцами не получают зарплаты, у них нет денег на приобретение новых книг, но все они ежедневно идут на работу и трудятся там практически на голом энтузиазме, потому что любят свое дело… Не забуду, как прекрасно встречали нас в поселке Шаранге Нижегородской области. Заведующая районной библиотекой Мария Ивановна Комарова просто очаровала нас. У нее прекрасный читальный зал, вместе
с коллегами она занимается созданием энциклопедии по истории родного края. Нас познакомили с видеофильмом об этих местах. В том же помещении краеведческий музей. На стендах в библиотеке — экспозиция работ местной художественной школы: рисунки, резьба по дереву… Это настоящий центр культуры и человеческого общения, остров спасения от одичания, к которому нас, к сожалению, толкают телевидение и пресса.
— Значит, герой нашей литературы и должен быть таким, как Мария Комарова или Глеб Паншин?
— Во всяком случае, этот герой не похож на положительного персонажа западной литературы. Ведь кто на Западе «герой»? Тот, кто знает путь к преуспеянию, человек, умеющий делать «бизнес». В «Утраченных иллюзиях» Бальзака герой стремится завоевать положение в свете, не брезгуя никакими средствами, даже ролью альфонса…
— В нашей литературе тоже есть образчики так называемых деловых людей…
— …и это, как правило, прохиндеи типа Остапа Бендера. Почему нас не могут понять на Западе те, кто к этому стремится, внимательно вчитываясь в русскую прозу XIX века? Потому что для нас «положительное» — это именно тяготение к праведности. Вот почему сытые, обеспеченные дворяне шли против своего класса, они не могли видеть несправедливость, чувствовали боль униженных и оскорбленных. Как писал Владимир Костров, «дворяне шли в народ, а мы назад в дворяне…».
— Но ведь в истории недавней нашей литературы есть, мягко говоря, не самые лучшие страницы с так называемыми положительными героями — бригадиры, отказывающиеся от премии, «кавалеры Золотой звезды». Они были дальше от жизни, чем небо от земли…
— Конечно, когда литературой начинают руководить с помощью директив, неизбежно появляется то, что критика называла «бесконфликтностью» в литературе и искусстве. Если конфликт и допускался, то лишь «хорошего с отличным», что просто анекдотично. Но это не значит, что в нашей литературе не было по-настоящему положительного. Я, например, очень ценю прозу Константина Воробьева. В его рассказе «Друг мой Момич», или в другом варианте «Тетка Егориха» и героя-то нет никакого. Но есть просто хороший человек, деревенский житель, от которого исходят доброта, юмор, мудрость… Разве этого мало? Замечательной я считаю повесть того же Воробьева «Убиты под Москвой», и опять его герои — без громких слов, без пафоса и патетики — потрясают своей человечностью, праведностью, если хотите, неказенным патриотизмом. А ведь критика ругала автора за то, что он якобы сгущает краски, деморализует читателя. Мне же верится, что если герой повести перенес такие трагические испытания, если он прошел такие круги ада, то и у меня, грешного и слабого, на все хватит сил. Доброта и человечность в трагических обстоятельствах укрепляют эту веру.
— А в вашем творчестве есть «герои»?
— Честно скажу, что мне очень хотелось написать о хорошем человеке, не герое, конечно, но о ком-то очень достойном. Так появилась у меня поэма «О старом холостяке Адаме», о человеке, от которого не ждешь хамства, корысти. Считаю, что и героиня моей поэмы, написанной в частушечном ритме, «Семеновна» — достойная женщина. Она работящая, одна подняла на своих плечах ребят, одним словом, положительный человек из народа, может быть, в традициях некрасовских героев, его крестьянок… Хотя не все мои читатели согласны с таким мнением. Мне приходилось на выступлениях слышать, что вот, мол, она у вас и гулящая, и язычок у нее с перцем, и от выпивки не откажется. Но я ведь не собирался писать икону, я писал о живом человеке. И вообще я все больше убеждаюсь, глядя на то, что творится вокруг, что именно в народе, в народной среде сохранился еще этот тип положительного человека, далекого от безобразной драчки за деньги, за власть, за шикарные лимузины…
— Будем надеяться, что среди этих людей и сегодня есть наши былинные Святогоры, Ильи Муромцы, Микулы Селяниновичи, которые поднимут страну, защитят ее, спасут ее душу… Но, быть может, очень достойно по теперешним временам быть вдали от суеты и шума. Допустим, сидеть, как вы, Николай Константинович, от весны до поздней осени целыми днями на берегу реки с удочкой в руке — и думать в одиночестве о вечности, о той же доброте, о времени и о себе?..
— А что, ведь это своего рода отдушина. Многим современным деятелям, возомнившим себя героями, можно было бы посоветовать такую психотерапию. К тому же надо помнить, что еще древние говорили: время, проведенное на рыбалке, человеку не засчитывается. Так что есть шанс продлить жизнь и себе, и тем, кому мы ее обычно портим. В природу, как известно, уходили не самые худшие люди, у нас — Аксаков, Пришвин, Соколов-Микитов, Паустовский, на Западе — Генри Торо, Ралф Эмерсон…
— Николай Константинович, более пятидесяти лет прошло после окончания самой страшной войны, но по-прежнему продолжают появляться все новые и новые книги о Великой Отечественной — и проза, и поэзия. Как вы думаете, может, уже и не стоит вспоминать трагическое прошлое, пора остановиться и не травить душу людям новых поколений?
— Вообще-то это, конечно, уникальный случай в истории. Ведь если после войны 1812 года о тех событиях и писали, то очень недолго. Были стихи у Жуковского, у Пушкина, знаменитое лермонтовское «Бородино», стихи участника той войны Дениса Давыдова, но все романом Льва Толстого и завершилось. А здесь уже более пятидесяти лет тема остается неисчерпаемой, как народное горе, как великая трагедия XX века. И все пишут: и военное поколение, и дети войны, и уже несколько послевоенных поколений писателей. Удивительная в народе память… Искусственно это не остановить, пока есть душевная потребность осмысливать прошедшее. Думаю, что в этом — нравственный инстинкт самосохранения от повторения подобной трагедии…
— Николай Константинович, ощущаете ли вы себя крайним, старшим среди нынешних литераторов? Не по возрасту и здоровью, а по опыту, ответственности, когда нет стариков (как во МХАТе) — Твардовского, Ахматовой, Смелякова, Пастернака, Заболоцкого?..
— У меня хорошие отношения со всеми в нашем поколении, врагов нет, но я всегда чувствовал себя моложе, потому что дружил с теми, кто шел вслед, со следующими поколениями поэтов, и сейчас мой круг общения моложе меня. Поэтому границы времени для меня никогда не были разделяющими на патриархов, учителей, с одной стороны, и неразумных учеников — с другой. Я не чувствую противоречий в отношениях поколений.
— Зная ваше во многом критическое отношение к событиям, изменившим современную историю, хотелось бы спросить: вы чувствуете себя вписавшимся в эту — хорошую или не самую лучшую — реальность?
— Не вписался и никогда не впишусь. Я другой человек. Когда одна журналистка обратилась ко мне: «Здравствуйте, господин Старшинов!» — я обалдел. Я не чувствую себя господином, только вспоминаю частушку:
Раньше мы хлебали щи —
Были мы товарищи,
А как кончилась еда —
Все мы стали господа…
В этом времени не чувствуешь, что тебе уютно… Идешь по улицам — вывески, вывески на иностранных языках… Как писал Есенин: «В своей стране я словно иностранец…» Потом шпыняют нашу страну, давят на нас, ставят идиотские условия: иначе не будем помогать. Да что мы, нищие — стоять с протянутой рукой? Такого никогда не было. И есть в этом непонимание нашими политиками души и характера народа, в которых ведь не только долготерпение таится, но и обостренное чувство собственного достоинства…
— Когда-то Евгений Винокуров, ныне покойный, говорил мне, что вернувшиеся с войны фронтовики очень много пили, как он выразился, «до темного помутнения», — Сергей Наровчатов, Алексей Недогонов, Марк Соболь, Твардовский, сам Винокуров…
— Но ведь большинство не спились — Дудин, Львов, Субботин, Орлов… Хотя пили тогда много, не меньше, чем сейчас.
— С чем это было связано — с «отходом» от потрясений войны?
— У кого-то могла быть и предрасположенность, а у кого-то и чувство вины… Я часто думаю о Твардовском — замечательном русском поэте, очень сложном человеке. Он ведь недаром написал знаменитое стихотворение «Я знаю, никакой моей вины…», заканчивающееся словами «но всё же, всё же, всё же…». Ему, конечно, не давало покоя его поведение по отношению к своим раскулаченным родителям, от которых он в свое время едва не отрекся. Но, как совестливый человек, потом всю жизнь мучился, раскаивался.
— Признайтесь, а вы сами отдали дань этому привычному нашему российскому пристрастию?
— Отдал, я и не скрываю, что пил лет пятнадцать наглухо, пил с утра до вечера, а запои длились по два, по три месяца… Но я думаю, что сейчас это несчастье приняло катастрофические масштабы. Я вот живу летом в Тверской области, в прошлом году в деревне в тридцать дворов шесть убийств произошло на почве пьянки.
— У вас двадцатичетырехлетний стаж трезвой жизни. Скажите, как избавиться от этого российского горя?
— Я ведь первое время, когда пил, становился веселым, добродушным, песни пел, был обязательным человеком. Потом я заметил, как происходит перерождение: появилась раздражительность, я стал лезть в драки, стал скандальным, куда-то подевалась обязательность. Даже пообещав зайти к больной матери, забыл обо всем за выпивкой, меня разыскали, когда она уже умерла. До сих пор чувство вины не дает мне покоя… Деградацию и крах нужно останавливать. Но друзья-собутыльники повсюду разыщут, уговорят. Нужна была изоляция. Так я и оказался в одной палате с Вилем Липатовым, который пять раз лечился и все бесполезно. Я же принял твердое решение. И это самое главное. Мне даже лекарства не потребовались, только изоляция от пьяного окружения. Кстати, это было «кремлевское отделение» с очень смешным названием: не назовешь ведь его «алкоголическим», потому оно для прикрытия официально обозначалось как «отделение по исправлению дефектов речи»… Немало там артистов, писателей, художников «исправляло дефекты речи», хоть не было там ни одного шепелявого, картавого, ни одного заики…
— Вы считаете, ваше поколение все-таки рассказало полную правду о войне или нужно, чтобы прошло время, — как после 1812 года, когда «Войну и мир» написал Лев Толстой, человек другого поколения?
— Во-первых, Толстой сам понюхал пороху, правда, в Крымскую, а не в Отечественную, но он знал, что это такое. Во-вторых, вот я в числе других фронтовиков получил ко Дню Победы поздравление от Ельцина, где он несколько раз пишет: «Простите нас, что мы не можем создать вам хорошие условия», а потом идут слова о том, что, мол, ни наша литература, ни наше искусство не отразили всех тех трудностей, которые были на войне… Это несправедливо и даже оскорбительно. У нас были прекрасные писатели, которые «отразили». Я не знаю ничего сильнее повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой»! Я человек не сентиментальный, но до сих пор, когда перечитываю, у меня слезы выступают. Там потрясающая правда рассказана. Или «На войне как на войне» Виктора Курочкина, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Сашка» Вячеслава Кондратьева… — замечательные книги. Или взять антологию военной поэзии. Там прекрасные стихи — и Наровчатова, и Дудина, и Межирова, и многих, многих других. Правда, Лермонтов написал «Бородино», гениальную вещь, не будучи участником войны. Но это исключение из правил.
— В вашей семье было восемь детей, и все выросли очень приличными людьми: один из ваших братьев был начфином кремлевского гарнизона, другой — заведовал кафедрой тоннелестроения и мостостроения, третий — командир крейсера, замначальника штаба Балтийского флота, сестра — инженер, кандидат наук… При том, что у вашей матери не было ни одного класса образования. А сегодняшние родители не знают, что и с одним-то ребенком делать…
— Вот с одним-то как раз и труднее всего, потому что он растет эгоистом, на него обращено все внимание. Так же и дерево, когда растет одно в поле, вырастает кривым, все сучки из него лезут, куда хотят. Из него не получится ни мачты, ни бревна для избы, оно сучкастое, ломаное. А среди других деревьев в лесу оно вынуждено тянуться кверху, быть стройным. Так и здесь. Мы помогали друг другу. И плюс удивительный природный такт матери: она всегда была за лад в доме, за примирение, за то, чтобы снисходительней быть к другим, уметь прощать.
— У вас ведь с Юлией Друниной, вашей первой женой, сразу после войны появилась дочь Лена, и это при той бедности, неустроенности, послевоенной усталости. Сегодня тоже много неустроенности у молодых, говорят, из-за этого упала рождаемость, люди не хотят заводить детей, пока все не придет в норму…
— Вообще после войны была вспышка рождаемости. Это можно даже по статистическим справочникам проверить. Никто ничего не планировал — мы были молодые, безалаберные, думали, вот война окончилась и значит все прекрасно!.. Любовь была, а планирования не было.
— Вы так относились друг к другу, что даже ходили всегда по-детсадовски — взявшись за руки…
— Меня тут неприятно удивило, что Таня Кузовлева после смерти Юли написала в газете «Культура», будто бы Друнина после войны неудачно вышла замуж. Во-первых, есть всегда что-то недостойное в копании в чужой жизни. Во-вторых, кто ей говорил, что — неудачно? На нас все удивлялись постоянно, насколько мы спаянные, влюбленные, и даже когда мы разошлись, лет десять еще не верили многие, что мы могли расстаться…
— А не анекдот ли разговоры о том, что, когда Друнина ушла к Каплеру, Алексей Яковлевич звонил вам, чтобы посоветоваться, как воспитывать Лену, вашу дочь?
— Он даже со мной встречался, жаловался, что не знает, что делать, поскольку она его не слушается. Я сказал, что поговорю с ней, но он просил, чтобы ей ничего не было известно. Мы, конечно, говорили с Леной, но у нее характер друнинский — несгибаемый, так что трудности оставались…
— В последние годы, незадолго до своего трагического ухода, Друнина частенько звонила в альманах «Поэзия», где мы с вами вместе работали, и подолгу разговаривала с вами, даже и наведывалась к нам в редакцию. Помню, мы немножко над вами подтрунивали: а не начать ли вам все сначала?
— Конечно, у нас отношения были хорошие. Мы друг друга простили. Мы, к примеру, свадьбу свою не обмывали, а вот когда развелись, пошли после суда в ресторан, очень тепло посидели, вспомнили все хорошее. Но желания к возврату у меня никогда не было, мы слишком далеко ушли друг от друга. Хотя, как мне потом стало известно, в годы ее одиночества она оставалась уверенной, что могла бы меня вернуть, если бы только пожелала…
— У Друниной и Лены были неплохие отношения с вашей замечательной новой семьей и дочерью Рутой…
— Моя новая жена Эмма ненамного старше Лены, и когда я женился, я их познакомил, а потом предложил поехать на природу. Мы две недели провели в деревне на Оке, рыбу ловили, грибы собирали, они подружились, и у них всегда хорошие отношения были…
— Вы собрали одну из самых крупных в нашей стране коллекций озорных, так сказать, неподцензурных частушек…
— …Не только озорных. А то создается слишком однобокое представление о моей коллекции.
— За эти годы вы выпустили несколько сборников частушек. Станислав Говорухин обвинил вас в прессе, что вы развращаете народ непристойным фольклором. Помню, при мне ругал вас за то же и Василий Белов, он даже доказывал, что вы всё сами сочиняете, возводите поклеп на народ, который таких частушек, дескать, не знает и не поет.
— Ну, сейчас Белов немного смягчился и не считает меня развратителем, потому что я ему показал частушки, над которыми он даже посмеялся, убедившись в истинно фольклорном их происхождении. Меня огорчает, что все набросились, в том числе и Говорухин, на самые соленые: вот, мол, похабщина. Но ведь там и без мата есть гениальные частушки, никто об этом доброго слова не скажет. Их ведь тоже десятилетиями не печатали, и они могли бы пропасть. Я получил около восьмисот писем, и почти во всех одна мысль: «Ваши частушки помогают нам выжить в это трудное, смутное время». Правда, один старичок из Твери написал: «Что ты, старый хрен, на старости лет в эротику полез?..»
[4]
— Николай Константинович, не от частушки ли ваш собственный оптимизм? В отличие от других у нас в России как бы отсутствовала философия оптимизма, философия счастья. А вот в вашем творчестве (и в жизни) есть чувство радости, чувство гармонии восприятия жизни. Это и есть народное, фольклорное видение мира и себя в нем?
— Конечно, в частушке есть все: и нежнейшие чувства, и трагедия, но главное — юмор, это очень здоровый жанр. И еще все-таки сильное влияние большой нашей семьи. Мы все вместе росли, было ощущение, что так будет вечно. В этой коллективной сплоченности рождалось ощущение природной могучей силы жизни, оптимизма. Но идеалом личности для меня всегда остается Пушкин — более цельной, гармоничной натуры я не знаю во всей мировой литературе.
— Когда-то книга «Как закалялась сталь» была учебником жизни. Но ведь закаленная сталь по всем законам физики — негибкая, ломкая, и ломается она с отдачей, больно раня окружающих людей, близких. Не потому ли такие мужественные люди, фронтовики, как Вячеслав Кондратьев, как ваша первая жена — поэтесса Юлия Друнина — ушли из жизни сами в эти последние годы? Может быть, не столь закаленные смогли приспособиться к новым обстоятельствам, их слабость оказалась их силой? А вот ушедшие показали, что гнуться они не могут, и уходят они не от слабости, а от мужества?
— А я и считаю, что Друнина ушла не от слабоволия. Она не могла перевернуться, измениться и потому осталась самой себе верна. Так же, видимо, как и Кондратьев.
— Одно из лучших стихотворений о войне, вошедшее во все антологии, это ваше стихотворение «Ракет зеленые огни…», где есть строки: «Никто не крикнул: «За Россию!..», /А шли и гибли за нее». Для меня это стихи о подлинном и глубинном патриотизме. Сейчас очень много кричащих о России, за Россию, но мало понимающих суть России, суть ее истории, ее оригинальность, отличную от всех других стран…
— Да, и слева, и справа, со всех сторон слышны крики. Это становится спекуляцией. О любви к Родине узнают по делам, а не по словам. Как сказано две тысячи лет назад: по плодам их судите о дереве…
— У вас так много стихов о любви, посвященных женщинам, что по этой лирической летописи, пожалуй, можно было бы составить «донжуанский» список поэта Старшинова или, правильнее сказать, его лирического героя. А сейчас вы пишете о любви?
— Вообще-то можно что-то такое проследить, это точно…
А так… года два я не писал ничего лирического…
— Не было вдохновения?
— Не было… А если и было о любви, то только хохмаческое… Но это же не лирика.
1998 г.
Нина КРАСНОВА
Краснова Нина Петровна, поэт. Родилась в 1950 году в г. Рязани. Работала пионервожатой, литсотрудником в газете. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Руководила литобъединением «Рязанские родники». Автор поэтических книг «Разбег», «Такие красные цветы», «Плач по рекам», «Цветы запоздалые» и др. Живет в Москве.
…………………..
«Ненаглядный наш цветок…»
Моя самая первая встреча с поэтом Николаем Старшиновым, положившая начало нашему с ним знакомству и нашей с ним дружбе до гроба, получилась веселой и комичной. И произошла она в лифте издательства «Молодая гвардия» в мае 1973 года. Я тогда была студенткой первого курса Литературного института и решила отвезти в альманах «Поэзия» свои стихи, которых у меня нигде «никто не брал» и не печатал.
Зашла в лифт. А вместе со мной туда зашли двое «пассажиров» — двое мужчин: один с бородой, осанистый, плотный, солидного вида, а другой без бороды, несолидного вида, щупленький, в сереньком костюмчике, серый воробей с носом грача. Он спросил меня:
— Вам, девушка, на какой этаж?..
— На пятый (вахтерша сказала мне, что редакция альманаха находится там).
Он нажал кнопку с цифрой 5. И, пока мы поднимались вверх, успел взять у меня «блицинтервью»:
— Вы поэтесса?
— Да (и как он угадал это?).
— И хорошие стихи пишете?
— Хорошие! — с вызовом ответила я.
— А кому они нравятся (кроме вас)?..
— Всем!
— Кому — всем? Маме?..
— Маме, но не только маме…
— А кому еще? Мужу?..
— Мужу, но не только мужу, а… всем моим друзьям и родным.
— Ну а кому еще?..
— …Долматовскому (моему творческому руководителю, в семинаре у которого я занималась в Литературном институте).
— …Хм… А кому еще?..
— Солоухину (который рекомендовал меня в Литературный институт)!
— А может, вы с нами поедете? На шестой этаж? — переглядываясь со своим напарником, спросил он.
Я была девушка строгих правил, не какая-нибудь девица легкого поведения, и избегала легких знакомств с посторонними мужчинами. И я сказала:
— Не! Мне с вами не надо!..
И вышла из лифта на пятом этаже. Но альманах, как выяснилось вскоре, находился тогда не на пятом, а на шестом (вахтерша меня дезориентировала). И я поднялась туда по лестнице и открыла дверь с вывеской «Альманах «Поэзия»… и… увидела там, в кабинете… И кого же я там увидела?! Двух своих соседей по лифту! И растерялась, и сконфузилась, и сказала:
— Ой… здравствуйте! Я сюда пришла, и вы — тут…
И не могла не засмеяться. И засмеялась. И они оба засмеялись. И сказали, и один, и другой:
— Все же вы к нам пришли…
И один из них — который с бородой — был Вадим Кузнецов (тогда заведующий редакцией поэзии издательства «Молодая гвардия»), а другой — который без бороды, несолидного вида — был не кто иной, как Николай Старшинов. Я отдала ему свою папку со стихами. А через неделю он сказал мне по телефону, что мои стихи ему понравились и что он напечатает их в тринадцатом номере альманаха «Поэзия» (в чертовой дюжине). Сказал — и напечатал, целых пять стихотворений… Без всякой волокиты. И потом он всю жизнь печатал меня — не только в альманахе «Поэзия», а везде, где только мог: и во всех коллективных сборниках и антологиях, в том числе в самых престижных, которые он составлял, и в разных журналах и календарях…
Никто не печатал меня, сколько он! Бывало, сижу я в своей «косопузой» Рязани, ничего знать не знаю, а смотрю, то там то сям в центральных изданиях мои стихи появляются, да еще и гонорары за них мне с неба сыплются (которых сейчас я не получаю уже много лет и о которых забыла, что это такое). И, бывало, сижу я и гадаю: как мои стихи попали туда-то и сюда-то? я их туда не возила, не носила… кто их туда сунул и протолкнул? А это, оказывается, он, Николай Старшинов, обо мне позаботился. Он был как добрый волшебник, который делал для тебя доброе дело и никогда не хвалился этим и не говорил тебе: «Вот я для тебя чего сделал! Ты теперь по гроб жизни не расплатишься со мной за это!» И главное — не для одной меня он столько всего доброго делал, а для всех молодых (и вообще для всех) поэтов, которых считал талантливыми, с божьей искрой. Среди них Александр Бобров, Николай Дмитриев, Геннадий Касмынин, Ольга Ермолаева, Мария Аввакумова, Александр Щуплов, Геннадий Красников, Сергей Мнацаканян, Татьяна Максименко, Геннадий Калашников, Нина Стручкова… и много кто еще… Ирина Семенова из Орла, Михаил Зайцев из Волгограда…
У Анатолия Чикова есть стихотворение про журавля, который летит в небе и несет на себе разных маленьких птичек, помогает им лететь. Николай Старшинов и был этим самым (не воробьем!) журавлем, который всю жизнь помогал маленьким птичкам, молодым поэтам, нес их на себе, держал их у себя под крылом и за пазухой, заботился о них, опекал их, помогал им вырасти, опериться, обрести свой голос, свою физиономию, свой стиль и почерк, набрать силу, взлететь, подняться, достичь самых высоких своих высот, пробиться в литературу через все препятствия, выйти на своих читателей… И потом, когда они уже становились сами с усами, он все равно продолжал курировать их.
Я была одной из этих птичек и всегда чувствовала его теплое внимание и его деликатную любовь ко мне.
Я переписывалась с ним. Я посылала ему из Рязани в Москву частушки с «картинками» для пополнения его уникальнейшей и богатейшей коллекции. А когда приезжала в Москву по своим литературным делам, то шла в альманах «Поэзия», к Старшинову, как к себе домой. И когда бы ни пришла туда, всегда он сидел там в окружении своих птенцов, скромный генералиссимус молодой гвардии поэтов (который называл себя «гвардии рядовым»), и рассказывал нам разные истории и байки из литературной жизни (обкатывал на нас устно свои будущие мемуары, как я теперь понимаю), читал наизусть стихи русских и зарубежных поэтов (Некрасова, Случевского, Цветаеву, Беранже, Бёрнса, Верлена, Элюара и т. д.), незаметно просвещая нас, темных и невежественных, поднатаскивая нас в поэзии и приобщая к высокой культуре. Читал он наизусть и поэтов нашего времени — Евгения Евтушенко, Леонида Мартынова, Ярослава Смелякова, вплоть до самых молодых, и традиционалистов, и авангардистов. Он был как живая антология, перед которой, если выражаться фигурально, даже «Строфы века» — мелкая брошюрка. И, конечно, он много шутил, смеялся и пел частушки с «картинками», а иногда и арии из опер (на трезвую голову, негромким лирическим баритонцем), а иногда и песни на свои стихи и свою самую любимую из них — «Все твердят, что ты хорошая…» на музыку Анатолия Шамардина. Он гордился этой песней, считал ее исключительно удачной и сожалел, что она не «раскручена» и не звучит по радио и что люди не знают ее:
Все твердят, что ты хорошая,
Что и сам я неплохой.
Вьется реченька, поросшая
Камышами да ольхой.
А на самой на середочке
Просветленная вода.
Мне бы тут с тобой на лодочке
Плыть неведомо куда…
А когда он шел в столовую обедать с сотрудниками редакции, то всегда прихватывал меня с собой, за компанию, и кормил меня, гостью из Рязани, вольную художницу, вкусными блюдами, которые по сравнению с моими вольными хлебами, на которых я сидела, казались мне прямо царскими: суп-солянка с диковинными для меня маслинами и оливками, дефицитная тогда гречневая каша с сосиской или с ромштексом, салат из свежих огурцов и помидоров… чай с миндальным пирожным… и целый стакан сметаны… и еще что-нибудь…
Я говорила ему:
— Николай Константинович, вы хотите, чтобы я стала толстой? Чтобы я приблизилась к вашему женскому идеалу и соответствовала ему по всей форме, по всем параметрам?..
Он улыбался.
Я говорила ему:
— Николай Константинович, вы целыми днями сидите в редакции, занимаетесь своими авторами, посетителями… да еще ведете в Литературном институте семинар, занимаетесь студентами… Вы читаете и рецензируете горы чужих рукописей, в том числе и графоманские, про которые вы сказали в одном своем стихотворении, что они вам «опостылели»… «Опостылели эти бумаги! Неужели я в них утону?..» А когда же вы свои стихи пишете и свою прозу?
— Ночью. Я сова, сыч, работаю ночью. Ложусь спать в четыре часа утра…
— Но значит — вы все время недосыпаете…
— Я привык к этому (в окопах, на фронте), я старый солдат…
Николай Старшинов был
с виду хрупкий, «из трех лучин собранной», если говорить языком моей матушки, а работал и тянул свою упряжку, как ломовая лошадь, не щадя и не жалея себя и своих сил. И большую часть своих сил он тратил не на себя, а на людей. И никогда не отмахивался от них и от их проблем. А от своих друзей с их проблемами — и подавно.
Когда в период рыночных реформ я без всяких средств к существованию переехала из Рязани в Москву и билась здесь как рыба об лед, стараясь удержаться на плаву и остаться поэтессой и свободной художницей, и не знала, где и как выпустить новую книгу стихов, если уже не за государственный счет, то хотя бы за «свой», которого у меня не было, то есть за счет «инвесторов», если не спонсоров, по минимальной цене — занять у кого-нибудь денег и выпустить книгу, а потом продать ее и расплатиться с долгами и сделать самой себе какой-то навар, какой-то гонорар и выкарабкаться из своей экономической ямы, он показал мне дорожку в фирму «РОЙ», к издательнице Галине Вячеславовне Рой, благодетельнице; бедных поэтов, у которой он выпустил том литературных мемуаров «Лица, лики и личины», а потом и еще один. То есть он послал меня не на три буквы, а туда, где сам печатался, где его привечали. И дал мне в долг (а не в долг я их у него и не взяла бы) 500 тысяч рублей (в старой номинации, 1994 года, то есть 100 долларов) на книгу (добавил их к тем, что я подзаняла у других своих друзей). Сказал:
— У меня сейчас у самого лишних денег нет (все, что он заработал и накопил за жизнь, у него слопала инфляция 1991 года. —
Н. К.)… Мне надо свой тираж выкупать и продавать его и набирать деньги на новую книгу… Но
надо же тебе помочь…
Не сказал: «А пускай кто-нибудь еще тебе поможет. Я не могу».
А сказал: «Но
надо же тебе помочь». То есть: «Но как же я могу тебе не помочь?»
У него оказалась легкая рука (и всегда она была у него на меня легкая)… И я неожиданно быстро (неожиданно и для него, и для самой себя) вернула ему его деньги, с учетом инфляции, как и всем другим своим друзьям, когда продала часть своего тиража. Но думаю, что если бы я и не вернула их ему (хотя этого не могло быть, раз я взяла их в долг и обещала вернуть, под свое честное слово), если бы я прогорела на своем «бизнесе», он никогда не спросил бы их у меня, такой он был добрый и совестливый человек. Кстати сказать, многие пользовались и злоупотребляли этим и брали у него деньги «с концами», без отдачи.
И когда я потом продавала свои книги, «Интим» и «Семейную неидиллию» (в основном «на площадях и улицах столицы»), а он — свои, «Лица, лики и личины» (в основном на литературных вечерах в Москве, в Арзамасе, в Обнинске, в Твери и т. д.), мы перезванивались с ним, как друзья по несчастью, и обменивались опытом в новой для нас обоих профессии реализаторов своей продукции. Время от времени наши пути пересекались, то в редакциях, то на литературных вечерах в ЦДЛ и ЦДРИ
[5], куда он меня приглашал.
У него открылась на ноге старая фронтовая рана, язва, и никак не залечивалась. И в последние годы он, подсогнувшийся под всеми грузами, лежавшими на его плечах, постаревший (хотя всю жизнь был «моложавым») и совсем поседевший, ходил с палочкой, как лесовичок, с можжевеловой клюшкой, про которую я сочинила частушку:
А я хожу, хожу,
Хожу с Колюшечкой,
А Колюшечка
Ходит с клюшечкой.
…Самая последняя моя встреча с Николаем Старшиновым, когда он был еще на ногах, хотя и с «клюшечкой», произошла в издательстве «Молодая гвардия», в коридоре около редакции дочерней «Звонницы», в июле 1997 года, и получилась веселой и комичной, как и самая первая встреча. Николай Константинович сидел в широком кресле, тоненький, не толще своей «клюшечки», в окружении людей, сотрудников издательства и своих учеников. Я показала ему только что вышедший в фирме «РОЙ» номер возрожденного альманаха «Истоки» с его и моими частушками и с моими стихами, адресованными ему. И мы стали вместе листать альманах. И я сказала:
— Дайте я хоть посижу с вами рядышком. Давно с вами не сидела…
Он, дурачась, уступил мне часть своего кресла, подвинулся влево. Я пристроилась на сиденье рядом с ним. И сказала:
— Какие мы с вами компактные! В одном кресле умещаемся, на одной доске…
— Да, только я занимаю одну треть кресла, а ты — две… — сказал Николай Константинович, намекая на то, что он похудел, а я (наконец-то) потолстела.
А потом я узнала, что он поехал в Тверскую область, в деревню, к себе на дачу, на озеро, куда ездил каждое лето, отдохнуть от «шума городского», от суеты, от бумаг, проветрить мозги, половить рыбу, и там, на рыбалке, прямо в лодке, когда он ловил очередного «язя» для своих стихов, а поймал крупную рыбину, щуку, его настиг и свалил инсульт. И потом я видела Николая Константиновича уже прикованным к постели, парализованным, когда навещала его в госпитале и у него дома (с разрешения его жены Эммы и дочки Руты, двух его ангелов-хранителей)… Держался он, надо сказать, очень мужественно, как настоящий боец, как стойкий оловянный солдатик, хотя испытывал адские физические муки. Он не жаловался на них, а просто констатировал их наличие как факт:
— Я был на войне. У меня были серьезные ранения. Я всякие боли знал, но таких, какие у меня сейчас бывают, я даже представить себе не мог…
К его физическим болям примешивались и моральные… за судьбу (да не прозвучит это дежурно или напыщенно) России, которую он защищал, отстаивал с оружием в руках и которая так «изменилась» за годы (если бы только в лучшую сторону), что «даже сыну не узнать», и за судьбу поэзии (и «Поэзии»), которой он отдал жизнь, и за судьбу своих учеников.
— Генка… Касмынин… в больнице… — говорил он не очень послушным, немного костяным, анестезированным языком. — У Генки рак, а он об этом не догадывается… или догадывается… Как он, Генка?.. — спрашивал Николай Константинович.
И я не говорила ему, что Генки уже нет, что Генка уже ушел «в мир иной». Я молчала как рыба, чтобы не расстроить и не убить, не доконать его. Только сказала:
— Да я давно Генку не видела, года два… Да вы лучше о себе думайте, Колюлечка Константинович
[6]. Что вы всё о других? И говорите поменьше. Силы свои экономьте, не расходуйте их зря. Вам пока не надо много говорить…
— А ты-то как на своих вольных хлебах… в такое время… — не унимался он, переходил с Генки на меня. — Тяжело тебе…
Мне тяжело! А ему, лежащему на смертном одре, с его болями и муками, не тяжело?!
Он даже пробовал шутить, по традиции. Когда я прощалась с ним у его постели последний раз, перед Новым годом, на День Николы, и еще не знала, что уже никогда не увижу его живым, он взял мою руку и долго, долго, долго и как-то замедленно жал и тряс ее и спрашивал у меня между паузами:
— Много у меня еще сил-то? Много у меня сил?..
— У-у, скока много… Колюля Константинович… Вы скоро подниметесь… Только не торопитесь с этим. Лежите пока. Отдыхайте пока. Восстанавливайте свои силы и новых сил набирайтесь. До свидания. Я к вам еще приду…
Приду… на его похороны… И это будет самая последняя моя с ним встреча на этом свете. 10 февраля 1998 года.
…Я раньше боялась мертвых. Но Николай Старшинов был в гробу какой-то такой весь трогательный, «просветленный» и милый, как воспетый им ванька-мокрый, «ненаглядный наш цветок», и прямо как живой, и опять «моложавый», хотя и иссушенный болезнью.
Для меня он и останется живым — и в моих воспоминаниях о нем, и во всех его книгах, которые нам еще предстоит оценить, как они того заслуживают, и которые он, слава Богу, успел не только написать, но и «в дело произвести», напечатать.
«Да утешатся плачущие», — сказал на панихиде по «усопшему Николаю» Старшинову священник в церкви Вознесения у Никитских ворот. Я пока утешаюсь только тем, что из-за своего безденежья (а «безденежье — оно как бездорожье») я не поехала в начале февраля в Рязань, в гости к своим родным и к матушке своей и смогла проводить своего учителя в последний путь и бросить в его могилу горсть земли.
И еще я утешаюсь тем, что ему сейчас — «в мире ином», наверное, не тяжелее, чем было здесь, особенно в последние годы, месяцы и дни своей жизни, и что он увидится там с теми своими друзьями, которые ушли туда раньше него, и что душа его будет прилетать на землю и что на земле есть кому беречь память о нем и любить его, и в XX веке, до конца которого осталось два года, и в XXI веке…
15 февраля 1998 года,
9-й день после смерти Николая Старшинова,
г. Москва
Стихотворение про язя
Старшинов был «закоренелым, старым рыбаком» «с полувековым стажем», как он сам писал о себе в своей книге «Моя любовь и страсть — рыбалка». Он считался лучшим рыбаком среди поэтов и лучшим поэтом среди рыбаков и всегда говорил об этом с улыбкой и гордостью.
У него было много стихов о рыбах и рыбалке — наверное, как ни у кого из поэтов. И было одно такое универсальное стихотворение, как говорится, на все случаи жизни, которое он читал почти на всех литературных вечерах и праздниках, в которых он участвовал. Это стихотворение про язя, 1970 года, оно называется «И в этой холодной избе…».
Лирический герой стихотворения, то есть сам автор, уезжает из города в село на рыбалку, чтобы уйти от каких-то своих проблем, которые у него накопились, от близких ему людей, которые его чем-то обидели, и от любимой женщины, которая его чем-то обидела, развеяться душой и почувствовать себя свободным и независимым. Приходит после рыбалки в «холодную избу» на краю села, скидывает с себя «одежду сырую», разводит «в печурке огонь», варит уху и пирует в одиночестве. И испытывает состояние радости и счастья, но какое-то такое печальноватое, с примесью печали, и ложится в «ледяную кровать и, как мальчик обиженный, плачет». И старается внушить себе, что у него все в жизни хорошо и что ему всегда везло в жизни по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза… Все хорошо, за исключеньем пустяка»:
О, как же мне в жизни везет! —
Так сладко я думал когда-то.
А может, и правда везло,
И нечего портить чернила?
Ну ладно, болел тяжело,
Ну ладно, жена изменила.
(«Жену» в своем стихотворении он потом благородно заменил на «любовь», чтобы не бросать тень на своих жен. —
Н. К.)
Ну ладно, порой и друзья
Ко мне относились прохладно.
Ну ладно, жил в бедности я,
Подумаешь, тоже мне, ладно!
Нельзя убиваться, нельзя,
Размазывать трудности эти…
Зато…
И вот тут-то наступает кульминация стихотворения:
Зато я какого язя
Сегодня поймал на рассвете…
Язь как бы перевешивает все неудачи, которые были у героя в жизни, становится панацеей от всех бед и неприятностей!
А три красноперки в придачу?!
Старшинов подкидывает на чашу весов к язю еще и «трех красноперок в придачу», чтобы чаша хорошего в его жизни окончательно перевесила, перетянула чашу плохого. В этом «язе» и «трех красноперках» — весь Старшинов, который старался сохранить в себе оптимизм при всех обстоятельствах жизни, в самые печальные моменты, и умел бороться со своими плохими настроениями и мыслями. Потому что он прошел школу солдата и был бойцом, а не просто рыбаком и поэтом.
Он был убежден, что рыбалка продляет человеку жизнь и помогает ему легче переносить все плохое в жизни и не впадать в уныние и заряжает его той силой, которая нужна для этого.
И вот где бы ни выступал Старшинов, он везде читал свое стихотворение про язя.
Допустим, приезжает он в Михайловское на Пушкинский праздник. Выходит на сцену, на берегу Сороти, и говорит в микрофон примерно следующее:
— Здесь, в этих местах, жил великий русский поэт Пушкин и писал свои замечательные стихи. Какая красивая здесь природа, здесь нельзя было не писать стихов… И здесь есть река Сороть, вон она, я знаю, что она экологически чистая, в отличие от других рек нашего времени, и я знаю, что в ней водится рыба, форель, которая водится только в чистой воде. А я — заядлый рыбак, люблю ловить рыбу. И поэтому я сейчас прочитаю вам стихотворение про язя…
Или, допустим, приезжает он в Константиново на Есенинский праздник. Выходит на сцену, на берегу Оки, и говорит в микрофон примерно следующее:
— Здесь, в этих местах, жил великий русский поэт Есенин и писал свои замечательные стихи. Какая красивая здесь природа, здесь нельзя было не писать стихов… И, кстати, здесь есть река Ока, вон она… Она, наверное, еще довольно чистая, и в ней, конечно, еще водится рыба. А я — заядлый рыбак, люблю ловить рыбу. И поэтому я сейчас прочитаю стихотворение про язя…
Или, допустим, приезжает он в Карабиху на Некрасовский праздник. Выходит на сцену, на берегу Волги, и говорит в микрофон примерно следующее:
— Здесь, в этих местах, жил великий русский поэт Некрасов и писал свои замечательные стихи. Какая красивая здесь природа, здесь нельзя было не писать стихов. И здесь есть река Волга, про которую Некрасов писал: «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?». Вон она… И хотя она уже довольно загрязненная, отравленная промышленными стоками, но здесь, наверное, еще водится рыба? А я — заядлый рыбак, люблю ловить рыбу. И поэтому сейчас я прочитаю стихотворение про язя…
Или, допустим, приезжает он в какой-то колхоз. Выходит на сцену клуба или красного уголка и говорит:
— Я люблю деревню. «Я не родной, приемный сын деревни, / Но я люблю ее, как любят мать…» У вас тут такая красивая природа, такие красивые места, еще не испорченные цивилизацией. И своя речка, наверное, есть или хотя бы свое озеро, свой пруд, а там — рыба. А я — заядлый, закоренелый рыбак, люблю ловить рыбу. И поэтому я сейчас прочитаю стихотворение про язя…
Читал Старшинов на литературных вечерах и праздниках и другие свои стихи, в обязательную программу своих выступлений он включал «Оду ваньке-мокрому», «Я был когда-то ротным запевалой…», «В музее чертей», «На выставке собак»… Но стихотворение про язя у него было самое универсальное…
12 мая 2004 г.,
Москва, Перово
Частушки с «картинками»
Однажды, в студенческую зимнюю пору, а вернее в постстуденческую весеннюю пору, когда я приехала из Рязани в Москву, чтобы пробежаться по редакциям, и когда я по традиции забежала в свой любимый альманах «Поэзия», Николай Константинович Старшинов в присутствии Саши Щуплова и Гены Красникова и других сотрудников редакции сказал мне:
— Нина, ты живешь в Рязани. У вас там, наверное, люди еще поют частушки? И ты, наверное, знаешь много народных и рязанских частушек?
— Да, — сказала я.
— А я собираю частушки, — сказал он. — И ты могла бы присылать их мне.
— Ладно… — сказала я. — У меня и мама знает много частушек, она у меня из села, я записываю их за ней. Я буду присылать их вам.
— Только учти… я собираю в основном частушки с «картинками»… — предупредил он меня.
— С «картинками» — это значит с иллюстрациями, с рисунками?
— С матом, с яркими интимными сюжетами и сценами… — объяснил он. И сильно озадачил меня этим.
— У меня в коллекции уже больше пяти тысяч таких частушек. Такие-то ты знаешь?
Я растерялась:
— Я их знаю, конечно… Но никогда не пою такие… Стесняюсь. И моя мама их знает, но тоже никогда не поет такие… Стесняется.
— А я именно такие больше всего люблю и собираю. Когда у меня плохое настроение, они помогают мне разогнать его. Ничто так не помогает разогнать плохое настроение, как частушки с «картинками»… Я пою их под гармошку. Правда, самые вольные — только в узком кругу друзей…Ну-ка, прочитай мне какую-нибудь из таких частушек, которой я, может быть, не знаю.
Саша Щуплов и Гена Красников наблюдали за мной каждый из своего угла и каждый со своей улыбкой, как два Люцифера.
Ни читать, ни тем более петь я ничего не стала, постеснялась. Я просто взяла и написала на листочке бумаги одну из таких частушек и, вся краснея, как красная девица, и потупливая глазки, протянула этот листочек своему учителю…
— Такой частушки у меня в моей коллекции нет! — воскликнул Николай Константинович. — Вот такие мне и нужны!
Дома я сказала своей матушке:
— Мам, Старшинов, оказывается, собирает частушки… Он просит меня, чтобы я присылала их ему в Москву…
— Ну что же, посылай, раз просит, — одобрительно сказала матушка. — Я тебе их много надиктую…
— Но он собирает не какие-нибудь, а с «картинками», с матом… — пояснила я.
— Какой же он безобразник! И какой же бесстыдник! — ужаснулась моя целомудренная матушка, которая родила семерых детей и жила очень тяжелой жизнью, но никогда не употребляла в своей речи ничего нецензурного, даже в сердцах. — Я-то думала, он серьезный, солидный человек… Поэт, фронтовик, главный редактор альманаха, учитель нового поколения поэтов… А он такой безобразник! И такой бесстыдник! И не стесняется просить тебя об этом… девочку… которая ему в дочки годится…
— Но я обещала присылать ему частушки… Он интересуется ими как лингвист, как филолог, как фольклорист….
Матушка подумала-подумала (на это у нее ушел не один день) и в конце концов сказала:
— Ну ладно… раз ты обещала… Что же делать, раз обещала… Посылай ему такие частушки, которые ему нужны, раз обещала… Но из «песен» слова не выкидывай, не порть частушки… Только вместо некоторых букв ставь точки…
Так я и стала делать. Так я и стала помогать Старшинову собирать частушки. И моя матушка мне активно помогала, и моя старшая сестра Татьяна, которая тогда работала на чайфабрике, она стала приносить мне оттуда частушки, которые слышала от сотрудниц фабрики, простых баб, многие из которых были деревенского происхождения. И некоторые рязанские литераторы мне иногда помогали, подбрасывали порцию народных шедевров — поэт с касимовскими корнями Валерий Авдеев, поэт с шацкими корнями Анатолий Сенин и сам директор Рязанского бюро пропаганды художественной литературы, писатель с ухоловскими корнями Анатолий Овчинников.
Я отпечатывала частушки Старшинову на машинке, на бумаге для заметок, на стандартных листочках небольшого формата, и посылала их ему по почте, как правило, к праздникам: к Мужскому дню, к Женскому дню, к 1 Мая, к Дню рыбака, к 7 Ноября, к дню рождения, к Николину дню, к Новому году. Редактор издательства «Молодая гвардия» Татьяна Чалова, страстная поклонница Старшинова, говорила мне, что он очень радуется им, когда получает их, и целыми днями распевает их в редакции и хвалится всем, что вот Нина Краснова прислала ему частушки из Рязани.
Но иногда мои запасы исчерпывались, оскудевали, а мне очень уж хотелось сделать Старшинову приятное. И тогда я начинала переделывать некоторые скромные народные частушки на нескромные, вставлять туда свои «веселые картинки» с глаголами, существительными, прилагательными и наречиями, которых нет в словарях и учебниках русского языка. И, входя в озорное настроение и в азарт и играя словами и рифмами, как дитя погремушками, и заражаясь «дурным примером», который заразителен, принималась сочинять свои авторские частушки…
И пополняла ими коллекцию Старшинова, а значит и сокровищницу русского эротического фольклора. И за годы и годы у меня под влиянием Старшинова насочинялось и насобиралось так много своих авторских частушек с «картинками», что Старшинов схватился за голову и сказал мне однажды:
— Ты уж даже меня превзошла в этом. Ученица превзошла своего учителя. Ты смотри, будь с этим поосторожнее, не перебарщивай… А то люди перестанут видеть в тебе серьезную поэтессу и будут видеть только частушечницу да еще и матершинницу, хотя в жизни ты и не ругаешься матом, и вообще ты девушка скромная и поэтесса очень серьезная.
Между прочим, я никогда не слышала, чтобы Старшинов в жизни ругался матом. Он никогда не употреблял его ни при женщинах, ни при мужчинах, ни в редакции, даже в самой свободной атмосфере, в самом тесном дружеском кругу, ни где-нибудь еще. По крайней мере при мне. Он был очень целомудренный человек в лучшем смысле этого слова, и очень деликатный, и внутренне интеллигентный.
Не раз мы со Старшиновым вместе выступали на вечерах частушки. Один раз — даже в Большом зале ЦДЛ, а один раз — по Всесоюзному радио. Вместе с двумя другими заядлыми частушечниками — Виктором Боковым и Александром Бобровым. И пели частушки из наших коллекций — и под гармошку, и под балалайку, и под гитару, и а капелла, без музыки, всухую, потрясая наших слушателей, которые аплодировали нам, отбивая себе ладоши.
* * *
Всякий раз, когда я приезжала из Рязани в Москву по своим литературным делам и забегала в издательство «Молодая гвардия», на Сущевскую, 21, — в редакцию альманаха «Поэзия», «на минуточку», чтобы увидеться и пообщаться с Николаем Константиновичем Старшиновым и его заместителем Геной Красниковым и показать им свои новые стихи или узнать о судьбе своих «старых» стихов, которые я привозила им несколько месяцев назад, а заодно увидеться и пообщаться и с другими сотрудниками издательства — Татьяной Чаловой, Татьяной Бахваловой, Вадимом Кузнецовым, а потом и его преемником Георгием Зайцевым, кабинеты которых находились по соседству с «Поэзией», — я проводила там почти целый день. Побыть там «минуточку» и уйти оттуда, чтобы бежать в другие редакции, у меня не получалось. Я попадала в такую родную компанию, в такую родную стихию, в которой чувствовала себя как рыба в воде и из которой не так-то просто было уйти, да из которой и не хотелось уходить. Мне было приятно и интересно находиться там. Потому что все там относились ко мне так добро и встречали меня так радостно, будто только и ждали, когда я прикачу в Москву из своей «косопузой» Рязани, из своего медвежьего угла, из своего затворничества, и объявлюсь в «Поэзии». Когда бы я ни пришла туда, там были и другие «молодые» авторы, то Саша Бобров, то Коля Дмитриев, то Таня Максименко, то Гена Касмынин, то Гена Калашников, то Николай Карпов, то Сережа Мнацаканян, то Олег Хлебников, то волгоградский поэт Миша Зайцев, то кто-нибудь еще, каждый раз — в разных сочетаниях, мои товарищи по перу, с которыми я печаталась в одних и тех же номерах и с которыми подолгу не виделась и не общалась, живя в Рязани. Приходили туда и «маститые»: Владимир Костров, Лариса Васильева, Леонард Лавлинский… Альманах «Поэзия» был местом встреч, знакомств и закрепления знакомств его авторов друг с другом.
Старшинов беседовал с нами о литературе, о поэзии… Он не мучил нас научными лекциями на эти темы, а разговаривал с нами обо всем этом по-домашнему… Как бы даже так, между делом… Допустим, он листает при тебе рукопись какого-нибудь автора и тут же начинает читать какие-то его строчки и говорит:
— По-моему, тут что-то есть, а?
Или дает тебе посмотреть чье-то стихотворение:
— Посмотри, прочитай это… Это мне прислал один поэт из (Тамбова, Калинина, Орла и т. д.)…
И начинает рассказывать, что это за поэт…
Или, допустим, звонит он при тебе кому-нибудь по телефону, Константину Ваншенкину, Евгению Винокурову или Евгению Евтушенко, разговаривает с ним, а потом начинает рассказывать тебе что-то об этом поэте, какую-нибудь историю, связанную с ним, и читать наизусть его стихи.
В редакции «Поэзии» был ритуал — пить чай в конце рабочего дня, примерно с четырех до шести часов. С конфетами, карамелью, шоколадом, пончиками, пирожками, ватрушками, миндальными пирожными, бутербродами с сыром и (или) с колбасой, которые Старшинов покупал в столовой издательства специально для этого. А кое-что и сами авторы приносили в редакцию. Он журил их за это, а они все равно приносили. Я, как правило, привозила с собой из Рязани набор индийского чая, зная, что Старшинов не пьет вина и водки (раньше пил, а потом бросил пить, кажется, в 1970 году), и как бы поощряя это.
Старшинов и Красников не отпускали меня домой, пока я не попью с ними чаю. Не то чтобы они насильно держали-удерживали меня за руки и за ноги, но они как-то так строили программу дня, что я не могла уйти из редакции, не попивши с ними чаю.
Мы с Таней Бахваловой или с кем-то из «женских авторов», как сказал бы сейчас Виктор Ерофеев, вытаскивали из углового шкафа, служившего буфетом, разносортные, некомплектные чашки, блюдца, ложечки и сервировали широкий журнальный столик. А около столика ставили кресла и стулья, кружком, по количеству присутствующих.
Старшинов садился в кресло у стены и окна, как вождь племени, он и был вождем младого племени поэтов. Мы — все присутствующие в редакции — садились на другие места, кому какие достанутся. И начинали свое «чаепитие» не «в Мытищах». И при этом вели разные литературные тары-бары-растабары, в свободной форме. Во главе со Старшиновым, который был душой нашего безалкогольного «застолья».
Часто это заканчивалось тем, что Старшинов пел частушки из своей коллекции, наиболее скромные из них:
Эх, кум Пронька,
Гармонь тронь-ка,
А я, кума Фенька,
Попляшу маленько.
И другие частушки он пел, покруче и попикантнее, которые я присылала ему из Рязани по почте и таким образом помогала собирать ему его коллекцию. Например, такие, старинные, солотчинские:
Ох, тительная,
Удивительная,
Удивила ты мене
На постели у себе.
Или:
Мене мать ругая,
И отец ругая.
За что же ругая? —
Растет пуза другая.
Он не просто пел, но и комментировал их, и анализировал как стихи, объяснял присутствующим, чем хороша та или иная частушка, рассматривал ее при всех, при плафоновом освещении, как какой-нибудь камешек-самоцвет, малахит или сердолик, и показывал ее нам разными гранями. Повернет ее одной гранью — и частушка сияет одним цветом и светом, а повернет другой — и она сияет совсем другим цветом и светом.
Потом мы шли к метро, на станцию «Новослободская», как «цыгане шумною толпою», и спускались по лесенке-чудесенке вниз, в зал с волшебно-яркими коринскими витражами, и там расставались…
13–15 мая 2004 г.,
Москва
Владимир КРУПИН
Незаменимые есть
Крупин Владимир Николаевич, прозаик. Родился в 1941 году в с. Кильмезь Кировской обл. Окончил Московский областной педагогический институт. Работал редактором на Центральном телевидении, в различных литературно-художественных издательствах, главным редактором журнала «Москва» (1989–1992). С 1994 года преподает в Московской духовной академии, с 1998 года главный редактор православного журнала «Благодатный огонь». Автор более двадцати книг. Широкую известность получили его повести «Живая вода», «Сороковой день», «Прощай, Россия, встретимся в раю», «Великорецкая купель», «Как только, так сразу», «Крестный ход», роман «Спасение погибших». Живет в Москве.
…………………..
Никоим образом я не посягаю на звание друга Николая Старшинова, но то, что долгие годы мы были хорошими знакомыми, ездили вместе, выступали, это было. И я благодарен судьбе, подарившей мне товарищество с таким человеком. Вот привычно говорят, что незаменимых людей нет. А кем можно заменить Николая Константиновича? И думать, и перебирать в уме фамилии бесполезно — он был один такой, будут ли еще такие, Бог весть.
Вспоминаю, как первый раз его увидел. Это было мероприятие в Центральном доме литераторов — отмечалось 20-летие Победы, то есть сорок лет назад. Нам, старшекурсникам литфака, дали пригласительные. Видеть знаменитостей, тех, кого мы «изучали», было душеподъемно. Константин Симонов выступал, Сергей Смирнов, Сергей Наровчатов, Эдуард Асадов, сидела — и все обращали на нее внимание — красавица Юлия Друнина.
Но вот объявили Николая Старшинова. Худенький, говорящий негромко, почти без жестов, без декламации, он запомнился мне особенно. Вспоминал одно сражение, когда он со своим пулеметом держал врага до прихода подкрепления: «И вот, может быть, то, что я не позволил фашистам топтать русскую землю, не пустил их к столице, это и есть главное событие моей жизни». Запомнились и его стихи, особенно о запевале: «Я был когда-то ротным запевалой, / Да и теперь, случается, пою». И вот это, теперь хрестоматийное, когда солдаты идут походом, свершая подвиг спасения Отечества, а под ногами рассыпаны деньги.
И никто не наклоняется их поднять: «Здесь ничего не покупают / И ничего не продают».
Конечно, с тех пор я всегда радовался стихам Старшинова и однажды был поражен, прочтя в биографической справке, что он москвич. Вот те на, а я-то был уверен, что он из самой что ни на есть глубинной России. Вот это и есть свершение выражения: кровь от крови и плоть от плоти, в Николае Константиновиче сказались поколения русских людей, строивших державу, крепивших ее мощь, сельские деды и прадеды, деревенская родня, его трогательная любовь к матери.
В поездках Николай был необычайно, я бы сказал, нужен. Его терпимость к дорожным неудобствам, его юмор, сердечность, неприхотливость делали его душой любой бригады. Я даже замечал, что наши капризные «классики», с завышенной самооценкой, избегали ездить со Старшиновым: очень уж они заметны были со своими претензиями на фоне великой порядочности большого поэта.
Помню, в Нижегородской области, в райцентре Шаран-га (кстати, бывшем вятском) нас снимало демократическое телевидение Нижнего Новгорода. В нашей бригаде пьющих не было. Это важно сказать вот для чего: нас принимали очень душевно, нанесли домашней стряпни, солений-варений, весь стол был уставлен напитками. Телевидение нас мучило, особенно Николая Константиновича. Его просили и стихи читать, и на гармошке играть. Хозяева уже не выдержали, просили за стол, ибо уже вносили чашу со свеже-сваренными пельменями. Усадили и телевизионщиков, вот именно они-то в основном и боролись с нашествием разноградусного питья.
На следующее утро смотрим информацию о нашем пребывании. И что же видим? Николай наяривает на гармони, мы за столом, крупным планом бутылки, закуски, опять наши довольные смеющиеся лица. И комментарий: «Хорошо московским поэтам и прозаикам на Нижегородской земле». Мы — Владимир Костров, я, грешный, и особенно Семен Шуртаков — справедливо возмутились. Один Николай смеялся:
— Бросьте, ребята. Пусть их. Это их так Немцов воспитал. Но теперь у нас безвыходное положение: народ уверен, что мы пьем, нельзя обманывать народ, тащите пару ящиков!
Конечно, он, убежденный трезвенник, шутил.
Когда справляли его юбилей, то одно перечисление пришедших в зал его знаменитых учеников заняло много времени. Сколько же душевных и физических сил отдал им наставник! Как он радовался успехам своих подопечных, одного Николая Дмитриева взять! А как он поддерживал и продвигал Прасолова, Жукова, Чикова, Коротаева, Романова, Благова, Решетова, Домовитова, Сухарева… несть числа!
Мы часто говорили, и он любил рассказывать о детстве, о матери, о бабушке:
— Сейчас вернули название Протопоповского переулка, именно здесь я родился, именно здесь, волею судьбы, живу. Был у нас двухэтажный барак на шесть семей. У нас семья большая, пять братьев у меня было, две сестры. Родители малограмотные, а вся подшивка «Нивы», приложение к ней, то есть вся русская классика была в доме. Стихи читали, собравшись. С детства я помнил и знал наизусть Державина, Пушкина, Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого, Кольцова, Никитина, Сурикова, а зарубежников! Беранже: «Как яблочко румян, шатаюсь я беспечно. Не то чтоб очень пьян, но весел бесконечно». Гейне: «Но если моих не похвалишь стихов, то развод неминуем!». Читал стихи деревенским мальчишкам. Я каждое лето жил около Сергиева Посада у бабушки, в деревне Рахманово. Там и к рыбалке привык на всю жизнь. «Зато я такого язя сегодня поймал на рассвете!» Меня иногда мальчишки дразнили: «Дачник, дачник!» Вообще изо всех обид в жизни эта была самая обидная. Я чуть не плакал, кричал: «Я не дачник, я тут живу, тут моя бабушка живет!» Очень Блока любил: «Я пригвожден к трактирной стойке…» Мы тогда очень следили за международным положением. Я был мальчишка, четырнадцать лет, немцы вошли в Париж. Сдали им Париж. Я, взяв размер у Блока, написал:
Пускай в опасности Египет,
Я предсказаний не стерплю.
Но мной стакан не первый выпит,
И я в хмелю! И я в хмелю!
Я здесь — не дальше и не ближе.
Пивная — дом, скамья — кровать.
И о поруганном Париже
Не буду больше горевать.
А? Четырнадцать лет. А свой дом, свой переулок я называл потом московским полудеревенским. Меня Вера Инбер весьма критиковала, что я в Москве воспеваю не
новостройки, а что-то отыскиваю полудеревенское.
Ходил Николай с палочкой. Мало кто знал, что у него перебиты кости ног, рана всю жизнь сочилась кровью, и он испытывал муки стеснения, когда не было совсем условий ее перебинтовать.
Великий ум, великая душа! Нет, раба Божьего Николая Старшинова никто не заменит. Помяни его, Господи, во царствии Твоем.
Александр ЩУПЛОВ
«Так жили поэты…»
Щуплов Александр Николаевич (1949–2006), поэт, прозаик, критик. Родился в Москве. Окончил историко-филологический факультет Московского педагогического института. Служил в рядах Советской армии. В семидесятые годы работал в альманахе «Поэзия» издательства «Молодая гвардия». Автор книг стихов «Первая лыжня», «Серебряная изнанка», «Переходный возраст», «Повторение непройденного», «Исполнение желаний» и др. Жил в Москве.
…………………..
Говорят, женитьба — замена одной ошибки в жизни на другую. У Старшинова такой ротации ошибок не было. Женщины обожали Старшинова. Неудивительно, что в радиус действия обаяния Николая Константиновича попала и прошедшая фронт и обладавшая прочным, волевым характером Юлия Друнина. За каждой женщиной, достигшей успеха, стоит мужчина, который ее поддерживает, а за ним, в свою очередь, стоят женщины, которые поддерживали его. Женщины всегда поддерживали Старшинова. Его ауре никто из них не мог сопротивляться. Одна-две частушки, какая-то байка про рыбалку — и вот уже на Старшинова глядят широко распахнутые влюбленные глаза.
С Юлией Друниной они разошлись честно и чисто: «Сразу после развода, — рассказывал Николай Константинович, — пошли в ресторан ЦДЛ и отметили развод…» Затем, когда Юлия Владимировна вышла замуж за Алексея Каплера, Старшинов написал чудесное четверостишие. Неоднократно любил его цитировать.
— Сделайте его стихотворением! — советовал я.
— Не продолжается…
И все-таки, кажется, стихотворение было дописано. А для меня оно так и осталось прекрасным четверостишием. Вот оно:
Жизнь моя теперь совсем ясна.
Вышел я на ясную дорогу.
Дочка вышла замуж. И жена
тоже вышла замуж, слава Богу!
Зависть — не самая добрая черта в человеке (если не брать творческую ее ипостась). Конечно же, Старшинов завидовал Юлии Владимировне… точнее, глагол «завидовать» не выражал той сложности отношения его к своей так и не ушедшей любви. Все было сложнее и проще. Во всяком случае, когда Юлия Друнина получила Госпремию, Старшинов мимолетом заметил: «Юля дала с премии Ленке (дочери Старшинова и Друниной. —
С. Щ.) деньги на машину». Помолчал. Потом добавил: «Я тоже дал!» Подтекст нес в себе какое-то простодушное детское хвастовство, замешанное на нежном чувстве отцовства: мол, мы и без премий можем помочь!
Вообще отношения Старшинова со слабым полом строились на исключительно благородной основе. В общем-то из представительниц слабого пола ему судьба предоставляла женщин с сильным характером. Вспомним трагическое завершение судьбы Юлии Друниной! Сам же Николай Константинович любил рассказывать о том, как его жена Эмма — белокурая и сногсшибательно красивая литовка — однажды осадила Смелякова: сидели на бережку на рыбалке. У Смелякова, как назло, не клюет. Зато Эмма, которая-то и червяка боялась сама насадить на крючок, вытаскивает одну за другой рыбку! Смеляков сидел, пыхтел-пыхтел про себя, потом не выдержал: «Я, известный поэт, и не могу поймать рыбу! А тут какая-то девчонка тащит из-под носа…» «Если бы Эмма промолчала, — суммировал Николай Константинович итог общения Эммы с классиком, — Смеляков бы относился к ней как к рядовой девчонке, подтверждающей его характеристику». Но не такие были женщины, которых выбирал в жизни Старшинов и которые выбирали в жизни Старшинова. «Чего ты сказал? — заерепенилась Эмма. — Чего ты сказал? Вот сейчас поддам ногой — упадешь в воду, руки не подам!» И Ярослав Васильевич Смеляков замолчал. Нашла коса на камень!
А когда одна сотрудница стала относиться к Николаю Константиновичу с особенной нежностью, Старшинов простодушно посоветовался со мной:
— Может, мне какой-нибудь плохой поступок совершить? Например, булочку в магазине украсть?
— Не стоит, Николай Константинович! Женщины любят жалеть — закормят булочками!
* * *
Блаженность сегодняшнего дня — здравомыслие завтрашнего! В стенах издательства Старшинова звали «Боженькой». Да он и в самом деле был таким боженькой — помогал неимоверно всем и вся. Особенно любил таких же удивительных и светлых людей, коими полна Русь исстари. Конечно, они оказывались поэтами — будь то Новелла Матвеева, или Анатолий Чиков, или Татьяна Сыришева, или Николай Глазков… Глазков был задушевной любовью Старшинова. Его стихи пробивались для альманаха «Поэзия» сквозь все заслоны главной редакции и «несуществующей» цензуры — все-таки издательство было комсомольское! Какой радостью светился Старшинов, когда мы возвращались после очередной битвы в главной редакции «Молодой гвардии» за стихи (не без кукиша в кармане!) Николая Глазкова. Да и только ли Глазкова?! Но Николай Иванович Глазков был нашим кумиром. Помнится его очередной визит в альманах: уши оттопырены, как у царицы Нефертити. Борода всклокочена. Глаза — угли протопопа Аввакума. По пятам идет слава и эхо глазковских четверостиший, бронзовевших на глазах. Мы наизусть знали его непечатавшиеся стихи. Да и как было не знать, если Старшинов на дню по десять раз читал их и нам, и посетителям — вперемежку с частушками, разумеется!
Мне говорят, что «Окна ТАСС»
моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
но это не поэзия!
Или:
Люблю грозу в конце июня,
когда идет физкульт-парад
и мрачно мокнет на трибуне
правительственный аппарат.
Пошли мы с Николаем Ивановичем и Старшиновым в издательскую столовую. Николай Константинович глядел на Глазкова влюбленными глазами. За обедом Глазков рассказал нам о своих успехах в плавании. Если бы ему довелось соревноваться с Мао Цзэдуном в заплывах, убеждал нас Глазков, он бы обогнал великого кормчего. Рассказ сопровождался приемом щей. Сперва Глазков вынул из тарелки вилкой всю капустку с морковкой, а потом выпил пустую жидкость. За компотом он рассказал о съемках «Андрея Рублева», где играл летающего мужика: умудрился упасть в какую-то лужу и сломать ногу…
* * *
Кстати, публикации стихов, подобных глазковским, в глухую пору застоя было делом нешуточным и обоюдоострым, как бритва — та самая, чья плавающая головка, согласно сегодняшней телерекламе, «в точности повторяет контуры вашего лица». Споры в редакции альманаха «Поэзия» кипели нешуточные. Во-первых, спорили оба редактора друг с другом — мы со Старшиновым никак не могли присудить пальму первенства в русской поэзии. Я на дух не переносил Некрасова и противопоставлял ему Ахматову, Старшинов (кстати, знакомый с Ахматовой в бытность свою заведующим отделом поэзии журнала «Юность») отдавал предпочтение Цветаевой. В спорах рождалась истина. Такой истиной стала публикация сразу двенадцати (!) неизвестных стихотворений Цветаевой, включая одно, раскритикованное самим Горьким (со строкой: «Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль…»).
* * *
Говорят, счастье — это когда имеешь собственное мнение по обоюдному согласию. В этом смысле Старшинов был счастливым человеком. Его собственное мнение выражалось всегда мягко, а порой и просто заменялось молчанием. Но это молчание было отнюдь не знаком согласия! Когда дело доходило до драки, он был принципиален и не отступал ни на йоту. Так появились в альманахе «Поэзия» стихи метафорика и просто отличного поэта Ивана Жданова, включая знаменитую «Птичку»:
Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая тоже хотела
всего-то летать, как птица…
В общем-то на одном из московских совещаний молодых писателей сцепились Ваня Жданов и руководитель «молодогвардейского» семинара Вадим Кузнецов. Ванька полез на рожон — громя всех, кто ему не нравился. А не нравились ему редакторы и издатели, которые его редактировали, но не издавали.
— А все-таки мы тебя напечатаем! — вдруг сказал Кузнецов, наш милый и непредсказуемый — всегда с вывертом на каблуках, в холеной бороде — Вадим Петрович.
— Не верю! — хорохорился Ванька.
— А все равно напечатаем!
Под это дело мы со Старшиновым сразу и предложили в альманах «Поэзия» подборку Жданова. В триста с лишним строк! Пол-авторского листа! И это в то время, когда продвинутая «Юность» (впрочем, такого эпитета тогда еще не было) напечатала у Вани всего-то два стиха. По-моему, даже предисловие заказали Давиду Кугультинову. Тот воспел Ваню в русском слове — и стихи вышли.
Так были напечатаны и две молодые и вспыльчивые статьи Владимира Вигилянского (сейчас он служит в церкви Святой Татьяны при МГУ) о Евтушенко и Вознесенском. Николай Константинович подбирался к реабилитации Николая Гумилёва: как-то услышав по радио выступления патриарха поэтического цеха Николая Тихонова, где проскользнули два-три неплохих слова о Гумилёве (Тихонов ходил в юности в учениках Николая Степановича), Старшинов пытался получить у Тихонова разрешение на публикацию этих двух-трех слов — в качестве предисловия к публикации в альманахе Гумилёва. Не получил!
Если Старшинов влюблялся в поэта — это было на всю жизнь. Колю Дмитриева, как он мне однажды говорил во время чаепития, он ставил выше Рубцова — рядом с Твардовским.
* * *
О работе Старшинова с молодыми поэтами можно (и будут!) писать книги и диссертации. Все мы вышли из старшиновской шинели — и поколение Олега Дмитриева, Владимира Кострова, Евгения Храмова, Владимира Павлинова, Дмитрия Сухарева… И следующее, наше, поколение — Николая Дмитриева, Геннадия Касмынина, Владимира Урусова, Геннадия Красникова, Галины Безруковой, Ольги Ермолаевой, Юрия Полякова, Нины Красновой, Татьяны Веселовой… Семинары проходили задорно, весело, шумно. «Филологические мальчики» не приветствовались (кажется, из таких в старшиновской «тусовке» оказался только я). Нестандартные ситуации подстерегали на каждом углу.
Вспоминается семинар молодых поэтов во внуковском Доме творчества. Поэты разбрелись по номерам своих руководителей, где и проходили семинары. Молодой поэт Володя Ведякин (основатель «смурреализма») попал в семинар к Николаю Константиновичу. Однажды утром, перед семинаром он обнаружил в номере своего руководителя огуречный лосьон, который и употребил в качестве опохмелки. На вопрос Старшинова: «Володя, почему именно лосьон?» — ответил: «Сразу и выпил, и огурчиком закусил!»
В другом семинаре руководитель Владимир Николаевич Соколов обозревал нас, набившихся к нему в комнату, лежа на постели. Слушал стихи, покачивал головой и пил чай — из чайничка (после мы узнали истинное содержание этого сосуда с крышечкой). Потом затянул алешковский «Окурочек» и пригласил подпевать. После каждого куплета поднимал голову и спрашивал нас, семинаристов:
— Кто знает следующий куплет?
В ответ — безмолвие. Выручил Миша Молчанов: допел с руководителем.
Вечером рассказал о ситуации Старшинову. Тот смеется:
— Видел бы Вадим Кожинов своего «тихого лирика» и продолжателя святого дела Фета!
* * *
Николай Старшинов жил в стране, где любят ушами и слуховым аппаратом, где свой крест несут, как ахинею, где светлое будущее могут обещать либо коммунисты, либо священники, где писатели так растворяются в своем творчестве, что могут обходиться без самих себя, где не в своей тарелке всегда вкуснее и где, естественно, самая эрогенная зона — бумажник! А еще он жил в стране, где принимают на грудь, а все равно море — по колено! Это сейчас мы уяснили всей страной, что патриотизм начинается там, где кончается выпивка, и кончается там, где начинаются налоги. А в те годы…
О подвигах Старшинова ходили легенды. Его неоднократно лишали права посещения Дома литераторов — за злоупотребление исконной русской традицией. Администратор Дома литераторов Шапиро был в шоке от некоторых поступков Николая Константиновича. Однажды он захотел изгнать Старшинова из рая, сиречь из ЦДЛ, но Старшинов запел на весь наш «гадюжник»… «Интернационал».
— Прекратите петь! — кричал Шапиро.
— Вам не нравится эта песня? — осведомился Старшинов. Шапиро глотнул сгущающийся воздух…
Другой раз он примчался в «расписной» кабак с намерением пресечь пение Старшинова. Снова не удалось — Николай Константинович пел в дуэте… с самим Ворошиловым.
Олег Дмитриев вспоминал, как группа поэтов завалилась в Дом кино, заложила за воротник. Естественно, начались выяснения отношений (термина «разборки» еще не существовало, как и термина «тусовки»). На улице выяснения отношений продолжались. Старшинов бросался в самую гущу событий. Его выталкивали за демаркационную линию драки, но он снова с упорством лез в битву. Выбежал администратор Дома кино. Он сразу отметил недремлющим оком энергичного Старшинова.
— Гражданин, прекратите драку! — вопил администратор. Старшинов продолжал участвовать в гуще событий.
— Ну, смотрите, — пригрозил администратор, — можете продолжать драться, но в кино вам больше не работать!
— С тех пор я не работаю больше в кино, — завершал за Олега Дмитриева грустную историю Старшинов.
А потом в Ленинграде случилась клиническая смерть Старшинова. Его вытащили с того света. Врач сказал:
— Еще раз выпьете хоть сто грамм…
— Да я прошел войну, — захорохорился Николай Константинович.
— Я сказал, еще сто грамм — и конец! — повторил врач.
И Старшинов завязал. (По моим сведениям, это произошло немного позднее. —
С. Щ.) Даже «Байкал» не брал в рот. Зато каждый год в летний день его «завяза» в альманахе «Поэзия» собирались поэты — молодые и классики — и дружно праздновали это событие. Николай Константинович смирно пил «Буратино» и по просьбе общества рассказывал, что же он все-таки успел увидеть во время клинической смерти «там» — на том свете.
* * *
В России каждая Василиса — Премудрая.
Каждый Иванушка — Дурачок.
Произведем рокировочку — и рассыпалась загадочная русская душа!
Цельность натуры Николая Старшинова, его органичная вписанность в квадратуру суматошной жизни делали его магнитическим центром советского социума разной величины. Помогали анекдоты, частушки, байки. Они выпускали пар, устанавливали мосты в некоммуникабельной, а то и насквозь стукаческой среде, позволяли высказывать свое мнение не впрямую, а обиняком, метафорически.
Россия знала о «частушечной» страсти Старшинова, и все неизвестные частушки смело приписывала ему. Частушки спасали. Сборник частушек Старшинова переплели ребята из СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи) в светлый ситчик в голубой — почти незабудки! — цветочек. Всего несколько экземпляров. Потом книжку вывезли в Скандинавию, кто-то издал ее по-пиратски на чужбине. Потом вышел в Лондоне Словарь русского мата. В ней одна частушка отсылала к прозе Виктора Астафьева. Частушка была старшиновская. Когда-то он спел ее Виктору Петровичу — и тот живехонько поставил частушку в свою прозу. Вот она, эта частушка:
Катя кофий попивала
и с Прокофием гуляла.
Катя, Катя, Катенька,
отчего брюхатенька?
То ли от кофия,
то ли от Прокофия?
Как собирались частушки? Однажды в Переяславле после выступления вокруг Старшинова собрались девочки-ткачихи. Стали петь частушки. Николай Константинович посадил за стол секретаря комсомольской организации с алым румянцем во все щеки. Казалось, разорвалась банка с малиновым вареньем и эпицентр взрыва пришелся на самые ямочки на щеках. Да и было от чего краснеть. Старшинов дал комсомольскому секретарю тетрадку и велел записывать частушки, которые ткачихи в фартучках тут же и пели:
Я купила колбасу
и в карман положила.
А она такая б….
меня растревожила…
«Растревожила…» — аккуратно выводила в тетрадке комсомольский секретарь. Было видно, что частушки для Старшинова она записывала с большим удовольствием, чем вела протокол комсомольского собрания.
* * *
«— Хотите, я вас посмешу? — спросила нас литовская поэтесса Виолета Пальчинскайте, — рассказывал Старшинов (дело было в Вильнюсе, куда приехали русские поэты, переводившие литовцев). — В Вильнюсе открыли новый мост, — начинает Виолета свой анекдот. — Идут по мосту американец, русский и литовец. По легенде, чтобы мост стоял на века, надо, проходя по нему первый раз, бросить в воду самое ценное, что у тебя есть. Американец покопался в карманах и бросил в реку золотую зажигалку. Русский раздобыл грязный носовой платок. А литовец сказал: «Самое дорогое, что у меня есть, — мой старший русский брат. Но не могу же я его бросить в воду?!» — И Виолета захохотала», — заканчивал рассказ Старшинов.
Вот так насмешила!
* * *
Полжизни Старшинов проводил на телефоне, обсуждались проекты, читались стихи. Прозвониться Николаю Константиновичу
было невозможно.
Звонит в альманах Олег Дмитриев:
— Ребята, никак не могу дозвониться Старшинову — все утро занят телефон. Если он вам в редакцию позвонит, прочитайте ему четверостишие.
Следом шло собственно двустишие:
Уж легче мне у……. в чистом поле,
чем дозвониться Старшинову Коле.
Споры в альманахе стояли с утра до вечера. Конечно, спорили о стихах. Однажды поутру, после веселого вечера в Доме литераторов, звоню Старшинову:
— Николай Константинович, мне вчера в «гадюжнике» такого молодого поэта представили. Откуда-то из-под Рязани. По-моему, гениальный! Я взял у него стихи для альманаха.
— Читай!
Начинаю читать — одно стихотворение, второе… На третьем из трубки летит изящный матерок:
— Что за графомания?!
Отвечаю по книге, которая у меня перед глазами: Сергей Есенин, огоньковское собрание сочинений, четвертый том!
Так завершился наш спор, был ли Есенин мастером стиха. Правда, никто никого не убедил. И споры продолжались с утроенной энергией.
* * *
Искусство — ремень на штанах общества, независимо от толщины задницы. В пору нашей молодости все телодвижения критиков сводились к поддергиванию этого ремня. Хотелось большего. И изобрел я литературное движение — «социалистический сентиментализм». Чем хуже «смурреализма» Володи Ведякина или метафоризма Вани Жданова?! Стал агитировать в ряды. Старшинов спел в ответ очередную частушку. Кажется, такую:
Запевай, моя родная.
Мне не запевается.
На……. я с платформы —
рот не разевается.
В редакцию зашел Владимир Соколов. Старшинов указал глазами на Владимира Николаевича: мол, вот тебе готовый «соцсентименталист»!
— Владимир Николаевич, — вежливо подступился я. — Как вы относитесь к тому, чтобы стать лидером… нет, знаменем нашего движения — «социалистического сентиментализма»?
Соколов вытаращил грустные глаза:
— На фиг-на фиг, Саша. Пишите к себе Щипачева!
* * *
Приятнее всего жить вчерашним днем с завтрашней модой. Семидесятые годы позволяли это проделывать с лихвой. Инициируя бум Николая Рубцова, Вадим Кожинов 282 организовал в Малом зале Дома литераторов вечер памяти вологодского поэта. Пришли друзья, сокурсники, единомышленники — с разных берегов. Мы со Старшиновым и Таней Чаловой примостились в последних рядах зала (помнится, Таня в то время уже готовила в «Молодой гвардии» первую объемную книгу Рубцова «Подорожник»). Выступает Евгений Евтушенко. Блестяще! Воспоминания идут в ногу с четкими крамольными формулами. Шаг в шаг!
— Если ко мне в Доме литераторов кто-нибудь подходил сзади, — говорил Евтушенко, — и закрывал глаза ладошками, как это делают дети в игре, я знал — Коля Рубцов…
— Интересно, — размышляла вслух Таня, — как мог Рубцов закрыть глаза Евгению Александровичу ладошками — он был в два раза его ниже.
Старшинов прокомментировал:
— А Евгений Александрович, зная, что подходит Рубцов, предусмотрительно пригнулся…
* * *
…Как жаль, что во всякой живой воде смысл выпадает в мертвый осадок…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Когда не стало Николая Константиновича Старшинова, пожалуй, лучше всех об отношении к нему его учеников сказал поэт Александр Щуплов, заметив, что все мы «выходили из… старшиновской шинели — той самой, в которой поэт пришел с войны…»
Тема — Старшинов и его ученики — очень большая, не в переносном, а в прямом смысле. Да и для него самого она была не минутным эпизодом, импровизационным порывом, но, простите за громкие слова, делом жизни, особой, редкой в наш век философией творческого бескорыстия. Он любил повторять созвучные его душе строки Ярослава Смелякова об отношении к молодым поэтам:
Я сделал сам не так уж мало,
и мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.
Далее у Смелякова шло:
…я нисколько не таюсь,
что с раздраженной добротою
сам к этим мальчикам тянусь.
Но у Николая Константиновича, как бы он ни повторял
с удовольствием эти стихи, «раздраженной доброты» к своим ученикам никогда не было. Могла быть сочувственная, сострадающая, оберегающая, сдержанная доброта, но только не «раздраженная».
Старшинов не просто пестовал своих учеников, читал их бесконечные рукописи, пробивал их книги в издательствах, помогал вступить в Союз писателей, писал им сотни писем во все края Советского Союза, но и по-человечески дружил со многими из них, бывал у них дома, ездил к ним на свадьбы и юбилеи, а в горькие минуты утрат — тоже был рядом. Легкий на подъем, он мог мгновенно собраться и поехать в какую-нибудь глухомань, на родину к своему ученику. Но также он тормошил и нас, вытаскивая то на рыбалку, то в какое-нибудь красивейшее место на природу, на свою любимую речку Медведицу или Ловать. В юбилейные дни 600-летия Куликовской битвы он вывез из сонной Москвы человек двадцать своих друзей — поэтов и критиков — на историческое Куликово поле. В канун юбилейного дня мы ночевали на берегу Дона и, встречая утро в белом тумане над полем русской славы, могли пережить хоть в какой-то мере чувства наших далеких предков, готовящихся к битве с врагами родины. Это был поистине великий подарок Николая Константиновича нам, приехавшим сюда по его волевой инициативе. Такие часы и переживания не забываются никогда. Вообще он любил вырывать людей из рутинной суеты, из бесконечных пустых литературных споров и дрязг. «Поехали лучше на рыбалку! — говорил он. — Время, проведенное за рыбной ловлей, по мнению древних, прибавляется к жизни…»
Всех, кто имел радость и счастье быть обогретым дружбой и легким, ненавязчивым учительством Старшинова, не перечислить. Его хватило на очень многих. Есть среди них яркие поэты, которые останутся в русской литературе. Это и Владимир Костров, и Анатолий Чиков, и Олег Дмитриев, и Владимир Павлинов, и Николай Карпов, и Дмитрий Сухарев, и Станислав Куняев, и Виктор Пахомов, и Виктор Дронников, а из более молодых — Мария Аввакумова, Владимир Урусов, Виктор Верстаков, Владимир Емельянов, Евгений Чепурных, Нина Краснова, Николай Дмитриев, Ольга Ермолаева, Александр Щуплов, Виктор Гаврилин, Валентина Мальми, Евгений Артюхов, Владимир Ведякин, Михаил Молчанов, Геннадий Касмынин, Павел Калина, Сергей Щербаков…
Когда похожим на весенний, печальным февральским днем из храма Вознесения после отпевания мы выносили гроб с телом нашего дорогого Учителя, на паперти стоял, опираясь на костыли, какой-то нищий, бородатый мужчина. Он крестился и, кланяясь над гробом, несколько раз повторил: «Прощайте, Николай Константинович!..», а на вопрошающие взгляды присутствующих добавил: «Он был моим учителем! Когда-то я у него учился в Литинституте…»
Был в этом странном эпизоде некий символический знак судьбы, знак завершающегося XX века. Но при всей трагичности нашего пути, куда бы нас ни задвигала жизнь, нам все же остается счастье и радость вот так просто и спокойно сказать: «Он был моим учителем!»
Геннадий КРАСНИКОВ
Февраль, 1998 г.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ
НИКОЛАЮ СТАРШИНОВУ
Мария АВВАКУМОВА
* * *
Николаю Старшинову
Такое доверие к Вашей душе,
такая забытая тяга.
В себе, обезлюдевшей, темной уже,
храню, берегу Вас, как скряга.
Не то, что мы выросли где-то рядком,
не то, что Вы с оком глубоким.
А то, что и Ваша душа — босиком,
другому — ни клином, ни боком.
Блуждаю тайгою по жизни лихой
и чувствую Ваше раденье
за сотой клыкастой таежной стеной,
за сопками сна и терпенья.
Пожары, пожары… огнища вокруг.
Вся жизнь наша в пропасти дыма.
Но только припомнишь о друге
— о друг! —
и оживешь, и терпимо.
Забайкалье, Могочинский район
Евгений АРТЮХОВ
* * *
Н. С.
Это может смешным показаться —
Жить бы тихо, без дальних затей.
Только боязно мне оказаться
Ниже веры высокой твоей.
Для того ли, намаявшись вдосталь,
И потом у ночного огня
Под чужою словесной коростой
Разглядел ты когда-то меня.
Не хулил, не хвалил, не лукавил,
А, как старший в хорошем дому,
Обстоятельно на ноги ставил,
Обучал ремеслу и уму.
И теперь, когда сердце созрело
И болит, не тая ничего,
Я люблю твое вечное дело,
Как, наверно, тебя самого.
Не подумай, что это нескромно,
Не сочти за досужую лесть, —
На душе и тепло, и ознобно
От того, что ты попросту есть.
18 декабря 1980
Александр БОБРОВ
* * *
Ветер гуляет по дюнам,
Сосны шумят на песках.
Время о близких подумать,
Письма друзьям написать.
Птицы торопятся к Ниде,
К осени Куршской косы…
Ни на кого не в обиде
Снова кладу на весы
Зло и добро, что видал я —
Не пересилило зло.
Песня цветастая — дайна —
Резко встает на крыло
И в поднебесье взмывает…
Не разбирая всех слов,
Снова Литве подпевает
Русский поэт Старшинов.
Движутся вечные дюны
Так незаметно на взгляд —
Самые светлые думы
Зримо, как птицы, летят.
Виктор БОКОВ
* * *
Николаю Старшинову в день его 60-летия
Ты горевал, ты воевал,
Ты видел смерть на ближнем расстоянье.
Но ты не плакал и не унывал,
Но таковы натурой россияне.
Твоя строка не в модном пиджаке,
Она, как телогрейка, вся в народе.
В тебе, как в настоящем мужике,
Живет отвага и любовь к природе.
Ты с удочкой сидишь и ждешь кивка,
А жизнь течет, как чистая водица.
Давай с тобой по кружечке пивка,
А что покрепче, тоже пригодится!
6 декабря 1984 г.,
Переделкино
Лариса ВАСИЛЬЕВА
* * *
Николаю Старшинову
Жалко родину. Даже в радости
сердце грустных предчувствий полно.
Горечь слышится даже в сладости,
даже в полдень порой темно.
Это русское дело сложное,
неразумная та стезя,
где возможно все невозможное,
а возможного-то нельзя.
И в одном существе встречаются
подлость с честностью наравне,
злое с добрым легко венчаются
в светлой яви, как в страшном сне.
Жалко родину. Бредит бедная,
еле-еле бредет она.
Впрочем, поступь ее победная
всей огромной земле слышна.
Татьяна ВЕСЕЛОВА
* * *
Н. К. Старшинову
Да, есть у нас в Отечестве поэты,
Чьи песни не подвластны водам Леты,
Кто в юности узнал и рай, и ад.
Они — всегда в строю. И, между прочим,
Есть среди них — один, чернорабочий,
Поэт страны и Родины солдат.
Война ему оружие вручила
И думала: от песни отучила,
И поклялась в сраженьях не щадить.
Скажите мне: откуда взял он силу,
Чтоб вынести из тех сражений — Лиру
И ни одной струны не повредить?
Привыкли мы, что юною толпою
Он окружен, как дерево — листвою,
И невдомек толпе, что он устал…
И эта зоркость вещая — откуда?
Он, как магнит, угадывает руды,
Таящие металл.
Его глагол с землею связан кровью,
Любви исполнен и рожден — любовью.
Ему дано немалое свершить.
Я, в общем, верю в добрые приметы:
Пока у нас такие есть поэты —
Российская словесность будет жить!
Николай ГЛАЗКОВ
* * *
Пока вода — всему основа —
Течет в грядущие века,
Я поздравляю Старшинова
Со днем прекрасным рыбака!
* * *
Люблю миры рыбацких снов,
В них обитает хариус.
Их обожает Старшинов
И президент Макариус.
* * *
Быть снисходительным решил я
Ко всяким благам:
Сужу о друге по вершинам,
Не по оврагам!
Когда меня ты забываешь,
В том горя нету.
А у меня когда бываешь,
Я помню это!
Акростих
Когда желанная весна
Опять звенит в лесу и в поле,
Лазоревая новизна
Ее растений снова в холе.
Сосна, освободясь от сна,
Теперь не унывает боле,
А расцветает в новой роли.
Роскошна радость и ясна.
Шикарна вешняя природа,
И можно в это время года
Нам выбрать лучшие пути:
Отправиться на всякий случай
В великолепный лес дремучий
У трех берез сморчки найти!
Владимир ГОРДЕЙЧЕВ
Однофамильцы
В пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела…
В. Маяковский
Курс равняя по вершинам
вулканических пород,
«Николай» плывет «Старшинов»,
коктебельский теплоход.
И понятную тревогу
ты из сердца гонишь вон
осознаньем: «Слава богу,
слава богу, что не он…»
Облегченно взглядом шаришь,
и улыбка щеки рвет:
хорошо, что мой товарищ,
нет, пока не пароход.
Хорошо, что жив гвардеец,
сухопар и черноглаз,
с кем в Москве еще надеюсь
я увидеться не раз.
Слышишь, Коля! Золотыми
буквами блестят струи,
и фамилию и имя
отражая не твои.
Тот, чье имя возле клюза,
был десантником в Крыму.
Капитан. Герой Союза.
Память вечная ему.
Ты — в пехоте. Он — в Морфлоте.
Равный труд и равный риск.
Лишь по случаю на фронте
ты не лег под обелиск.
Хороша морская качка
теплоходу в синей мгле.
Хорошо, что нас пока что
греет жизнь и на земле.
Хорошо, что в общей доле
мне дано послать привет,
адресуясь просто Коле,
излучающему свет.
Николай ДМИТРИЕВ
* * *
Н. Старшинову
Я люблю твой изломанный почерк —
Разобрать его трудно сперва.
Научи погибать между строчек,
Воскрешающих веру в слова.
Вот опять ты кого-то спасаешь,
Телеграммы, как хлеб, раздаешь,
И озябшие пальцы кусаешь,
И равнинные песни поешь.
И воюешь с подругой-проформой —
Тенью самых лучистых идей.
Это станет когда-нибудь нормой
В общежитии новых людей.
Не оставь эту землю до срока,
Не погасни, как вечер в окне.
И люблю я тебя одиноко,
От влюбленной толпы в стороне.
Н. С.
Ты удишь,
Но твой поплавок
Спас-Деменский дымок заволок.
Иную поставь глубину
И вглядывайся на краю
В единственную, одну,
Потерянную свою.
Но долго стоять нельзя
В ушедшем от плеч до пят,
Поскольку враги и друзья
За лесом уже не спят.
Им долго тебя не ждать
С бессонной твоей судьбой —
Одним надо руки жать,
Других — вызывать на бой.
Смеяться, частушки петь,
В работе большой кипеть.
В московской тройной ухе —
В бессмертии и чепухе.
Олег ДМИТРИЕВ
Старший товарищ
Н. Старшинову
Каким был предан я заботам
В эвакуации, в тылу,
Когда шагал он с пулеметом
Под цокот выстрелов во мглу?
Небось, водой разбавив краски,
Сосредоточась, рисовал —
Солдат со свастикой на каске
Разил пунктиром наповал.
А друг лежал среди болота —
Стояли травы, высоки,
И билось сердце пулемета
Неровно у его щеки.
Потом я мыкался по школам,
До света в очередь вставал,
Надолго заболел футболом,
Недальнюю победу звал, —
Когда мой друг в сторонке дальней,
Двадцатилетний инвалид,
Лежал на койке госпитальной.
Спасибо хоть, что не убит…
А время
Разницу меж нами
В конце концов свело на нет,
И мы, встречаясь временами,
Своих не ощущали лет.
Бывает, с другом не полажу,
Бывает, сам его учу,
Могу его, как ровню, даже
Легонько хлопнуть по плечу!
И все же свято, Как когда-то,
Нередко в лучшие из дней
Глядит мальчишка на солдата
Из глубины души моей.
Меж нами разница всего-то
Тринадцать лет.
Прибавь к тому
Шаг пулеметного расчета,
По краю белого болота
На бой идущего
Во тьму!
Валентина ДРОЗДОВСКАЯ
Апостол
Всё под небом тревожным
Нынче наоборот —
В переулке Безбожном
Наш апостол живет.
Впрочем, в собственном доме,
Где черствеют харчи,
Не бывает он, кроме
Как в глубокой ночи.
Но обиды у ближних
На апостола нет,
Потому что подвижник,
Потому что поэт.
Он восходит к вершинам
Не заради чинов,
Для одних он — Старшинов,
Для других — Старшинов.
Он зовет за собою,
Хоть дорога глуха,
Устремившихся к бою
Новобранцев стиха.
Он водил в наступленье,
Обучая с азов,
Не одно поколенье
Молодых голосов.
И живет он не пышно,
Без бравады, без нег,
Потому-то и слышно:
«Старшинов — человек!»
И тревоги с восхода
Бьют в сердечный набат,
Потому что пехота,
Потому что солдат.
Быть солдатом России —
Значит в ратном пути
Службу в ранге мессии
Днем и ночью нести.
Михаил ЗАЙЦЕВ
Письмо от матери
Любимый сын мой,
Что с тобой?
С. Есенин
Кручусь, как в реченьке вода,
Не знаю ни конца, ни края
Заботам; да и то беда,
Что стала больно уж стара я.
Намедни в горнице сижу,
Пригрелась у окна, забылась,
На свет невидючи гляжу…
Вдруг сердце екнуло, забилось.
Что это?! Ветер ли в трубе
Принес мне весточку от сына?
Чу, радио! И о тебе —
Какой-то человек, Старшинов!
Так говорит, что я стою,
Вся расцвела, помолодела.
Сама ж на книжечку твою
Поглядываю то и дело.
Она все время на окне,
Читать-то некогда, а глянешь —
И так покойно станет мне,
И вас всех четверых вспомянешь.
А вот за это… не хвалю.
Прошу, не пей, а то, как папка,
Глотнул и — заяц во хмелю,
Сам с ноготок, а в небе шапка,
Побольше на людях молчи,
Болтающим сегодня тесно.
И к сердцу каждому ключи
Не подбирай, будь просто честным.
У нас все так же: дом, колхоз.
Придешь — темно, уходишь рано.
Ты бы приехал на покос,
А нет, пиши почаще.
Мама.
Натан ЗЛОТНИКОВ
* * *
Н. С.
Девятое мая, холодный туман,
Озябшие клены и липы,
Сырого простора и свет и дурман,
Валежника громкие скрипы.
Москва недалеко, в слезах и в цветах,
Там плещут кумач и оркестры,
А в этих полях покоится прах
Солдат ее вечных и честных.
А в этих полях замирает душа
От черного крика вороны,
От старой траншеи, от блиндажа,
Где линия шла обороны.
Из почвы не выветрилась до конца
Огня полыхнувшего сера,
Пусть жизнь оставляла людскиесердца,
Но их не оставила вера.
Страшней во сто крат, если наоборот!
Такого не помнит столица.
Спасибо, бойцы! Наше время пройдет.
А ваше — навеки продлится.
Римма КАЗАКОВА
* * *
«Пускай не толще волоса, но —
твой, и этим нов, —
не пой с чужого голоса!» —
сказал мне Старшинов.
«Пусть на крупицу малую,
на толику ее,
пускай не запевалою,
но главное — свое…»
Похожий на ровесника,
до ужаса худой,
учил он добро, весело
наш выводок младой.
К сочувствию и действию
сердца устремлены:
ведь душу эту детскую
он вынес из войны.
На поле боя горестном
постигнутая им,
взывала правда голосом
единственным своим.
И этою наукою,
в которой был силен,
как радостною мукою,
делился с нами он.
И стало просто совестно,
не зная, не любя,
молоть с чужого голоса
про жизнь и про себя.
Мы шли путями разными
так много долгих лет.
Звенели наши праздники,
тускнели дни от бед.
За что дрались, что грезилось,
на совесть, не за страх
трепещуще прорезалось
и в наших голосах.
И не дано отчаяться,
и дрогнуть не дано.
И хором получается,
и с кем-то заодно.
Когда ж в обнимку с лирою
в трансляции прямой,
коль есть нужда, солирую,
мой голос — тоже мой.
Но чуть сфальшивлю —
колется
царапает, болит:
«Не пой с чужого голоса!» —
так Коля нам велит.
Павел КАЛИНА
* * *
Земля свои зализывала раны…
Но в далях то и дело, как нарыв,
Раскатываясь глухо и пространно,
Вспухал и оседал случайный взрыв.
Вдаль по полям плыла волна взрывная,
Некошеными травами шурша,
И откликалось взрывам, замирая,
Встревоженное сердце малыша.
А где-то в мире, далеко-далеко,
Едва освободившись от бинтов,
Прихрамывая, складывает строки
Отмеченный войною Старшинов.
Есть в этой жизни вековая тайна,
Чей смысл непостижим, необъясним.
Я знаю только то, что не случайно
Лет через двадцать встретился я с ним.
И в этом я ничуть не виноватый,
И я ничуть не виноватый в том,
Что строчкою своею угловатой
Ему слегка напомнил о былом…
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
* * *
Я в сорок лет еще в подпасках —
Когда-то буду в пастухах?
Н. Старшинов
Среди невидимых примет,
В толпе без почестей и злата
Поэта отличит поэт
Улыбкою отца и брата.
Вот почему в чужой дали
Я пью один и выпью снова
За музу дружбы и любви
И за поэта Старшинова.
Он был войною опален
И окружен не раз враждою.
Чтоб не порвалась связь времен,
Он устоял перед судьбою.
Кому не мил его привет
Из молодого поколенья?
Не он ли в буднях мирных лет
Связал разорванные звенья?
О, нет, друзья, он не пастух!
И мы в стране своей не овцы.
Пока живет в нас русский дух,
Пока сияет в небе солнце —
Оставим распрей мертвый груз.
Пускай раздора ветер дует —
«Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует».
Николай КАРПОВ
Хоцца в оперу!
Нет, дух Островского не вымер,
Не испарился, не погас —
Есть против всяческих кикимор
Противоядие у нас!
И убежденно и сурово
Считаем мы — давно пора
Поставить сказку Старшинова
И в том числе в Grand Opera.
И утверждаем, тайну выдав,
Поскольку есть уже молва,
Что пишет оперу Свиридов
На старшиновские слова!
А что касается актеров,
То, правду жизни возлюбя,
Их соберется целый ворох,
Чтобы сыграть самих себя…
И я с огромным интересом,
Не подгоняемый нуждой,
На сцену выйду мелким бесом,
Зато с большою бородой!
Н. К. С.
Друзей должно быть мало:
Один, от силы два,
Как в книге, что впитала
Лишь главные слова.
Насущные, как воздух,
Как солнце в черный час.
А остальные — звезды,
Что светят не для нас.
* * *
Н. К. Старшинову
Учителя надо беречь —
Здесь нет исключений из правил.
Какую корявую речь
Твою
Он когда-то исправил.
Помог не погибнуть в пути,
Огонь из груди твоей высек.
Стремись не его превзойти,
А общее дело возвысить.
Учителя надо беречь!
Священнее нету заботы:
Окреп — так сними с его плеч
Излишки посильной работы.
И странного нет ничего —
Ведь все мы обычные люди —
Своди пообедать его:
Он сам про обед позабудет.
Геннадий КАСМЫНИН
* * *
Я в сорок лет еще в подпасках —
Когда-то буду в пастухах?
Н. Старшинов
А пришлось… И прилежно он стадо пасет молодое,
Не кнутом, а жалейкой бычков направляет. И что ж? —
Задирая хвосты, убегает за пьяной водою,
И упиться спешит, и в трясину попасть молодежь.
А пастух терпеливо бычков направляет на клевер
И корит виноватых, не очень-то грозно ворча…
Ну и стадо большое! —
Россия —
хоть с юга на север,
Хоть с востока на запад иди с хворостиной луча.
Тут попробуй управься, попробуй успей догляди-ка,
Если с прошлой войны от ранения сохнет нога,
Если просит прилечь и губами сорвать земляника,
Зазывают к себе любоваться рекой берега.
И кувшинок соски пожелтели от знойного лета,
И шуршат камыши (можно криком спугнуть красоту).
Посидеть бы за удочкой около края рассвета,
Пробудившего глубь, зашвырнувшего птиц в высоту.
«Погоди! Погоди!» — окликает беспомощно стадо,
Пастуха окружают увлажненные родинки глаз…
«Погоди, — говорю. Повторяю за всеми: — Не надо
Ни жалейки лишать, ни сердечного опыта нас».
Пусть достигшие славы живут на земле одиноко,
Пусть скандально внимает речам воспаленным толпа,
Есть другая известность, есть дело особого прока,
Есть ведущая вдаль кочевая пастушья тропа.
Луговые слова пробегают над нею ознобом,
И поэт, как пастух, и пастух, как провидец — поэт,
Непонятны эстетам и чужды заносчивым снобам,
Молодежь поднимают, ведут впереди на рассвет…
Кто читает стихи, ощущая: неверья не стало,
И любовь воссияла эгоизму житья вопреки, —
Не узнает вовек, как, отчаявшись, ходят устало
И пасут молодежь, забывая себя, старики.
Ворон
Николаю Старшинову
Лети, лети, степная птица,
Как мысли, крылья простирай!
А под тобою будет длиться
Все хлеб и хлеб
Из края в край!
Лети, покуда хватит силы,
Но все равно ты упадешь
Туда, где жатки прокосили
Густую вызревшую рожь.
Загомонят друзья, товарки,
Покружат и продолжат путь.
Как пахнет хлебом воздух жаркий!
Как неба хочется глотнуть!
Я сам лечу, как черный ворон,
На золотой стерне, в пыли,
И нет моим рукам опоры,
Чтоб оторваться от земли!
Борис КЛИМЫЧЕВ
Зимнее письмо
Н. К. Старшинову
Николай Константиныч!
В Сибири такие морозы,
В нашем Томске теперь
Столько снега повсюду и льда,
Будто слезы всех вдов,
Будто с целого света
Все слезы
Заморозили враз
И свезли, и свалили сюда.
Я хожу по слезам.
И немного своих добавляю.
Только что мои слезы
В безмерной печали людской?
Николай Константиныч!
Ответственно вам заявляю:
Знал немало я зим,
Но ни разу не видел такой.
Есть тепло доброты,
Только в мире пока его мало,
И холодная злоба
Подчас убивает мечту, —
Еле крылья расправила,
Смотришь,
Комочком упала.
Так пичуги у нас
Замерзают порой на лету.
Лед с карнизов свисает.
Трамваи, примерзшие к рельсам.
И примерзло к струе
Под колонкою прямо
Ведро.
Николай Константиныч!
Я все же надеюсь согреться.
Николай Константиныч!
Вы учите верить в добро!
Владимир КОСТРОВ
* * *
Николаю Старшинову
Мой друг, какая мерзость боевая
Кипит сегодня посреди Москвы.
Но дням твоим итоги подбивая,
Я «Да!» скажу. И не скажу «Увы…».
Не мы с тобою делали погоду
На фоне славословий и хлопков.
Не мы любили Генриха Ягоду,
Не нас с тобой ласкал Филипп Бобков.
Любили мы. И были мы свободны,
В изобличеньях не поднаторев,
В среде подводных трав и трав надводных,
В среде цветов, созвездий и дерев.
И на других не призывали скопом
Законника, мента и палача.
Ходи, мой друг, как доктор стетоскопом,
В родную землю палочкой стуча.
Не зря ты полз в крови по горькой, русской,
Не зря заморской не искал судьбы,
Не зря простой не брезговал закуской
И собирал частушки, как грибы.
В грехах своих всегда по-русски честен,
Я верю: видит Бог твои дела,
Ведь в глубине твоих стихов и песен
Ни грамма злобы и ни капли зла.
И ни в какую пакостную слякоть
Из нас уже Россию не избыть.
Мы будем наши песни петь — и плакать,
И снова петь и плакать, и любить.
И, вопреки кликуше и уроду,
Пешком, ползком на брюхе и спине,
Но мы прорвемся к своему народу,
Как ты когда-то сделал на войне.
Читая книгу товарища
Н. Старшинову
Я книгу прочитал твою.
Она
теперь надолго сердце не отпустит,
пусть рябью по реке
к тебе дойдет волна
моей признательности,
нежности
и грусти.
Живительные чувства в наши дни
неотвратимо пролетают мимо.
Спасибо за стихи твои,
они,
как все живое, честно уязвимы.
Не монолит гранитный, не утес,
не ведающий боли или страха,
они живые, скажем, словно пес,
иль малый лягушонок, или птаха.
Ты сочинял стихи, а не стишки,
не строчки гнал, а честно строил строки.
Посредственность сбивается в кружки
а крупные таланты одиноки.
Я книгу прочитал твою.
Она
теперь надолго сердце не отпустит.
Пусть рябью по реке
к тебе дойдет волна
моей признательности,
нежности
и грусти.
Виталий КОРЖИКОВ
Из блокнота
Кто-то на гармонике играет
Сидя на бугре,
Кто-то пьет, а кто-то загорает
Рядом на Угре.
Запах костерка и запах чая
Дразнят небосвод,
Да бутылка, горлышком качая,
По реке плывет.
Я лежу у речки возле поля,
А душа в долгу:
Здесь товарищ мой, Старшинов Коля
Стыл на берегу!
Трудный берег выпал нашим ротам:
Хоть умри — живи!
Он лежал в обнимку с пулеметом
В собственной крови,
Может, здесь, где этот говор чая,
Возле этих вод,
Где бутылка, горлышком качая,
По Угре плывет.
Может, здесь его беда случилась —
Только ли его! —
Может, в эту землю кровь сочилась
Друга моего…
Геннадий КРАСНИКОВ
* * *
И. К. Старшинову
Круговертью веселой
я с дороги не сбит,
словно кружка рассола —
эта вьюга трезвит.
Все, что держит и тянет
и гудит, как струна,
все она — отметает,
заметает она.
Возвращается резкость,
замедляется бег,
разлетается с треском
все, что строил навек.
Остается — дорога,
старой матери плач,
остается — тревога,
у крыльца карагач
да снегов хороводы…
Слышу чей-то вопрос:
это ты непогоду
нам с собою привез?
Что отвечу им,
грешный?
Где б ни жил на земле —
вьюга родины нежной
не стихает во мне.
Нина КРАСНОВА
* * *
Н. Старшинову
Меня, свою коллегу от сохи,
«Побил» коллега старший за стихи.
И я не просто плакала — рыдала!
Не просто, а особенно страдала.
Потом Пегасу в рамке помолилась,
Под краном в умывальнике умылась
И эти вот стихи соорудила
И так, по-женски чисто, рассудила:
Да, он «побил» меня —
но он и «приголубит».
Да, он «побил» меня —
но, значит, крепко любит!
1986 г., Рязань
На смерть Николая Старшинова
Навеки покончив
со всеми своими рыбалками, картами, куревом,
навеки покончив
с боями на линии передовой,
навеки почив,
Вы лежите на кладбище Троекуровом,
землей и венками заваленный, «гвардии рядовой».
Навеки покончив
со всеми своими проблемами и страданьями,
с инсультом и с болями скрытых открывшихся ран,
навеки почив,
Вы лежите, и Вас не поднять никакими рыданьями.
Прощайте, войны и поэзии ветеран!
Навеки покончив
со всеми своими раденьями и заботами
о племени новом, об общей юдоли земной,
навеки почив,
Вы не будете присно забытыми,
ни племенем новым, ни новой Россией, ни мной.
Навеки покончив
со всеми своими любвями, стихами, частушками,
пинков и ударов от жизни сполна получив,
навеки почив,
Вы лежите, обмытый слезами друзей и чекушками,
навеки со всеми делами покончив,
навеки почив.
10 февраля 1998 г.,
Москва
Игорь КРОХИН
Победа
Николаю Старшинову
Рассыпалась в небе ракета,
Взлетела другая звездой.
Победа…
Победа?
Победа!
А хлеб на столе с лебедой…
Гуляла деревня с восхода,
А к вечеру стало шумней:
Бывалого столько народа
Пылило со станции к ней.
Навстречу гармонь зарыдала
И стихла —
И срезался звук.
И в голос одна, молодая,
О встрече, что горше разлук…
Аукнул на станции поезд,
В поля откатился гудок.
— Сыны-то какие, по пояс,
А ну-ка, держите мешок!
Какое же все-таки счастье,
Забыв о ржаном калаче,
Качаться, качаться, качаться
Верхом на отцовском плече.
Овидий ЛЮБОВИКОВ
* * *
Н. Старшинову
Полки оставили привалы.
Остыл в березняке костер.
Я не пробился в запевалы,
Однажды был зачислен в хор.
Тому завидовал, не скрою,
Кто, уловив старшинский знак,
Походную над нашим строем
Вздымал решительно, как флаг.
Запев звенел поверх пилоток,
Чеканил шаг, стремил вперед.
В сто двадцать пять луженых глоток
И мы вступали в свой черед.
А строй держался и не рвался,
Утюжил глину да песок.
Как ни старался я, терялся
Среди других мой голосок…
Да, в запевалы я не вышел.
Но, напрягая скромный бас,
Я не тужу — меня не слышат,
Куда важнее — слышат нас.
Сергей МНАЦАКАНЯН
* * *
Н. С.
Десяток бед — один ответ
перед эпохой,
а Вы — солдат, а Вы — поэт,
и, как ни охай,
Вы уходили молодым
в такое пекло,
что небо, выдыхая дым,
от боли слепло.
Житуха, в общем-то, не рай,
но полной чашей
переплеснулись через край
две жизни Ваши…
Одна — взрывающийся лес,
вой пулемета,
вторая — срез ночных небес,
поля блокнота…
Сдирая в кровь костяшки рук,
судьбу со страстью
берете, как зубастых щук
японской снастью!
Душа — как вьюга! — добела,
хрипя от боли,
и если баба предала —
простите, что ли.
Авиапосвист. Синева.
Командировки.
Вы дерзновенней соловья,
а в чем-то робки…
Две жизни Ваши — в мастерской,
в часы болезни,
как слитые в одной прямой
литые рельсы.
Такой отчаянно-живой,
что рвутся жилы,
Вы не одну, а две с лихвой
судьбы прожили.
И две судьбы в одну слились —
и жизнь едина
среди деревьев и больниц,
любви и дыма.
Борис ПУЦЫЛО
Старший друг
Н. Старшинову
Уж он-то знает: боль не исцеляет,
А новые приятели — юны,
Но все-таки гармошку расчехляет,
Гармошку, привезенную с войны.
Как будто бы от суеты застольной
Перешагнув за некую черту,
Перед собой увидел он невольно
Открывшуюся разом пустоту.
Не замечая глаз недоуменных,
Ни слов, ни песен, ни речей вразброд,
Он, путаясь в забытых полутонах,
Знакомую мелодию ведет.
Печален, неотъемлем и бесстрастен,
Как поводырь бельмастого певца…
Но вот беда,
Я все-таки причастен
К литой окаменелости лица.
Но вот беда,
Мне горько бесконечно,
Что эта боль чужая, не моя,
Что вот не я, а он сидит беспечный,
Пробившуюся юность не тая.
Не стрелянный, не раненный покуда,
Боязнью и отвагою хмелен…
Что знает он?
Да мне-то знать откуда!
Что видит он?
Да разве скажет он!
Быть может, отсвет давнего рассвета,
Оркестра полыхающую медь
И сверстников…
И как тут не запеть:
— Ты ждешь, Ли-за-ве-е-т-а…
* * *
Н. С.
Давно оплаканы утраты,
За счастье плачено вдвойне.
Мои друзья и супостаты
Уж трезво мыслят обо мне.
И потому я добр у добрых,
И вертопрах в глазах скупых.
Вчерне набросан ими облик
И нанесен последний штрих.
И светлый штрих меж сотни черных.
И тем разительней, видней
Все то, что прятал я упорно,
Что сутью названо моей.
Нет горше истины суровой
Познать и сердцем и умом,
Что все в тебе давно не ново
И каждый шаг твой всем знаком.
В саду ли, на лесной поляне
Ударит по глазам рассвет —
Ты в каждом чувстве постоянен,
А новым чувствам места нет.
И память, все вокруг тревожа,
Слепительным лучом скользит
По дням, где я никем не прожит
И сам собою не изжит.
И встретить некого упреком,
И криком изойти нет сил,
Так судишь о себе жестоко,
Как прежде о других судил.
И вдруг поймешь свои утраты
И череду ночей и дней.
И нет нам к юности возврата,
И вечно возвращенье к ней.
Виктор РАССОХИН
* * *
Окинув гостя строгим взглядом,
Сказал мне Коля Старшинов:
— Пойдем… Ваганьковское рядом,
Порой молчанье — выше слов.
Шло солнце летнее к зениту,
И вдруг представилась глазам
Строка по черному граниту
С горячей просьбой к соловьям.
Заныло сердце жгучей раной.
Я понял сразу, кто певец:
Ему — Алеша, мне — Фатьянов,
Ходивший с песней на свинец.
И вся шинельная Россия,
И телогреечный наш тыл
У этой песни не впервые
Просили бодрости и сил.
Она и в праздники, и в траур
На видном месте за столом…
Зачем так рано выжег травы
Гранит над русским соловьем?
Блестит в лучах надгробный камень,
Застыв огромною слезой,
И песня тужит вместе с нами,
Навек оставшись сиротой.
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
* * *
Коле Старшинову в день 60-летия
Сделай нам
такую милость,
соверши
такую малость:
чтоб тебе жилось,
дышалось,
и писалось,
и ловилось!
Давид САМОЙЛОВ
* * *
Н. Старшинову
Ты в стихе, как на духу,
Ты открыт, как на юру,
Ты доверился стиху —
Исповеди на миру.
Так задуман дивный труд
Ради вразумленья чад.
Что, наверное, поймут.
И, наверное, простят.
1981
Ирина СЕМЕНОВА
* * *
Н. К. Старшинову
Пусть мудро задремлет лирический стих,
Созреет в нем нежная сила.
Отдай мне одну из бессонниц твоих!
Я столько тебе посвятила.
Я рада тому, что мы крови одной,
И нашему смуглому сходству,
И отчей, суровой руке надо мной,
Пришедшей на помощь сиротству.
Что искру заметил в дорожной пыли,
Что не было мук бессловесней,
Что тяжкой пехотой по сердцу прошли
Военные грозные песни.
Дмитрий СУХАРЕВ
Коля
В простодушном царстве Коли Старшинова
Проживают цапли, щука и корова.
За боркун, что Коля подарил под Пасху,
Нацеди, буренка, молочка подпаску!
Колю звать к обеду, цапля, носом стукай!
А вести беседу станет он со щукой.
Щука все-то знает, там и сям служила,
У нее на зависть становая жила.
И у Коли тоже ни усов, ни жира,
Потроха, да кожа, да струною жила.
А лихие гости к совершеннолетью
Перебили кости пулеметной плетью!
Не его ли, Колю, все равно что плетью,
Садануло болью к тридцатитрехлетью?
Он живет неслабо, точно нету смерти,
Не страшны ни бабы, ни враги, ни черти.
Над рекой избенка — деревца живые.
На дворе буренка — боркунок на вые.
Во саду ли щука надрывает глотку.
На ходулях цапля лихо бьет чечетку —
Под Щукины частушки пляшет.
Маргарита ТИМОФЕЕВА
Люблю молодых и курносых.
Н. Старшинов
Я хочу быть веселой и ловкой,
я хочу быть румяной и круглой.
Я сошью себе новую кофту,
я куплю себе новую юбку
и косынку из крепдешина…
Хороша — убедитесь сами.
И задумчиво Коля Старшинóв
поглядит молодыми глазами.
Владимир УРУСОВ
* * *
Н. К. Старшинову
Война и время — жизнь проста,
Нам не дано с солдатским хлебом
Сидеть у черного куста
Под голубым российским небом.
И скучно мне от наших драм —
Судьба разлита по бумаге,
Как фронтовая сотня грамм
Из алюминиевой фляги.
Грешу пером с улыбкой злой,
Играю силой в слове страстном…
А ты несешься над землей
И не сливаешься с пространством!
Анатолий ЧИКОВ
Давнее воспоминание
Всей душой стремясь к истокам новым
И для радости в любой семье,
С лучшим другом, Колей Старшиновым,
Пели мы однажды на скамье.
Был взволнован запевала ротный.
Я же поддержал его порыв.
Слушал нас почтенный дом высотный,
Настежь окна белые раскрыв.
Не суля ни славы, ни навара,
Я хотел бы, чтобы, как в порту,
Слушал нас, пыхтя у самовара,
Старый боцман с трубочкой во рту.
Чтоб в другой квартире, сняв вещицы
С белых рук, припав на локотки,
Тихо б нам внимали продавщицы,
Часто поднося к глазам платки.
И вступив в незримые законы
И отдохновенья, и добра,
Дворники повышли б на балконы,
Старые лифтерши, повара.
Так бы вечно длилось все… Но скоро
Свой предел преодолев с трудом,
Выслал нам потом парламентера
После часа пенья этот дом.
Он пришел не с меркой дипломата,
А пошел по линии прямой, —
Предъявил нам тихий ультиматум,
Мол, спасибо, мол, пора домой.
Вот они, издержки трудной славы!
И, слегка ворча, в обратный путь
Шли мы с чувством муки и отравы,
Грустно свесив головы на грудь.
Может быть, о мнимом том нахале
Мы не знали правду до конца,
Что о песнях тех потом вздыхали
Тех жильцов суровые сердца.
25 мая 1989 г.
Валерий ШАМШУРИН
Николай Константинович,
со всей душой посвящаю
Вам это стихотворение
Ах, как пели мы! Как пели!..
И, презрев говорунов,
В нашей песенной артели
Верховодил Старшинов.
Бывший ротный запевала,
По-мальчишески худой,
Он отважно, как бывало,
Спорил с нотою крутой.
Он светлел лицом, в котором
Кроме счастья — ничего.
И подхватывали хором
Мы неистовство его.
И лукавить не давая,
Прямодушна и светла,
Нет, недаром фронтовая
Песня за душу брала.
Потому что и поныне
Бережем, как берегли,
Неразменные святыни
Кровью политой земли.
И себя ль нам тешить сыто
Чуждой музыкой пустой,
Коль ни слова не забыто
Из горячей песни той.
Голосов вздымались волны,
И, недавно тих и вял,
Коля Дмитриев невольно
Шире плечи расправлял.
И, смахнув росинки пота,
Приникая к нам лицом,
Старшинов промолвил: «Рота!..
Вы сегодня — молодцом!»
Александр ЩУПЛОВ
Воспоминание о Литве
Николаю Старшинову
Случалось ли вам на Алмаюс,
заплыв в камыши, словно в рожь,
заметить, что тамошний аист
на нашего сильно похож?
Случалось ли вам не по книжке,
не в призрачном мире кино
попробовать Мидус Стаклишкес —
густое, как лето, вино?
Ответствуйте, вам доводилось
в преддверье прозрачных порош
принять от цыганки как милость
о жизни веселую ложь?
А мне доводилось, случалось.
Не все были верны следы,
но как-то уж так получалось,
что был я любимчик судьбы.
Ходил я по свету разиней,
валялся в траве и листве.
Мотив сочинялся в России,
слова написались в Литве.
И нынче, в снегах потонувши,
мне песня заместо вина
согреет гортань, потому что
особого смысла полна.
Я память стреножу и вспомню,
как ветер по лугу скользит,
пасутся за хутором кони
и Вацлав на лодке скользит.
И наши сердца молодые,
летящие, как корабли,
вращают ремни приводные
мальчишества, света, любви.
И мы в упоенье чертовском, —
признав в языке мятых трав —
я — русский, а Вацлав — литовский,
и каждый окажется прав.
Друзья мои, что с вами сталось?
Как дышится вам вдалеке?
Неужто и нам скоро старость
споет на одном языке?
Давайте побольше безбожьем
грешить, словно в юные дни,
болтать на наречьях несхожих
и все понимать, черт возьми!
В конце-то концов та же пажить,
и ветер, и роща, и пруд
за нас досвистят и доскажут,
а главное — переведут.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Н. К. СТАРШИНОВА
1924, 6 декабря (по н. ст.) — В Москве в семье бухгалтера объединения «Экспортлес» родился восьмой по счету ребенок, названный Николаем, поскольку Православная церковь в этот день (19 декабря по ст. ст.) чествует святого Николая Чудотворца.
1932–1942 — Учеба в 282-й московской школе. Летние каникулы Николай проводит в деревне Рахманово близ Сергиева Посада.
1938–1940 — Посещение литературной студии при Московском доме художественного воспитания детей.
1941, 22 июня — Начало Великой Отечественной войны. Осенью 1941-го Николай с другими старшеклассниками едет под Малоярославец рыть окопы. Зимой — дежурит ночами на крыше собственного дома в качестве бойца противовоздушной обороны.
1942, август — Призыв в армию. Старшинов попадает сначала в учебный батальон под Горьким, затем во 2-е Ленинградское пехотное училище, эвакуированное в г. Глазов (Удмуртия). Дома умирает после продолжительной болезни отец.
1943, январь — Отправка на фронт в числе других курсантов через два месяца после начала учебы.
Весна, лето — Принимает участие в боевых действиях в должности заместителя командира пулеметного взвода.
Август — В своем последнем бою получает тяжелейшие ранения ног осколками разорвавшейся рядом мины.
1944, февраль — Возвращается домой демобилизованным по инвалидности сержантом после лечения в госпитале.
Март — Благодаря счастливому стечению обстоятельств поступает в Литературный институт.
Декабрь — Знакомство с Юлией Друниной.
1946, 14 апреля — Рождение дочери Лены.
1947, март — В Москве проходит Первое Всесоюзное совещание молодых писателей. Старшинов и Друнина в числе участников. В шестом номере журнала «Октябрь» опубликованы поэма «Гвардии рядовой» и стихотворение «Ракет зеленые огни…».
1948 — Старшинов попадает в больницу с тяжелой формой туберкулеза.
1951 — В издательстве «Молодая гвардия» выходит первая книга поэта «Друзьям».
1955 — Защита диплома в Литературном институте им. А. М. Горького.
12 октября — Зачислен в редакцию журнала «Юность» на должность литсотрудника. Начало наставнической деятельности Старшинова в литобъединении МГУ.
1959, октябрь — Поездка в Литву на Дни русской литературы. Знакомство с будущей женой Эммой, работавшей звукооператором на вильнюсском радио.
1960, 8 июля — Зарегистрирован брак Николая Старшинова и Эммы Багдонас.
1962, октябрь — Уход из «Юности» на вольные хлеба.
1963, 13 августа — Рождение дочери Руты.
1963–1966 — «Литовский период» в жизни и творчестве Старшинова. В Москве он только «зимует».
1966 — Старшиновы получают свою первую отдельную двухкомнатную квартиру в писательское доме на Малой Грузинской улице.
1967, ноябрь — В возрасте восьмидесяти пяти лет скончалась мать поэта Евдокия Никифоровна.
1972, лето — Лечение в «Соловьевке».
5 сентября — Зачислен на должность редактора альманаха «Поэзия» издательства «Молодая гвардия».
1976 — Первое появление на страницах альманаха «Поэзия» собирательного иронического героя (собрата Козьмы Пруткова) Ефима Самоваршикова.
1977 — Возвращение в альма-матер в качестве доцента кафедры творчества: Старшинов берет первый свой семинар студентов-заочников Литинститута.
1978 — Старшиновы переезжают в новую квартиру в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке.
1983 — Премия «Ленинского комсомола» «за произведения последних лет и многолетнюю плодотворную работу с молодыми авторами».
1984 — Постановлением Совмина РСФСР от 20 декабря Старшинову присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького за книгу стихов «Река любви».
1991 — Покупка «дома у озера» в деревне Лукино Тверской области. Закрытие альманаха «Поэзия».
31 декабря — Старшинов «освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию».
1997, август — Последняя рыбалка Старшинова, во время которой с ним случился инсульт.
1998, ночь на 6 февраля — Кончина поэта. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
БИБЛИОГРАФИЯ
Старшинов Н. К. Друзьям. М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951.
Старшинов Н. К. В нашем общежитии. Лирика. М.: Сов. писатель, 1954.
Старшинов Н. К. Солдатская юность. Стихи. М.: Воениздат, 1956.
Старшинов Н. К. Песня света. М.: Сов. писатель, 1959.
Старшинов Н. К. Лирика. Стихи и поэмы. М.: Сов. писатель, 1962.
Старшинов Н. К. Веселый пессимист. Стихи. Сатира. Юмор. М.: Сов. Россия, 1963.
Старшинов И. К. Избранная лирика. М.: Молодая гвардия, 1965.
Старшинов И. К. Протока. М.: Сов. писатель, 1966.
Старшинов Н. К. Проводы. Книга лирики. М.: Молодая гвардия, 1967.
Старшинов Н. К. Кому нравится дождик. Стихи. М.: Дет. лит., 1968.
Старшинов Н. К. Иду на свиданье. Стихи. Поэмы. М.: Худож. лит., 1969.
Старшинов Н. К. Зеленый вечер. Стихи. М.: Молодая гвардия, 1972.
Старшинов Н. К. Осинник. Стихи. М.: Сов. писатель, 1973.
Старшинов Н. К. Вот так бывает. Стихи. М.: Худож. лит., 1974.
Старшинов Н. К. Стихи. М.: Худож. лит., 1974.
Старшинов Н. К. Ракет зеленые огни. Стихи и поэмы. М.: Современник, 1975.
Старшинов Н. К. Река любви. Стихи. М.: Молодая гвардия, 1976.
Старшинов Н. К. Ранний час. Стихи. М.: Сов. писатель, 1977.
Старшинов Н. К. Милая мельница: Стихотворения. Поэма. М.: Сов. Россия, 1978.
Старшинов Н. К. Избранное. Стихотворения и поэмы. Предисл. А. Туркова. М.: Худож. лит., 1980.
Старшинов Н. К. Памятный урок. М.: Сов. Россия. 1980.
Старшинов Н. К. Первый утренник: Стихи. М.: Правда, 1980.
Старшинов Н. К. Твое имя: Стихотворения и поэмы. М.: Современник,
1980.
Старшинов Н. К. Милости земли. Стихи. М.: Сов. писатель, 1981.
Старшинов Н. К. Мое время: Стихи. М.: Сов. писатель, 1984.
Старшинов И. К. Дорога к читателю. М.: Современник, 1985.
Старшинов Н. К. Любить и жить: Поэмы. М.: Современник, 1986.
Старшинов Н. К. Река любви: Стихотворения и поэмы. М.: Сов. Россия, 1986.
Старшинов Н. К. Город моей любви: Стихотворения и поэмы. М.: Моск, рабочий, 1987.
Старшинов Н. К. Участье: Стихотворения / Вступит, ст. А. Туркова. М.: Дет. лит., 1987 (Поэтическая библиотечка школьника).
Старшинов Н. К. Я с тобою говорю: Новые стихи и поэма. М.: Сов. писатель, 1987.
Старшинов Н. К. Избранные произведения. В 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 1: Стихотворения / Предисл. В. Кочеткова. Т. 2: Поэмы; Веселые стихи; Рассказы; Статьи о поэзии.
Старшинов Н. К. Моя любовь и страсть — рыбалка. М.: Физкультура и спорт, 1990 (Человек и природа).
Старшинов Я./Г. Лица, линии личины: литературные мемуары М.: РИФ «РОЙ», 1994.
Старшинов Н. К. Что было, то было… На литературной сцене и за кулисами: веселые и грустные истории о гениях, мастерах и окололитературных людях. М.: Звонница-МГ, 1998.
Старшинов Н. К. Стихи, частушки / Предисл. Г. Красникова. М.: Изд-во Эксмо, 2002.
Агеев А. «Мы вышли все из литобъединений» // Знамя. 1999. № 4.
Блохин Я. И в памяти людской // Молодая гвардия. 1983. № 6.
Григорьева Г. М. Стилевые особенности творчества Н. К. Старшинова. Дисс. на соискание уч. ст. к.ф.н. ТГУ. Тверь, 2001.
Гринберг И. Взлетные площадки стиха// Новый мир. 1979. № 12.
Данин Д. Разговор с продолжением//Знамя. 1946. № 11–12.
Дементьев Вад. Доброта//Молодая гвардия. 1984. № 12.
Дементьев В. В. Материнский лик //
Дементьев В. В. Исповедь земли: Слово о российской поэзии. М.: Современник, 1980.
Дмитриев О. Шуршанье листьев, шелест страниц… // Москва. 1985. № 1.
Иванов Ю. «Мне другая судьба не нужна…» // Наш современник. 1979. № 2.
Каменев С. Доброта // Молодая гвардия. 1984. № 12.
Карпов Н. «А нам судьбу России доверяли…» // Знамя. 1985. № 5.
Киреева А. Горький мед поэзии // Юность. № 6. 1985.
Коркия В. Музыка души // Юность. 1981. № 4.
Коробов В. И. Николай Старшинов: Лит. портрет. М.: Сов. Россия, 1985.
Коробов В. И. Родное. О поэзии Николая Старшинова // Наш современник. 1984. № 11.
Коротаев В. Озабоченность. О поэзии Николая Старшинова // Молодая гвардия. 1979. № 2.
Кочетков В. Прямой разговор / Старшинов Н. К. Избранные произведения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1989.
Красников Г. Н. «Как дерево в лесу» // Юность. 1984. № 12.
Ланщиков А. ГТ. Горькая верность в любви //
Ланщиков А. П. Чувство пути. М.: Сов. Россия, 1983.
Левин Г. Песня в строю // Новый мир. 1985. № 4.
Медведев А. Биография сердца // Москва, 1978. № 3.
Машковский А. Два поэта // Москва. 1998. № 5.
Наровчатов С. С. Путь подъема//Смена. 1963. № 13.
Наровчатов С. С. Путь поэта //
Наровчатов С. С. Берега времени. М.: Современник, 1976.
Паншин Г. Штрихи к портрету друга // Лит. приложение к журналу «Поле Куликово», 1999. Новомосковск Тульской области, 1999.
Подъяблонская Н. «Святое дело поэзии» // Октябрь. 1966. № 3.
Пуцыло Б. Д. Соединяющая сердца // Москва. 1967. № 4.
Степина Н. Какое лицо у поэта? // Лит. в школе. 1977. № 4.
Сухарев Д. И сердца боль, и сердца радость…// Знамя. 1982. Кн. 1.
Турков А. М. «Душа, такая золотая» // Наш современник. 1974. № 4.
Турков А. М. У костра строки // Николай Старшинов. Избранное. — М.: Худож. лит., 1980.
Шаповалов М. Высокий мотив // Молодая гвардия. 1973. № 1.
Шевелев Н. Поэзия мужества // Москва. 1975. № 4.
Шербаков С. А. Эволюция лирики Н. К. Старшинова в свете традиций русской поэзии. Дисс. на соискание уч. ст. к. ф. н. МГОУ, 2003.
Примечания
1
Дайны — песни (
лит.).
(обратно)
2
Написано при жизни поэта.
(обратно)
3
В этом поселке находились дачи, принадлежавшие Союзу писателей.
(обратно)
4
Коллекция Н. К. Старшинова самая крупная в России, в ней более шести тысяч частушек. Помнится, как страшно был возмущен Василий Белов: «Это клевета на русский народ! Я живу в деревне и никогда не слышал, чтобы кто-то пел или сочинял подобную мерзость. Это все Коля Старшинов с Костровым на рыбалке выдумывают матерщину всякую, а потом выдают за народное творчество!..» Старшинов смеялся и терпеливо убеждал Белова, что частушки самые что ни на есть подлинные (хотя, по правде сказать, в его коллекции действительно есть собственного сочинения озорные частушки). Но вот сейчас на телевидении появилась передача «Эх, Семеновна» по названию одного из частушечных сборников Старшинова. И я слышу, как на многомиллионную аудиторию самодеятельные коллективы запели частушки из старшиновской коллекции. И то, что в небольшой компании, при определенных игровых обстоятельствах, в своем узком кругу или в сборнике воспринимается как озорство, как возможность сохранения народного творчества, в телевизионном шоу зазвучало как грубая вульгарность, как непотребная похабщина, упорно выдаваемая хозяевами канала за единственную народную (для них — туземную) культуру «а ля рюс», за широту русской души. Причем исполнять нецензурные частушки приглашают либо старух, либо совсем еще детей. Я уверен, что Старшинов пришел бы в ужас от такой пропаганды фольклора. Да, он знал, что народ наш умеет сказать меткое и крепкое словцо — но всегда к месту и ко времени, ибо ему (в отличие от хозяев СМИ) присущи чувство меры и такта и глубинная, не ряженая и показная, культура. —
Прим. Г. Красникова, 2002 г.
(обратно)
5
Центральный дом литераторов и Центральный дом работников искусств.
(обратно)
6
Когда-то я спросила Николая Старшинова: «А как ваша мама звала вас в детстве, когда вы были маленьким?» Он сказал: «Колюля». И с тех пор я иногда звала его Колюля Константинович. —
Прим. Н. Красновой.
(обратно)
Оглавление
НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
ПРИЕМНЫЙ СЫН ДЕРЕВНИ
НАМ СУДЬБУ РОССИИ ДОВЕРЯЛИ
РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
ПЛАНЕТА «ЮЛИЯ ДРУНИНА»
ПРИШЛИ МНЕ РУТУ
НАШ АЛЬМАНАХ «ПОЭЗИЯ»
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
РЕБЯТА, БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ — РЫБАЛКА
СТАРШИНОВСКАЯ ШИНЕЛЬ
Мария АВВАКУМОВА
Он единственный
Евгений АРТЮХОВ
«Разборки»
Александр БОБРОВ
Светлый лик
Владимир БРОВЦИН
Николай ДМИТРИЕВ
Вспоминая Старшинова
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
Рота Старшинова
Николай КАРПОВ
«Учитель, перед именем твоим…»
Владимир КОСТРОВ
Русский поэт
Геннадий КРАСНИКОВ
Беседы с Учителем
Нина КРАСНОВА
Владимир КРУПИН
Незаменимые есть
Александр ЩУПЛОВ
«Так жили поэты…»
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ
НИКОЛАЮ СТАРШИНОВУ
Мария АВВАКУМОВА
Евгений АРТЮХОВ
Александр БОБРОВ
Виктор БОКОВ
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Татьяна ВЕСЕЛОВА
Николай ГЛАЗКОВ
Акростих
Владимир ГОРДЕЙЧЕВ
Николай ДМИТРИЕВ
Олег ДМИТРИЕВ
Валентина ДРОЗДОВСКАЯ
Михаил ЗАЙЦЕВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Павел КАЛИНА
Григорий КАЛЮЖНЫЙ
Николай КАРПОВ
Геннадий КАСМЫНИН
Борис КЛИМЫЧЕВ
Владимир КОСТРОВ
Виталий КОРЖИКОВ
Геннадий КРАСНИКОВ
Нина КРАСНОВА
Игорь КРОХИН
Овидий ЛЮБОВИКОВ
Сергей МНАЦАКАНЯН
Борис ПУЦЫЛО
Виктор РАССОХИН
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Давид САМОЙЛОВ
Ирина СЕМЕНОВА
Дмитрий СУХАРЕВ
Маргарита ТИМОФЕЕВА
Владимир УРУСОВ
Анатолий ЧИКОВ
Валерий ШАМШУРИН
Александр ЩУПЛОВ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Н. К. СТАРШИНОВА
БИБЛИОГРАФИЯ
*** Примечания ***





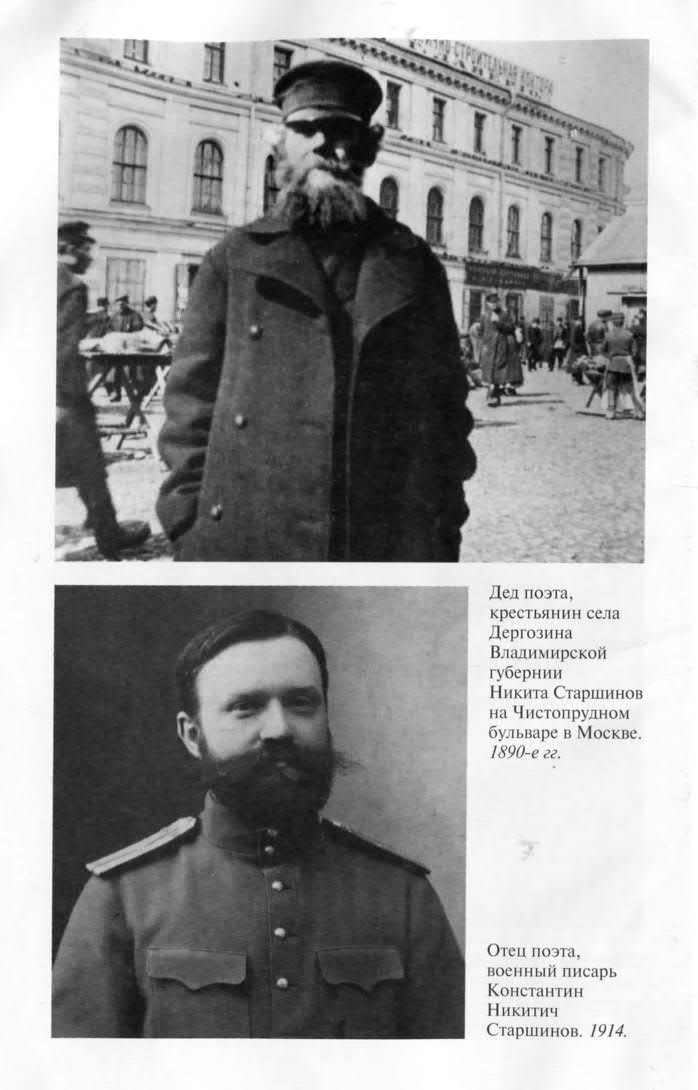












 Зная о любви Старшинова к творчеству Есенина, Катаев настойчиво советовал ему написать повесть о детстве и юности поэта, обещая немедленно опубликовать ее в журнале, даже если она будет «весьма посредственной». Дело в том, что тогда интерес читателей к Сергею Есенину, чьи стихи долгое время находились под запретом как чуждые оптимизму победившего пролетариата, был чрезвычайно велик. Катаев твердил Старшинову: «Вы не видите своего счастья, которое само просится к вам в руки… Этим необходимо воспользоваться немедленно. Это нужно и вам, и журналу. Другого такого случая может и не быть!.. Иначе вы при всей вашей любви к поэту отдадите его в руки ремесленников, которые все окончательно испортят да еще и наживутся на этом…»
Но в отличие от опытного литературного «волка» Катаева Старшинов мало смыслил в конъюнктуре рынка и писать «посредственную повесть» отказывался, ссылаясь на отсутствие материала.
Тогда Катаев отправил Старшинова в командировку в Константиново, надеясь, что есенинские места и встречи с земляками поэта, еще помнящими его, вдохновят не понимающего своего счастья сотрудника журнала на работу над повестью.
Путь из Москвы в Константиново занимает (во всяком случае, в наше время, при наличии автомобиля и отсутствии пробок) около трех часов. Старшинов в конце пятидесятых годов XX века добирался туда около трех суток, зато получил массу впечатлений и даже сделался на некоторое время «Львом Николаевичем Толстым» (менее именитых писателей в гостиницу поселка Дивово не селили).
Сорок лет спустя Старшинов изложил подробности этой командировки в полном мягкого юмора очерке «Вперед, к Есенину!..». А вот писать повесть о нем так и не взялся. Катаев тогда «обиделся и даже рассердился». И, может быть, был прав.
Зная о любви Старшинова к творчеству Есенина, Катаев настойчиво советовал ему написать повесть о детстве и юности поэта, обещая немедленно опубликовать ее в журнале, даже если она будет «весьма посредственной». Дело в том, что тогда интерес читателей к Сергею Есенину, чьи стихи долгое время находились под запретом как чуждые оптимизму победившего пролетариата, был чрезвычайно велик. Катаев твердил Старшинову: «Вы не видите своего счастья, которое само просится к вам в руки… Этим необходимо воспользоваться немедленно. Это нужно и вам, и журналу. Другого такого случая может и не быть!.. Иначе вы при всей вашей любви к поэту отдадите его в руки ремесленников, которые все окончательно испортят да еще и наживутся на этом…»
Но в отличие от опытного литературного «волка» Катаева Старшинов мало смыслил в конъюнктуре рынка и писать «посредственную повесть» отказывался, ссылаясь на отсутствие материала.
Тогда Катаев отправил Старшинова в командировку в Константиново, надеясь, что есенинские места и встречи с земляками поэта, еще помнящими его, вдохновят не понимающего своего счастья сотрудника журнала на работу над повестью.
Путь из Москвы в Константиново занимает (во всяком случае, в наше время, при наличии автомобиля и отсутствии пробок) около трех часов. Старшинов в конце пятидесятых годов XX века добирался туда около трех суток, зато получил массу впечатлений и даже сделался на некоторое время «Львом Николаевичем Толстым» (менее именитых писателей в гостиницу поселка Дивово не селили).
Сорок лет спустя Старшинов изложил подробности этой командировки в полном мягкого юмора очерке «Вперед, к Есенину!..». А вот писать повесть о нем так и не взялся. Катаев тогда «обиделся и даже рассердился». И, может быть, был прав.