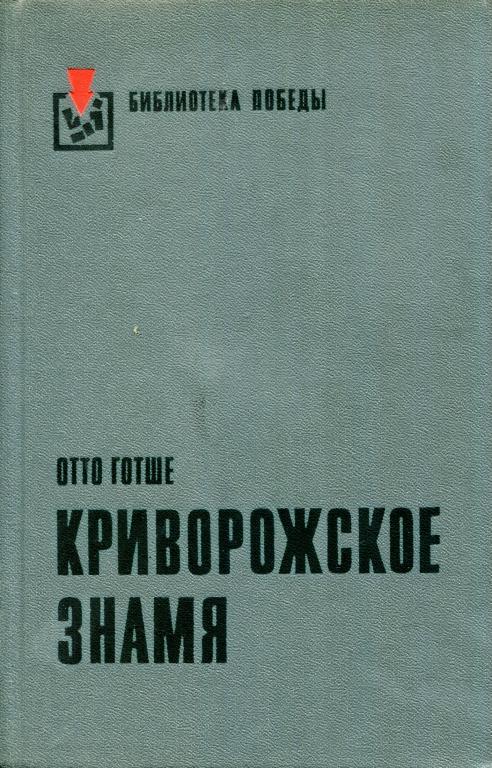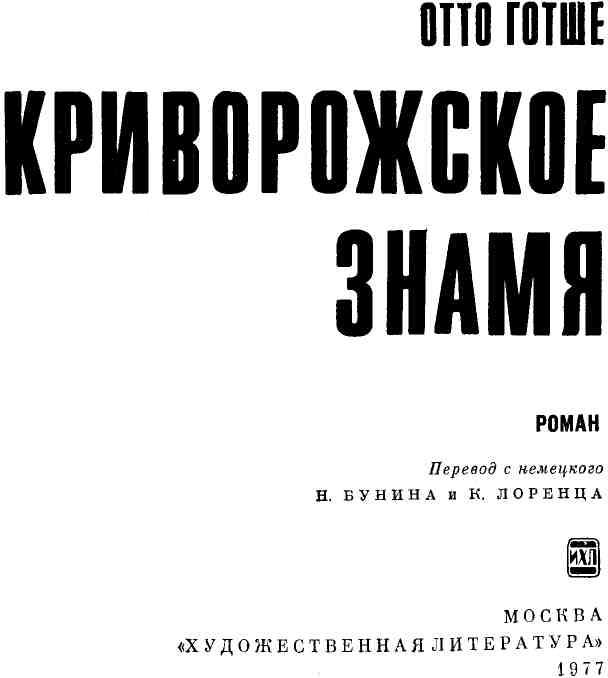Криворожское знамя
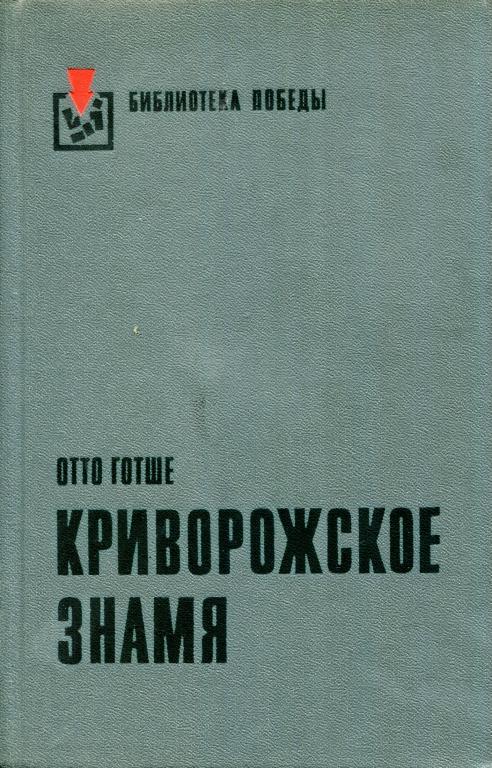

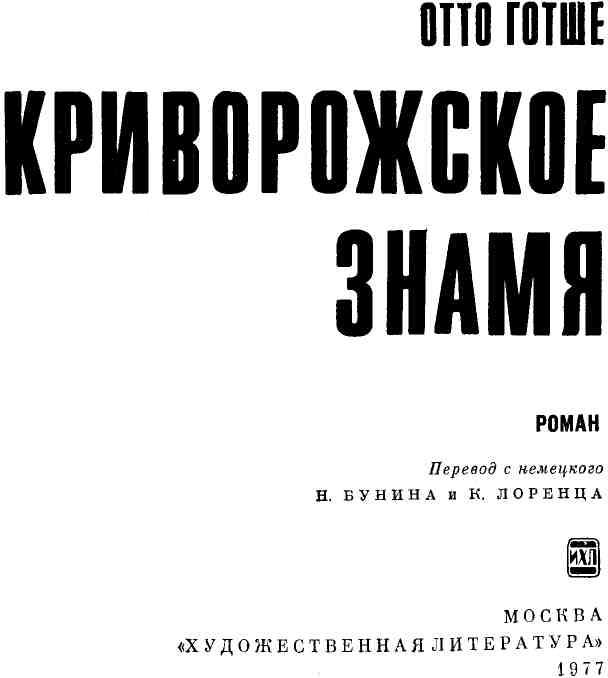
ОТ АВТОРА
Эту книгу я посвящаю семье Брозовских. Я счел своим почетным долгом внести хотя бы небольшую долю в общую дань признательности горняков Мансфельда и всего немецкого рабочего класса борцу за дело пролетариата Отто Брозовскому, его мужественной жене Минне и сыновьям.
Сын мансфельдского горняка, Отто Брозовский четырнадцатилетним мальчонкой пошел на шахту и стал тягалем. Шахты и война — основные этапы его жизненного пути — отняли у Брозовского здоровье и силы.
Я познакомился с Брозовским и его семьей более сорока лет назад, уже тогда это был мужественный и сознательный деятель рабочего движения, с которым и я многие годы шел плечо к плечу. В Брозовском и в его семье воплотились лучшие черты мансфельдских горняков — смелых и решительных, горячо любящих свою родину, полных революционной энергии, выдержавших тысячи героических битв и испытавших горечь поражении ради того, чтобы в конце концов победить.
По примеру отца и деда сыновья Брозовского тоже стали шахтерами. Их биографии — это биографии их предков. А Минна Брозовская заботилась обо всех членах семьи. Она была одной из тех шахтерских жен, которые стойко переносили нужду и горе и в каждом бою были надежной опорой своих мужей. В этих боях росло и закалялось их собственное классовое сознание.
Тридцатого января 1947 года Отто Брозовского не стало. Остановилось горячее сердце борца.
Незадолго до смерти он писал:
«…И еще передаю рабочим нашей шахты знамя Кривого Рога… Я чувствую, что конец мой близок. Да здравствует государство рабочих и крестьян!
Январь 1947 г.».
Мансфельдские горняки назвали его именем шахту, на которой Брозовский много лет надрывался от непосильного труда. Ныне на копре шахты имени Отто Брозовского развевается красное знамя.
Двадцать первого апреля 1954 года — в день двадцатипятилетия передачи Криворожского знамени мансфельдским горнякам — Минну Брозовскую наградили медалью имени Клары Цеткин. С гордостью носит восьмидесятилетняя седая женщина этот знак почета. Ее пятидесятитрехлетний сын Отто поехал в Кривой Рог на празднование сороковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И криворожские горнячки, которые много лет назад вышили на знамени смелые слова: «Да здравствует мировой Октябрь!» — обняли мансфельдского шахтера, свято хранившего красное знамя.
Событие это стало самым знаменательным в истории семьи Брозовских. Преклоним головы перед героизмом этой пролетарской семьи!
Свою книгу я возлагаю на могилу Отто Брозовского как лавровый венок и жму руку его верной спутнице Минне, помогавшей мужу в самые трудные дни его жизни. Я жму руку также их сыновьям, которые ныне строят социализм в Германской Демократической Республике.
Отто Готше
Январь 1959 г.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Во мраке шахты мерцал бледный кружок света. Тусклая шахтерская лампа отбрасывала на стену откаточного штрека призрачную тень.
Отто Брозовский сидел на груде сланца и писал. Узкая доска, прибитая к двум стойкам, служила ему столом. Перед самым лицом его висела лампа, укрепленная на выступе породы. В главном штреке за его спиной громыхала откатка.
Со скрежетом приоткрылись створки вентиляционных дверей. В образовавшуюся щель медленно поползла вагонетка. Тяговый канат, ударившись об обитые железом створки, негромко загудел и натянулся, как струна; тяжелый крюк качнулся на канате. Вагонетка протиснулась между створками, и они, пронзительно скрипя несмазанными петлями, снова сомкнулись. От большой нагрузки канат вибрировал и пел.
В обводной выработке порожняя вагонетка, так же гулко ударившись о двери, открыла их в противоположном направлении. Брозовский не поднял глаз. Он привык к постоянному грохоту и на обычный шум не обращал внимания. Но при каждом незнакомом звуке, нарушавшем равномерный ритм, Брозовский тотчас поднимал голову и прислушивался.
Вагонетки катили одна за другой с интервалом в пятьдесят метров. Десять вагонеток, сто, тысяча пробегали мимо него за долгую смену…
Но вот размышления Брозовского нарушил пронзительный визг колес. Разбрасывая снопы искр, к нему приближалась вагонетка. Заклиненные колеса скрежетали по рельсам. «В кузницу!» — вывел кто-то неуклюжими буквами на лобовой стенке.
При скупом свете карбидной лампы Брозовский попытался разглядеть цифры, написанные мелом на кусках сланца. Чтобы лучше видеть, он низко наклонился. «Триста одиннадцать», ясное дело, бригада Рюдигера. Перед мысленным взором Брозовского, как живые, возникли фигуры его товарищей.
Внизу, в неподатливой лаве забойщики тяжким трудом добывали медистый сланец; обильный пот орошал там блестящие иссиня-черные глыбы; тягали, упираясь ногами в закладку, то проползая на коленях, то съезжая на заду, чертыхаясь, тащили тяжелые вагонетки по заваленному ходку. А когда они, несмотря на все усилия, все-таки застревали, люди чуть не выли от нечеловеческого напряжения. Там, внизу, откатчики перегружали лопатами сланец и, упершись голыми потными плечами в неподатливые вагонетки, толкали их по тесному штреку вперед, туда, где насмешливо гудящий канат подхватывал их и тащил дальше на-гора.
Недоуменно пожав плечами, Брозовский прищурился и повернулся в сторону вагонетки. Почему Юле Гаммер, откатчик у бремсберга, попросту не снял поврежденную вагонетку с рельсов?
Внезапно раздавшиеся сильные громовые раскаты направили его мысли в другую сторону. Кровля содрогнулась. Он долго прислушивался к затихающему грохоту.
Породы постепенно успокоились. Брозовский смахнул с плеч осколки и снова склонился над самодельным столом. В глубокой задумчивости он долго всматривался в слабое пламя лампы. Оно выхватывало из темноты лишь его лицо, изрытое глубокими морщинами, да листы серой упаковочной бумаги, на которой он писал. Бумага зашелестела под его тяжелыми локтями. Он механически разгладил ее ладонью.
Размышляя над письмом, Брозовский вспоминал, что говорил ему Фридрих Рюдигер: «Все должно быть сказано в этом письме, понимаешь — все! Ты уж пораскинь мозгами. Напиши получше. И как можно проще».
Мысленным взором он видел Рюдигера; сухощавый, узкоплечий, виски немного вдавлены, а светлые глаза смотрят пытливо, будто Рюдигер хочет спросить: «Ну как — справился?» «Н-да!», — вздохнул Брозовский. Все надо было сказать, ничего не забыть, каждое слово имело значение. От этого письма зависело слишком много, — гораздо больше, чем от всех писем, которые он когда-либо писал.
Да и что за письма приходилось ему писать? Солдатские письма жене, в окопах во Франции. Он еще помнил, как потел над каждой строчкой. Но тогда главное было дать знать домой, что жив. Да, это письмо куда сложнее. И все-таки он должен его написать! Должен справиться.
Две страницы уже были покрыты корявыми буквами, выведенными его тяжелой рукой. И только на втором листе, в самом низу, оставалась полоска чистой бумаги в три пальца шириною. Конца он еще не придумал, это было самым трудным.
После долгих размышлений Брозовский снова пододвинул к себе бумагу, положил поудобнее локоть и, послюнив кончик толстого химического карандаша, принялся писать, старательно, с нажимом, выводя каждую букву.
«И еще, дорогие товарищи с шахты имени Феликса Дзержинского, очень просим вас ответить на это письмо. Жизнь у нас тяжелая, хозяева-монополисты по-прежнему сидят у нас на шее, эксплуатируют нашего брата без зазрения совести и жмут соки, как из крепостных. А вы живете в свободной стране. Нам дорог ваш совет, он нам очень нужен. Научите нас, как победить!
С боевым товарищеским приветом
производственная ячейка Коммунистической партии Германии, шахта Вицтум, район Мансфельд».
Брозовский сунул карандаш в карман жилета и поднялся. Толстую войлочную каску он сдвинул на затылок. На его лбу блестели мелкие росинки пота. От напряжения ему стало жарко. Он с облегчением вздохнул и положил исписанные листы рядышком; отступив немного назад, склонил голову набок и еще раз перечитал написанное. Ну, что ж, все-таки справился! Нелегка работка, а ведь справился же. Он был доволен.
Итак, черновой набросок готов. Этим письмом его ячейка расширит международные связи партии. И все товарищи наверняка сочтут, что от имени шахтеров Мансфельда его вполне можно послать к криворожским горнякам.
Брозовский осторожно поднял лампу над головой. Сильной струей воздуха чуть не задуло слабое пламя. Уж не начала ли оседать кровля? Недаром ведь разошлась трещина над наклонным ходком к околоствольному двору. Желтые язычки горящего рудничного газа лизали закопченную предохранительную сетку лампы. Он с опаской осветил новые трещины. Горючие газы вырывались из всех щелей. Он отпрянул.
Несомненно, произошел большой прорыв. Газы уже достигли кровли. Брозовский шаг за шагом обошел весь участок. Ни одна, даже тонкая, как паутина, трещина не ускользнула от его внимательного взгляда.
Вентиляцию шахты следовало улучшить давным-давно. Шахтеры уже не одно заявление подали, требуя принять срочные меры. Он упоминал об этом в каждом сменном рапорте. Газ из забоев не отсасывался, дым после отпалки шпуров так и висел в неподвижном воздухе.
От его предостережений просто-напросто отмахивались. Флегматичный штейгер Бартель из отдела техники безопасности говорил, что, по подсчетам специалистов, подача свежего воздуха вполне достаточная. А количество выделяющихся газов постоянно колеблется.
Но Брозовский, как всегда, не сдавался. Он был уверен, что прав.
Бартель пробовал подавить его своим авторитетом.
— Вы рассуждаете, как профан, Брозовский, — говорил он. — Ваши утверждения не выдерживают никакой критики. Болтаете зря из-за каких-то пустячных вспышек. Напрасно только людей баламутите. К тому же подземные вентиляционные установки устарели и расширить их нет никакой возможности. Вам ведь известно, что дирекция давно собирается закрыть шахту.
Вот-вот, в том-то и дело! Брозовскому это средство воздействия знакомо уже давно. Чуть что, они грозят закрыть шахту!..
— Если шахту закроют, штейгер Бартель, — ответил он, — так может случиться, что мы вместе потопаем на биржу труда, — и тогда прощай ваша пенсия! Но пока еще сланец добывают. И, пожалуй, будут добывать, когда наши косточки уже истлеют. Так что не о закрытии шахты надо говорить, а об улучшении вентиляции. Ее надо улучшить во что бы то ни стало. Даже если придется немного раскошелиться.
Брозовский был старым горняком. И знал, что значит свежий воздух в шахте. Торопясь выложить свои соображения, он и отправился тогда в производственный совет. Члены совета встревожились не на шутку. Ведь от службы безопасности зависела жизнь тысяч шахтеров.
Горной инспекции пришлось провести повторное обследование шахты. Опасения Брозовского подтвердились. Оказалось, что между пятым и шестым горизонтами существовала постоянная угроза прорыва большого количества газа. С тех пор все щели держались под неослабным контролем, а подача свежего воздуха была улучшена. О закрытий шахты и речи не было. Наоборот, на поверхности даже установили новый вентилятор. Но газа в воздухе оставалось по-прежнему много.
В последнее время штейгер Бартель несколько раз намекал, что считает контроль излишним: газы, дескать, успокоились и незачем держать бездельников в шахте.
Брозовский молчал. Он знал, что стоит поперек дороги не одному Бартелю. Дирекцию не беспокоил ни газ, ни вентиляция, ее волновали лишние расходы.
Брозовский задумался, глядя на длинную горящую щель в каменистой кровле. Пламя то разгоралось, то угасало. В трещинах то и дело вспыхивали все новые и новые чадящие очаги, синие язычки лизали стены штрека. Слегка наклонив голову, шахтер наблюдал за их зловещей игрой.
Без сомнения, начал выделяться рудничный газ. Настоящий горняк это сразу чует и настораживается. С беспокойством прислушивался Брозовский к каждому толчку в толще породы.
Что это — испуг, страх? А хотя бы и так! Кому охота погибать в кромешной тьме шахты, одному, сознавая полное бессилие?..
Брозовский подал сигнал тревоги, который услышал дежурный у подъемника. Потом опять вернулся к вентиляционной двери.
Техник отдела безопасности сейчас еще раз спустится в шахту, сообщили ему. Он ждал, переминаясь с ноги на ногу. Но скоро беспокойство погнало его назад к месту вспышки. Там он и стоял, прислушиваясь к шипению струящегося газа. Многое вспомнилось… Жизнь научила его ждать.
Однажды в залитых жидкой грязью окопах на Сомме ему пришлось ждать трое суток, пока товарищи не вытащили его из-под развалин блиндажа. Только голова, защищенная расщепленным бревном наката, оставалась на поверхности, а тело было вдавлено в грязь, засыпано обломками и землей. Сверху его прикрывал помятый стальной щиток пулемета, за которым он лежал до того, как начался этот ад. Три дня и три ночи бесновался над ним ревущий ураган артиллерийского огня.
Он кричал и звал, но никто его не слышал. Когда его откопали, он был без сознания. Поэтому он не заметил новой лавины ураганного огня и обломков, под которыми погибли его товарищи, так и не доставив его в укрытие.
Нашли его только на следующую ночь. Когда он очнулся на пропитанной кровью плащ-палатке, то увидел над собой звезды. Он смотрел на них, как после ночной смены смотрит на манящий звездный купол неба шахтер.
Левую руку вылечить не удалось, о работе в забое пришлось забыть. После войны хозяева мансфельдских рудников дали ему место ночного сторожа. Но в первый же день он понял, что долго здесь не вытерпит.
Кроме жены, никто не заметил, что инвалид войны Брозовский возвратился с фронта другим человеком. Кроме его жены, никто и не догадывался, что работа сторожа — лишь временное решение.
Брозовский горел ненавистью. Он ненавидел работу ночного сторожа и тех, кто обрек его на такую жизнь. Те самые люди, из-за которых он стал инвалидом, завладели и солнцем, и светом дня, а его толкнули во тьму.
Четырнадцатилетним подростком Брозовский спустился в шахту и стал тягалем. Пристегнув деревянный брус ремнями к плечу, он долгие годы ползком тянул тяжело нагруженные вагонетки по крутым колеям на околоствольный двор. Двенадцать лет спустя, отбыв воинскую повинность, он выдержал «экзамен» и стал забойщиком. Да, он знал мансфельдские шахты. Здесь, вот в этой самой шахте, лежа на боку, рубил он пласты медистого сланца, пока его не забрали на фронт.
До начала войны он только дважды прерывал свою многолетнюю работу на шахте. В юбилейный год мансфельдских горных разработок, когда одновременно с наступлением двадцатого века праздновали и семисотлетие со дня основания шахт, волею власть имущих Отто Брозовский облачился в пестрый мундир солдата кайзера. День юбилея он провел на полигоне Двадцать седьмого полка, до изнеможения осваивая ружейные приемы. Поэтому Брозовскому не довелось попасть в число встречавших его величество Вильгельма Второго, когда тот с искусно подкрученными усами, верхом на коне торжественно въехал в город Лютера Эйслебен. Явиться было приказано всем шахтерам без исключения — штейгеры проверяли их по спискам — и мансфельдские горняки, натянувшие в этот день шахтерскую форму, приветствовали императора божьей милостью, взяв кайла «на караул».
Позже Брозовский узнал, что граф Вицтум, чье имя носила шахта, тоже гарцевал на коне в свите кайзера. Шахтеры поговаривали, что верховные правители горной епархии сумели угодить верховному правителю всей империи.
Девять лет спустя мансфельдские горняки, которым в юбилейный год хозяева рудников уделили малую толику от щедрот своих, захотели отпить еще глоток из благословенного источника, бьющего из-под земли для хозяев. И забастовали.
Мансфельдские горнозаводчики издавна обладали привилегией время от времени чеканить талеры из серебра, встречающегося в медистых сланцах. Но они чеканили эти талеры только тогда, когда доходы от шахт лились через край. А в то время они лились! К снарядам для новых пушек, которые Крупп поставлял армии, были нужны медные кольца, а для патронов — медные гильзы…
Горняки требовали увеличения расценок и чего-то совершенно нового — признания их права на организацию в профсоюз. Брозовский, разумеется, был в числе бастующих.
Нельзя сказать, чтобы он был строптивым от природы, и Минна, простая душа, ничего не слышавшая о таком понятии, как рабочая солидарность, молча разложила получку мужа на четыре кучки и посмотрела на него: хватит ли на селедку, картошку, деревянные башмаки и нитки для штопки? Оба сына молча наблюдали за действиями матери. Отец, угрюмо глянув на детей, погладил их стриженые головы и, не стерпев, стукнул кулаком по столу.
Какое-то время хозяева шахт пребывали в растерянности. Потом начали действовать.
Но и горняки тоже не сидели сложа руки. Через несколько дней сотни шахтеров блокировали дорогу к спуску в шахту. Брозовский был с ними. Вскоре прибыл Двадцать седьмой полк, чтобы сломить забастовщиков. Брозовский сразу узнал старых унтеров, которые шли впереди своих отделений, лихо печатая шаг. Это они гоняли его по плацу, когда в юбилейный год делили благословенные талеры. Товарищи Брозовского знали и унтеров и солдат не хуже, чем он сам. Двадцать седьмой полк был как бы школой воспитания мансфельдских горняков в патриотическом духе — это был, так сказать, их «родной» полк.
Шахтеры безбоязненно двинулись навстречу «своему» полку, и горняцким сыновьям в островерхих касках стало стыдно. Винтовки в их руках дрогнули. Отцы, братья и друзья окликали солдат по именам. Всего лишь несколько месяцев назад они вместе грузили вагонетки и тащили их по штрекам. Вскоре солдаты вновь вернутся к прежней работе. За их заработок, за их право боролись шахтеры. Это свой хлеб они должны проколоть штыком. Там и сям забряцали падающие на мостовую ружья, братья обнимали друг друга, отец прижимал к себе своего сына-солдата, орали взбешенные унтеры.
Двадцать седьмой пехотный полк заменили кирасирами из Хальберштадта. Юнкера, вольноопределяющиеся и сыновья зажиточных крестьян ринулись на забастовщиков с саблями наголо.
Брозовский все это хорошо помнил. Ясно стоял перед его глазами и тот августовский день девятьсот четырнадцатого года, когда его забрали на фронт.
Жена молча смотрела на него опухшими от слез глазами. Она не пошла с ним на вокзал и сыновьям тоже не разрешила проводить отца.
— Какое нам дело до этой войны! — крикнула она.
В тот самый день, когда Брозовского засыпало в окопе, его старший сын стал тягалем. Помимо старинного права чеканить талеры, владельцы рудников имели право на шахтерских сыновей. Не штейгер ли Бартель задал ему тогда традиционный вопрос? Впрочем, нет, — того звали иначе, но он вполне мог бы называться и Бартелем.
— Ну-с, скоро ты приведешь своего парня, Брозовский, ему ведь уже четырнадцать и он крепыш?
Он не привел его, — мальчика отдали в обучение к каретнику. Но спустя несколько месяцев мастера призвали, и учению настал конец. Пришлось пареньку, как в свое время и его отцу, возить медистый сланец. Война требовала меди — много, очень много меди.
Как раз в этой шахте, там, дальше, в глубине штрека, на шестом горизонте, мальчик выдержал свой «экзамен»…
Брозовский вздохнул, от воспоминаний его бросило в жар. Он снял каску и достал из нее письмо.
Вот оно, его послание! Плод горького опыта.
Первое послевоенное десятилетие. Что это были за годы! Сперва Ноябрьский переворот, потом борьба с путчистами Каппа, выступления против провокаций магдебургского обер-президента Херзинга и прусского министра внутренних дел Зеверинга, затем схватка с хозяевами Мансфельдского акционерного общества и с монополистами «ИГ-Фарбен», с угольными магнатами и всеми, кто наживался на войне. Время инфляции, когда хлеб стоил биллионы, а тяжелый труд в шахте не давал ничего, кроме пота…
Все это вновь ожило в памяти Брозовского. До этого, инстинктивно почуяв опасность взрыва, он весь сжался, но, вспомнив былое, выпрямился.
Он припомнил еще, как они бастовали, через несколько недель после Ноябрьской революции. Двенадцать тысяч мансфельдских горняков требовали повышения сменных расценок на две марки. И когда его по окончании забастовки поставили у насоса, он остался тверд; да и год спустя, уйдя во время второй большой забастовки после ноябрьских событий из аварийной команды, так как не мог оставаться в стороне, он так же спокойно воспринял назначение на подземные работы.
Брозовский взвесил письмо на ладони и еще раз перечел его. Он не помнил, сколько раз обдумывал эти строки. Но ясно видел каждое слово, прежде чем решался перенести его на бумагу.
Старый шахтер поднял кулак над головой, приветствуя далеких братьев по классу, которым предназначалось его послание.
ГЛАВА ВТОРАЯ
После окончания смены в нише продольного штрека за динамитной камерой собралось несколько шахтеров. В скудном свете ламп все они — запорошенные черной пылью, в одинаковых войлочных касках — казались на одно лицо. Они уселись на красный песчаник, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. Скупые движения их были так же неторопливы и обдуманны, как и речь.
Брозовский сел в переднем углу, чтобы видеть весь штрек до самого квершлага. Когда господа из инспекции безопасности попытались было умалить угрозу прорыва горючих газов, он им кое-что высказал. Штейгер Бартель зашипел на него и потребовал, чтобы он немедленно поднялся наверх. Но Брозовский покинул свой пост, только когда пришел сменщик.
По квершлагу к подъемнику не спеша двигались шахтеры, окончившие смену. Светящиеся точки плыли в темноте, словно гирлянда праздничных огней парохода. Подъемник то и дело заедало, людей приходилось вывозить небольшими группами. Да и спуск дневной смены порядочно задержался из-за неожиданного прорыва горючих газов.
Рядом с Брозовским молча опустился на землю человек богатырского сложения. Шахтеры кого-то ждали. Прошло уже четверть часа. Все сидели не двигаясь.
Великан откашлялся. Тяжелая работа мысли, происходившая в его голове, вылилась в скупые слова:
— Слушай, этому Бартелю я шею сверну. Ему ведь плевать, что придется хоронить пачками, сволочь!
Низкий бас великана хрипло рокотал, будто на его голосовые связки осел толстый слой каменной пыли. Он сложил руки на коленях, прикрыв ими протертые штаны. Эти огромные руки с обломанными ногтями походили скорее на лопаты. На обнаженной груди виднелись запорошенные сланцевой пылью пучки волос. Могучие плечи обтягивала пропитанная потом рубаха.
Ответа он не ждал. То, что он сказал, было незыблемо. И не подлежало обсуждению. Он мрачно насупился и умолк.
Спустя некоторое время великан вновь заговорил, но на этот раз он как бы спрашивал сам себя:
— Да придет ли Рюдигер вообще? А то мы сидим тут, как куры на насесте. Сколько можно ждать? Что, у нас время казенное, что ли?
Брозовский промолчал.
Истолковав это по-своему, великан резко бросил:
— Значит, думаешь, он не придет? Тогда мы пошли?
Он хотел было подняться, но, вспомнив что-то, остался на месте.
— А ведь Бартель опять хотел выйти сухим из воды. Но производственный совет славно осадил его на комиссии. Ты слышал, что ребята говорили, когда им пришлось ползком пробираться под огнем? А эта скотина заливает Рюдигеру, будто с газом ничего и поделать нельзя. Сто раз слыхали: «Дирекция делает все, что в ее силах…» Подхалим проклятый! Как услышу его голос…
Великан угрожающе сжал кулак и, многозначительно кашлянув, продолжал:
— Но комиссия давным-давно уж поднялась из шахты. Где же Рюдигер? Небось сидит у оберштейгера и лясы точит.
И, тут же переменив тему, он злобно проворчал:
— Если ты секретарь ячейки и наприглашал людей, так изволь и сам вовремя явиться!..
Брозовский все еще не считал нужным возражать. Он выжидательно поглядывал в сторону квершлага. Вот какая-то тень заслонила пунктир светящихся точек. «Наконец-то!» — подумал он.
Великан нетерпеливо гаркнул:
— Ты что, оглох? Как горохом об стенку!
Брозовский беззвучно рассмеялся. От улыбки на щеках его обозначились морщины.
— Уймись, Юле! — сказал он миролюбиво.
— Не уймусь! Хочешь угодить и нашим и вашим! — упрямо продолжал Юле Гаммер. — Что мы тут, в бирюльки играем?
— Нет. Но в середине смены мы еще не знали, что случится прорыв газов. Иначе не стали бы созывать всех сегодня. А Рюдигера наверняка задержали наверху.
— Да что ты мне талдычишь — «не знали, не стали!» Он обязан явиться вовремя, и весь сказ! Разве наше дело не важное? — Юле не признавал никаких возражений.
— Оба дела важные. О чем тут спорить? Он придет, это точно. Ты ведь знаешь его не хуже, чем я. Рюдигера наверняка кто-нибудь перехватил.
У Брозовского был подкупающе теплый, приятный голос. Он, как и все здесь, говорил на тяжеловесном, неуклюжем местном диалекте, но как-то звонче, чем другие, хотя и его голос был слегка сипловат.
Гаммер обратился к товарищам:
— Либо пошли отсюда, либо начнем без Рюдигера. Как, ребята?
Никто не возразил, поэтому Брозовский решил, что должен вмешаться.
— Письмо готово, но нам нужно услышать мнение Рюдигера. Оно так же важно, как и наше с тобой, Юле.
Брозовский снова посмотрел в сторону квершлага. Тень придвинулась ближе. Он улыбнулся.
Но Гаммер все еще кипел. Он был самым рослым на шахте и страшно сердился, если его называли самым длинным; он хотел быть только самым рослым. Юле выпрямился, но стоять в штреке мог только согнувшись.
— Пойду поищу его!
— Не стоит. Только создашь толчею. И привлечешь к нам внимание.
Брозовский тоже встал и загородил Гаммеру дорогу. Помолчав немного, он спросил:
— Юле, а ты всех оповестил? Некоторых товарищей почему-то еще нет.
При этих словах Гаммер попытался распрямиться и сильно ударился о каменистую кровлю. Опустившись на колени, он раздраженно буркнул:
— Кто я, по-твоему? Юле Гаммер или какой-нибудь раззява? У меня, слава богу, голова еще на плечах.
— Голова-то на плечах, а глаза — на затылке, — съязвил кто-то.
Вокруг засмеялись.
— Уж и спросить нельзя, — мягко сказал Брозовский.
Рука Гаммера описала в воздухе широкий полукруг. Все поняли, что он хотел этим сказать. А именно: зачем задаешь глупые вопросы? Разве иначе эти товарищи были бы здесь? Нет, я организовал все как следует!
Подсчитывая собравшихся, Гаммер кивком головы отмечал каждую лампочку и молча шевелил губами.
— Шестнадцать! — сказал он. — Все здесь. Чего ж ты сомневался?
— Семнадцать! — раздался чей-то звонкий голос позади Юле.
Поднялся сухощавый парень. Он погасил свою лампу, поэтому Гаммер его и не заметил.
Гаммер выругался, но его слова потонули в смехе и гомоне. Все и так знали, что выразился он непечатно. В этом он был большой мастак.
Откатчик Гаммер работал на бремсберге. Он распределял там порожняк и цеплял груженые вагонетки к тяговому канату. Еще в первой половине смены Брозовский писал то, что было нужно передать, на глыбах сланца и клал их в порожние вагонетки, следовавшие на шестой горизонт. Каждая вагонетка проходила через руки Гаммера. Партийная ячейка пользовалась этим способом связи уже давно. С помощью Гаммера Брозовский в течение нескольких часов сообщал коммунистам шахты все, что было нужно. Гаммеру оставалось только правильно адресовать вагонетки. А на этом деле он собаку съел.
Юле благоговел перед Брозовский, но даже ему он не мог простить такой несправедливости. Крайне возмущенный, желая подчеркнуть всю серьезность обвинения, он пустил в ход не совсем понятные ему иностранные слова.
— Дорогой шер ами. Ты судишь по своему разумению. А ни черта не смыслишь. Ориентности у тебя кот наплакал. Даже первую твою писульку я направил точно по адресу. Вон сидит Генрих Вендт, спроси его. У меня ошибок не бывает. На такие дела имею особый нюх. В шахте я обслуживаю самых надежных, учти это. И каждый получает то, что ему положено. А уж Рюдигер получил свою весточку еще до перерыва. Мог бы и прийти вовремя…
— Так оно и было, как раз до перерыва! — со смехом произнес кто-то из темноты. Фридрих Рюдигер шагнул в круг, как бы подтверждая тем самым правоту Гаммера.
Юле со вздохом облегчения вытер пот со лба.
— Ну вот! А ты говоришь…
Рюдигер чуть пошатнулся, когда Юле, в знак благодарности, опустил ему свою могучую лапищу на плечо. Пробираясь ощупью по темному штреку, Рюдигер слышал каждое слово их спора. Мощный голос Гаммера гремел на всю штольню.
Товарищ, стоявший на посту у квершлага, шепнул на ухо Рюдигеру:
— Скажи ему, чтоб не орал! Ревет, что твоя труба!..
— Куда ты запропастился? Из-за тебя тут целый скандал, — сказал Юле, стараясь не басить, потому что Рюдигер не любил чересчур горластых.
— Задержался у подъемника, с ребятами из дневной смены поговорили. Опасность ничуть не уменьшилась. Но господа из дирекции утверждают, будто реальной угрозы для людей нет.
Рюдигер говорил гладко, как по-писаному. Сразу было видно, что он человек образованный.
— А потом поплатился за то, что пошел один, — продолжал Рюдигер. — У ворот вентиляционного штрека уронил фонарь. А спичек при себе не оказалось. Вот я и ковылял в темноте по рельсам, как слепая лошадь. Больше вопросов нет?
Вокруг засмеялись.
— Поставил бы себе фонарь — вот и было бы светло! — не удержался Генрих Вендт, известный своим острым языком.
Юле возмутился:
— Нашел над чем шутить! — И, все еще обиженный, добавил, обращаясь к Брозовскому: — А ты, участковый пожарник, клепал на мою подземную почту! Видать, вообще считаешь меня недотепой. Этого я не потерплю!
Брозовский возразил:
— Вот уж никогда бы не подумал, что ты, Юле, чувствителен, как относительная стабилизация нашего досточтимого Рейхсбанка. Легкий толчок, слабое прикосновение, едва ощутимая критика, и… все летит вверх тормашками. Вот ты у нас в какое благородное общество попал.
От смеха Юле Гаммера, казалось, содрогнулись стены ниши.
— Тс-с-с! — зашипел Брозовский, но и сам тихонько засмеялся.
Обычно такого рода остроты доходили до Юле не скоро. Но «относительная стабилизация капитализма» было для него столь же обиходным понятием, как, скажем, «кайло».
— Ничего подобного, я чувствую себя вполне устойчиво, дорогой товарищ. Не то что господа наверху, с их относительной стабилизацией. Ерунда все это! И плевать я на них хотел. А этот их маг и волшебник Ялмар Шахт в нашей шахте все равно что пустая порода. Да чихал я на него. Подумать только: биллион рейхсмарок равен всего лишь марке золотом. Базарные крикуны! Я целую неделю надрывался, чтобы заработать этот биллион, а в получку в кармане у меня болталась всего-навсего одна шахтовская марка. Вот так обернулись мои надежды! Одну марку за целую неделю работы! Говорят, будто Шахт поддержал курс марки и, верно, кое-кому ловко угодил. Тут его хребет оказался гибким. Но голова его держится только на крахмальном воротничке, а стоит ему размякнуть — сразу же и хребет надломится. Или я не прав?
Юле хотел сказать еще что-то, но, смущенный своей длинной речью, испуганно замолк.
Рюдигер, согнувшись, ковырял в горелке своей лампы. Газ вспыхнул, как только он поднес ее к лампе Гаммера.
— Да… Шахт — это вам не шахта, — заметил он многозначительно, когда яркий свет залил нишу. — Пора начинать…
Все уселись на землю, плотно придвинувшись друг к другу. Брозовский приподнял каску и, словно из ящика письменного стола, вынул из нее сложенные листы бумаги.
Фридрих Рюдигер сидел напротив и пристально глядел на него. Прежде чем Брозовский снова нахлобучил каску, тот успел заметить множество рубцов на его голове, просвечивающих сквозь редкие волосы. Никогда раньше они так не бросались в глаза. «Да, досталось ему на Сомме. Словно гвоздей набили», — подумал Рюдигер. Он знал — под этим угловатым черепом скрывался ясный ум. Шея была несколько коротковата, светлые, серо-стальные глаза оживляли смуглое лицо.
Когда Брозовский начал читать, все затаили дыхание. Даже старались не кашлять, чтобы не пропустить ни единого слова. Им виделось гораздо больше того, что было написано в письме. Перед ними предстала вся их жизнь. Время от времени кто-нибудь тяжело вздыхал, тогда сосед толкал его в бок и жестом требовал тишины.
Генрих Вендт совсем ушел в себя. Он сидел рядом с Брозовский, уронив голову на грудь и полуоткрыв рот. Он знал Брозовского с первых дней шахтерской жизни, их биографии были почти одинаковы. Разница только в том, что Отто не владел левой рукой, а Генрих заработал в шахте силикоз. Оба стали полуинвалидами. Но Генрих знал: все, что написал Брозовский, было им глубоко продумано. Иначе и быть не могло. В этом Брозовский превосходил его. Когда кто-нибудь из товарищей не мог найти выхода из трудного положения, он шел к Брозовскому. Отто думал и находил нужный совет. При этом каждому потом казалось, будто решение нашел он сам. Генрих знал это по собственному опыту. Однажды Брозовский несколько дней вместе с ним бился над его вопросом, и в конце концов не он, а Генрих Вендт хлопнул себя по лбу: «Стоп! Нашел!»
А уж письмо так написал, что лучше некуда! И откуда что берется? Генрих весь напрягся, пытаясь подавить сухой кашель, но это ему не удалось, и сосед постучал его по спине.
«Отдают ли они себе отчет в том, что мысли Брозовского непосредственно связаны с великими историческими событиями прошлого — со стремлениями, желаниями и надеждами их отцов еще во времена Томаса Мюнцера? — думал Фридрих Рюдигер. — Понимают ли, что помыслы Брозовского восходят к тому времени? Сознают ли Юле Гаммер, Генрих Вендт и сам Брозовский, что́ в них воплотилось?»
Рюдигер много читал. Он не упускал ни малейшей возможности пополнить свое образование. Его острый ум быстро все схватывал. Окончив профсоюзную и партийную школы, Рюдигер щедро передавал друзьям полученные знания.
Когда Брозовский кончил читать, у Рюдигера стало тепло на душе.
— Я прочел вам это письмо, чтобы услышать ваше мнение, — ворчливо сказал Брозовский. — Оно камнем лежало у меня на сердце. Я места себе не находил. Целых две недели потел над ним. А теперь хочу знать — правильно ли все написано?
Товарищи нашли его скромность неуместной. Ну, конечно, все было правильно. Или, может, вообще не следовало переписываться с русскими рабочими?.. А о том, что составить письмо — дело нелегкое, знали все. Гаммер посмотрел на свои руки и даже потер тыльной стороной ладони лоб.
Составить этакое письмо, — черт возьми, надо уметь!..
— Именно так и надо было написать, — сказал Рюдигер. — Наш секретарь в Эйслебене сказал, что переписка с горняками Советского Союза укрепит дружбу и солидарность между нами. А это совершенно необходимо. Рабочий класс Германии нуждается в помощи русских рабочих, как в хлебе насущном. Каждому понятно, что солидарность — великое цело. Мы должны позаботиться, чтобы о письме узнали все. Брозовский верно пишет — русские рабочие могут указать нам путь к победе. Обмен мнениями с ними будет нам полезен. Ты хорошо написал письмо, Отто. Только вот…
И они стали обсуждать строку за строкой то спокойно, то перебивая друг друга. А Рюдигер возвращался все время к одной и той же мысли: надо как можно убедительнее выразить идеи пролетарского интернационализма, общности интересов и рабочей солидарности.
Серые листы упаковочной бумаги пошли по рукам. Текст покрывался неразборчивыми каракулями. Они переставляли фразы, вычеркивали одно и вписывали другое. Шестидесятилетний старик настаивал на том, чтобы упомянули об урезании пенсий шахтерам: это-де самое нужное. Семнадцатилетний Пауль Дитрих доказывал Юле Гаммеру, что надо побольше написать о молодежи.
— Добавьте от нас привет комсомолу! Интересно, у них, в Кривом Роге, тягали тоже есть?
Гаммер деликатно отстранил его.
— Ты никому и слова сказать не даешь! А ведь я тебя даже не считал…
— Нас тоже обижать не годится, — буркнул Генрих Вендт, — спросите, как у них обстоит дело с горняками, больными силикозом. Насколько мне известно, там их как следует лечат.
Последним протянул свою лапищу за письмом Гаммер, и тут уж Брозовский не на шутку испугался. Напрасно Пауль Дитрих уперся в грудь великана, пытаясь помешать ему. Гаммер ухватил его левой рукой за шиворот и, держа беспомощно барахтающегося парня на безопасном расстоянии, помахал письмом перед носом Брозовского. Как ни старался Юле приглушить свой мощный бас, голос его загремел:
— Пусть напишут, как у них живут рудооткатчики. Я-то живу хуже пса паршивого! Или, может, кто не согласен и жизнь у нас не собачья?
Гаммер угрожающе оглядел всех. К счастью, никто не возражал. Только теперь Гаммер отпустил Пауля, добродушно оттолкнув его от себя.
— Никаких тягалей, парень, у них нету. У них зато — техника.
Рюдигер счел, что пора кончать обсуждение, и кивнул Брозовскому. Тот понял; взяв у Гаммера листы, он аккуратно разгладил их и снова бережно сложил.
Рюдигер встал. Его тень пересекла штольню.
— Перепиши набело. Уже не терпится скорее получить ответ. В русском рабочем движении криворожцы известны своими традициями. Я слышал — из тех мест вышло много стойких революционеров. На них можно положиться. В начале следующей недели выйдет наша газета. Мы опубликуем в ней это письмо. Письмо одобрят. Пусть каждая бригада его обсудит. Газету распространим, как всегда, через откатку. Юле так распределит вагонетки, чтобы каждая бригада получила по экземпляру. Больше нельзя. Бумаги не хватает, и слишком мало…
Он поднял руку и, потирая указательный палец о большой, показал, чего у них слишком мало.
Захлебываясь от волнения, Пауль Дитрих перебил его:
— А я больше не согласен задаром газету раздавать. Каждый шахтер ее читает. Она без промаха бьет по господам из дирекции. Уже за одно это любой шахтер охотно заплатит пять пфеннигов. Нет, газету надо продавать. Ее ждут. Ее ценят. Шахтеры знают — за что. Каждый купит — даже те, кто побаивается ее или ненавидит. Давайте газету продавать! Мы — молодежь — охотно возьмем это дело на себя.
Даже сквозь пыль и грязь было заметно, как густо покраснело лицо подростка. Он размахивал руками и чуть ли не подпрыгивал на месте от возбуждения.
Рюдигер подался вперед и обхватил Пауля за плечи. Приподняв его, он воскликнул:
— Молодчина!.. — И осторожно опустил парнишку на пол. — Вот это дело! Я, признаться, давно уже подумывал над этим. Но все медлил. Вам же известно, что произошло на шахте «Пауль». Уже пять месяцев трое наших товарищей ходят без работы. Суд отклонил их просьбу о восстановлении. Продажа газет на производстве считается подстрекательством к бунту. Тут дирекция пощады не знает!..
— Да, но с умом, Юле, с умом.
— Просьба, пощада… Просьбы бесполезны, ясно. Да что мы — слезливые бабы, что ли? Бороться надо, а не нюни распускать!
— Да, но с умом, Юле, обдуманно.
— Ничего, вреда не будет, если мы при случае разок кулаком по столу трахнем, — сказал Генрих Вендт, сердито жуя кончики усов. Он всегда злился, когда к делу приступали слишком уж осторожно.
— Ишь ты какой горячий! — возразил Рюдигер. Он взглянул на Брозовского.
— Готовых рецептов не бывает, — сказал Брозовский. — Но действовать надо умно. Сегодня так, а завтра иначе. В зависимости от обстановки. — Теплая ласковая улыбка появилась на его лице. — И, главное, не сдаваться, привлекать к делу лучших. Это, конечно, трудно, но полезнее длинных речей. Мы, пожалуй, могли бы немного поднажать. Если будем чересчур осторожничать, далеко не уедем. Лучше всего и продавать и раздавать. В шахте будем продавать, сперва побеседовав с каждым. А остаток — раздавать у ворот всем желающим. Одно другому не помешает. Наша ячейка достаточно сильна. Ну, а по столу мы трахнем потом. Согласен, Генрих? Уверен, письмо сделает свое дело…
Пауль Дитрих сиял. Тут же принялся подробно рассказывать, как представляет себе продажу газеты. Даже в клети он все еще крепко держал одной рукой Брозовского, другой Рюдигера и говорил без умолку.
По всему стволу шахты раздавался трубный глас Юле Гаммера:
— В следующий раз я уж не забуду посчитать и этого парня!..
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Гетштедтская улица карабкается в гору, почти такую же крутую, как отвалы мансфельдских шахт, чьи высокие пирамиды широким полукругом опоясали город. Она начинается в центре города — внизу, у рыночной площади. А рыночная площадь в Гербштедте такая, что ее и площадью-то не назовешь: это просто небольшая, причудливой формы площадка у подножья горы. Вокруг нее теснятся, лепятся, лезут друг на друга домишки. А улица, минуя серую, ветхую, как бы нахохлившуюся ратушу, извиваясь и виляя в лабиринте домов, взбирается вверх. Кажется, будто она пытается крадучись выбраться из города. Ее горбатая шлаковая мостовая сверкает, словно серое полированное стекло, а после дождя отливает светло-голубым. Об этой улице еще много раз пойдет речь.
С этой улицей горняки маются уже несколько столетий. Тяжело отдуваясь, тащат они ручные тележки вверх по крутому склону на свои огородные участки. Справа и слева притулились низкие домики. Сотни лет гнетет их ненавистная гора. Кажется, будто она пытается силой оттеснить домишки на середину улицы, чтобы они не мешали ей свободно дышать. Все они похожи друг на друга и выглядят, как пряничные палатки на ярмарке. Каждый год перед троицей хозяева красят их заново, одни — в светло-зеленый, другие — в бледно-голубой цвет поредевшего облака, многие — в белый, с кремовым оттенком. Напоследок в ведре разводят сажу, и свежепокрашенный цоколь отливает черным бархатом. Глиняные заплаты закрашиваются, и улица во всеоружии готова встретить весну. Упрямо, слегка наклонившись вперед, дома с новой силой упираются в гору и безжалостно теснят узенький тротуар, с трудом пробирающийся под окнами, будто хотят на нем выместить все обиды, которые причинила им гора.
На середине склона расположена больница. Кажется, что на старое здание надели новый крахмальный передник. Свежеоштукатуренный белый фасад на фоне ограды из бутовой кладки выглядит повязкой на теле улицы. Многие поколения горняков чинили здесь свои руки и ноги, многих уносили отсюда на погост.
Напротив больницы стоит дом номер двадцать четыре.
Он окрашен охрой, и у него есть второй этаж. Верхний этаж пристроили позднее, прямо на глинобитные стены, когда для подрастающих детей не стало хватать места. После полудня в сверкающих чистотой оконных стеклах играет солнце.
Знакомство с домом начинается с двух истертых ступенек и таблички на входной двери: «Отто Брозовский». В первом этаже расположены две комнаты и маленькая кухня. Крутая лестница ведет на второй этаж, где комнаты такие же, но с косым потолком. Пол в прихожей выложен кирпичом. Справа дверь в первую комнату.
Из духовки высокой чугунной печи вырвалось ароматное облачко пара. Кухня полна заманчивых запахов. Минна Брозовская мешает половником в эмалированной кастрюле, которая стоит в кольце конфорки над огнем. Хозяйка раскраснелась от жары. На скамье у стола, на своем обычном месте, спиной к окну сидит Вальтер. Он в семье младший. Сын нетерпеливо барабанит столовой ложкой по столу.
— Ты варишь горох, я еще в дверях почуял. Гороховый суп с мозговой косточкой — ух, здорово! Уже готов? Я есть хочу. И где только отец застрял? Вечно он приходит последним.
Мать, вначале терпеливо отвечавшая на все его вопросы, теперь только пробурчала что-то. Ее гладко расчесанные на пробор волосы выглядывали из-под косынки, съехавшей на затылок; она торопливо надвинула ее на лоб. Рывком подняв кастрюлю, Минна поставила ее посреди стола на проволочную подставку и задвинула кочергой кольца на место, чтобы закрыть огонь. Удушливый дым мгновенно заполнил маленькую кухню.
Чтобы заглянуть в кастрюлю, Вальтер забрался с ногами на скамью.
— Мама, а я горох люблю больше, чем перловку. Учитель Петерс говорит, что все бобовые очень питательны. Крупы — тоже, говорит он, но их я не так люблю.
В сенях раздались шаги.
— Отец!
Вальтер сел как следует.
— Вечно ты опаздываешь! — крикнул он входящему отцу. — Бинерт пришел уже полчаса назад. Его Линда хвастает, что в воскресенье он идет на праздник Союза фронтовиков в Писдорфе, а ты — нет. Туда пускают только по выбору. Пиво будут даром давать.
— Да что ты! — Брозовский разыграл удивление. — И везет же этому Бинерту, теперь его даже на праздник фронтовиков пригласили.
Он погладил белокурые вихры сына, повесил фуражку на крюк за дверью и кивнул жене.
Придвигая себе стул, он спросил Вальтера:
— Ну, как твой аппетит?
— Только подавай! — Вальтер лихо отбарабанил что-то ложкой по краю тарелки. — Сегодня шикарный обед. Я съем две тарелки, нет — три… — ответил он и посмотрел на мать.
Она выловила из кастрюли мозговую кость, молча разлила суп по тарелкам и первую подвинула сыну. Вальтер подставил лицо теплому пару и стал во всю мочь дуть на горячий суп.
— У меня уже в животе урчит, — пожаловался он. Потом посмотрел на улыбающегося отца и стал ему рассказывать:
— У Келльнера улетели голуби, сизари. Жаль, он обещал мне птенцов. Тогда и у нас были бы голуби. Дядя Келльнер выпустил их из голубятни, но оказалось, что они еще не привыкли.
Он усердно мешал ложкой суп, чтобы тот скорее остыл.
— А у нас в школе провалился пол. Нет-нет, мы не баловались, папа, — повысил он голос, видя, что отец нахмурился. — Провалился учитель Петерс; вдруг смотрим, а под ним треснули прогнившие доски. Видно, сильно лодыжку зашиб, да как крикнет: «Чертова нищета!» Вообще-то он запрещает ругаться. Но когда больно, и учитель забывает, что ругаться нельзя. Правда, правда! — Он глотнул первую ложку супа. — А участок перекапывать мы еще не кончили, — перевел он разговор на другую тему. — Отто рано утром вывез туда одну тележку навоза, а больше не успел. Мама толкала сзади. А я после школы сразу же отправился на гору и свез тележку вниз. Отто нагрузил ее свеклой. В этом году она с мышиный хвостик, сказал он. Не стоило и трудиться. Вниз везти легко. Обошелся без лямки, Отто порвал ее, когда вытаскивал тележку из борозды. Ну и ругался же он. И убежал на шахту без обеда.
Мальчик задумался.
— Теперь голуби наверняка в Вельфесгольце. Будто барону своих мало. Дядя Келльнер сказал, что голуби всегда летят к голубям. Он сердится и хочет сломать голубятню. Теперь мне птенцов не видать. Да и не стоит, они у нас все равно не приживутся. Папа, а ты не забыл про сланец с отпечатком рыбы? На следующем уроке рисования учитель Петерс даст срисовывать такой отпечаток. Вот я и хочу сначала дома попробовать. У господина Петерса все не так, как у других учителей. Из-за пола в нашем классе он уже ходил к бургомистру. Ведь весь класс может провалиться. А под нами старшие мальчики. Новая учительница из третьего как увидела, что нога господина Петерса застряла в гнилушках, так схватилась руками за голову. Эдакого она еще не видывала. Я думаю, господин Петерс особенно разозлился потому, что провалился на ее глазах. Ха-ха-ха…
— Ешь-ка суп, — шлепнула его легонько мать и улыбнулась мужу.
Но мальчишка продолжал весело болтать:
— Мне очень нужен отпечаток, пап.
— Черт побери! Отпечаток! Я ведь и впрямь начисто забыл о нем, — сказал Брозовский серьезно. Он любил младшего сынишку. — Завтра уж наверняка не забуду и попрошу его у дяди Рюдигера.
Мысленно Брозовский снова увидел Рюдигера в штреке и услышал, как он говорит о письме. Мальчик заглянул отцу в глаза.
— Правда, не забудешь? Может, лучше записать тебе на бумажке? У меня остался еще листок от старого календаря.
Он почувствовал, что отец думает совсем о другом.
— Отто взял кусок хлеба с салом и горчицей и ушел, не дождавшись обеда. Мы вернулись с огорода слишком поздно. Я не знал, что мама варит горох. Он долго варится. Мы даже не смогли разгрузить тележку, она так и стоит во дворе. Отто сказал, что сыт по горло, — продолжал болтать Вальтер.
Брозовский взглянул на жену. Но она смотрела в тарелку, будто ничего не замечая. Ну и что — у старшего лопнуло терпение. Это еще не причина волноваться. Все равно придется перекопать и засадить огород, а потом снять с него урожай. Так заведено издавна.
Огород! От одного этого слова кровь бросилась ему в голову. Арендованная земля ярмом висела на шее горняков. Работа на огороде, работа на шахте, опять на огороде и снова на шахте. Хозяева мансфельдского рудника знали, что делали. Каждому рабочему они навязывали полоску земли, чтобы приковать его к шахте. Когда Брозовский женился, его пригласили в кабинет штейгера.
— Неплохо ведь иметь свой клочок земли, Брозовский. Будет своя картошка, своя морковь, в хлеву — своя коза. Можно жить спокойно, станешь оседлым, не таким перекати-поле, как все городские.
Брозовский не понял скрытого смысла аренды. И когда штейгер навязал ему узенькую полоску земли, он подумал, что погреб, полный картошки, и впрямь лучше, чем пустая кладовка. Ему даже показалось, что теперь он сам себе хозяин.
Эти иллюзии давным-давно рассеялись. Когда горняки потребовали увеличения расценок, а им отказали — их, мол, не сравнишь с другими рабочими: у них своя земля, козы, свой картофель, — он понял, почему его так уговаривали взять ссуду на глиняную хибарку. Он стал сам себе хозяином, но уже не мог тронуться с места. Ссуда на дом, труд, вложенный в него, и огород связали его по рукам и ногам и удерживали на шахте.
Брозовский горестно вздохнул. Он понимал все. Владельцы мансфельдских рудников приковали своих рабочих к шахте и тем самым получили возможность диктовать им расценки.
Он плотно сжал губы. Когда же переписывать письмо, если надо запрягаться и перекапывать огород? Он понимал своего старшего. В его возрасте у человека совсем другое в голове. Не может он до и после смены только и думать что об огороде.
Несколько минут длилось молчание. Вальтер весело хлебал суп. Минна догадывалась, что происходит в душе ее мужа. Разговорам на эту тему не было конца, она их знала и — ненавидела. Мужчины больно высоко заносятся. А как добыть обед, об этом у них голова не болит. Она пододвинула мужу тарелку с мозговой костью.
— Дели.
Брозовский принялся очищать кость большим ножом. Мяса на ней было немного. Он положил жилистые кусочки на тарелку Вальтеру. Потом подставил ложку и, сильно стукнув костью, выбил из нее мозг. Что будет дальше, Вальтер знал заранее.
Отодвинув тарелку, чтобы не мешала, он навалился грудью на стол, вытянул шею, открыл рот и зажмурился.
— Рот открыть, глаза закрыть! Хоп!.. — Ложка в руке отца описала дугу. Мальчик подержал мозг на языке и с наслаждением проглотил его.
— Надо класть две кости, мам, и чтобы побольше мяса. Тогда сила будет. Ой, папа, а край-то поля еще не перекопан, — вспомнил он вдруг. — Мы ведь пойдем на огород? Уроков на дом не задано. Учитель хочет, чтобы в школе новый пол настелили. Учиться у него — одно удовольствие.
Брозовский снова глянул на жену. Она знала своего мужа и уже успела заметить, что у него совсем другие намерения. А потому решительно сказала:
— Пошли! А то как же? Ступайте, разгрузите тележку. Надо вывезти кормовую свеклу. Тележки три еще наберется.
Она убрала со стола. Брозовский вертел обглоданную кость в руках и смотрел на нее невидящим взглядом. Наконец он взял свою фуражку и вышел во двор. Вальтер выбежал вслед за ним.
— Надо еще ботву со свеклы срезать, — крикнул он отцу, который с мрачным видом смотрел на небо.
Тесный двор был похож на дно колодца. Задняя стена пятиметровой высоты была сложена из бута. За нею, вдоль гребня холма, пролегала соседняя улица. Жилой дом ограничивал двор спереди. Слева лепились сараи, справа к строениям соседа прислонился навес для тележки. Яма под удобрения возле каменной ограды и сколоченная рядом уборная почти не оставляли свободного места. Булыжник, которым был вымощен двор, никогда не видел солнца.
Брозовский отворил дверь хлева, взял серп, который был заткнут за перекладину на створке, и принялся отсекать свекольную ботву. Вальтер сбегал под навес и притащил корзину.
— Бросай ботву сразу сюда, папа. А я буду ее таскать в сарай.
Как только корзина наполнялась, он волок ее по проходу через хлев в маленький сарай. По пути он совал кроликам листья свеклы сквозь редкую сетку клетки. При его появлении пугливые зверьки стремглав бросались из верхних клеток в нижние, чтобы затем выглянуть из норы в задней глинобитной стене хлева. Кролики давно прогрызли задние доски клетки и отрыли себе норки в глиняной стене хлева, лепившейся к горе. Брозовский обычно и не знал, сколько животных в клетках. Крольчата показывались хозяевам уже подросшими. Только его жене удавалось выманить их всех. У нее они ели прямо из рук.
Над козой Вальтер тоже сжалился и бросил ей несколько листьев ботвы. Рядом в темноте возилась свинья. Недовольно хрюкая, она терлась боком о дверь и приподнимала ее рылом.
— «Этот год у вас не свинья, а заморыш какой-то, Минна, — сказал дядя Келльнер маме. — Совсем не оправдывает корма». А почему, папа? Как свинья может оправдать корм? — спрашивал Вальтер. — Нашу кормят три раза в день, а она не прибавляет в весе. Может, корм не годится?
— Просто в этом году не повезло, — ворчливо ответил Брозовский.
Вальтер хлестнул свинью кустом ботвы по щетинистому хребту. Она сразу забегала по хлеву не хуже кроликов.
— Жри! И толстей! Нам нужны мозговые косточки и побольше сала! — крикнул он и пригрозил ненасытной обжоре кулаком.
Вдвоем с отцом они снесли свеклу в погреб. Потом Вальтер притащил пару старых резиновых сапог, и Брозовский полез в яму. Стоя по колено в навозной жиже, он нагрузил тележку навозом. Но сапоги были рваные, и Брозовский поморщился, почувствовав, что промок.
Он работал через силу, от левой руки было мало толку. Они вытащили тележку на улицу. Вальтер принес порванную лямку. Покачав головой, отец связал концы гнилой веревки и впрягся в тележку. «Мало-помалу все разваливается», — подумал он, заметив, что лямка стала коротка. Вальтер встал рядом с ним. Крепко ухватившись за рукоять, он нетерпеливо поглядывал на дверь дома.
Мать вышла и воткнула принесенные лопаты в навоз. Брозовский тронул с места, она принялась подталкивать тележку сзади, с силой упираясь в нее обеими руками.
Это было сущим мучением. Через пятьдесят метров им пришлось остановиться и передохнуть. Вальтер сбегал к канаве, принес крупный булыжник и осторожно сунул его под одно из колес.
— Можешь убрать ногу. Не покатится, — сказал он матери, подпиравшей тележку.
Обливаясь потом, задыхаясь от натуги, они тащили тележку шаг за шагом в гору. Наверху пришлось долго отдыхать. От холодного осеннего ветра, гулявшего по опустевшим полям, начало знобить.
— Поехали! А то проклятый ветер совсем доконает, — проворчал Брозовский.
Его жена стояла спиной к нему, опершись о тележку, и тяжело дышала. Защищаясь от ветра, она прикрылась грубошерстным передником. Волосы ее блестели от пота. Перед ней раскинулась вся долина, но глаза ее ничего не видели — ни путаницы домов, ни извилистых улочек, ни пелены дыма из труб медеплавильного завода в Гетштедте, ни голых холмов, ни пахарей в просторе полей, ни рудоподъемных башен, ни рваных облаков пара над заводскими паровозами. Она видела только свои заботы — дорогу, тележку, огород, лопаты…
Поздний вечер. Брозовский, без пиджака, сидит за обеденным столом в кухне. Маленькая подвесная лампа под плоским абажуром дает скудный свет. Он опустил ее пониже и склонился над листом бумаги. Его жена молча примостилась на скамейке возле печи, с трудом перебарывая сон.
Держа корзинку, полную рваных носков, на коленях, она пыталась продеть в игольное ушко черную шерстяную нитку. Но руки ее дрожали, нитка никак не вдевалась. От работы лопатой пальцы одеревенели и не сгибались. Брозовский обмакнул перо в чернила. Первые корявые буквы появились на бумаге. Черновик письма лежал перед ним. Но написанное почти невозможно было разобрать. Кое-что пришлось писать по памяти.
Он испуганно вздрогнул, когда корзина с носками соскользнула с колен жены и ножницы звякнули о каменный пол.
— Все пишешь и пишешь, — сказала она с досадой. — Как тут не уснуть, когда ты все время молчишь.
— То, что я сегодня пишу, потом разбудит многих, — мягко возразил Брозовский.
— А почему всегда ты да ты? На тебе что — свет клином сошелся? Что ни день, то новости.
— Не так уж это ново, Минна. Давно пора было сделать.
— Да ведь я не против. Но почему обязательно ты? Для кого стараешься? Для этого Бинерта? Он пойдет на праздник фронтовиков и только ухмыльнется, когда ты вылетишь с работы.
Брозовский откинулся на спинку стула. До сих пор жена всегда поддерживала его. Больше того — когда он падал духом или не знал, на что решиться, она всегда ободряла его.
— Ты знаешь не хуже меня, что для рабочих никто и пальцем не шевельнет. Мы должны добиваться сами. Всего, что нам нужно. Даже если вокруг будут сотни таких, как Бинерт.
Минна уложила носки и нитки в корзинку. Он смотрел на ее натруженные руки, на седеющие волосы, изрезанное морщинами лицо, горькие складки по углам рта, заострившийся подбородок. Как она сгорбилась! Ему стало жаль ее. Неужели это его жена, подруга долгих лет? Раньше ему как-то не приходило в голову, что она состарилась раньше времени. Он хотел было подойти к ней и сказать что-нибудь ласковое, но сдержался.
— Все говорят, будто несколько шахт закроют, а половину рабочих уволят. Ну и кого же в первую очередь? Ясно, не Бинерта, этого лизоблюда! Он уже продался за кружку пива. А нам беды не миновать.
— Мы с теми, кто будет защищаться. Как бывало всегда. Разве нас не стало больше за эти годы? Нет, наше дело подвигается.
Минна Брозовская подняла на мужа печальные глаза. Она знала, что он говорит правду. Но ведь таких, как Бинерт, тоже много. Ей вспомнилось, как однажды Бинертша сказала:
— Если у власти окажутся эти, мы будем за них, а если те, то перекинемся к тем. Мы — люди маленькие, что мы можем? Будь довольна, что живешь на свете. Главное, чтобы у мужчин была работа. А остальное образуется. Много было тебе проку оттого, что твой старший верховодил, когда молодежь бастовала? Сидел потом два года на твоей шее, вот и весь прок.
Много ли ей было проку? Пришлось тащить двадцатилетнего парня на своем горбу. Даже пары штанов купить себе не мог.
Она не стала рассказывать об этом мужу и только тяжело вздохнула.
— Пойду спать. Долго не засиживайся. Тебе в четыре утра вставать. Спокойной ночи!..
Шаркая, она направилась через прихожую в спальню. Брозовский уронил голову на руки. Боже, почему все так невыносимо тяжело? Вот у него жена, хорошая жена; она не из разговорчивых, но голова у нее работает, и она хорошо знает, где свои, а где чужие. Откуда же у нее эти сомнения?
Бинерт, тот и вправду жил всю жизнь, как баран в стаде. За это его и с фронта отозвали. Вкалывал всю войну по полторы смены в сутки. И что получил? Инфляцию да вот разве еще спальный гарнитур в приданое дочери.
Брозовский даже застонал. Сосредоточиться никак не удавалось. Проклятая нация! Он сжал зубы так, что челюсти заныли. Ведь товарищи ждут, они поручили мне выразить их стремления и заботы. И разве это не мои собственные заботы?
Он принялся писать, потом порвал написанное и начал снова. «Только не сдаваться!» — подумал он и расправил плечи. Перо уверенно заскользило по бумаге.
Закончив, он почувствовал озноб. В горле пересохло. Он зачерпнул ковшиком воды из ведра и стал пить большими глотками. Потом погасил свет.
Чтобы не разбудить жену, Брозовский разделся в темноте. Когда он приподнял одеяло и улегся рядом на шуршащий соломенный тюфяк, то ощутил тепло ее тела. Минна вздрогнула от его прикосновения, и он понял, что она не спит.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Неделя — долгий срок. Если ее делить на каждодневные смены и на скудный досуг, который удается провести в кругу семьи, получается шесть тяжелых рабочих дней. Длинную дорогу до шахты и обратно никто не считает. Седьмой день — выходной. Тогда человек пытается выпрямиться. Тело его отдыхает и накапливает свежие силы. Но когда неделю приходится делить на подневольный труд в шахте, изнурительную работу на огороде, уход за скотом и хлопоты по двору и дому, тогда тело забывает об отдыхе. И неделя становится бесконечной. Она захватывает и воскресенье, которое пожирает огород. Такая неделя превращает жизнь в серую безотрадную пустыню. Тогда уже не чувствуешь собственного тела, голова пуста, глаза горят, спина болит и пропадает сон.
Если человек к тому же со дня на день ожидает чего-то значительного, если он, смертельно усталый, ворочается с боку на бок без сна и встречает утро, погруженный в несбыточные мечты, то неделя превращается в долгую и мучительную пытку.
И вот такая долгая неделя прошла. Брозовский ждал письма. Минула и вторая. Брозовский все ждал. Недели шли чередой. Брозовский продолжал терпеливо ждать. Недели ожидания висели на нем, словно тяжелые цепи. Брозовский становится раздражительным, ссорился с женой, бранил Вальтера, ворчал на старшего сына — короче, злился на муху на стене.
В шахте его донимали расспросами:
— Ну, так где же ответ? Может, они нас и знать не хотят? Ох, уж эта писанина! Кое-кто хвастал — мол, раз-два и готово. А на деле-то — все мимо.
Он подбадривал, пожимал плечами, сторонился и в конце концов перестал отвечать на нетерпеливые, насмешливые или язвительные вопросы…
В кухонной печи ярко пылал огонь. На дворе было холодно и сумрачно. Вечерние беседы семьи Брозовских проходили теперь под треск поленьев. Отец сидел против сыновей багровый от злости.
Как нередко в последнее время, и сегодня ужину предшествовал неприятный разговор. Старший в сердцах махнул рукой и уставился в потолок. Его жест означал: с тобой стало невозможно разговаривать. А письмо ты все-таки послал не по тому адресу.
Брозовский тоже в сердцах схватил газету и спрятался за нею. Но читать не мог. Минна грозно гремела посудой, как будто этот шум мог предотвратить ссору.
Старший сын Брозовских был вылитый отец и внешностью и характером. С подчеркнуто независимым видом он взял с подоконника школьный географический атлас Вальтера и открыл его. Закладка из газетной бумаги помогла ему сразу найти нужную страницу. Указательный палец заскользил по зеленой поверхности географической карты Советского Союза в поисках Кривого Рога. Вальтер тотчас повис у него на плече: его взгляд следовал за пальцем Отто, который двигался вдоль Днепра по направлению к Крыму.
— Должен быть где-то здесь. Вот тут, где я сделал кружок карандашом… Но Кривого Рога здесь почему-то нет. Наверно, карта слишком мала. И вообще твой атлас дерьмо, — раздраженно процедил Отто.
— Ну, ну, потише! — остановила его мать.
Отто с недовольным видом отшвырнул атлас.
— Но ведь все остальное здесь есть, — запротестовал Вальтер. — Вот, смотри, карта Мансфельдского района, здесь даже все шахты нарисованы. — Он ткнул пальцем в карту. — Вот где он должен быть, где большая излучина. Господин Петерс тоже говорил, что Кривой Рог на Украине, возле Днепра, или как он там называется.
— Ваш учитель тоже говорил об этом?
— Ага, и не раз. Он ведь знает, что наш папа написал письмо.
— Да? Откуда же?
— Почем я знаю? На большой карте в школе Россия тоже вся зеленая. Совсем как в моем атласе. Господин Петерс говорит, что на самом деле она красная. В этих картах сам черт ногу сломит. Вот здесь, где начало Америки, карта красная. Почему же Россия на карте не красная?
Отто пожал плечами. Но Вальтер не отставал.
— А почему на карте России так мало городов и сел? На самом деле их ведь много. Вот здесь их полно, — почти каждая деревня обозначена, одна возле другой…
Большой палец Вальтера пересек границы Верхней Силезии и Саксонии.
— А здесь, — его палец снова возвратился к пустынным пространствам Украины и Сибири, — здесь у них, наверно, кончилась вся краска. Так что Кривой Рог уже рисовать было нечем. Да?
— Ну, краски-то у них хватает, даже красной. Просто они хотят внушить людям, будто Советская Россия — пустое место. Одна голая степь да грязь.
Отто достал из жилетного кармана помятую сигарету, сунул в огонь печи бумажную закладку и, не торопясь, прикурил. Но сигарета была старая, часть табака высыпалась, и, когда он прикуривал, язычок огня слизнул половину сигареты.
— А, дерьмо! — Отто зло поджал обожженные губы.
— Пусти кольца! — попросил Вальтер брата.
Изо рта Отто в сторону Вальтера поплыло большое кольцо. Мальчик, растопырив пальцы, попробовал схватить его, но это ему не удалось: от прикосновения оно тут же растаяло.
— Директор очень ругал господина Петерса. Чтобы он не смел говорить ученикам, будто Россия только на карте зеленая. А то он заявит куда следует. Куда же он может заявить? Ведь главнее его в школе никого нет?
— Гляди-ка! — Отто засмеялся. — У вас, оказывается, школа что надо. Обсуждают письмо в Кривой Рог и объясняют, почему на самом деле Россия не зеленая. Черт возьми! Ваш учитель молодец! Но доходит ли все это до детей, вот что я хотел бы знать.
Эти слова больше относились к отцу. Но Брозовский не шевельнулся, хотя газета слегка подрагивала в его руках — верный признак того, что он слушает.
— А еще директор сказал, что, если кто хоть раз придет в школу в пионерской форме, он с него шкуру спустит.
— Смотри пожалуйста, занятный у вас директор. А зачем, собственно, он к вам пожаловал? Из-за карты?
— Да нет же! Из-за пола. Его ведь так и не починили. Вот он и пришел взглянуть. Очень долго рассказывал о каком-то разрешении. Господин Петерс сделался совсем красный от злости. Лучше бы занялись полом, сказал он директору. А что касается уроков, то он сам знает, что и как преподавать. Тогда директор и вовсе взбеленился. И почему-то все время глядел на меня. Это моя рубашка бесила его. Я ведь по пятницам всегда одеваю пионерскую рубашку. Потому что сразу после уроков мы отправляемся на сбор. Нас уже пять пионеров в классе! А что, разве я не могу одевать, что хочу?
Отто захлопнул атлас.
— Ты можешь одевать, что хочешь.
Вальтер удовлетворенно кивнул.
— Линда Бинерт ведь всегда в луизиной блузе щеголяет. Ей, значит, можно?
— А это еще что такое? — спросила матушка Брозовская.
— Это такая форма в Обществе королевы Луизы
[1]. Жена Бинерта тоже в нем состоит. Ну, у них своя форма. Ты же знаешь, черное с белым. Господин Петерс говорит, что они пруссаки старого закона. Что это значит?
— Ваш Петерс, видать, учитель что надо. — Отто бросил окурок быстро истлевшей сигареты в печку и стряхнул табачные крошки с жилета.
— Он даже играет с нами в футбол на уроках физкультуры.
— И ты, конечно, тоже там в ногах путаешься. Вот почему у твоих башмаков опять сбитые носки. Хорош учитель — учит детей баловству! — Брозовская поставила посуду на стол. — Подвиньтесь-ка! — хмуро бросила она сыновьям.
По столу растеклась лужица. Старший, ворча, отодвинул атлас и пересел чуть подальше. Отец сердито выглянул из-за газеты.
Отто вызывающе посмотрел на него.
— Сегодня Юле Гаммер опять спрашивал, пришел ли наконец ответ. Передай, говорит, твоему старику, пускай побеспокоится. Он меня очень просил не забыть об этом. Учти, шахтеры на тебя зуб имеют. Что ж, они правы.
Отто бросил эту фразу так, как будто говорил с чужим человеком, хотя отлично знал, что отец такого не потерпит.
Брозовский взорвался:
— Этому верзиле лучше бы помалкивать! И тебе тоже. Эх вы!.. Я сижу как на угольях, а вы только и знаете, что трепаться.
Он вовремя удержался от ругательства, которое так и вертелось на языке. Но Отто не сдавался:
— В таком случае наша газета не должна в каждом номере заново обсасывать всю эту историю. Шахтеры хотят знать, в чем загвоздка. А то и в самом деле получается, будто их обдуривают. Не может ведь письмо идти полгода.
— Замолчи! Вы только людей баламутите.
— Не мы, а вы!
— Это же черт знает… Тебе лишь бы покритиковать. А чтобы самому взяться за дело — кишка тонка.
— У молодежи дела идут отлично. Спроси Пауля Дитриха, он тебе скажет.
— Этот умник тоже только и знает, что разглагольствовать.
— Как бы там ни было, люди хотят поскорее получить ответ.
— Ну, хватит! — Минна Брозовская, подбоченясь, остановилась посреди кухни. — По-твоему, ответить на такое письмо — раз плюнуть? Твой отец потел над ним несколько недель. Болтаете, а дальше своего носа не видите. Это ведь не ближний свет. В свое время дойдет.
Отто испытующе посмотрел на мать. Значит, ее терпению тоже пришел конец. Тогда не удивительно, что нельзя стало и слова вымолвить.
— Ладно, пойду выпью кружку пива, — вызывающе бросил он и направился к двери. — Спорить с вами бесполезно. Все слова впустую.
— Ступай. А ты марш в постель! — Мать с ходу принялась за Вальтера. — Каждый вечер одна и та же свара!
Вальтер заплакал. Брозовский яростно скомкал газету и швырнул ее за ящик с углем. Это уже невыносимо!
Было слышно, как в прихожей Отто насвистывал: «На бой кровавый…»
В дверях он столкнулся с Юле Гаммером и Паулем Дитрихом.
— Твой старик дома? — спросил Юле.
— Как раз тебя только и не хватало. Давай заходи. Я сматываю удочки. С меня на сегодня довольно.
Смеясь, Юле толкнул дверь кухни.
— Мы только на минутку, Отто. Ну, как дела? Так долго ведь и в самом деле тянуться не может. Наверно, что-нибудь случилось.
На лице Брозовского можно было прочесть все сразу: и нетерпение, и досаду, и беспокойство, и упорство.
Они все еще сидели на кухне, когда около полуночи, что-то насвистывая, возвратился подвыпивший Отто. В прихожей пахло самосадом Юле Гаммера. По кухне плавали облака сизого табачного дыма, шахтеры жарко спорили. Каждый доказывал свою правоту.
— Ну, как, обсуждаете полученный ответ? — съязвил Отто и наигранно расхохотался.
Отец бросил на него мрачный взгляд.
— Марш спать! Пьянчуга!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Первый снег уже заявил о себе холодом и свинцовыми тучами. Всю осень Брозовский терпеливо ждал, ждал, несмотря ни на что. И вот теперь, придя домой после второй смены, увидел, что в их кухне битком набито. Друзья давно ожидали его и встретили шумно и радостно. Письмо пришло днем. Весть о нем быстро разнеслась по городу. Тут уж постарался Отто. Он весь сиял и только удивлялся, что какие-то незнакомые люди передавали новость скорее его. То здесь, то там его останавливали и спрашивали:
— Почтальон, а почтальон, ну и что же в этом письме сказано?
— Скоро узнаете. Можете быть уверены! — И Отто мчался дальше…
Все семейные распри были сразу забыты. Минна бережно, как реликвию, спрятала письмо на груди; ей хотелось самой вручить его мужу. Отто еле уговорил мать распечатать конверт до прихода отца и проглотил все одним духом. Письмо было написано по-немецки, но немного нескладно.
Чтение письма превратилось в настоящий праздник. Отто уже в третий раз перечитывал его вслух. Наконец Брозовский взял у него листок и прочитал все сам, строку за строкой. Ну, конечно, — советские горняки тоже обдумали каждое слово, отметил он с удовлетворением. За строками письма угадывалось гораздо больше…
В тот же вечер Рюдигер обрадовал всех еще одной новостью: в Советский Союз поедет делегация немецких рабочих. От мансфельдских горняков нужно было выбрать одного делегата. По единодушному мнению собравшихся, единственной подходящей кандидатурой был сам Рюдигер.
Брозовский заметил, что Рюдигер польщен мнением товарищей, и дружески кивнул ему. Тот достал из внутреннего кармана пиджака несколько листков бумаги и обратился к Паулю Дитриху:
— Ну, как, редактор, сумеете выпустить дельную газету? Местечко еще найдется? А то я тут небольшую статью набросал.
Рюдигер шутил. Он отлично знал, что Паулю вечно не хватало материала. Шахтеры не очень-то охотно брались за перо.
Пауль Дитрих пробежал листки глазами.
— Начнем прямо сейчас! Кто поможет?
— Я! — порывисто вскочил молодой Брозовский.
Отец его невольно улыбнулся.
— Ну, конечно! Однако, помнится, совсем недавно кто-то говорил, что газета без конца обсасывает эту историю.
— Что было, то прошло! — перебил его Отто. — Кто старое вспомянет…
Разошлись поздно. Два дня спустя Отто разбудил отца ни свет ни заря.
— Значит, как договорились. Собрание состоится на шахтном дворе. Первая и вторая смена вместе. Газета уже готова, все напечатано. Во, получилась газета! Не опаздывай. Тебе поручено зачитать письмо.
Отто выбежал на кухню — отмывать руки от краски. Они печатали газету в мансарде у Пауля. Мать бросилась приготовить ему кофе.
— Некогда! — крикнул он уже с порога.
Все утро до начала смены Брозовский возился во дворе, сметая свежевыпавший снег к яме с удобрениями. Минна поглядывала на него в кухонное окно. Потом крикнула:
— Кончай! Раз хотите провести собрание до смены, пора идти.
— Наш секретарь в Эйслебене считает, что теперь-то шахтеры обязательно расшевелятся. Тут и письмо, и выборы делегата. Рюдигер говорит, что он буквально сияет от радости.
Брозовский весело мурлыкал себе под нос. Минна посмеивалась — ну, просто помолодел старик.
— Конечно, хорошо — люди живут в такой дали, а ответили. Но тебе все-таки пора идти, — настаивала она. Минна явно гордилась тем, что письмо написал ее муж.
Брозовский нарочно медлил, хотя мороз уже щипал пальцы. Еще утром он заметил Бинерта, маячившего перед дверью своего дома. И не хотел, чтобы сосед испортил ему настроение.
Откровенно говоря, он старался обходить Бинерта стороной. Упорно уклонялся от встреч, избегал ходить с ним вместе на работу и возвращаться с нее. К тому же сегодня у него в кармане куртки похрустывало письмо русских горняков. Но обычный трюк — сделать вид, будто он что-то забыл дома, — не помог. Когда он снова вышел на улицу, Бинерт торчал на том же месте. Такая назойливость настораживала. Ничего не поделаешь. Даже тощий Боде, который всегда последним входил в ворота шахты, и тот уже давно пробежал вниз по улице.
— Ну, Отто, пошли, что ли, — сказал Бинерт с наигранным добродушием и зашагал рядом.
Брозовский буркнул что-то в ответ. Вдобавок ко всему он заметил, что у Бинертов в одном из окон зашевелились занавески. Заколебались серебряные лавровые листья над цифрой «25» на цветочном горшке, который стоял на подоконнике еще со дня серебряной свадьбы в прошлом году. Кто-то поспешно отпрянул от окна. Значит, жена Бинерта проверяла, удалось ли ее мужу прицепиться к нему. Стало быть, сосед поджидал его по уговору с женой, — ясно, им нужно что-то разнюхать.
Бинерт готов был пропустить мимо ушей любую грубость. Жена недаром наставляла его, как себя вести. Он приноровился к шагу Брозовского и заговорил о погоде.
«Ишь лицемер!» — подумал Брозовский. Но он ошибался. Бинерт и вправду думал только о погоде. Думать о двух вещах одновременно было ему не по силам. Он не спеша на ходу набивал свою трубочку.
«Одних стеблей напихал, скупердяй, от жадности будет скоро козий помет курить», — презрительно подумал Брозовский.
Закашлявшись, Бинерт выдохнул едкий дым.
— Дрянь, а не табак, и что ни день, то хуже. А ты разве больше не куришь?
Брозовский почти не курил, лишь изредка позволял себе хорошую сигару. Обычно он носил одну в нагрудном кармане, чтобы выкурить по какому-нибудь особо торжественному случаю. И вот он не спеша расстегнул куртку, достал толстую заграничную сигару и, хотя наружный лист был уже немного обтрепан, смакуя, откусил кончик и прикурил у Бинерта. «Пускай этот жадный пес видит, как я живу. Его старуха наверняка опять урезала ему карманные деньги».
До самой ратуши они вяло беседовали о том о сем, Бинерт перешел с дождя и грязи на первые заморозки. Поскользнувшись на комьях глины, оставленных на свежем снегу только что проехавшими телегами со свеклой из имения барона, он заговорил о затянувшейся уборке сахарной свеклы, потом бранил плохую очистку улиц и высокий налог за дом и, наконец, добрался до главного — до письма.
— Не води меня за нос, Отто. Это всем известно. И все говорят, что писал ты. Да и ответ пришел на твое имя. Даже штейгер Бартель спрашивал меня. Он думает, что раз я твой сосед, то должен знать. Ну, что ж, оно, конечно, так, но… — обиженно заключил он, когда Брозовский перестал поддерживать разговор. Упоминание Бартеля развязало Брозовскому язык:
— Ишь ты, и Бартель туда же. С каких это пор вы с ним друзья-приятели? Я смотрю, ты идешь в гору.
— Ну, а сегодняшнее собрание? Ведь ответ тоже ты будешь читать. Об этом каждый знает. Не строй из себя дурачка. Что ж, по-твоему, служащие на шахте глухие, что ли? На почте обглядели это письмо со всех сторон. Ну и марки на нем, говорят, полконверта ими заклеено. Еще до того, как почтальон вручил его тебе, весь город уже знал. Моя жена слышала об этом в Женском союзе. И пасторша тоже в курсе.
На щеках Брозовского выступили багровые пятна. Когда он взглянул Бинерту прямо в глаза, тот не выдержал и отвернулся. «Опять я наболтал лишнего!» — подумал он. Костлявый кадык его нервно задергался, тощая жилистая шея вытянулась, а физиономия с жесткими усами уставилась на башенные часы.
— Скоро час, надо поднажать, — сказал он, чтобы переменить тему разговора, и прибавил шагу.
Брозовский долго обдумывал ответ, хотя у него язык чесался от нетерпения.
— А в Союзе фронтовиков еще не собирались, чтобы обсудить эту сенсацию? Женский союз и Союз фронтовиков, пастор и почтмейстер, полицейский и оберштейгер — одна компания. Доносчики, обыватели, шептуны, жандармы и их прихлебатели, — процедил Брозовский сквозь зубы.
— Я давно знаю, что ты обо мне думаешь. Но каждый ищет общество по себе. Вам завидно, что я вожу компанию с людьми не вашего полета. И дочь у меня вышла за горного инженера. Хотя многим это было не по нутру. Слушай, что я тебе скажу: все это одна зависть! Вы поносите всякого, кто с вами не согласен. А для кого я стараюсь? Для себя, что ли? У меня семья, дети, и я хочу, чтобы они жили лучше нас. Добейся-ка сперва того, чего я достиг. Нет, упаси меня боже, — с вами мне не по пути!..
Бинерт разошелся вовсю. Он буквально из кожи лез вон, стараясь пустить пыль в глаза. Его немощная старческая рука с трубкой назойливо мелькала перед лицом Брозовского. Уж очень ему хотелось показать свое превосходство.
— Вот, вот! И боже тебя упаси, и сам опасайся. Рабочий, ставший на скользкий путь, должен опасаться вдвойне. Между прочим, правильно ты говоришь: «с вами». Нас действительно много.
— Имей в виду, если вы затеваете забастовку, то я участвовать не буду! — Бинерт сплюнул.
Брозовский сдвинул фуражку на затылок. Уф, даже в пот бросило. Забастовка, вот что их беспокоит! Их охватил страх, и не без причины. Сразу засуетились. Плохого же они подослали лазутчика — выбалтывает то, что надо скрыть.
Брозовский взглянул на Бинерта. Когда тот кричал, были видны зубы, большие и желтые, как у лошади. «Этот не укусит, — подумал он. — Только нос везде сует. Как попугай повторяет, что ему скажут, и доносит, если удастся что-нибудь пронюхать. Видать, господам, которые его подослали, не удалось найти шпиона поумнее».
— Ну, Эдуард, а еще что тебе напел твой приятель Бартель? Что еще его интересует? — Теперь Брозовский спрашивал добродушно, он совершенно успокоился. Когда он стоял на твердой почве и знал, откуда ветер дует, он чувствовал себя уверенно.
Растерявшись, Бинерт только развел руками.
— Послушай-ка, сосед, оба вы со штейгером не были на фронте и четырех месяцев. На рождество тысяча девятьсот четырнадцатого года вы сидели уже дома. Фронту нужна была медь, и акционерное общество отозвало вас с передовой. Как же, ведь вы их опора. Верно? А мне пришлось хлебнуть горя до дна. И когда моя рука вышла из строя, меня еще заставили охранять лагерь французских и русских военнопленных. Бедняги дохли от голода как мухи, дизентерия валила одного за другим, не обошла и меня. Все это приоткрыло мне глаза…
К Бинерту наконец вернулся дар речи, и он торопливо перебил:
— Я тоже хотел сражаться, но ведь меня отозвали, я нее не увиливал.
— Знаю, Эдуард, знаю. Ты очень хотел заслужить Железный крест и, конечно, воевал бы не хуже меня. Теперь ты член Союза фронтовиков, и тебе очень недостает этой побрякушки. Неужели ты думаешь, что двенадцать тысяч горняков такие же болваны, как ваша братия? Неужели ты думаешь, что они станут послушно вскакивать и кланяться, стоит такому, как Бартель, дернуть за ниточку? Стар ты стал, Эдуард. Тридцать лет тому назад — еще молодым стрелком — ты участвовал в избиении социал-демократов, — помнишь, в ресторане «Прусский двор», в Эйслебене, вы били их железными прутьями, вырванными из ограды; тогда ты еще был на что-то годен. Тогда ты был еще крепок. За пару кружек пива и водку, что поставил штейгер, ты мог и не такого натворить. Конечно, то было давно. Нынче штейгеру Бартелю уже трудно найти таких, кто за выпивку готов на все. Советую поразмыслить над этим. Тебе уже за пятьдесят, и у тебя, как ты сам говоришь, семья. А долго ли тебе осталось жить? Шахта съела былую силу Эдуарда Бинерта. Теперь выплевываешь собственные легкие.
Бинерт и вправду сплюнул. На белом снегу осталось темное пятно.
«Ох, уж этот Брозовский, голодранец, арестант! Еще в двадцать первом угодил за решетку. Дома у него босоногие детишки с голоду пухли, а он все глотку драл, все совал свой нос, куда не следует».
Бинерт смолчал. Он чувствовал себя не в своей тарелке, как уже бывало не раз. Он сознавал, что в этом мире не все благополучно. Но скрывал это даже от жены. Ей и догадываться не следовало, что иногда он признавал правоту Брозовского. Разве инфляция не съела его гроши, накопленные с таким трудом? Все денежки, что он сэкономил за время войны и после нее? Съела, факт. И разве Брозовский не предсказывал этого? Но его старуха тогда ничего и слышать не хотела! Всю жизнь точили Бинерта сомнения. Правда, тогдашние социал-демократы не имели ни чести, ни совести, так говорили все, так что ему не в чем себя упрекнуть. А Брозовский даже коммунист, что гораздо хуже. Черт побери! И к тому же его сосед. Да разве может быть правда на его стороне?
Во время путча, в двадцать первом, полиция перерыла весь дом Брозовских. Потом они засадили его в Лихтенбург. Вот что он получил, дурак. Бинерт не любил вспоминать о том, что полицейские не обошли и его дом. И один подвыпивший громила даже сильно двинул его прикладом по спине. Тут старуха права. Им досталось только потому, что они жили по соседству с этим негодяем. И почему полиция не делала никаких различий между ними? Это и по сей день оставалось загадкой для Бинерта. Старого Келльнера они избили только за то, что он потребовал от них человеческого обращения. А этот Брозовский, много ли было проку от того, что он драл глотку за других? Одни неприятности. Бинерт похолодел. До него вдруг дошло, что Брозовский делал это не для себя. «Чепуха! Брозовский — одержимый, он без смуты просто жить не может, — подумал он. — Идиот, ведь из-за этого он даже лишился такой хорошей должности, как механик насосной! Разве он может быть прав?»
— Ты тоже скоро образумишься. В твои годы вроде бы пора, — сказал Бинерт. — Глупой башкой стену не прошибешь. Рабочий должен приспосабливаться. Мы не хозяева и никогда ими не станем. Знай сверчок свой шесток…
— Каждый в отдельности — и вправду слаб. Впрочем, у каждого своя голова на плечах. А у иного к ней и рога в придачу.
Эх, была бы под рукой палка! Брозовского часто одолевал соблазн выбить из Бинерта его тупость. Тысячи раз сцеплялись они — возле дома, в душевой, по дороге на шахту. Иногда ему казалось, что Бинерт начинает кое-что кумекать, — например, в тот раз, когда в шахте произошло несчастье с его сыном и он умер лишь потому, что не пришла карета «скорой помощи». Брозовский помог тащить носилки в больницу — за целый километр от шахты. Но потом Бинерт опять перекинулся. Во время президентских выборов он голосовал за Гинденбурга, но когда был плебисцит и дело касалось денег и претензий князей, то он оказался опять на стороне рабочих. В тот раз он даже повздорил с женой, которая вместе с монархистами из Общества королевы Луизы поддерживала династию и престол. Нет, дарить миллионы дезертировавшим монархам он не желал. И вот уже много лет Брозовский избегал Бинерта. Говорить с ним — что толочь воду в ступе…
Улица круто поворачивала к шахте. Высокий копер Вицтумской шахты был виден на много миль вокруг, стальные конструкции гордо, как символ, высились над отвалом. Колеса подъемника вертелись с такой скоростью, что казалось, остановись они — спицы непременно вылетят из своих гнезд.
Чем ближе они подходили к воротам, тем гуще становились толпы горняков, спешивших на смену. Увидев, что люди уже собираются на шахтном дворе, Брозовский ускорил шаг. Бинерт потрусил было рядом, но вскоре запыхался и
отстал.
У ворот продавали рабочую газету. Брозовский кивнул продавцу. Не спеша доставая кошелек, он улыбнулся и сказал:
— Вот, кстати, и газета наша вышла. Ну-ка, посмотрим…
Он держал листок нарочно подальше от себя, как будто не мог читать без очков. Заголовок был напечатан большими буквами и бросался в глаза: «Ответ из Кривого Рога». Брозовский читал вслух, чтобы привлечь внимание пришедших после него. Вахтер уже несколько раз прогонял от ворот продавца газет, ссылаясь на то, что территория эта принадлежит Мансфельдскому акционерному обществу; теперь же он счел дальнейшие переговоры ниже своего достоинства и, ворча, удалился в сторожку.
— Иди сюда, купи газету, — позвал Брозовский Бинерта, который приближался с обиженным видом. — Здесь говорится о самом важном, что произошло в руднике — под землей и на поверхности. Для каждого своя доля новостей. В нашем заведении, кажется, не все в порядке. Новостями интересуешься не только ты один. Однако не каждый решится покупать эту газету на глазах у всех. Бери, Эдуард. Знаешь, дай ему сразу несколько экземпляров, — сказал он продавцу.
Бинерт нехотя полез в жилетный карман за мелочью. Он отдал ее с явным сожалением. Она ведь предназначалась для недельной порции табака. Но любопытство было сильнее.
Продавец рассмеялся.
— Последние три штуки. Пятнадцать пфеннигов. Спасибо за выручку!..
Бинерт поморщился и торопливо спрятал газеты.
Брозовский с трудом пробрался через людской водоворот к раздевалке. Оглянувшись, он заметил, что Бинерт не пошел за ним, а направился к конторе.
На лестничной площадке перед раздевалкой стоял Юле Гаммер и рокотал:
— Наконец-то! Беда с тобой. Даже ты опаздываешь. На кого же тогда можно положиться?
Брозовский за руку поздоровался с Гаммером. Юле в отместку за опоздание ответил пожатием, от которого у Брозовского чуть глаза на лоб не вылезли. Пальцы его побелели.
— Что с тобой стряслось? Я созвал людей и стою перед ними как пень. С тобой в последнее время что-то неладно. Посмотри-ка…
Юле показал на толпу горняков, тесно сгрудившихся на шахтном дворе. То и дело раздавался сигнал к подъему. Шахтеры утренней смены группами вливались в толпу.
— Начнем? Вот это, я понимаю, собрание, все до единого явились. — Гаммеру было невтерпеж.
Рюдигер попросил его не спешить и отвел Брозовского в сторону. На лестнице появилось несколько членов производственного совета. Один из них брюзжал:
— Это политическая акция. Я в ней участвовать не буду. Предупреждаю еще раз: это даст дирекции повод для вмешательства и принятия любых ответных мер. Производственный совет в качестве законно избранного органа не может участвовать в таком деле.
— Специалисты по привычке опять отмежевываются. Лаубе, видно, струсил, — громко и раздельно произнес Юле Гаммер.
Брозовский не спеша повернулся к Лаубе.
— Ты, наверно, знаешь гораздо больше, чем говоришь? Чьи интересы ты защищаешь? По закону совету полагается изучать условия труда на однородных предприятиях. До сих пор никто этим не занимался. Что ты на это скажешь? — В его голосе звучала насмешка.
— Но не в чужой стране. А тебе вообще не полагается обсуждать этот вопрос, Брозовский, ты ведь не член совета. Только показываешь, как вы все умеете запутать.
В разговор вмешался худощавый забойщик:
— Чего распетушился? Собрание созвано по решению большинства совета. И не заводи опять старую песню. Хватит, наслушались досыта на заседании. Начинайте!
— Я снимаю с себя всякую ответственность.
— Снимай, а пока освободи место, — отпарировал забойщик и подтолкнул Брозовского и Рюдигера вперед.
Как раз в это время машинист подъемника остановил клеть. Он выглянул в окно машинного отделения и кивнул Рюдигеру. Последняя группа шахтеров, возвращавшихся со смены, спустилась по настилу подъемника.
Рюдигер привстал на цыпочки.
— Товарищи! — Его звонкий голос проник в самые дальние уголки шахтного двора. Две тысячи лиц повернулись в его сторону. — Сегодня мансфельдцам предстоит избрать своего представителя в делегацию горняков, которая поедет в Советский Союз. Такие же собрания проходят сейчас и на всех остальных шахтах и металлургических заводах. Для начала будет зачитано письмо, которое прислали горняки Кривого Рога в ответ на наше.
Он отступил назад.
— Давай читай, — сказал он Брозовскому.
Брозовский достал из нагрудного кармана письмо и развернул его. Подойдя к краю лестничной площадки, он заметил у ламповой Бартеля и Бинерта. Между ними смутно маячила еще одна фигура. Он догадался, что это был Барт — закадычный друг Лаубе. Из коридора табельной во двор высыпали служащие шахты.
— Все штейгеры тут, ишь ты, — пробасил Гаммер. — И Барт там, где его место. — Он показал на члена совета Барта, который выглядывал из-за спин Бартеля и Бинерта. — Ну, что ты теперь скажешь о своем дружке, Лаубе?
— Я отвечу, когда опять придется защищать некоторых от имени профсоюза в суде по разбору трудовых конфликтов. Тогда я понадоблюсь.
— Ты что это?.. — Гаммер направился было к Лаубе. Но Рюдигер встал между ними.
— Брось ты эти выходки!
Брозовский читал медленно и торжественно.
— «Немецкие друзья, товарищи! Спасибо за ваше письмо и братский привет. Мы, горняки Кривого Рога, помним тяжелое ярмо своего недавнего прошлого…»
На обширном шахтном дворе стало совсем тихо. Многие уже прочли письмо в газете, но голос Брозовского вдохнул в него новую жизнь. Простые строки растравили старые раны. Что происходило по эту сторону границы? Здесь инфляция сменялась дефляцией и девальвацией. И все — за счет рабочих. Адвокаты и генеральные директора обещали рай небесный на земле. Да рай обернулся адом. Их прихвостни болтали о болезни капитализма и лекарствах от нее. А кто платил за медикаменты и за лечение?
— «…передаем рабочим мансфельдских шахт и металлургических заводов наш привет. Приезжайте и посмотрите, как мы живем. Посмотрите, как мы сами, без хозяев, справляемся на наших предприятиях и как строим социализм».
Когда грянули аплодисменты, галки, гнездившиеся под крышей породоотборки, в испуге взметнулись ввысь. Две тысячи пар мозолистых ладоней огласили двор громом рукоплесканий.
Но вот шум утих, и над собравшимися зазвенел чей-то молодой голос:
— Давайте выбирать делегата! И пусть он туда к ним съездит. Я предлагаю Рюдигера. Он не подведет! А потом расскажет нам, как там и что.
Толпа подхватила последние слова:
— Пускай едет Рюдигер!
— Рюдигера!
Этот хор сделал выборы ненужными. Мощный бас Гаммера, спросившего — нет ли других предложений, был еле слышен сквозь шум.
— Рюдигера! — кричали в ответ.
Некоторые скандировали это имя хором.
— Послать Рюдигера!
— Только не забудь съездить в Кривой Рог! — крикнул Рюдигеру Генрих Вендт.
Лес поднятых рук утвердил кандидатуру Рюдигера. Когда тот начал благодарить за доверие, откуда-то сверху раздался властный голос:
— Немедленно очистить двор! Второй смене спуститься в шахту. Это собрание противозаконно. Прекратить немедленно! На территории предприятия политические акции запрещены! Генеральная дирекция требует соблюдения установленных порядков.
Каждый из двух тысяч узнал резкий голос оберштейгера. Но он потонул в лавине возмущенных и насмешливых выкриков. Из-за строений вблизи конторы показался отряд из двадцати пяти полицейских. Шум перешел в крик. Множество рук в мгновение ока расхватало штабель рельсовых накладок. Полицейские отказались от попытки пробраться сквозь толпу к лестнице раздевалки и сосредоточились у ворот. Бледное лицо оберштейгера, маячившее в окне над настилом, исчезло, когда метко брошенный камень разбил стекло.
* * *
Вечером накануне отъезда Рюдигер вместе с женой пришел в гости к Брозовским. Он уже был весь в ожидании предстоящей поездки и говорил только о трудностях с паспортами, полицейских придирках и о долгом пути до Москвы.
Ради гостей Минна истопила печь в комнате. Это делалось только по большим праздникам.
— Папа, это правда, будто дома у Рюдигеров есть настоящий письменный стол, как у директора школы? — спросил Вальтер, которому в этот вечер разрешили не ложиться спать дольше обычного, чтобы он тоже попрощался с дядей Фридрихом. Попрощаться с человеком, который уезжал в Советский Союз!
— Кто тебе рассказывает такие вещи? — изумленно спросил Брозовский.
— Линда Бинерт. Она говорит, что Рюдигер — бонза. Как это понять? Это главный в профсоюзе, да?
— Ты же сам знаешь, что Рюдигер — забойщик на Вицтумской шахте. А что ты ей ответил?
— Глупая гусыня!
— Это не ответ. Браниться нельзя. Скажи просто, что Рюдигер такой же горняк, как ее отец.
— Она говорит, что ее отец выдвинется. Тогда он нам покажет. Я сказал, что мой отец скорей им покажет. К нему ходят все люди и советуются с ним.
Тут пришли Рюдигеры, и разговор прервался. Лора Рюдигер, тоненькая темноволосая женщина, села на плюшевый диван и усадила Минну рядом. Вскоре беседа потекла по двум руслам. Мужчины говорили о поездке в Россию, а женщины о своих хозяйственных заботах. Вальтер стоял тут же и слушал, открыв рот. Господин Рюдигер был такой, как всегда, а видел он его много раз. И на что ему письменный стол?
С грохотом ввалился Юле Гаммер. Он тащил тяжелую корзину. Пауль Дитрих помог ее внести.
— Присаживайтесь, — пригласила Минна. — А тебе пора пожелать всем спокойной ночи! — сказала она Вальтеру, который прятался за спиной старшего брата: он знал, что сейчас его пошлют спать.
Потребовалось веское слово отца, чтобы он покорился. Вальтер нехотя подал каждому руку и ушел.
Минна и Лора Рюдигер говорили шепотом. Лора проводила Вальтера грустным взглядом. Рюдигеры были бездетны. Еще в молодости ей пришлось перенести тяжелую операцию, она очень страдала оттого, что не могла иметь детей. Уже несколько лет управление приютами упорно отказывало ей с мужем в праве на воспитание. Лора захотела удочерить круглую сироту, дочь слесаря-железнодорожника, убитого во время Капповского путча.
— «Путчисты и каторжники не имеют права воспитывать детей, их жены — тоже. Государство таким не доверяет», — сказал мне чиновник из управления, — рассказывала Лора сочувственно слушающей Минне. — Они отдали это несчастное существо сперва сестрам милосердия, потом — в приют, а мать умерла от вторых родов…
До прихода гостей Минна говорила мужу:
— Жена Рюдигера очень уж интеллигентная. Не знаю, о чем с ней и говорить. Ведь такие рассуждают о вещах, в которых я не разбираюсь.
И вот она с ней уже на «ты», как это принято среди жен горняков.
— А святоши выбьют из нее живу душу.
— Но ты ведь можешь подать еще одно прошение.
Они так увлеклись беседой, что и не заметили, как разошелся Юле Гаммер.
Между тем Юле выгрузил содержимое корзины на стол. Он угощал компанию своей смородиновой настойкой, славившейся на всю округу.
— Давайте стаканы! Моя настойка получше малаги! — утверждал он. — Выпьем, пока холодное, товарищи.
— Ты, Юле, грешник и соблазнитель, — сказал Рюдигер, отведав глоток.
Юле принялся петь уже после третьего стакана. Шелковый абажур с зелеными бисерными подвесками на лампе слегка заколебался. Кулаки Юле с такой силой отбивали такт, что стол трещал. Юле чувствовал себя у Брозовских как дома. Здесь, в этой самой комнате, вскоре после войны, когда Юле возвратился из английского плена, за два дня до свадьбы, Брозовский принял его в партию.
— «Проклятьем заклейменный», — уверяю тебя, Фридрих, это понимают все. Во всем мире. Это — как пароль. С этим ты пройдешь через весь Советский Союз, уверяю тебя, — убеждал он Рюдигера, который сокрушался из-за незнания русского языка. Юле пел «Интернационал» так, что стекла дребезжали.
— Если тебе и в самом деле удастся попасть в Кривой Рог, расспрашивай обо всем, товарищ Рюдигер, ничего не забудь. Но прежде всего узнай, как у них живет молодежь. Везет же тебе, — в Советский Союз!..
Лицо Пауля Дитриха раскраснелось, глаза сверкали, но не от вина, — к неудовольствию Юле, он только пригубил его. Он весь пылал от восторга. Жена Юле, у которого Пауль вот уже несколько недель жил в квартирантах, сказала ему:
— Постарайся, чтобы хоть один остался трезвым. Моего Голиафа ведь не удержишь.
— Не будь слюнтяем, допей стакан, — потребовал Юле. — Русские горняки тоже пьют, когда у них праздник. А у нас разве не праздник, друзья?
— Почему бы ему и не попасть в Кривой Рог? Ведь делегация-то горняцкая? Значит, и едет к горнякам, — рассуждал вслух Брозовский. — Слишком глупо было бы Рюдигеру встречаться только с крестьянами или, скажем, моряками. Да так и не делают. На шахте имени Феликса Дзержинского ты найдешь своего брата шахтера, Фридрих. Нет, там тебе надо побывать непременно, — говорил он.
Рюдигер пожал плечами. Он был сегодня оживленнее и веселее, чем обычно. Уши его горели.
— Конечно, я буду настаивать. Думаю, будет неплохо, если я там, на месте, еще раз скажу о нашей дружбе. Но…
— Ты должен этого добиться! — Гаммер вошел в раж. Он обнял Рюдигера так, что у того ребра затрещали.
— Последнюю разопьем только с тобой, — уговаривал он утомленного Рюдигера, размашисто хватая бутылку. Удар ладонью в дно — и пробка пулей вылетела из горлышка.
— Твое здоровье, Фридрих! Нас им не одолеть. Только зря ты мне не дал положить тех полицейских на лопатки. Нехорошо с твоей стороны. Какого им черта надо было на нашей шахте?
Он сделал несколько больших глотков и передал бутылку Рюдигеру.
— Будь здоров, Юле! — Рюдигер тоже выпил прямо из бутылки. — Праздник так праздник! А насчет полиции ошибаешься. Ты ведь сам смекнул, что ее специально вызвали. Позже, когда мы сумеем убедить большинство, тогда поговорим об оставшихся.
— Чепуха! — заорал Юле.
— Да пойми ты, — Рюдигер заставил его сесть, — девять тысяч проголосовали сейчас на всех шахтах. Это проняло господ из генеральной дирекции куда крепче, чем два избитых полицейских. Девять тысяч, целая армия! За них идет нынче борьба.
— Ты, конечно, прав. — Юле даже вспотел. — Но так трудно…
— Трудно, разумеется, но игра стоит свеч, — Рюдигер объяснил, за что идет борьба и почему стоит бороться. Он развеселился и начал язвить. Лора бросила на него долгий взгляд. Но он только рассмеялся.
Один лишь молодой Брозовский сидел в этот вечер молча в сторонке. Он грустно смотрел в свой стакан. Такая поездка! Везет же этому Рюдигеру, быть бы на его месте…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Вскоре Рюдигера, как и его товарищей по путешествию, охватило лихорадочное нетерпение, но он изо всех сил старался держаться спокойно. Познань, Варшава, обширные восточные области Польши, советская пограничная станция Негорелое, первые часовые с красной пятиконечной звездой на шлемах, Смоленск, Березина и, наконец, Москва — златоглавая столица, древний Кремль с золотыми куполами, и под его стенами на Красной площади — великий Ленин, всколыхнувший весь мир…
Товарищи из Рурского угольного бассейна, из Цвиккау, Аахена и Барзингхаузена, шахтеры, добывающие бурый уголь под Цейтуцером, с открытых выработок Биттерфельда и Зенфтенберга, забойщики из каменноугольных шахт в Сааре и из рудников Вестфалии, откатчик из битумной шахты в Оберрёблингене и его сосед из Нижней Баварии, горняк с калийных копей Рёна и товарищ из Штасфурта, рудокопы из Зигерланда и забойщик с мансфельдских шахт — пятьдесят два часа спорили они, от Берлина до самой Москвы, два дня и две ночи. О сне никто и не думал.
До самой польской границы им не давали покоя отечественные соглядатаи. Рюдигер забавлялся, видя, как краснолицый дядя с бычьей шеей безуспешно пытался завязать разговор с некоторыми членами делегации. В конце концов Рюдигер сам заговорил с ним. Тот прямо расцвел от счастья. Веймарская республика хорошо платила своим осведомителям. Толстяк решил не скупиться. Сребреников из антибольшевистского фонда хватило даже на приглашение Рюдигера в вагон-ресторан. Но когда Рюдигер предпочел глоток кофе из своего термоса, толстяк рассердился и стал настаивать:
— Пошли, не будьте дураком! Такое путешествие надо обмыть.
— Конечно, дураком быть не надо, — смеясь, подтвердил сидевший напротив баварец.
Когда толстяк понял, что его карта бита, он перешел в атаку, особенно на Рюдигера, который так ловко провел его.
— Пока вы еще не за границей, милейший, пока вы еще в Германии. Здесь действуют наши законы!
Он угрожающе поднялся и загородил своей тушей вход в купе.
— Не волнуйтесь, мы люди степенные и к крайним мерам сразу не прибегаем. А вы могли бы облегчить себе задачу. Еще на вокзале в Берлине вы должны были понять, что игра не стоит свеч. Здесь одни горняки. Такие орешки вам не по зубам. — Рюдигер вежливо улыбнулся, а баварец добавил: — И валюты не везем. Одни билеты. Вот, не угодно ли взглянуть?
Он сунул ему под нос свои мозолистые руки. По вагону разнесся такой хохот, что даже пассажиры соседних купе выглянули в коридор. Зато проверка на границе превратилась в сущее издевательство.
Сутки езды через Польшу прошли спокойнее. Но ехали опять под надзором. Осторожно и сдержанно беседовали с крестьянами и горожанами, с женщинами, рабочими, железнодорожниками и священниками. Какой-то расплывшийся скотопромышленник стал отговаривать их от поездки, предупреждая, что страна, в которую они едут, дикая. Они украдкой переглянулись. Откуда ему это известно?
Скотопромышленник стал доказывать, что Киевщина и вообще Украина — исконно польские земли; поносил большевиков и немецких коммунистов, а баварцу, который под конец не выдержал и обозвал его дерьмом, пригрозил расправой.
Рюдигер понял, что беды не миновать, и сильно наступил баварцу на ногу. Но тот и бровью не повел.
— Где вы научились говорить по-немецки? На Украине? Поставляя скот немецкому командованию?
— Не забудьте — вы в Польше, уважаемый. Здесь действуют наши законы.
Такого сходства Рюдигер, признаться, не ожидал. Скотопромышленник говорил теперь уже на ломаном немецком языке, потом совсем перешел на польский. Все это добром не кончилось. При таможенном контроле в Стенче баварца задержали, якобы из-за неточности в паспорте. Но на рассвете двадцать горняков все-таки пересекли советскую границу.
Баварец и горняк из Саара бросились к усатому пограничнику, стоявшему между рельсами с огромным маузером на поясном ремне. Они сильно хлопали его по плечу, и пограничник отвечал им тем же. Все трое говорили на ломаном языке, мешая русские и немецкие слова. Потом баварец стал гладить блестящие пуговицы с серпом и молотом на шинели пограничника. А кончилось тем, что баварец и пограничник принялись отплясывать, как дома.
Да они и были дома. Сразу стало шумно и весело. Они не понимали слов, которыми обменивались, но жесты и объятия вполне заменяли язык. Не вмешайся руководитель делегации, баварец уже на границе оставил бы пояс и вышитые подтяжки от своего национального костюма, а кожаные шорты подвязал бы бечевкой. Позже, в одном из южных колхозов, он так и сделал. Он обменял свою национальную баварскую одежду на черкеску, а трубку и братский поцелуй — на папаху и свирель.
Рюдигер, горняк с дальних калийных копий Рёна и маленький чахоточный забойщик с Вурмских разработок не принимали участия в общем ликовании. Стоя на перроне, они взволнованно дышали. Маленький забойщик, глядя на восток, широко раскинул руки. Перед ним лежала родина свободы. Он всхлипывал, как дитя.
И наконец, после долгого пути, — большой, украшенный кумачом зал Дома Союзов, где Шверник и Фриц Геккерт обратились к горнякам с речью; потом Большой театр, где давали «Красный мак», — тут замолк и прослезился даже весельчак и балагур баварец. Рюдигер сидел, боясь пошевелиться. Здесь начиналась новая эра.
В эти дни Рюдигер иной раз сам себя не узнавал. Разве он какой-нибудь фантазер или восторженный романтик? Нет, он трезво мыслящий человек. Но то, что он здесь видел, уносило его в будущее. Гораздо дальше, чем он когда-либо смел мечтать. Он часто вспоминал о Брозовском, о Юле Гаммере, о молодом Дитрихе, о товарищах с разных мансфельдских шахт. Если бы они могли видеть, как русские рабочие строили новую жизнь…
Было холодно, все еще дул ледяной ветер. Они посещали заводы, учебные мастерские и школы. Люди в цехах носили мохнатые шапки, ватные телогрейки, стоптанные валенки и грубые рубахи; их обветренные лица и руки были в масле и копоти. Но двигались они быстро и легко, и глаза их выражали радостную уверенность и решимость.
Рюдигер почти не спал, он жил как в лихорадке. На угольных шахтах Московской области он уступил слово товарищам, а сам только слушал и впитывал все, как губка. Поездка в Донецкий бассейн их всех потрясла. Шахтеры Донбасса и горняки Рура не могли разжать объятий. Бледное лицо маленького забойщика из-под Вурма порозовело, жестокий кашель, постоянно сотрясавший его узкую грудь, прекратился. Голос окреп. Стоя на одном из копров у поселка Шахты, они вместе с тысячами советских горняков пели гимн, который указывает проклятьем заклейменным путь к свободе. Юле Гаммер оказался прав, эти слова понимали все.
Утром к столу, где завтракал Рюдигер, подошел советский товарищ, который ездил с ними как гид и переводчик. Его поношенный овчинный полушубок был расстегнут и развевался, как знамя.
— Товарищ Рюдигер, получена телеграмма из Москвы. Ты сегодня едешь в Кривой Рог. Один. Согласен? — сияя от радости, сообщил он.
Он громко рассмеялся, потому что Рюдигер от волнения поперхнулся. Еще бы не согласен!
На юге весна уже теснила зиму. Фридрих Рюдигер опять сидел в поезде. Широкие вагоны мягко покачивались на рельсах, убегавших в бесконечную даль. Его окружили крестьяне, и один из них, с трудом подбирая немецкие слова, оставшиеся в памяти еще от плена, заговорил о войне и плене. Невеселое было время. Но теперь войны больше не будет, немецкие рабочие едут в гости к своим русским друзьям. Бородатое лицо крестьянина было серьезно, и все, что он говорил, пронизывало болью сердце Рюдигера.
Молодые парни грызли семечки и пели вместе с ним, женщины угощали его домашним квасом и пили за его здоровье. В окно были видны тракторы, пахавшие колхозные и совхозные земли; попадались на глаза старые деревянные сохи, гниющие под навесами.
Крестьяне теснились у окон. Да, железные кони — это совсем иное дело. Сегодня их сотни, завтра будут тысячи. Просто загляденье, как ровно они прокладывают борозды; трехлемешные плуги без труда отваливают огромные пласты жирного чернозема. Что ты на это скажешь, немец?
Фридрих Рюдигер отвечал жестами. Это и впрямь совсем иное дело, так можно двигаться вперед, все дальше и дальше.
Паровоз, пыхтя, тащил поезд по длинному мосту, грохот дробился в стальных переплетах. Внизу льдины с треском наползали друг на друга, горами вздыбливались перед фермами моста и, искрясь на солнце, со стоном рушились, вздымая фонтаны брызг. Скованный морозом Днепр освобождался от ледяного плена, и зеленоватая вода могучей реки, бушуя и пенясь, наступала на берега.
На обширной, изрезанной оврагами равнине проклюнулась первая свежая зелень, на вербах вдоль речек белели пушистые кисточки, и все улыбалось ласковому весеннему солнцу. Лишь далеко на горизонте темнели бурые отвалы, башни копров и дымящиеся трубы.
Рюдигер высунулся из окна. Да, это был Кривой Рог. Поезд опять пересек реку, поменьше, чем Днепр, но все же мощную и многоводную — Саксагань. Рюдигер развернул на коленях карту. Сколько раз дома сидел он над этой картой, сколько раз Лора подтрунивала над его усердием.
— Фридрих, у людей совершенно неправильное представление о тебе. Они и не подозревают, что дома ты становишься мечтателем и строишь воздушные замки, как ребенок. А все считают тебя человеком холодным и рассудительным, — говорила она, ласково гладя его по небритой щеке.
А почему бы ему не радоваться и не строить замков? Он собрал все атласы и книги, какие только можно было найти, и прочел все, о чем стоило знать. И вот его мечта сбылась, перед ним лежал Кривой Рог. Украина была страной древней культуры, а не дикой заброшенной пустошью, утопающей в болотах и грязи.
Вон там, западнее, у городской окраины, Саксагань впадала в Ингулец. Дальше их воды текли вместе, впадали в Днепр и, миновав Херсон, вливались в Черное море.
Рюдигера встречали торжественно, со знаменами. Медь духовых инструментов сверкала в лучах весеннего солнца. Бородачи, подростки, женщины в красных косынках, пионеры — все окружили его, все хотели пожать ему руку, обнять, что-то спросить. И он жал чьи-то руки, кого-то обнимал, отвечал на чьи-то вопросы.
Кривой Рог! Таким он ему представлялся, таким ему следовало быть, таким он и оказался в действительности. Такими и были рудники, и металлургические заводы, и люди, которым Брозовский писал от имени их ячейки. Например, вон тот, Рюдигер знал его, хотя никогда в глаза не видел. Иным он быть не мог. Это его подпись стояла под ответным письмом. Рыжебородый, с бронзовыми от загара лицом и руками, с волосами, отливавшими медью.
Он стоял рядом с ним на наскоро сколоченной трибуне перед копром рудника имени Феликса Дзержинского. Горняки густой толпой заполнили шахтный двор. Он говорил, и Рюдигер слышал гром аплодисментов тысяч мозолистых ладоней. И — тишину во время его речи. Вдруг он почувствовал, что его самого подталкивают вперед. Но голос изменил ему, волнение перехватило горло. Тысячи взоров в немом ожидании скрестились на нем.
В столовой он сидел рядом с Рыжебородым за добела выскобленным столом; вокруг сидели забойщики, откатчики, тягали, все — друзья, товарищи, и все ели борщ с бараниной, закусывая ржаным хлебом.
Вон тот великан, чуть не достававший головой до потолка, вполне мог сойти за брата Юле Гаммера. У него были такие же огромные руки и низкий рокочущий бас. Он и был его братом, несмотря на чужую речь, мягкую и задушевную. А тот вон, коренастый, с широкоскулым лицом и рубцами на лбу, то был Брозовский. Он так же держался, так же двигался, так же уверенно, рассудительно и неторопливо говорил. Рюдигер нашел всех — молодого Пауля Дитриха, старшего сына Брозовского, забойщиков, откатчиков и тягалей. Никакой разницы не было, горняки всюду оставались горняками.
Переводчика забросали вопросами. Как живут мансфельдские горняки? Каков заработок, сколько хлеба, масла, сыра можно купить на него? Почему социал-демократы голосовали за военные кредиты? Почему профсоюзы до сих пор еще не отказались от улаживания трудовых конфликтов через третейский суд и от политики соглашательства? Почему немецкие рабочие терпят это? Позволят ли они социал-демократическому правительству Германа Мюллера вооружить Германию для войны против Советской России и стерпят ли снижение расценок, которое подготавливает социал-демократический министр труда Виссель совместно с Союзом предпринимателей?
Рюдигер изнемогал от множества вопросов. Здесь, за тысячу с лишним километров от его родины, горняки спрашивали о самых насущных для немецких рабочих вещах.
Значит, эти вопросы в свое время были и для них насущными.
— Я сорок лет добываю здесь руду, — рассказывал Рыжебородый, — еще в восьмидесятых годах мой отец проходил здесь первые штольни. По четырнадцать часов за шестнадцать копеек в день. Рудник принадлежал иностранным акционерам, французам. Немцы тоже были в доле. Хватало только на черный хлеб и воду, спать приходилось тут же, в старом бараке. С пятнадцати лет я уже крутил лебедку по четырнадцать часов в день, за семь копеек. Когда я выдыхался, штейгер бил меня метром. Чтобы попасть домой, в деревню, надо было три дня идти пешком. Это бывало раз в году, и каждый раз мать белугой ревела, потому что наступал черед следующего сына впрягаться в шахтерскую лямку.
Морщины на лбу Рыжебородого превратились в глубокие борозды.
— Теперь я здесь секретарь партячейки.
— Мы сами восстановили рудники, — сказал Великан. — За годы войны и после здесь сменилось много хозяев. Французы и поляки, Петлюра и Врангель, да и немецкие генералы тоже. А теперь мы сами хозяева. — Он поднял кулаки. — Мы прогнали их всех. Один из нас стал директором. Мы им довольны. Здесь он работал, здесь и учился. Поэтому он понимает, что к чему, и знает, с какого конца браться за дело.
Директором оказался сосед Рюдигера, криворожский двойник Брозовского. Та же мягкая улыбка; точно так же смущенно улыбался Брозовский, когда речь заходила о нем.
— Пойдемте взглянем, как идет добыча, — предложил он, — от добычи зависит все остальное.
Они вышли из столовой в просторный коридор. Слева были расположены раздевалки и душевые.
— Это построили мы сами, раньше такого не было ни на одной из шахт. За пятьдесят лет криворожцы впервые могут вымыться после работы, перед тем как идти домой, — сказал директор. — Еще так много надо сделать. У нас не хватает жилья. Мы строим и строим, однако рабочих становится все больше. Никак не успеваем.
Он подошел к окну. Вдали, у подножья пологого холма, выстроились в ряд новые жилые кварталы. Он указал на них.
— Их все еще мало. Но нынче уже никто не добирается три дня пешком домой. С этим давно покончено.
Перед стенной газетой толпился народ. Одна из бригад перевыполнила план на двадцать шесть процентов.
— С тех пор как началось соревнование, добыча удвоилась, — объяснил Рыжебородый. Его палец заскользил по круто восходящей жирной кривой на диаграмме. — Это — наше предприятие! — с гордостью произнес он.
Горняки расступились, чтобы дать Рюдигеру возможность подойти к доске. Один из забойщиков потребовал перевести Рюдигеру все, что он скажет.
— Двадцать шесть процентов означают: что-то неладно с нормой. Моя бригада не из плохих, всякий подтвердит, но больше ста пятнадцати процентов мы не выжимаем. На новой врубовой машине. Знаете, что я думаю? Норму надо пересмотреть, я просто настаиваю. Вот это, — он постучал согнутым пальцем по доске, — только вводит в заблуждение. А как при этом обстоит дело с планом?
Разгорелась перепалка, и голос переводчика потонул в общем шуме. Бригадир убеждал Рюдигера уже по-украински; он крепко держал его за рукав, как это обычно делал Генрих Вендт, когда хотел сообщить нечто важное.
Рюдигер улыбнулся. Бригадир посмотрел на него обиженно, но потом тоже улыбнулся, и все вокруг дружно засмеялись.
— Он имеет в виду план индустриализации, — сказал директор. — Это наш высший закон. Советская власть плюс планирование — это и есть мы сами.
Но бригадир не отступился и отпустил директора лишь тогда, когда тот пообещал пересмотреть норму добычи передовой бригады.
Вечером Рюдигер сидел в красном уголке недавно построенного Дома культуры. Он уже ответил на бесчисленное множество вопросов, но ему задавали все новые.
— В ваших шахтах тоже есть электрические врубовые машины?
— А в вашей столовой каждый день бывает горячая пища?
— Завоюет ли коммунистическая партия большинство рабочих?
— Сколько коммунистов насчитывает ячейка вашей шахты?
Выступали пионеры, женщины пели украинские народные песни. Вечер в честь немецкого шахтера закончился стремительной пляской молодых горняков.
Такова была родина советского народа. Лежа под пышным стеганым одеялом в цветастом пододеяльнике, Рюдигер не мог заснуть. Красочные картины минувшего дня проходили перед его глазами — смеющиеся девушки, поющие дети, любознательные парни, серьезные беседы мужчин. Он пил и водку, и квас, и сладкое крымское вино. До утра так и не удалось сомкнуть глаз. И все-таки он чувствовал себя свежим и отдохнувшим.
В огромных домнах плавилась руда, и чугун раскаленной лавой бежал по разливным желобам. По вечерам багровое зарево освещало все небо. Совсем как дома, когда раскаленный шлак освещал горизонт и вагонетки на отвалах вспыхивали жарким пламенем.
Рюдигер спускался с директором в шахту, бывал в гостях у горняков и с аппетитом уплетал вкусные пельмени. Он никогда не забудет счастливого лица хозяйки. Она подошла к большому резному шкафу и достала из него вышитый пестрыми цветами платок.
— Для вашей жены, — сказала она со светлой и доброй улыбкой.
Рюдигер покраснел, когда она его обняла. Он не мог отблагодарить ее словами и лишь крепко прижал к себе.
Прощание настало слишком скоро. Был выходной день. Множество людей собралось проводить гостя. Музыка, песни — и на трибуну внесли бархатное знамя.
Молодая женщина пожала Рюдигеру руку.
— Это наш подарок мансфельдским горнякам. Возьми его, товарищ. Мы вышили его для вас. Передай привет нашим друзьям на Вицтумской шахте, поклон от нас и вашим женам.
Рюдигер крепко сжал древко. На глазах выступили слезы. Рыжебородый улыбнулся и обнял его. Потом его заключил в объятия двойник Юле Гаммера.
— Товарищ!.. — Великан крепко чмокнул его в обе щеки.
Под всеобщий гул ликования директор заговорил о нерасторжимой дружбе между криворожцами и горняками Мансфельда и пожелал Рюдигеру доброго здоровья.
В знак благодарности Рюдигер отвесил низкий поклон горнякам, их женам и детям. Порыв ветра развернул знамя и подхватил ответные слова немецкого горняка.
* * *
Возвращение на родину оказалось мучительнее, чем Рюдигер предполагал. Уже на польской границе его чемоданчик основательно переворошили. Знамя он догадался обернуть вокруг тела и так провез его через Польшу Пилсудского. На германской границе таможенники перерыли его скудный багаж с истинно немецкой тщательностью.
— Так. Значит, это все вам подарили. Видимо, они там уж очень богаты. — С педантичной, раздражающей обстоятельностью таможенник развернул каждый сверток и внимательно осмотрел даже начатый тюбик зубной пасты.
— Что это такое? А что у вас здесь? Откройте-ка этот саквояж.
Руки Рюдигера непроизвольно сжались в кулаки.
— А это что? Тоже подарок русских рабочих? — Гладко выбритый фельдфебель в зеленой форме таможенника и очках высоко поднял маленький сувенир, подаренный Рюдигеру комсомольцами рудника имени Феликса Дзержинского. Это была вырезанная из кавказского ореха фигура забойщика, мощным взмахом загоняющего кайло в породу.
Сначала таможенник как бы невзначай отложил сувенир в сторону. Фигурка упала с багажного стола на пол.
— Значит, это подарок рабочих?.. — сказал таможенник с ударением на словах «подарок» и «рабочих».
Рюдигер побагровел.
— Надеюсь, вы понимаете, что от князя у меня подарка быть не может!
— Спокойнее, господин делегат, спокойнее. Ведь я не ошибся, — вы делегат? Странно, эта публика почему-то всегда возвращается небольшими группками или поодиночке. Но не беспокойтесь, мы всех выловили.
Вдруг таможенник заговорил официальным тоном:
— Да… есть правила на ввоз… Каждое государство взимает пошлину. Эта игрушка обойдется вам недешево. — Он кивнул в сторону фигурки и открыл потрепанную тетрадь. — Роскошь, предметы роскоши, предметы искусства, таможенный сбор… Да, это обойдется дорого, очень дорого. С вас причитается, впрочем, погодите-ка… Скидки, стоимость… — Он процедил сквозь зубы: — Вот, нашел: с вас восемьдесят шесть марок.
Внутри Рюдигера все кипело. «Спокойно, не поддавайся на провокацию, спокойно, помни о знамени», — уговаривал он себя.
— А это? Шелк, художественное изделие. Тоже подпадает под рубрику ввоза предметов роскоши. Дорого, все очень дорого, уважаемый.
В бешенстве схватив расшитую косынку, подарок его жене, и резной сувенир, Рюдигер швырнул их в чугунную печку таможни. И тут же затряс обожженной о печную дверцу рукой.
— Есть ли еще какие-нибудь товары, подлежащие обложению, или валюта? Я спрашиваю только порядка ради, — сказал таможенник деловым тоном. — А за бесчинство на таможне вас придется оштрафовать, господин… Рюдигер, не правда ли, так ведь ваше имя? Вы — последний. Девятнадцать проследовали раньше. Одному господину из Баварии оказали особый прием. Ох, уж эти делегации… Ну, а теперь прошу на личный обыск. Вон туда, господин Рюдигер!
— Захватите господина делегата с собой, Шербаум, — крикнул он одному из своих коллег.
В душном зале было шумно и тесно. Люди спорили, беседовали, приглушенно шептались. Сердце Рюдигера учащенно забилось: знамя!..
Мрачный служащий объявил:
— Личный досмотр. Входите по одному!
Дама, стоявшая за Рюдигером, сцепилась с таможенником, как только открыли ее первый чемодан. Некоторые пассажиры уже получали свои паспорта в окошке паспортного контроля. У Рюдигера мгновенно созрел план. Он встал со своим чемоданчиком в очередь к этому окну. Ему без задержки выдали паспорт. В зале в это время возник очередной скандал. Господин в светлом дорожном пальто отказывался тащить к месту досмотра многочисленные чемоданы, густо облепленные пестрыми наклейками.
— Нигде ни единого носильщика. И это в культурной стране! Где же ваш хваленый немецкий порядок? Я буду жаловаться своему консулу! Где это видано, чтобы придирались к транзитным пассажирам? — бранился он по-немецки с английским акцентом.
Ему вторила его спутница, элегантно одетая дама:
— Такое обращение оскорбительно. Или вы считаете нас преступниками?
Вошедший таможенный начальник поинтересовался причиной спора.
— Извините, пожалуйста. Досадное недоразумение.
Он сам взял два чемодана и понес их на перрон к вагонам второго класса. Еще раз извинившись, он подал багаж господину в светлом пальто.
Рюдигер тоже отнес один большой чемодан.
Дама рассыпалась в благодарностях и приветливо кивнула ему на прощанье. Начальник предложил Рюдигеру сигарету.
— Служащие таможни обязаны обращаться с пассажирами вежливо. В большинстве у нас хорошо вышколенный персонал.
Он приложил руку к козырьку. Наконец поезд тронулся…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Пасторша устроилась в качалке в кабинете мужа. В комнате было тепло и уютно. Пастор сидел за письменным столом, склонив над бумагами увенчанную серебристой сединой голову. Воскресная проповедь не ладилась. Надо с чего-то начать, вот он и позвал жену. Наверняка расскажет что-нибудь.
Она начала с упреков в том, что он недостаточно поддерживает ее деятельность в Женском союзе. Ее попытки спасти союз от развала потерпели неудачу, потому что его членов, вопреки давним традициям, вовлекают в суету текущей политики. Старушки испугались и теперь предпочитают сидеть дома. Недавно жена штейгера Бартеля чуть не заткнула ей рот, когда она высказалась против того, чтобы вместе с Обществом королевы Луизы принять участие в манифестации во время слета членов «Стального шлема» в Зальцмюнде. Как она предвидела, так и случилось. Старушки были не в состоянии идти так далеко и теперь не являются даже в часы назидательных бесед. От них потребовали слишком многого.
Пастору было неприятно, что из-за некоторых женщин, лезущих в политику, он оказался вовлеченным в политические дела города. Он знал, какие мотивы были у многих из этих женщин. До него дошли слухи о некоторых скандальных происшествиях. А в прошлом году во время выборов в рейхстаг он позволил уговорить себя и с церковной кафедры агитировал за немецких националистов. Они всегда были его партией, он примыкал к консерваторам еще до войны. В кругах националистов его проповедь встретили с восторгом. Но она была глупостью. Не надо было поддаваться уговорам старого барона фон Веделя:
— Надеюсь, у вас хватит гражданского мужества, пастор. Надо избавить народ от этих новомодных партий! Народу нужна монархия, нужен кайзер. И прежде всего нам, старикам. Без его величества нам не обойтись.
Результатом было то, что коммунисты приобрели сто шестьдесят новых голосов, а четверо верующих заявили о своем выходе из церковной общины, дескать, потому, что пастор использовал церковь для вербовки голосов за партию националистов и для нажима на прихожан. Его проповедь, мол, помогает Мансфельдскому акционерному обществу снижать расценки. И вообще церковь держит сторону угнетателей. Но бог свидетель, таких намерений у него не было!..
Занятый своими мыслями, он переспросил:
— Ты вот говоришь, будто жена штейгера Бартеля склонила на свою сторону супругу директора школы? Как раз наоборот, дорогая Лина. Жена Бартеля слишком проста для этого.
Он зябко потер сухонькие, в синих прожилках руки и тоскливо уставился в окно. Апрельские тучи застилали небо. Да, его паства таяла. Прежде, бывало, члены Женского союза и их семьи составляли основной костяк слушателей его проповедей; они и теперь посещали церковь, но только в те дни, когда националистические организации, вроде «Стального шлема», Союза фронтовиков или Общества королевы Луизы, устраивали в церкви свои собрания. И от него ждали недвусмысленной поддержки. Но доброе дело нации и без того благословлено богом, поэтому он считал, что ни к чему лишний раз взывать к небесам.
Все это было ему не по нутру. Он всерьез поссорился с женой, когда она, по наущению супруги Бартеля, рассказала ему, что Брозовский получил письмо из России. Где же порядочность и тайна переписки, если каждый без стыда посвящает первого встречного в чужие дела? И для чего почтовые служащие все вынюхивают? Разве подобные булавочные уколы помешали горнякам подать тысячи голосов за то, чтобы Фридрих Рюдигер из Гетштедта поехал к большевикам? Как раз наоборот.
«В этом наверняка что-то есть, — подумал он. — Фридриха я когда-то сам конфирмовал, смышленый был паренек…
И что только сделалось с людьми? Теперь эти сумасшедшие бабы развалят еще и Женский союз. Нечистый их побери! Все враждуют между собой. В партиях раскол, в общине раскол, в школе скандал. Ох, этот директор Зенгпиль…»
Пастор негромко забарабанил пальцами по столу. Он знал, что в Женском союзе всем заправляет директорша, а жена Бартеля только вывеска. За ними наверняка стоит сам директор, он ведь теперь заигрывает с новоявленными вояками, с нацистами. Только еще не решается заявить об этом открыто, потому что боится потерять место.
«Но долго шила в мешке не утаишь, — продолжал размышлять пастор. — А господин фон Альвенслебен? Сидит в захиревшем имении предков и продает правительственные дотации. С тех пор как он с оравой наемных хулиганов держит в страхе всю округу, Зенгпиль и его жена обходят церковь стороной. Очевидно, решили исповедовать свой собственный культ. И такое идолопоклонство называют «истинной верой».
Пастор сокрушенно покачал седой головой. Даже старый Ведель назвал фон Альвенслебена проходимцем. А ведь он всегда оправдывал любого бездельника, если только тот принадлежит к их кругу.
— Ходит много всяких
сплетен, — после долгой паузы сказала пасторша. — Говорят, будто в Обществе Луизы возникла тайная секция. Сперва они разваливают Женский союз, потом ссорятся между собой и обманывают друг друга. Женщины уже и не знают, куда податься.
— Некоторые знают. В этом деле замешан господин фон Альвенслебен. Помимо штурмовиков ему нужна еще и подходящая женская организация. Супруги Зенгпиль вербуют ему приверженцев в Гербштедте.
Пасторша вздохнула.
— Даже такие порядочные женщины, как фрау Бинерт, и те начинают колебаться. Старый член Общества Луизы, она пожаловалась мне вчера, что ее дочь, жена горного инженера — ты ведь венчал их, — вступила в эту организацию. Муж ее стал штейгером. И вот он требует, чтобы теща тоже перешла туда.
Покашляв, пастор склонился над проповедью и вслух прочитал только что выписанную цитату из шестьдесят четвертого псалма: «Боже, услышь мой жалобный голос, защити мою жизнь от жестокого врага. Укрой меня от сборища медведей, от кучи лиходеев, которые точат свой язык, подобно мечу, и ранят словами, как отравленными стрелами…»
В доме на Гетштедтской улице разговор был более бурным, Бинерты любили крепкие выражения.
— А ты что? Детей бы постыдился! Срам! Тридцать пять лет все елозишь по шахте на коленях. Ничего-то ты не достиг, был дурак, дураком и остался. И дернуло же меня за тебя замуж выйти…
Жена Бинерта была статная женщина. Годы не оставили заметного следа на ее свежем гладком лице. Да и походка у нее была как у тридцатипятилетней. Бинерт рядом с ней выглядел стариком. Он сидел, съежившись, возле печки и совал скрученную полоску бумаги в огонь, чтобы прикурить.
Его дочь вертелась перед зеркалом. На деревянном подзеркальнике разместилась целая коллекция белых слоников. При словах матери молодая женщина и бровью не повела, словно ничего особенного не произошло, только заметила:
— Курт сказал, что, если он вступит в отряд штурмовиков, у него будет больше перспектив. Его шеф тоже за Гитлера, теперь все за Гитлера.
— Гитлер или кто другой — не все ли равно. Кто хочет выдвинуться, должен держать нос по ветру. Твой отец никогда не умел зарабатывать деньги. Разве не мог в молодости выучиться на горного инженера? Уж сколько я его пилила! Но из пустой бочки воды не начерпаешь.
Ольга Бинерт выразительно постучала пальцем по лбу. При этом рукава тонкой вискозной блузки чуть не лопнули на ее полных руках.
— Курт сказал, что если он примкнет сейчас, то через два года может рассчитывать на повышение. Он все еще продолжает учиться, и даже вечерами читает книги.
Дочь была грудастая, крепкая, широкобедрая, как мать. Уже целый час она примеряла перед зеркалом новую весеннюю шляпку и то гладко зачесывала волосы на уши, то взбивала челку надо лбом, то вновь ее расчесывала и снова надевала шляпку.
— Под лежачий камень вода не потечет. Мир принадлежит тому, кто умеет добиваться. А не тому, кто только треплет языком, как твой отец. Чего только я не выклянчила у штейгера Бартеля за эти годы, все было уже на мази. «Ладно, посмотрю, что можно будет сделать, замолвлю за него словечко…» И как сказал, так и сделал. Но твой отец не пожелал и пальцем шевельнуть. Вместо того чтобы быть на виду, отсиживается за печкой.
У жены Бинерта вошло в привычку с любой темы переходить на упреки мужу.
— Курт сказал, что с пианино мы еще год подождем. А ты как думаешь? Но стена выглядит слишком голой.
— Если бы у тебя был порядочный отец, тебе не пришлось бы ждать. Я не знала, куда глаза девать от стыда из-за твоего приданого, его родители-то не поскупились. Но я сделала все, что могла, ты это знаешь. А что еще сказал Курт? — Она поправила шляпку на голове дочери.
— Курт в таких вопросах очень сдержан. — Молодая женщина капризно надула губы. — Сказал только, что хорошее место для пианино у нас есть. И было бы очень приятно, если бы в доме звучала музыка…
— Сперва научись. Курт не играет, а ты и вовсе понятия не имеешь. Мне надо сперва расплатиться за чехол на перину. Твой отец опять проморгал — его заткнули в такую бригаду, где ни черта не заработаешь. Этак мы никогда ничего не сможем приобрести…
— Курт сказал, что простыни грубые. Зато бордюр ему очень нравится. А пианино в квартире и в самом деле недостает. Уж чересчур пусто…
— Сперва купите ковер. Расход не столь уже велик, а ковер вам нужен. Шляпа тебе и правда идет…
— Курт сказал, будь у нас деньги… Он колеблется и не знает, стоит ли опять покупать билеты Прусской лотереи, или лучше сэкономить эти три марки в месяц. Квартирная плата уж очень высока…
— Вот и сидим на мели. Всю жизнь из кожи вон лезли и копили несчастные гроши, а теперь и дети вынуждены считать каждую марку. Разве это жизнь, с таким-то мужем…
Видно было, что Бинертша вот-вот пустит слезу. Бинерт достал из кармана свою неизменную трубку и принялся искать кисет с табаком. Бумажка в его руке давно догорела, обуглившийся остаток скручивался.
— Только и знаешь, что куришь, куришь и куришь без конца. Как будто все, что здесь говорилось, тебя совершенно не касается. Ладно, прокуривай деньги. Черт с вами со всеми! Пожелтеют гардины — сами будете стирать!
Она разошлась не на шутку. Недотепа у печки действовал на нее, как красная тряпка на быка.
— Курт обещал бросить курить. Я ему велела. Так мы сэкономим одну марку восемьдесят пфеннигов в неделю.
— Вот и с меня тоже хватит. На табаке можно сэкономить уйму денег. — Ольга давно уже обдумывала этот шаг. Дочка вовремя напомнила о нем. Но прежде чем она успела развить эту тему, в разговор вмешалась младшая дочь, Линда, сидевшая за уроками:
— Брозовские тоже пойдут на площадь в воскресенье, там будет выступать господин Рюдигер. — Линда захлопнула тетради.
— Что, что? Откуда ты это взяла, доченька? Кто тебе сказал? А почему господин Рюдигер будет выступать?
— Вальтер Брозовский хвастал в школе новым знаменем. Будто оно сплошь из золота и бархата. Учитель Петерс тоже хочет взглянуть на него. На площади будет праздник.
— Знамя, праздник? Мне надо сейчас же сбегать к жене штейгера Бартеля. Сейчас же! Да знают ли вообще Бартели? Ты что-нибудь слышал, Эдуард? Боже, и это мой муж! Сидит как истукан. Наверное, все уже в курсе, а от него никогда ничего не узнаешь. Говоришь — в воскресенье, Линда?
— Вальтер Брозовский говорил, что будут участвовать красные фронтовики, некоторые приедут издалека. Сто тысяч человек должны собраться. — Девочка бойко перебросила косички через плечо. — Я показала ему язык!
— Не смей с ним разговаривать, они нам не ровня, слышишь? Эдуард, ты слышал, этот сброд опять собирается заварить кашу. Надо сейчас же бежать. Интересно, фрау Зенгпиль уже в курсе? Я пошла к жене Бартеля. В какой он смене, Эдуард?
— И что ты волнуешься? Еще вчера на шахте раздавали листовки. Будут передавать знамя из России, — еле слышно промямлил он сенсационную новость.
Ольга яростно накинулась на него:
— Ну и муж, нечего сказать! Полдня здесь проторчал и хоть бы слово молвил. Все приходится вытаскивать из него клещами, обо всем узнаешь последней. Тупица проклятый! Если бы не дети, я бы знала, что делать…
— Курт сказал, что скоро коммунистам дадут по рукам. — Старшая дочь как будто пропустила перебранку мимо ушей. С тупым равнодушием она лишь пересказывала то, что слышала от мужа.
— И подумать только, что через несколько домов от нас живут самые зловредные из них. А теперь еще и учитель к ним зачастил. Недавно на женском вечере вахмистр сказал, что долго такого терпеть не намерен.
Бинерт поднял глаза. Зачем вахмистр пожаловал на женский вечер? Это что-то новое. Жена не заметила, что теперь он стал внимательно слушать, и все больше горячилась:
— Да, да, учитель Петерс руководит хором детей коммунистов. Хорош учитель, нечего сказать, великолепно будут воспитаны наши дети. По Линде видно, бедное дитя… — Она осеклась и прикрыла рот рукой. — А ведь ты каждый день ходишь вместе с Брозовским на работу и ничего не замечаешь.
Ольга наскоро причесалась и собралась уходить.
— Я только на минутку… Обед варится в печке, картошка, наверное, скоро будет готова. Добавь еще чечевицу и поджарь сало. Мяса сегодня нет, на каждый день не напасешься. Уксус в кухонном шкафу, слышишь, Эдуард?
— Могла бы и сама пожрать приготовить. — Бинерт сердито выколотил трубку в топку.
Ольга изумленно обернулась.
— Что ты сказал? Ишь ты! Пальцем пошевелить не хочешь, даже когда мне некогда. День-деньской надрываешься, стараешься создать уют, чистишь, гладишь. А попросишь его о чем-нибудь, так сразу начинает скандалить. Соседи нас хоть подожги — тебе все равно. Без меня бы все давно прахом пошло. Но мне пора к Бартелям.
К Бартелям она бегала во всех случаях жизни. Бинерт к этому уже привык. Когда три года назад она лежала в больнице с какой-то женской болезнью и штейгер живо интересовался состоянием ее здоровья, он спокойно отвечал на его вопросы. Если бы не сплетни, распускаемые тощей женой Бартеля, он ни за что не смекнул бы, что к чему. И только когда напарник прямо спросил его, почем нынче кукушкины яйца, Бинерт смутился. У Бартелей был потом большой скандал.
Довольно с него этой беготни.
— Никуда ты не пойдешь. Готовь обед, — сказал он и еще раз выбил трубку о стенку топки.
Его жена так и застыла на месте, не успев сунуть руку в рукав клетчатого плаща.
— Неужели ты сам не сумеешь? Я же тебе объяснила, что горшок с салом…
— Никуда не пойдешь!
Что-то в его голосе заставило ее насторожиться. Так он разговаривал с ней в тот памятный праздник Союза фронтовиков, когда она во время танцев два раза подряд выбрала кавалером штейгера.
— Не пойду? Тебе, конечно, все равно, что творится на свете. Держишь меня на привязи. А хлев вычищен? Козе свежая солома дана? Петля на дверце кроличьей клетки прибита, как я велела? Только и знаешь сидеть за печкой. А кто ее истопил? Я, я, все я!
— Курт сказал, что, если мне будет некогда, он…
— Да заткнись ты наконец со своим Куртом, дурища чертова! — вдруг заорал Бинерт в приступе ярости. И, обернувшись к Ольге, добавил: — Прекрати эту беготню! У Бартеля своя жена есть!
Дети обмерли. Они привыкли к тому, что отец молча сносил все упреки матери; теперь они не на шутку перепугались. Ольга тоже онемела было от неожиданности, но быстро нашлась и завопила:
— Такое, и при детях! Балда! Да как ты вообще смеешь разевать рот? Ничего у тебя нет, ничего ты не умеешь, ни на что ты не годен!
Она сорвала с вешалки его зимнюю куртку и швырнула ее в лицо мужу.
— Хочешь доказать, что ты мужчина? Уже десять лет, как перестал им быть. Ты пуст, как барабан! Выхолощенный козел, рассохшаяся бочка — вот ты кто!
Не считаясь с присутствием детей, она ругала Бинерта самыми последними словами и наступала на него с кочергой в руках.
Приступ ярости, охвативший Бинерта, улегся так же быстро, как и вспыхнул. Он вышел, не проронив ни слова, и долго стоял, прислонясь к стене хлева, рядом со свиным закутком.
Бинертша побушевала еще некоторое время, потом ни с того ни с сего обозвала дочерей неблагодарными тварями, отшлепала тетрадью Линду по щекам и выбежала на улицу.
Брозовский как раз украшал окна своего дома гирляндами из еловых веток. Минна поддерживала лестницу, на которой он стоял.
Как фурия, промчалась Ольга Бинерт мимо, не поздоровавшись и нарочно наступив на еловые ветки, что лежали рядом с лестницей.
— Ты что, слепая, что ли? — упрекнула ее Минна. — Ведь можно и обойти.
А Ольге только того и надо было. Она сразу взвилась.
— Не топтать, а содрать все это дерьмо надо к чертям собачьим! С такими соседями, как вы, сраму не оберешься. И не думайте, будто это вам сойдет с рук. Вам еще все припомнят! — визгливо кричала она.
— Что ты, Ольга… — Минна совершенно растерялась.
— Не хочу иметь с вами ничего общего! Еще узнаете, почем фунт лиха. Привезти в Гербштедт знамя из России, ха-ха-ха! Да вы, вы…
Брозовский стоял на лестнице с гирляндой через плечо, зажав в губах несколько гвоздей. Он даже рассмеяться не мог. Рехнулась она, что ли?
Громкие крики привлекли внимание соседей. Из окон больницы на другой стороне улицы выглянули больные.
— Что эта коза разблеялась? — спросил одни.
— Козел понадобился! — сказал со смехом другой.
И Бинертша, продолжая ругаться, пустилась вниз по улице.
Келльнер топтался в дверях своего дома и сердито качал головой.
— Ну, что тут скажешь? Уж сколько раз я говорил старому идиоту, Эдуарду: взяв эту бабу, ты себе жернов на шею повесил. Вечно у нее язык чешется, да и кое-что еще…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
За ночь ветер вымел небо дочиста. Воскресным утром он погнал белые барашки, оставшиеся от дождевых туч, за холмы, на юго-запад, растеребил их, разметал, и в прозрачной голубизне солнце ласково улыбалось весеннему дню.
Из слуховых окон под крутыми крышами шахтерских домиков, из форточек свисали красные флаги с серпом и молотом. Генрих Вендт вместе с женой и детьми прикреплял над дверью дома еловые ветки. Его жена приколола трем девочкам по букетику фиалок на груди, и дети сияли от счастья. Только тринадцатилетний Карл недовольно ворчал, потому что сапожник не успел починить его ботинки. Ему всегда доставалось от матери за то, что на нем все горело. Устало опустив плечи, Генрих стоял посреди улицы, любуясь делом своих рук.
— Замечательное утро сегодня! — крикнул он Юле Гаммеру, который жил напротив.
Юле Гаммер устанавливал перед своим домом шест, верхушку которого украшал венок, перевитый красными лентами. Жена его утаптывала деревянными башмаками землю и выговаривала Юле за то, что он косо привязал венок. Гедвига Гаммер мало уступала мужу как в росте, так и в умении ввернуть к месту нужное словцо. Генрих Вендт выразил мнение всех гербштедтцев по поводу их брака так: «Они похожи друг на друга, как два левых сапога». Юле и Гедвига были прямо созданы один для другого.
Когда издали послышалась веселая песня, Гедвига бросилась в дом, чтобы принарядиться.
На улице появилась шумная ватага молодежи во главе с Паулем Дитрихом. Он тянул наискосок от дома к дому увитую хвоей бельевую веревку. Ему приходилось то цепляться за оконный карниз, то висеть на водосточной трубе, и он сиял от восторга.
Закончив работу, вся компания уселась на ступеньках узкого проулочка, карабкающегося в гору, и долго о чем-то таинственно совещалась.
«Интересно, что они там собираются выкинуть? — подумал Генрих Вендт, приглаживая свои пышные усы. — Эх, стать бы опять таким молодым!»
Вниз по улице спускалась большая колонна Союза красных фронтовиков, шедшая из Гетштедта. В Вельфесгольце в нее влились батраки из графского имения. Женщины и дети замыкали шествие. Два полицейских — и, уж конечно, одним из них был толстяк Меллендорф, считавший весь город своей вотчиной, — поджидали колонну у городских ворот; поправив поясные ремни и передвинув новые желтые кожаные кобуры на живот, они затопали во главе колонны с видом, говорившим о служебном рвении и готовности в случае необходимости вмешаться и навести порядок. Но на них не обращали внимания.
Гетштедтская улица огласилась дробью барабанов и ясными звуками флейты. Вальтер Брозовский, одетый в воскресный костюм, выбежал из дому и, полный восторга, зашагал рядом с процессией. Проходя мимо дома Бинертов, он, забыв о недавней ссоре, крикнул Линде, смотревшей из окна:
— Сегодня мы получим новое знамя! А у вас такого нет. Видишь, сколько народу!
Позади Линды стоял ее отец, одетый по-домашнему, и с явным осуждением взирал на все происходящее. Дом Бинерта — единственный на этой улице — не был празднично украшен. Ольга чуть свет уехала к дочери в Клостермансфельд, чтобы помочь повесить новые гардины. Подальше от сборища этих голодранцев! Таков был совет штейгера Бартеля.
Несмотря на запрещение главного врача, из окон больницы свешивались маленькие красные флажки. Больные весело приветствовали демонстрантов.
С вокзала в город вливались толпы празднично одетых людей. Прибыли представители соседних шахт и металлургических заводов, жители близлежащих поселков, речники с Заале, мукомолы с Альслебенской мельницы, служанки и батраки из окрестных поместий. Из Беллебена, Аугсдорфа и Хайлигенталя люди пришли пешком. Громким ликованием встретили собравшиеся горняков и доменщиков из Эйслебена, которые приехали на грузовиках. На их транспарантах было написано: «Ротфронтовский привет гербштедтцам!»
Рыночная площадь гудела, как улей. Перед ратушей плотной цепью выстроились полицейские. Улицы и переулки, примыкающие к площади, заняли сельские жандармы, стянутые сюда со всего района. Лица блюстителей закона выражали недовольство: нарушили их воскресный отдых!
Из Галле прибыло в полном составе соединение красных фронтовиков. В голове колонны на ветру трепетал вымпел с изображением сжатого кулака. И вдруг… к полному восторгу собравшихся, над коньком ратуши неожиданно развернулось большое красное знамя. Полицейские ринулись вверх по истертым ступеням. Их кулаки забарабанили в запертые двери чердака. Длинный, как жердь, отутюженный и зализанный, секретарь магистрата Фейгель, почему-то считавший себя ответственным за охрану ратуши, буквально рвал на себе волосы. Как они сумели туда проникнуть? Это было равносильно надругательству над ратушей, такого не случалось даже во времена Ноябрьской революции.
Напротив ратуши стояла трибуна — празднично убранный грузовик с откинутыми бортами. Тут же находился Брозовский, рядом с ним его жена. Когда взвилось знамя, лицо его просветлело. Генрих Вендт шепнул ему:
— Я думаю, это дело рук Пауля.
Рюдигер позвал Брозовского:
— Поднимайся сюда, Отто! Пора начинать. Все собрались.
Он был бледен от волнения.
По его сигналу заиграл оркестр. Шум возле ратуши потонул в звуках песни о красном знамени. В крепких руках мансфельдских рабочих развевались видавшие виды стяги, реявшие над ними во многих боях.
Брозовскому помогли взобраться на машину. Неподалеку от трибуны он заметил учителя своего Вальтера. Они кивнули друг другу как старые боевые товарищи. Юле Гаммер, в серой рубашке Союза красных фронтовиков, сжимал древко Криворожского знамени, заботливо завернутого в чехол. Высоко вскинув руку со сжатым кулаком, он не отрывал глаз от крыши ратуши. Фридрих Рюдигер начал говорить:
— Горняки Кривого Рога приветствуют шахтеров Мансфельда. Узы братской солидарности, не знающей границ, соединяют рабочих всего мира.
Рюдигер протянул руку к знамени.
— Рабочие России сбросили многовековой гнет. Они строят новый мир социализма, о котором мы мечтаем десятки лет. Они повернули колесо истории и направили его по новому пути, им принадлежат заводы и шахты, им принадлежат все богатства недр!..
Он развязал и снял чехол. Юле Гаммер взметнул бархатное знамя высоко над головой. Солнце заиграло на золотом шитье, огнем загорелись слова:
Пролетарі всіх країн єднайтеся!
Всі працюючи міцним колом
навкруги Комуністичної партії
за Всесвітній Жовтень!
Осередкові К. П. Г. ш. Віцтумської
в 11 річчя Жовтневої Революції
від осередку К. П. (б) У. ш.
Дзержинської на Криворіжжі.
Голос Рюдигера зазвучал торжественно:
— Это наши братья, они боролись с неисчислимыми врагами и победили их в тысячах сражений. Им можно доверять, на них можно положиться, как на самих себя. Их нужды — это наши нужды, наши заботы — это их заботы, их победа — наша победа! Они подарили нам это знамя. Пусть его несет лучший из нас! Пусть он оберегает его в минуту опасности и с ним в руках ведет нас на битву, не зная отступлений! Доверим наше сокровище, наше знамя самому достойному — Отто Брозовскому!
На площади царила тишина. И когда стук кованых сапог одного из полицейских нарушил ее, на полицейского зашикали. После речи Рюдигера шквал аплодисментов прокатился по площади и, нарастая, захлестнул все близлежащие переулки.
— Брозовскому, вручить знамя Брозовскому!
Лес рук взметнулся ввысь! Брозовский так растерялся от неожиданности, что вынужден был опереться о плечо Рюдигера. Тот обнял его и прижал к себе.
Перед глазами Брозовского все поплыло. Неужели это его жена Минна стоит вон там, внизу, перед машиной? Это она смотрит на него со слезами на глазах? Улыбается она или плачет?
Минна Брозовская плакала. Слезы ручьем лились по ее широкому, скуластому лицу, натруженные руки искали опоры. Лора Рюдигер, казавшаяся такой слабой и хрупкой, поддержала ее и ласково провела по волосам.
Брозовский от волнения с трудом держался на ногах. Знамя… Ему решили доверить знамя.
Разве не было в этом полотнище и доверия тысяч советских людей к их немецким товарищам? Разве каждый стежок вышивки не свидетельствовал об их глубокой сердечной привязанности? Он видел в бескрайней дали головы жен горняков, склоненные над работой, видел иглы в их проворных руках, видел их гордых и уверенных в себе мужей и с глубоким волнением ощутил чувство неразрывного братства.
— Бери знамя, Брозовский!
Отдельные возгласы слились воедино. Все требовали этого: старый Келльнер, Генрих Вендт, товарищи из ячейки.
По крыше ратуши покатились обломки древка, увлекая за собой куски черепицы. Раздался крик и глухие удары. Две пары рук втащили красное полотнище в слуховое окно. Полицейские на чердаке порвали знамя в клочья, ногами расшвыряли их по полу, столкнули Пауля Дитриха с лестницы и избили его друга.
Брозовский поднял голову. Он погладил мягкий бархат знамени из Кривого Рога и увидел незнакомых, но близких ему людей. Он расправил полотнище. Вышивка изображала на фоне шахты имени Феликса Дзержинского паровоз с груженными рудой платформами и гордо выпрямившегося советского шахтера, державшего в одной руке кайло, а в другой, высоко вскинутой, лампу, как бы освещавшую путь немецким рабочим.
Брозовский принял знамя и взволнованно прижал к губам красный бархат. Глаза его застилали слезы, он тщетно силился произнести хоть слово. Перед его мысленным взором расстилались просторы Украины, ее цветущие поля. Он словно наяву увидел советскую шахту и себя среди советских горняков. Их гордая сила, твердость, их воля передались ему. Он ощутил прилив сил, почувствовал себя членом одной с ними семьи, их братом. Хозяева, палачи, доносчики — куда они все подевались? Они остались позади, в далеком прошлом…
Наконец он заговорил. Первые слова едва поняли даже стоявшие вблизи. Потом голос его окреп:
— Мы должны оправдать оказанное нам доверие, товарищи, и мы не подведем! Знамя наших криворожских друзей будет реять над нами в боях, мы сохраним его в минуту опасности, оно поддержит нас в случае поражения и всегда будет вести к победе! Партия доверяет это знамя нам, оно — наш боевой стяг и символ нашего долга. С ним мы завоюем свободу и не изменим ему ни в трудный, ни в смертный час. Клянусь — я буду защищать его до последней капли крови, никогда не выпущу его из рук и буду ему верен до конца!
Все мужчины, стоявшие на площади, слушали клятву, обнажив головы. Юле Гаммер машинально повторял слона клятвы. Его угловатая голова возвышалась надо всеми. Он неотрывно смотрел вверх, на крышу ратуши.
Что с Паулем? Может быть, полицейские сейчас избивают его или волокут вниз по лестнице? И почему он сам все торчит здесь? Кончил Брозовский? Интересно, Рюдигер тоже заметил, что произошло, или нет?
Минна Брозовская сцепила руки на груди. Неужели это ее муж? Или это говорит другой, чужой человек? Нет, то был он, и говорил он о том, что она сама чувствовала или смутно ощущала. Она смотрела на него снизу вверх, полуоткрыв рот, видела знакомые движения его головы, знакомые рубцы на лбу. Это был он, и говорил он то, что было на сердце у всех.
— Да здравствуют наши русские друзья, горняки Кривого Рога! Мы идем в их рядах, они шагают плечом к плечу с нами. Да здравствует братская солидарность немецких и русских горняков! Под знаменем Ленина вперед к мировому Октябрю! — так закончил Брозовский свою речь.
Грянули литавры. Зазвучали флейты. Загремели барабаны, заиграли трубы. Крики «Рот фронт!» и здравицы в честь Брозовского и Рюдигера огласили площадь.
В этот момент за спинами стоявших на площади возникло какое-то движение. На подростков, собиравших обломки древка, упавшие с крыши, набросились сельские жандармы. Юле Гаммер с трудом пробрался через толпу к ратуше. Полицейские попытались было задержать его, но он прорвал их цепь и, по-бычьи нагнув голову, расшвырял в стороны. Пауля Дитриха он нашел наверху, на каменных плитах лестницы, окровавленного, неподвижного. Но когда Юле взял его на руки и понес вниз, Пауль улыбнулся.
Над нескончаемыми колоннами демонстрантов, что растянулись по узким уличкам старинного шахтерского городка, развевалось красное бархатное знамя. Впереди шагал старший сын Брозовского, неся Криворожское знамя в своих крепких молодых руках. За ним шли Брозовский с женой и Рюдигер с Лорой. Вальтер, словно жеребенок, скакал возле старшего брата. С обоих сторон эту группу сопровождала свора полицейских.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вот уже четверть часа в комнате оберштейгера слышался только голос директора. Чтобы не упустить ни слова из разговора, штейгер Бартель в четвертый раз на цыпочках подходил к дверям, на минуту замирал, прислушиваясь, и снова медленно возвращался к маркшейдерской. В здании конторы, похожем на барак, и без того можно было разобрать каждое громко произнесенное слово, и Бартелю достаточно было просто усесться в штейгерской у открытой двери.
— Слава богу, обстоятельства складываются благоприятно, оберштейгер Кегель. Теперь на первый план выходят деловые люди. Влияние левых на государственную политику постепенно снижается. Если социал-демократы не проявят понимания — ну, что ж, обойдутся и без них. Вполне понятно, генеральная дирекция больше не станет откладывать и в срочном порядке примет радикальные меры. При этом она может твердо рассчитывать на поддержку нового правительства Брюнинга. Время бесконечных компромиссов и поисков фиговых листков миновало. Брюнинг намерен, если это потребуется, содействовать процессу оздоровления нашей промышленности путем чрезвычайных декретов. И даже готов применить их незамедлительно. Это обеспечит ему полную поддержку крупных концернов и развяжет руки предпринимателям. Господин Гильфердинг обещал, что СДПГ займет лояльную позицию. Или вы ожидали иного?
Директор заразительно рассмеялся. Но оберштейгер ничего не ответил, и он продолжал:
— В мае наше акционерное общество намеревается предпринять кое-какие решительные шаги. Надо же в конце концов хотя бы в одном месте попытаться ввести новые порядки. Это нелегко. Разумеется, снижение расценок на пятнадцать процентов довольно чувствительно, однако вполне приемлемо при условии сохранения работы. Нашим рабочим придется смириться.
Директор, представительный мужчина лет пятидесяти, обладал приятным звучным голосом. Было заметно, что он знает о своей привлекательной внешности.
Оберштейгер, все так же стоя перед директором навытяжку, ответил:
— Когда это станет известно, господин директор, может случиться всякое. При непрерывно возрастающих ценах этого ни один рабочий не поймет. Добыча сейчас же упадет, и удержать ее мне будет не по силам. Генеральная дирекция должна иметь это в виду.
— Оберштейгер Кегель! — резко оборвал подчиненного директор, не взглянув на него. Нахмурившись, он принялся рассматривать свои руки. Провел большим пальцем правой руки по холеным, тщательно подстриженным ногтям левой и вдруг замер. На среднем пальце у самого края ногтя он обнаружил заусенец. Директор достал из кармана жилета перочинный ножичек, раскрыл его и тщательно удалил кусочек кожи.
Оберштейгер, не отрываясь, смотрел на письменный стол. Под стеклом лежала диаграмма месячной добычи на шахте. Толстая черная линия тянулась по миллиметровке сначала горизонтально, потом ненадолго взмывала кверху, а к концу месяца опускалась на три деления вниз. Он знал, что уменьшение добычи зависело не от шахтеров. Канатный привод часто выходил из строя, и подъем породы на поверхность задерживался. В штреках груженые составы ежедневно создавали пробки, по два раза приходилось сращивать тяговый канат в главном штреке, подъемник порою не справлялся, а недавно и совсем отказал из-за повреждения направляющих. А теперь еще снижение расценок. На пятнадцать процентов!..
Начальство хочет знать его мнение, хорошо. Он решился.
— Подобные действия будут иметь тяжелые последствия. Это явится новым стимулом для беспокойных элементов среди шахтеров. При таком снижении вряд ли удастся успокоить даже наиболее благоразумных рабочих и удержать их от присоединения к радикалам.
— Оберштейгер Кегель! — На этот раз в голосе директора зазвучал металл. Защелкнув нож, он слегка подтянул тщательно отутюженные брюки и закинул ногу за ногу. «Стареет Кегель, — думал он. — Нет в нем былого рвения. Придется, пожалуй, в связи с предстоящей реорганизацией предприятий предложить генеральному директору новую кандидатуру. Напряженное положение в промышленности требует, чтобы производством руководили дипломированные специалисты. Но подготовку к снижению расценок на Вицтумской шахте все-таки надо будет поручить Кегелю. Нельзя с самого начала взвалить на нового руководителя столь тяжкий груз».
Кегель не выдержал холодного насмешливого взгляда директора и опустил седую голову.
— «Беспокойные элементы» — не совсем то слово, оберштейгер Кегель. На этот раз либеральничать не станем! Мы, конечно, знаем, что без шероховатостей не обойтись. Но мы к этому готовы. Государственные учреждения получат соответствующие указания. Прошло то время, когда нас можно было шантажировать. Правительство больше не допустит подрыва промышленности. Пора положить конец интригам всякого рода подстрекателей. Предварительные переговоры показали, что руководители профсоюзов готовы прийти к соглашению. А в остальном мы полагаемся на здравый смысл рабочих. Радикальные болтуны… — Директор щелчком стряхнул пылинку с рукава своего пиджака.
Оберштейгеру Кегелю было невдомек, чего ради директору Лингентору вздумалось удариться в высокую политику. Им овладело естественное чувство протеста.
— Надо учесть, что как раз теперь, накануне выборов в производственный совет, рабочие проявляют повышенный интерес к политике. Тут ловкие манипуляции вряд ли помогут. В такое время крутые меры легко могут вызвать взрыв страстей, — сказал он.
— Поэтому-то я и решил поговорить с вами сегодня. Снижению расценок должна предшествовать кое-какая политическая подготовка. Будет небольшой сюрприз. На вашей шахте впервые выступит со своим списком кандидатов в производственный совет национал-социалистская немецкая рабочая партия. Представляю себе, как удивятся ваши большевики. — Директор самодовольно улыбнулся.
Кегель напряженно думал, кто бы мог за этим скрываться. Он испытующе смотрел на директора и молчал.
— Простоев производства ни при каких обстоятельствах быть не должно.
Директору показалось, что его доводы возымели действие. И он продолжал уже в доброжелательно-поучительном тоне:
— Каждое падение добычи опасно для реорганизационных планов нашего акционерного общества и может увеличить процент снижения расценок. Но такого намерения ни у кого нет. По возможности, снижение не должно переходить определенных границ. После его проведения намечена модернизация всей откатки и механизация врубовых работ.
Директор говорил долго. И вдруг заметил, что Кегель его совсем не слушает и рисует в своем блокноте человечков.
— Господин оберштейгер Кегель! — крикнул он вне себя от ярости.
Бартель за дверями чуть не присел от неожиданности. В кабинете, наверное, что-то случилось. Он в пятый раз подкрался к самой двери, но, когда директор повысил голос, поспешил отойти.
— Вам, господин оберштейгер, пора определить, на чьей вы стороне! Речь идет о давно вынашиваемых мероприятиях генеральной дирекции, а не о пустяках. Мы рассчитываем на полную поддержку со стороны наших служащих. Я настоятельно прошу вас положить конец всякому попустительству. На вашем участке бог знает что творится. Разве вы не заметили, что, например, этот Брозовский…
Зазвонил телефон. Из Горнопромышленного управления в Эйслебене срочно требовали директора. Принимая трубку из рук Кегеля, он метнул на него враждебный взгляд. Разговор был краток. Кегель встал.
— Я вынужден просить вас явиться с докладом в Эйслебен, господин оберштейгер Кегель, — направляясь к выходу, холодно бросил директор.
Кегель не пошел проводить его. В полном изнеможении он опустился на стул и с тупым безразличием уставился в пространство. Он не слышал стука в дверь и поднял голову, лишь когда Бартель кашлянул.
— Ну, что у вас, Бартель? — спросил он безучастно.
«Черт возьми, как его пробрало», — подумал Бартель.
Он уселся без приглашения. Его по-военному коротко подстриженные волосы торчали ежиком.
— Я еще раз по поводу вентиляционного контроля, вы ведь в курсе дела. Проходка нового вентиляционного штрека в корне изменила положение. Контроль стал совершенно излишним. Я намерен убрать Брозовского оттуда. Но никто не хочет иметь его на своем участке.
— Брозовского?
Кегель оглядел Бартеля с головы до ног. Штейгер носил высокие сапоги, светлый китель военного образца туго обтягивал живот. «Не хватает только портупеи, и член «Стального шлема» Бартель к бою готов», — подумал Кегель. И откуда берется такая неистребимая страсть к игре в солдатики? В контроле за газами он не проявляет и половины нужного усердия, жалобам нет конца. Кегеля так и подмывало обрезать Бартеля как следует, но он сдержался.
— Да, Брозовского надо убрать, и немедленно. Отправьте его откатчиком в околоствольный двор. Там прорывов хватает, живо перестанет заниматься политикой, — сказал он с неожиданной для себя неприязнью.
Увидев довольную ухмылку на жирном лице Бартеля, он пожалел о сказанном. Ведь Брозовский четыре с половиной года был солдатом и дорого заплатил за все. Может быть, отменить распоряжение? Нет!
— Напишите приказ о переводе Брозовского к надзирателю откатки Верфелю. Пусть займется этим строптивым типом. Он и не таких уламывал.
Бартель не собирался уходить.
— Ну, что еще, Бартель? — спросил Кегель, досадливо морщась.
— Да нет, ничего особенного. Только чувствуется, будто что-то назревает. Всюду оживилось национальное движение. С тех пор как социал-демократам пришлось капитулировать и выйти из всегерманского правительства, повеял свежий ветер. В правительстве Пруссии они тоже лишние, но цепляются за свои места, как утопающий за соломинку. Давно пора указать им на дверь. И у нас господам радикалам, кажется, тоже собираются подрезать крылья? Пора, пора! Я это всегда говорил!
Эта грубая подделка под доверительный тон вывела Кегеля из себя. Все, что ли, помешались на большой политике? Сам он всегда был националистом. В его комнате до сих пор висят портреты Бисмарка и старого кайзера, при котором он служил в гвардии. В годы войны прибавился еще и портрет Гинденбурга. Во время президентских выборов нового покупать не пришлось. Пока он жив, пусть висят. Двадцать лет был он оберштейгером этой шахты. Но со времени забастовки 1909 года, после которой получил свое назначение, кое-что изменилось. В те времена люди еще спускались в шахту с плошками. Строптивыми они были уже тогда, а теперь?.. Теперь они просто невыносимы. Он выполнял все распоряжения дирекции Мансфельдского общества горных разработок, а после того как оно превратилось в акционерное общество, неукоснительно следовал всем указаниям совета, и не только по долгу службы. Это он мог утверждать со спокойной совестью. Не кто иной, как он год назад вызвал наряд полиции, когда шахтеры выбирали Рюдигера делегатом в Россию, и рисковал своей головой, когда прервал их незаконное сборище. Ему нечего было стыдиться. Он знал, что такое преданность долгу, и показывал в этом пример другим. Так прошла вся жизнь. Но только сегодня он понял, как постарел. Директор не сказал об этом ни слова, однако все было и без того понятно. И вот теперь предстояло снижение расценок на пятнадцать процентов, причем на Вицтумской шахте за это отвечал он. На него рассчитывали.
Черная пятница Нью-Йорка докатилась до Германии, перекладывая на плечи рабочего люда бремя финансового краха. За убытки, понесенные Мансфельдским акционерным обществом на мировом рынке, должны были расплачиваться невиновные. Он знал каждого из двух тысяч шахтеров, знал также, как они живут. Среди них попадались и тихони и лентяи. Но большинство были истыми мансфельдцами: честными, прямолинейными, грубыми, порою строптивыми, они работали с утра до ночи, иной раз пили сверх меры, скандалили, ругались, бывали твердолобы, но…
Кегель вспомнил своего отца. Старик спускался в шахту, взяв из дому кусок хлеба с грушевым повидлом. Сало и дешевую колбасу он смог себе позволить лишь в конце своей шахтерской жизни. А он сам? Ребенком он ползал на коленях по огороду, выковыривая картошку; в семье было семеро детей, и каждые восемь дней мать сбивала из козьего молока комочек масла. Два брата и поныне шахтеры, один на «Клотильде», другой породоотборщик на «Пауле». Оба старших давно лежат в могиле — умерли молодыми от силикоза. А его, пока он учился в Горнопромышленном училище, вывозили на своем горбу отец и братья. Когда он стал штейгером на одной из шахт, старик слег и больше не встал.
Потрясла ли его эта неожиданная смерть? Он воспринял ее как нечто совершенно обыденное. К тому времени у него уже была собственная квартира. Мать поплакала немного, а братья принялись обсуждать, как набрать денег на гроб и могильный камень. Он увильнул, сказав, что чересчур потратился на обстановку квартиры. А залезать в долги не хотел.
«Проклятье! Почему прошлое навалилось на меня именно сегодня? На чьей я, собственно, стороне? Разве я не мансфельдовец?» — спрашивал он себя, пытаясь вернуть прежнее самообладание, и исподлобья глядел на Бартеля.
«Ишь как надулся, индюк. И чего расселся, что ему надо, — на мое место метит? «Крылья подрезать» — вот как этот карьерист называет меру, отнимающую у детей двенадцати тысяч шахтеров кусок хлеба. По какому праву он сует нос не в свои дела?»
Бартель был из числа «церберов». Так служащие Мансфельдского акционерного общества называли между собой того, кто держал своих подчиненных в ежовых рукавицах.
Кегель нервно покрутил пуговицу на воротнике и скривил рот. «А разве сам я не цербер? И не был им всегда? Разве иначе я удержался бы хоть минуту в должности оберштейгера? Я заставил уважать себя!..»
Но штейгер Бартель пошел гораздо дальше. Он отказался от родного брата, тихого, скромного человека, лишь потому, что тот был социал-демократом. Правда, это принесло Бартелю авторитет в кругу коллег, — он был последователен и мог служить примером. Особенно большое впечатление это произвело на младших служащих.
Совсем запутавшись, Кегель спросил себя: «А какое у меня право возмущаться по этому поводу? Разве я сам не порвал отношения с братом только потому, что его сын в двадцать первом угодил в тюрьму? Этакий паршивец, посмел стрелять из пулемета по полицейским, когда они заняли гетштедтскую школу под казарму».
Он судорожно глотнул. Воротник душил его. Он пытался найти себе оправдание. Но не находил. Наоборот, угрызения совести мучили его все больше.
«Кой черт заставил меня отказаться от собственных родных? — размышлял он. — Может быть, газетное сообщение о приговоре, опозорившем фамилию Кегель? Но разве это давало мне право два года спустя не пускать Эмиля на порог моего дома, словно какого-нибудь бродягу, когда тот решился спросить, не найдется ли работы для его сына? Просто я боялся сплетен среди сослуживцев. Уж очень хотелось выкарабкаться наверх».
Он спохватился. «Боже мой, куда меня занесло! Хватит. Прав я был или нет, но я не хотел иметь с ними ничего общего! — Все это молнией пронеслось в его мозгу. — Лишь бы Бартель ничего не заметил». Кегель выпрямился.
— Да, тяжелые времена, коллега Бартель. Вам тоже нелегко придется. Все мы, служащие фирмы, вероятно, тоже скоро узнаем, почем фунт лиха…
* * *
— Кегель становится странным, — сказал Бартель жене.
Он сидел на кушетке и покряхтывал, а жена стаскивала с него сапоги; обувь эта не из удобных, но он любил сапоги. По утрам, в шахте, сапоги стаскивал с него мальчишка-ламповщик, зажав их между колен. Сам он сидел при этом на стуле и помогал, упираясь в мальчика свободной ногой. Один из ребят заупрямился было и притворился дурачком. Но Бартель быстро «уговорил» его метром по заднему месту.
Сапоги сидели так плотно, что жене Бартеля пришлось поднатужиться, — красные прыщи на ее щеках обозначились острыми бугорками. Сапоги шлепнулись на ковер вместе с портянками. Бартель с удовольствием потянулся. Над ним висел портрет Людендорфа. Фельдмаршал, заложив руку за борт мундира и милостиво улыбаясь, взирал на поистине воинские тяготы жены Бартеля.
— Да, да, странным и мягкотелым. — Бартель с наслаждением растирал себе икры и лодыжки.
— Так ведь он уже немолод, — сказала она, учащенно дыша.
— Однако не так уж и стар, — возразил Бартель. — До последнего времени справлялся с делами. Но сегодня ему так досталось, что, пожалуй, не оправится. Явился директор. Меня тоже пригласили, — добавил он после небольшого раздумья. — Кегель сдает. Он уже не улавливает, что от него требуется. Кажется, дни его сочтены.
— Вот это новость! — Жена Бартеля сразу оживилась и от волнения принялась чистить сапоги портянками. — А кто будет вместо него, уже известно?
Бартель потянулся. Многозначительно и в то же время как бы нехотя проронил:
— Пока ничего определенного. Но на шахте найдутся подходящие служащие, так полагает и директор. У меня тоже стаж достаточный.
— А директор ничего не сказал? Я имею в виду — может, он на что-то намекнул? — Фрау Бартель уселась рядом с мужем и попыталась прижаться к нему. Он отстранился, когда она коснулась его щеки своими прыщами.
— Прямо нет, но…
— Вот было бы счастье. Наконец-то! После стольких лет ожидания. Не все могут терпеливо и преданно ждать. Значит, твои взгляды не остались незамеченными. Недаром я всегда утверждала, что исполнительность непременно будет вознаграждена.
Ее ликование претило ему. И все-таки он не удержался, уж очень хотелось еще покрасоваться.
— Политическая ситуация требует самых крутых
мер, — заявил он. — Германия должна вопреки жестокой конкуренции завоевать мировой рынок. Это касается также и нашей продукции. — Он выждал действия своих слов. Оно соответствовало его ожиданиям, в лице жены он всегда имел слушателя, который умел оценить его высказывания по достоинству. Когда он посвящал ее в свои дела, она всегда слушала, разинув рот. — Генеральная дирекция подготавливает большое снижение расценок. Весь руководящий состав мобилизуют для предотвращения возможных волнений. Поэтому в ближайшее время мне предстоит… — Он не закончил фразы. И гордо выпятил грудь.
— Снижение? Но ведь не окладов? Надеюсь, нас это не коснется?
— Нот. Только расценок, на пятнадцать процентов. Мы идем на это против воли, заставляет железная необходимость. Положение в промышленности таково, что иного выхода нет, если мы не хотим допустить еще и ущемления прав служащих. Но пока это не должно выходить за пределы нашего круга, слышишь?
У жены Бартеля сложилось впечатление, будто это он повлиял на решение снизить расценки, а не оклады служащим.
— Значит, только расценки? Ну, это не так уж страшно. Вы совершенно правы. — Она с облегчением вздохнула, словно с нее свалилось тяжкое бремя. — Конечно, высокие расценки долго удержаться не могут. Они создают главные трудности на мировом рынке, в Японии расценки вдвое ниже. Как же тут нашим фабрикантам конкурировать! Недавно господин фон Альвенслебен говорил об этом в своем докладе. Он в самом деле разносторонне образованный человек, обаятельный и умный. И держится очень просто. Не знаю, чем он пастору не угодил. Пастор не понимает, что жизнь теперь требует от нас гораздо больше, чем прежде. У него это, конечно, от преклонного возраста… Господин фон Альвенслебен будет теперь чаще выступать на наших совместных собраниях. Пора создать широкий патриотический фронт под твердым руководством, сказал он. Супруга директора Зенгпиля возьмет на себя женское движение, ее муж не возражает. До сих пор он колебался, оно и понятно. Но Буби рассеял его сомнения. Мы все называем господина фон Альвенслебена — Буби. Молодые женщины прямо без ума от него. Он такой мужественный и держится свободно.
Она стыдливо зарделась, когда он проворчал:
— Я слышал, что даже слишком свободно.
— Бог с ним, зато своих штурмовиков он держит в руках. Пока их еще мало, но они очень дисциплинированны.
— Разве?.. — Он покашлял и проворчал совсем уж злобно: — Набрали там всяких, а ни одного старого солдата и нет. В Гербштедте, слава богу, пока еще верховодит «Стальной шлем».
— Зато смельчаки. Ты же сам слышал, как они в Безенбурге разогнали сборище красного профсоюза батраков. Недалек час, когда деревенских апостолов свободы приберут к рукам. Для начала хватит и этих штурмовиков. Господин фон Альвенслебен сказал, что скоро СА расправится с веймарскими болтунами. У фюрера уже есть планы…
Бартель окончательно рассердился. «Тут, оказывается, назревает опасная конкуренция, — думал он. — Жена уже совсем переметнулась к нацистам. Это теперь совершенно ясно. И какие притязания: «Фюрер»!.. Будто у руководителей «Стального шлема» Зельдте и полковника фон Дюстерберга нет своих планов и уж куда более давних и законных притязаний? И разве я не посвящен в их замыслы? В конце концов у меня своя голова на плечах. А этот Альвенслебен, он даже офицером не был!»
После ужина жене Бартеля надо было идти на собрание нацистской женской организации. Владелец пивной при ратуше уже несколько недель предоставлял им свое помещение, так как в зал церковной общины пастор допускал только Общество королевы Луизы. Жена Зенгпиля отомстила ему, переманив к себе последних подопечных пасторши, кроме прикованных к постели и нуждающихся в опеке вдов. Штурмовики, взявшие на себя охрану этих собраний и проводившие время за кружкой пива в комнате для наиболее уважаемых посетителей, оказались притягательнее, нежели часы назидательных бесед в евангелическом Женском союзе. И члены «Стального шлема», которые раньше всегда были надежной защитой собраний Общества королевы Луизы, тоже один за другим потянулись сюда, потому что их жены перешли теперь в нацистскую организацию. Бургомистр пытался было возражать. Но хозяин погребка легко рассеял его сомнения:
— Вы ведь социал-демократ, господин бургомистр? Так вы за демократию или нет? Наше заведение имеют право посещать все, кроме членов организаций, опасных для государства.
Конечно же, бургомистр Цонкель был за демократию. Секретарь магистрата Фейгель тоже говорил ему, что отказ Женскому союзу в праве пользоваться погребком при ратуше несовместим с конституцией.
Когда жена ушла, Бартель надел войлочные шлепанцы, спустил с плеч подтяжки, закурил хорошую сигару — ему высылали их по оптовым ценам прямо из Бремена — и, довольный, принялся бродить по комнатам, наслаждаясь уютом и одиночеством. Сверкающая чистотой кухня, ванная с ватерклозетом — редкость в Гербштедте, — спальня красного дерева, над супружеским ложем ангел-хранитель, написанный маслом и заключенный в рамку под стеклом, большая гостиная с черным полированным роялем и столовая. Он с наслаждением сосал свою сигару и смотрел вверх на портрет Людендорфа. Да, он кое-чего достиг, есть чем похвастать. Бартель лизнул кончики пальцев и почти благоговейно коснулся острых иголок кактусов, которые стояли на лакированной зеленой скамеечке у окна. Надо бы полить. Он чуть было не наполнил лейку сам, но спохватился и решил сделать замечание жене. Такой халатности он не мог допустить.
Господин штейгер — это величина. Он слегка поклонился сам себе и не без тщеславия подумал: «Хоть я и не имею основания твердо рассчитывать, однако, раз предстоят перемены, я, может, все-таки продвинусь еще на ступеньку вверх».
И он улыбнулся, поскольку в душе давно уже считал свое повышение по службе делом назревшим.
«Впрочем, — вернулся он к своей мысли, — разве сегодня мне не везло во всем? От Брозовского я избавился. Давно пора. Он у меня попомнит это знамя. На откатке ни хватит лиха. А когда снизят расценки, бунтарь первый подымет скандал. Тут он и погорит. Либеральничать не будут. Я его проучу, он у меня еще из рук жрать будет!»
Бартель грозно поднял руку с сигарой. С Брозовским все было ясно. Что же касается «Стального шлема» и нацистов, то здесь его в последнее время обуревали сомнения: кто кого обставит? То, что он услышал сегодня, укрепило его уверенность в том, что предстоят большие перемены.
«Насчет штурмовиков надо будет, однако, подумать, — сделал он вывод. — Гитлер и Геббельс здорово развернулись. Хорошо. А вдруг окажется, что у них рыльце в пуху? Все может быть. Лучше подождать. Сперва посмотрим, какие планы у дирекции. С теми подонками, с которыми Альвенслебен носится по окрестностям, его в порядочное общество не примут».
Он был даже рад, что жена его отцвела. На собраниях под защитой штурмовиков с ней теперь уже ничего не могло случиться. Иначе он ее, конечно, не пустил бы туда. А вообще пусть она проторит ему дорогу. Вреда от этого не будет. Или уже поздно?
«Чепуха! — возразил он сам себе. — У господ из дирекции на этот счет нюх хороший. Они не на ту лошадку не поставят. Надо постараться быть на виду. Что умеет Кегель, смогу и я. Даже больше. Они меня еще узнают!»
Бартель настроился воинственно и стал насвистывать мелодию солдатской песни «Громовый голос раздается!..». Но вдруг оборвал свист.
— Вот так мы и поступим! Решено, — произнес он вполголоса. — Подождем! А если директор Лингентор поставит на Гитлера, я еще успею переметнуться.
Приняв решение, он успокоился. В такие вечера, как сегодня, он любил разглядывать свою коллекцию сигаретных этикеток, изображавших мундиры прежних армий. Этикетки собирали для него подчиненные. «Прокуривают последние гроши, голодранцы…» Он достал альбомы из книжного шкафа, удобно устроился в кресле и принялся листать. Вот это были солдаты! Вскоре его стало клонить в сон.
Но стоило ему прилечь на диван — раздался звонок.
Ворча, поплелся он к двери. Однако, узнав жену Бинерта, мгновенно просиял. Сонливость как рукой сняло.
— Добрый вечер, господин штейгер. Надеюсь, ваша жена еще не ушла? Я решила забежать за ней, дорога такая длинная, а на улице сегодня очень томно…
— Добрый вечер, добрый вечер. — Бартель пригласил ее войти и запер дверь. — К сожалению, она уже ушла. Четверть часа тому назад…
Мягко подталкивая слабо сопротивлявшуюся женщину, он открыл дверь гостиной.
— Присядьте хоть ненадолго; вы редко у нас бываете. Немного времени у вас, наверное, еще найдется. В самом деле, вы такая редкая гостья. Как жаль, что жена уже ушла.
Он проследил за ее взглядом. Она искала вешалку, чтобы повесить плащ.
— Будьте как дома. — Он стянул плащ с ее плеч. Она немного пожеманничала.
— Ах, оставьте, мне надо идти, сегодня женский вечер…
Ее темные глаза влажно блестели.
— Знаю, знаю, вечер… — Сегодня ему действительно везло во всем.
Он обнял ее и повалил на кушетку.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Бинерт дожидался Брозовского перед своим домом — давно уже такого не бывало. Брозовский даже не взглянул в его сторону. Но Бинерт прилип к нему как репей и не отставал.
— Как тебя в грязь втоптали, в твои-то годы — и вдруг накатчик. Покорно благодарю! Вот тебе и награда за то, что ты подставлял голову за других. Никто для тебя и пальцем не шевельнул.
Брозовский шагал как ни в чем не бывало.
— И долго ты терпеть собираешься? На накатке в шахте даже более молодые не выдерживают.
Брозовский прибавил шагу, пытаясь избавиться от попутчика. Он чувствовал, что сегодня может не удержаться и ударить Бинерта.
— В твои годы пора задуматься, что будет дальше. Одну руку ты уже потерял. А эта работа может тебе стоить и второй.
Брозовский остановился.
— Ты теряешь больше. Тебя уже не считают своим.
— Как так? — спросил Бинерт. Он и впрямь не понял.
— Ты отщепенец. Давай лезь наверх, кандидат в предатели, — презрительно процедил сквозь зубы Брозовский. — Ты мне противен, от тебя несет, как от шелудивого пса.
Губы Бинерта задрожали, но он все же сдержался и сказал:
— Я предлагаю — давай вместе выступим против бюрократов. Вреда тебе от этого не будет.
Брозовский замахнулся.
— Ах, ты!.. — Но одумался и прибавил шагу.
Четыре недели он уже работал накатчиком. Тысяча вагонеток, две тысячи, три тысячи, и так каждый день, смена за сменой. Черточки на черной доске учетчика плавали перед глазами Брозовского даже во сне. Он похудел, от невыносимого темпа его силы таяли. В пятьдесят два года эта работа была непосильной. Ни минуты передышки: с порожней вагонеткой по настилу сюда, с нагруженной вагонеткой по настилу обратно. Сигнальщик дает звонок. Стремительно опускается клеть. Рывком запор шахтного колодца в сторону, пустую вагонетку на себя, поворот, толчок изо всех сил, и нагруженная вагонетка вкатывается на пол клети. Запор на место. Сигнал на подъем…
Запястье правой руки распухло. Так как левой рукой он пользоваться не мог, приходилось тратить вдвое больше сил.
Со вчерашнего дня он знал, что они устроили ему это испытание на выдержку нарочно. Но он вынослив и не надорвется. Скорее могло случиться, что у него лопнет терпение и он вспылит. Подчас ему стоило большого труда подавить закипавший гнев. Вчера он все-таки сорвался.
Ежедневно, спустившись в шахту, Бартель становился позади него на настил и начинал:
— Тебе, наверное, очень тяжело? Да, это занятие не для пожилых людей. На главном горизонте, за воротами штрека было еще терпимо. Тогда и досуг был, чтобы ума набираться. Всегда можно сделать надписи мелом, чтобы товарищи знали, когда собрание. То письмецо, то коротенькая речь. А здесь, конечно, очень тяжело, да еще с одной рукой…
И так минут пятнадцать.
В первый раз Брозовский чуть не взорвался. Но овладел собой. Четыре недели подряд он притворялся глухим.
Ну, а вчера сорвался. Это было неизбежно. Бартель, как всегда, произносил свои глупые тирады, ни к кому в частности не обращаясь, но так, чтобы понятно было всем. Надзиратель откатки, настоящий сторожевой пес акционерного общества, который уже по звяканью вагонеток определял, что их оборот задержался на секунду, недовольно заворчал, когда Брозовский еще перед первой вагонеткой попросил товарища завязать ему бандаж на запястье. Такое начало смены не предвещало ничего хорошего.
— Это надо делать заранее! Давай накатывай! Больше вагонеток! Больше! От накатки зависит вся добыча! Шевелись! — орал Верфель.
Бартель опять тут как тут, стоит, опершись на свой метр.
— Слишком тяжело, я это говорил не раз. Здесь нужны более молодые. Откатка хромает, надзиратель Верфель, совсем хромает. — Он вынул часы. — За десять минут опять на одну клеть меньше. Так дело не пойдет. Это ясно как день. Одной рукой слишком тяжело… Раздавать листовки куда легче.
— Берегись!
Тяжело нагруженная вагонетка заскрежетала по залитому черным маслом железу настила, развернулась поперек и юзом двинулась на Бартеля. Побелев как полотно, штейгер отскочил в сторону, поскользнулся и упал. Метр его раздробило колесами. Вагонетка ударилась о железную поперечину запора шахтного колодца и прогнула его, колеса нависли над бездной. На дне колодца захлопали соскользнувшие куски сланца.
— Вырвалась из рук, штейгер Бартель. Тяжело нагружена, не смог удержать…
Брозовский оттащил вагонетку назад. Глаза его сверкали. Опускавшаяся клеть сорвала изогнутый запор и сбросила его вниз. Бартель вытер выпачканные руки о стойку и принялся искать свой фонарь. Фонарь оказался между вагонетками, которые толкал Брозовский. Пинком Брозовский швырнул его под ноги Бартелю.
— Получите вашу люстру!
Бартель назвал товарищей Брозовского и надзирателя Верфеля свидетелями того, что Брозовский хотел его искалечить.
— Хулиганам не место на шахте! — орал он.
Напарник Брозовского, девятнадцатилетний чернявый парень с бычьей шеей, у которого волосы росли чуть не от бровей, зло огрызнулся:
— Хватит измываться над Брозовский! Каждый день только и слышно: «Тяжело да тяжело». Катись отсюда!
В присутствии накатчиков надзиратель побоялся явно стать на сторону Бартеля. Он-де ничего как следует не видел. На откатке попасть между вагонетками немудрено. Он уже не раз был свидетелем несчастных случаев.
— Вагонетка всегда может соскочить, — сдержанно заметил он.
Бартель затрубил отбой.
— Мы еще поговорим, все станет на свое место.
Когда Брозовский поднялся из шахты, он не нашел своего номерка на табельной доске.
— Иди к оберштейгеру! — крикнул ему из проходной табельщик Тетцель и подмигнул. — Это Бартель подложил тебе свинью. Ох и зол же он! — шепнул он на ухо подошедшему Брозовскому.
Прежде чем идти в душевую, Брозовский остановился У доски объявлений. Рядом с общим списком кандидатов профсоюзной оппозиции на выборах в производственный совет, где его имя стояло вторым после Рюдигера, висел список социал-демократов во главе с Лаубе. Лаубе не хотел быть в общем списке, несмотря на то что все рабочие подавляющим большинством голосов требовали составить единый список. На этот раз он объявил, что скоро последует исключение коммунистов из профсоюза. Брозовский сжал зубы. «Паршивая компания», — подумал он. Он собирался было уже идти дальше, когда его внимание привлекло еще одно объявление.
Что такое? Он вгляделся внимательнее. Но объявление на доске не исчезло.
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКАЯ ПАРТИЯ
СПИСОК КАНДИДАТОВ
НА ВЫБОРАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОВЕТ
1. Бинерт Эдуард, забойщик, Гербштедт, Гетштедтская улица.
2. . . . . .
Брозовский осторожно огляделся. Неужели это в самом деле наша доска объявлений? Он еще раз взглянул. Да, черным по белому: «Бинерт Эдуард, забойщик…»
За его спиной засмеялся парень, с которым он вместе работал на откатке.
— Это же анекдот! — воскликнул он. — Годится только на подтирку!..
Из-за плеча Брозовского к объявлению протянулась рука.
Сорвав бумагу, парень смял ее и направился в уборную. Верхний левый угол объявления остался висеть на кнопке.
«1. Бине…» — можно было еще прочесть.
Это и прочитал шахтный полицейский, который подошел к доске после Брозовского и мрачно посмотрел ему вслед.
Не заходя в душевую, Брозовский отправился к оберштейгеру. Дверь конторы была открыта. Оттуда доносился голос Бартеля:
— Успех? А почему бы им и не иметь успеха? Попытка — не пытка. Ведь Бинерт сосед Брозовского, может, он у него что-нибудь и перенял. Хватка у нацистов есть.
Штейгеры засмеялись. Брозовский не смог разобрать, кто отвечал Бартелю, он только услышал:
— …бесспорно успокоит страсти.
Брозовский вошел.
— Добрый день. Мне велели явиться.
Кегель мельком взглянул на него.
— Кто вы такой? Зачем? Ах, так вы Брозовский. Присядьте-ка.
Брозовский жестом отклонил приглашение. Промасленный войлочный шлем в его руке повлажнел от пота.
Кегель порылся в куче бумаг. Наконец нашел то, что искал.
— Плохо дело, Брозовский. Поднять руку на служащего! Да еще в шахте! Да, плохо дело. О чем вы думали?
— И вы этому верите, оберштейгер Кегель? Не выслушав обвиняемого?
— А что мне остается делать? Вот черным по белому: штейгер Бартель, надзиратель откатки Верфель. Две подписи.
— И Верфель тоже? Интересно! Внизу он только пожал плечами, но ничего не сказал. Хорошо, что вы хоть прямо сказали мне об этом.
Тон Брозовского заставил оберштейгера насторожиться. Он знал Брозовского по многим конфликтам. И хотя тот слыл одним из самых непримиримых, все же был спокойным и рассудительным человеком. Этот тон не без причины. Но что ему за дело? Порядок есть порядок.
— Я должен вас наказать, — сказал Кегель резко. — Вычет дневного заработка за оскорбление служащего.
— Вы этого не сделаете, оберштейгер Кегель, — возразил Брозовский с таким спокойствием, что тот внимательно оглядел стоящего перед ним человека, будто видел его впервые.
— Вы мне угрожаете?
— Наоборот, это вы мне угрожаете!
— Вы неисправимы. Вас и в самом деле следовало бы уволить. Это было бы в интересах производства. — Кегель рассердился. Он хотел поговорить с ним, как человек с человеком, потому что ему заявление Бартеля тоже показалось сомнительным. Но не в таком же тоне! Этот человек своим упрямством усложнил ему задачу. И было обидно, что он сам опять сбился на свой прежний командный тон. Он хотел было смягчить сказанное, но Брозовский прервал его:
— Уволить или нет — это решит Трудовой суд, оберштейгер Кегель.
Брозовский тут же пожалел о сказанном. «К чему иллюзии насчет Трудового суда? — подумал он. — Решать должен весь коллектив, и никто другой. Но слово не воробей…»
И вышел, не простившись.
Уже в прихожей он услышал телефонный звонок, раздавшийся в кабинете Кегеля, но не знал, что звонил шахтный полицейский и что звонок этот решил его судьбу.
Брозовский и сегодня еще не знал об этом. Почти бегом пустился он вверх по улице, лишь бы избавиться от этого кандидата национал-социалистской партии.
Бинерт вытер рукой пот. Шатаясь, как пьяный, он поплелся вслед за Брозовским на шахту. «Опять меня заставили поговорить с ним. Зачем поддался? Ведь заранее знал, чем это кончится. Сволочь проклятая…»
У ворот Брозовского остановили. Товарищи, возвращавшиеся с утренней смены, забросали его вопросами:
— Ты разузнал, в чем дело, Отто?
— В газетах уже есть сообщение об этом?
— Профсоюз обязан был, по крайней мере, поставить нас в известность!
Брозовский ничего не понимал. Шахтеры были чем-то взволнованы. Но чем?
Весь день до обеда он просидел дома с компрессом на запястье. Минна уговаривала его сходить к врачу. Но он отказался. После вчерашнего происшествия оберштейгер, а в особенности Бартель и Верфель сочли бы это уловкой. Нет, он не сдастся. Верфелю он еще скажет пару теплых слов. Ночью Минна встала и сменила ему компресс. Его рассказ о Бартеле, Бинерте и о скандале не произвел на нее особого впечатления.
— Всему виной жадность Ольги. Она дурака Эдуарда просто-напросто продала, сам он ни за что бы до этого не додумался. Деньги, деньги! Как только она слышит о деньгах, так сразу теряет голову, — решительно заявила Минна. — А то, что Бартель хочет воспользоваться случаем и дать тебе пинка, тоже меня ничуть не удивляет.
Брозовский ровно ничего не знал о том, что произошло на шахте. Он попросил объяснить, что случилось.
— Поговаривают о снижении расценок.
— Не слыхал. — Брозовский обвел взглядом товарищей. Толпа перед воротами росла. Вскоре уже сотни людей теснились вокруг него, надеясь узнать, каково положение вещей.
Бинерт проталкивался сквозь толпу с таким чувством, словно его вели сквозь строй. Никто не уступал ему дороги. В проходной охранник звонил по телефону. Брозовскому все еще приходилось отвечать на вопросы и выслушивать предположения. Он посмотрел на часы. Без десяти два. Ему нельзя опаздывать, нельзя давать им новый повод для придирок.
Он поспешил в душевую. Там оставалось лишь несколько человек. Они быстро натянули свои комбинезоны и, понурившись, затопали по лестнице наверх — на погрузочную площадку.
Снижение расценок? Предчувствие беды омрачило все лица.
Брозовский быстро скинул одежду и натянул комбинезон. Несколько откатчиков и тягалей, которые обычно спускались последними, окружили его, требуя объяснений.
Все были накалены до предела. Брозовский встал на скамейку и призвал к спокойствию. Кучка слушателей стала таять. О спокойствии они и слышать не хотели, знать правду — вот что им было нужно.
Брозовский поспешил в табельную, но его номерка на месте не оказалось. Тетцель только мрачно взглянул на него и ничего не сказал. Перед верхней приемной площадкой его остановили двое служащих и шахтный полицейский:
— Вы уволены!
Уволен! Ага! Брозовский мгновенно понял, с чем это связано. Оба служащих и полицейский проводили его до душевой.
— Вы назначены мне в свиту?
— Забирайте сразу все ваше барахло. Сюда вы больше не вернетесь, — раздраженно ответил полицейский.
У Брозовского не было с собой рюкзака, поэтому он свернул свою рабочую одежду в узел и перетянул его поясным ремнем.
Выйдя на шахтный двор, он хотел было сперва зайти в производственный совет. Но полицейский остановил его:
— Вход в здание управления шахты посторонним лицам воспрещен.
Брозовский пропустил его слова мимо ушей и направился прямо к зданию управления. Тогда полицейский преградил ему путь. Один из служащих вызвал подкрепление. У полицейских были в руках резиновые дубинки, и они пригрозили, что пустят их в ход, если он не подчинится.
Вся свита проводила его до отдела найма.
— Я требую дать мне возможность поговорить с оберштейгером.
Служащий смутился.
— Оберштейгера Кегеля с сегодняшнего дня больше нет на шахте. Он отозван в Эйслебен. Его замещает штейгер Бартель.
Бартель появился из соседней комнаты и швырнул бумаги Брозовского на барьер, разделявший помещение пополам. Было видно, что он ждал этого момента. В справке было написано:
«Брозовский Отто, откатчик, принят 4 апреля 1892 года, уволен 23 мая 1930 года за грубое нарушение производственной дисциплины».
В витиеватой подписи Брозовский узнал руку Бартеля. Над ней две буквы: «И. о.».
Брозовский порвал справку на мелкие кусочки и, улыбнувшись, спокойно, с чувством собственного достоинства, бросил их за барьер.
Бартель ожидал совсем иного. Ведь ему доложили, что Брозовского привели двое служащих и четверо полицейских, и он надеялся увидеть человека, доведенного до бешенства.
Он был разочарован, и в его наставительном тоне явно слышалась ненависть:
— Закон есть для всех закон, его надо уважать. Это касается также и кандидатов в производственный совет. Срывать выборные списки не рекомендуется. За это приходится платить дорогой ценой.
Свита проводила Брозовского за ворота. Он уже шагал вниз по улице в город, когда сзади раздался голос Рюдигера. Забойщик его участка сообщил ему, что Брозовскому не дали спуститься в шахту. И Рюдигер немедленно поднялся наверх.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Через небольшие окна в комнату доносился смех детей. Склон горы сверкал свежей зеленью, майский день улыбался людям.
Брозовский в задумчивости сидел за столом, под глазами у него были темные круги. Лишь рано утром возвратились они с Рюдигером из Эйслебена. Рюдигер тотчас же отправился на шахту, надо было успеть еще до начала первой смены известить людей о том, какой удар готовился им в Горнопромышленном управлении.
Брозовский услышал радостный визг детей и срывающийся петушиный голос Вальтера:
— Прозевал, прозевал! Будешь водить еще раз. Быстрее, а то полиция смажет тебе пятки!
«Хорошо, что хоть дети пока не знают никаких забот», — думал Брозовский, ероша свои поредевшие волосы. Товарищи в Эйслебене предупредили, что предстоят тяжелые бои. Брюнинг все туже затягивает петлю на шее народа, а Мюллер, нацист Фрик и шеф полиции Карл Зеверинг помогают ему по мере сил. Но больше всех старается Карл Зеверинг; после того как у него отобрали портфель министра внутренних дел всегерманского правительства, он снова лезет в министры полиции — теперь уже Пруссии.
Косые лучи падали в комнату, высвечивая причудливые узоры на темном сосновом шкафу. Первый день безработицы близился к обеду.
Минна Брозовская завела в доме новое правило: теперь комнатой пользовались не только в праздники. Зачем им вечно тесниться на кухне? Ее мужчины, как она называла сыновей и отца, с трудом привыкали к этому новшеству. Входить сюда после огорода или хлева в заляпанных глиной башмаках не разрешалось. За этим она следила строго. Только ее второй сын, который уже давно жил в Лейпциге и изредка навещал родителей, легко привык к новому распорядку.
Взгляд Брозовского упал на знамя. С тех пор как знамя находилось в доме, оно стояло в углублении между шкафом и печной трубой. Оно, собственно, и было причиной нововведений в доме Брозовских. Перевязанный шпагатом черный плотный клеенчатый чехол предохранял его от пыли. Для защиты от моли в чехле лежали пакетики с нафталином. Никому не разрешалось трогать знамя или переставлять его, никому нельзя было брать его в руки без разрешения Минны Брозовской. Клятва мужа значила для нее больше, чем даже для него самого. После вручения знамя только два раза побывало на демонстрации: прошлый год на майские праздники и нынче — первого мая тысяча девятьсот тридцатого года. В прошлом году колонну возглавлял еще Союз красных фронтовиков; с тех пор как социал-демократ Зеверинг запретил этот союз, знамя охранял отряд Пролетарской самозащиты.
Знамя стало неотъемлемой принадлежностью дома Брозовских, и его место было, само собой разумеется, в «гостиной», оно пользовалось особым почетом, и без него дом Брозовских был немыслим. А если знамя нужно было нести на демонстрацию, его неизменно сопровождали оба Брозовских. Таков порядок, было сказано и Юле Гаммеру, который считался чуть ли не членом семьи, когда он хотел прихватить знамя с собой в Эйслебен на профсоюзный праздник, в то время как Отто был в трехдневной отлучке на курсах революционных профсоюзов в Галле. Юле возразил, что знамя не частная собственность и что он поставит этот вопрос перед партийным руководством, но Минна была непреклонна, и ему пришлось уйти не солоно хлебавши. Однажды досталось и Вальтеру, когда он, вопреки запрету матери, захотел похвастать перед школьными товарищами. Мать застала его как раз в тот момент, когда он разворачивал полотнище знамени перед восхищенными мальчишками. Подзатыльники, полученные им тогда, он помнит и по сей день.
Брозовский недовольно отодвинул лежавшие перед ним бумаги, потом снова придвинул их, покусал кончик ручки и вновь отодвинул бумаги в сторону. Жена его возилась у печки. Накрахмаленный передник ее шуршал при малейшем движении. Она возобновила давно прерванный разговор:
— Разве ты ожидал от него чего-нибудь иного? Я ведь разъяснила тебе вчера утром все до самых мельчайших подробностей, пойми же ты наконец. Иной раз ты меня удивляешь. У Бинерта никогда не было собственного мнения. А раз он стал нацистом, то и подавно быть не может, там надо только подчиняться. Все это дело рук его ученого зятя и милой женушки. Я ведь тебе уже говорила. А твое увольнение? Разве оно для тебя неожиданность? Теперь они небось сидят за гардинами и злорадствуют. — Она кивнула в сторону дома соседей. — Ну и пусть. В одном только Гербштедте каждую неделю прибавляется десяток-другой безработных. Бургомистр еле наскребывает денег на пособия. Он уже не знает, откуда взять эти несчастные гроши. Пускай они колбасят дальше, правительство Мюллера все равно уже на ладан дышит. Оно никому не нужно. А что до нас, то мы с голоду не помрем.
Брозовский уклонился от разговора и принялся писать. Его жена сердито загремела кольцами конфорок. Облако черного дыма вырвалось из плиты. Минна резко захлопнула дверцу топки и сказала:
— Летом я все-таки буду готовить на кухне. А то грязи не оберешься. Трубочист приходит только тогда, когда он не нужен.
Брозовский промолчал.
— Вы, мужчины, вообще чересчур податливы и нерешительны. Сегодня жены безработных покажут господам из ратуши, почем фунт лиха. Вздумали отменить квартирное пособие! Сегодня бургомистру, а заодно и всей его бражке, достанется по первое число. Самого Зеверинга спихнули, а его дружки в Гербштедте все еще сидят.
Брозовский так углубился в работу, что пропустил слова жены мимо ушей. Он писал: «…и я протестую против моего незаконного увольнения. На основании параграфа…» Он принялся листать книгу в поисках нужного параграфа. Не найдя его с первого раза, Брозовский вполголоса выругался.
Жена взглянула на него через плечо.
— Не понимаю, на что ты надеешься. Ведь Трудовой суд для того и существует, чтобы обнадежить человека, а потом, когда он успокоится, без шума избавиться от него. — Она вдруг рассердилась. — Сидишь себе, как будто все это тебя не касается. Ты меня слушаешь или нет? Я не считаю себя такой уж грамотной, но одно знаю твердо: судью оплачивает государство, убытки — оно же, судебные издержки — опять же государство, а ради чего? И что это за государство? Кому оно нужно? Да тем самым, кто тебя выкинул, кто оплачивает еще и одного из заседателей. Жди от него справедливости! А второй заседатель, как правило, Иуда. Если бы профвзносы рабочих жгли им руки, они, может, и подыскали бы себе более честную работу. Но они живут себе припеваючи.
«Согласно закону о производственных советах и существующему порядку разбора трудовых конфликтов, недопустимо…» — писал Брозовский.
— Да с кем я говорю: с тобой или нет?! — закричала она.
Он положил ручку и поднял глаза.
— Пиши, пиши, бумага все терпит! — сказала Минна возмущенно. — «Право на труд»! Нужно оно им, как прошлогодний снег. Право на труд — не игра в жмурки. Правда, оно еще бродит вслепую, и выигрывают те, у кого есть что положить на чашу весов. Тогда они склонятся в нужную сторону. Но, уж конечно, не в твою.
Он обошел вокруг стола и прислонился спиной к шкафу.
— Все, что ты говоришь, верно, Минна. Но товарищи посоветовали мне подать жалобу. Рюдигер тоже сказал, чтобы я не дал маху и не прозевал срок обжалования. Производственный совет выразил свой протест еще вчера.
— Как только рабочие перестанут безропотно подставлять свои головы, сразу выяснится, кто прозевал свой срок.
— Дирекция отсеивает всех, кто, по ее мнению, может поднять остальных на забастовку против снижения расценок. Пятнадцать процентов — это уже не снижение. Это грабеж среди бела дня! Они соскребывают последний грамм маргарина с хлеба горняка. Шахтеры кипят от возмущения.
— «Кипят от возмущения»… Холодное спокойствие куда полезнее для забастовки.
— Спокойствие вообще самое лучшее оружие против провокаций. Вот поэтому-то я и хочу спокойно составить жалобу в Трудовой суд, но никак не могу. Ты меня все время отвлекаешь. Увольнение кандидатов оппозиции в производственный совет незаконно.
Минна подбоченилась. Он не помнил случая, чтобы она говорила с такой издевкой.
— «Незаконно» — не смеши меня! Неужели ты веришь в эту глупость? Или надеешься на чудо? Не будь ты в списке кандидатов, они нашли бы другой повод. Да что там — нашли бы! Он у них уже есть, и твое увольнение ничего общего со списком не имеет. Ты цепляешься за эти параграфы, как утопающий за соломинку. В справке ведь ясно сказано: «Уволен за грубое нарушение производственной дисциплины…» Они уж сообразят, что написать. Главарей вон, и весь сказ, а список тут ни при чем. Они рассчитывают так: когда вожаков нет, стадо повернуть нетрудно.
— Жалоба — это только начало. Дело ведь не во мне одном. На шахте «Вольфс» тоже двоих уволили. — Брозовский взял книгу со стола. — В законе сказано…
— Оставь ты это! Все равно ведь ничего не выйдет. — Она взяла у него книгу и презрительно швырнула на стол.
Брозовский рассердился.
— А у тебя разве есть рецепт на этот случай? — крикнул он.
Она насмешливо улыбнулась, и он вспомнил, что однажды в ее присутствии сам втолковывал Юле Гаммеру и Паулю Дитриху: «Готовых рецептов не бывает!» Ему стало стыдно, и он совсем уже другим тоном сказал:
— Конечно, вряд ли что выйдет, я это знаю и сам. Зато процесс покажет товарищам, в какой стране и как мы живем.
— Да я тебе уже говорила: это давно известно. Спроси-ка угольщиков; кто работает неполную неделю и кладет зубы на полку, тот отлично знает, где и как он живет. Ты просто чудак.
Брозовский понурил голову. Каждое слово жены попадало не в бровь, а в глаз. И все-таки он упрямо возразил:
— От умных речей тоже мало толку. До людей все доходит с трудом. У нас пока еще нет неполной недели, как на угольных шахтах, этот трюк только входит в моду. Найдется достаточно дураков, которые этого потребуют. В том числе среди безработных…
Она яростно перебила его:
— Что с тобой стряслось? Кто этого потребует? Безработные? Ты стал говорить, как бургомистр. Выходит, тогда и бастовать нельзя, потому что безработные…
— Довольно, Минна! — Брозовский был взбешен.
— Нет, не довольно! Подумай сам, что ты говоришь. Неполная неделя! Погоди, я прочту тебе отчет о последнем заседании городского самоуправления. Тогда ты услышишь, что сказал по этому поводу бургомистру депутат Брозовский.
Она достала из-за зеркала номер газеты «Классенкампф» — орган Коммунистической партии Германии. Отчет был помечен красным карандашом.
— «Придумав неполную рабочую неделю, социал-демократическая верхушка совместно с предпринимателями заманила рабочих в сети. Теперь рабочие беззащитны, думают они. Но это ошибка. Правда, заработок при неполной неделе не превышает пособия по безработице. Поэтому, справедливости ради, намечено снизить пособия. Но из этого ничего не выйдет, господин бургомистр!» — читала Минна. — Это ты сам сказал! А теперь послушай, что сказал секретарь вашего профсоюза, которого вы все еще терпите, и тогда до тебя все дойдет. «Кто работает только три дня в неделю, тому легче пережить остаток недели, сознавая, что в оставшиеся дни будут работать его товарищи». Ну, что ты на это скажешь?
Она перевернула страницу.
— А что было, когда безработные в зале подняли шум? Тогда опять выступил депутат Брозовский: «При неполной рабочей неделе предприниматели максимально используют оборудование, у них ничего не простаивает и не ржавеет. А заработная плата вдвое меньше. Они хорошо рассчитали! Кто половину недели отдыхает, тот в оставшиеся три дня вкалывает в полную силу. Добыча не только не падает, но и обходится вдвое дешевле. Горнякам пытаются внушить, что это лучше, чем безработица. Это дьявольский обман!»
Брозовский судорожно глотнул. Она сунула газету за наклонно висящее зеркало и взяла половник.
— Вот так! Но все это не ново. Кто работает у обманщиков, должен знать, что его обманывают. Вы должны разоблачить этот обман, только не жалобами.
— Ты же прекрасно знаешь, что я имею в виду.
— Надеюсь, ты тоже! — В ее голосе звучали враждебные нотки. — Если этого не сделаете вы, сделаем мы. Мы, женщины, устроим этим жуликам баню. Сегодня мы покажем городскому самоуправлению! Бургомистр Цонкель не узнает своих послушных овечек. Принеси-ка воды, пора готовить суп. — Она сгребла в кучу его бумаги и поставила на них кастрюлю. Затем принялась разминать половником картошку. Увидев закопченную кастрюлю на белом листе, он тяжело вздохнул и вышел.
— Жены тех, кто получает пособия в связи с кризисом, безработицей и прочим, хотят сегодня пожелать бургомистру безоблачного правления! — крикнула она ему вдогонку. — Твой «законный» путь отнюдь не самый правильный!
Когда муж принес воду, она чуть не вырвала у него черпак из рук. Высоко засучив рукава кофты в синий горошек, она так рьяно мешала половником в кастрюле, что забрызгала супом пол.
— Мы, женщины, подадим вам пример. С нами этот номер не пройдет! В конце концов дома у нас гораздо больше стычек, чем на ваших собраниях. За словом в карман не полезем. И если нам даже придется сидеть на одной картошке с брюквой, мы все равно не отступим. Я пойду с делегацией. И буду говорить с Цонкелем!
С него хватило этого урока. После обеда, буркнув что-то, он вышел во двор, а она принялась мыть посуду, продолжая вслух разговаривать сама с собой.
Разноцветные осколки стекла, вмазанные сверху в каменную ограду, поблескивали на солнце. Куры копошились под окном кухни и, распушив перья, купались в пыли.
Брозовский сходил в хлев, принес деревянный совок с дробленым ячменем и разбросал горсть зерна. Куры взвились, как облако перьев. «Пусть хоть раз попразднуют», — подумал он и опустился на корточки среди кур, жадно теснившихся вокруг него. Здоровенный петух с красно-золотым жабо клевал зерно у него из рук.
Вот, оказывается, как выглядит жизнь безработного горняка… Брозовский сердито откашлялся, отнес совок обратно в хлев и заглянул через перегородку в закуток для свиньи. «Тоже пора вычистить», — сказал он себе и открыл дверцу.
Радостно взвизгивая, поросенок стремглав бросился на кур. Потревоженная стайка взлетела на узкий выступ каменной стены и, почувствовав себя в безопасности, взволнованно закудахтала. Брозовский оттащил навоз в яму, бросил в хлев охапку соломы, распушил ее и смел все соломинки.
Потом он снова побрел по двору. Оглядел дом. «Вон, наверху, опять осыпается глина с фасада. Каждую весну я его зализываю, но первый же дождь опять отваливает куски. Черт возьми! С этой хибаркой забот не оберешься!» Ему стало смешно. «Домовладелец! Отто Брозовский! Смех, да и только».
«Минна, конечно, права, так уж сразу мы не пропадем, — продолжал он размышлять. — Но откуда у нее эта твердость духа? Или она надеется на клочок земли, свинью в хлеву и козу?» Он представил себе, какое бы она сделала лицо, если бы кто-нибудь соскреб эту толику рыхлой почвы с их огорода и увез в тележке. Прощай тогда вся ее твердость!
«Боже мой, но земля тоже ведь принадлежит акционерному обществу, — вспомнил он вдруг. — Осенью, когда истечет срок аренды, они ее отберут!» — Он сдвинул фуражку на затылок, как делал всегда в трудную минуту.
«Проклятье! А ведь так и будет, никуда не денешься. Мы ее удобрили, затратили столько труда на эту землю, а ее отдадут в чужие руки. Желающие, конечно, сразу найдутся».
Какой-то шум заставил его прислушаться. Может, он нечаянно запер курицу в хлеву? Он пошел взглянуть, что это там за возня. Согнувшись, стоял он в закутке, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку. По улице за каменной оградой, громыхая, проехала повозка. Сверху слегка осыпалась земля, весь хлев заходил ходуном.
Никакой курицы в хлеву не оказалось. Свинья рылась в соломе и валялась в закутке, похрюкивая. Он вышел во двор, раздумывая, за что бы еще взяться, и тут услышал, как хлопнула дверь дома. «Наверное, Минна отправилась в ратушу, растолковать там, что к чему», — подумал он.
Со скуки он еще раз подмел каменные плиты двора. «Вот те на! Мы забыли позвать Вальтера к обеду!»
Собираясь выйти на улицу, чтобы поискать мальчишку, он услышал какие-то неясные звуки, доносившиеся из центра города. «Надо будет взглянуть, что там у ратуши происходит», — подумал он и поднял голову, прислушиваясь.
И вдруг увидел сына верхом на каменной ограде.
— Папа, у ратуши полицейские бьют женщин! Они только успели собраться, как их сразу же стали разгонять. Больше всех старается жандарм из Обервидерштедта. Он бьет даже ногами. Жена Гаммера дала ему затрещину, а у мамы течет кровь.
Больше Брозовский не слушал. Он только на миг увидел занесенную над оградой ногу, как у всадника, садящегося на коня. Послышался грохот, и он подумал, что мальчишка, наверное, вывернул из стены расшатанные камни.
Вниз по улице бежали женщины. Брозовский бросился за ними, на ходу натягивая пиджак. Изо всех окон смотрели люди, гадая, что произошло. Стайкой вспугнутых воробьев неслась шумная ватага детей, обгоняя старого Келльнера, сердито грозившего им палкой.
Пробегая мимо дома Бинертов, он услышал, как изнутри поспешно заперли входную дверь. Келльнер попробовал было втянуть его в разговор:
— Что же это такое, Отто… Как можно натравливать полицию на женщин…
Но Брозовский бежал дальше. На улице, которая у рыночной площади сужалась в тесный закоулок, толпилось множество женщин. Тяжело груженной угольными брикетами машине с прицепом пришлось резко затормозить. Она пошла юзом, ударилась о край тротуара и встала поперек улицы, загородив проезд. С площади доносились громкие крики и плач детей. Сельские жандармы пытались оттеснить женщин в боковые переулки. Они били их резиновыми дубинками. Женщины защищались палками от транспарантов.
За каску одного полицейского зацепился плакат: «Дайте молока нашим детям!»
Размахивая руками, полицейский скакал на одной ноге, пытаясь освободиться от плаката. Кто-то ударил по плакату, каска полицейского прорвала его, и он повис на шее, как жабо. Полицейский яростно толкнул в грудь женщину, дергавшую палку от лозунга.
Неистово орущая толпа женщин устремилась с площади в узкую щель между грузовиком и стеной дома. Брозовского оттеснили назад, ему так и не удалось пробраться. Некоторые бросились ползком под кузов и выбирались оттуда с ободранными коленями, в разорванных платьях, вопя от ужаса. А мотор еще работал, и машина дергалась, пытаясь стронуться с места.
Вне себя от ярости шофер
выключил зажигание и распахнул дверцу кабины. Схватив большой гаечный ключ, он замахнулся на вахмистра, расправлявшегося с женщинами у самой машины, грозя проломить ему череп. Помощник шофера метнулся из кабины и выхватил из кузова совковую лопату. Полицейский отпрянул.
Бледная черноволосая девушка взобралась в кузов машины. Хватая брикеты обеими руками, она швыряла их в полицейских. Неужели это Эльфрида Винклер, за которой ухаживал Пауль Дитрих?
Брозовский не помнил, как очутился наверху. Так же неожиданно, как появился, он спрыгнул с грузовика по другую сторону от девушки прямо в неистовствующую толпу. Плотный клубок тел увлек его за собой. На удирающего полицейского обрушился ливень брикетов. Брозовский шаг за шагом продвигался вперед, к углу площади.
Там, в самой толчее, взметнулось знамя, и на мгновение он увидел жену, ее окровавленный лоб. Оттуда, перекрывая гул голосов, доносились громкие крики полицейских:
— Отберите у них знамя! Прежде всего знамя, отобрать знамя!
По мостовой, высекая искры, запрыгал камень. Босоногий мальчишка метнулся в толпу женщин, сгрудившихся вокруг знамени.
Брозовский видел, как знамя заколебалось. Стало опускаться. Но потом снова взмыло вверх. Полицейским так и не удалось отнять у женщин знамя Кривого Рога. Его окружили непробиваемой стеной.
— Долой! Прочь! Хлеба и молока! Долой!
Стоя у открытого окна на втором этаже ратуши, бургомистр беспомощно разводил руками. Этого он не хотел. Отряд полиции ему просто навязали, впрочем, нет — после некоторых колебаний, вняв совету секретаря городского самоуправления, он сам вызвал их. Но бить женщин — тут же, в приемной, когда они принялись излагать свои требования… Он закрыл лицо руками.
— Хлеба! — раздавалось у него в ушах.
Меллендорф поспешно удрал с поля боя, волоча за собой портупею, и укрылся в ратуше. Несколько полицейских убежали вслед за ним.
Жены гербштедтских безработных завладели площадью. Знамя шахты имени Феликса Дзержинского гордо реяло над их головами.
Толпа, которая все продолжала расти, притиснула Брозовского к полицейским, собравшимся у входа в ратушу. Они сорвали с него пиджак. Он сопротивлялся. Только в караульном помещении он пришел в себя и стал обдумывать случившееся.
Это его жена несла знамя во главе шествия. А рядом с нею, босой и весь в ссадинах, шел их мальчик, одной рукой крепко ухватившись за древко.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
На Вицтумской шахте окончилась первая смена. Соблюдая привычный порядок, горняки группами, как делали это каждый день, заходили в клеть, поднимались наверх и, поспешно покидая ее, взволнованно переговаривались. На погрузочной площадке не было обычной толчеи второй смены, клети опускались в шахту порожними. Канатная дорога на террикон стояла. Сигнальщик не успевал отвечать на вопросы.
— Сами читайте, шею нам свернуть собираются! — огрызнулся он, устав от расспросов.
Горняки столпились перед двумя огромными объявлениями у душевой и у табельной. Поднявшиеся на поверхность не шли, как обычно, в душ, а бросались выяснять, что случилось. Слышались громкая брань, иронический смех, можно было разобрать только отдельные слова. Черные блестящие буквы зловеще взирали на толпу.
К СВЕДЕНИЮ РАБОЧИХ
Экономическое положение страны, ухудшившееся за последние месяцы, поставило дирекцию перед необходимостью принять важные решения. Если бы не помощь правительства в течение многих лет, шахты пришлось бы закрыть уже давно. Но эти субсидии не бесконечны, да их и недостаточно для поддержания производства на прежнем уровне. В результате падения цен и мощной конкуренции иностранных фирм, чья продукция намного дешевле, сложилось катастрофическое положение. Экспорт в Америку полностью прекращен. Депрессия, охватившая все страны, вынуждает нас принять решительные меры. Столь бедственное положение усугубляется тенденцией падения добычи при одновременном увеличении себестоимости…
Вследствие всего сказанного дирекция вынуждена 31 мая 1930 года уволить всех рабочих и остановить производство…
Дирекция ставит в известность, что она намеревается возобновить производство с 1 июня 1930 года и предоставить работу всем уволенным при условии снижения расценок на пятнадцать процентов.
Рабочие, желающие возобновить работу…
ДИРЕКЦИЯ МАНСФЕЛЬДСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Группы спорящих возникали одна за другой. Разговоры слились в общий грозный гул. Шахтеры отталкивали друг друга, каждый хотел прочесть объявление сам. На бумаге появились отпечатки пальцев. Шахтеры показывали друг другу дату предстоящего увольнения. Строка, где говорилось о снижении расценок на пятнадцать процентов, стала неразборчивой. Вновь прибывшие отказывались верить этой новости. Особенно пожилые, более рассудительные и спокойные, сомневались в достоверности того, что им выкрикивали из толпы. Вконец растерянные, стояли они теперь перед лицом безжалостной действительности. Штейгеры смешались с толпой и пытались успокоить шахтеров. Они резко выделялись чистотой рук и одежды, большими фонарями, сверкающими медью оправ.
— До тридцать первого еще несколько дней. Давайте сегодня поработаем, Шмидт, а там спокойно все обдумаем.
— Ну, Вольфрум? Пожалуй, пора. А то скоро начнется выдача руды. — Штейгер достал часы.
Чернобородый сутулый забойщик читал объявление, шевеля губами. Рука его судорожно сжимала лопату, висевшую на поясе.
— Что же делать, от простоя легче не будет. Смена есть смена!..
— Ну, ты идешь, Вендт? Или еще не наговорился? Утро вечера мудренее, еще успеешь. Тяжело, но если спокойно подумать…
Штейгеры обращались к каждому рабочему. Но тщетно. Никто их не слушал, на них огрызались. Привычное уважение к начальству развеялось как дым.
Генрих Вендт, выведенный из терпения штейгером, который никак от него не отставал, сказал:
— Спускайтесь пока сами, штейгер Люттих, мне надо все это сначала переварить. Заодно порубайте немного за меня.
Он выбил трубку о каблук, набил ее снова и пустил в лицо штейгеру облако дыма.
В душевой Бинерт в нерешительности возился со своим комбинезоном. Он был одним из немногих, кто переоделся ко второй смене. Объявления поставили всех в тупик. Как быть? Если бы можно было кого спросить… Никто не давал ему инструкций, как вести себя в таких случаях.
У входа в душевую потихоньку переговаривались несколько человек. Сын оптового торговца зерном Хондорф, рослый жилистый парень, работавший проходчиком, процедил сквозь зубы:
— Это свинство. Но бастовать я не буду. Мне денежки нужны.
Услышав такие слова, Бинерт облегченно вздохнул. Значит, он не совсем одинок. Хондорф был сперва во флоте на Балтике, потом в Черном рейхсвере. Неприятный парень, от него отрекся даже родной отец. Объясняли это по-разному. Одни утверждали, будто он слишком глубоко запустил руку в кассу родителя; другие полагали, что причиной было его исключение из техникума в Кётене — прямо с первого семестра, а третьи — что тут замешана девчонка. Как бы там ни было, он жил теперь у Рихтера, дочь которого была в положении.
В проходе появился Бартель, выпятив свой и без того огромный живот.
— Ну, так как же?..
Бинерт повесил свой термос с кофе через плечо и, ссутулившись, прошмыгнул мимо штейгера. Бартель даже не удостоил его взглядом. Четверо-пятеро последовали за ним и, сделав большой крюк, вышли к погрузочной площадке. Только Хондорф поднялся прямо по длинному настилу наверх. Сигнальщик смерил всех недобрым взглядом.
Клеть поднялась наверх. Стукнули двери. Выходящие из клети проводили отщепенцев бранью.
— Предатели всегда найдутся!
— Сволочи паршивые!
— Куда спешите? Хотите спасти акционерное общество?
— Ты встал на скользкую дорожку, Хондорф. Или думаешь за одну смену набить карман на всю жизнь? Твой старик все равно лишил тебя наследства, а столько, сколько на спекуляции зерном, здесь тебе вовек не заработать.
— Эй, Бинерт, тебя что — водкой накачали? Вид у тебя уж больно осовелый.
— Да не трогай ты его. Он ведь член нацистского клуба! — Мускулистый шахтер ткнул Бинерта термосом в бок так, что тот согнулся в три погибели.
Сигнальщик захлопнул двери и со злостью плюнул вдогонку спускавшейся клети. Надзиратель Верфель и несколько штейгеров встречали прибывших у входа в забой. Верфель внимательно оглядел всех. Ни одного толкового парня! Он презрительно хмыкнул.
Они переминались с ноги на ногу, не зная, что делать дальше. Один из штейгеров попытался запустить электровоз, — даже водителя не было.
Шум возле объявлений продолжал нарастать. Развязались языки даже у таких людей, как Вольфрум, которые обычно предпочитали держать свое мнение при себе. Штейгер, все еще не оставлявший надежды уговорить его спуститься в шахту, сразу отстал, как только он ему сказал:
— Не лезьте. Сейчас не время трепать языком.
У шахтеров слово Вольфрума пользовалось весом. В апреле дирекция наградила его за сорокалетнюю работу на шахте почетным дипломом и серебряными часами. Он едва сдержался, чтобы не бросить подарок оберштейгеру под ноги.
В комнате производственного совета окна были открыты настежь. Задыхаясь и кашляя от табачного дыма, Рюдигер заявил, что решение дирекции незачем обсуждать, его надо просто решительно отвергнуть. Шахтеры, толпившиеся у окон, горячо поддержали его.
Только двое высказались за то, чтобы обождать. Лаубе и Барт советовали сначала выяснить правовую сторону дела. И вообще судьбу шахтеров решает профсоюз рабочих горнорудной промышленности — законное представительство горняков.
— Судьба шахтеров в надежных руках, — с апломбом заключил Лаубе.
Его заявление вызвало бурный протест собравшихся.
— Какую еще там правовую сторону? И без того ясно, что мы кругом правы, вот тебе и весь закон.
Лаубе встал и закрыл окна.
— Под таким нажимом невозможно спокойно работать. Сразу начинается скандал. Старая, знакомая песня.
— Я тоже рекомендую проявить максимальную сдержанность. Вызывающее поведение только ухудшит положение. Я против того, чтобы сразу же прибегать к крайним средствам, — прочирикал своим птичьим голоском Барт.
— А почему бы и не прибегнуть к этим средствам? Ведь речь идет о самом насущном? — резко возразил Рюдигер.
Барт представлял в производственном совете породоотборщиков и других рабочих на поверхности. С ноября восемнадцатого года он работал делопроизводителем местного отделения социал-демократической партии в Гербштедте и, к полному удовлетворению всех членов, выполнял свои обязанности так же, как выполнял их в имперском Союзе горняков и металлургов до ликвидации этого Союза в октябре того же года. Сходство его фамилии с фамилией Бартеля часто давало повод для путаницы и насмешек, что, конечно, мало способствовало его авторитету. «Бартель и его Барт»
[2] — стало крылатым выражением, а сам Барт — комической фигурой. На шахте его прозвали «Тенью». Он всюду таскался за Бартелем, как приклеенный. К его прозвищу все настолько привыкли, что даже сам Барт откликался на него.
— Я знаю, ваша партия только и ищет повода, чтобы заварить кашу, — ядовито отпарировал он.
— Заткни свою глотку! — крикнул кто-то из облака табачного дыма.
— Мне вы рот не заткнете!
— А нам и подавно!
Стало так шумно, что писклявый голос Тени потонул в общем гомоне.
— Я настаиваю, чтобы мои возражения были занесены в протокол, — только и расслышал Рюдигер.
— Можешь быть уверен, они останутся не только в протоколе! — крикнул он. — Ты что нее, хочешь помешать горнякам защищать свои права? Мы еще поговорим об этом на собрании!
— На каком собрании? Право решать принадлежит профсоюзу, — резко возразил Лаубе. — Я против общего собрания. Пока профсоюз не принял решения, мы только зря распалим страсти и будем бросать слова на ветер. Я не пойду на собрание неорганизованных рабочих и всякой шушеры, которые вдруг возьмут да и примут решение о прекращении работы. Это дело организованных рабочих, и больше никого. Профсоюз объявит, если сочтет забастовку необходимой.
— А из кого состоит профсоюз? — поинтересовался худощавый забойщик.
— Во всяком случае, не из скандалистов.
Лаубе был взрывником. Все знали, что он со своей бригадой зарабатывает на шахте больше других. Ссутулившись, он упрямо смотрел на собравшихся.
— Выходит, рабочие сами виноваты в снижении расценок? — съязвил Рюдигер.
— Если руководство профсоюза считает нужным повременить, значит, у него на это есть основания. Оно недаром отвечает за все.
— А своей головы у тебя нет на плечах?
— Моя голова на месте, а вот ты свою, видно, потерял.
— Ну хватит! Переходим к повестке дня. Кто за созыв общего собрания? — спокойно спросил Рюдигер.
Между тем у доски объявлений страсти разгорались.
— Эти жулики не только крадут наш заработок, они еще и гадят государству! — кричал Юле Гаммер, возвышаясь над толпой. — А оно перекладывает все на наши плечи. Господа акционеры отделили медеплавильный завод, который сбывает конечную продукцию, от шахт и металлургических предприятий. Они создали на его базе самостоятельное общество. И оно дает прибыль. Про шахты же говорят, будто они убыточны. А государственные денежки кладут себе в карман. Это всем известно.
— Не болтайте ерунды, — вмешался шахтный полицейский, которого поставили охранять доску объявлений.
— Тебе что здесь надо? — огрызнулся Юле.
— Вы мне не тыкайте. Мы с вами свиней не пасли. Кончайте горлопанить! Или на работу, или прочь отсюда!
— Слушай, ты!.. — Юле схватил полицейского за мундир и так сдавил, что тот начал задыхаться.
— Это вам даром не пройдет, — пыхтел полицейский, пытаясь вырваться.
— Тебе тоже!
Полицейский уже еле держался на ногах. Юле как раз собирался нанести ему хорошо рассчитанный удар, но тут напарник Брозовского рванул его за плечи.
— Предоставь-ка этого мне. Он уже донес на одного из наших.
Парень нагнул голову и изо всех сил боднул полицейского. Издав непонятный утробный звук, полицейский рухнул на землю, беспомощно хватая руками воздух.
— Это тот самый, Юле. Я тебе вчера говорил, он донес штейгеру, будто Брозовский сорвал бинертовскую писанину. Ишь ты, какой всезнайка. Гляди-ка, теперь он сразу все забыл.
Парень пнул бесчувственное тело ногой. Вокруг собралась толпа, равнодушно поглядывая на лежащего.
Неожиданно появился Бартель. От обычной его флегмы не осталось и следа.
— Ага, первое выступление! — злорадно сказал он Гаммеру. — Нападение на полицейского. Многому научились у Брозовского, очень многому. Но мы вас быстро отучим!
— Постовой упал. Какое отношение это имеет к Брозовскому? — вмешался Генрих Вендт.
— А вы помолчите! И принимайтесь за работу! Все марш на работу! — Бартель словно вырос на целую голову.
— Ого!..
— Отправляйтесь к оберштейгеру, Гаммер! — заорал он на Юле. — Вам, видать, надоело здесь работать?
— Почему?
— Он еще спрашивает! Это и так видно.
Бартель нагнулся над полицейским.
— Помогите-ка!..
Но толпа подалась назад.
— Прежде чем обвинять людей, протрите глаза, штейгер Бартель. Тогда увидите, что происходит.
Генрих Вендт двинулся на штейгера. Несколько человек сразу примкнули к нему, среди них Вольфрум. В зеленоватых глазах его светилась ненависть.
Юле Гаммер только повернулся. А штейгер уже побелел и, теснимый шахтерами, стал отступать, спотыкаясь о рельсы и шпалы, пока толпа не подмяла его под себя.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В это самое время Брозовский сидел напротив Цонкеля. Раньше они часто сиживали вместе до полуночи, третьим в их компании всегда бывал Рюдигер. Но это было больше шестнадцати лет назад. С тех пор пути их разошлись. Ныне их разделял письменный стол бургомистра.
Брозовский осторожно потер рукавом щеку, покрытую запекшейся кровью. После схватки с полицейскими вид у него был не слишком приличный. Цонкель сделал знак Меллендорфу. Но тот медлил и не уходил.
— Я не могу оставить вас с арестантом одного.
И только когда бургомистр прикрикнул на него, полицейский нехотя покинул кабинет.
Некоторое время Цонкель кряхтел и откашливался, потом высморкался в цветастый носовой платок. Он уже много лет не спускался в шахту, но до сих пор не мог отделаться от раздражения слизистой, которому подвержены все работающие в сланцевых рудниках. Наконец он прокашлялся.
— Вот видишь, до чего ты дошел. Арестант! И это говорит тебе — депутату городского совета — полицейский. Вашими бурными демонстрациями вы ничуть не улучшите положения и ничего не измените.
Брозовский смотрел мимо Цонкеля. Его внимание привлекли толстые тома Гражданского кодекса за стеклами дубового шкафа. Видимо, они должны быть за спиной каждого бургомистра, когда он беседует с согражданами.
Цонкель старался держаться официально; чтобы разговор но принял чересчур личного характера, он пододвинул Брозовскому указ за подписью прусского министра внутренних дел о запрете демонстраций.
— Вот черным по белому: шествия и демонстрации запрещены. Сопротивление представителям власти… На кого ты похож? Или вам это нужно для пропаганды? Вы и меня поставили в неудобное положение, и сами навязали себе полицию.
— Твою полицию. Видишь, как она обращается с депутатом городского совета.
— Это не моя полиция. Она существует для общего спокойствия и порядка, для всех.
Брозовский посмотрел Цонкелю в глаза.
— Я это почувствовал. Она существует и для меня. Хорошенькие порядки ты завел. Мы знакомы не первый день, так скажи мне откровенно, тебе не кажется, что с твоей демократией не все в порядке?
Цонкель положил руки на стол и опустил глаза.
— Моя должность требует объективного взгляда на вещи. Бургомистр отвечает за весь город, а не за один какой-нибудь слой населения.
— Но определенные слои очень довольны таким образом действий. Это избавляет их от многих неприятностей.
— Пожалуйста, не затрудняй мне выяснение твоего дела.
— А что тебе, собственно, от меня нужно, Мартин Цонкель? Зачем ты велел привести меня сюда?
— Я дал указание освободить тебя и не разрешил арестовать твою жену. Несмотря на то что тебя задержали за сопротивление представителям власти. Полиция подчиняется мне.
— Благодарю покорно. То-то полицейские так распоясались давеча. Раз ты сам чувствуешь себя ответственным за это побоище…
Цонкель в бешенстве вскочил, смял листок с указом и сунул его в ящик письменного стола. Его верхняя губа с коротко подстриженными усиками нервно подергивалась, обнажая испорченные зубы. Едва владея собой, он принялся сновать по комнате. Брозовский невозмутимо наблюдал за ним. Сопротивление властям, в этом он обвинялся не впервые. Однажды даже вместе с Цонкелем. Правда, тогда на нем не было дорогого темно-синего костюма в елочку, в тот раз кирасиры давили их лошадьми, а они бросали в них камнями.
— Когда вы, коммунисты, ради ваших безумных целей гоните жен безработных на улицу, то этим только помогаете реакции. Ты же отлично знаешь, каково положение. За счет чего прикажешь удовлетворять непомерные требования о вспомоществованиях? Городской бюджет известен тебе не хуже, чем мне. Где я возьму денег? Государственные дотации урезаны. А демонстрации запрещены. Министр внутренних дел Пруссии…
— Да оставь ты своего министра в покое! С тех пор как он в правительстве, творятся непонятные дела. Нацисты маршируют. «Стальной шлем» марширует. А как только женщины предъявляют тебе свои требования, сразу же возникает угроза республике. В Гербштедте у нас сто восемьдесят безработных, с семьями это составляет шестую часть населения. Им надо жить. Независимо от того, останется лидер твоей партии в правительстве или нет. Брюнинг протаскивает теперь то, что ему оставил в наследство Герман Мюллер, и все правительство Пруссии пляшет под его дудку. А в масштабе государства социал-демократы уже на вторых ролях. Во-первых, теперь можно легко обойтись и без них, во-вторых, они и нужны-то лишь для перестраховки.
— Оставь эти необоснованные нападки!
— Необоснованные? — Брозовский упрямо выдвинул подбородок. — Это факты, и я могу их доказать. На миллионы, которые министры — твои товарищи по партии — выбросили на броненосец «А», ты мог бы напоить молоком не одну семью.
— Мои товарищи социал-демократы только потому и вышли из всегерманского правительства, что не согласны с политикой перекладывания всех тягот на плечи трудящихся.
— А почему они не переложили эти тяготы на имущих, ведь это было в их власти? Точно так же как тут у нас полиция — в твоей власти. И момент был подходящий. Но они предпочли отдать деньги на создание военного флота. Сегодня нам это очень нужно.
— Ты настоящий демагог. Ведь прекрасно знаешь, что мы не имеем большинства в рейхстаге. А вы нас никогда не поддерживали.
— Давеча я тоже должен был поддержать тебя и твою полицию?
Цонкель сердито засопел. Его серое, несколько одутловатое лицо носило неизгладимые следы многолетней работы в шахте, о том же свидетельствовали и его широкие ладони, хотя он старательно ухаживал за руками.
— С тобой невозможно серьезно разговаривать.
— А что толку от разговоров? Ты прав, болтовни и так слишком много.
Цонкель попытался зайти с другого бока. Он явно стремился перевести беседу в более удобное русло.
— Что бы ты стал делать на моем месте?
Брозовский улыбнулся. Он взял графин со стола, занимавшего почти всю ширину комнаты, и налил себе воды в горсть. Осторожно смочив саднящую рану, он вытер щеку. С рукава закапало на потертый линолеум. Все-таки интересно поговорить со старым знакомым — сколько воспоминаний! «Если бы я сидел на твоем месте, — думал Брозовский, — я, например, не стал бы призывать рабочих-спортсменов вступать в рейхсвер или в полицию и не стал бы наводить полицейских ищеек на дома прежних товарищей, когда в двадцать третьем году КПГ вдруг запретили. Но стоит ли говорить об этом?»
— Давай начнем с другого конца, — сказал он. — Я наверняка не повысил бы бюджет полиции в угоду господам Брюнингу, Круппу и Тиссену, как это делают твои партийные лидеры в правительстве Пруссии. Я нашел бы этим деньгам иное применение. Например, обязательно сменил бы полы в школе, чтобы учителя и дети не ломали себе ноги.
Цонкель покраснел и презрительно рассмеялся.
— Ты вообще не дал бы ни гроша для укрепления республики. А ведь прусская полиция — щит против реакции. Она в наших руках, это наше оружие, мы создали ее для защиты республики. Ты живешь спокойно и в полной безопасности потому, что моя партия принимает и такие меры, которые многим не по нутру. Возьми Баварию, там власть в руках фашистов…
— Знаю, «Пруссия — образец порядка, оплот республики»… Я читал это в вашей газетке. Да, моя безопасность и в самом деле проблема, — Брозовский оглядел себя. — А вот безопасность Буби фон Альвенслебена уже не проблема. Увидишь, придет время, когда тот самый полицейский, который привел меня сюда, доставит тебя самого в этот кабинет. Но тогда на тебе уже не будет галстука. И некто объяснит более точно, что такое прусская полиция.
— Ты с ума сошел! Мы создали в Пруссии надежный заслон. О него они обломают себе зубы. Но вам мы тоже не позволим под него подкапываться.
— Знаю! Я знаю, кто такие Цергибель и Зеверинг. Их пулеметы и дубинки нам знакомы. Редко кто из рабочих не испытал их на собственной шкуре. Но Гитлер и Геринг нисколько их не боятся, точно так же как Буби фон Альвенслебен не боится тебя. А их пистолеты стреляют не хуже ваших. Вспомни хотя бы двух рейхсбаннеровцев, убитых в Кельне.
— Нет смысла продолжать этот разговор. Вы добиваетесь раскола, хотите разрушить, уничтожить, хотите беспорядков. Надеетесь наловить рыбки в мутной водице.
— Ошибаешься. Мы хотели вместе с вами составить на Вицтумской шахте объединенный список кандидатов в производственный совет. Этого требует большинство рабочих. Шахтеры хотят объединения. Но твой приятель Лаубе против, а почему — спроси у него.
— Потому что вы хотите навязать нам свою политику. Мы не станем каждый день играть в революцию, мы за демократические решения.
Брозовский взял графин в обе руки и качнул его. Вода была прозрачной и чистой. Лицо Цонкеля, отражаясь в ней, раскачивалось, как на волнах.
— Но обрати внимание, Мартин Цонкель, в другом лагере тоже играют в революцию. Эдуард Бинерт и иже с ним составили нацистский список кандидатов. Как ты сам понимаешь, с благословения вышестоящих. Это выплыло наружу. Монархисты тоже активизируются. Лаубе может драться с Бинертом за голоса. Чем не свобода, чем не демократия! И решения тоже не заставили себя ждать: я только что вылетел с работы.
— Как так?
— В нашем свободном демократическом государстве предприниматель свободно может выставить за дверь любых кандидатов в производственный совет, если они ему не ко двору.
Цонкель проглотил слюну. «Если Брозовский остался без работы, то и меня ожидают веселые деньки. Мерзкое положение!» Эта мысль полностью завладела им.
— Вот-вот, это все результат твоей нетерпимой политики!
— Да ты потерял всякую почву под ногами. Двадцать лет назад, когда при восстановлении на работу после забастовки у нас отбирали профсоюзные билеты и пытались отсеять членов партии, ты реагировал иначе. Тогда ты убедил всех, что в борьбе против политического террора и шантажа иногда приходится идти на сокрытие правды.
— Мне надоели твои нападки!
— Благодарю за получасовую беседу. Она была очень поучительной.
Разговор становился все громче. Они не слышали, что кто-то топтался за дверью. Цонкель совсем вышел из себя, когда Брозовский сказал, что дешевой болтовней и елейными речами никого не накормишь.
Сквозь дверную щель блеснули очки и выплыло лоснящееся холеное лицо секретаря городского совета. Брозовский гадал, почему тот явился: то ли чтобы поддержать отца города, то ли ему захотелось взглянуть, как отделали самого Брозовского, то ли у него и вправду какое-нибудь дело. Цонкель попытался скрыть свое волнение за рамкой официальности, которую он потерял в пылу спора. «Плохо сыграно, — подумал Брозовский, — курам на смех».
— Прикажете направить донесение об арестах по инстанции или вы считаете это теперь излишним, господин бургомистр? — Тон его был елейным и подобострастным. Однако от внимательного слушателя не ускользнул бы оттенок злорадного удовлетворения тем, что ему удалось одной фразой дать щелчок обоим сразу. Первого — самоуверенного выскочку — он разоблачил, а второго, по его мнению, более опасного, унизил. Хватит, достаточно уже доставил им хлопот, вечно лезет куда не надо.
— Направьте по инстанции. Но, конечно, не эту чепуху. А ходатайства о пособиях. Я ведь уже давал вам это указание, — проворчал Цонкель, задетый за живое.
Секретарь Фейгель, отлично знавший Цонкеля, заметил его растерянность. Перед Брозовский Цонкель хотел показать себя бургомистром и пустить ему пыль в глаза, чтобы не пострадал авторитет социал-демократов.
— Я только хотел бы обратить ваше внимание на то, что циркуляр министра внутренних дел предусматривает…
— Выполняйте мое указание! — перебил его Цонкель. Чутье обиженного подсказало ему, что секретарь хочет унизить его в глазах Брозовского. Он вскипел: — Зачем вы вообще спрашиваете? Или вы что-нибудь не поняли?
— Я все отлично понял. Пожалуйста, подпишите ходатайства сами, — возразил секретарь тоном холодным и официальным, всем своим видом подчеркивая явное превосходство над этим мужланом, и, не ожидая приглашения, положил перед Цонкелем документ. — Я снимаю с себя всякую ответственность. Ходатайства противоречат указам правительства.
— Дайте сюда! — Цонкель хотел поскорее отделаться. Он знал, что секретарь куда лучше, нежели он сам, разбирается в этих проклятых параграфах бесчисленных указов и не упускает случая это подчеркнуть. Он подписался неразборчиво, мелкими буквами. Секретарь злобно наблюдал за ним, поджав тонкие губы, и взял документ с видом человека, которого заставляют выполнять то, что вовсе не входит в его обязанности. Но не ушел.
— Еще что-нибудь?
Цонкель особенно нервничал из-за того, что Брозовский был свидетелем этой сцены. Он знал, что по городу ходит слух, будто он всего лишь на побегушках у своего секретаря.
— Я вынужден обратить ваше внимание и на то, что ваше распоряжение об освобождении арестованного Брозовского незаконно. Это превышение власти, господин бургомистр. Арестованный задержан государственной полицией. Полковник полиции Бранд уже известил своего начальника и подал жалобу. Его подчиненные возмущены. Согласно закону вам подчинена только местная полиция. А государственная полиция…
— Пожалуйста, предоставьте это мне!
— Но я обязан указать вам на незаконность ваших действий.
— Вон отсюда, гад ползучий! — рявкнул Брозовский и пнул ногой стул. Его терпение лопнуло.
— Вы ответите за это оскорбление! Я подам жалобу!
Цонкель промолчал. Секретарь отступил к двери. Брозовский увидел в прихожей полицейского и двух сельских жандармов. Фейгель что-то зашептал блюстителям порядка.
— Надо признать, ты крепко держишь бразды правления в руках. Демократические методы руководства в чистом виде! Каждый делает свое дело. Итак, что еще скажешь?
— Бюрократы! — проворчал Цонкель. Он растерянно переминался с ноги на ногу.
— Если бы дело было только в том, что тебя обводят вокруг пальца… Еще не раз придется пережить такие веселые минутки, прежде чем тебе окончательно дадут пинка под зад. Но каждому овощу свое время. Эх, Мартин, раньше, до войны, когда ты еще рубал сланец, ты был добрым товарищем!
Брозовский ногой захлопнул дверь. Ему стало даже жаль Цонкеля. Он подошел к письменному столу и протянул бургомистру руку.
— Интересно, что они сделают, если я сейчас выйду отсюда. Не могу же я обмануть их надежды и выпрыгнуть в окно. Полицейский эскорт на шахте и в городе, полная безопасность. Хорошо жить в управляемой вами Пруссии…
Цонкель бросился к двери.
— Можете быть свободны. Дело улажено! — хрипло крикнул он полицейским. И вытер пот со лба.
До Брозовского донеслись удаляющиеся шаги. Но полицейские поджидали его на лестнице — как цепные псы, у которых выхватили из пасти добычу.
— В ближайшие дни работы у тебя поприбавится. Возможно, перед твоей дверью поставят постоянную охрану. Успокойся, не из-за меня, — сказал Брозовский, когда Цонкель указал ему на дверь. — Если тебе еще не известно, то знай: акционерное общество собирается снизить расценки на пятнадцать процентов. Точно пока ничего не известно. Но народ бурлит. Так что дверь твоя будет хлопать часто.
Цонкель побледнел.
— Значит, это все-таки правда. Мне уже звонили по телефону.
— По всей вероятности, да.
Когда Брозовский двинулся к выходу, Цонкель удержал его за локоть. Он раскаивался, что указал ему на дверь.
— Не делайте ничего необдуманного, Отто.
— Что значит необдуманного? Если слухи подтвердятся, то горняки, конечно, будут протестовать. И я тоже. Тогда один выход — бороться. Сам подумай, кто согласится, чтобы у него отняли последний кусок хлеба?
Внезапно в кабинет вошел Лаубе. Он был вне себя. Увидев Брозовского без пиджака рядом с Цонкелем, он отпрянул и хотел было уйти.
— Куда ты, заходи, — выдавил Цонкель.
— Что с тобой стряслось? — спросил Лаубе, когда Брозовский обернулся к нему. — На кого ты похож?
— Обычная история. Только вы стараетесь ничего такого не замечать, — ответил Брозовский.
Лаубе сжал зубы. На скулах обозначились белые желваки.
После заседания производственного совета он сел на велосипед и стремглав помчался в город, чтобы посоветоваться с Цонкелем.
— Ну, что тебя привело ко мне? — Цонкель явно хотел разрядить обстановку.
Лаубе замялся и уклонился от прямого ответа. Присутствие Брозовского его не устраивало.
— Да просто так зашел. Увидел наряд полиции и толпу женщин на улице…
— Выкладывай без стеснения, ведь видно, что ты перетрусил. А я вам мешать не стану, — сказал Брозовский и направился к двери.
— Побудь еще немного. — Словно ища опору, Цонкель обеими руками ухватился за стол.
— Дирекция объявила о поголовном увольнении всех рабочих тридцать первого числа и о снижении расценок на пятнадцать процентов. Пункт о возобновлении работы не вполне ясен. Мне не понятно, идет ли речь о новом найме, или…
Лаубе стал сбивчиво излагать содержание объявлений. Потом попросил Цонкеля немедленно связаться по телефону с профсоюзным руководством и информировать секретаря социал-демократической партии.
— В объявлении сказано, что… — Он вдруг осекся и, умолкнув, привалился спиной к окну.
— Вот вам ощутимый результат вашего «делового сотрудничества» с предпринимателями, — сказал Брозовский. — Я был только первой ласточкой. Когда мне выдали мои бумаги, все было уже подготовлено. Им оставалось только протянуть руку к полке. А теперь, кроме меня, на улицу выброшено еще двенадцать тысяч, в том числе и ты, Лаубе. Надеюсь, ты подумаешь, как нам сообща отразить это наступление?
* * *
Двадцать минут спустя Брозовский вышел из ратуши, неся порванный пиджак на руке. Вальтер ждал его, сидя на каменном бордюре тротуара.
Он бросился навстречу отцу и схватил его за руку.
— Вон тот прогнал меня. — Он показал на полицейского. — Не пустил к тебе. Но я не ушел. Пошли скорее! Дядя Гаммер и дядя Рюдигер ждут. Они пришли за тобой, и я побежал сюда. Все горняки собираются возле «Гетштедтского двора», — выпалил он одним духом.
Брозовский погладил мальчика по вихрам и оглянулся на полицейского. Тот смотрел поверх него.
— Да, мой мальчик, полицейские — важные господа. Они подчас выше самого бургомистра. А мама уже дома?
— Да, и знамя тоже.
Они пересекли рыночную площадь. Звонкая стайка воробьев выпорхнула у них из-под ног и с крыши ратуши возмущенно зачирикала им вслед. Возле лавки мясника, громко разговаривая, толпились женщины. Перед витриной булочника тоже спорила взволнованная толпа. Брозовский пинком отшвырнул с дороги камень и серьезно взглянул на Вальтера.
— По-моему, этот камень из нашей ограды. Как он здесь очутился?
— Одним я попал. А всего было три.
— Больше не смей этого делать, понял?
Мальчик с недоумением поднял на него глаза.
— Но ведь они били маму!
— Не смей, слышишь?
В глазах Вальтера показались слезы. Свернув в Гетштедтскую улицу, они увидели Рюдигера и Гаммера. Юле держал увесистую палку.
— Симпатично выглядишь, — пошутил он. Положив обе руки на плечи Брозовского, он стал его оглядывать со всех сторон.
— А ты, никак, плачешь? Что случилось? — спросил Рюдигер Вальтера, тщетно пытавшегося унять слезы.
— Я запретил ему бросать камнями в полицейских, — ответил за него Брозовский. — Иной раз это плохо кончается.
— Да, черт бы их побрал, — подхватил Рюдигер. — Как клопы в матрасе. Их лучше всего давить ногтем. Но бросаться камнями?..
В этот день горняки шли с шахты не порознь, а большими группами. Их взволнованные голоса раздавались везде.
Рюдигер обернулся.
— Пошли к «Гетштедтскому двору». Пора! Концерны протрубили сигнал атаки. Мансфельдское акционерное общество объявило наступление по всему фронту. Наша дирекция, как знаменосец концернов, хочет первой совершить прорыв. Мы сегодня же проведем первое собрание.
— Знаю, слыхал от Лаубе. Он опять против.
— Лаубе?
— Он явился к Цонкелю за советом. Они разговаривали по телефону с секретарем союза. Велено выждать, нечего, мол, зря горячку пороть. Мне тоже рекомендовали попытаться успокоить страсти.
— Это похоже на них. — Рюдигер был полон сил и настроен по-боевому. — Пойдем с нами. Твой вид сразу настроит всех на нужный лад.
У Брозовского стало тепло на сердце. Вот это товарищи! А те, что в кабинете бургомистра, уже настолько чужие, что их можно просто сбросить со счетов. Жаль все-таки. Неужели они совсем забыли свой долг? Да, теперь уже начисто забыли.
Они горой встанут за своих министров, за свои собственные интересы, а на защиту интересов горняков их уже не хватает. Неужели они не понимают, что удар наносится и по ним?
Брозовский отогнал эти мысли.
— Ступай, скажи матери, чтобы она меня не ждала. Я пойду на собрание.
Вальтер надулся.
— Зайди прежде домой, папа. Ведь мама одна. Она тебя бранила. Потому что ты не остался дома. Женщины справились бы и сами. А вот здесь Эльфрида бросалась углем! Ух и разозлилась же она!
Он сгреб обломки брикетов в кучу и потянул отца за рукав.
Вмешался Юле Гаммер:
— Минна в курсе дела. Мы собрались тебя вызволять, думали, тебя зацапали. Но видать, смилостивились?
— Цонкель вдруг вспомнил, что сам из народа. Он боится всех, вот и старается угодить и вашим и нашим, — рассмеялся Брозовский.
— Идемте домой, мама даже сварила настоящий кофе. «Сегодня можно позволить», — сказала она. У нее весь лоб залеплен пластырем. — Вальтер показал, какого размера пластырь, и все тянул и тянул за рукав. Он никак не мог взять в толк, почему отец не хочет увидеть этого поскорее сам.
— Беги живей! — Отец слегка шлепнул парнишку. — Кофе я выпью вечером. Пускай мама накроет его подушкой, чтобы не остыл. Притащи мне в «Гетштедтский двор» мой праздничный пиджак и вот такой кусок хлеба. — Брозовский показал размер куска, совсем как Вальтер. — И захвати вот это с собой. — Он накинул ему пиджак на плечи. — Мама тем временем починит его.
— Но вечером ты придешь?
— Конечно.
Они втроем направились к месту собрания.
— Эх, выступили бы женщины на несколько часов попозже, вот было бы кстати! — проворчал Юле Гаммер, когда их обогнали несколько жандармов, возвращавшихся домой на велосипедах. Он размахивал палкой, со свистом рассекая ею воздух, — Мне кажется, шахтерам сейчас было бы самый раз полюбоваться, как лупят их жен. — Он не посторонился ни на шаг, когда один из жандармов резко зазвонил позади него.
— С нынешнего дня этим господам хватит хлопот в собственном доме. Где Цонкель добудет помощь, если она ему опять понадобится? Попробуйте себе представить, что будет, когда двенадцать тысяч разом схватят по булыжнику. Им небо покажется с овчинку! Даже у секретаря союза сердце уйдет в пятки, — засмеялся Рюдигер.
— А у наших стратегов из ратуши и подавно, — добавил Брозовский.
— Неужели это побоище организовал Цонкель? — спросил Гаммер. — Он ведь не очень-то умеет шевелить мозгами, разве только его самого припрут к стенке.
— Отчасти и он. Ведь бургомистр, как всегда, за тишину и порядок. Даже если для этого потребуется избить жен рабочих. Но его основательно приперли к стенке. Он уже не отличает, где лево, а где право.
Брозовский пытался разобраться в том, что творилось в душе у Цонкеля. Он просто колеблется между тем, что считает долгом бургомистра, и тем, что подсказывает ему не совсем еще уснувшее чувство солидарности с рабочими. Он слушается шептунов, боится потерять теплое место и, раз ставши на этот путь, продолжает катиться в пропасть.
— И сегодня полицию тоже вызвал, конечно, он сам, но, как всегда, против воли. Потом испугался собственной решительности. Чувствует, что это ему даром не пройдет. Кажется, начинает соображать, что к чему. Под конец уже был тише воды, ниже травы.
— Для нас тоже иной раз неплохо протереть глаза. — Рюдигер счел громкий смех Гаммера по поводу слов Брозовского неуместным. — Из комитета нашей партии в Эйслебене сообщили, что руководство профсоюза против забастовки. Германское Объединение профсоюзов продолжает выжидательную политику. Теодор Лейпарт не хочет отказаться от «делового сотрудничества» с трестовскими воротилами. А уж раз берлинское руководство хмурит лоб, то наши местные деятели постараются поскорее свернуть знамя. И если все же забастовки не миновать, то они займутся организацией аварийных работ. Разве мало-мальски мыслящий рабочий может это одобрить теперь, когда на повестке дня стоит борьба? Они ставят нам палки в колеса с самого первого дня.
— Ну и что? Разве это ново? Плевать нам на них! — Юле взмахнул палкой.
— Я знал, что вы так скажете, но все это не просто. Нам нужно создать единый фронт, иначе будет слишком тяжело.
— На сей раз даже их приверженцы будут против них, — сказал Брозовский убежденно.
Зал был переполнен. В двух комнатах пивной и на улице толпились сотни людей, которым не хватило мест. Юле Гаммер нашел выход.
— Пошли кругом, через сцену.
Он повел их двором. Когда он дернул за ручку запертой двери, ручка очутилась у него в кулаке. Это повергло его в недоумение. Он смотрел на дело рук своих, изумленно и недоверчиво покачивая головой. Несколько шахтеров, последовавших за ними, дали ему дельный совет. Быстро решившись, он просунул острый наконечник дубовой палки в щель между дверью и кирпичной стеной. Легкого нажатия оказалось достаточно, и язычок замка выскочил. Они ощупью пробрались по темному помещению, перешагивая через гимнастические снаряды рабочего спортивного общества, и забрались по лестнице на сцену. Когда Юле отодвинул занавес, то обнаружил на козырьке своей фуражки густую паутину и сердито смахнул ее.
Рюдигер велел поставить на сцену два стола и попросил тишины. Несколько членов производственного совета с трудом протиснулись вперед. Они коротко посовещались, и Рюдигер открыл собрание. Барта, очутившегося в самой гуще толпы перед сценой, забойщики и откатчики зажали так, что он не мог пошевельнуться. Все же он крикнул, что Рюдигер не имеет на это права. Его птичий голосок утонул в общем гуле.
— Поднимайся сюда, наверх, ты ведь член совета! — крикнул Рюдигер и пододвинул ему стул.
— И не подумаю!
— Ну и не надо. Обойдемся без тебя.
Рюдигер пристально оглядел зал.
— Начинай! — крикнул кто-то.
Барт снова запротестовал. Но Рюдигер уже попросил слова.
— Массовое увольнение горняков свидетельствует о начале широкого наступления предпринимателей на рабочий класс, — сказал он. — Все отлично знают, какие деньги Мансфельдское акционерное общество зарабатывало во время войны. Известно и то, что в период инфляции оно печатало собственные деньги и расплачивалось ими со своими рабочими. Сколько при этом осело в карман общества — никто не проверял. Что касается механизации, то об этом и говорить не стоит, пусть каждый потрогает мозоли на руках.
Волнение в зале заметно
возросло, когда он сообщил, что, в то время как горняки обсуждают необходимые меры для своей защиты, лица, которым следовало бы стоять на страже рабочих интересов, заняты обсуждением плана аварийных работ. А принудительных расценок они почти не касаются.
Из зала послышались реплики:
— Все бонзы — двуличные! Они нас всегда предавали.
— Что же вы предлагаете?
— Бастовать!
Пока Рюдигер объяснял, какова связь между снижением расценок и уменьшением пособий по безработице, Лаубе пробрался в зал через окно, — в дверь было не пройти. Цепляясь за оконный переплет, он нечаянно выдавил стекло и, обозленный, уселся на подоконник. Видя, как настроен зал, он не решился выступать против Рюдигера. И лишь пространно говорил о том, что пока руководство профсоюза еще не высказало своего мнения, никаких решений принимать не следует. И вообще главный виновник вовсе не социал-демократическая партия, а буржуазный блок Брюнинга. А партия Лаубе старается путем переговоров помешать тому, чтобы основную тяжесть чрезвычайных мер взвалили на плечи трудящихся. Она и вышла-то из правительства только ради того, чтобы обеспечить себе свободу действий.
Тощий Боде, который обычно и трех слов связать не мог, перебил Лаубе. Его жена купила-де в кредит швейную машину, как прикажете выплачивать? Ведь заберут это сокровище обратно, и первый взнос вылетит на ветер. А что до этих блоков, планов Юнга и прочей белиберды, то они и выеденного яйца не стоят.
— Не крути, Лаубе, не для этого я выбирал тебя в производственный совет. Лучше скажи, как нам быть. Пятнадцать процентов для нас — это масло на хлеб и половина квартирной платы. Где их взять? Я ведь тоже социал-демократ, и давно, ты знаешь, на два года раньше тебя вступил. Нечего вилять, выход один — забастовка!
Эти слова решили дело. Боде грозно поднял кулак.
— Свободу! — изо всех сил выкрикнул он давно знакомый лозунг.
— На двадцать девятое мая назначена конференция профсоюзных делегатов. Они решат, что делать дальше. Предлагаю избрать от нашей шахты шесть представителей. Пусть они отстаивают наше мнение. Согласны? Называйте кандидатов…
Рюдигер стоял на самом краю сцены и выжидательно смотрел в зал. Барт опять подал голос:
— Это демагогия! Вы хотите своей красной оппозицией подменить весь профсоюз!..
Чья-то мозолистая рука зажала ему рот.
— Закрой свою плевательницу, чертова Тень!
— Брозовского! Гаммера! Лаубе! Вендта!..
Под общий шум Лаубе отвел свою кандидатуру. Он попытался объяснить свой отказ:
— Эта конференция рабочих делегатов незаконна. Она не является полномочным и правомочным представительством организованных трудящихся. Только профсоюзные органы могут принимать решения, обязательные для всех рабочих. Я против таких стихийных выступлений. Только союз горнорабочих, в качестве законного представительства организованных трудящихся, имеет право…
Боде прервал его:
— Скажи, за кого ты стоишь? Чье мнение ты представляешь? Я тоже член союза. Но думаю по-другому.
— Я представляю мнение всех, кто стоит за мной.
— Это кого же?
Сотни возгласов загнали Лаубе в тупик. И он заорал:
— Я не могу спокойно разговаривать с хулиганами!
— Ты, поди, за срыв забастовки? — спросил чернобородый Вольфрум таким тоном, что Лаубе почел за благо немного умерить свой пыл.
— Я за деловую защиту интересов. Не могу понять, почему вы пляшете под дудку коммунистов. Впрочем, этим займется наша партия…
Вольфрум не выдержал:
— Убирайся отсюда! Вон из зала! Подлец и клеветник!
— Вон из зала! — подхватило собрание хором. — Кто нам мешает, тот против нас!
Рюдигеру при поддержке Брозовского еле удалось восстановить относительный порядок. Но вокруг Лаубе ссора не утихала, грозя перейти в драку.
Вдруг Вольфрум крикнул:
— Предлагаю делегатом моего товарища Боде! — И показал своей короткой трубкой на Боде. — Он понимает, что значат для нас эти пятнадцать процентов, и защитит наши интересы лучше, чем этот подонок.
— Даешь Боде! — поддержал его зал.
— Боде! — еще раз повторил Вольфрум. — Он всегда был честным парнем. В этом я убедился еще на прошлых выборах. А что значит «собрание незаконно»? Мы собрались открыто, здесь две тысячи человек выбирают своих представителей. Речь идет даже не о масле на хлеб и не о половине квартплаты. Речь идет о последнем куске хлеба.
— Верно! Я предлагаю Вольфрума!..
Этого Вольфрум никак не ожидал. Он сразу как-то сжался. Потом выпрямился и смерил Лаубе презрительным взглядом.
— Согласен. И я за стачку!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Весь край затаил дыхание. Куда исчезли облака дыма из высоких труб, где потоки раскаленного шлака, низвергающиеся из вагонеток по склонам отвалов? Почему не слышно ритмичной песни хлопотливых машин, почему упругая сила пара не распирает котлы?
Двенадцать тысяч бросили работу.
Остановились колеса копров, в чреве домен дотлевали огни горнов, замолкли прокатные станы латунного завода, затих трудовой шум цехов.
Словно по мановению чьей-то властной руки, в головах двенадцати тысяч горняков зародились мятежные мысли, полные надежды и ожидания. Двенадцать тысяч жен и матерей не нарезали в это утро хлеб для завтрака мужчинам.
Густые цепи бастующих горняков и металлургов еще до рассвета окружили шахты и заводы. Юноши на велосипедах носились по прилегающим улицам и дорогам. Почти все уже знали о забастовке, лишь несколько колеблющихся и трусов пришли, чтобы убедиться в том, действительно ли забастовка всеобщая. Недовольных было мало, они поворачивали назад, опустив голову.
В Гербштедте, Гетштедте, Хельбре и Эйслебене, в Галле и Берлине трезвонили телефоны. Двенадцать тысяч не слышали ни пронзительных звонков, ни бурных переговоров, но они догадывались о них. Они знали, что пущена в ход вся мощь так называемых деловых кругов — трестов и концернов, банков, синдикатов и монополий, что на бастующих готова ринуться вся мощь государства — полиция и юстиция, министры, генералы, президенты и бургомистры, пресса, радио и информационные агентства. Они спешно строили плотины, собственными телами противостояли лавине, сдерживали грозящий все захлестнуть поток. Сила против силы. Фронт против фронта.
В Хельбре собралось сто восемьдесят делегатов от рабочих, представители безработных и женщин. Они выработали требования от имени двенадцати тысяч: никаких снижений расценок, повышение сменного заработка на две марки; никаких увольнений, предоставление работы всем уволенным и безработным; никакого арбитража, никаких аварийных работ, сокращение рабочего дня до шести часов в шахтах и до семи на поверхности, равная плата за труд женщин и подростков.
Двенадцать тысяч избрали забастовочные комитеты.
Лидерам профсоюзов не удалось сдержать поток. Уговоры руководителей социал-демократической партии не подействовали. Они слишком долго совещались, в то время как речь шла о жизни двенадцати тысяч семей; они чересчур долго распространялись о том, что во времена кризиса борьба за повышение заработной платы обречена на провал; они теоретизировали там, где для двенадцати тысяч на карту были поставлены хлеб насущный и плата за жилье. Двенадцатитысячная лавина опрокинула пустобрехов.
Служащие страховых касс, уполномоченные профсоюза и депутаты рейхстага, адвокаты, страховые агенты и служащие кооперативов — вся свора тех, кто верил, что в Веймарской республике политика социал-демократов разрешила все социальные вопросы, выступила против забастовки. Вопреки всем им, вопреки их словесной эквилибристике и мрачным пророчествам, мансфельдские горняки и металлурги решили: во время кризиса не только можно, но даже должно бороться. И немедленно!
Генеральный директор в своей берлинской конторе, директор рудников в здании управления в Эйслебене, секретарь союза горнорабочих на Линденштрассе, всего в четырехстах метрах от хозяев Мансфельдского акционерного общества, и его профсоюзные главари в Бохуме — все недоуменно пожимали плечами: неужели эти двенадцать тысяч настолько не понимают бедственного состояния экономики, что предпринимают столь ошибочные решения?
Брозовский, стоя у ворот Вицтумской шахты, как раз объяснял некоторым из своих товарищей это расхождение во мнениях. Неплохо было бы господам воспользоваться случаем и послушать.
Горняки желали разобраться во всем, и, хорошо зная Брозовского, они обратились именно к нему. Легко и просто на такой вопрос не ответишь, но шахтеры, особенно когда им угрожает снижение расценок на пятнадцать процентов, народ удивительно понятливый.
У пикетчиков было много времени, поэтому Брозовский объяснил им все самым подробным образом. Он даже спросил, согласны ли они с такой точкой зрения. Все согласились. Брозовский был страстным книгочеем. Не сказать, чтобы это снижало его авторитет в глазах товарищей, но у иных вызывало насмешку. Например, у Юле Гаммера, который сейчас придвинулся поближе, чтобы не пропустить ни слова; Юле знал, что Минна частенько бранила Брозовского за напрасную трату денег на буржуазную газету. В ней все равно ничего, кроме нападок на рабочих, не печатали, нечего ее и в доме держать. Брозовский выписывал две газеты: «Классенкампф» и «Эйслебенер цайтунг». Последняя, правда, не пользовалась мировой известностью, но в ней всегда сообщалось то, что дирекция считала нужным сказать о большой политике. Поэтому Брозовский был в курсе дела и мог все доступно изложить.
— Помните, несколько месяцев назад из Америки в Европу прибыл некий мистер Оуэн Юнг? До этого у нас никто о нем и понятия не имел. А теперь он мировая известность, верно? — начал Брозовский.
О господине Юнге слыхали все.
— Так вот, этот самый Юнг в обществе нескольких персон из Франции, Англии и Берлина уселся в укромном месте за круглый стол и выложил некий документ. Не забегай вперед, — сказал Брозовский, когда Юле Гаммер перебил его вопросом, кто эти персоны. — Ты их отлично знаешь.
— Там был Густав Штреземан, правда? — спросил Юле.
— Ну да. Нашего министра иностранных дел послали туда те, кто срезал нам расценки. Но обратите внимание: под документом стоит подпись американского генерала Дауэса; это важный генерал, его погоны украшают несколько звезд. Но с тех пор, как он подписал эту бумагу, она немного запылилась, хотя все время хранилась в подводном сейфе в Вашингтоне. — Брозовский усмехнулся и добавил: — По всей вероятности, это пыль времени.
— Юнг выложил на стол план Дауэса, это известно, — вставил кто-то.
— Верно. Для очередного обсуждения между собратьями. Но, между прочим, план от времени не упал в цене: для собратьев, что сидели вокруг стола, он означал шестьсот семьдесят миллионов наличными в год. Сюда следует добавить еще сумму в один миллиард сто миллионов в счет репараций. Все эти поставки и выплаты рассчитаны на многие годы. В конце концов надо же было найти кого-то, кто заплатил бы за войну, вот они и решили возложить это бремя на тебя, на меня, на нас — на всех немецких рабочих.
Брозовский перевел дух. Но все просили рассказывать дальше.
— Все это не так просто, — продолжал он. — Генерал Дауэс был уверен, что трюк с репарациями — ловкий ход. А что получилось?
— Фига! — ответил Юле Гаммер. — Это он должен был предвидеть.
— Генерал всегда остается генералом, — задумчиво возразил Брозовский, — планируя сражения, он может потерпеть поражение. Но когда он берется планировать хозяйство, поражения терпят целые народы. К сожалению, Дауэс в своем плане не учел того, что времена меняются. Поэтому кое-что и сорвалось.
Тут Брозовский прислонился к стволу вишни, под которой они сидели, и подождал, пока сельский жандарм, с важным видом кативший свой велосипед по дороге, подойдет поближе. Он любил просвещать любознательных. Но его ожидало разочарование.
Когда он произнес: «Генерала Дауэса упрекнуть не в чем, он хотел для себя и для своих хозяев самого лучшего, но был недостаточно дальновиден», — жандарм несколько раз провел рукой по лбу и в недоумении покачал головой. По серьезным лицам мужчин, сидевших вокруг Брозовского, нельзя было понять истинного смысла этих слов. Жандарм подождал немного, потом сел на велосипед и укатил.
— Еще один из тех, кто думает задницей. Такие ничем не интересуются и ничего не знают.
Брозовский улыбнулся.
— Черт с ним. Ну, а что же дальше?
Последний напарник Брозовского — тот, от знакомства с которым у Бартеля осталось несколько шрамов, наморщил лоб.
— Эрнст Тельман уже сказал кое-что по этому поводу на заседании рейхстага в феврале. Крупные банки Америки боятся за свои долларовые займы. Они требуют деньги обратно. Пора больших спекуляций миновала, в мире что-то треснуло, в Нью-Йорке произошел гигантский крах.
Брозовский отбросил иронический тон, каким он говорил ради жандарма, и старался теперь как можно проще излагать сущность мирового кризиса.
— Серьезный господин Оуэн Юнг, от которого ждали всемирного чуда, является представителем крупнейшего банка в мире. Его хозяин — Морган. Теперь он диктует, что делать дальше и сколько тебе платить, — сказал он парню. — Снижение расценок введено именно для покрытия репараций. Но немецкие капиталисты надумали взвалить на наши плечи не только бремя Версальского договора, но и затраты на модернизацию промышленности.
У слушающих Брозовского словно завеса упала с глаз. Он не был ученым лектором по экономике капитализма. То, что он говорил, он понял сам в ходе борьбы за интересы рабочих под руководством своей партии. И изо всех сил старался не обмануть ожиданий товарищей.
Он расстегнул ворот и спросил Боде:
— Как по-твоему, был смысл в том, что ваш товарищ Рудольф Гильфердинг, в бытность свою министром финансов, продал государственную монополию на спички шведскому миллиардеру Ивару Крюгеру?
Боде не знал, что ответить.
Юле попытался ему помочь:
— Вырученные пятьсот миллионов давно уже вылетели в трубу. Зато всю жизнь ты будешь платить за коробку спичек вдвое дороже. Вот до чего докатились господа социалисты.
Боде вздохнул. Он знал, что Юле Гаммер прав. Но разобраться в том, кто тут виноват, было не совсем просто.
— Другие ведь тоже участвовали, — сказал он.
— Конечно! В такие аферы всегда бывает замешана целая шайка. Но ведь Гильфердинг — член твоей партии… — Брозовский выжидательно посмотрел на Боде.
Тот молча что-то соображал.
— Видишь ли, — продолжал Брозовский, — черная пятница кризиса разразилась над нью-йоркской биржей, как гроза. Она потрясла даже такого банкира, как Морган. Курсы акций покатились в бездну, маленькие люди потеряли на этом деле миллиарды. На этот раз кризис поразил целые отрасли промышленности, банки лопались, как мыльные пузыри, дорогой товарищ Боде. Не слишком ли радужными были надежды?
Брозовский в простых словах изложил сущность мирового кризиса, который охватил все страны. Люди, окружавшие его, поняли: это была правда!
Но вот они сидят у ворот своей шахты и бастуют. Какая же тут связь?
Брозовский разъяснил и это:
— Американцы поняли, что если немцы будут выплачивать военные долги не золотом, а радиоприемниками, цейсовскими объективами и электровозами, то никто не станет покупать их кофейники, холодильники, автомобили, граммофоны и электровозы. Правда, генерал Дауэс дал на это согласие. Однако дружба дружбой, а кризис-то хватает за горло.
Брозовский опять впал в насмешливый тон, потому что Боде, все еще считая себя обязанным защищать политику социал-демократической партии, возразил:
— Ведь несколько лет назад миллионы долларов были чувствительным подспорьем для Веймарской республики. То есть мне лично все это давно надоело. Но я не понимаю, зачем они сделали такую глупость и одолжили нам столько денег? — спросил он.
— Во-первых, потому, что мы с тобой платим хорошие проценты. Во-вторых, потому, что капиталовложения в Германии расширяют сферу их влияния. В-третьих, потому, что они состоят в тесном родстве с немецкими промышленниками и банкирами и вместе вершат дела. В-четвертых, потому, что Советский Союз стоит им поперек дороги. Чтобы убрать его и осуществить свои планы мирового господства, им нужна армия. Дошло? Поэтому вам Герман Мюллер и отвалил из американского займа порядочную сумму на строительство броненосца.
Было заметно, как тяжело Боде переваривает сказанное. Они молча глядели друг на друга. Да, трудно выпутаться из создавшегося положения. Но с другой стороны, все просто и понятно. Надо только пораскинуть мозгами как следует и в первую очередь над планами, которые предложил господин Юнг.
Там было над чем поразмыслить. И Брозовский подсказал, над чем именно. Несмотря на то что вопрос был весьма серьезным и каждый уже читал об этом, он изложил все так ясно, что кругом заулыбались.
Боде снял пиджак. Напарник Брозовского вскочил и побежал.
— Погоди минутку! Я сейчас, — крикнул он Брозовскому на бегу. — Это же чистое кино!
— Скверное кино, мой мальчик.
Через минуту он вернулся, на ходу застегивая штаны.
— Ну давай дальше!
— Да, к сожалению, на этом дело не кончается! — Брозовский заговорил серьезно. Иногда ему приходилось подыскивать слова — лексикон мансфельдского шахтера был слишком беден для разговора о таких высоких материях. Но слушатели прекрасно понимали его.
— Итак, что же дальше? Слушайте теперь как следует! Немцы должны поставлять сейчас материальные ценности только на семьсот миллионов в год и с каждым годом уменьшать их объем, пока не дойдут до трехсот миллионов. Для рынков сбыта американской промышленности увеличение нашей продукции равносильно пожару. Понятно? Так вот. Множество покупателей получат, таким образом, возможность приобретать американские товары, о чем они, конечно, мечтают уже давно. Вдобавок к этому «несущественному изменению порядка выплаты репараций», — как выразился некий «умница» из Берлина, — господин Юнг предложил очень простой, но гениальный план: все выплаты производились только в золотой валюте…
При этих словах Юле Гаммер ожил. Он добродушно толкнул сидящего рядом товарища.
— Теперь твоя жена сможет поставить себе золотую коронку на зуб только в раю.
Кругом зашикали. И пуще всех Боде.
— В текущем году выплата репараций должна начаться с шестисот восьмидесяти пяти миллионов марок золотом, затем она возрастает до одного миллиарда семисот миллионов, чтобы потом остаться на уровне двух миллиардов двухсот миллионов до третьего и четвертого колена. Чертовски просто, неслыханное облегчение, не правда ли? Вот что такое план Юнга!
Тут уж Гаммер не мог промолчать:
— Да понимаешь ли ты, что это значит, Боде? Внуки пока не родившихся детей твоей дочери все еще будут платить репарации!
— Сумасшедший мир! — выдохнул Боде.
Напарник Брозовского с полуоткрытым ртом лежал на животе у его ног, подперев голову руками. Он не видел ничего вокруг и никак не мог наслушаться досыта. Юле притянул его к себе.
— Даже ты, Ганнес Ринеккер, не доживешь до конца расплаты, хотя ты самый молодой среди нас.
Парень взвился, как пружина.
— Нет, доживу! Обязательно доживу! Мы будем бастовать! Все время будем бастовать. — Глаза его горели ненавистью. — Теперь я знаю, почему они хотят снизить нам расценки. Сволочи. Они нас продали!
— Ай да парень! Эк его проняло! — Юле захохотал. На лице Брозовского тоже показалась мягкая улыбка, как всегда, если ему кто-нибудь нравился.
— Генерал останется генералом, и пусть этот Юнг останется тем, кто он есть, но Шахт и шахта не одно и то же. Нашу шахту мы уже прикрыли, так что пока она нашу кровь пить не будет! — закричал Юле с ненавистью. Он погрозил сжатым кулаком копру. — Теперь пора взяться за Шахта, за этого подлеца, который подписал план Юнга, прихлопнуть и его!
— Вы правы, они нас продали. Согласием на план Юнга они выкупили немецкую территорию на Рейне. Для чего? А для того, чтобы наш «непобедимый» маршал, который занимает кресло президента, мог впоследствии подняться туда и с высоты обозревать Францию. Ту землю, которой он уже однажды — в островерхой каске и с орденом «Pour le mérite» на груди — коснулся своей шпагой. Они готовятся к реваншу. Шахт и Крупп умеют считать, Мансфельдское общество — тоже. В этом они понимают толк лучше нас. Кому бы мог прийти в голову такой хитрый ход, как семидесятимиллиардный военный заем Шахта? И вот этот заем вместе со всеми сбережениями народа утонул в потоке инфляции. Никому не пришлось ломать себе голову над тем, как избавиться от своих денег. Так обанкротившееся государство взвалило на нас все свои долги. Но это еще не все. Заодно утонули и бесчисленные тонны инфляционных бумажек, которыми нас потчевали Маттиас Стиннес, Крупп и Мансфельдское акционерное общество. Уцелела только модернизированная за эти годы промышленность, современные заводы и шахты да мы. Теперь они хотят заставить нас работать за еще более низкую плату… Да надо ли говорить об этом? Вы это и сами прекрасно знаете.
— Сумасшедший мир! — еще раз вырвалось у потрясенного до глубины души Боде.
* * *
Бинерт избегал всех и вся. В первый день забастовки он сидел мрачный и несчастный там, где ему раз и навсегда было указано женой — перед печкой.
Выйти из города он не решался. Везде стояли пикеты бастующих. Он боялся, что его просто завернут восвояси. Ольга рисовала будущее семьи самыми мрачными красками:
— Бастовать — это же безумие! Что только подумает о тебе наш зять; если кто-нибудь проговорится, у него будут неприятности. Только этого нам еще не хватало.
О штейгере Бартеле она не хотела и думать. Несправедливо все же, что дирекция уволила всех без исключения. Не следовало стричь всех под одну гребенку. Ее мужа не стоило ставить в один ряд с этими горлодерами. Она готова высказать это в лицо кому угодно.
— Ты должен сейчас же явиться к начальству. Я сама пойду к Бартелю. Мы не можем терять деньги, ты ведь знаешь, что я обещала детям. Я и так не знаю, что будем делать, когда снизят расценки. Тебе надо бы вступить в бригаду, где заработок побольше. Но если ты будешь сложа руки сидеть на угольном ящике, то получишь шиш с маслом.
Он только понуро сосал чубук погасшей трубки.
Ольга побежала к жене директора школы Зенгпиля; это было первое, что пришло ей в голову. Та метала громы и молнии, грозила забастовщикам, туманно намекала, что скоро все будет иначе, ибо произойдет нечто такое, что круто повернет ход событий. Ольга не решилась просить совета. Она не посмела также сказать, что муж ее сидит дома.
Жена Бартеля в неподдельном возмущении всплеснула руками, когда Ольга излила перед ней свою душу. Она не знала, что и думать. От Бинерта она такого не ожидала. Штейгер все время на работе, как же можно было обмануть его доверие…
Наслушавшись всяких обвинений и упреков, Ольга решила во что бы то ни стало прогнать мужа на работу. «Погоди, я тебе покажу! Подвести меня», — думала она.
Как Ольга ни ловчила, чтобы хоть что-нибудь выудить, жена Бартеля не пошла на откровенность. Она лишь твердила, что пришло время оправдать доверие. Ольга догадалась, что штейгерша знает даже меньше, чем она сама.
«Тощая кляча, — думала она, — а воображает о себе невесть что».
Потом она забежала еще к жене пастора: толк вряд ли будет, но и вреда никакого.
Пасторша встретила редкую гостью холодно. Она была очень встревожена волнениями, вызванными снижением расценок.
Ольга не обратила внимания на холодный прием, а узнав причину беспокойства пасторши, насторожилась. Значит, пасторша считала причиной волнений не забастовку, а снижение расценок? На чьей же она стороне?
Ольга вся превратилась в слух.
— Ошибаетесь, госпожа пасторша, волнения вызваны забастовкой, — возразила она. — Рабочих обманули, верх взяли самые зловредные подстрекатели. Они не допускают к работе даже тех, кто согласен трудиться.
Пасторша повернула к Ольге свое все еще красивое лицо. У нее были добрые материнские глаза. Но сейчас они смотрели сурово. Что этой женщине нужно от меня? В какие интриги она хочет меня втянуть?
Жена пастора удивленно переспросила:
— Согласен трудиться? Неужели среди двенадцати тысяч, которым снизили заработок, есть и такие? Все предприятия стоят, как будто нынче воскресенье, а не будний день.
Ольга заерзала на стуле. Она робко назвала три-четыре фамилии. Эти безусловно не хотели бастовать, они хотели работать, хотя снижение расценок и для них ощутимая потеря. Бастовать — значит не получать ничего. Они не коммунисты и не хотели идти в одной упряжке с ними. А тем более ее муж, ведь он всегда был патриотом, это всем известно.
Да, это было известно. В том числе и пасторше. Стало быть, только трое или четверо из двенадцати тысяч были согласны работать по новым расценкам… Разговор постепенно иссяк.
Пасторша любила, перед тем как сесть за обеденный стол, прочесть что-нибудь поучительное. Она достала с полки Библию и стала читать вслух про апостолов. Среди двенадцати учеников Иисуса был один, который предал Христа, его звали Иудой Искариотом…
Ольга Бинерт не сразу поняла намек. Но потом вспомнила о тридцати сребрениках и сразу изменилась в лице. Ее обычно свежая гладкая кожа сделалась вдруг серой и морщинистой. Ольга заторопилась.
Да, сейчас всем некогда, пасторша это понимала. Ей очень жаль, сказала она, провожая гостью до двери. День был вконец испорчен.
Выходя из сада, Ольга Бинерт с силой грохнула калиткой. На улице она облегченно вздохнула.
Этакая подлость! Ноги ее не будет в пасторском доме! Никогда! И вздумала же здесь искать помощи и утешения…
Она помчалась опять к директорше.
— Мне необходимо с вами поделиться, госпожа Зенгпиль. Подумайте только, эта пасторша!.. — И она, захлебываясь, зашептала ей на ухо.
Но оказалось, сообщение это уже не было для хозяйки новостью. Ольга разочарованно поджала губы. Однако директорша была рада, что нашелся человек, который с удовольствием ее слушает. Когда находишься в самой гуще жизни, как она, новости поступают со всех сторон. Она так прямо и сказала.
— Местные отделения национал-социалистской партии и «Стального шлема» пришли к соглашению. — Она понизила голос до шепота. — Представляете, Буби занялся этим делом сам. Мой муж тоже уехал в связи с этим. В такое время нельзя думать о себе.
Она пригладила складку на своем широком, свободно спадающем платье из небеленого сурового полотна. Платье в талии стягивал широкий пояс, а у шеи матово поблескивала большая брошь с руническими знаками.
«Для кого она опять успела переодеться?» — подумала Ольга, удивленная тем, что сразу этого не заметила. Она сказала:
— Мой ничего мне об этом не сказал. Может, ему важные новости вообще не сообщают?
— Это дело руководства, все пока держится в тайне, — прошептала фрау Зенгпиль и жестом предупредила, чтобы Ольга не говорила слишком громко.
«Но разве удержишься, когда тебя так ловко обводят вокруг пальца? Ничего, я разузнаю все».
Ольге Бинерт и в самом деле надо было поторапливаться. Если она сегодня ничего не разнюхает, то завтра это ничтожество все еще будет шляться по комнатам.
Она злилась из-за полотняного платья фрау Зенгпиль и ее брошки. Мнит о себе бог знает что! А кто она такая? Из бедной крестьянской семьи. Откуда что взялось? «Мой муж, директор…» Сообразила, за кого замуж выскочить. И рассказывает всегда только половину того, что знает. Подобное платье с брошью было бы и ей к лицу. Зять вполне мог ей подарить что-нибудь в этом роде, когда б не думал только о себе. Но ему все мало. Тем более что пропало ее единственное украшение — серебряная цепочка от крестика. Носила его еще совсем девчонкой.
Ольга в испуге остановилась и посмотрела вокруг. Никого не было. Неужели она думала вслух? На всякий случай она прикрыла рот рукой. Штейгер так схватил ее, что потом к блузке пришлось пришивать две пуговицы. При одном воспоминании об этом по ее спине пробежали мурашки. Вот это мужчина! А звенья цепочки все-таки не нашлись.
Теперь она знала: вся беготня была напрасной. Надо держаться за Бартеля, он найдет выход из положения. Куда это годится, если в доме нет денег! Бартель задаст жару этому старому ослу и заставит его работать. «Надеюсь, он дома», — думала она.
— Уже полдень, а я все в бегах. Жаль, что в сутках только двадцать четыре часа, — сказала она фрау Бартель, вновь явившись к ней. — До уборки сегодня еще руки не дошли.
— Неужели?
Фрау Бартель, заметив, что муж вернется лишь вечером, да и то ненадолго, даже не пустила Ольгу в комнаты. Пусть Бинерт приходит, она мужа предупредит.
Это переполнило чашу.
Бинерт сам закрыл окна — не хотел, чтобы соседи сбежались. Два часа после бури он сидел понурив голову, а потом поплелся к Бартелю. Что ему оставалось делать?
Он отправился в путь, когда наступили сумерки. Никто не должен видеть, куда он идет.
* * *
— Нет, милый человек, не на водоотлив. С чего вы взяли? Для этого вы, Бинерт, не подходите. Там нужны люди помоложе.
Штейгер не столько восседал, сколько возлежал в кресле. Сложив руки на весьма круглом животике, он разъяснял Бинерту:
— Сегодня занимались главным образом аварийными работами, а завтра пойдем дальше. Как вы думаете, для чего вы мне нужны? На аварийных работах и водоотливе мы используем служащих и учащихся Горнопромышленной школы…
Простодушный Бинерт не заметил, что себя Бартель к этим служащим не причисляет. Он вообще ничего не понимал.
— Для таких работ дирекция создает специальные группы добровольцев. Это не для вас. — Бартель вдруг сменил тон. — Для вас у меня есть нечто совсем особенное. Вы знаете многих старых рабочих, подберите подходящих людей. Надо начать добычу. Если нам это удастся, вся их затея лопнет.
Он смотрел на Бинерта с таким видом, будто предложил ему место служащего с правом на пенсию.
Бинерт сразу сник. Как штейгер себе это представляет? Как все они себе это представляют? Вот и жена тоже… «Скажешь так, потребуешь этого, настоишь на том, не забудь сказать это, потребовать то…» Нашли дурака! И вот он сидит здесь. Подобрать людей… А где он их возьмет? Бартель любезно предложил ему стул, он робко сел на самый краешек и все вертел в потных руках шапку.
— Подобрать людей? Когда все против. Вы же видите, никто и носа высунуть не смеет. Или хотите, чтобы мне зубы выбили?
— А, глупая болтовня! «Все против»… Вы дали себя запугать. Сидите как тараканы в щели, из страха перед двумя-тремя проходимцами.
Бартель намекнул, что ему известно больше, чем он может сказать. На таких, как Бинерт, надо произвести впечатление, дать им почувствовать твое превосходство.
— Вы боитесь силы, опасаетесь расправы, только и всего. Испугались кучки пикетчиков. Где же ваша выдержка? Почему вы не явились на шахту?
— Нельзя было.
— Ага, из-за пикетов. Но вы же знаете людей, Бинерт. Ведь большинство из них хочет работать. К примеру, Рихтер. Он с удовольствием заработал бы толику. Или молодой Хондорф, хотя от него, конечно, мало проку. Займитесь этим делом, Бинерт, воздастся сторицей.
В ответ Бинерт только хрипло откашлялся.
— Вы неправильно действовали, Эдуард Бинерт. Не делайте же новых ошибок. Вам давно следовало прийти ко мне, например, с этим списком нацистских кандидатов в производственный совет. Неправильно все было сделано. Абсолютно неверно. Вот вас и не поддержали. А надо было составить национальный список, — ну там Союз фронтовиков, «Стальной шлем», несколько солидных людей. Без политической окраски. А то уж больно скверно пахло все это.
Бинерт совсем съежился. Он смутно догадывался, что штейгер решил рассчитаться с ним за ту глупость. Что это была глупость, теперь совершенно ясно. Нечего сказать, ловко обошел его тогда милый зятек, ну конечно, с помощью Ольги. Ишь умники какие, всегда знают все лучше всех и всюду суют свой нос. А расхлебывать ему приходится. Штейгер Бартель умнее, как он говорит, так и надо действовать. И не иначе.
Штейгеру надоело молчание собеседника. «На этом болване далеко не уедешь. Самая что ни на есть серая скотина, — думал он, — и как только он отхватил такую бабу? Та совсем из другого теста…»
Штейгер причмокивал со скуки, поглаживал животик и зевал. Сегодня пришлось основательно покрутиться, но что поделаешь, такое уж время, на то ты и служащий. Даже директор Лингентор, забежавший на минутку посмотреть, как идут дела, обратился лично к нему:
— Не падать духом, господа. И без паники. Не тонет тот, кто глубже дышит.
Во всяком случае, у Кегеля не было оснований отнести это только на свой счет. Он весь превратился в слух, когда директор заговорил с ним, со штейгером Бартелем, чуть ли не по-дружески. Симпатичный человек…
К дому подкатила машина. Хлопнула дверца. Сонливость Бартеля как рукой сняло. «Он и в самом деле явился!» — молнией пронеслось у него в мозгу.
— Ко мне приехали гости. Приходите завтра утром в штейгерскую. И без паники, Бинерт!
К месту вспомнилось директорское выражение!
Он проводил Бинерта на крыльцо. Слева от дома стоял лимузин с погашенными фарами, за ним маленький грузовичок с крытым кузовом, из которого доносились приглушенные голоса. В палисаднике Бинерт столкнулся с долговязым мужчиной в кожаном пальто. Тот не посторонился, и Бинерту пришлось отступить на газон. Бартель притворил дверь, чтобы свет не упал на прибывшего.
Не был ли это господин фон Альвенслебен? Бинерт закрыл калитку и оглядел машину. Похоже было, что они из Шохвитца.
— А ну, проваливай, не то заработаешь по морде! — сказал кто-то в открытое окно машины.
Бинерт отпрянул. Он вообще избегал стычек, тем более с такими. Не иначе как Буби со своей свитой. Они носились повсюду уже в первый день забастовки. Он подумал, не зайти ли еще раз к Бартелю, чтобы побеседовать с Альвенслебеном. По правде говоря, его место среди них. Ведь поговорить-то можно, и Альвенслебен наверняка помнит его, хотя бы по фамилии. Они не виделись с тех пор, как тот однажды вечером прислал за ним Зенгпиля, и они поехали в Шохвитц, чтобы составить список кандидатов от национал-социалистской партии. После этого он как сквозь землю провалился! Но Ольга знала все новости, — оказывается, он был в Мюнхене. У фюрера.
Подумать только — в Коричневом доме! К такому человеку стоило обратиться, и не будь Ноября, он наверняка служил бы теперь в Потсдаме, в гвардии, как прежде все Альвенслебены.
Бинерт робко вернулся к машине: ведь за спрос не бьют в нос! Раздался свист. Из грузовика выскочило несколько человек.
— А ну, мотай отсюда!
Удары посыпались слева и справа, и все в лицо. Пинок — и он очутился на мостовой.
— Бегом!
Он затрусил вниз к рынку. «Эти не церемонятся, — подумал он с уважением, — лупят, кого ни попало. Приказ, и все! Молодцы. Когда они окажутся у власти, черно-красному киселю придет конец. Уж они дадут жару».
У бургомистра наверху еще горел свет. «Бюрократ паршивый, небось держит военный совет со своими сообщниками и собутыльниками, охочими до высоких постов. А и впрямь пора — никак не решат, на чьей они стороне. Бартель прав: ну какой из Цонкеля бургомистр? Дурак дураком, не сумел сделать карьеру на шахте и полез в солдатский совет, в совет рабочих, стал профсоюзным казначеем — все должности доходные! Тупица и выскочка, даже экзамена на чиновничий чин и то сдать не мог. Посмешище, да и только!» Бинерт злорадно засмеялся и тут же болезненно сморщился: здорово надавали, черти полосатые!
В глубине переулка тускло горел фонарь «Гетштедтского двора». У входа маячили какие-то черные силуэты. Бинерт втянул голову в плечи. Это пикетчики, сукины дети, никого не пускают на шахту. И соседушка со своим русским знаменем наверняка тоже здесь.
Бинерт сжал кулаки и прибавил шагу. Идти домой теперь, когда все пошло кувырком? Ни за что! Жена как пить дать набросится на него, — опять, дескать, ничего не добился! Руки чесались проучить эту скандальную бабу. Когда-нибудь у него лопнет терпение… Вот поймаю ее с поличным, пускай тогда пеняет на себя.
Он погрузился в воспоминания о минувшем. Единственное утешение и осталось. Что было, того не отнять. Хорошее было время, пожалуй, самое лучшее: всегерманский слет фронтовиков и ветеранов. Против них никто и пикнуть не смел. Три дня во Франкенхаузене, Штольберге и на холме Клофхойзер у памятника. Церемониальный марш перед фельдмаршалом, дряхлый он уже был, старый Макензен, но держался еще молодцом. Черный гусарский мундир, а глаза, а кустистые брови! И смотрел прямо на него, Бинерта. Этот взгляд пронизывал насквозь. Старые кости трещали, когда он шагал в строю ветеранов. Ольга не смогла поехать с ним, что-то стряслось по женской части. С тех пор у него на нее руки чешутся. Откуда взялась эта болезнь? Почему ей пришлось лезть под нож? Он тут ни при чем, это уж точно. Она всегда считала его дураком. Но у него тоже были припрятаны денежки, на добрую кружку пива, во всяком случае, всегда хватало. А иногда и на баб. Конечно, они отдавали предпочтение его более молодым собутыльникам, но Бинерт не жаловался. Веселое было время!
Куда же пойти, может, к Рихтеру? Бартель, в общем-то, прав, заработать тот, конечно, не прочь. Деньги любит. И Хондорфа к месту вспомнил. Подумав так, он неуверенно повернул в другую сторону.
Неожиданно сзади возникли лучи автомобильных фар. Прежде чем он успел посторониться, машина объехала его и остановилась поперек дороги.
— Почему сразу не сказал, что ты из наших? Зря только дал себе морду расквасить.
Его втащили в машину.
— Буби хочет поговорить с тобой.
Бинерт важно развалился на мягком сиденье. Значит, он был прав, набивая себе цену. Никогда не надо навязываться! За ним послали, в нем нуждались, его помощь ценили. Он уже забыл, что в мыслях называл Ольгу сукой. Все-таки она была умнее и знала, чего хочет. И квартиру всегда держала в чистоте, тут уж ничего не скажешь. Кажется, этот с бульдожьей челюстью, что сидит рядом, стоял в Шохвитце перед входом в господский дом и на каждого, кто входил или выходил, смотрел так, что казалось — вот-вот вцепится в горло. До войны, в свои молодые годы… Бинерт потрогал тощие бицепсы. Тогда он тоже лупил бы вовсю. Тогда он был парень что надо.
Машина остановилась.
Долговязый Альвенслебен примял сигарету в пепельнице.
— Бинерт, дружище, и как вы проскочили мимо меня? А я-то вас ищу. Мне сейчас дорог каждый человек. Хайль Гитлер! Садитесь!
Вот это да! Любо-дорого слышать! Бинерт молодцевато выпрямился.
— Слушаюсь, крейслейтер!
Даже Бартель прислушался. Вот как надо говорить с подчиненными! Товарищество товариществом, но в Союзе фронтовиков, да и в «Стальном шлеме» такого боевого духа в помине не было. Муштра была и выправка тоже, что верно, то верно. Но эти… у этих дисциплина в крови. Все-таки надо будет подумать, не лучше ли переметнуться.
— Сколько людей в вашем распоряжении на Вицтуме, Бинерт?
Бинерт беспомощно молчал. «В его распоряжении» — откуда они у него? Никто его и слушать не хочет, да он и не пытался вербовать людей. И без того несколько раз грозили побоями, а в квершлаге запустили камнем в спину. Эти люди до мозга костей пропитаны ненавистью. Кто захочет голосовать за нацистов, сделает это втихую.
— Итак?..
— Ни одного.
— Не болтайте глупостей. Во-первых, Артель и, во-вторых, Бэр. Я знаю своих людей, все у меня в списке.
— Оба болеют. Каждый квартал отлеживаются недельки две-три за счет страхкассы.
Бартель не удержался от презрительной ухмылки. Альвенслебен вспыхнул. Надо же, чтобы этот жирный штейгер, которому он хотел внушить уважение к себе, услышал о его ничтожном влиянии на шахте! Вот ведь скотина Бинерт.
— Скоро все переменится.
Он сердито прервал разговор и высокомерно поджал губы. Синеватые рубцы над углами рта побелели. Он закурил новую сигарету.
— А сколько человек приступят к работе?
Бинерт опять не смог дать удовлетворительного ответа. Лишь беспомощно пожал плечами. Неужели крейслейтер не знал этого сам?
Альвенслебен нервно зашагал по комнате, опрокинув пуфик перед кушеткой.
Бартель счел уместным изложить свой собственный план. Надо выуживать людей поодиночке. Упомянул Рихтера. А потом и Хондорфа, этот дрался в Прибалтике с большевиками.
Альвенслебен навострил уши.
— Хондорф?
— Совершенно верно, сын торговца зерном. У него рыльце чуточку в пушку, зато политически благонадежен.
— Вот видите! — Альвенслебен грозно взглянул на Бинерта. — А вы говорите, людей нет.
Бартель сел на своего конька. Услуга Альвенслебену когда-нибудь окупится! Он доложил, что дирекция дала служащим предписания. По согласованию с руководством профсоюза решено широко развернуть аварийные работы. С их стороны помех не будет. Контакты с профсоюзным руководством следует ценить и поддерживать. Дирекция настаивает на этом в любом случае.
Толстое лицо штейгера светилось злорадством. Наконец-то представился случай показать, какой он дальновидный политик.
— Профсоюзы посоветуют всем уволенным рабочим зарегистрироваться на бирже труда. Правительство не возражает. Цонкель сможет составить длинные списки, кто-нибудь ведь должен нам помочь. А мы отберем потом нужных людей и затребуем с биржи труда тех, кто нам понравится.
Альвенслебен опять навострил уши. Неплохо придумано! Эти жиды в концернах — хитрые бестии. Пусть пока раскидывают мозгами, их черед еще придет. Ему было досадно, что Бартель, которого он считал недалеким, выкладывает один козырь за другим.
— В кабинете бургомистра еще горит свет, — вырвалось у Бинерта.
— Да уж ему не до сна, — злобно бросил Альвенслебен.
— Черно-красный кисель оказался между небом и землей, — засмеялся Бартель. Бинерт удивился про себя, что штейгер высказал те же мысли, что совсем недавно родились в его собственной голове. — Ваши ефрейторы откомандированы на составление списков, — продолжал Бартель, — они помогут правительству регистрировать уволенных. Моя Тень уже боится, что ему придется выступить публично. Но пока обошлось. Цонкель взял Барта к себе помощником писаря, и теперь он сидит в ратуше. Я узнал об этом от его секретаря. Тот искал более подходящего человека для такой работы. Но лучшего не нашел.
Бинерт ничего не понимал. Уж лучше бы он сидел дома и слушал брань жены.
— Придет время, они у нас все запляшут. А для начала хватит нескольких десятков. И в этом должны нам помочь вы, Бинерт, — заключил Бартель. — Мы их добудем по одному.
Альвенслебену надоела торговля из-за нескольких рабочих. Он заявил штейгеру коротко и ясно, что при данных обстоятельствах не может предоставить своих людей в качестве
рабочей силы, как это было договорено раньше. Уж лучше он сообща с руководством «Стального шлема» организует защиту штрейкбрехеров. Собственно, именно этому и обучены штурмовики.
— С генеральными директорами я поговорю завтра сам. А от вас, Бартель, я хотел лишь получить кое-какие сведения.
Тон высокомерен донельзя.
Штейгер нахмурился. «Как он со мной разговаривает! Словно я пешка какая-нибудь».
Альвенслебен сделал вид, что ничего не заметил. «Ишь ты, брюхан надутый! — подумал он. — Держится так, будто мы с ним на равной ноге. Этого еще не хватало! Что только примитивные типы не воображают!»
— Разговор окончен! А теперь устроим спектакль в этом кабаке. Чтобы сволочные господа забастовщики не думали, будто они хозяева улицы. Мы им покажем. Айда с нами, Бинерт!
Он круто повернулся к двери и со свистом рассек воздух стеком, который болтался у него на запястье.
— Хайль Гитлер!
— В добрый час! — ляпнул взволнованный Бинерт.
Альвенслебен выпихнул его за дверь.
Машины медленно пересекли рыночную площадь. Недалеко от «Гетштедтского двора» лимузин, ехавший первым, свернул в сторону и направился за город. Грузовик с невыключенным мотором остановился у входа в штаб забастовщиков.
— Давай!
Задний борт грузовика откинулся. Пятнадцать молодчиков в высоких сапогах и коричневых рубашках соскочили на землю. Верзила с бульдожьей челюстью подтолкнул Бинерта вперед и вложил ему в руку кусок кабеля. Свистнули стальные прутья. Мужчину, справлявшего нужду под окнами пивной, рванули за плечи и повалили на землю. Бинерт узнал худую спину своего напарника Боде. Пикетчики, стоявшие перед входом, взвыли от боли, когда на них обрушились удары стальных прутьев, с мясом сдиравших кожу, и бросились бежать в ближайшие переулки. Один свалился в кювет. Топча его, бандиты ворвались внутрь. Сидевшие за картами испуганно вскочили. Большой круглый стол опрокинулся, пиво из кружек, стоявших на полочках под столом, выплеснулось на пол. Хозяин спрятался за стойку. Несколько пивных кружек полетело в него. Чья-то длинная рука смахнула со стойки бутылки и стаканы, осыпав хозяина градом осколков. Затрещали стулья. С грохотом рухнула люстра. Теперь поле боя освещала одна-единственная лампочка, болтавшаяся на проводе. Юле Гаммер схватил стол; держа его перед собой как щит и опрокидывая все на пути, он двинулся навстречу налетчикам. «Бульдог» бросился ему наперерез. Юле схватил за ножку железный садовый стул. Бульдог взвыл от удара. Напрасно старался он сорвать с себя стул, который налез ему на голову, ободрав скулу до кости. Вооружившись чем попало, шахтеры бросились на бандитов. Из задней комнаты, где был штаб забастовки, выскочили Брозовский, Вольфрум, Рюдигер и другие.
Но Юле Гаммер уже добился перелома, так что им лезть в драку не пришлось. На их глазах какой-то костлявый тип вылетел в дверь, выбив дверные филенки. Налетчики оттащили его к машине и бросили в кузов, как бревно. Они выволокли на улицу и обезумевшего от боли Бульдога. Не в силах избавиться от железного ярма, он, спотыкаясь, брел по переулку, продолжая вопить. Остальные бандиты, судорожно хватаясь друг за друга, выкатились на улицу с громкими криками. Ушли от расплаты лишь те, кто успел добежать до машин. Некоторые уцепились за борта, но под ударами разъяренных рабочих упали и, вскочив на ноги, пустились наутек.
Бинерт еще до начала потасовки бросился бежать вниз по улице и скрылся в темноте. Его никто не видел. Кусок кабеля, который ему всучил Бульдог, он отбросил, лишь когда немного отдышался и пришел в себя.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Двадцать минут спустя после начала работы секретарь магистрата Фейгель положил перед бургомистром подробное донесение о ночных происшествиях и, как всегда, со скучающим видом стал наблюдать за тем, как Цонкель, шевеля губами, педантично изучает каждое слово.
Во время ночного обхода полицейский Меллендорф обнаружил окровавленного человека, который звал на помощь, и доставил его в участок. Пострадавший заявил, что подвергся нападению нескольких человек и был ими избит. Железный садовый стул, сковывавший его руки и плечи, удалось снять только с помощью слесарных инструментов. После перевязки пострадавший — управляющий Лёвентин из Шохвитца — был отпущен. Вследствие большой потери крови и общей слабости пришлось вызвать «скорую помощь», которая по настоятельной просьбе пострадавшего доставила его домой. Потерпевший показал, что был в гостях у знакомых в городе и на пути домой попал в уличную потасовку, которую устроили какие-то пьяные, по-видимому, забастовщики. Они набросились на него и избили. Так как потерпевший был человеком атлетического сложения, который, несомненно, сумел бы справиться с одним нападающим, следовало считать доказанным, что участников избиения было несколько. При допросе пострадавший показал, что темнота помешала ему опознать нападавших. Потому он вынужден подать жалобу на неизвестных.
Позже эти ночные бесчинства, по всей вероятности, приняли более широкий масштаб, потому что невдалеке от «Гетштедтского двора» тоже был слышен шум. Но Меллендорф, разумеется, не мог оставить раненого на произвол судьбы и заняться выяснением происходившего, тем более что его дежурство в полночь кончалось. Следующий ночной патруль тоже слышал подозрительный шум, но ничего конкретного установить не смог. Можно с уверенностью предположить, что нарушения ночного покоя исходили от забастовщиков, которые организовали противозаконные пикеты и не снимали их всю ночь.
Цонкель, нахмурившись, оторвал глаза от донесения. Вот оно, получай! Славно начался день, нечего сказать, а забастовка — и того лучше. Неужели нельзя обойтись без стычек? Сегодня даже уборщица заставила его ждать перед дверью. Когда он точно, минута в минуту, как всегда, пришел на работу, оказалось, что она еще не кончила уборку! Безобразие! Ему пришлось даже выслушивать ее воркотню.
— Свинарник, а не кабинет бургомистра! — жаловалась она, выметая пустые пачки сигарет и обрывки бумаги.
И нечего было возразить. Лаубе, Барт и другие составители списков в самом деле здорово накурили и насорили здесь.
Секретарь, уловив смену выражений на лице бургомистра, решил, что настал подходящий момент кое-что добавить к донесению.
— Ну, что вы скажете, господин бургомистр? Хорошенький сюрприз, не правда ли? Этого следовало ожидать: в первый же день забастовки — нарушения закона и бесчинства. Знаем мы эту братию…
Цонкель грустно кивнул. Да, нехорошо начался день.
Фейгель обмакнул перо в чернила и услужливо подал ему для подписи.
— Забастовка, господин бургомистр, доставит немало хлопот властям и в первую очередь полиции. Началось прямо с беспорядков, так, видно, хотят коноводы. То ли будет дальше! И, как всегда, расхлебывать придется тем, кто совершенно ни при чем. Пора прибегнуть к самым строгим мерам.
Секретарь направился к окну. Всем своим видом он показывал, насколько уверен в том, что виза на донесении была для бургомистра лишь обременительной формальностью, от которой он не мог уклониться.
Цонкель проводил его взглядом мученика. Он и в самом деле был мучеником, на него взваливали львиную долю работы. Он зевнул. В позе секретаря ему вдруг почудилась какая-то настороженность. Ему показалось, что безразличие и спокойствие Фейгеля были ловушкой.
Он задумался. Обычно полицейские донесения о событиях предыдущего дня приносили только около десяти. Почему же секретарь пристал к нему с этой ерундой с самого утра? Цонкель достал свои большие никелированные часы. Он не любил расставаться со старыми вещами, этими часами он пользовался еще тогда, когда работал в шахте. Двадцать пять девятого. Ему бы следовало быть довольным. Споро пишет, этого у секретаря не отнимешь. Цонкель хотел уже было подписать, но еще раз удержался. Готовность секретаря вырвать донесение из-под рук бросалась в глаза.
Насколько бургомистр знал свое окружение в ратуше, такая поспешность не могла не иметь веских оснований.
Он стал вспоминать.
Секретарь называл ночную потасовку беспорядками. Если дебош устроили пьяные, то какие же это беспорядки? Нарушение порядка или беспорядки — большая разница. Гм… Беспорядки. Именно о них говорилось во вчерашнем приказе министра. Значит, таков лозунг? Им надо, чтобы это называлось беспорядками! Теперь он понял все — ишь хитрые лисицы!
А что же было в действительности? Он напряженно думал. Из донесения правды было не узнать. В нем лишь очень ловко, в общих словах, но достаточно прозрачно намекалось на связь между пострадавшим, забастовкой и постами рабочих пикетов. Все это производило угрожающее впечатление, но было построено на одних предположениях. А что, если забастовка не имеет никакого отношения к этому происшествию? Ведь доказательств никаких нет. Да их скорее всего и быть не могло.
Цонкель принялся перечитывать донесение. Секретарь сразу сбросил маску безразличия.
— Донесение весьма срочное, господин бургомистр. Вы знаете, что, согласно указанию министра, о всех событиях, связанных с забастовкой, необходимо сообщать немедленно. Полиция уже доложила по телефону. Я постарался изложить все как можно подробнее. Полиция предоставила нам своего курьера.
Словно в подтверждение этих слов, под окнами ратуши затрещал мотоцикл.
— Это курьер, господин бургомистр. Он ждет.
— Хорошо. Но какое отношение к забастовке имеет этот избитый управляющий?
Цонкель отложил ручку в сторону и стал читать еще внимательнее. Тут было что-то не так. Где-то глубоко-глубоко зародилась мысль о провокации. Он устало сгорбился. Беспорядки… В нем затеплилась искорка чувства солидарности с забастовщиками, на которых падало подозрение. Тридцать лет шахты — их не вычеркнешь из жизни, а пятнадцать процентов — это очень много. Он ведь просидел здесь вчера до поздней ночи, так? Но никаких беспорядков не было. Ничего особенного не произошло. В чем же смысл этой затеи?
Искорка тотчас угасла, когда секретарь процедил:
— Оскорбления в адрес руководителей профсоюза и правительственных учреждений, напечатанные в сегодняшней газете забастовщиков, доказывают, что забастовка является не чем иным, как политическим трюком коммунистов. Вас тоже обливают грязью. Вот, полюбуйтесь. Полиция изъяла этот номер нынче утром.
Секретарь вытащил из папки, зажатой под мышкой, листок, отпечатанный на гектографе.
— Я хочу приложить его к донесению.
Цонкель пробежал глазами листовку, черты его застыли. Он взял ручку и размашисто подписал донесение. На лице секретаря насмешка перешла в презрение.
— Еще одно дело. Хозяин «Гетштедтского двора» явился с жалобой. Нечто совершенно неправдоподобное. Всерьез преподносить такие фантазии — просто наглость. Он не хочет уходить, хотя я сказал ему, что нельзя без конца отрывать бургомистра от дел, на это есть часы приема. Докладываю вам об этом просто для порядка.
Цонкель смутно почуял, что жалоба хозяина как-то связана с донесением. Он инстинктивно протянул руку за только что подписанным документом. Но секретарь оказался проворнее.
— Спасибо. Теперь все.
Донесение исчезло в папке.
Цонкель выпрямился.
— Но хозяин «Гетштедтского двора» не какой-нибудь бродяга. Где он?
— Ждет. Неужели вы его примете? Обычная жалоба, в этом кабаке ведь дня не проходит без происшествий. Но если вы желаете, я его позову, хотя он лишь зря оторвет нас от работы. Только быстренько приготовлю донесение к отправке.
То захлебывающийся, то четко и угрожающе стрекочущий мотор мотоцикла словно подстегивал. Секретарь заспешил к выходу.
— Подождите отправлять, приведите мне сперва этого хозяина.
— Но, господин бургомистр, донесение не ждет.
— Подождет!
Цонкель тяжело поднялся и сам направился к двери. Лицо секретаря пожелтело от досады. Этот тюфяк мог испортить ему всю обедню. Из прихожей доносился громкий голос хозяина пивной:
— Многое повидал на своем веку, но это уж слишком. Я пока еще гражданин города и имею право на защиту полиции. Мне разгромили все заведение, а полиция говорит, что я сам виноват. Дескать, кто продает пиво пьяным, должен считаться с возможным ущербом. Хорошенькое понятие, нечего сказать! Откуда эти господа взяли, будто мои гости были пьяны? Даже не пришли взглянуть, когда я звонил по телефону и просил помощи…
В двери показалась забинтованная голова.
— Рассказывай по порядку. — Цонкелю было неприятно, что тот начал жаловаться еще в прихожей.
— Что произошло? Чудовищный разгром! Как на диком Западе. Я пришел, чтобы подать заявление о налете на мою пивную. Сперва полиция отказывает мне в приеме, потом господин секретарь не желает составить протокол. Некогда! Хорошенькие порядки. Взгляни на меня! Вот как они меня разукрасили.
Бургомистр взглянул. Один глаз заплыл, под ним кровоподтек. Бровь рассечена.
— Рассказывай по порядку.
Хозяин пивной начал описывать все, как было, но секретарь то и дело прерывал его вопросами, и у того наконец лопнуло терпение.
— Можно подумать, будто вы знаете все лучше, чем я, и сами были среди дебоширов, — зашипел он на секретаря. — Сперва отказываетесь составить протокол, а теперь еще объясняете мне, как и что происходило.
Секретарь взвился, как ужаленный.
— Не мелите чепухи!
— Вы тоже. А что вы знаете? Откуда-то подкатила машина, целая орава ворвалась в зал и набросилась на нас.
— Вся история представляется мне весьма сомнительной. Такой шум непременно привлек бы внимание Меллендорфа.
— Сомневайтесь, сколько вам угодно. Меллендорф ничего не заметил. В некоторых случаях у полиции уши ватой забиты.
— Это неслыханно!
— Вот именно! — Хозяин тыльной стороной руки вытер слезящийся глаз.
Цонкель переминался с ноги на ногу. Они были знакомы не один десяток лет. Хозяин пивной всегда был порядочным человеком. Однако он спросил для порядка:
— А доказательства?
— Доказательства? Взгляни на меня, разве этого не достаточно?
Разговор постепенно принял характер дружеской беседы. Только этого секретарю не хватало! Эва, как они спелись, плебеи паршивые. На «ты» друг с другом. Естественно, ведь бургомистр их поля ягода. Как и все остальные в шахте, он много лет мыл руки перед завтраком собственной мочой. То же самое и трактирщик. Вылетел из шахты в девятьсот девятом во время забастовки и открыл пивную. Противно брать пиво из его рук. Всыпать бы им обоим по первое число.
— Давно пора проверить продажу пива и вообще все, что творится в «Гетштедтском дворе». Причем не только в отношении налогов. До сих пор, к сожалению, жалобам не давали хода, хотя пьяные посетители вашей пивной постоянно устраивают скандалы и беспокоят соседей. Несмотря на это, пиво по-прежнему продается. Но теперь в интересах общества придется подвергнуть это заведение тщательной проверке.
Хозяин «Гетштедтского двора» обычно за словом в карман не лез. Но на этот раз он прямо онемел.
— В «Гетштедтском дворе» нарушаются все правила, установленные для подобных заведений, и не только часы торговли. Подтверждение тому — штрафы, наложенные полицией. Их целый список.
Цонкель знал об этом. И часто смотрел сквозь пальцы. Ведь так всегда бывает в местах, где пьют. К тому же часто сгущают краски. Но при чем здесь это?
Однако секретарь еще не кончил:
— А фантастический налет? В какое же время он произошел? Без четверти двенадцать? Интересно. Но в час ночи пивная была все еще ярко освещена. Правила для вас не существуют. Видно, полиции придется всерьез обсудить вопрос о лишении вас патента.
Разъяренный трактирщик двинулся на секретаря. Половицы скрипнули под его тяжестью, задребезжал стакан, опрокинутый на горлышко графина с водой. Он замахнулся. Но удержался и сказал Цонкелю:
— Мартин! Ты, бургомистр, разрешаешь обливать меня грязью?! Право, не верится. Раньше ты ведь тоже нередко выпивал у меня кружку-другую. Ну, хорошо, то было давно. В пивной при ратуше пиво, видать, вкуснее. Но и ты нравился мне больше, когда был еще только председателем Рабочего спортивного общества. А когда ты стал бургомистром, такие, как этот, не дают тебе и рта раскрыть. Так скажи ему хоть что-нибудь! — заорал он на Цонкеля.
Громкий треск мотоцикла заглушил его слова. Из прихожей донеслись взволнованные голоса. Цонкель вобрал голову в плечи. Он делал это все чаще, когда не знал, как быть. Вот так история! Лишить пивную патента! Нет, секретарь, видать, рехнулся. До сих пор он об этом и слыхом не слыхал. Правда, он все всегда узнавал последним. В магистрате, как ни мал он был, каждый чиновник тянул в свою сторону. А сегодня вообще все шло вкривь и вкось. После такого начала, как нынче утром, этого следовало ожидать.
Колебания Цонкеля не укрылись от секретаря. Он отнюдь не потерял присутствия духа и назло обоим выложил еще один козырь.
— Полиции также небезызвестно, что вы приютили в своей пивной эту так называемую «пролетарскую самооборону». Зал превратился в казарму и учебный плац. О штабе забастовки я уже не говорю. У нас достаточно достоверных сведений об этом.
— Мое заведение открыто для всех. Входи, кто пожелает.
Шум за дверью усилился. Цонкель прислушался. Секретарь нанес последний удар:
— Мы знаем совершенно точно, кто у вас бывает. Нам также известно, что среди бастующих уже сейчас нет полного согласия, что они несут в кабак последние гроши, а ночью дебоширят. Потом их жены стоят у нас над душой и требуют помощи от бургомистра.
Трактирщик не нашелся что ответить. Он постоял еще немного, тяжело дыша и глядя на Цонкеля. Но так как Цонкель упорно молчал, он двинулся к выходу. Однако прежде, чем он успел отворить дверь, она распахнулась сама. И в кабинет внесло Меллендорфа. Он яростно жестикулировал, но десять человек, не столько следовавших за ним, сколько толкавших его вперед, не давали ему говорить. Беспомощно размахивая листком со множеством подписей, он тщетно пытался что-то сказать.
Цонкель предостерегающе поднял руку.
— Тише, тише. Прошу вас, успокойтесь.
— Что значит «тише, успокойтесь», Мартин? Двадцать горняков предлагают дать свидетельские показания, а полиция плюет на нас. Или в Гербштедте мы идем вторым сортом? — Тощий Боде говорил за всех.
«Что за бес в него вселился? — подумал Цонкель. — Бывало, из него и слова не вытащишь, а теперь орет заодно с коммунистами. Нынче сам черт не разберется в людях».
— Вот, здесь и здесь… Гляди как следует! — Боде показывал на ссадины на своем лице. — Эти сволочи повалили меня на улице под окнами пивной и чуть было не растоптали, а господин полицейский Меллендорф мне не верит. За всю жизнь я ни разу не давал ложных показаний. Хоть и не служил шесть лет в уланах, как некоторые, чтобы потом стать полицейским.
Цонкелю пришлось опять выслушать всю историю, секретарь опять непрестанно вмешивался, поддерживаемый теперь Меллендорфом, который вдобавок упрекнул бургомистра за то, что тот принял делегацию забастовщиков и выслушал ее.
— Но при чем здесь забастовка?
Боде пришел в ярость и начал орать. Он ведь не дурак, даже младенцу ясно, какая здесь каша заваривается. Но только зря. И пусть вся полиция перевернется, все равно это зря.
Позади стоял черный Вольфрум и неотрывно смотрел на Цонкеля.
Цонкель опять вобрал голову в плечи. Неудобно, что Боде и Вольфрум в этой делегации, а Боде к тому же скандалит. Это бросало тень на партию. Зачем они явились сюда в таком составе, да еще согласились на избрание в штаб забастовки? Вопреки призыву партии — выжидать? Непостижимо, как столь рассудительные люди дали себя завлечь в сети сверхрадикалов. Раньше они никогда не выступали с левыми требованиями, наоборот, — это ведь Вольфрум предложил его кандидатуру в бургомистры. Но Боде ведет себя так, будто он из гвардии Брозовского. А ведь когда-то был знаменосцем в рейхсбаннере
[3]. Как на зло, устроил целый спектакль в присутствии этих двух церберов.
Так Цонкель называл про себя Фейгеля и Меллендорфа. Он еще не совсем забыл свое прошлое: нет, не забыл! Но товарищам тоже следовало держаться в известных рамках, кабинет бургомистра — не место для скандалов. А что касалось забастовки, то Лаубе и Барт держали его в курсе событий. Насчет этого между ними существовала твердая договоренность. Они бастовали, когда дело касалось законных интересов рабочих, и не отставали от товарищей. На то они и сознательные организованные рабочие. Сам он тоже делал четкое различие между постом бургомистра и членством в партии. Как бургомистр он стоял над партиями, а как социал-демократ — был полностью на стороне рабочих. Так он понимал свой долг. Воззрения Лаубе, а тем более Барта, не всегда совпадали с его собственными взглядами. Барт был немного индивидуалист, это объяснялось его происхождением и было простительно. Партия — не армия, всех под один ранжир не подводит. Но к этой пролетарской самообороне они и в самом деле не имели никакого отношения. А уж он тем более. Это компания Брозовского.
Руководил борьбой профсоюз, и никто другой. Легально и законными средствами, без всякой самообороны. Прав был Лаубе, когда говорил, что самооборона приведет лишь к нежелательным трениям с полицией. В итоге это только помешало аварийным работам и вызвало черт знает какие беззакония. Никто не имеет права подменять органы власти. Так далеко заходить нельзя.
Он пришел к выводу, что в рассказе Боде много неправдоподобного, и указал на некоторые противоречия.
— Что ты несешь? Или я ошибся дверью? — Боде отступил на три шага. — Ты, собственно, за кого?
Секретарь тотчас принялся делать заметки. Каждая подробность спора между Цонкелем и Боде казалась ему важной. На всякий случай он взял из рук Меллендорфа листок со списком свидетелей.
Воспользовавшись первой же паузой, секретарь сказал:
— Список свидетелей является важным документом. Я считаю целесообразным, — обратился он к Цонкелю, — изъять его и направить в районное полицейское управление. Двадцать фамилий, и все как на подбор — забастовщики… Странно, что в полночь в этом кабаке оказалось столько людей. Мне представляется важным выяснить, чем они там в это время занимались.
— Ковыряли в носу! — крикнул кто-то.
Фейгель презрительно скривил губы. Он считал ниже своего достоинства отвечать на подобные реплики. Будь на то его воля, он сразу же учинил бы настоящий допрос. Разве это свидетели? Их место — на скамье подсудимых. Он не сомневался, что главные виновники и зачинщики беспорядков находились здесь, в кабинете. В их число входит и хозяин пивной, а Боде — один из вожаков. Чем больше он говорит, тем больше путается. Ну, кто поверит сказкам, которые он так упрямо повторяет. Преступники, напавшие на управляющего имением, обнаружены. Вот так-то. Не хватает только одного — самого хитрого…
— Я дам прокуратуре указание назначить следствие, — уронил он свысока. — Несмотря на преступную халатность, — эти слова явно предназначались бургомистру, а их весомость подчеркивалась последующей паузой, — несмотря на халатность, собрано достаточное количество фактов для выяснения истины. Пора переходить в наступление. Я полагаю, сказано достаточно.
Меллендорф, важный, как индюк, и толстый, как боров, счел своим долгом тоже вставить слово. Желая показать, что и он разбирается в законах, полицейский прорычал:
— При сложившихся обстоятельствах надо срочно произвести арест определенных лиц. Иначе возникает опасность преднамеренного запутывания следствия.
Тут Вольфрум стукнул кулаком по столу.
— Вели полицейскому выйти из кабинета! Или с тобой можно говорить только в присутствии полиции?
Цонкель побледнел. Он предчувствовал, что Вольфрум выкинет что-нибудь в этом роде, он ждал этого.
И дождался.
— «Гетштедтский двор» является также традиционным клубом социал-демократов. Там подают хорошее пиво, и туда ходят всеми уважаемые рабочие. Хозяин пользуется незапятнанной репутацией. Безобразие, что с ним обращаются, как с бродягой. Разве мы преступники? Я сам находился в задней комнате, — да, да, навострите уши, господин секретарь, — в задней комнате. Зала ратуши нам не дают, поэтому пришлось устроить штаб забастовки в пивной. Таковы порядки в этом государстве. Я сам не пострадал, но был свидетелем подлого налета. Это были настоящие убийцы. Вмешаться мне не пришлось, с ними уже расправились. Иначе…
Вольфрум говорил теперь за всех. Этого человека расшевелить было нелегко, он долго взвешивал каждое слово. Никто не знал этого лучше, чем Цонкель.
Секретарь смотрел во все глаза. Он явно торжествовал.
— Как так «убийцы», разве кого-нибудь убили? Нет? Я тоже об этом не слыхал. Значит, обычное преувеличение. Пропаганда!
Увидев выпученные глаза секретаря за стеклами очков, Вольфрум подумал: «Ишь, подлец, как глаза пялит. Того и гляди, выскочат. Хлыщ лупоглазый, руки чешутся твои зенки выцарапать».
— Слушай внимательно, господин Фейгель, чтобы не упустить ни одного «преувеличения». Вы — только секретарь магистрата, а не шпик, которому поручили найти улики против шахтеров. Понятно? Весь город знает, что вы самый бессовестный человек во всей ратуше. Если вы этого еще не знали, то теперь наконец услышали. К сожалению, мы, шахтеры, еще и платим вам жалованье. Придется это дело пересмотреть.
У секретаря перехватило дыхание. Лицо исказилось. Желтая кожа покрылась красными пятнами. Но это не остановило Вольфрума.
— Кому вы вьете веревки? Нам, забастовщикам? Бедняга! Не на таких напали. Смотрите, как бы вы раньше в петле не оказались. Вы для нас — что вошь под ногтем. А теперь оставьте нас с товарищем Цонкелем. Вы — лишний здесь и вообще.
— Я окажусь в петле? Вы смеете мне угрожать? Здесь, в ратуше, в присутствии полиции? Господин Меллендорф, господин бургомистр, вы свидетели!
Секретарь бросился вон, размахивая руками, как петух крыльями.
Цонкель не знал, что предпринять, и в нерешительности терся подбородком о белый крахмальный воротничок, который носил обычно летом. Товарищи говорят напрямик все, что думают. Как будто нельзя иначе, более дипломатично. Пытаясь спасти положение, он удержал секретаря, заметив, что нельзя все понимать буквально. Господин Вольфрум в пылу спора допустил…
— Я сказал то, что думал, Мартин, — холодно возразил Вольфрум. — Ведь это понятно всякому. Пошли, товарищи, здесь не место для нас. — Он направился к выходу и возле двери добавил: — Славная компания собралась вокруг тебя, товарищ Цонкель. Ты еще вспомнишь мои слова.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Минна Брозовская в полном одиночестве работала в поле. Рукава кофты закатаны выше локтя, сурово, упрямо поджаты губы. Согнувшись в три погибели и не отрывая глаз от земли, она ритмично, как машина, взмахивала тяпкой. Два удара — один шаг, дна удара — один шаг. Тяжелая работа привычна ей с детства: тринадцати с половиной лет она пришла в коровник при имении.
Едва заметный глазу, высоко в небе, заливался трелью жаворонок. Занятая работой, Минна не видела и не слышала его. Лоб ее был покрыт каплями пота, щеки горели, синеватые жилы вздулись на висках. Ряд за рядом окучивала она высокие стебли картофеля. Давно пора, картофель уже начинал цвести, скоро завяжутся клубни. Хороший урожай был им очень нужен.
Уже несколько часов, с самого утра, ею владела лишь одна мысль: поскорее управиться, поскорее управиться. Надо как можно быстрее окучить картошку, пораньше управиться. Эти слова все время вертелись в ее голове, вытесняя все остальное. Солнце стояло уже в зените и жгло немилосердно. Минна устала, во рту у нее пересохло, но она машинально поднимала тяпку и вонзала ее в землю, вновь поднимала и вонзала опять.
Мужчинам было некогда. Рано утром они уходили из дому, а возвращались ночью. Иной раз только для того, чтобы поесть и снова уйти. Этим летом ей придется справляться самой, так надо, иначе нельзя: забастовка…
Тщетно пыталась она направить свои мысли в другое русло, они вновь возвращались к тем же двум словам. Работать на склоне было трудно — на голых икрах выступили толстые веревки вен. Она яростно вытрясла комочки сухой земли из обуви и вновь принялась за работу. Два удара — один шаг…
Опять остановилась немного передохнуть, огляделась вокруг, отвлеклась. Потом взялась за дело еще энергичнее.
Неужели и вправду нельзя по-другому? Неужели ей надо делать все самой? Она вздохнула. И да и нет. Старший, пожалуй, мог бы ей помочь. Членом забастовочного комитета он ведь не был и сутками в пикетах не стоял. Но парни, вероятно, бегают за девчонками. Когда она заговорила с Отто, пытаясь наставить его на путь, он удрал от нее, бросив на ходу, что она попала пальцем в небо.
Ее мужчины не могли стоять в стороне. Она понимала, что иначе и быть не могло. Забастовка касалась всех мужчин. Но и женщин тоже, женщин даже больше. Вдруг осенью не будет картошки, что тогда? Она уже не верила, что муж снова найдет работу. Забастовка так просто не кончится, за ней последует что-то еще. Она задумалась. Что же именно? Если бы только она имела ясное представление об этом. Муж говорил одно, сын другое. Каждый вечер, когда они бывали дома, они спорили. Верно только одно: рабочим нужна сплоченность. Сын часто сердился. Он хоть сейчас готов был на штурм и ратуши, и Управления горнорудной промышленности, он бы камня на камне от них не оставил. Когда Отто сердился, он не находил нужных слов, на лбу появлялась глубокая складка. Отец старался унять его буйный темперамент. Если сын будет продолжать в том же духе, то, как и отец, вылетит с работы. Она знала, что этого не миновать. И все же пусть бастуют, не сдаваться же им! Минна закашлялась. Иной раз ей становилось дурно от этих мыслей. И тогда она боялась, как бы не свалиться. Но она не отступит, нет! Раз нужно — она выдержит.
Минна взмахивала тяпкой: два удара — один шаг. Она не сдавалась, несмотря на усталость. Комья сухой земли царапали ее голые ноги. Не сдаваться! Бить их, и все! Она думала: «Может быть, сын прав. И жены должны прийти на помощь мужьям. Кое-кто в городе уже повесил нос. Трудно, конечно. У хозяек вышли деньги. Все ждут не дождутся расчета за истекший месяц. Задерживать расчет рабочим не имеют права. Двадцатого — то есть завтра, нет, послезавтра, должны будут заплатить. Да надолго ли хватит? Помощь очень нужна. Надо помочь, да как это сделать?
Вдруг ей пришло в голову: надо поговорить с крестьянами ближайших сел, с торговцами. Они зависят от заработка горняков, забастовка коснется и их. «Или нет? — спросила она себя. — Если нет, тогда надо им разъяснить, ведь это мы несем заработок наших мужей в магазины. Крестьяне, торговцы, ремесленники — все должны быть на стороне рабочих! Что толку торговцам ругать канцлера Брюнинга, который дерет со всех немцев — от мала до велика — новый подушный налог, как его предшественники — с готтентотов?»
О налоге она знала из газеты, которую Отто читал вслух.
— Считали носы, а не деньги в кошельке! — в бешенстве кричал он. И вот теперь они ругают налог на промысел, на доходы от промысла, налог с оборота, подоходный налог, налог на землю…
И откуда что взялось? Только теперь, в поле, она вдруг начала кое в чем разбираться. Не хуже секретаря магистрата, — этот знал все и даже лучше всех. А впрочем, чему тут удивляться? Простая вещь. Надо собирать продукты, организовать столовую для бастующих, — в голове складывался четкий план действий. Эйслебенский председатель МОПРа совершенно прав: надо помогать друг другу, иначе не выстоять. Вот так-то. И это дело женщин; ни одну не забыть, ни одной не остаться в стороне. В столовой дел хватит на всех, и все там будут сыты. Да, да — все…
Ворона черная, словно лакированная, скакала вслед за Минной по свежим бороздам. Когда Минна, дойдя до межи, повернула назад, та взмыла вверх с недовольным карканьем и пролетела над нею, тяжело взмахивая крыльями.
— У, тварь! — пригрозила ей Минна тяпкой.
Она все работала и работала, ноги нестерпимо горели, она ступала ненадолго в сырую прохладную землю и снова: два удара — один шаг… Еще двадцать рядов, десять…
На меже она выпрямилась. Поясница и суставы ныли, тело стало деревянным, голова гудела. Тяпка звякнула о серый песчаник межевого камня. Управилась!
От межи начинался крутой склон оврага, заросший крапивой и чертополохом, тут стояла ее корзина из ивовых прутьев. Тяжело дыша, Минна присела отдохнуть.
Невидящими глазами смотрела она на серые холмы, темные отвалы породы и черные, сверкающие на солнце горы шлака. Отвалы, отвалы… Двести, триста, четыреста или бог знает сколько лет назад там горели огни топок. Взгляд ее скользил по разрушенным шахтным постройкам, остовам подъемников, фабричным трубам, заброшенным медеплавильным печам, остаткам гидравлических сооружений и вентиляционных шахт, чьи названия напоминали о минувшем. Даже весна не в силах была оживить серый унылый ландшафт. Все кругом дышало старостью и тленом. Мало радостей видели люди в этом краю, хоть и насадили море садов. С давних пор, целых семьсот лет трудились здесь в поте лица горняки, добывая руду и копая огороды. И весь век угрожал им кнут хозяев.
В этих краях пятнадцатилетние уже не считались мальчишками, двадцатилетние с трудом разгибали спину, тридцатилетние были стариками. Для них туманный ноябрь отличался от мая лишь тем, что был на один день, на одну смену короче. Но когда они восставали, солнце светило и для них. Мансфельдцы часто пытались сбросить ненавистное ярмо. Это записано в хрониках, и деды рассказывали об этом внукам. Вот откуда знали они, что такое солнце и весна, они вспоминали о них слишком часто, чтобы успеть забыть.
Знала это и женщина, сидевшая на меже. Сложив на коленях усталые руки, она думала о простых и знакомых вещах. Она видела огромный котел с кипящим супом и разливала его в подставленные миски…
Минна стремительно поднялась, взвалила корзину на спину и заспешила вниз по склону, словно за нею гнались.
Дома, повесив корзину на место, пристально осмотрела вмурованный в плиту медный котел для стирки. Потом сунула руку в топку и смахнула сажу с днища. Вмятины и заплаты не украшали котла, а стенки стали совсем тонкими, — после каждой стирки она надраивала его до блеска тертым кирпичом. И все же в сырой и затхлой кухне медь котла быстро покрывалась зеленью. Она взяла тряпку и навела глянец. Ничего, сойдет, лиха беда начало.
Она придумывала возможные возражения и сама же приводила веские доводы в свое оправдание. Нерешительных и бездеятельных будет достаточно. Конечно, новая походная кухня была бы гораздо лучше. Но у кого она есть, да и кто ее даст? Каменщикам придется сложить плиту, они ведь бастуют, времени у них предостаточно. Кирпич и глина найдутся. Несколько ведер глины сможет принести и Вальтер. Кстати, куда он подевался? А хозяин «Гетштедтского двора» предоставит зал и пристройку. Вот кухня со столовой и готова.
Женщины примкнут охотно, недостатка в помощницах не будет.
Минна драила котел так, что вся взмокла. Увидев свое отражение в его золотистой поверхности, она ужаснулась: «На кого я похожа!»
«Экое безобразие!» — подумала Минна, с трудом переводя дух. Но в душе уже закопошился червь сомнения. Может, она такая же сумасшедшая, как и ее сын, и хочет прошибить стену лбом? На одном энтузиазме далеко не уедешь. А что положить в котел? Делим шкуру неубитого медведя. У кого возьмешь? Каждый гол как сокол. И чем дольше она размышляла, тем больше остывал ее порыв. Грандиозные планы рушились, как карточные домики. На огороде все казалось куда проще: крестьяне должны помочь, торговцы дадут в кредит, везде найдутся отзывчивые люди. А теперь? Нет, столько народу ей не расшевелить. Она уныло опустила голову.
Что же, она так и будет сидеть сложа руки и дожидаться, когда все потонет в слезах и жалобах? Ну уж нет! Это дело не мужское. Тут надо посоветоваться с женщинами. От них зависит, сдадутся мужчины или выстоят.
В этом деле лучше всех поможет Гедвига Гаммер. Бой-баба! Будь она из другого теста, ей бы не справиться с Юле, с этим богатырем. А при ней он тише воды.
Минна быстро умылась и переоделась.
С шумом ввалился Вальтер и бросил свой ранец на кушетку.
— Есть хочу!
На его парусиновых штанах зияла дыра. Проследив за взглядом матери, он попытался прикрыть дыру рукой.
— Это уже было…
Подзатыльник оборвал его оправдания.
— Уходи с глаз долой. Все на тебе горит! Вот налеплю огромную заплату, и щеголяй с ней. Пускай некрасиво. Может, перестанешь дурака валять весь день.
Мальчик надул губы. От голода у него сосало под ложечкой. У других ребят штаны тоже рваные, например, у Эриха Боде. Один раз у него были даже две дырки, хотя он ничего плохого не делал, от футбола штаны, ведь не могли порваться. Они просто износились. Вот и Эрих то же самое сказал. Если она имеет в виду случай с кошкой, так это сделали взрослые ребята, которые уже окончили школу. Это они защемили ей лапы ореховой скорлупой. А он только смотрел.
Минна прислушалась. Вчера пятнистый кот Бинертов прыгнул с улицы в комнату прямо через окно, отчаянно мяукая и волоча привязанную к хвосту консервную банку. Животное взбесилось от боли. Бинертиха переполошила всю улицу своим криком и проклятиями. Даже главный врач больницы выглянул, чтобы узнать, кто это так разоряется.
— Проклятые озорники… Значит, ты и там поспел?
Вальтер шмыгнул к двери. По глазам матери он видел, что ему несдобровать. В дверях он сказал:
— Я больше не хочу есть. А коту это ничуть не повредит. Так им и надо! Старик Бинерт уже два раза пытался пройти на шахту. Он штрейкбрехер и все время бегает к Бартелю. Люди видели. Как ему только не стыдно!
И удрал на улицу. Мать позовет обедать, когда успокоится.
Минна грозно крикнула вдогонку:
— Все отцу расскажу!
Потом быстренько причесалась и заперла дом. Когда она проходила мимо открытых окон Бинертов, Ольга намеренно громко зашипела ей вслед:
— Ишь, не успела дерьмо отмыть после огорода и уже хвост трубой! А мальчишка пропадай пропадом. Милая семеечка. Коммунисты собачьи…
Ее дочь слушала в пол-уха. Она никак не могла налюбоваться новым янтарным ожерельем.
— Курт сказал, что этой забастовке скоро конец. Навезут со всех сторон людей, которые будут рады получить работу. Полиции тоже дадут подкрепление. Отцу надо срочно явиться на шахту, — проговорила она и обернулась, чтобы проверить, не перекосились ли швы на чулках.
— Уж об этом я позабочусь. Явится, как миленький. Счастье, что служащим жалованье не урезали. Хоть тебе повезло…
* * *
Стоя на коленях, Гедвига Гаммер мыла красный кирпичный пол в сенях. Она так нажимала на щетку, что мыльная вода превращалась в пену. Младшая дочка Генриха Вендта сидела на ступеньках лестницы и внимательно наблюдала за ней. Туго заплетенные косички крылышками торчали у нее за ушами.
— Ты всегда делаешь такие красивые пузыри, тетя Гедвига? Потри-ка еще, тогда пузырь взлетит. Они всегда вылетают, когда ты нажимаешь?
Гедвига ответила:
— Глупышка, это не оттого, что нажимаю, а от мыла…
— А где у тебя мыло? В ведре ведь одна вода.
— Потом я тебе покажу. Получишь горшочек с мыльной водой, соломинку и выдувай пузыри, сколько хочешь. Идет?
— Ладно. А ты умеешь?
— Да, но потом.
— Все трудишься? — прервала их разговор Минна.
— Да так, понемножку. Постирала, жалко было выливать такую хорошую воду.
Гедвига поднялась, ногой отодвинула ведро и подала Минне локоть.
— Руки мокрые.
— Не обращай на меня внимания. Кончай, я подожду.
Минна присела на ступеньки рядом с девочкой, та болтала без умолку.
Гедвига вымыла наружные ступеньки и вылила воду в канаву.
— Готово. Теперь найдем соломинку и можешь дуть пузыри.
Девочка завизжала от восторга. Немного погодя она уже пускала целые гирлянды пузырей, широко открыв глаза от изумления: вот что умеет…
Женщины вошли в дом.
— Я своего почти не вижу, — сказала Гедвига, вытирая руки и глядя на большую свадебную фотографию над диваном. Юле в черном костюме чувствовал себя явно не в своей тарелке.
— Я пришла поговорить о наших мужьях. Так дальше дело не пойдет, мы, женщины, должны им помочь. Давно уже ломаю над этим голову.
— Мы? Смеешься, что ли? Своему-то я помогу. Пусть только явится. Даже ночью — и то одна.
— Не устраивай ему сцен. Он ведь не с жиру бесится. Если забастовка провалится, ты и я, мы все почувствуем это на своей шкуре. Им нельзя отступать, и мы, женщины, должны быть начеку, иначе потом все на наши же плечи ляжет. — Минна разволновалась.
«Да она говорит как по-писаному, надо же!» — подумала Гедвига. Ее глаза изумленно округлились, как у дочки Вендта при виде пузырей. Организовать в «Гетштедтском дворе» столовую для бастующих, раздобыть продукты, варить еду, пролетарская взаимопомощь. Слова-то какие, чисто газету читает. Неужели это Минна?
Да, это Минна Брозовская! Вот она какая! От тяжкого труда у нее чуть кривое бедро, при ходьбе она слегка волочит ногу. Самая обыкновенная женщина. От постоянной работы кожа на ладонях как подошва. Да, Минна права, мужчинам надо доказать. И ее мужу — тоже. Только и знают, что горло драть да маршировать, а что толку?
«Я согласна. Еще несколько человек наверняка найдутся. Сразу же примкнет Эльфрида Винклер, с которой дружит Пауль Дитрих», — подумала Гедвига.
— Сейчас все наладим, — сказала она.
Хозяина пивной долго уговаривать не пришлось. После того как его избили и Цонкель — вопреки своему обещанию — ничем ему не помог, он был готов на все. Женщины осмотрели помещение.
— Лучше и не надо! Здесь поставим один котел, там — другой. Воду будем подавать шлангом. Кладовая тоже есть, картошку можно чистить во дворе, а в случае дождя переберемся под навес. Вот и прекрасно!
Минна осмотрела все углы.
— Почин дороже денег. Жертвую вам два с половиной центнера картошки!
Хозяин, правда, тут же пожалел о сказанном, но на попятную не пошел. Гедвига обняла его.
— Из тебя еще выйдет толк, мой пузанчик. Мне в детстве побои тоже на пользу шли.
Из комнаты забастовочного комитета появился Вольфрум, заинтересовавшийся причинами суеты во дворе.
— Что вы тут затеяли?
— Устраиваем столовую для бастующих.
— Это надо обдумать. — Он покачал головой, не столько отвергая, сколько взвешивая. — Товарищи женщины, это надо хорошенько обмозговать.
— Чего тут долго раздумывать? — накинулись на него женщины. На каждое возражение у них был готов ответ.
* * *
Минна с Гедвигой ходили из дома в дом, приглашая на собрание. Вольфрум вдобавок послал связных штаба забастовки по городу. Вечером собрались двести женщин.
Все говорили одновременно. Вопреки возражениям Лаубе, забастовочный комитет решил столовую организовать.
— Только на деньги профсоюза не рассчитывайте. Я требую…
— Здесь нечего требовать. И вообще, чего тебе надо на нашем собрании? Тебя никто не приглашал. Ступай в свой профсоюзный комитет. Там все твоего поля ягоды. Нарочно создали отдельный комитет, чтобы внести раздор в наши ряды.
Лаубе прервал Минну:
— Мы никакого отношения к твоей столовой иметь не хотим.
— А никто и не требует. Выписывай себе пропуска на аварийные работы. Пока не оделишь ими всех. Тогда забастовка сама собой кончится и тебе не придется замаливать грехи. Ты думаешь, мы не знаем о твоих темных делишках? Лучше оставь нас в покое!
У Минны вдруг что-то кольнуло в груди. Неужели это она ораторствует у всех на виду? Чем это кончится? От страха подогнулись колени. Может, оттого, что она целый день почти ничего не ела? Нет, она чувствовала, что кровь прилила к сердцу от возбуждения.
Маленькая Эльфрида сидела ближе всех. Она заметила, что Брозовская побледнела, а потом стала серой, как пепел. Девушка усадила ее на свой стул. Минна готова была расплакаться.
Лаубе вскинулся:
— Это неслыханно! Я не позволю себя оскорблять! Устраивайте вашу пропаганду в другом месте!
Но женщины быстро заткнули ему рот.
— Дети получат тарелку супа, а ты получишь то, что заслужил!
— Пошел вон!
Его возражений никто не слушал. Тщедушная Альма Вендт, обычно робкая и тихая, вдруг стала бить его по голове мешочком для шитья. До этого она вязала и молча слушала. «Вот дети-то обрадуются», — думала она.
— Может, ты накормишь моих обжор? Эх ты… Даже собственного ребенка кормить не стал! Умник чертов! Всегда был захребетником, с самой молодости. — Она всхлипнула и спрятала лицо на груди Гедвиги Гаммер. Рыдания сотрясали ее худенькое тело.
Все знали, что до войны, когда она была еще девчонкой, Лаубе ухаживал за ней. Он бросил ее с ребенком, а потом Генрих Вендт женился на ней и воспитал мальчика.
Гедвига бережно отстранила ее и так же осторожно, словно боясь причинить боль, молча выставила Лаубе из зала.
Генрих Вендт вышел вперед, к столу президиума.
— Я когда-то учился на каменщика. Если печник не найдется, я сложу вам плиту. Не волнуйтесь, бабоньки, справимся.
Кадык на его тощей шее нервно дернулся, когда он взял жену за руки.
— Браво, Генрих! — раздалось из зала. — Мы, каменщики, поможем.
И, тяжело ступая, они вышли к столу.
Перевод К. Лоренца под редакцией Е. Михелевич.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Горняки бастовали уже третью неделю. Нерешительные попытки групп взаимопомощи «Стального шлема» сломить забастовщиков чередовались с налетами полиции. Ей давали отпор, однако стычки повторялись изо дня в день. Всеобщее возбуждение росло с каждым часом, словно пожар, раздуваемый ветром. В деревнях и городах, на проселках и улицах, в закоулках рабочих окраин, на всех дорогах царило оживление. Перед воротами шахт и металлургических заводов стояли массовые стачечные пикеты, горняки некоторых шахт и рабочие предприятий явились в полном составе. Пикеты регулярно сменялись.
Сегодня дирекция распорядилась выдать остаток зарплаты.
У запертых ворот Вицтумской шахты собрались сотни горняков.
— Что-то они задумали, братцы, носом чую, — сказал Вольфрум, оглядывая товарищей. — В Гетштедте освобождают помещение школы. Не иначе как под казарму.
Два полицейских грузовика, непрерывно сигналя, проложили себе путь сквозь толпу и въехали на шахтный двор. Под их охраной шла машина с деньгами. В ней сидели чиновники из Горного управления.
От ворот до кассы вытянулась цепь полицейских. За ними, второй цепочкой, выстроились штейгеры, — они явились все до единого.
То один, то другой штейгер заговаривал с горняками из своего забоя.
— Шунке, как дела?..
— Хорошая сегодня погодка, штейгер Гариус, — слышалось в ответ.
Насмешки, язвительные замечания, озорные шутки. Этим пока все ограничивалось. Всех настораживали приготовления полиции.
— Последняя получка, Шунке, — продолжал штейгер. — Что матери скажешь, а? Ведь в следующем месяце вам ничего не светит.
— Хуже не будет, штейгер Гариус. Нам не привыкать. В шахте тоже не светло.
— Это плохо кончится, Шунке. Сами себе хуже делаете.
— У каждого своя голова… Скажите-ка, штейгер Гариус, за получкой сквозь строй будут прогонять, да? — Шунке показал на полицейских. Штейгер смолчал. — Учтите, штейгер Гариус, с вашим братом дирекция тоже не будет цацкаться. Так что и вам не светит, не надейтесь!
Давка у ворот усилилась.
— Зачем здесь полицейская свора? — крикнул Вольфрум через головы товарищей стоявшему впереди Лаубе. — Помощнички кассира?
Лаубе промолчал, не желая ввязываться в разговор. В противоположность товарищам, одевшимся по-будничному, он нарядился в синий шевиотовый костюм, который, несмотря на все старания фрау Лаубе, лоснился на обшлагах и лацканах.
Полицейские поигрывали пристегнутыми к поясам резиновыми дубинками, демонстративно поправляли карабины, с важным видом обменивались вполголоса отрывистыми фразами и вообще вели себя довольно бесцеремонно.
Пауль Дитрих взобрался на решетку ворот.
— Новые порядочки, братцы! — воскликнул он, оглядывая двор. — Сегодня денежки будут, наверно, подавать на серебряной тарелке. Полиция проверит, сколько монет досталось каждому, и выделит нам личных телохранителей. Пока еще наш капитал под охраной.
— Не занимайся провокациями! — одернул его Лаубе. — Вечно эти сопляки суются повсюду.
— А ну, слезай! — послышался окрик со двора.
Пауль Дитрих спокойно продолжал сидеть на узкой перекладине.
— Слезай, тебе говорят, и убирайся отсюда! — Лаубе схватил Пауля за щиколотки, пытаясь стащить вниз.
Пауль не сдавался.
— Пусть сначала уберется полиция.
— Заткнись, щенок! Чего людей натравливаешь? Опять хочешь скандала? — Лаубе рассвирепел. Еще из дома он позволил в бухгалтерию и надеялся, что ему, как члену производственного совета, вручат зарплату отдельно. Но его даже не выслушали до конца.
— Он прав, — вступился за Пауля Вольфрум. — Чего тебе надо? Еще вопрос — кто кого здесь провоцирует.
— Подпевай, подпевай, на это ты способен! Хотите из пустяка устроить массовое зрелище! — Лаубе с оскорбленным видом отвернулся и замолчал. Плевал он на таких, как Вольфрум. Перебежчики. Своим же товарищам норовят в спину ударить.
— Зрелище начинается, дорогой товарищ Лаубе. Слышишь? Начинается.
Ворота распахнулись. Пауль проворно соскользнул вниз. Полицейский вахмистр крикнул:
— Станьте в очередь! По возможности, соблюдайте порядок, и дело пойдет быстрее!
Это прозвучало властно и вместе с тем почти любезно.
Лаубе, не оглянувшись на Вольфрума, вошел первым. За ним гуськом двинулись человек десять — двенадцать. Внезапно очередь остановилась. Люди сбились в толпу, и у ворот образовалась пробка.
— Разойдись! — молодцевато скомандовал вахмистр. — Дайте дорогу! Слышите?
Толпа у ворот редела. Горняки группами врывались на шахтный двор, сметая жидкие цепочки полицейских. Чиновники из управления даже не пытались сдержать лавину. Вахмистр неистовствовал. Ничего не помогло. Тысячи людей мгновенно заполнили двор. Каски полицейских черными поплавками покачивались в море голов. Вахмистр истошным голосом выкрикивал команды, но полицейские были бессильны что-либо предпринять; рассвирепевшие, они постепенно собрались в проходе возле центрального здания и пытались восстановить порядок. Путь к раздевалке был прегражден. Горнякам снова пришлось ждать.
В числе последних пришли Юле Гаммер и Брозовский-младший. Ведя велосипеды, они не спеша пересекли двор. В толпе кто-то, посмеиваясь, громко пожаловался им, что из-за неблагоразумия масс сорвалась намечавшаяся прогонка сквозь строй.
— До чего ж иногда люди бывают бестолковы, просто не верится. — Юле расхохотался.
Они с Брозовским только что вернулись из Гетштедта. Сегодня утром довольно большая группа иногородних штрейкбрехеров впервые попыталась под защитой полиции войти на латунный завод. Но дело обернулось для них скверно. Правая кисть Юле была перевязана носовым платком. Во время драки он, не рассчитав удара, повредил руку, зато у штрейкбрехера, по всей вероятности, сотрясение мозга. Юле поведал об этом без лишней скромности. За маркшейдерской он открыл водопроводный кран и, держа распухший сустав под холодной струей, заметил вслух, что вряд ли его кто осудит, если он получит причитающиеся ему деньги.
Генрих Вендт с неохотой согласился присмотреть за велосипедами.
— Ничего, старина, потерпи, я сейчас организую выплату, — сказал Юле и стал протискиваться сквозь толчею. Отто Брозовский с трудом пробирался вслед за ним.
На мостике, ведущем к верхней погрузочной площадке, лежал толстый слой пыли. На нем отчетливо вырисовывались следы. Кто-то из служащих поднялся на копер. Фарштейгер Бартель. Непривычно глухо звучали его шаги, когда он спускался вниз по лестнице.
— Пашет, что твоя черепаха в пустыне, — съязвил по его адресу Юле, пробираясь ко все еще закрытому окошку кассы.
Бартель, пошептавшись с вахмистром, исчез за дверью кассы. Вахмистр пристально оглядел Юле и начал вполголоса инструктировать полицейских, пыл которых заметно поубавился после того, как сорвался их первоначальный план.
Лаубе и тут оказался первым. Он торчал возле самого окошка и сердито зашипел на Юле, когда тот бесцеремонно крикнул вслед фарштейгеру:
— Да открывайте же наконец свою лавочку! Не то вызовем на помощь «Стальной шлем». Сколько можно ждать?
Вахмистр воспринял это как сигнал к вмешательству.
— Тихо! — скомандовал он. — Кто будет нарушать порядок, вылетит отсюда в два счета! — Он не спускал глаз с Юле.
— Это еще неизвестно, кто отсюда вылетит! — Юле внимательно оглядел распухшую руку и, демонстративно повернувшись к вахмистру спиной, завел с Брозовским разговор о том, много ли осенью будет личинок после нынешнего нашествия майских жуков.
Вахмистр побагровел.
— Что, что?.. Как фамилия? — Он вертелся около Юле и так орал, словно командовал по меньшей мере армией.
— Гаммер, Юлиус, откатчик, Гербштедт, Ольгассе. Что еще прикажете?
Взрыв смеха, казалось, приподнял крышу над галереей. В эту минуту открылось окошко. Кассир высунул голову.
— Подходите! Кто первый? Лаубе? Лаубе… — Указательный палец кассира скользнул по списку. — Ага, есть… — Он подал конверт с деньгами. — А вот документы: справка об увольнении, профсоюзные бумаги…
Лаубе побелел.
— Как так? — пробормотал он. — Я же член производственного…
— Знаю, вы нам звонили. Но это не имеет значения. Дирекция уволила всех. Впрочем, вас предупредили еще первого числа. Было же объявление. Чему вы удивляетесь? Ведь сами этого хотели… Следующий!
Расстроенный Лаубе, шатаясь, побрел к выходу. У кассы произошла небольшая заминка.
— Подходите быстрей! — Вахмистр серьезно относился к своим обязанностям.
— Следующий! — Кассир нетерпеливо барабанил костяшками пальцев по подоконнику.
— Вебер…
В окошке появились очередные деньги и документы.
— Крюмлинг…
Опередив Шунке, Отто Брозовский протиснулся к окошку.
— Брозовский…
Кассир удивленно поднял глаза и нарочито покровительственным движением руки протянул Отто конверт.
— А вот и документы! — сказал он, смакуя каждое слово.
Отто с невозмутимым видом вскрыл конверт и внимательно сосчитал деньги. Одиннадцать марок, двадцать пфеннигов. Правильно. Одна пятимарковая монета, две двухмарковые, две по одной марке и мелочь. Он зажал деньги в кулак.
— Вот теперь можно и заглянуть кое-куда! — насмешливо произнес кто-то за его спиной.
— …И документы… Следующий! — Кассир подвинул документы на край подоконника.
— Благодарю, они мне не нужны. — И резким движением Отто смахнул их прямо в лицо кассиру.
У того от испуга подкосились ноги. Он вскрикнул. Подбежали полицейские.
— Арестовать его! Арестовать! — вопил кассир.
— Не прикасайтесь ко мне, — спокойно сказал Отто полицейским. Глаза его сверкали от сдерживаемой злости, лоб перерезала глубокая складка. — Или, может, вас уполномочили разрешать трудовые конфликты? Тогда есть кое-какие возражения. — Небрежным движением он снял с плеча руку вахмистра и сделал шаг по направлению к воротам.
Из помещения кассы вышел Бартель.
— Да, да, вот этого! Заберите!
Двое полицейских скрутили Отто руки. Произошла небольшая стычка. Вероятно, каменный пол был скользким, потому что Бартель вдруг упал и проехал на животе к дверям раздевалки, до той самой доски объявлений, где месяц назад свалился охранник, пытавшийся арестовать Брозовского-старшего. Никто не успел толком разглядеть, как это случилось.
— Это Гаммер меня сшиб, Гаммер, вон тот, длинный! — заорал Бартель, поднимаясь с пола.
Юле будто нечаянно наступил вахмистру на ногу, да так, что тот взвыл. Отто Брозовский вырвался. Полицейский ударил его дубинкой. Отто и полицейский как бы очутились на боксерском ринге: горняки расступились, оставив их в кругу. Когда полицейский снова бросился на юношу, кто-то крикнул:
— Отто, дай ему как следует!
Брозовский-младший, размахнувшись, изо всей силы швырнул в лицо полицейскому зажатые в горсть монеты: у того из щеки засочилась кровь, деньги отскочили в толпу. Началась потасовка с полицией.
Окно кассы захлопнулось. Полицейские из-за тесноты не смогли пустить в ход приклады и отступили в помещение кассы.
Вскоре пришел Рюдигер. После продолжительных переговоров с оберштейгером он позвонил по телефону окружному начальнику и попросил того отозвать полицию.
Рюдигер успокоил горняков. Полицейские расположились во дворе вокруг своих машин, как бы разбив военный лагерь.
Через час кассир возобновил выплату. Теперь дело пошло быстрее и без инцидентов. Большинство горняков отказывались брать документы и группами покидали территорию шахты.
У ворот Лаубе затеял спор с Вольфрумом, пытаясь убедить его в том, что действия дирекции законны и возмущаться тут нечем. Вольфрум вместо ответа покрутил пальцем у виска и ушел.
На шоссе, под старой вишней, старик Вендт вручил Отто одиннадцать марок и пятнадцать пфеннигов. Все деньги нашлись кроме пятипфенниговой монетки.
Ее обнаружил полицейский, тот, который потерял свою дубинку, да так и не нашел ее. Вечером, когда он вернулся в казарму и снял галстук, монетка выпала у него из-под воротничка.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Генеральный директор Краль был недоволен. Рассыльный по привычке склонился перед высоким начальством, ожидая хоть малейшего знака. Но, поняв, что на него не обращают никакого внимания, он так же молча, как и вошел, покинул кабинет.
Когда шеф бывал в дурном настроении, служащие берлинской конторы Мансфельдского акционерного общества разговаривали только шепотом. А сегодня даже его личная секретарша не решилась войти в кабинет без вызова и послала туда с телеграммой рассыльного. Даже сам прокурист акционерного общества заглянул в приемную и, нахмурившись, выслушал «отчет» о настроении шефа.
— Он едва поздоровался, — пролепетала секретарша. Обычно шеф был с ней приветлив. Но сегодня бросил ей на руки свой плащ и тут же принялся звонить по телефону. Советнику юстиции д-ру Пфютценрейтеру, министерскому советнику Хагедорну, синдику Союза промышленников, Объединению немецких профсоюзов…
Догадки о серьезности положения ползли из кабинета в кабинет.
Генеральный директор был более чем недоволен. Неужели он приехал в Берлин, чтобы его и здесь осыпали упреками? Господин председатель наблюдательного совета устроил себе легкую жизнь. Он требует. Требует такого, чего никак нельзя добиться от рабочих, полностью оказавшихся под влиянием коммунистов. Даже профсоюзные боссы не могли сломить их упрямства, несмотря на хвастливые обещания. Всезнайки! Генеральному директору пришло на ум еще одно словцо, которое он счел более подходящим для их характеристики.
Крепкой загорелой рукой он слегка провел по аккуратному пробору. Голова раскалывалась. В результате забастовки он оказался в отчаянном положении. Самому себе директор признавался, что не рассчитывал на столь сплоченное сопротивление. Именно поэтому он одобрил план наблюдательного совета. Мансфельдский концерн должен был пробить первую брешь; надо снизить зарплату, — цены на медь скачут вниз на мировом рынке. Нельзя требовать от акционеров, чтобы они терпели убытки из-за американцев, которые со страху начали продавать руду по дешевке.
Но тучи сгустились. Курс акций общества упал, забастовка срезала их под корень. Горько было смотреть, как бесцеремонно вели себя по отношению к Мансфельдскому акционерному обществу крупные банки.
«Придерживаться главной линии» — это легко написать в телеграмме. Еще раз пробежав глазами текст, он скривил губы. Затем швырнул телеграмму на стол и начал крупными шагами мерить комнату. Обычно он с удовольствием приезжал сюда по делам, но сегодня берлинский воздух казался ему затхлым и невыносимым. Телеграмма окончательно отравила ему поездку. Он был убежден, что после переговоров с министром положение в корне изменится; забастовку необходимо сломить с помощью государственного аппарата.
Он распахнул настежь обе створки широкого окна и принялся обозревать тихую берлинскую улицу. Сюда не долетал шум демонстрации безработных в Нейкельне, которую он со всевозможными предосторожностями был вынужден объезжать стороной.
«Вот банда, — Думал он. — Демонстрируют против необходимых мероприятий канцлера, мало того, пытаются помешать использованию свободной рабочей силы в наиболее целесообразных, с точки зрения экономики, областях. В лице Брюнинга мы наконец получили государственного мужа, который на что-то решился».
Яркое солнце освещало чопорные фасады аристократических особняков на противоположной стороне улицы. Изредка проезжали автомашины, тихо шурша колесами по асфальту. В этой божественной тишине действительно ничто не мешало работать. С какой радостью он предвкушал, что на денек-другой вырвется из тревожной суматохи Эйслебена! Но, приехав в Берлин, он попал «из огня да в полымя»: здесь бастовали десятки тысяч металлистов, безработные вышли на улицы, — та же картина, что и в Мансфельде. Не объединились они только по чистой случайности.
Как это теперь повлияет на переговоры о слиянии с Зальцдетфуртским концерном? Мансфельдское акционерное общество уже было готово вступить во владение им. Калий — прибыльное производство! Не передумают ли прежние компаньоны? Надо надеяться, они понимают, что падение курса было вызвано не состоянием финансов, а политической обстановкой. Краль был убежден, что авторитет и кредитоспособность Мансфельдского акционерного общества будут спасены лишь в том случае, если в район забастовки незамедлительно введут крупные полицейские силы.
Он взял со стола «Бёрзенкурир». Судя по газете, общая ситуация складывалась еще более неблагоприятно, чем он себе представлял.
«Придерживаться главной линии», — как будто любая «главная линия» не состоит из множества мелких отрезков, над каждым из которых нужно изрядно потрудиться. Азбучная истина. Неужели председатель наблюдательного совета полагает, что имеет дело с неопытным дилетантом? А на телеграмму, хочешь не хочешь, придется отвечать. Он болезненно переживал свою зависимость от тех, кто сильнее его.
Краль задумчиво потирал энергичный, выступающий вперед подбородок. «Главная линия», которой они до сих пор придерживались, вызывала у него сомнения. На деле она означала прежде всего, что верховное командование промышленностью погнало Мансфельдское акционерное общество в бой. За общие интересы. Отличный маневр. И вот теперь концерн истекает кровью, как пехота на передовой. Мировая политика? Понимаем, одобряем. Правда, связавшись с акулами, смотри в оба. Равно заинтересованные партнеры должны усилить заградительный огонь. И как можно быстрее. Но пока что «партнеры» реагировали на бирже, далеко не считаясь с общими интересами. Как стервятники набросились на пострадавших. В Рурской области Союз сталепромышленников даже спасовал перед угрозой забастовки ста двадцати тысяч рабочих. Отчаянное положение. Неужели этот канцлер Брюнинг заботится только о делах сильнейших «партнеров»? А может быть, кому-то очень хочется по дешевке приобрести имущество несостоятельных должников?
Краль сжал кулаки. Кому? Тиссену? Круппу?.. Они не интересуются медью. Скорее уж банками. Прибирают все оптом. Он задумался. Банки? Так ведь Крупп, Тиссен да еще один гигант — «ИГ-Дуйсберг» — сами их и представляют. Все крупнейшие банки тесно связаны с этой троицей. А может, сюда приложили руку господа из-за океана? Но это противоречило бы уговору. Долларовый заем надо бы использовать для воздействия на «калийную операцию». Если разорят основное общество, все повиснет в воздухе. Не видать уже тогда государственных субвенций, и те или иные убытки придется брать на себя.
Он ломал голову над возможными вариантами, но так и не сумел разгадать замыслов председателя наблюдательного совета. Даже сейчас тот предпочел оставаться за кулисами, не раскрывая своей анонимности. Какую же «линию» он ведет на самом деле? Жонглирует акционерными обществами, словно шариками?
А министра надо бы приструнить. Что они возомнили о себе, эти социал-демократы. В правительстве Пруссии необходимо навести порядок, и срочно. Непонятно, почему там, наверху, медлят, когда в остальных областях республики все изменения прошли гладко. Куда же делся этот Пфютценрейтер, юрисконсульт? Ни на кого нельзя положиться. За что они, собственно, получают жалованье? И вообще за что платят этим министрам и правительственным чиновникам? Бот уже месяц, как бастуют двенадцать тысяч горняков, а эти чинуши сидят себе в своих кабинетах и палец о палец не ударят. Он нажал кнопку звонка и долго не отпускал ее. Вбежала растерянная секретарша.
— Узнайте, куда девался советник юстиции Пфютценрейтер. Пошлите за ним машину и немедленно доставьте его сюда! Выполняйте!
От его ледяного голоса секретарша съежилась. Через двадцать минут советник юстиции наконец явился. Генеральный директор, как бы не замечая присутствия этого толстого подвижного человека, смотрел куда-то сквозь него в пространство. Что поделаешь, приходится пользоваться услугами подобных знатоков всевозможных лазеек.
Разговор начался очень холодно. Советник юстиции сразу же почувствовал сдерживаемое волнение генерального директора; он решил, что поступит благоразумнее, если на сей раз изменит своему постоянному правилу — никогда не сознаваться в безуспешности предпринятых им усилий, — и откровенно заявил, что у теперешнего референта министерства финансов он не добился никакого успеха.
— Господа из правительства придерживаются того мнения, что вопрос о субвенциях должен быть урегулирован независимо от забастовки, так сказать, в спокойной атмосфере.
Генерального директора это не устраивало. Прежде всего надо подавить забастовку, это главное.
— На который час назначены переговоры с министром внутренних дел? — спросил он.
— На одиннадцать тридцать утра. Господин Зеверинг хочет обсудить вопросы безопасности заодно с финансовыми.
Дело принимало совершенно иной оборот. Генеральный директор не любил выдавать своих чувств, но сейчас он не смог скрыть явного облегчения. Советник юстиции отметил это про себя и с непроницаемым лицом начал копаться в своих бумагах.
На пути в министерство встретились непредвиденные препятствия. Центр города был оцеплен полицией, прямая магистраль Шарлоттенбург — Бранденбургские ворота перекрыта. Со стороны Моабита и зоопарка к центру двигалась бесконечная людская масса. Советник юстиции Пфютценрейтер давал указания шоферу, как проехать переулками.
Генеральный директор с каменным лицом сидел на заднем сиденье. Мимо проплывали транспаранты:
«Долой правительство Брюнинга!»
«Долой рабские подати!»
«Работы и хлеба!»
В здании министерства внутренних дел на каждом шагу стояли вооруженные до зубов часовые. Контрольные посты были усилены. Внутренний двор заполнили броневики. Выездные полицейские команды находились в полной боевой готовности.
Совещание началось совсем не так, как предполагал генеральный директор. Во-первых, ему не представилось случая сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Министр, бледный, взволнованный, стараясь придать своему голосу твердость, заявил, что сможет уделить господам только десять минут. Министерский советник, фамилии которого Краль не расслышал, сообщил, что правительство после детальных переговоров с различными ведомствами и в первую очередь с министерством рейхсвера и с начальником штаба решило путем субвенций покрыть разницу между заготовительной стоимостью черновой меди и медных полуфабрикатов и стоимостью их на мировом рынке. Мансфельдское акционерное общество может рассчитывать на то, что платежи будут произведены тотчас по окончании забастовки в соответствии с договоренностью и с учетом скольжения цен.
— Тем самым ваши желания будут исполнены. Положение в стране требует создания собственной стратегической сырьевой базы.
Чиновник закрыл папку. Советник юстиции Пфютценрейтер условился с ним о встрече для обсуждения деталей. Он сам не ожидал, что все так быстро уладится.
— Правительство Пруссии получило от Всегерманского правительства заверение в том, что ассигнованные субвенции будут начислены. По рекомендации профсоюзов мы просим вас дополнительно проверить, какие имеются возможности для уступок в вопросе заработной платы.
Министр произнес это, почти не разжимая губ.
Что все это значит? Неужели профсоюзы согласовали свою политику в области заработной платы с мероприятиями министра внутренних дел? Генеральный директор подобрал вытянутые под столом ноги, скрытые свисавшей скатертью.
— Мы не пойдем ни на какие уступки, — резко ответил он. — К тому же это противоречило бы политике Всегерманского правительства.
— Господин министерский советник Хагедорн, может быть, у вас есть какие-либо возражения? Прошу. — Зеверинг устало откинулся в кресле.
— По нашему мнению, забастовку в Мансфельдском округе удастся прекратить только путем принудительного решения государственного третейского суда. При этом вряд ли следует ожидать, что профсоюзы потребуют от рабочих согласия на сокращение зарплаты в пределах двенадцати — пятнадцати процентов. Любое другое решение конфликта было бы нереальным, а также дискредитировало бы государственные арбитражные инстанции. На такой же точке зрения стоит и министерство труда.
Министерский советник бросал отточенные фразы, словно профессор на лекции.
— Я самым решительным образом возражаю против такого мнения. Профсоюзы не имеют сейчас ни малейшего влияния на рабочих. Мы не собираемся идти на уступки ради укрепления их позиций и расплачиваться за проводимую из года в год ошибочную политику в вопросах зарплаты. С согласия центрального объединения промышленников я требую ввести в районы, охваченные забастовкой, крупные полицейские силы. Это будет тем средством, которое позволит сломить забастовочный террор и найти экономически приемлемое решение.
Генеральный директор без обиняков открыл свои карты. В телеграмме ему рекомендовали вести переговоры умело и тонко. Но он решил, что незачем разводить дипломатию с этими чиновничьими душами.
— Речь идет не столько о профсоюзах, сколько об авторитете государства. Сейчас я не имею возможности перебросить полицейские силы из других районов. Напряженное положение требует концентрации сил в главных пунктах…
Зеверинг хотел еще что-то добавить, но тут зазвонил телефон. Полковник полиции взял трубку и протянул ее министру.
— Господин полицей-президент…
— Что?.. Да! Пустите в ход брандспойты. Если прорвут оцепление, — конечно! Да, да, беспощадно!
Когда министр клал трубку на аппарат, рука его слегка дрожала. Внешний вид его никак не соответствовал тем решительным словам, которые он только что произнес. Зеверинг неуверенным взглядом окинул участников переговоров.
— Как видите, господа, Берлин превратился в адский котел. Я попросил бы сделать перерыв…
Он поднялся.
Все встали, кроме генерального директора. Наступило тягостное молчание.
— Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что положение, создавшееся в нашем округе, далее нетерпимо. И ответственность за возможные последствия будете нести вы, господин министр. Если правительство откажется нам помочь и принять меры, я обращусь к президенту республики. Своей пассивностью, вызванной вашими пристрастными взглядами, вы ставите под удар авторитет государства.
Он выкладывал один аргумент за другим. Министр стоя выслушивал генерального директора, не осмеливаясь перебить его.
Когда Краль умолк, Зеверинг тихо сказал:
— Что ж, в таком случае придется снять несколько отрядов из Лихтерфельде. — Он стал диктовать полковнику приказ, но не успел закончить, как зазвонил телефон. — В чем дело? — раздраженно спросил Зеверинг. — Заседание уже началось? Выступает Тельман?
Он швырнул трубку на рычаг аппарата.
— Мне надо в рейхстаг. Вы сами слышали, что происходит. Господин полковник, прошу вас: будьте здесь и отдавайте самые необходимые распоряжения. Но соблюдайте меру, соблюдайте меру…
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Вот уже второй день против стачечных пикетов были выставлены крупные наряды полиции, расположившиеся по ту сторону запертых ворот. Полицейских перебросили из Берлина. Дирекции предоставили полномочия использовать их по своему усмотрению. Гетштедтской латунный завод — самое большое и важное предприятие, к нему сейчас и было обращено все внимание генерального директора.
На заводских складах лежала готовая продукция, медная проволока, литье и листовая медь — материал, который в любую минуту можно было пустить в оборот, превратить в наличный капитал. Именно поэтому здесь и сосредоточили основную часть полицейских подкреплений.
Штрейкбрехеры пройти на завод не могли — все подходы были блокированы бастующими. Сотнями сидели они на насыпи вдоль шоссе. А внизу, в долине, особенно пышно этой весной цвели деревья и кустарники. Природа оживала. Из заводских труб теперь не выплывали клубы густого едкого дыма, который обычно окутывал город и окрестности, оседая на землю слоем летучей золы и окрашивая все вокруг в пепельный цвет.
Теплый дождь, прошедший ночью, смыл серую пыль. Прозрачный ручей тихо журчал, пробираясь между старыми ивами и ольхами, весенний ветерок поднимал на воде мелкие барашки и ласково ерошил молодую траву. Стояла тишина, и щебетанье птиц, гнездившихся в кустах, долетало до насыпи.
Брозовский сидел в кругу товарищей. Последнее время он любил пофилософствовать. Аудитория сегодня собралась большая, и он с сарказмом рассуждал о прибылях и прибыльных предприятиях. Рабочие с удовольствием слушали его. На родном диалекте все было так доходчиво. А им редко выпадал свободный часок, чтобы пополнить свои знания. Люди блаженно потягивались на солнце.
— Давно не было такой весны, как в этом году, — проговорил кто-то.
— Да, эта весна такая юная, свежая, беззаботная. Жить бы да радоваться. А тут латунный завод… — Брозовский поискал глазами место поудобнее. Ждать придется долго, подумал он.
В полусотне метров от них, за воротами, томились от бездействия отряды берлинцев в синих мундирах. Утром между ними и бастующими произошла перебранка, как считали рабочие, из-за какого-то недоразумения. Однако забастовщики отошли от ворот и заняли посты метров на пятьдесят подальше. Сдвинуть их оттуда никакими уговорами нельзя было.
— Мы народ упрямый, и лучше не трогайте нас! — сказал Шунке в ответ на предложение полицейских уйти с насыпи.
Берлинцы были настроены весьма недружелюбно. Когда Шунке посоветовал им не очень-то заступаться за штрейкбрехерский сброд, со стороны полицейских послышались презрительные реплики.
Дирекция, правда, не оставляла попыток набрать штрейкбрехеров на стороне, однако из этого ничего не получилось: ни один на завод не прошел. После энергичных объяснений с забастовщиками они больше здесь не показывались.
Господин министр Зеверинг отлично экипировал своих полицейских. Он любил, когда его называли творцом прусской полиции.
Молодой, лихой на вид лейтенант возбужденно мерил большими шагами «ничейную» полосу, разделившую после утренней «дискуссии» бастующих и полицию. Иногда он близко подходил к рабочим; казалось, он хотел узнать, о чем говорит Брозовский.
— Может, ему стоит послушать твою лекцию, Отто? — спросил Шунке.
Брозовский рассмеялся.
— Не обязательно, а вообще не помешало бы.
Четко выкрикивая слова команды, лейтенант то и дело заставлял своих подчиненных перемещаться с одного места на другое.
— Расхаживает, как петух! Напялил мундир и воображает, наверное, что вокруг все со страху падают. Бьюсь об заклад, что он нас за своих кур принимает.
Шунке сделал почин. Тотчас со всех сторон посыпались реплики в адрес берлинцев:
— Да, надоело им топтаться у ворот.
— Сразу видать, забияки. Ишь как на нас поглядывают.
— Упитанные ребята, что верно, то верно, на здоровье не жалуются, — заметил Боде. — А мундиры на них как влитые.
— Куда нам с ними тягаться, заморышам и оборванцам. — Шунке показал на грубо залатанные штаны паренька, сидевшего рядом с ним.
— Да, в таком виде он, конечно, не может представлять государственную мощь свободной Пруссии, хотя бы из гордости, — сказал Брозовский.
Жевавший травинку паренек зло сплюнул.
— А ну их всех к…
— Опять идет, — предупредил кто-то шепотом.
— Какой же ты непослушный, — громко сказал Брозовский пареньку. — Полиция этого не терпит. Хотя здесь и не Берлин, но одеваться надо все-таки прилично. Или у тебя эти штаны единственные?
— Вот еще! — воскликнул паренек. — Да у меня их два полных шкафа. И не хуже, чем у этих берлинцев.
— Ага, значит, ты просто не хочешь похвастаться, как некоторые…
Поняв намек Брозовского, лейтенант покраснел до корней волос. Резко повернувшись, он зашагал обратно.
«Ну погодите у меня, лежебоки, — подумал он, — расселись тут и насмехаетесь над мундиром. Смейтесь, скоро вам тошно станет. Сброд! Жадный, завистливый сброд…» Конечно, когда его парни из лихтерфельдского полицейского училища ездят по воскресеньям в Груневальд или на Ваннзее, им выдают даже парадные мундиры. Что ни говори — все-таки столица, не какой-нибудь там горняцкий поселок. Откуда здесь взяться культуре и хорошим манерам?
Брозовский ободряюще кивнул пареньку.
— Вот так-то, приятель. Каждый из этих молодчиков за воротами чувствует себя большой персоной. Они явились сюда, чтобы защитить штрейкбрехеров от нас. Твои латаные штаны их не волнуют. — Он помолчал, нахмурив лоб. — Ну что ж, пожалуй, продолжим?
— Давай! — Паренек придвинулся ближе.
— Поговорим о том, почему полиция заявилась именно сюда, на латунный завод. Согласны?
Возражений не было.
— Гетштедтский латунный — очень важный завод, второго такого в Германии вообще нет. Поэтому знать его историю и назначение будет небесполезно. Начну с самого начала.
Брозовский описал рукой широкую дугу, как бы охватывая всю территорию огромного завода со всеми его подсобными сооружениями.
— Вот там, в цехах, отливали медные кольца для снарядов. Для маленьких, семидесятипятимиллиметровых, и для тех, что побольше, стопятидесяток, ну и для самых больших — двухсотдесятого калибра. Без этих колец в артиллерии не обойтись. Как сами понимаете, особенно много их делали во время войны. Но и до войны их уже делали про запас и по заграничным заказам, причем беспрерывно. Хороший хозяин всегда предусмотрителен, ведь случись мировая война, и границы запрут. Как же тогда заказчики в других странах получат свой товар? Потому и запасаются. Ясно? А заработали на этом неплохо.
Брозовский умолк и задумался: а кто же, по справедливости говоря, заработал? В таком вопросе надо быть точным и честным, своим товарищам он врать не собирался. И, увидев по выражению их лиц, что они его правильно поняли, он заговорил еще оживленнее:
— Знаете, уметь считать — большое искусство. Только хороший хозяин справляется с этим. Полагаю, здесь никто не сомневается, что наша дирекция кое-что в этом смыслит? Ну вот. Тогда вернемся к нашей теме. У такого латунного завода своя собственная судьба, часто она бывает даже трагической. Во время войны он запросто превращается в кладбище водопроводных кранов, дверных ручек и церковных колоколов. Особенно колоколов. Снаряды ведь быстро расходуются. В бою весь этот ценный металл превращается в пыль. Значит, требуется пополнение. А где его взять — тоже предусмотрено. В военные времена колоколам редко предоставляется возможность сзывать солдат к обедне или на церковный ход. Солдаты то там, то здесь, на одном месте не засиживаются. И колокольный звон им едва ли нужен. А война расправляется с колоколами быстро: они либо рушатся вместе с колокольнями при обстреле, либо их жертвуют для нужд отечества. Как всем известно, немцы пожертвовали больше, чем могли.
Паренек, привстав, перебил Брозовского:
— Я и сам видел, как в Обервидерштедте снимали большой колокол. Он не проходил в проем, так кузнец прямо наверху кувалдой его разбил.
— Вот видишь. А потом все это Мансфельдское общество переплавило. Грязная работа. Вам понятно, что дирекция-то иначе не могла? — Оглядев сидящих и убедившись, что все поняли, Брозовский продолжил: — В такое время плавильные печи пожирают все подряд. А получаются одни лишь снарядные кольца. Это выгодно.
— Еще как! — подтвердил какой-то рабочий латунного завода. — До сих пор делают.
— Спорить с тобой не собираюсь. Ты прав, и сейчас делают. — Усмехнувшись, Брозовский оглядел слушателей. — Если соответствующий верховный военачальник республики, — не скальте зубы, эти господа время от времени меняются, — приказывает на основании сорок восьмой статьи конституции открыть огонь, то рейхсвер открывает огонь, причем не из сахарного тростника. Вы уже сами убедились в этом в двадцать первом году, когда началась канонада. Наверное, никто не забыл, как рвались снаряды в Гетштедте. Между прочим, как раз благодаря медным кольцам снаряд и начинает вращаться по нарезке внутри ствола. Баллистики точно рассчитали это. Мансфельдское общество занимается лишь второй частью расчетов — затратами на производство. Известно, однако, что в этом деле оно еще ни разу не просчиталось.
Паренек чуть толкнул коленкой Брозовского.
— А кто такие эти баллистики?
— Ученые люди. Они вычисляют, чтобы снаряды точно попадали в цель.
— Ну, а что дальше, после колец?
— А дальше винтовочные патроны. Ни один человек на свете не сможет подсчитать, сколько их было израсходовано за прошедшие войны.
Брозовский называл астрономические цифры, приводя для понятности примеры из периода денежной инфляции, хорошо памятной слушателям. Он говорил о патронной инфляции, сооружая перед мысленным взором собравшихся гигантские пирамиды чисел.
— На самой верхушке восседает генеральный директор, а над ним, еще выше, парит незримый финансовый синдикат и снимает сливки. И хочет снимать их все больше и больше. А поскольку мы не хотим, чтобы у нас забирали последнее, то вот и сидим здесь.
Паренек потянул Брозовского за рукав:
— Выражайся попонятнее, а то заладил, как книжник. Что такое синдикат?
— Эх ты, темнота, — сердито сказал ему пожилой литейщик. — У каждого из этих синдикатчиков полный шкаф твоих штанов. А ты, видать, и газет не читаешь?
— Пусть спрашивает, — сказал Брозовский. — Он те же университеты кончал, что и мы с тобой.
— Давай дальше, — требовали слушатели.
Брозовский подтянул к груди колени и обхватил их руками.
— Что ж, дальше дело шло, если только повышался сбыт. Пулеметы стреляют быстрее, чем карабин образца девяносто восьмого года. Потому и началось массовое производство патронов.
Большинству слушателей это было знакомо. В окопах Фландрии, на Сомме, под Верденом, в Вогезах многие из них стояли, бывало, по колено в отстрелянных гильзах. Они знали, что патронную гильзу надо сработать очень точно, иначе будет задержка при заряжении. Знали по собственному опыту.
— Может быть, случалось и так, что кто-нибудь из вас втаптывал в окопную грязь именно те гильзы, для которых он сам здесь добывал медную руду.
— А что, вполне возможно! — воскликнул паренек.
— Тише, не перебивай, — одернули его.
— Сейчас закончу. Что еще? Да, пистолетные гильзы. Маленькие, изящные, блестят, как золотые. На заводе они сыплются из автоматов, словно горох. Такие же гильзы и в пистолетах наших берлинских знакомых, вон тех, что стоят там, а гетштедтская работа, как известно, отличается высоким качеством.
Все это слышал и лейтенант, который снова приблизился к сидевшим и нервно поглядывал на часы.
— Да, прибыльное дело — такой латунный завод, — отозвался старый литейщик. — И чего только на нем ни производят… А у Отто голова хорошо варит. Побольше бы нам таких.
Все согласились с ним. Кроме лейтенанта. Ему не нравилось, что люди спокойно сидят у дороги, покуривают трубки, посмеиваются и даже рассуждают о мировых проблемах. Почувствовав себя задетым, он вдруг ни с того ни с сего приказал всем встать и отойти дальше. Его слова пропустили мимо ушей. Никто и не думал уходить. Да и зачем? Брозовский ведь еще не окончил своей беседы. Латунный завод производил еще много важных вещей. Например, кабель, телефонный провод для полиции, рейхсвера, почтового ведомства, а также провод для высоковольтных линий. Медная руда, которую они добывали в забое и которую там, на заводе, плавили, прокатывали, протягивали и штамповали, действительно находила самое широкое применение.
Неужели лейтенант не понимает этого? Тогда пусть хоть послушает умного человека.
Руда может помочь людям жить лучше, но она может также принести им горе и смерть. Все зависит от того, кто ею владеет и кому принадлежит такой завод. Взять, например, других знакомых мансфельдских рудокопов — криворожских горняков, — старых, добрых знакомых. Брозовский охарактеризовал их, как крепких, смекалистых людей,
хотя никогда и в глаза не видел. Но они не могли быть иными. Впрочем, Рюдигер все подробно о них рассказал. Они добывают не для какого-то там неизвестного синдиката. С этим они давным-давно покончили. Криворожская руда служит самим горнякам, крестьянам, служит всем людям. Это уже немало. Возле криворожских рудников и отвалов больше не услышишь ругани лейтенантов полиции.
— А здесь… что ж, посмотрим. Во всяком случае, время не стоит на месте. Его не сможет остановить даже лейтенант полиции из Берлина.
Брозовскому пришлось подобрать ноги, ибо лейтенант чуть не наступил на них.
— Я думаю, — сказал Брозовский, — что ради этой цели мы должны заставить штрейкбрехеров повернуть назад еще до того, как их под защитой полиции впустят в заводские ворота. Дирекция прежде всего хочет возобновить это важнейшее производство и тем самым сломить забастовку. Господа считают себя необычайно хитрыми. Недаром они превратили латунный завод в самостоятельное акционерное общество. И недаром господин Зеверинг прислал свою полицию именно сюда…
Лейтенант дважды повторил им свой приказ, лицо его побагровело. Опять ничего не добившись, он побежал к воротам. «Упрямая банда! Теперь я поговорю с вами по-другому», — думал он, кипя от бешенства.
По дороге из Гроссэрнера к заводу мчалась группа велосипедистов. В первом Брозовский узнал Пауля Дитриха. От него буквально валил пар, лицо полыхало. За Дитрихом, глотая воздух широко раскрытым ртом, ехал Отто, старший сын Брозовского.
— Едут! Едут! — кричали велосипедисты.
Хорошо, что догадались выслать на разведку молодежь. Они обнаружили грузовики со штрейкбрехерами, и расчет дирекции провалился. По телефону сказали правду. Брозовский сощурил глаза. Да, сейчас может завариться каша…
Парни отнесли свои велосипеды за придорожную канаву и вооружились насосами. Вниз по отвалу бегом спускались бастующие, из-под их ног сыпались камни. Никто не предполагал, что там, наверху, окажется так много людей. Плотными рядами они преградили путь к заводу. На большой скорости подкатили несколько крытых грузовиков с полицейской машиной впереди.
Главные заводские ворота распахнулись. Лейтенантский свисток дал сигнал тревоги. Полицейские, выбежав из ворот, рассыпались в цепь. У подножия насыпи началась дикая свалка. Все, кто сидел вокруг Брозовского, поднялись, иначе полицейские затоптали бы их. Только Брозовский остался сидеть. Не спеша он откусил конец десятипфенниговой сигары и закурил.
— Убирайтесь! А то мы вас! — орал лейтенант так, будто его резали. Около насыпи стало жарко. Берлинцы пустили в ход резиновые дубинки.
На дороге случилось непредвиденное происшествие. Полицейская машина наехала передними колесами на разбросанные вокруг доски с гвоздями. Одна из досок заклинилась между щитком и колесом, и трехдюймовые гвозди, проколов покрышку, сорвали ее с обода. Машина, потеряв управление, налетела на дерево и развернулась поперек шоссе. Ветровое стекло разбилось вдребезги. Следовавший сзади грузовик врезался радиатором в борт полицейской машины. Из смятого кузова раздались душераздирающие вопли.
Лейтенант как ошалелый метался у насыпи и звонко, по-мальчишески, выкрикивал команды. Внезапно у него слетела с головы лакированная каска со сверкающей эмблемой Веймарской республики и покатилась вниз. Голос лейтенанта, захлебнувшись, перешел в рев. Раздался выстрел и вслед за ним крик.
Наверное, это было неизбежно, подумал Брозовский. Во время такой забастовки, по велению властей, рано или поздно должен раздаться первый выстрел. Брозовский невольно очутился в самой гуще схватки. Не успел он выпрямиться, как кто-то перелетел через него и выбил сигару. Ее дымок тонкой струйкой поднимался из кустика ежевики. Брозовский кое-как встал на ноги, согнувшись, проковылял несколько шагов и упал возле раненого, измазав руки его кровью. Раненым оказался Боде. Не везет ему в последнее время, успел еще подумать о нем Брозовский, тогда, у «Гетштедтского двора», его тоже свалили наземь.
Один из полицейских, перепрыгивая через Брозовского, сапогом ударил его в висок.
В воздухе стоял рев. Град камней сыпался на полицейских, с них срывали ремни и портупеи. С окровавленными головами, защищая лица от ударов, берлинцы отступали. Лейтенант покатился вслед за своей каской и плюхнулся в ручей. В разодранном мундире и брюках, промокший насквозь, он выкарабкался на другой берег и стал вытирать глаза.
Две тысячи бастующих загнали полицейских обратно на заводской двор. Так у вас, господа, не выйдет. Здесь люди умеют постоять за себя. И отцы их умели, и дети сумеют. Потому что здесь их родная земля.
С подъехавших грузовиков сорвали брезентовые верха. Из кузовов выглядывали желто-зеленые, как от морской болезни, лица. Всех штрейкбрехеров высадили на мостовую. В одном из них Брозовский-младший узнал своего соседа Бинерта. «Так вот куда он ночью убежал, — подумал Отто, — значит, чутье меня не обмануло». Но прежде чем он успел что-либо предпринять, Пауль Дитрих огрел велосипедным насосом штрейкбрехера, нахлобучив ему шляпу на глаза. Бинерт взвыл.
Очнувшись, Брозовский-старший увидел над собой лицо Боде, искаженное гримасой боли, но улыбающееся. Старый Шунке умело забинтовал ему раненое плечо. За четыре года, которые Шунке прослужил санитаром на войне, он и не такие раны перевязывал. Пуля застряла в мышцах выше локтя. Рука двигалась.
— Из меня кровь хлыщет, как из поросенка, — сказал Боде. — Но мы думали, тебе досталось еще больше. А ты просто весь вымазался в моей крови.
Вместе с Шунке они помогли Брозовскому подняться. Шунке расстегнул ему куртку и ощупал тело. Все было в порядке. Только на левом виске, у самого глаза, синел огромный кровоподтек. Брозовский растерянно смотрел вокруг и молчал. Говорить он не мог.
Со стороны дороги к ним бежал Рюдигер. До сих пор его здесь не видели.
— Что с ним? — крикнул он на ходу. — Тяжело ранили?
Увидев Брозовского на ногах, он успокоился, и кровь понемногу начала приливать к его побелевшему лицу.
— Слава богу, ты цел.
— А теперь пошли быстрее отсюда, — сказал старый рабочий латунного завода. — После сегодняшнего полиция запрудит весь район, только держись. Телефонные провода небось уже гудят от вызовов. Штрейкбрехеры смылись, на сегодня с нас хватит. Пошли.
— Спешить не надо, — ответил Рюдигер. — Организованно отведем пикеты, как условились. Чтобы никакого бегства.
— Ну, а ты как? — спросил он Боде, озабоченно оглядев его повязку.
— Ничего особенного, пуля застряла.
— У нас есть свой врач. Сделаете все, что надо. — Неожиданно Рюдигер наклонился. Среди гальки блестела маленькая патронная гильза. Он поднял ее. — На, держи. Когда доктор вырежет пулю, вставь ее сюда. Будет чудесный сувенир на память о Веймарской республике. — Он хотел добавить еще кое-что о рейхсбаннеровцах, но, увидев жалобное лицо Боде, замолчал и протянул ему гильзу. Стреляли, по всей вероятности, с очень близкого расстояния.
Внизу, в лощине, строились отряды пролетарской самообороны и уходили один за другим.
— Присоединяйтесь к ним, друзья, — сказал Рюдигер рабочим.
Грузовиками, на которых привезли штрейкбрехеров, временно завладела молодежь. Облепив машины, ребята толкали их к придорожной канаве и опрокидывали набок.
Рюдигер с Брозовским и Боде ушли немного позднее через отвал.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
В обеденный час улицы и площади вблизи «Гетштедтского двора» оживали. Все больше и больше людей приходило обедать сюда, на кухню бастующих. За несколько дней своего существования она уже успела стать центром жизни города. Женщины и дети с судками и кастрюлями в руках шли цепочкой мимо двух объемистых котлов.
Самых маленьких кормили за длинным столом в зале. Матери оставались у дверей и оттуда следили за детьми. Эльфрида Винклер сбивалась с ног, стараясь удержать на местах непоседливых гостей, пока они не съедят все. Когда ее попросили взяться за это дело, она согласилась, не раздумывая, и сразу же почувствовала себя в своей стихии. Уже на второй день детвора буквально висла на тете Эльфриде. Она гордилась тем, что ей доверили детей.
От пикетчиков, приходивших сюда обедать, она выслушивала по своему адресу немало шуток — и добродушных и двусмысленных. Юле пророчил ей многодетность.
— Тот, кто хорошо умеет обращаться с этой мелкотой, должен быть вознагражден сторицей, — изрек он однажды и шлепнул Эльфриду по спине так, что та закашлялась.
Пауль Дитрих, скромно стоявший поодаль, покраснел. «Вот это девушка! — подумал он. — Обращается с ребятишками как опытная воспитательница в детском саду». Эльфрида и в самом деле хотела стать воспитательницей, но когда денег едва хватает на жизнь — до учебы ли? Теперь она вовсе безработная. Если в ближайшее время никуда не устроится, то осенью снова пойдет на консервную фабрику в Эйслебене. Когда-нибудь они поженятся, и у них обязательно будет ребенок. Пауль чувствовал себя счастливым и думал, что все должны ему завидовать. И действительно, его друг, Брозовский-младший, немного завидовал ему. Отто признавался, что хотел бы тоже иметь такую жену, как Эльфрида.
Паулю это не нравилось, так как он, по правде говоря, еще не был уверен в согласии Эльфриды, а о его туманных планах насчет женитьбы девушка даже не догадывалась. Это было его тайной. На людях он робел и не осмеливался подать руку Эльфриде, хотя она всегда приветливо кивала ему при встрече.
— Тетя Эльфрида, тетя Эльфрида! — Многоголосый хор не давал ни минуты покоя. Дети постарше тоже толпились вокруг нее. После обеда она обычно отправлялась со всей оравой на спортплощадку. Дети едва могли дождаться этой минуты. Вчера даже госпожа пасторша пришла на них посмотреть, и вскоре по городу разнесся слух, что Лаубе нещадно выпорол своего двенадцатилетнего сорванца за то, что тот вместе с Вальтером Брозовским из одной миски ел сладкую рисовую кашу, а потом полдня озорничал на площадке. Парнишка собирался прийти на другой день в столовую к малышам со своим котелком, — дома-то таких вкусных вещей не готовят.
Сегодня Эльфрида напрасно проглядела все глаза. Мужчины не появлялись. Обеденный час уже кончился. Дети шумели, просились гулять. Она побежала на кухню узнать, что случилось.
Минна Брозовская, помешивая литровым половником густой фасолевый суп, щедро наливала его стоявшим в очереди.
— Не волнуйтесь, придут.
Женщины озабоченно переговаривались. Мужья и сыновья с утра отправились в Гетштедт. Не случилось ли что с ними? Ребятам давно бы пора вернуться, на велосипедах они всегда приезжали раньше всех.
Разливая суп, Минна для каждой находила ободряющее слово. Ее спокойствие передавалось другим. Получив свои порции, женщины группками уходили со двора.
Одно время о кухне распространились нехорошие слухи. Болтали, будто Брозовская, вернувшись домой, жарит и парит до полуночи, так что по всей улице разносятся запахи. Еще бы, сидеть у воды и не напиться…
Минна только усмехалась, когда ей передавали подобные сплетни. Нетрудно было догадаться, откуда они исходят. Но никто не придавал значения этой болтовне, и вскоре она прекратилась. Только самые заядлые сплетницы никак не могли утихомириться. То еда невкусная, судачили они, то медные котлы позеленели и на кухне вообще отсутствует всякая гигиена, то разворовывают продукты. Никого не удивляло, что фрау Барт и фрау Лаубе злословили по адресу тех, кто получал «бурду из народной кухни». Только сплетницам не следовало бы становиться у ратуши, чтобы считать «новеньких», направлявшихся за едой. В это время Гедвига тащила в гору по булыжной мостовой рынка свою ручную тележку с двумя тяжелыми мешками. Тележка Гаммеров числилась теперь в кухонном обозе. Альма Вендт изо всех сил подталкивала ее сзади.
— Я как вареная, — простонала она, обессилев, и опустила руки.
Бочкообразная фрау Лаубе, продолжая сплетничать с фрау Барт, нарочно повысила голос, чтобы ее услышала Гедвига.
— …нет, ты только подумай: каждую корку хлеба, каждую картофелину они выпрашивают. Это позор для рабочих. Мой муж говорит: они побираются по селам, как нищие. А потом еще хвалятся: «Идите к нам, мы вас накормим…» Я бы со стыда сгорела так попрошайничать. Даже детей приманивают и совращают. Вот эдакие бессовестные бабы…
Все сказанное касалось всех, но последние слова предназначались Альме Вендт.
Гедвига отнесла их на свой счет. Два мешка гороха, лежавших на тележке, дали ей батраки поместья Гельмсдорф. В пять утра она уже отправилась туда. Батраки прислали Юле письмо: «…Мы сами небогаты, но хотим вам помочь. Даем, что можем, дорогие товарищи». Письмо прочитали на собрании бастующих. Бедные работяги последних крох не пожалели, чтобы помочь горнякам, а эта жирная квочка насмехается?
Гедвига перевела дух. «Наглая рожа, да знаешь ли ты, что эти два мешка гороха — трехмесячный заработок натурой двадцати трех батрацких семей! Люди собирали его по фунтику, хотя управляющий и угрожал, что выгонит с работы каждого, кто только попробует дать что-нибудь забастовщикам. А тут еще эти языки чешут!» Гедвига потянула тележку навстречу сплетницам.
— Можно подумать, что именно вас двоих наши дела волнуют больше всего на свете. — Гедвига остановилась и сбросила с плеча ремень, за который тащила тележку.
Фрау Лаубе отпрянула. Ее круглый рот некоторое время оставался разинутым, словно она забыла его закрыть, увидев что-то необыкновенное. Она хорошо знала свою бывшую школьную подругу и поняла, что так легко не отделается. В голосе Гедвиги она уловила ненависть и перепугалась.
Гедвига цепко ухватила ее за юбку.
— Подожди-ка. Удрать еще успеешь. Я хочу кое-что сказать.
— О чем мне с тобой говорить?
— Сейчас узнаешь.
— Отстань, побирушка! — Вырываясь, фрау Лаубе решила, что наступление — лучший способ обороны, и ударила Гедвигу. Это была ошибка. Такого Гедвига не ожидала, ей стало не до шуток. Она никогда не дралась с фрау Лаубе, но раз на то пошло… Получив по уху, Гедвига дала себе волю:
— Ах ты, квочка жирная! Я тебе покажу! Встала тут посреди рынка с этой бартелевской тощей селедкой и точит лясы. На вот!
Гедвига с силой повернула ее, словно волчок.
— Пусти меня!
— Не спеши, дорогая, времени у тебя предостаточно. У вас ведь его хватает на то, чтобы проедать вместе с вашими мужьями деньги из профсоюзной кассы, а мой-то платит аккуратно. Думаете, не знаем?.. Нажрались и кудахчете, — вот, мол, какие мы умные. Твой сидит целый день в профсоюзном комитете да выписывает талоны на временную работу. И все это оплачивается, не так ли? То-то вы чванитесь, индюшки!
Фрау Барт с криком бежала к ратуше в надежде найти спасение у Цонкеля.
— Она напала на нас!
— Врунья! — крикнула ей вслед Альма Вендт. Дрожащими руками она отцепила от тележки ремень и намотала его себе на руку.
Фрау Лаубе орала во всю глотку. На крик сбежались прохожие, в ратуше открылись окна.
— Будьте свидетелями — Гаммерша напала на меня! Помогите, она дерется! Ой! Помогите! — Фрау Лаубе вырывалась, царапаясь, как кошка.
Гедвига управлялась с ней без особых усилий. «Это еще не все, — думала она, — надо всыпать ей так, чтоб запомнила раз и навсегда».
— Хочешь свидетелей — пожалуйста. Слушайте, люди! Талоны на временную работу получили даже Бинерт и Рихтер с Цольгассе. Лаубе выписывал талоны штрейкбрехерам, а Тень передавал их штейгеру Бартелю. Нам еще больше известно. Все рассказали те два штрейкбрехера, у которых возле ворот отобрали талоны. Ну вот, теперь хватит… эти оплеухи можешь передать своему хрычу!
Гедвиге пришлось громко выкрикивать слова, потому что из-за воплей фрау Лаубе было трудно что-либо расслышать. Ее ладонь еще несколько раз звучно шлепнула по жирной физиономии, похожей на морду мопса. Последний удар пришелся по растерзанному пучку на затылке, и Гедвига отпихнула толстуху. Альма Вендт хлестнула ее по спине обрывком ремня и побежала бы вслед за ней до самой ратуши, не удержи ее Пауль Дитрих.
— Это она во всем виновата, она! — причитала фрау Лаубе, испуганно оглядывая собравшихся — то были в основном женщины, несшие домой судки с обедом.
Пауль отвел Альму к тележке, возле которой стоял его велосипед. Из Гетштедта Пауль прибыл сюда первым.
— Пошли. Надо сматываться. Сейчас прибежит этот пес Меллендорф. Как только он меня завидит, так у него глаза наливаются кровью… У меня тоже! — прошептал он Гедвиге.
Когда Пауль водружал знамя над ратушей, Меллендорф сломал ему ребро. Об этом знали только Гедвига и Юле. Гедвига делала Паулю компрессы и перевязки. Гаммеры хранили все в тайне, чтобы не доставить удовольствия полицейскому.
Меллендорф мчался вниз по лестнице, словно ратуша была охвачена огнем. За его широкой спиной, размахивая руками, как пугало на ветру, семенила фрау Барт.
— Дитрих, вы арестованы! — крикнул полицейский.
Вокруг громко засмеялись. Толпа росла. Пауль, рассмеявшись, почтительно сказал:
— Здравствуйте, господин Меллендорф.
Его приветствие только подлило масла в огонь. Полицейский рассвирепел и схватился было за дубинку, но потом вытащил блокнот и начал что-то записывать.
— Мы вас научим порядку. Сброд!.. Что у вас в мешках?
Гедвига присела на край тележки.
— То, что в мешках, принадлежит кухне бастующих. И мы не сброд! — Она похлопала по мешкам.
— Знаю я вашу кухню бастующих. То и дело поступают заявления о кражах… Дитрих, стойте!
— А ты не петушись, — прозвучал голос из толпы. — У вас глаза заклеены, все равно ничего не видите.
Вокруг тележки сомкнулось плотное кольцо.
— Что? Кто это? А ну, давай в участок! Тележка конфискована. — Полицейский, подталкивая Дитриха, шагнул вперед, но люди не расступились.
— Разойдись!
Гедвига потеряла терпение. Взявшись за дышло тележки, она рванула ее за собой. Колеса проехали по начищенным до блеска сапогам Меллендорфа.
— Это моя поклажа. Уйди с дороги!
Полицейский пытался задержать тележку. Но ее подталкивало много рук. Сквозь людское кольцо прорвался Брозовский-младший. Велосипед его лежал на мостовой. С насосом в руке парень встал перед Меллендорфом.
— Воскресенье не каждый день бывает, — сказал Отто с намеком и взял Пауля за руку. — Во всяком случае, не сегодня! Пойдем обедать, дружище.
Меллендорф ударил Отто в лицо и завернул ему руку за спину. Отто пытался вырваться, но полицейский был силен, как медведь.
— Отпустите парня, вы ведете себя, как живодер! — крикнула какая-то женщина. — Что он такого сделал?
— Молчать! Я вас всех… — Меллендорф начал раздавать удары направо и налево.
— Нечего нам будет жрать сегодня, ну и ладно! На, подавись, герой! — Сорвав крышку со своего судка, женщина выплеснула в лицо блюстителю порядка горячий суп. Полицейский взвыл и, как слепой, заковылял к ратуше.
Женщины разбежались. В одно мгновение толпы как не бывало. Из дверей ратуши к месту происшествия торопливо шагал муниципальный секретарь.
— Повозка конфискована! — объявил он, бросая на чашу весов весь свой авторитет. — Вам об этом сказали достаточно ясно!
— Конфискована? Ах ты, огарок, — негромко проговорил Отто и в упор посмотрел на него. — А ну, сматывайся отсюда, пока я тебя в порошок не стер!
Фейгель чуть не задохнулся. Перепуганный, размахивая руками, он кинулся назад к ратуше.
Пауль и Отто невозмутимо уложили свои велосипеды на тележку и помогли Гедвиге дотащить ее до «Гетштедтского двора». Альма Вендт шла сзади, причитая:
— Я во всем виновата, и тебя еще впутала…
— Ты тут ни при чем, — покровительственно утешал ее Пауль, а у самого на сердце было неспокойно. Он знал, что неприятности для него на этом не кончатся. — Ты же видела, что ваши кухонные дела вообще не интересуют «Дубинку». Это он к нам прицепился. — Пауль назвал Меллендорфа кличкой, под которой тот был известен в городе.
Перед столовой бастующих стояла коровья упряжка. На прибитой к фуре табличке было написано: «Эльвад Гертиг из Шохвица». Похожий на цыгана владелец повозки поил тощих коров и рассказывал, как господин фон Альвенслебен передал ему через деревенского старосту, что «собственноручно пересчитает ему ребра каждой брюквой, если он, Гертиг, поедет в Гетштедт».
Но безземельные и мелкие крестьяне не испугались и собрали возок продуктов. Пять часов он тащился сюда со своими коровами. Банда хулиганов, гостившая в поместье нацистского вожака, уже несколько дней где-то пропадает; они хвастались, что разнесут Гетштедт в щепки.
Женщины выгружали картофель и брюкву. Потащила свои мешки на кухню и Гедвига. Отто разговорился с крестьянином, который оказался добряком. Тот вытащил из-под соломы пол-окорока и с торжествующим видом поднял его.
— Ну как?..
— Здорово! — Отто погладил шкурку окорока. Сало было толщиною в ладонь. — Суп получится что надо! А ваши драчуны были в Гетштедте, точно. Сегодня там им дали жару.
Женщины приуныли, выслушав рассказ о сегодняшнем событии. Из кухни вышла Минна и взяла окорок.
— Спасибо, — сказала она улыбавшемуся крестьянину. — Передай всем спасибо, от души.
Крестьянин смущенно отвернулся.
— Где отец? — спросила она сына.
— Скоро придет. — Избегая дальнейших расспросов, Отто позвал крестьянина выпить пива.
— Поешьте сначала, — крикнула ему вслед мать.
Пауль сразу же побежал в столовую. Он никого не слушал и ничего не замечал. Эльфрида с детьми давно ушла. Голодный, он набросился на суп, быстро проглотил его и помчался на велосипеде к спортплощадке. Он нуждался сейчас в утешении, а Эльфрида умела находить нежные слова. На окраине города он повстречал гербштедтскую сотню пролетарской самообороны. Они пели. Юле Гаммер, шагавший в первом ряду, помахал Паулю рукой.
Да, Дубинке невероятно повезло, что они не пришли часом раньше. Пауль, улыбнувшись, махнул Юле в ответ. Он торопился.
Столовая вскоре заполнилась людьми. Женщины кормили вновь прибывших. Гедвига сидела против Юле за шатким садовым столиком во дворе. Подперев щеки ладонями, она смотрела, как он ест, дуя на горячий суп. У нее аппетит пропал.
— Жаль, что мало влепила ей, — досадовала Гедвига, рассказывая мужу о стычке перед ратушей. — Надо было отделать ее как следует. С Меллендорфом не хотелось связываться, только руки марать. Ну ничего, он свое получил. Скоро у него вся рожа облезет.
Юле внимательно слушал.
— Нам деликатничать нельзя. Они-то с нами не церемонятся. Сегодня нам очень туго пришлось.
К ним ненадолго подсела Минна Брозовская.
— Где же Отто? Все вернулись.
— Ему нужно еще побывать в одном месте, — осторожно сказал Юле. Он только слышал о том, что случилось с Брозовским, но сам не видел его. Дело нешуточное, и лучше не волновать Минну раньше времени.
Наевшись, он откинулся на спинку стула и заговорил с женой о кухне бастующих.
За воротами кто-то громко позвал Гаммера. Юле, вскочив с места, ответил своим львиным рыком.
Перед домом стоял грузовик. На радиаторе развевался красный вымпел. Из кабины, кряхтя, вылез не без помощи шофера огромный мужчина. Юле удивился: приехавший из Галле товарищ был, пожалуй, покрупнее его. Из-под брезента вынырнул Рюдигер. Брозовский помог слезть Боде, рука у того была на перевязи, куртка накинута на плечи.
Весть о прибытии машины молниеносно облетела город, и площадь вскоре заполнилась народом.
Молодежь пела песню о кузнецах счастливого будущего. Радостный гул огромной толпы почти заглушал ее. Минна Брозовская стояла рядом с мужем и тихо плакала. А он то и дело прикладывал ладонь к горлу, чтобы прогнать застрявший там комок.
Их кухня. Как трудно было начинать. А теперь у них много помощников, женщины работают поочередно, а сколько еще людей помогают. Взять хотя бы этого беднягу Гертига. Что с ним будет, когда он один, беззащитный, вернется к себе в деревню? Крестьянин гордился тем, что помогает горнякам. Он понимал, что речь идет о более важном, чем привезенная им картошка.
Минна подошла к ящикам, которые выгрузили из кузова. Глаза ее затуманились. Она пыталась разобрать иностранные слова, написанные славянскими буквами. Прочитать их она не могла, но все понимала. Руки ее гладили мешки из плотного крепкого джута, пломбированные замки на бидонах. Это все из России, мука с полей Украины, подсолнечное масло из южных степей, сало, консервы… Привет от криворожских друзей. Они поддержали не только словами. Они помогли делом — прислали хлеб. И хотя они далеко отсюда, сейчас они здесь, их обнимают сотни рук, они слышат тысячи приветствий и бесчисленные слова благодарности.
Пролетарский интернационализм… Международная солидарность рабочих… Минна не знала, что означают эти слова, звучавшие сейчас со всех сторон. Но сердце ее говорило на том же языке, на котором говорят в далекой Украине. То был язык горняков, добывавших руду в шахте, и этот язык Минна понимала. Ведь она хранила их знамя.
Матери высоко поднимали детей, чтобы они могли видеть человека, который привез привет из Кривого Рога.
«Мансфельдские горняки не одиноки. Рабочие всего мира смотрят на вас, следят за вашей борьбой. В Руре за вами идут сто тысяч металлистов, в Берлине рабочие бастуют против грабительского диктата монополий. Наши братья из Страны Советов шлют вам привет и помощь. Наш союз объединяет пролетариев всего мира!..»
Фридрих Рюдигер молча стоял возле машины и слушал. К груди он прижимал письмо. Рыжебородый из Кривого Рога от имени своей ячейки писал: «Боритесь, товарищи, и побеждайте! Пожалуйста, примите нашу помощь…»
Вот так они действуют, думал Рюдигер. Без лишних слов, их слова — дела. Да, в союзе с такими, как они, можно построить новый мир.
* * *
К вечеру в город прибыли полицейские отряды. Первым, кого задержал патруль, возглавляемый Меллендорфом, был Пауль Дитрих. Пауль проклинал себя. Он пошел провожать Эльфриду домой. Она предостерегала его и уговаривала остаться. Но, услышав вой полицейских сирен, он тотчас помчался в город. Эта неосторожность стоила ему переднего зуба.
Меллендорф поставил его возле машины и велел скрестить руки на затылке. Лицо полицейского было заклеено полосками пластыря, нос и лоб покрыты густым слоем белой мази от ожогов. Он был похож на циркового клоуна, загримированного перед выходом. Молодой курсант берлинского полицейского училища заставил Пауля делать приседания, не сгибая туловища, пока тот не упал в изнеможении. Следующей жертвой был Вольфрум. Он потом рассказывал, что полицейские ворвались в «Гетштедтский двор» точно так же, как банда нацистских громил тогда, ночью. Забастовочный комитет был арестован. Третьим оказался Генрих Вендт. Четверо его детишек стояли неподалеку и плакали навзрыд. Какой-то полицейский отогнал их, словно стайку гусят.
На кухню полицейским проникнуть не удалось. Чистившие картошку женщины встали у входа тесной толпой и преградили им путь. Долговязый вахмистр, командовавший налетом, испуганно отпрянул перед женой Вендта, замахнувшейся ножом.
Цонкель и Лаубе попытались успокоить женщин, но это вызвало еще большее возмущение. На Лаубе выплеснули ведро с помоями. Минна Брозовская выступила вперед и широко распростерла руки, как бы защищая товарок. Она не отступила ни на шаг и не произнесла ни единого слова. Полицейский, не выдержав ее взгляда, опустил глаза.
Всем мужчинам, находившимся в зале, приказали поднять руки и выйти. Во дворе их построили в шеренгу. Какой-то полицейский опрокинул стоявшие тут бидоны с украинским маслом. Минна молча поставила их на место и вытерла фартуком.
Хозяину столовой тоже велели присоединиться к арестованным. Его избили за то, что он плюнул Цонкелю в лицо.
Гедвига Гаммер успела предупредить мужа, дремавшего в шезлонге. Мгновенно проснувшись, он вскочил, схватил Гедвигу за руку и потащил за собой во двор. Полицейские уже барабанили в дверь с улицы. Юле помог жене перелезть через забор на соседний огород, оттуда они побежали в поле и спрятались в пшенице. Они слышали, как соседи ругались с полицейскими.
Боде защелкнули на здоровой руке браслет наручников и повели по шоссе. Накинутая на плечи куртка свалилась, и он отшвырнул ее ногой. Он дрожал от гнева, стыда и ненависти. На груди Боде, словно флажок, белела косынка, поддерживавшая раненую руку. Старик Келльнер поднял куртку. Когда он увидел, как полицейские вытащили на улицу старшего сына Брозовского и подцепили к Боде вторым браслетом наручников, он от волнения не смог выговорить ни слова. С его губ срывались лишь нечленораздельные звуки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Господа из полиции ошибались гораздо больше, чем господа директора; их уверенность в победе пошатнулась. Спешные указания, переданные через полицейские радиостанции из Берлина, Магдебурга и Мерзебурга, не смогли что-либо изменить. Бросать на заводы поредевшие кучки нанятых штрейкбрехеров было невыгодно. Даже банда Буби Альвенслебена отказалась от новой попытки проникнуть через заводские ворота. Все проныры и ловкачи потихоньку разъехались по домам. Ни аресты, произведенные во время большой облавы в Гетштедте, Гербштедте и других местах охваченного забастовкой района, ни новая атака полиции на рабочих плавильного завода Круга под Эйслебеном, во время которой арестовали более восьмидесяти человек, не сломили волю двенадцати тысяч бастующих. На плавильном заводе Круга дирекция попыталась использовать для погрузки шлака несколько десятков служащих, техников и подкупленных субъектов из Галле, но ничего не вышло — поданные на погрузку вагоны ушли порожняком.
Брозовский избежал ареста лишь потому, что вместе с Рюдигером уехал в Хельбру на ранее намеченное совещание центрального забастовочного комитета. Помещение комитета было захвачено полицией, и связной отвел их на явочную квартиру, где и состоялось совещание. Комитет решил принять предложение МОПРа и отправить детей бастующих в приюты, организованные рабочими по всей Германии. Было также намечено провести на другой день демонстрацию в Эйслебене. Ночью шахтерские курьеры пошли по селам. Двенадцать тысяч бастующих приготовились оказать сопротивление полицейскому террору, все население сочувствовало им. Забастовочные комитеты перевели в другие места, состав их пополнился.
Лишь под утро Брозовскому удалось окольным путем добраться домой. Полицейские патрулировали ночью на проселочных дорогах и хватали каждого встречного. Первой мыслью Брозовского было: где знамя? На обычном месте, в нише, его не оказалось. Брозовский разбудил жену. Намаявшись за день, она даже не слышала, как вошел муж, и, проснувшись, лукаво улыбнулась, когда он спросил о знамени.
— Там. — Она показала на кровать Вальтера.
Сын спал, открыв рот. Брозовский откинул одеяло: нет. Вальтер зябко поджал колени и попытался натянуть на себя теплое одеяло. Отец пошарил под простыней, затем сунул руку в соломенный матрас и, нащупав клеенчатый чехол знамени, облегченно вздохнул.
— Мальчик спрятал его до того, как они пришли за Отто, — прошептала жена. — Он не пролил ни слезинки, когда забирали старшего.
Вальтер спал на знамени. Он и не подумал отдать его, когда миновала угроза и полицейские с арестованными покинули город. Отец заботливо укрыл сына. Сегодня они понесут знамя. Пусть только попробует его тронуть полиция. Брозовский быстро разделся, чтобы поспать хотя бы часок. День предстоял напряженный.
Рано утром все проснулись от шума и криков, доносившихся с улицы. Минна выглянула в окно. Перед домом Бинертов собралась толпа, человек сто, не меньше, почти все соседи. Возле двери к стене была приставлена стремянка. Старик Келльнер поддерживал ее узловатыми старческими руками. По его жидкой белой бородке стекала коричневая от жевательного табака слюна. Из беззубого рта вылетали крепкие словечки и проклятия. По лестнице взобрался какой-то молодой парень и дегтем стал малевать на стене огромные буквы.
— Штрейкбрехер! Штрейкбрехер! — кричали в толпе, заглушая вопли Ольги Бинерт.
Некоторое время она отупело смотрела в окно, придерживая на груди ночную сорочку с глубоким вырезом. Потом рука ее опустилась, и Ольга упала в обморок.
— Как барыня, в рубашечке спит, — послышался ехидный женский голос. — Откуда она их только берет.
Брозовский быстро оделся и вышел на улицу.
«Здесь живет штрейкбрехер Эдуард Бинерт!» — прочитал он надпись, сделанную на голубоватом фасаде дома большими черными буквами.
Штрейкбрехер!
На окнах задернули занавески. Стоявшие на улице видели, как Бинерт, в подштанниках, оттащил от окна свою супругу. Было слышно, как ревела их дочка.
В переулке Цольгассе развернулись бурные события. Бинертовского дружка Рихтера доставили домой на машине в сопровождении фарштейгера Бартеля. Рихтер еле держался на ногах. Соседские женщины шваброй выгнали Бартеля из дома.
— Штрейкбрехер!
Узкий переулок заполнился людьми. Владелец дома, шахтный электрик Ширмер, прибил в простенке между окнами Рихтера большой лист картона, на котором было написано:
«Здесь живет штрейкбрехер Рихард Рихтер. Ему предложено освободить квартиру первого числа. Таких людей мы не можем терпеть в нашем доме».
Возле ратуши собрались демонстранты. Меллендорф, как обычно, попытался задать тон и прогнать ребят, которые пришли первыми с транспарантами в руках.
«Долой полицейский террор!» Полотнища сияли яркими красками. Меллендорфа окружили, и ему пришлось спешно ретироваться. Отряды самообороны выступили сегодня усиленными втрое, мужчины явились все, как один. Среди собравшихся растерянно ходил бургомистр, предостерегая от необдуманных действий. Но его никто не слушал.
Цонкель заклинающе поднял руки:
— Опомнитесь! Вы сами себе ищете несчастья. Это безумие…
Его просто отодвинули в сторону.
Брозовский с женой шли во главе колонны. Юле Гаммер нес на плече пока еще зачехленное знамя, Гедвига шагала рядом.
Спустившись с холма, колонна пересекла железную дорогу и направилась через Гельмсдорф и Поллебен в Эйслебен. По дороге к демонстрантам присоединялись пришедшие из деревень рабочие с женами.
Они пели.
Песни их звучали решительно.
У Минны горели натертые ноги. Пересиливая боль, она продолжала шагать. Ветер играл ее седеющими волосами. Она тоже пела.
Эльфрида Винклер взяла Минну под руку и звонким голосом начала новую песню. Скоро она уедет с детьми в Росток, Гамбург или в Ганновер. На вокзалах их будут встречать женщины и мужчины с красными знаменами, они будут петь и махать им руками, им, мансфельдцам…
Глаза на ее бледном девичьем лице с ожиданием смотрели вдаль.
В Эйслебене не хватило полиции, чтобы сдержать нахлынувший поток людей и направить его в уготованное русло. Брошенные для подкрепления курсанты полицейской школы и сельские жандармы были сметены лавиной демонстрантов. У Фрейштрассенских ворот над колонной высоко взметнулось знамя криворожских горняков, знамя мансфельдских шахтеров. В тесных улицах и переулках мощно зазвучал «Интернационал». Воедино слились колонны из Гетштедта, Эйслебена, Клостермансфельда, Леймбаха и Хельбры. К ним примкнули рабочие из окрестных поселков. Площадь перед ратушей не вмещала всех. Поток людей запрудил соседние улицы.
Это была настоящая армия: горняки и металлурги, крестьяне и горожане, безработные и служащие, женщины и множество детей, которых матери вели за руки, везли в колясках и несли на плечах отцы.
Со ступенек памятника Лютеру произнес речь Рюдигер. Потом говорил секретарь районного комитета Коммунистической партии Германии, взял слово седой сортировщик…
— Освободите наших товарищей!
— Требуем повышения зарплаты!
— Прекратите грабеж трудящихся!
Минна охрипла. Но молодой голос Эльфриды звучал по-прежнему звонко.
— Освободите наших мужей! — хором скандировали женщины.
Тысячи женщин толпились перед зданием Горного управления. Холодные стены фасада оставались глухими к их требованиям. Двери и окна были плотно закрыты. Краль распорядился не впускать забастовщиков. Но женщины ворвались в здание, и вслед за ними вошла делегация. Огрубелая шахтерская рука положила Кралю на стол петицию с требованиями бастующих. Генеральный директор покинул управление через черный ход и скрылся в городе.
Балкон ратуши был забит полицейскими. Молодой лейтенант из Берлина со шрамом на щеке и в несколько просторном мундире, явно с чужого плеча, появлялся то на балконе, то у подъезда и, судя по всему, не питал желания повторять свои одиночные прогулки, столь неудачно закончившиеся для него у ворот латунного завода.
Начальник районной жандармерии, человек бывалый, предостерегал его:
— Тише едешь, дальше будешь, мой юный коллега.
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что у нас здесь нет твердой почвы под ногами.
Горняки не замедлили подтвердить эти слова. Тысячеголосый хор раскатами грома обрушился на перепуганных жандармов:
— Долой полицейский террор!
Двенадцать тысяч сжатых кулаков метнулись в сторону полицейских. Тысячи горняков двинулись к тюрьме и забарабанили в ворота. Арестованные, цепляясь за прутья решеток, разбивали окна и радостно приветствовали своих товарищей.
Песни, крики, снова песни. Полиция была бессильна. К вечеру большинство арестованных выпустили. Оставшихся перевезли в Галле, чтобы избежать дальнейших демонстраций перед тюрьмой.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Телеграмма главы концерна ошеломила генерального директора Краля. Этот толстосум обращался с ним, как с паршивой собакой. Краль кипел от негодования. В припадке бешенства он вдребезги разбил тяжелый хрустальный подсвечник. Надо отдохнуть, решил он, прочь отсюда, в лес, на природу.
«Не хватает только, чтобы мне сейчас попался кто-нибудь из бездельников, которые окружили меня со всех сторон», — подумал он.
Первому не повезло секретарю. Он вошел в кабинет по какому-то пустячному делу. И вот оказалось, что он даже не знает номера телефона шофера, который вдруг понадобился Кралю. Секретарь, пятясь, вышел в коридор и прислонился к стене. Ему чуть не стало дурно. Таким он еще ни разу не видел своего шефа.
Вторым под горячую руку попался шофер. Он слишком долго выводил машину из гаража. Привратник, который, покуривая трубку, как всегда неторопливо открыл ворота, еще три дня спустя вспоминал крепкие словечки, обрушившиеся на его голову, и даже бросил курить.
«Лодыри! Один хлеще другого, выгнать весь этот сброд!» — думал генеральный директор.
Поездка в Випру, где дирекция имела собственную дачу и обширные лесные угодья, показалась Кралю слишком долгой. Он просто задыхался в машине и орал на шофера так, что бедняга, растерявшись, едва избежал катастрофы.
Старого лесничего, который у въезда на территорию дачи поднял шлагбаум, пропуская машину, Краль не удостоил взгляда. Он даже не ответил, когда тот поздоровался. Старик, обидевшись, проворчал что-то себе поднос.
Краль, не оглядываясь, вбежал в дом, переоделся, сорвал со стены трехстволку и умчался в лес.
Лесничий обиженно качал головой, спрашивая себя, что бы могло случиться с шефом. Ведь сейчас, в начале июля, стрелять нечего. На коз уже запрет, на оленей еще нельзя. А потом, среди бела дня? Лесничий стал допытываться у шофера, но тот ничем не мог ему помочь. Он лишь вытер пот со лба и сказал, что еще одна такая поездка — и он объявит забастовку. Лучшего выхода он не видит.
Это уже ересь, подумал лесничий. Такого он и слушать не желает, тем более здесь, на директорской даче! Сама мысль об этом преступна. Лесничий прищурил глаз, словно прицеливаясь. Да, видимо, случилось что-то совершенно из ряда вон выходящее.
Краль блуждал по лесу. Написать ему, генеральному директору Герберту Гельмуту Кралю, перед которым дрожали десятки директоров, такое письмо… Написать, что его политика привела Мансфельдское акционерное общество к краю пропасти, к почти неизбежному банкротству?! Он ускорил шаг. А кто наметил «главную линию»? Он, что ли? Это сделал сам автор письма! Тот, который теперь обвиняет его. Разве он, Краль, хотел быть форейтором всей немецкой промышленности? Никогда! Он зашагал еще быстрее, словно преследовал дичь, торопливо продирался сквозь густой кустарник и сосновый молодняк, оставляя на сучьях клочки грубошерстного плаща. Ничего подобного с ним еще не случалось. Дать такое указание ему, словно какому-то ефрейтору! Обыкновенный приказ, отсутствие элементарной вежливости, принятой в их кругу, среди равных; его окликнули, будто кучера: эй, болван, куда прешь, сворачивай, оглох, что ли?
С каких, собственно, пор тот человек стал распоряжаться в концерне, каким образом он заполучил контрольный пакет акций, обеспечивший ему фактическое господство? Это покрыто мраком. Но почему он, Краль, вдруг разволновался? Разве он сам не подчинился сразу же этому ледяному голосу, как только впервые услышал его? Покорился даже с легкостью и быстротой, потому что с тех пор акционерное общество ожило. Разве он не думал, как и все другие компаньоны, считавшие себя дальновидными, что им нужна была твердая рука? Это была новая линия, главная линия, большой бизнес. В этой лодке они плыли все вместе. Так кто же фактически определил ее, эту линию, которая оказалась сейчас якобы в корне ошибочной потому, что бастующая сволочь, несмотря на все усилия полиции, не желала смиряться?
Да, он, Краль, вносил предложения, получал директивы, с него и требовали. Все намеченные им меры, о которых он докладывал, были одобрены. Одно время он даже вообразил, что все нити сходятся в его руках, что он тасует карты по собственному усмотрению. Но сейчас, трезво взвесив факты и не кривя душой, он понял, что все было подсказано ему сверху. Взять хотя бы краткие письменные советы. Разве он не следовал им, как школьник? Он был всего лишь шестеренкой в огромной машине и немногим отличался от советника юстиции Пфютценрейтера, выполнявшего роль винтика где-то в недрах того же механизма. А может быть, господа директора, не зная истинного положения вещей, ошиблись в оценке ситуации и неверно информировали его, Краля? Может быть, они и виноваты в том, что все застопорилось? Негодяи!..
Взвинченный этой догадкой, он с силой вдавливал каблуки в мягкую пушистую землю; вот так бы и растоптать их всех…
У громадного дуба Краль остановился. Да, в лапах этого хвастуна он был беззащитен. Жалкий прокурист с ограниченными полномочиями — вот что представлял он собою, хуже того, курьер для разноски писем господам министрам. Генеральный директор — смешно! Бухгалтер и то больше значит. Тот, по
крайней мере, хозяин своего гроссбуха.
Примириться с этим? Краль до крови прикусил губу и, сорвав с плеча ружье, зарядил его.
Да, а собственно, в скольких наблюдательных советах председательствовал господин председатель? Засел, как паук, и, раскинув сеть, почти ни разу не выступал публично, ставил то на красное, то на белое, делал ставки, не делал их, отправлял телеграммы, писал письма, давал инструкции, повышал и понижал курсы акций, коллекционировал посты в наблюдательных советах, как обыкновенные почтовые марки, и швырял пакеты акций, словно кегельные шары; генеральному директору Кралю он тоже бросил мимоходом две подачки — в Зальцдетфуртской сделке и в Пфеннергалле. Проклятый трутень!
И он — самый могущественный, невидимый властелин! Краль стал по пальцам считать наблюдательные советы, в которых этот господин имел решающий голос.
Он пересчитал трижды, но пальцев на двух руках все равно не хватило. Немецкий банк, Дрезденский банк, Учетный банк, Коммерческий банк, Дармштадтский и Национальный банки — с Гольдшмидтом из этого банка он был, по-видимому, особенно хорошо знаком, ибо не зря занимал пост в концерне «Нордволле», — он был закадычным приятелем братьев Лахузен, дружил с Фликом, Тиссеном и Пёнсгеном, принимал участие в делах концерна «Феникс», объединенных сталеплавильных заводов, предприятий, изготовляющих черную, белую и цинковую жесть, химических, угольных и машиностроительных концернов, судоходных компаний, доменного завода Тале; Мансфельдское акционерное общество с его рудниками и медеплавильными заводами, прокатными цехами и заводами шамотного кирпича, с электроцентралями, фабриками серебряных изделий, поместьями и дочерними компаниями было для него лишь каплей в море. Да, недаром его фамилия соответствует названию серого прожорливого хищника. С волчьей жадностью он заглатывает все, что хватают его клыки.
У Краля подкосились ноги, он осознал свое бессилие. Шатаясь, он вышел на прогалину и в сумеречном свете заметил группу оленей. Не целясь, выстрелил из всех стволов подряд, ему хотелось увидеть кровь. Захрипела убитая матка. Теленок, волоча перебитую заднюю ногу, приблизился к лежащей матери и стал обнюхивать кровь, бившую толчками из огромной раны. В припадке слепой ярости Краль разбил ружье о ствол бука и, раздосадованный, поспешил обратно.
Лесничий видел, как он брел по двору: взлохмаченные волосы, полуоторванная пола плаща, без шляпы и ружья. Краль в темноте пробрался наверх к себе в комнату и бросился на походную кровать. Старый лесничий свистнул собак, он слышал выстрелы и догадался, что случилось. Придя на прогалину и увидев раненого пятинедельного теленка, который, испугавшись человека и собак, тщетно пытался встать на ноги, старик в отчаянии воздел руки, возмущенный свершившимся злодеянием.
Около десяти часов вечера жена лесничего решилась зажечь свет на втором этаже.
— Ступай отнеси ему ужин, — зло проворчал лесничий, вернувшийся тем временем с подстреленным олененком. — За такое дело даже сам господин генеральный директор не оправдается перед богом.
Тарелки задребезжали на подносе в руках женщины, когда она увидела опустошенное лицо и два горящих, враждебно уставившихся на нее глаза. В испуге она бросилась вниз по лестнице. Кувшин с молоком, которое гость любил пить, живя на даче, упал и разбился.
Краль, так и не раздевшись, лежал на кровати. Разбитый кувшин, молоко на ковре, панический страх убежавшей женщины — все это заставило его прийти в себя. На кого он похож? Краль вскочил с кровати, сорвал с себя одежду и швырнул ее в угол. Он почувствовал отвращение к самому себе. Нагнувшись над тазом, Краль вылил на себя кувшин воды и докрасна растерся.
Он еще им покажет, на что способен! Придется, конечно, поклониться, иного выхода нет. Но тем, кто должен кланяться ему, Кралю… Он сжал кулаки и скрипнул зубами. Потом заставил себя успокоиться, быстро оделся и позвал шофера. Отказавшись от ужина, он тут же уехал.
Убирая комнату, жена лесничего нашла на ночной тумбочке четыре пятимарковых монеты, сложенные стопкой. Ее муж швырнул их через окно в яму с останками убитого оленя и вымыл руки.
Вчерашние события нисколько не отразились на облике генерального директора. Тщательно выбритый, в светло-сером костюме, Краль открыл совещание со свойственной ему предупредительностью. Время от времени у него подергивались веки, но этого никто не заметил. Господа директора ожидали, что будет обыкновенное, очередное совещание; некоторые, правда, были удивлены, что их созвали так спешно. Однако явное обострение положения, вызванное забастовкой, демонстрацией и отступлением полиции, оправдывало эту срочность.
Краль, попросив отчеты предприятий, начал их просматривать. Директор Нидермейер первым заметил приближение грозы. Его охватило неприятное чувство, когда он увидел, как красный карандаш председательствующего метался среди колонок цифр его отчета. Нидермейер в качестве технического директора отвечал за водоотливное хозяйство и другие аварийные работы.
— Ваши цифры, господин коллега, не сходятся! — Краль вернул ему отчет. — Вы не сумели привлечь к производству ни одного человека, чтобы хоть на шаг продвинуться вперед. Где ваши резервы? Кто вам подготовил эти цифры? Здесь же все причесано, как в налоговой декларации банкрота!
Нидермейер покраснел, словно школьник. Он пробормотал что-то о непредвиденных обстоятельствах, но его оправдания не возымели никакого действия на Краля.
— Вам следовало бы рассказать не о трудностях, а о ваших успехах, коллега Нидермейер. В отчете же приводятся обоснования только тому, что ничего не делается. Долго ли еще мы можем нести непроизводительные расходы? Чем занимаются ваши люди? Спят?
— Я делаю все, что в моих силах…
— Мое мнение об этом вы услышите в конце совещания.
Это было нечто новое. Переглянувшись, господа директора застыли с каменными лицами. Нидермейер попытался возразить, но Краль бросил на него столь красноречивый взгляд, что тот стушевался.
Коммерческий директор сообщил о случае с неотправленным заказом. Он чувствовал себя уверенно. Ведь всем было известно, что забастовщики не давали вывозить готовую продукцию. Вопрос о невыполнении акционерным обществом поставок не стоял на повестке сегодняшнего совещания.
— Я не вижу данных по платежному балансу. — Краль впился глазами в ожиревшее лицо коммерческого директора.
— Я был уверен…
— Я больше ни в чем не уверен. На прошлой неделе вы утверждали, что в любом случае отправите десять вагонов шлака в Голландию. Не так ли?
Толстяк собрался с силами.
— Вам известны события, происшедшие на металлургическом заводе, господин генеральный директор.
— Да. Но мне известны и ваши заверения. Голландский заказчик их тоже получил.
— Это было невозможно, ведь все знают, что…
— Вы лично были на металлургическом заводе?
Толстяк промолчал.
— А вообще кто-нибудь из присутствующих бывал в последние дни на предприятиях?
Это напоминало допрос. Краль повысил голос:
— Нет?.. Я так и ожидал. Сидя в кабинете, вы, кроме телефона, ничего не увидите. Вы полагаетесь на то, что вам докладывают. Так, к сожалению, правды не узнаешь. Дела обстоят хуже, чем вы думаете. Даже служащего персонала коснулась эта зараза. Мы вынуждены расходовать основной капитал, господа! — закончил Краль громовым тоном и сразу вдруг замкнулся.
Раздался телефонный звонок. Стоявший за спиной генерального директора секретарь впопыхах дважды хватал трубки не с тех аппаратов, пока не взял нужную. Краль смерил его уничтожающим взглядом.
— Надеюсь, разговаривать по телефону вы, по крайней мере, умеете?
— Так точно, господин генеральный директор… — Дрожащий от страха секретарь поклонился.
— Ну что там еще?
— Господа собрались, — едва осмелился произнести секретарь.
Краль смотрел поверх голов сидящих. Все они, как один, дали осечку. Он это предвидел. И с этими людьми он собирался делать большие дела! Беспомощная публика… Они могли справляться со своими задачами лишь до тех пор, пока в механизм не попадала какая-нибудь песчинка. Но для таких задач существуют конторщики, а не директора.
В наиболее затруднительном положении оказался начальник отдела найма директор Лингентор. Его сразу прервали, не дав произнести и нескольких слов. Объемистый отчет, который Лингентор протянул было начальству, Краль даже не соизволил взять.
— Ваша работа, коллега, совершенно неудовлетворительна. И гладко написанные отчеты тут не помогут. — Краль уже не сдерживал себя. — Субсидии, которые вы срочно потребовали для этого господина фон Альвенслебена, выброшены на ветер. Лодыри, которых он навербовал по всей стране, растеклись, как масло на солнце, и с радостью пропивают полученный задаток. А могучий «Стальной шлем» и обещанная им помощь? Где члены этой организации, которых якобы так много среди рабочего персонала и которые желают трудиться?.. По каким каналам течет финансовая поддержка, где ее эффективные результаты? Я счел необходимым установить контроль над вашими расходами. Этот фарштейгер из Гербштедта, «стальношлемовец»…
— Бартель, — шепотом подсказал ему секретарь.
— …Этот фарштейгер Бартель — болван. И вы еще предлагаете повысить его в должности. На наши деньги он покупает своей милочке шелковое белье и вдобавок теряет квитанцию на денежный перевод. — Краль нахмурился. — С указанным адресом и номером дома, разумеется.
Краль умолк, задумавшись.
— Вся наша тактика неверна, господа, — сказал он после долгой паузы. — Надо немедленно, сейчас же, добиться решительного перелома. В течение целого месяца вы пытаетесь меня убедить в том, что мы должны опереться на так называемые «национальные круги». Результаты налицо. В жизни ничего подобного нет, это существует только в ваших предположениях и в фантазии таких людей, как Альвенслебен и Бартель. Верно ли, что эти молодчики, которых вам навязал господин фон Альвенслебен, разграбили склад нашей пекарни на Эрнстовской шахте?
Директора хранили молчание. Не хватало еще, чтобы они отвечали за чьи-то политические промахи. Кто вел переговоры с помещиком из Шохвица? Кто еще до начала забастовки провозгласил политику твердой руки?
Резкий властный голос Краля прервал мысленные возражения директоров:
— Каково положение на латунном заводе? Это особенно важно.
До сих пор директора отвечали сидя. Директор латунного завода инженер д-р Бретшнейдер встал. Среди окружающих он выделялся твердым, резко очерченным профилем лица. Доклад его был также отклонен, как абсолютно необоснованный.
Д-р Бретшнейдер даже не сумел заставить две сотни бездельничающих в конторах чиновников отправить с завода несколько вагонов с жестью. Бесцветная личность. Вот этот парень с Вицтумской шахты — другое дело… как же его фамилия?.. Ну тот, которого выгнали еще до забастовки, во время выборов производственных советов, тот, что хранил у себя дома русское знамя, которым они только что размахивали у нас под окнами… ну как его?.. Брозовский, правильно… Вот этот человек совсем другого склада. Он, Краль, велел послать ему письмо с компромиссным предложением, чтобы тот отказался от своего требования восстановить его на прежнем месте работы. Так этот негодяй вернул письмо разорванным, а теперь еще взбунтовал рабочих на нескольких предприятиях. Да, с такими людьми можно было бы делать дела… Если бы такие люди у него были. Как назло, чинуши из суда по трудовым конфликтам назначили разбор этой жалобы на сегодня. Болваны. Он потребовал перенести срок. Что за приговор они там еще замышляют? Хотят подлить масла в огонь или принудить Мансфельдское общество восстановить уволенного?
Пока эти мысли проносились у Краля в голове, Бретшнейдер стоял в раздумье. Затем, подчеркивая каждое слово, он сказал:
— При таких условиях я не намерен долее участвовать в совещании, — и, сдержанно поклонившись, вышел.
Краль позеленел от злости. Впервые его покинуло чувство превосходства, которое он выставлял напоказ. Он весь затрясся. Секретарь протянул было руку к графину с водой, но тут же опустил ее, словно пригвожденный взглядом Краля. За Бретшнейдером захлопнулась дверь.
От этого звука Краль очнулся. Он провел ладонью по глазам, будто стирая из памяти только что происшедшую сцену. И тут же превратился в прежнего Краля, надменного, самоуверенного, важного. Какой-то инженеришка посмел его унизить, здесь, перед этими ничтожествами.
— Передайте доктору Бретшнейдеру, пусть он сделает выводы из своего поведения. — Мозг Краля работал с точностью счетной машины.
Секретарь наклоном корпуса изобразил «слушаюсь».
— И еще одно, господа: всему служебному персоналу придется снизить ставки в рамках предусмотренного сокращения заработной платы. Всех сотрудников, не занимающих должностных мест, уволить. Что касается мастеров цехов латунного завода, — проверьте, какую позицию они занимают во время забастовки. Этих трех уволить немедленно… — Краль протянул начальнику отдела найма список. — Решение относительно служащих главных управлений и других «непроизводительных сил» я оставляю за собой. Распорядитесь, пожалуйста, о том, чтобы все было исполнено.
Распоряжения следовали одно за другим. Секретарь подавал Кралю все новые и новые папки с материалами.
— Все это приведет к еще большему обострению положения, — сухо проговорил начальник отдела найма и тут же сам испугался собственной смелости.
Краль внимательно посмотрел на него и очень сдержанно ответил:
— Вы ошибаетесь. Обострять больше уж нечего. Забастовщики добились даже того, что аварийные работы сокращены до минимума. Я пригласил несколько человек из полиции и из «Отечественных союзов». Я вынужден прибегнуть к подобному источнику информации, поскольку представленные мне материалы не дают ясной картины. Ставлю вас также в известность, что я вызвал для беседы и нескольких профсоюзных деятелей. Только с их помощью, как я полагаю, можно достичь приемлемого компромисса.
Он закрыл совещание. Директора расходились, оскорбленные его пренебрежительным тоном и манерами. В двух последних фразах он выразил идею, которая якобы осенила его ночью, но в действительности была подсказана в телеграмме, полученной им от председателя наблюдательного совета.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Господин фон Альвенслебен, еще одеваясь, решил, что в своем выступлении он с самого начала подчеркнет главенствующую роль НСДАП. По этому поводу не должно возникнуть ни малейших сомнений. Пугливые толстяки, с которыми ему сегодня придется сидеть за круглым столом в Доме горнопромышленников, должны наконец узнать, с кем имеют дело. Спесивые индюки. Достаточно взглянуть на этого толстобрюхого кривляку из «Стального шлема»… Да и генеральный директор тоже хорош.
Альвенслебен свистнул.
— Куш! На место! — скомандовал он затем вполголоса и указал пальцем в угол, словно своим собакам.
Он удовлетворенно оглядел себя. Коричневая форма из замши шла ему, он это знал. Поскрипывание портупеи приятно ласкало его слух. Пусть-ка потаращит глаза это сборище ничтожеств. Он одернул сзади мундир и надел фуражку чуть-чуть набок, вот так оно будет лучше.
Пение, доносившееся из барака, мешало ему. Чертовы бандиты, опять напились, валяются на нарах и бездельничают. Свиньи! Он им вправит мозги. Дай только срок, они еще разинут рты. Пусть не сомневаются. Это говорит он, Альвенслебен.
Он не ошибся: расквартированные в бараке для наемных рабочих штурмовики совсем распустились после своего бесславного возвращения из Гетштедта. Им хотелось действовать, «работать» дубинкой, трудиться — не их специальность. Втихомолку они ругали свое руководство. Они отнюдь не намерены мириться с неудачами вроде той, что произошла у латунного завода. Они привыкли к легким победам. Шарфюрер, сонный, лежал на матрасе. Дежурный «унтер-офицер» приказал двум молодчикам разучивать песню, а сам, развалившись на составленных вместе табуретках, стучал в такт каблуками по подоконнику.
Поместье Шохвиц не пользовалось славой образцового хозяйства. Ухабистый двор напоминал чулан, заваленный хламом. Длинный сарай с прогнувшимся навесом держался на подпорках. Во дворе по углам валялась всевозможная сельскохозяйственная утварь, негодные плуги и останки телег. Повсюду была разбросана солома, дверь в коровник перекосилась, у свинарника одна стена рухнула. Весь этот хлам буйно зарос сорняком. Одичавшие куры бродили по двору, роясь в навозе.
На фоне всеобщего запустения новенький «хорьх», стоявший перед господским домом, выглядел инородным телом.
Одетые во что попало «гвардейцы» из свиты помещика, большинство которых болталось во дворе, обступили автомобиль хозяина. Роскошная машина! Ничего не скажешь, в этих вещах шеф знает толк.
— Иметь такую машину!.. Значит, деньжата у него водятся, — сказал один из штурмовиков важно восседавшему шоферу.
— Самая пора выплачивать жалованье, — наивно вмешался в разговор другой штурмовик. — Мне сейчас полсотни марок не помешали бы.
— Заткнись! Ишь чего захотел — жалованья. Мало тебя поят и кормят и табаку дают? — Управляющий имением беззлобно пнул Наивного коленкой под зад. — Хочешь заработать — возьми вилы и убери навоз, лежебока!
Никто не принял всерьез эту шутливую перебранку. Наивный, цинично ухмыляясь, протянул управляющему обе руки — одну ладонью вниз, другую ладонью вверх, что означало: «Не могу. Видишь — у меня разные руки».
— Она еще не обкатана, — хвастался шофер. — Но вообще жмет сто двадцать запросто.
— А куда шеф собрался?
— Сегодня он разделается с плутократами, — ответил управляющий.
— Один, без нас? Мы разве не поедем? Вот где небось будет выпивка!
— Так это же только заседание, дурья башка, — пояснил Лёвентин. На щеке его по-прежнему белела полоска пластыря.
— Но все-таки…
— А тебе, видно, мало морду набили? — приставал Наивный к штурмовику, сидевшему рядом с шофером. — Может, снова поедете к латунному заводу?..
— Заткнись! — прошипел управляющий. — Он идет!
Все умолкли и вытянули руки по швам. Альвенслебен сошел с крыльца и сквозь почтительно расступавшуюся толпу направился к машине. Все с удивлением взирали на крейслейтера, облачившегося в полную парадную форму.
Он самодовольно усмехнулся. С «хорьхом» получилось неплохо. Чек, полученный от Горного управления, использован наилучшим образом — здесь Альвенслебен не чувствовал никаких угрызений совести. Нельзя же ему, черт возьми, быть без хорошего выезда. Благодетелей он еще потрясет, они явно скупятся. Денег не хватает. Общественность должна наконец увидеть, что национал-социалистское движение стоит большего. Иначе дальше первых шагов не двинешься. В этом смысле новая машина стоила по меньшей мере сотни намечавшихся собраний в прокуренных деревенских трактирах.
Он обвел взглядом двор. Отцовское наследство обветшало; сарай вот-вот завалится, не помогут и подпорки. Будь она проклята, эта вечная зависимость!.. Имение разорялось.
— Хайль Гитлер, крейслейтер!
Альвенслебен благосклонно ответил на приветствие своих молодчиков. «Свиньи», — подумал он при этом. С каким наслаждением он отхлестал бы их кнутом. А вообще он был доволен впечатлением, какое произвел на них. Последнее время он выезжал, благоразумно облачившись в неброскую гражданскую одежду. Из соображения безопасности он даже не надевал зеленую шляпу с кисточкой. Эта жалкая игра в прятки ему осточертела. По случаю сегодняшнего заседания он решил отменить всякую маскировку. Хватит торчать в запасе!
Управляющий Лёвентин — единственный, кого он брал сегодня с собой, — распахнул дверцу машины.
Дорогой Альвенслебен еще раз детально обдумал план сражения. Надо сразу прижать этих мокрых куриц. Атаковать и атаковать, не давая передышки.
Кто же там соберется? От «Стального шлема» будет, кроме Толстобрюхого, опять, наверное, этот одноногий учитель из Вормслебена, а от Немецкой национальной — непременно господин фон Зеебург. Из одной помойки. А с тем у него старые счеты. Это благодаря Зеебургу поместье Шохвиц обошли при распределении дотации по плану «Остхильфе»… Будет, конечно, и очкастый редактор из «Тагеблатта» — гнусная бумажная душонка, затем инженер из «Технической помощи», — этот еще куда ни шло, но бесхарактерный, — и, уж конечно, старый майор, воображавший, что является единственным представителем традиционных союзов, и всегда заслюнявленный. Совсем уже выжил из ума вместе со своим Союзом артиллеристов. Возможно, будет этот толстый фарштейгер из Гербштедта, кто-нибудь из отрядов «Стального шлема»… В общем, ни одного стоящего человека…
Миновав Юденхоф
[4], машина въехала во внутренний двор здания Горного управления.
«Юденхоф… это же скандал! Скоро и ему будет крышка». Альвенслебен пробарабанил пальцами по ветровому стеклу прусский сигнал атаки.
Швейцар проводил Альвенслебена в зал заседаний. Лёвентину пришлось остаться внизу — приглашен был только его хозяин. Не помогла и грубая брань, швейцар остался непоколебим и не впустил управляющего.
Когда Альвенслебен вошел, Краль для виду чуть приподнялся. Новый мундир крейслейтера не произвел на него ни малейшего впечатления. Осталось незамеченным и то, как четко, по-военному, поздоровался Альвенслебен. Движением головы Краль сделал знак своему секретарю, и тот, проводив крейслейтера в конец стола, усадил его меж двух не то кондитеров, не то мясников, представлявших какие-то воинские союзы. Альвенслебен почувствовал, что никому не было дела до его персоны. Сидевший рядом кондитер или мясник, заметив, что сегодня на столе отсутствуют ящички с сигарами, которыми обычно угощали приглашенных, обратил внимание крейслейтера на этот негостеприимный жест. И для чего вообще они собрались здесь?
Альвенслебен кипел. Этот зазнавшийся индустриальный барон там, впереди, восседал словно самодержец на троне, господа дворяне справа и слева от него беседовали с ним, будто с ровней. А гельмедорфский помещик, судя по его виду, еще глупее зеебургского. Расшаркивается без стыда и совести. Земельный союз — тоже нашлись герои…
Что делать? Уйти или устроить скандал? Он медлил, помня наказ гаулейтера: наладить тесную связь с руководящими деятелями промышленности, привлечь их на сторону фюрера, поддержать их правомочные требования и имеете с тем просить у них поддержки. Не требовать. Начальство отдало недвусмысленный приказ.
Он уставился на огромный, в позолоченной раме, портрет на задрапированной гобеленом стене. Один из предшественников Краля. Презренные торгаши! Но у них есть деньги. А без денег невозможно никакое движение. Где он возьмет их, чтобы заплатить банде гуляк, расквартированных в его поместье, если эти скупердяи не пожелают раскошелиться? Проклятая нация!
Он остался.
Генеральный директор обращал на него внимание не больше, чем на остальных присутствующих; холодно, по-деловому Краль заявил, что ввиду последних событий Мансфельдское акционерное общество вынуждено пересмотреть свои отношения со всеми общественными организациями района. Влияние коммунистов во время забастовки заметно повысилось. Прессе, несмотря на оказанную ей солидную финансовую поддержку, не удалось завоевать доверие у населения. Далее приходится констатировать, что Отечественные союзы и национальные партии — все без исключения — оказались не в силах добиться положительной перемены в поведении рабочих: влияние их равно нулю.
Высказанные Кралем «оценки» подействовали на собравшихся, как холодный душ. У Альвенслебена было желание подняться. Но его энергии хватило лишь на то, чтобы демонстративно вытянуть под столом длинные ноги. Майор, сидевший напротив и клевавший носом, испуганно вздрогнул, когда его толкнули ногой, и чопорно поклонился, извиняясь, словно был виноват.
— Поскольку вмешательство усиленных отрядов полиции только обострило положение, — продолжал генеральный директор, — мы вынуждены искать другие пути для прекращения забастовки. Мы намерены вступить в переговоры с руководством профсоюзов. При этом мы воспользуемся услугами высших административных инстанций, которые предложили нам свое посредничество, и, в крайнем случае, покончим с забастовкой через государственный третейский суд. — Краль жестом выразил сожаление. — Прошу высказать свои соображения.
Послышалось лишь невнятное бормотание и шепот. Единственным, кто выступил, был капитан районной жандармерии, случайно попавший на это заседание, ибо управлению полиции предложили прислать только одного представителя. Капитан высказал ряд общих соображений, касающихся порядка и безопасности. Он сообщил, что из округа направлены сюда еще сорок полицейских. Просьбы о дополнительных подкреплениях отклонены ввиду угрозы забастовки в районах Биттерфельда и Лейны.
Редактор «Тагеблатта» прошептал на ухо своему коллеге из «Цайтунг»:
— Сенсация! Они опять решили опереться на социал-демократов. В теперешней ситуации это же немыслимо!
— Лучше гибкий костыль, чем совсем никакой, — ответил тот и стал поспешно писать в блокноте.
Не успел еще Альвенслебен переварить услышанное, как Краль поднялся с места; пожелав всем дальнейшего плодотворного сотрудничества, он закрыл заседание и исчез за почти незаметной дверью в отделанной под дуб стене.
Вслед за ним тут же встал майор и, по-военному коротко кивнув во все стороны, ходульным шагом вышел из зала. Оставшиеся загалдели наперебой.
Альвенслебен потерял самообладание.
— Это свинство! — крикнул он и кинулся к двери, за которой исчез Краль, но секретарь задержал его.
— Сожалею, господин фон Альвенслебен. Господин генеральный директор проводит сейчас другое, еще более неотложное совещание.
— Да, сегодня время не терпит… — поддержал секретаря начальник отдела найма.
Кое-кто из господ рассмеялся. Долговязый Альвенслебен попытался отстранить секретаря. Тощий, как жердь, канцелярист стоял на ногах тверже, чем можно было предполагать.
— Потрудитесь, пожалуйста, пройти к кассе, — подчеркнуто нагло проговорил он. — Там вас ждет чек.
Внезапно стушевавшись, Альвенслебен отступил назад. Не услышал ли кто этих слов? Судя по ехидной усмешке Зеебурга и по тому, как он прикуривал сигарету, крейслейтер понял, что услышали. Проклятая банда! Альвенслебен щелкнул каблуками и покинул наполовину опустевшее помещение. На лестничной площадке с ним попытался заговорить Бартель, но Альвенслебен, не замечая его, сбежал по ступенькам, влез в машину и сам уселся за руль. Когда он включил сцепление, раздался такой треск, словно разлетелись вдребезги все шестеренки в коробке передач. Машина, как подхлестнутая лошадь, рванулась с места и, проскочив в открывшиеся ворота, с ревом умчалась.
Как раз в это время Краль преодолевал в себе остатки внутреннего сопротивления приказу, полученному свыше. Он понял наконец, что без помощи социал-демократов и профсоюзных руководителей не удастся вернуть рабочих на производство и прорвать единый фронт забастовщиков. И тем не менее все это казалось ему невыносимым анахронизмом. Краль полагал, что сможет сломить забастовку и без их содействия. Он любезно попросил шестерых представителей профсоюзов и объединенного производственного совета заводов Мансфельдского акционерного общества занять места. Ничего не поделаешь, так надо. Ему было известно, что члены делегации тоже делали большую ставку на эту встречу. По его просьбе они еще ночью созвали на совещание самых верных людей, в их готовности к переговорам сомнений не было. Секретарю профсоюза горняков генеральный директор даже руку пожал, как старому знакомому.
Правда, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить чувство брезгливости от прикосновения к потной ладони секретаря. Усевшись, Краль незаметно вытер руку о брюки.
Председатель производственного совета Риферт, дородный мужчина с наметившимся вторым подбородком, увидев, что Лаубе уныло стоит в сторонке, усадил его в конце стола. Риферт вел себя так, словно заседал здесь с шефом каждый день.
Очутившись напротив генерального директора, Лаубе еще больше растерялся. Казалось, будто Краль обращается только к нему. Потертый синий шевиотовый костюм Лаубе лоснился, а его физиономия своей аскетической желтизной так резко выделялась на фоне здоровых лиц присутствовавших, что это бросилось в глаза даже Кралю. Лаубе был здесь единственным, кто работал под землей. Риферт остановил свой выбор на нем, как на самом надежном из всех представителей производственных советов.
Несмотря на непринужденный тон Краля, всеобщая скованность стала ослабевать лишь после того, как он раскрыл свои карты. Только Риферт и секретарь профсоюза с самого начала вторили ему с той же непринужденностью, словно шла светская беседа, а не решающий разговор о прекращении почти двухмесячной ожесточенной борьбы.
Краль пустил в ход все свое испытанное в многочисленных переговорах дипломатическое искусство. Приведя массу статистических данных, он проанализировал финансовое положение производства, сослался на продолжающееся падение рыночных цен на медь, рассказал о договоренности с государственными инстанциями в Берлине насчет субвенций и попросил участников сегодняшнего совещания оказать ему содействие в восстановлении трудового мира на базе взаимных уступок.
— Надеюсь, что нашему сотрудничеству и взаимопониманию, имевшим до сих пор место, не будет нанесено непоправимого ущерба этой забастовкой, которой ни вы, ни мы не хотели. С нашей стороны есть твердое желание заключить соглашение с вами как с законными представителями рабочих наших предприятий. Мы готовы, при условии предоставления государственных дотаций, ограничиться снижением заработной платы на девять с половиной процентов, хотя тем самым наше акционерное общество выйдет за пределы стабильных финансовых возможностей.
Итак, главное было сказано. Краль откинулся на спинку кресла. У него был такой вид, словно он полностью убежден, что решение вопроса о забастовке — дело нескольких минут. То, что будет говориться теперь, уже знакомо ему по многочисленным собраниям. Как всегда, словопрение началось с категорического «никогда!». Оно было столь же твердо и внушительно, как и само непоколебимое руководство немецкого профсоюзного движения, которое не склонится ни перед каким финансовым диктатом. Так, по крайней мере, выразился председатель союза горняков. Все висело на волоске.
Через четверть часа Риферт заметил, что у него потухла сигара. Он поискал спички. К чему это упрямство? Краль начал собирать разложенные на столе бумаги. Ему казалось, что уже пора переходить к делу. Председатель союза горняков злился, он спорил, чтобы только сохранить свой престиж. Но его никто не опровергал, выступали пока одни должностные профсоюзные деятели. Лаубе и представитель металлистов молчали.
— Интересы рабочих для нас выше, чем прозрачные намерения кучки акционеров, господин генеральный директор, — продолжал горячиться председатель союза, и Краль не перебивал его.
Риферт внес новый тон в переговоры. Краль почувствовал, как вздохнул председатель союза горняков.
— Если подойти к вопросу всесторонне, то нельзя не учитывать и жизненных интересов Мансфельдского акционерного общества.
У Краля отлегло от сердца. Он и председатель союза горняков направляли разговор таким образом, чтобы вынудить седого металлиста занять определенную позицию.
— На это я не согласен, — сказал тот против ожидания резко. — Рабочие забросают нас камнями.
Краль уклонился от ответа. Пусть сами разбираются. Все накинулись на старика, который с самого начала был настроен против профсоюзных чиновников.
Они доказывали ему, что ответственность за срыв переговоров будет нести он. Запугивали его, уверяя, что своим упрямством он обрекает двенадцать тысяч рабочих с их семьями на дальнейшее прозябание в нищете. Наконец, исчерпав все свои возражения, старик сдался.
— Что ж, попробовать можем, только будет очень трудно… Я убежден, что дирекция не пошла нам навстречу до конца. Обсчитали нас.
Тут Краль вмешался:
— Если сегодня не будет достигнуто соглашение на предложенной мной основе, мы окончательно закроем предприятия. Ответственность понесете вы.
— Я за предложение дирекции, — неожиданно сказал Лаубе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Брозовскому так и не удалось узнать, почему именно в Гюбице, маленьком шахтерском поселке, возник слух о том, что некоторые социал-демократы — члены производственных советов и профсоюзные чиновники — решили провести сепаратные переговоры с дирекцией.
Однако это была правда.
Молодой парень, ввалившийся утром с этой вестью на заседание гербштедтского забастовочного комитета, ничего не мог объяснить толком. Он примчался на велосипеде, гнал изо всех сил и теперь, взмокший, стоял у дверного косяка, вытирая лоб носовым платком.
— Функционеров СДПГ пригласили сегодня в Хельбру на закрытое заседание. Меня послали наши, из Гюбица, предупредить вас. Готовится измена, слышите?!
Парень рассердился, когда Боде, недоверчиво покачав головой, сказал:
— Наверняка ложные слухи. Не пойдут они на это, рабочие выгонят их в шею. Да и я бы знал, если бы что-нибудь такое было.
— Они знают, кого приглашать. Тебя-то уж не позовут.
Переубедить Боде было невозможно. Брозовский попытался связаться с Рюдигером по телефону. Не удалось. Он решил было послать к нему курьера, но тут появился Пауль Дитрих и рассеял все сомнения.
— Они устраивают тайное совещание. В узком кругу.
Пауль прибыл из Гетштедта с новостями. Он отвел Брозовского в сторону и стал с ним шептаться.
Боде все еще недоумевал. Рядовые социал-демократы решительно выступали за продолжение забастовки, не давая никакого повода идти на поклон к дирекции. Так кто же дал им право?
Через полчаса пришел Вольфрум. Он был хмур, глаза его мрачно сверкали. Коротко он рассказал Боде о том, что случилось. Вместе с Брозовским они решили тотчас отправиться в Хельбру и вышли на улицу.
В эту пятницу полиция опять напала на массовые забастовочные пикеты, которые в полном составе вновь заняли свои посты. Возле предприятий произошли жестокие стычки.
Краль действовал сразу по двум линиям. Еще до того, как было опубликовано принятое в Берлине утром решение третейского суда, до того, как руководство профсоюзов передало его по телеграфу своим доверенным на рассмотрение — принять или отклонить, — он договорился с командованием полицейских частей о немедленных решительных действиях. Он надеялся оказать этим поддержку профсоюзному руководству и сломить сопротивление доверенных представителей.
Прокуренный зал пивной в Хельбре, где проходило собрание, гудел. Совещались уже несколько часов, но так и не пришли к единому решению. На улице тоже шумели: несмотря на все предосторожности сюда просочилось то, о чем говорили за закрытыми дверьми. Риферт возмущался, он заявил, что профсоюзная дисциплина разваливается, что преждевременная информация о переговорах означает грубое нарушение взаимного доверия.
— Никто его и не нарушает, — возразил Риферту какой-то горняк. — Напротив, бастующие доверяют профсоюзу и надеются, что их не обманут.
Рюдигер, Брозовский и еще два представителя центрального забастовочного комитета попытались пройти на собрание, но Риферт с насмешкой отказал им:
— С вами нам говорить не о чем… А ты, — обратился он к Брозовскому, — даже не член профсоюза.
По этому поводу в зале и на улице снова поднялся шум.
Усиленный отряд полиции по требованию Риферта перекрыл улицу, оттеснив шахтеров и металлистов в соседние переулки. Это вызвало взрыв негодования.
— По чьему приказу мы, собственно, здесь торчим? — спросил старый профсоюзный кассир из Гетштедта. — Шахтеры платят членские взносы союзу или кто другой? Кому даны полномочия вызывать полицию?
Ни Риферт, ни Лаубе, ни руководители организаций не смогли добиться своего даже на этом совещании, где были специально отобранные члены производственных советов и доверенные лица.
Тогда они решили больше никому не давать слова, кроме председателя. Его речь текла монотонно, усыпляя слушателей. Чтобы выиграть время, Риферт то и дело подстегивал оратора, побуждая его приводить цифровые материалы и обрисовывать положение в самых мрачных тонах.
Апатия овладела большинством собравшихся. Все сидели, ссутулившись, опустив головы, и почти не слушали.
Уже второй раз стали объяснять решение третейского суда. Но как только Риферт предложил проголосовать за него, все сразу насторожились.
В зале, словно из-под земли, вдруг вырос Вольфрум. Не имея пропусков, они с Боде пробрались в здание через уборную.
— Во имя чего мы бастовали? — громко спросил Вольфрум. — За сохранение или за уменьшение нашего заработка? Или, может быть, за полицию, которая там, на улице, избивает наших товарищей?
— Иди ты со своей болтовней куда-нибудь подальше, — крикнул ему Риферт. — У нас нет времени ее слушать.
Поднялся такой шум, что нельзя было расслышать ни слова. В зале задвигали стульями, несколько человек поднялись с мест. За столом президиума начали перешептываться.
— Давай закроем собрание, — буркнул председатель побледневшему Лаубе, который напряженно вслушивался в гул голосов, — это же коммунистические подстрекатели.
Лаубе втянул голову в плечи. Он был удивлен, обнаружив Боде рядом с Вольфрумом. «Ведь их никто не приглашал, — подумал вдруг он, — как же они сюда попали?»
Слово опять взял Риферт. Никто его не слушал. Не успел Лаубе решить, что же дальше делать, как председатель шепнул ему:
— Надо голосовать!
«Нельзя, — подумал Лаубе, — решение не пройдет, большинство будет против».
— Приступаем к голосованию! — Председатель отчаянно звонил колокольчиком и охрипшим голосом призывал соблюдать тишину.
— Мы против! Мы против! — раздались выкрики.
— Кто за совместное решение дирекции и представителей профсоюзов, прошу… — Конец фразы потонул в общем гуле.
Некоторые подняли руки. Другие оглядывались вокруг, смотрели на соседей и, подняв было руки, снова опускали их, что-то спрашивали и нерешительно опять поднимали.
— Большинство! — Риферт даже побагровел, ведя подсчет голосов.
Услышав смех Лаубе, Риферт вздрогнул и умолк. Поднятыми оказалось не более десятка рук.
— Не прошло! — крикнул Вольфрум.
Зал одобрительно загудел.
Обливаясь потом, председатель наклонился к Риферту:
— Выступи еще раз. Потом Лаубе что-нибудь скажет. Голосование недействительно.
Рассвирепев, Риферт зычно крикнул в зал:
— Ваше поведение неслыханно! Положение слишком серьезное…
— Вот именно!
— Товарищи, не поддавайтесь минутной вспышке раздражения, — крикнул председатель, — она может привести вас к неправильным выводам. Голосование надо повторить. Были допущены ошибки…
— Скажи какие, — перебил его сердитый голос из зала.
— Ошибки, которые основаны на… — Председатель тщетно подыскивал причину.
— Наша единственная ошибка — это вы! — крикнул Вольфрум, выходя вперед.
Лаубе что-то зашептал председателю союза. Тот, не дослушав, рванулся с места и распахнул дверь в помещение за сценой. Из-за кулис показались полицейские мундиры.
В мгновенно наступившей тишине раздался его голос:
— Мы приняли меры предосторожности. Коллеги, которые нарушают наш устав, ставят себя тем самым вне профсоюза. Сюда пробрались люди, не имеющие права голоса, к тому же их никто не приглашал. Вольфрум — член коммунистического комитета действия, он выступает против решений союза…
— То есть как пробрались? — перебил его кто-то. — Он вошел через дверь так же, как и ты.
— Вовсе нет. Его не приглашали.
— Что же он, в трубу пролез?
— Выведите этого человека из зала, — обратился председатель к полицейским, не отвечая на реплики.
Несколько полицейских спрыгнули со сцены и направились к Вольфруму, который как вкопанный продолжал стоять на месте. Он даже не нашел в себе сил хотя бы каким-либо жестом выразить охватившее его чувство брезгливости и безвольно последовал за полицейскими. Кованые сапоги громыхали в зловещей тишине. Вольфрум почувствовал, что в его душе порвалась последняя связь, соединявшая его с партией социал-демократов. «Тридцать шесть лет, — подумал он. — И все впустую…» Стоявшие возле дверей видели, что у него на глазах выступили слезы.
Собрание разбушевалось.
— А ну вас к черту! — Во втором ряду кто-то опрокинул стул и ушел вслед за Вольфрумом.
— Продолжаем совещание! Мы не потерпим, чтобы… — Риферт затряс колокольчиком, стараясь заглушить шум.
На сцене нерешительно топтались полицейские. Ситуация была для них непривычной. Еще десять — пятнадцать человек двинулись вслед за Вольфрумом. Где-то в задних рядах упал стул. Боде с рукой на перевязи шагнул навстречу уходящим.
— Останьтесь, не уходите! Они нас всех продадут…
— Бесполезно.
Сорвав с шеи повязку, Боде стал ее топтать, а забинтованную руку предостерегающе поднял вверх. Затем он вышел из зала. Председатель проводил его насмешливым взглядом.
В зал протиснулся Барт, тащивший несколько толстых пакетов. В наступившей тишине было только слышно его учащенное дыхание. У стола президиума он удивленно оглянулся.
— Товарищи, я принес материалы.
Председатель движением руки остановил его и многозначительно переглянулся с Рифертом. Стоявшие на сцене полицейские скрылись за кулисами. Риферт снова начал говорить, но его мало кто слушал.
Люди в зале разделились на группы и вполголоса переговаривались, советуясь, что же делать. Над ними журчала убаюкивающая болтовня Риферта.
В результате почти двухмесячной стачки оказалось, что полная победа недостижима. Есть опасения, что забастовочный фронт раскалывается. Принятое в итоге переговоров дирекции с представителями профсоюзов решение о снижении заработка на девять с половиной процентов следует рассматривать при сложившихся обстоятельствах как приемлемое, и это самое большее, на что можно рассчитывать в условиях существующего экономического кризиса.
В который уже раз это повторяли сегодня Риферт, председатель и Лаубе.
— Во время кризиса нельзя бастовать. Миллионы безработных готовы в любую минуту занять ваши места. Они нанесут нам удар в спину…
— Где ж они ударят? — робко
спросил кто-то из переднего ряда. — Привезли только чужих наймитов. Наши безработные заодно с пикетами.
Председатель снова сменил Риферта в «операции по массажу мозгов», как он про себя называл свои речи. Он обрушился на автора реплики, словно тот был заклятым врагом профсоюзов. Затем подошла очередь Лаубе, Он выступил с неохотой. Для него забастовка окончилась. Он сказал об этом прямо, как о свершившемся факте.
— Хватит! Дальше бастовать невозможно! Надо кончать, и быстрее, это затея безнадежная…
Короткие, отрывистые фразы обрушивались на зал, словно колючие струи холодного душа.
После Лаубе еще раз говорил Риферт, он угрожал, манил и обнадеживал. С заключительным словом выступил председатель:
— Должен сообщить, что в случае отклонения совместного решения дирекции и наших делегатов правление союза не будет больше выплачивать забастовочного пособия. Подписание документа в Берлине обязывает и нас. Мы не можем допустить, чтобы забастовка, утратившая смысл, опустошила наши кассы. Те, кто будет продолжать борьбу, нанесут профсоюзу предательский удар… Такая забастовка будет считаться стихийной, и мы ее не признаем!
В зале послышались выкрики:
— Ничего, переживем!
— Подлая измена!
— Уж я-то не стану марать руки!
— Здорово сработался Риферт с генеральным директором!
— Кто это сказал? — взвизгнул Риферт. — Не хватало еще слушать здесь коммунистические фразочки!
— Я.
Во втором ряду поднялся плотный коренастый человек. Его красновато-бурые руки сжались в кулаки. Такие руки бывают только у горновых.
— Я плачу взносы с девятьсот шестого года. Никогда не лез в ваши партийные споры, оставался в стороне. Моей партией был профсоюз. Тут я ошибся. Но то, что я рекомендовал в союз тебя, Риферт, за это мне сейчас стыдно.
Последние слова литейщик произнес так тихо, что их еле расслышали сидевшие рядом. Он рванул ворот своей куртки, будто ему не хватало воздуха, и направился к выходу.
Все сидели молчаливые и угрюмые, лица горели от стыда. Еще один поднялся со стула и пошел вслед за старым доменщиком.
— Дальше уже некуда! — крикнул он у дверей.
При голосовании решил перевес в один-единственный голос. Это был голос Барта.
С таким видом, будто вся дискуссия его не касается, Барт вскрыл принесенные им пакеты и разложил их содержимое кучками. Риферт начал распределять желтые пакеты и листовки.
— Гетштедт, получайте!
— Эйслебен!
— Гербштедт!
В листовках и плакатах, заказанных еще утром, до начала собрания, объявлялось о том, что забастовка прекращается и что все приступают к работе на новых условиях с понедельника, двадцать шестого июля тысяча девятьсот тридцатого года.
Среди профсоюзных уполномоченных нашлось всего лишь восемь человек, изъявивших желание расклеить листовки, и среди них — Барт и Лаубе.
Хмурые и усталые, словно отработав полторы смены, участники собрания покидали зал.
К концу дня Риферт поручил эйслебенскому рекламному бюро расклеить плакаты под охраной полиции.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
У них было много свободного времени. В конце сентября еще стояли хорошие деньки, и по утрам приятно было посидеть на солнышке. Пауль Дитрих вкопал два столбика, прибил сверху столешницу, и кафе «Свидание», как он окрестил эту площадку на краю улицы, было готово. Здесь, у невысокого забора, окружавшего больничный парк, напротив дома Брозовских, собирались те, кого не восстановили на работе.
Пауль стал здешним завсегдатаем лишь неделю назад. До этого ему пришлось отсидеть полтора месяца в тюрьме за «сопротивление властям». Рапорта Меллендорфа оказалось достаточным, чтобы свести на нет показания женщин, правдиво обрисовавших случай на рынке и подтверждавших невиновность Пауля. Судья приказал вычеркнуть Гедвигу Гаммер из числа свидетелей и посадить ее на скамью подсудимых рядом с Паулем. Гедвига получила три дня ареста условно и добрый совет — впредь воздерживаться от ссор с полицией. Пауля из зала суда сразу же отвезли в тюрьму. Дело Брозовского-младшего было выделено для особого рассмотрения, поскольку он обвинялся еще в «нападении и причинении ущерба» в связи с событиями у латунного завода в Гетштедте.
Пауль был бледен и еще больше похудел. В тюрьме ему пришлось плести циновки из камыша. На этой работе он изранил себе пальцы, порезы гноились и заживали очень медленно.
Не простоял стол и двух дней, как явился Меллендорф с распоряжением секретаря магистрата Фейгеля и потребовал выкопать столбы. Так как добровольцев на эту операцию не нашлось, он выдернул столбики собственноручно. Площадка, заявил он, является частью городской территории, а не местом сборища для воров, бездельников и врагов отечества.
Рабочие продолжали разговаривать, не обращая ни малейшего внимания на полицейского. Тот искал повод придраться, но безуспешно.
После его ухода Пауль вкопал столбики. Через день Меллендорф опять их выдернул. Эта игра продолжалась до тех пор, пока Меллендорфу не надоело и он не направил Паулю Дитриху повестку, извещавшую, что тот оштрафован на двадцать марок «за хулиганство и противозаконное использование городской территории».
Пауль отнес повестку на биржу труда и вручил ее для ознакомления и покрытия счета биржевому служащему. Заваленный по горло делами чиновник недоуменно повертел бумажку и с раздражением вернул ее обратно, так что Паулю не оставалось ничего иного, как использовать ее для гигиенических целей в день, когда наступил срок платежа.
И вот они часами сидели на солнышке, беседовали, молчали, снова заводили дискуссии, обсуждая все, что творилось на свете. С азартом играли в карты. Ставки были вполне доступные: играли на белые фасолины. Генрих Вендт сгребал свой выигрыш с таким серьезным видом, словно это были золотые монеты на зеленом столе в Монте-Карло. В игре на фасоль ему здорово везло. Во всяком случае, они не скучали; частенько вокруг их стола толпились, а то и усаживались за карты больничные пациенты, которым было прописано пребывание на свежем воздухе.
Рассказывали старые анекдоты, вспоминали давным-давно забытые школьные проделки, свою первую смену на руднике, окопы первой мировой войны и попеременно одалживали друг у друга щепотку табаку, причем делали это с видом обеспеченного человека, словно говоря: завтра, самое позднее послезавтра, я верну тебе вдвойне и втройне. Не спеша говорили о том, что долго стоит хорошая погода, что ежегодно уборка урожая совпадает с очередными политическими махинациями, что неуклонно растет число безработных, обсуждали третий чрезвычайный декрет канцлера Брюнинга и состоявшиеся четырнадцатого сентября выборы в рейхстаг.
Тут уж они все включились в работу, этого у них нельзя было отнять. До дня выборов не было ни единой свободной минуты.
Канцлер Брюнинг добился новых выборов, досрочно распустив парламент. На трибуне рейхстага партии разыгрывали грандиозные спектакли, каждая фракция пыталась переложить на другую вину за экономическую катастрофу и непопулярные чрезвычайные декреты, которые канцлер подписывал одним росчерком пера. Спорили, можно ли вообще таким путем выйти из кризиса. Однако на фракционных заседаниях партийные лидеры обосновывали необходимость грабежа трудящихся. Один лишь Эрнст Тельман затронул их самое больное место, заявив, что капиталистическая система не способна указать выход из положения.
Сторонники Гугенберга требовали, чтобы как можно больше стреляли; они выступали за политику сильной руки, подразумевая, естественно, свою собственную. Нацисты уже стреляли, не встречая противодействия со стороны государства, они стремились к власти, а потому очень торопились; распадающаяся партия покойного господина Штреземана и другие, стоявшие между фронтами группы уповали на рейхсвер, полагая, что с его помощью править легче всего; старик Гинденбург вспоминал добрые старые времена, когда он «лечился» канонадами, а социал-демократы пытались играть роль врачевателей больного капитализма. Некий господин Тарнов, кометой взвившийся на их партийном небосклоне, придумал даже особую теорию, доказывавшую необходимость такого врачевания. Брюнинг, не долго думая, разогнал их всех по домам — они ему надоели своей бесконечной болтовней. Он считал себя умнее их. К тому же перед ним поставили твердые задачи.
Посетители кафе «Свидание» радовались победе КПГ на выборах. Мансфельдские горняки голосовали за нее, и никакие риферты и лаубе не могли им помешать.
— У людей сразу открылись глаза, — сказал Юле Гаммер. — Как говорится, наверстали упущенное. Примерно так же проголосовали бы за то решение дирекции.
Со знанием дела они обсуждали так называемый «сдвиг вправо» и сравнивали вес ста тридцати нацистских мандатов с весом семидесяти семи мандатов коммунистов. Мандаты КПГ весили вдвое больше, ибо вобрали в себя голоса рабочих. Все единодушно согласились также с тем, что социал-демократические лидеры стали преданнейшими оруженосцами Брюнинга.
Оруженосцы. Это выражение было взято из арсенала «Железного фронта», который с большой помпой провозгласили как третью силу социал-демократов и рейхсбаннеровцев. Особенно компетентным считал себя в этом вопросе Вольфрум.
— Они стали главным оплотом всей системы, — говорил он Брозовскому. — И вы были правы, предупреждая нас об этом. Сколько лет я этому не верил, не хотел верить. Я говорил себе: этого не может быть! Это не должно быть! Я вступил в партию в середине девяностых годов, я доверял нашим вождям, голосовал за них, — да ты все это знаешь. Разглядеть их обман было очень трудно. Терпение уже давным-давно лопнуло, а я все верил в красивые слова…
Вольфрум провел рукой по черной бороде. Тогда, в Хельбре, он, не стесняясь слез, бросился на грудь Брозовскому, стоявшему на улице в толпе разгневанных шахтеров.
Брозовский задумчиво покачал головой.
— Да, ты прав. Мне тоже было нелегко двенадцать лет назад. Рано или поздно рабочие поймут, что шли неправильным путем. Социал-демократические вожаки, и мелкие и крупные, боятся, как бы их не прогнали от кормушки. Возьми хотя бы Цонкеля. Бросается то в одну, то в другую сторону, но за теплое местечко держится. Для него социальный вопрос, как видно, решен. Они боятся, что их прогонят, и среди них есть даже такие, что всецело перешли на другую сторону… — Брозовский всегда волновался, когда говорил об этом, но тем не менее высказывался до конца. — Они бегают вслед за канцлером и призывают к «большой коалиции». Это их слабость — ухватившись за кормушку, не выпускать ее из рук. Потому они так настойчиво и подлизываются к брюнинговским попам. Лаубе и Риферт цепляются за фалды Краля. Вот они-то — настоящее зло. Тьфу! — Он сплюнул. — Я их раскусил.
Юле Гаммер перевел разговор о высокой политике на местные дела:
— Они всегда хотели всех перехитрить. В рейхстаге разыгрывают спектакль, а у нас срывают забастовку. Одно к одному. Здесь они уже сколотили превеликую коалицию — от Тени до Краля. Дальше некуда, генеральный директор — настолько правый, что правее и быть не может. Это уже не коалиция, а настоящая сволочиция. А забастовка? Прекратили, потому что им здесь тоже хочется поврачевать «больное тело». Знаменитые лекари, особенно Барт, — уж не этому ли прыщу на тени призрака удастся оживить труп?
Слова Юле вызвали цепную реакцию. Стоявшее у ограды кресло-каталка, в которой сидел пациент в полосатой больничной пижаме, слегка затряслось. Пациент пытался говорить руками и ногами. С губ его срывались стоны и невнятное бормотание. Можно было разобрать только слово «позор!».
— Надо было продолжать забастовку, — сердито сказал Генрих Вендт, тасуя карты. — Иначе незачем было и начинать.
Его взгляд упал на игравших возле них детишек, они сидели на земле и палочками размешивали песок с водой в жестянках из-под гуталина.
— У меня каша… — Маленькая девочка, зачерпнув алюминиевой ложкой месиво, поднесла его ко рту. Перемазанная рожица искривилась гримасой, когда на зубах хрустнул песок, и девочка горько заплакала.
Лицо Вендта стало серым, когда он увидел эту картину. Он взял свою дочку на руки и вытащил носовой платок.
— Ах ты, поросенок, ведь это не едят… Забастовку надо было продолжать! — горячо произнес он, вытирая девочке лицо. Его руки дрожали. — Мы должны были выкурить предателей, заклеймить их! В результате торчим вот здесь, а они еще издеваются над нами. Они избавились от нас! Мы зря поддались, когда союз заявил, будто решение принято и всем надо приступать к работе. Это наша самая большая ошибка. Разве каждый не видел, как реагировали рабочие? Все были против, все, кроме профсоюзных бонз!
— Рабочих пришлось вести обратно на заводы и рудники, — вставил Пауль Дитрих. — Именно вести! Разве можно было допустить, чтобы каждый решал сам за себя… чтобы к работе приступили поодиночке, а потом группами? То есть стихийно, смотря по тому, кто как воспринял?
— У нас было руководство, было и достаточно влияния, — возразил Вендт.
Пауль не сдавался, пытаясь переубедить его:
— То, что забастовку решил прекратить союз, не могло остаться без последствий. Если б мы продолжали бастовать, мы бы в конце концов остались в одиночестве. Единый фронт распался бы, и они достигли бы того, к чему стремились с самого начала. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы рабочими овладело ощущение того, что их разбили, победили и отдали на гнев и милость хозяев. Коммунисты не имеют права отделять себя от рабочих.
— Остались в одиночестве? А разве мы и так не торчим здесь одни, в нищете? Где же твой единый фронт?.. Чепуха! Тебе только и дела теперь, что умничать, — хмуро проворчал Вендт и грубо ссадил дочку на землю.
— Вовсе нет. Тем самым большинство наших товарищей осталось на производстве. Если бы забастовку сломили, то жертв было бы куда больше. — Пауль посадил девочку себе на колени и стал утешать ее. Обычно за детишками Вендта присматривала Эльфрида, но она вернулась на консервную фабрику и приходила домой очень поздно, да такой усталой, что замертво валилась на кровать.
Вендт хотел было забрать у Пауля дочку, потом раздумал и опустил руки. Было заметно, как он взволнован.
— Ты, ты молокосос! Хочешь меня учить? У тебя есть дети? О ком тебе заботиться?.. Они отсеяли и выбросили тысячи людей! Это ты называешь — приступить к работе! Выброшены на улицу, как и мы! Красиво отомстили. Потому что мы сдались, только поэтому! Старуха надрывается за кусок хлеба у хуторян, а я нянчу детишек да на бирже отмечаюсь.
— Генрих…
— Что Генрих?.. — Вендт растерянно оглянулся. Потом вдруг спокойно спросил: — Ну что, сдавать?
Поскольку ему никто не ответил, Вендт собрал карты и, ворча, сунул их в карман.
Пауль побледнел от волнения. Вот и опять началось. Хоть один раз в день, но непременно они возвращались к главной теме. Иначе и быть не могло.
Двадцать пятого июля общее собрание доверенных представителей всех заводов и рудников решило, по предложению Рюдигера, организованно прекратить стачку. Руководители профсоюзов, призвав к возобновлению работы, прекратили выплату стачечного пособия, и это вызвало среди забастовщиков большое замешательство. Предварительно проголосовать рядовым членам профсоюзов не разрешили.
Рюдигер убедительно объяснил, что в данных условиях целесообразнее действовать гибко, чтобы предотвратить раскол фронта горняков и металлургов. Именно это прежде всего имелось в виду.
Разгорелись жаркие споры. В итоге все же возобладало мнение, что было бы ошибкой бастовать до бесконечности, так как прежней боевой солидарности уже нет.
Генрих Вендт голосовал за продолжение забастовки и по сей день оставался при своем убеждении.
После вспышки Вендта Брозовский поднял голову и выпрямился. Да, в таком духе здесь еще ни разу не говорили. Щеки и подбородок Брозовского поросли густой щетиной. Он начал экономить мыло и брился раз в три-четыре дня.
Итак, они уже два месяца без работы. Своей временной безработицы Брозовский не брал в счет. Судебный процесс о восстановлении на работе он проиграл, профсоюз отказал ему в защите, а в день объявления приговора его вдобавок исключили из профсоюза горняков. Те, кого после окончания забастовки не восстановили на работе, слонялись между биржей труда, домом и вели бесконечные разговоры под открытым небом.
Брозовский вдруг поежился. А что будет, когда наступит зима? Надежды получить работу не было, и это действовало угнетающе. Как жить, что делать дальше? Оставался лишь один путь, тот, который указывала партия: борьба!
— Наша партия должна завоевать большинство рабочего класса. В этом единственный выход, и он вполне реальный. Наша забастовка доказала это. Мы не одиноки. Два месяца мы стояли единым фронтом…
— И что же получилось? — перебил его Вендт.
— Одним ударом всего не добьешься. Ты же знаешь, сколько пришлось работать, чтобы достичь того, что мы достигли. Надо запастись терпением. Мы значительно продвинулись вперед. Вместе с нами пошли тысячи, более десяти тысяч рабочих. Во время забастовки в партию вступили сотни новых людей, они теперь пойдут вместе с нами. Мы не сдадимся.
— Значит, терпеть! Хорошее утешение!.. А ты не посоветуешь, как накормить четырех таких птенцов? — Серое худое лицо Вендта сморщилось. Он подумал о том, что первого числа не внес квартирную плату. А через неделю снова первое число, и даже величайшее терпение не предотвратит этого. Вчера заходил контролер по электроэнергии, да и ушел ни с чем.
«Неплохое начало, — сказал он, не получив по счету. — Надо полагать, что в скором времени вам отрежут провода».
Вендт думал также о том, что жена его вот уже который вечер подряд плачет и плачет. И хотя у нее вообще глаза на мокром месте, выносить это он уже не в силах.
Брозовский, покусывая ногти, раздумывал над ответом.
— Знаешь, Отто, терпеть хорошо таким, как Крупп. Он может обождать, пока кто-нибудь купит его пушки. Тем временем он будет делать в запас броневые плиты и грузовики. Они потом всегда понадобятся. А вот у меня другое дело. Посмотри на этот жалкий комочек…
Он показал на девочку, сидевшую на коленях у Пауля. Брозовский не знал, что сказать. В голове у него проносились сотни мыслей. Программа партии по вопросу национального и социального освобождения, речь Вильгельма Пика в рейхстаге, указывающая массам трудящихся путь к защите от «чрезвычайных налетов», тысяча аргументов, которые были такими убедительными, такими ясными. Какими словами их выразить? А где Вендт возьмет деньги, чтобы уплатить за квартиру?
Брозовский мучительно раздумывал. Уйти от ответа невозможно. А программа — разве она всего лишь неуверенное обещание? Утешение несбыточной мечтой? Нет! Она — сама жизнь, она — средство для того, чтобы у всех были и хлеб, и суп, и одежда. Тогда скажи это так, чтобы понял каждый, чтобы понял и Генрих Вендт, впавший в отчаяние, ибо нужда затмила ему свет.
— Им не сдержать надвигающегося краха, — вымолвил наконец Брозовский. — Ни террором, ни лечением «больного тела». Мы должны убедить в этом трудящихся, объяснить нм, что их сила в единстве. Слившись в огромный мощный поток, они сметут со своего пути все дряхлое и прогнившее. И тогда будет установлена власть рабочих…
В глазах Вендта вспыхнула искорка надежды и тут же погасла.
— А доживем ли мы до того дня, когда все рабочие будут едины, когда они завоюют власть? — с сомнением в голосе спросил он.
В доме Бинерта хлопнула дверь. Бинерт пошел на работу в дневную смену. На сидевших у ограды он не оглянулся, не посмел оглянуться. Глядя прямо перед собой, он шагал вниз по улице. В его рюкзаке в такт шагам подпрыгивала фляжка с кофе. За окнами его дома не шелохнулась ни одна занавеска. Прежде Ольга Бинерт не могла одолеть своего любопытства, теперь же она не подходила к окнам и, стоя посередине комнаты, пыталась оттуда наблюдать за тем, что происходит на улице. Поскольку надпись на фасаде их дома смыть не удалось, Бинерт вырубил ее и заново отштукатурил стену. Свежевыбеленная заплата над дверью выглядела словно позорное клеймо.
Разговоры у ограды стихли. Только Генрих Вендт проворчал:
— Вон он, пошел. Для того чтобы ему платили теперь всего на девять с половиной процентов меньше, мы должны торчать на улице. В полном смысле слова. Вот что из этого получилось.
В бешенстве он схватил камень, чтобы швырнуть его вслед Бинерту, но Брозовский остановил его:
— Не дури.
— Идите обедать! — позвала их Минна Брозовская. Голос ее болью отозвался в сердце каждого.
Пауль Дитрих, с тревогой наблюдавший вспышку Вендта, не сказал больше ни слова. Он был рад, что напряжение разрядилось, и высоко поднял девочку.
— А для нас у тебя что-нибудь найдется, мамаша?
Минна засмеялась.
— Мне, видно, опять придется варить суп для половины города. Заходите. Суп с брюквой, а мясо впридумку, кто поймает, тот и съест.
Пауль с девочкой на руках побежал через улицу, издавая радостные крики, но в душе его царило смятение. Что же будет дальше, если всех охватит уныние и отчаяние?
Вендт взял за руки двух своих старших девочек и потащил за собой. Он шел как пьяный.
Им нужно занятие, какой-то твердый распорядок, продолжал раздумывать Брозовский. Люди падают духом. Всю жизнь они занимались тяжелым трудом, привыкли к нему, от ничегонеделанья и нужды они спорят, ссорятся и становятся скептиками. Надо больше заботиться о товарищах. Но как? Рюдигер предложил организовать кружки, учебные курсы. С пустым-то желудком? Полагаться только на твердость и верность недостаточно. Самые добрые намерения могут быстро спасовать перед нуждой. Полтора месяца прошло, прежде чем выплатили первое пособие по безработице — почти столько же времени длилась забастовка. Это была нищенская подачка. Он знал, что Юле Гаммер и Вендт ездили в поместье наниматься на уборку свеклы. В прежние годы господа помещики часто искали рабочих в сезон уборки. В этот раз управляющий поднял руку и указал им на дверь: «Уходите, только вас двоих мне еще не хватало!»
Брозовский знал также, что Юле и Генрих отправились ради жены Вендта — она беспрестанно плакала, не давая мужу покоя.
По улице быстрым шагом приближался Боде. Как и прежде, он был последним. Он никогда не управлялся вовремя, несмотря на все старания.
— Прихватил бы за нас сменку-другую, нам бы сгодилось. — Юле Гаммер добродушно оскалил зубы.
Боде чувствовал себя неловко перед своими товарищами, потерявшими работу.
— Попробую, — ответил он печально, как бы оправдываясь. Раненая рука все еще мешала ему при работе, на ходу он держал ее согнутой, не касаясь тела. Он быстро прошел мимо. Каждый день его провожали добрыми напутствиями.
Как только начали восстанавливать бастующих на работе, жена Боде, без его ведома, помчалась к Лаубе и Цонкелю и спросила их, почему обошли ее мужа. Лаубе выпроводил ее. Заступаться за такого типа? Этого еще не хватало. Цонкель обещал замолвить за Боде словечко. Просительницу поддержала супруга бургомистра, приходившаяся жене Боде двоюродной сестрой.
Цонкель, конечно, не преминул упрекнуть Боде, расхваливая дальновидную и умеренную политику своей партии. Боде, мол, просто спятил, но он, Цонкель, готов снисходительно отнестись к его глупости. Жена Боде терпеливо снесла все попреки, излившиеся на ее голову, словно дождь, от которого некуда спрятаться. Лишь бы только муж получил работу.
Она обещала Цонкелю все, когда тот согласился помочь им.
— Дурень твой Боде, — сказал он. — Брозовский натравил его, он и полез на винтовки. Нехорошо вел себя, нехорошо. Зачем это было нужно ему? Он же так давно в партии и в «Рейхсбаннере». Все наши люди снова на работе. Об этом мы позаботились. Если на предвыборной демонстрации Боде опять понесет наше знамя, я посмотрю, что можно будет для него сделать.
После визита к Цонкелю фрау Боде не давала мужу покоя. Он бушевал, грозил поколотить ее и даже вдребезги напился однажды. Но жена не отставала:
— Сегодня Гебхард вышел на работу. Завтра, может, пойдет Зиринг. Один ты останешься дома. Можно, конечно, сидеть и толочь воду в ступе. А дальше? Ты подумал о том, что будет дальше? Чью вину ты собираешься искупать? За кого ты подставляешь свою голову? Думаешь, коммунисты тебе помогут? Ошибаешься!
День и ночь она пилила его, ругалась, плакала, ныла. И разжалобила. Боде сидел за столом, подперев голову. Он сдался. Наконец она потащила его к Цонкелю домой. Там они встретили Барта, которому Цонкель предложил устроить Боде, и Барт не избавил его от последнего унижения, сказав, что ему надлежит еще обратиться к штейгеру Бартелю.
— Попроси его хорошенько. Я разговаривал с ним. Он не такой уж злыдень, но ему хочется, чтобы его попросили.
Боде еле удержался, чтобы не схватить этого холуя за глотку. Дома он сорвал злость — сбросил со стола посуду. Но жена оказалась сильнее его. На предвыборной демонстрации он был знаменосцем. Накануне вечером Цонкель заявил, что этот факт придется коммунистам не по вкусу.
— Бот тебе и единый фронт, — сказал Юле Гаммер Брозовскому, явно намекая на поступок Боде. — Пропащий это народ.
— Не спеши с выводами, — возразил ему Вольфрум. — Есть факты, которые доказывают обратное. Брозовский часто говорил, что не сразу все делается, а шаг за шагом. И для меня этот шаг был тяжелым, но мне помогла жена.
— Знаю. Жена либо черта выгоняет, либо с чертом заодно. Вот Минна Брозовская, она давно знала, что Бартель поставил на место Отто, у вентиляционной двери, эту собаку Гондорфа. Им вдруг снова понадобилось следить за рудничным газом. Но она не попрекнула мужа ни единым словом.
— Молодец! Только не все женщины такие сознательные. Надо начинать с собственной семьи. И здесь забастовка не прошла без пользы. Сначала я и не думал, что моя жена станет помогать на общественной кухне. Что ж, борьба не закончена. Многие еще наберутся мужества и пойдут за нами. И Боде, ведь он не подлец.
Брозовский едва не кинулся пожимать Вольфруму руку, но сдержался, ибо не привык бурно проявлять свои чувства.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
С некоторой поры Брозовского не покидала одна мысль. Стоя у книжной полки, он задумчиво листал брошюры, потом шагал по комнате, садился к окну, невпопад отвечал на вопросы домашних. Он редко выходил из дому, часами читая толстую книгу, которую взял в эйслебенской городской библиотеке.
К толстым книгам Минна всегда питала антипатию. Видя, как муж бережно обертывает книгу упаковочной бумагой, она думала: ну, теперь засядет на всю зиму. Вечное чтение. И поговорить-то нельзя, хоть и сидишь рядом.
Целую неделю Минна молчала, пока у нее не лопнуло терпение.
— Скажи-ка, муженек, о чем ты размечтался? Или замышляешь что-нибудь? — Она толкнула его локтем.
— Замышляю? — Он недоуменно поднял на нее глаза. — Кто, я?
— Да очнись ты наконец, профессор! Что-нибудь дельное опять надумал?
Брозовский расхохотался. Его поведение показалось странным даже ему самому. Он стоял во дворе возле бочки, прислонившись головой к водосточной трубе, и разглядывал свое отражение в воде.
— Уже очнулся. И у меня есть кое-что новое. Мы откроем народный университет.
— Что ты сказал? — Минна критически посмотрела на него. В своем ли он уме? Неужели безработица довела его до бредовых идей?
— Да, да. Увидишь, — говорил он, направляясь в дом вслед за женой.
— Вот иди посмотри. — Отто взял с подоконника книгу и открыл ее. «Новый народный университет — его задачи и цели», — прочитала Минна на титульной странице…
— С чего это на тебя вдруг напала ученая горячка?
— Напала… Дело не во мне. Рабочей молодежи нужно дать какое-то серьезное задание. Придет зима, и с летним спортом покончено, — чем им занять свободное время? От безделья начнут всякие глупости вытворять. Мы должны чувствовать ответственность за ребят. Да и тем, кто постарше, не помешает малость подучиться.
Она пренебрежительно усмехнулась.
— И ты хочешь быть профессором у этой оравы? Будто мало у тебя работы в партии?
— Это тоже партийная работа, Минна. Иначе я бы за нее не взялся. Представь себе в Гербштедте большую группу хорошо образованных рабочих, ведь мы тогда все одолеем.
— Сначала закончи одно дело. Для кафедры ты не годишься.
— Вместо того чтобы вместе со мной все обдумать, ты насмехаешься над полезным и серьезным делом.
Минна подбоченилась.
— Значит, вместе с тобой обдумать. А ты о чем-нибудь спрашивал меня? Нужно быть фокусником, чтобы выудить из тебя словечко.
Он промолчал. Жена права. Но ведь сначала надо было все продумать самому.
— Обсуждать какой-нибудь вопрос можно лишь, когда составишь себе о нем хотя бы приблизительное представление, — сказал он после долгой паузы.
— Вот и составляй. А меня уволь… Кстати, ты имеешь представление о том, что у нас нет угля?
— Минна!
— Эх ты, мечтатель!
— Но ведь это реально. Подумай сама: двадцать — тридцать человек собираются дважды в неделю на два часа, плюс домашние задания, — получится отличная школа. И время не пропадет даром. Сегодня же потолкую с Рюдигером. Вот увидишь, дело пойдет. Фридрих наверняка поддержит меня.
— Фантазеры. А где будете читать лекции?
— В школе. Все продумано.
Минна одернула фартук и смерила мужа уничтожающим взглядом. Направляясь в кухню, она сказала:
— У тебя богатая фантазия.
Брозовский рассердился.
— Можно подумать, что ее кухня для бастующих не была поначалу фантазией, — проворчал он, надевая ботинки. Потом крикнул: — Я пошел в Гетштедт.
— Иди, иди, — угрюмо пробурчала в ответ Минна.
У Брозовского план созрел окончательно.
С интересом слушая товарища, Рюдигер задумчиво потирал руки. В комнате было холодно. Лора, закутав ноги, сидела на диване и вязала. Поймав удивленный взгляд Брозовского, она сказала:
— Сегодня я не топила.
— Я подложу тебе подушку под спину, — сказал Рюдигер жене, чтобы сменить тему разговора, и обратился к товарищу: — Толковое дело, Отто. Я полностью за.
— Дело серьезное.
— Прежде всего надо решить, кто его возглавит. С этого следует начать.
— Думаю, что руководство школой следует поручить комитету безработных. Председателем там Юле Гаммер. Значит, будет порядок.
— Гм.
— Круг участников должен быть как можно шире.
— Так. А план учебы? Его надо хорошенько продумать. От этого зависит все. Тут нам, пожалуй, поможет наш секретарь. Товарищ Бернгард кое-что смыслит в этом. Труднее будет с преподавателями и помещением.
— Попрошу городской совет выделить нам один класс в школе.
— Вижу, ты крепко взялся за дело. Но стоит ли тебе идти туда? Они же сразу откажут.
— Попробуем нажать.
— С кем, с Юле? — Рюдигер засмеялся. — Он только ломать умеет. Дипломат из него никудышный.
— Может, сделаем так: комитет безработных подаст письменное заявление, а наша фракция поддержит его на собрании депутатов городского совета… Если не выгорит, устроимся в «Гетштедтском дворе».
— А плата за помещение, электричество, уголь?
«Они наверняка сидят без угля», — подумал Брозовский, видя, как Фридрих потирает руки.
— Как-нибудь заплатим, это не так уж много, — ответил он. — А учитель у меня есть на примете.
— Кто?
— Петерс.
Рюдигер забыл о холоде.
— Хорошо, если бы он согласился.
— Поговорю с ним.
— О нем тебе вообще не мешало бы позаботиться. Бросать его на произвол судьбы нельзя. Ему приходится тяжелее, чем рабочему.
— Ясно. Петерсу надо быть особенно осторожным. Этот Зенгпиль так и норовит подставить ему ножку.
— То-то и оно. Мы обязаны ему помочь. Если он даст согласие, учебный план надо составить таким образом, чтобы школьная инспекция не могла к нему придраться.
Брозовский положил на стол несколько исписанных листков бумаги.
— Вот я тут кое-что наметил. Посмотри. Конечно, нельзя допустить, чтобы у Петерса были неприятности, но, с другой стороны, школа должна быть марксистской. Да, задача нелегкая.
— Оставь мне твои заметки. Попробую подыскать что-нибудь в Эйслебене. Без помещения не останемся. А ты поговори с Петерсом и подумай, что можно сделать еще.
По дороге домой Брозовский решил, что письмо директору школы, которое он уже придумал, лучше передать не с Вальтером, а через Пауля Дитриха.
— Великолепно! — воскликнул Пауль, когда Брозовский рассказал ему о своем замысле. — Просто обидно, что сам до этого не додумался. Сколько я ни ломал голову, мне ничего такого на ум не приходило. Зло берет, что нечем помочь, особенно, когда видишь таких, как Генрих Вендт… Здорово придумал. Десяток учеников я тебе обеспечу.
«Ну вот и загорелся», — подумал Брозовский.
Вечером они встретились у Вольфрума, который жил в маленьком домике вдвоем с женой. Здесь можно было встречаться без всяких помех.
Петерс поблагодарил за приглашение.
— А мне-то казалось, вы забыли, что я живу в Гербштедте, — сказал он.
Уловив в его голосе упрек, Брозовский ответил:
— Мы действуем осторожно, однако ни о ком не забываем.
Изложив Петерсу свою идею, он предупредил, что за сотрудничество с народным университетом учителя могут заподозрить в антигосударственных связях, ибо учиться будут главным образом коммунисты.
— В таком деле, конечно, рубить сплеча не годится, — ответил Петерс, — но я согласен. Когда вам вернут из Эйслебена проект учебного плана, мы встретимся еще раз. Известите меня тогда. Что же касается вашего предупреждения, то мои коллеги давно уже считают меня красным. А господин Зенгпиль вообще поставил на мне крест.
— Тогда вам тем более нельзя давать повод для конфликта. Безработных у нас хватает. Но вот слово родителей может оказаться весомым.
— Видите ли, товарищ Брозовский…
Отто вздрогнул: Петерс назвал его товарищем.
— Видите ли, — Петерс улыбнулся, — как раз у родителей я встречаю большую поддержку. Дети очень привязаны ко мне, и это главная из причин, которые вызывают ненависть Зенгпиля. Он уговаривает школьников вступать в детскую организацию нацистов, ходит по пятам за родителями, но в моем классе ему не везет.
— А не попросить ли нам профсоюз взять на себя заботу о школе? Это была бы хорошая база. — Вольфрум вопросительно посмотрел на Брозовского.
— Идея неплохая. Но тогда придется идти на поклон к Барту и Лаубе. А уж если они вмешаются, то сам понимаешь…
— Необязательно обращаться к ним. Есть другой человек — электрик Ширмер. Он казначей союза металлистов. С ним можно говорить. Он беспартийный, но толковый и с характером. Да ты его знаешь.
— Хорошо, попробуй. Такое предложение мне нравится.
— Согласен. Я всегда в вашем распоряжении, — сказал Петерс.
Прощаясь, он крепко пожал им руки и поднял кулак в ротфронтовском приветствии.
После обстоятельного разговора с Вольфрумом Ширмер пообещал обратиться с предложением в свой союз.
— Обычно я держусь в стороне, — сказал он Вольфруму, — но ваше дело стоящее. Нашему брату не мешает подучиться.
Он просмотрел недавно полученный учебный план.
— «Диалектика природы», хорошо. «Общество и материя», хорошо. «Государство и революция», очень хорошо… Сделаю все, что надо.
Полномочный представитель союза металлистов не сказал ни да, ни нет, но обещал, что в течение недели вопрос рассмотрят и вынесут решение. Затем Ширмер подал Цонкелю письменное заявление, в котором просил выделить в школе помещение для занятий. Цонкель тоже обещал рассмотреть заявление.
Через две недели пришел ответ: отказать. Профсоюз не видел гарантий тому, что занятия будут проводиться в соответствии с общепринятыми правилами. К тому же не было необходимых денежных средств.
Ширмер рассердился и заявил протест, но получил резкий отказ. Когда же он пошел к бургомистру, то выяснилось, что решение профсоюза уже известно Цонкелю. Бургомистр решил его прощупать.
— Послушай, Ширмер, — сказал он, — ведь ты всего-навсего подставное лицо. Помещение в школе вам не дадут. Нас вы не одурачите.
— Что значит «подставное лицо»? Я член рабочего профсоюза и готов объединиться с теми, кто задумал доброе дело. Так я всегда поступал.
— Антифашистская акция, не правда ли? Боевой союз. Да еще вам школу подавай. Не выйдет. Беспорядков у нас и без того хватает.
— Чего ты, собственно, боишься?
— Боюсь? Смешно. «Государство и революция» — я читал вашу программу. Гаммер уже собирает подписи. Нам все известно. Здорово же они впрягли тебя!
— Как гражданин я требую того же права, которое, например, предоставляется обществу «Родной край» либо Женскому союзу. Они бесплатно пользуются школьными и муниципальными помещениями.
— Ха-ха-ха, сравнил! То «Родной край», а вы собираетесь заниматься политикой, да какой еще.
— Ты понимаешь, что мы хотим открыть школу? Хотим учиться…
Простодушному честному электрику было невдомек, что отказ был предопределен заранее. Под конец он не стерпел:
— Но я не сдамся.
— Небось побежишь к Брозовскому? — насмешливо спросил Цонкель.
Ширмер побледнел.
— А чем он тебе не нравится? Вот ты и проговорился. Теперь к нему многие пойдут. До сих пор я там не бывал, но ты сам показал мне дорогу.
В тот же день он пришел к Брозовскому.
— Знаешь, Отто, мне часто казалось, что вы, коммунисты, слишком торопитесь. Спокойствие прежде всего. Но в деле со школой я действительно не вижу ничего такого, что мешало бы честному рабочему отстаивать это. А Цонкель против, и союз против. Для чего же он тогда вообще?
— У них душа в пятки уходит при мысли, что гербштедтские рабочие хоть чуточку поумнеют, — сказал Гаммер. — Нам, Ширмер, надо самим взяться за дело.
Когда Ширмер вошел, Гаммер показывал Брозовскому список, в котором числилось восемнадцать человек, пожелавших учиться. Пауль Дитрих сидел тут же. К школе проявляли большой интерес.
— Так-то, дружище, — сказал Отто, — видно, пришла нам пора идти на передовую, хватит сидеть в резерве. Вот как обстоит со спокойствием. Сам видишь, мы не слишком торопились. Вся суть в том, что они всегда против нас. Итак, за дело!
По совету Брозовского Ширмер снова подал заявление, а Гаммер созвал собрание безработных.
Пауль Дитрих рассказал об этом Эльфриде; каждый вечер он теперь ездил до Поллебена, где по дороге встречал девушку, возвращавшуюся с работы.
Если позволяла погода, они слезали перед Гербштедтом, там, где шоссе делает большую петлю, садились на покатом склоне и полчасика отдыхали, беседуя. Пауль обнимал девушку, и она, прижавшись к нему, частенько засыпала от усталости, а он ласково поглаживал ее волосы. Сегодня Эльфрида сидела заплаканная: ее уволили с работы. Впереди опять была неизвестность.
— Будем вместе учиться, — говорил Пауль, неумело утешая девушку. — Петерс уже вовсю готовится к занятиям. Если же ничего не выйдет, сложим наше барахлишко и начнем вместе хозяйничать.
Эльфрида обняла его и поцеловала в губы.
— Дурачок ты мой, а что у нас есть?..
На свое второе заявление Ширмер ответа не получил. Цонкель передал его Фейгелю, а тот подшил к делу. Юле Гаммеру прислали официальное решение, в котором говорилось, что городской совет не признает комитета безработных и поэтому такого рода комитет не может являться договаривающейся стороной. Следовали подписи: бургомистр Цонкель, секретарь Фейгель.
— Обоим даю коленом под зад! Подпись: безработный Гаммер, — с угрозой крикнул Юле, когда Гедвига в присутствии Эльфриды и Пауля прочитала ему это письмо.
— Ты неисправим, — сказала Гедвига. — И на что вы только каждый раз надеетесь? Они как были мерзавцами, так и остались.
— Вот это мы им и втолкуем! — крикнул Юле и в бешенстве выбежал на улицу.
Гедвига обняла Пауля и Эльфриду.
— Да уж, мы герои, и вы оба тоже.
Эльфрида почувствовала, что эта большая сильная женщина нуждается в утешении. Гедвига только с виду суровая, а на самом деле мягкосердечная, и ей нужна опора. Юле не понимал этого, и она скрывала свои чувства за напускной грубостью.
— Несмотря на Цонкеля, мы школу организуем, — сказала Эльфрида. — Все усядемся за парты. И ты вместе с нами, Гедвига, ведь ты еще молодая.
— Лопнет ваша затея. Ведь этим сыт не будешь.
— Брозовский придумает какой-нибудь выход, — уверенно ответила Эльфрида.
— Брозовский тоже не волшебник.
При виде отчаяния, охватившего Гедвигу, у Пауля сжалось сердце. Он не выдержал и ушел, оставив женщин вдвоем.
Фракция КПГ потребовала, чтобы на заседании городского совета были обсуждены вопросы о школе и о признании комитета безработных. Председательствующий — владелец пекарни на окраине города, — депутат блока буржуазных партий, включил эти вопросы в повестку дня.
— Чтобы вы не говорили, что мы препятствуем вашим интересам, — сказал он Брозовскому.
Все места для публики заняли безработные. Было зачитано заявление Ширмера, который сидел в первом ряду, пропустив в этот день свою смену.
Оба заявления были отклонены, за них голосовали только коммунисты. Социал-демократ Шунке воздержался.
В зале поднялась суматоха, кто-то вырвал из рук бургомистра папку с бумагами. По указанию Фейгеля председательствующий вызвал двух дежурных полицейских и прервал заседание.
Меллендорф хотел арестовать Юле Гаммера, но председатель заявил протест, сказав, что Гаммер вел себя вполне корректно.
— Но ведь он председатель этого самого комитета. — Меллендорфа распирало от важности.
Юле расхохотался:
— Вот вам уже один, который признал комитет, господин председатель. Как видите, мундир иногда делает человека сообразительнее.
На следующий день он вместе с двадцатью шестью учениками сидел в «Гетштедтском дворе» и слушал вступительную лекцию Петерса.
После первого урока Генрих Вендт пошел домой.
— Всякий учителишка будет еще мне разъяснять, что понимал Энгельс под этим… ну, как его?.. В общем, я поворачиваю оглобли, дружище, — сказал он Гаммеру. — Нам помогут только ручные гранаты.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Кризис гигантскими шагами шел по Германии. Наступила зима, за ней весна, а люди по-прежнему оставались без работы. Минули лето и осень, и начался новый год. Для гербштедтцев так же мало что изменилось, как и для жителей Брауншвейга, Лейпцига и Франкфурта. Разве что этой весной в деревне не нуждались больше в наемной рабочей силе. Городских батрачек отослали домой, — на их место пришли потерявшие работу крестьянские дети. Ну, а скот, зерно, — кто их теперь купит, если прошлогодний урожай лежал непроданным. Всем приходилось экономить; в помещичьей усадьбе расквартировали полсотни долговязых парней из
«Добровольной трудовой повинности». Инспектор командовал ими, как на казарменном плацу.
Генрих Вендт так отощал, что стал похож на скелет. На партийных собраниях он выдвигал нелепые требования, кричал, горячился, а в день выплаты пособия пропивал его. Жена Вендта смотрела на Брозовского запавшими глазами. «Помоги! Как ты еще можешь терпеть это?» — читал он в ее голодном взоре.
Он попытался пристыдить Генриха; тот сначала съежился, словно ребенок, которого отругали, но потом оскалил зубы:
— Это она тебя подговорила, ты хочешь мне указывать, да?.. Все вы гады!
Ночью он выбил стекла в доме Бартеля.
Брозовский с утра до вечера был на ногах, выступая на разных собраниях. В партию пришли сотни новых членов.
Но как помочь людям утолить голод? Чем?.. Проклятье! Минна отдавала все, что могла, иногда и обед мужа, а он только потуже затягивал пояс. И где она только добывала еду?
Дольше все это продолжаться не могло, катастрофа надвигалась, конец был неминуем.
Но он не наступал.
Четыре миллиона безработных в Германии, пять миллионов, шесть миллионов. Безработица в стране разрослась, как плесень в прогнившем доме. Работающих неполную смену, «скакунов», «сверхкомплектных» уже никто не учитывал, лишенных пособия по безработице — тоже. Язык обогатился доселе неслыханными понятиями. Вошли в обиход «Побез», «Покри», «Блапо» — пособие по безработице, помощь в связи с кризисом, благотворительная помощь, фонд социального обеспечения; вот за счет чего существовала, прозябала одна пятая, затем одна четвертая и, наконец, треть немецкого народа. Размер пособий все сокращался и сокращался, заработная плата еще работавших снижалась и снижалась, уровень жизни населения стремительно падал. Демонстрации, стачки, запреты, локауты, увольнения, компромиссные сделки, снова стачки — ничто не могло сдержать непрерывного падения зарплаты. Чрезвычайные декреты, новые налоги, надуманные вычеты, распродажи, банкротства, биржевой ажиотаж, аферы, разорение в невиданных масштабах; бешеный вихрь, который не могла остановить никакая сила. Лихорадило всю страну: кризис потрясал устои государства, подсекал жизненный нерв народа и то, что господствующий класс именовал своим
порядком. Безумие этого порядка губило множество жизней, государство взваливало на плечи слабых новые тяготы и дарило богатейшим то, что теряли выброшенные в нищету. Самоубийства стали будничным явлением, проституция приняла массовый характер, число объявлений о принудительной продаже с торгов превысило количество закрывшихся предприятий, тысячи крестьян покидали свои дома и шли нищенствовать. Лишь у судебных исполнителей и служащих биржи труда прибавилось работы. Все погрузилось в пучину безнадежности.
Порты в Гамбурге, Бремене, Киле и Висмаре превратились в кладбище кораблей, океанские великаны ржавели, пришвартованные к причалам. Продолжали закрываться фабрики, заводы и шахты, выбрасывая за ворота рабочих и служащих, в опустевших эллингах верфей гулял ветер. В то время как бесчисленное множество людей мерзло в нетопленных домах, возле шахт громоздились пирамиды угля, а горняков, которые добывали его, выставляли за ворота. Сотни тысяч рабочих и их семьи не голодали только благодаря тому, что Советский Союз заказал в Германии промышленное оборудование на миллиардные суммы.
Простой человек растерялся.
Перед ним разверзлась бездна. Радио и пресса с утра до вечера морочили ему голову, ораторы всевозможных партий и союзов сбивали его с толку. Только одна партия, партия Эрнста Тельмана, говорила ему неприкрашенную правду и указывала путь к победе.
Все партии ударили в предвыборные барабаны. Предстояло избрать нового рейхспрезидента. На стенах домов, в витринах, в подворотнях были расклеены плакаты. Нередко поверх одних наклеивали другие. Там, где домовладелец следил за этим, плакаты оставались в неприкосновенности.
«Голосуйте за Дюстерберга!»
«Голосуйте за Гинденбурга!»
«Голосуйте за Адольфа Гитлера!»
На фасаде здания биржи труда, на уровне второго этажа, висел огромный портрет Отто Брауна.
«День выборов — день выплаты», — гласила гигантская надпись над ним.
— Чудеса, — усмехался Юле Гаммер. — Непременно приду. Интересно, сколько монет они отвалят безработному?
Вместе с Генрихом Вендтом они стояли у дверей биржи и раздавали маленькие, написанные от руки листовки: «Ваш кандидат — транспортный рабочий Эрнст Тельман!»
Длинная очередь конвейером ползла по коридору мимо кассовых окошек биржи. Чиновники, ставившие отметки в учетных карточках безработных, действовали как автоматы. Карточка, печать, карточка, печать…
Генрих безуспешно пытался пробиться сквозь толпу к наклеенному на стене плакату. Обступившие его безработные посмеивались.
— Мало каши ел в детстве, Генрих, — добродушно пошутил Гаммер. — «Железный фронт» — великан, а ты карлик… Вот силенок-то и не хватает.
У Юле чесались руки сорвать предвыборный плакат СДПГ, отпечатанный на роскошной золотисто-желтой бумаге. Но он сдержался и сказал:
— Эс-дэ-пэшники ничего лучшего не придумали, как откопать боевой призыв времен Августа Бебеля. Старик перевернулся бы в гробу, если б знал, что его слова напечатают в желтых листках.
— Уж очень часто приходится ему вертеться, — пробурчал Генрих и, ссутулившись, зашагал по улице.
Гаммер раздавал последние листовки.
— Против курортника с гинденбурговскими усами! Против Дюстербродяги! Против Гитлербурга и его коричневой шайки! — приговаривал он всякий раз, вручая листовку. — Голосуйте за нашего Тэдди!
Пауль фон Бенкендорф и фон Гинденбург, фельдмаршал монархии, превратившийся в мифического героя воинских союзов, уже семь лет как восседал в кресле президента республики, посягая на ее жизнь, словно рыцарь-разбойник.
Теперь его избрал своим покровителем так называемый «центр» — двадцать партий, не располагавших ничем, кроме председателей с секретариатом и больших денег.
Эдуард Бинерт об этом никогда не задумывался. Выйдя с перевязанной щекой от зубного врача, он услышал, как Юле Гаммер громко сказал:
— Голосуйте против победителя смертью, против Гинденбурга!
Бинерт тут же перешел на другую сторону улицы, опасаясь, как бы грубиян Гаммер не прицепился к нему.
В этом году, особенно в последнее время, Бинерт чувствовал себя неважно. Он прихварывал. После забастовки он надеялся, что на него наконец-то обратят внимание, но ошибся. Восстановленных на работе горняков оберштейгер Кегель на второй день по окончании стачки послал расчищать штреки. Несколько месяцев Бинерт зарабатывал очень мало, а когда снова вернулся к прежней работе, то попал в такой забой, где сам черт сломал бы себе зубы.
Беготня Ольги по начальству не дала никаких результатов. Бинерт, не выдержав нагрузки, обратился в профсоюзную больницу.
— Так, еще один кандидат, — сказал ему врач. — Не в президенты, разумеется, а в полуинвалиды! Пишите заявление, для производства вы только обуза. Вам надо удалить зубы, а потом на отдых.
И вот зубы, вернее, те огрызки, что от них остались, удалили. Тяжело дыша, Бинерт медленно брел по Гетштедтской улице. Разобраться в этой предвыборной путанице ему тоже было не под силу. Гинденбург, Дюстерберг, Гитлер, — кого из них выбирать?
За фельдмаршала он уже голосовал не раз, это правильный старик, настоящий полководец, бастион в сражении.
Но Дюстерберг тоже неплох, как-никак вождь «Стального шлема»… А он, Бинерт, никогда не был против «стальношлемовцев», старых фронтовиков. Ведь это ветераны кайзеровской армии, к которой некогда принадлежал он сам.
Да, а потом еще фюрер… Ольга об этом и говорить больше не хотела. Правда, он заметил, что она колеблется между мнениями зятя и фарштейгера. Хотя сама была членом Женского союза.
Вот и разберись тут. Бинерт остановился.
А это что такое? Ах да, сосед готовится к выборам. Что же он прикрепляет к стене?
Последние несколько метров до дверей своего дома Бинерт шел чуть ли не спиной вперед, чтобы не видеть Брозовского и большой портрет Тельмана.
Отто, заметив это, усмехнулся. «Как был дураком, так и остался», — подумал он и покачал головой.
— Рабочие голосуют за Тельмана, правда, отец? — громко крикнул Вальтер.
Ольга встретила мужа причитаниями.
— Что случилось? Неужели тебе дали бюллетень?
— Да. Глупая история. — Бинерт еле ворочал языком, во рту все распухло.
Она приготовила отвар из ромашки для полосканья и компрессов.
— Только бы ты не слег, этого нам как раз не хватало. Счета ведь не оплачены, а тут еще радиоприемник навязала себе на шею.
Он опустился на ящик с углем.
— Нет, иди сюда, ложись. — Ольга взбила подушки на диване.
Бинерт удивленно посмотрел на жену. Что это с ней стало?
— Ложись, ложись, тебе надо беречься. — Ольга испугалась, увидев, как он ослабел.
— Я лучше лягу в постель. — Бинерт пошатнулся.
Ольга побледнела и схватилась за грудь. Впервые за последние десять лет их тридцатилетней супружеской жизни она испытывала сейчас к мужу вместо привычного пренебрежения какое-то иное чувство. Она вошла в спальню и присела на край кровати. Ольга вдруг осознала собственную низость. Это мучительное чувство длилось несколько мгновений, она попыталась подавить его, но безуспешно. Как я с ним обращалась! Какие только гадости не говорила ему! Что заставляло меня это делать? Тщеславие, тряпки, зависть к живущим лучше нас? Услышав слова мужа, она очнулась.
— Ну, радиоприемник мне тоже хотелось приобрести, так что это не только твоя покупка. Интересно ведь послушать речи, концерты.
Ольга обрадовалась, что он заговорил. Она сделала компресс из отвара ромашки и положила ему на щеки. Постепенно к ней возвращалось внутреннее равновесие.
— Ничего, как-нибудь обойдемся, — сказала она.
— Я тоже так думаю.
— Все-таки раньше нам жилось спокойней.
— Когда раньше?
Она промолчала. В самом деле, когда это было? Когда они поженились и родились дети и у них не было кроваток? Она отогнала мрачные мысли и вспомнила шахтерские праздники и то, как за ней ухаживали штейгеры.
— Сегодня в двенадцать выступает фюрер, речь обещали передавать по радио, — сказала она, чтобы сменить тему. — Если по радио не будут, то прочтем в газете.
— За кого же нам голосовать?
— Курт сказал: только за Адольфа Гитлера!
— А фарштейгер?
— Тоже. Но сам он за Дюстерберга.
— А как быть с Гинденбургом?
— Курт сказал, что он ставленник плутократов.
— Я хочу знать, что ты думаешь.
— Я смотрю, как выгоднее. Курт говорит, что нацисты придут к власти. Так или иначе. Значит, и для нас лучше, если мы будем за них. — В ее голосе зазвучали знакомые резкие нотки, как всегда, когда она разговаривала с мужем.
Бинерт отвернулся к стене.
— Я вконец запутался. Люди с ума посходили. Тот, — он показал пальцем через плечо, намекая на Брозовского, — голосует за транспортного рабочего.
— Какое нам до него дело? А Гинденбург для нас больше не годится. Он стар.
— Мы тоже не молоды.
— Только не разговаривай так с Куртом. И особенно на шахте, слышишь? Если мальчик узнает… — Она приложила палец к губам и вышла из спальни.
Усевшись за стол, Ольга принялась подсчитывать долги. Оставалось еще уплатить семь взносов по тридцать пять марок. И, кроме того, три взноса за материал на пальто, о котором муж не знал.
Подперев голову ладонью и поджав губы, Ольга уставилась на лежавшие перед ней бумаги.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
По просьбе Брозовского Вольфрум пригласил к себе на квартиру своих старых товарищей по партии — Боде и Шунке.
Боде, осунувшийся, сидел на скамейке у печки и поеживался, будто в ознобе.
— Это… Это неправда, этого быть не может, — глухо проговорил он.
Шунке, попыхивая трубкой, пускал облака дыма. Он подошел к Брозовскому. Под его тяжелыми шагами заскрипели половицы.
— Иногда, Отто, мы тесно сближались с вами, например, во время забастовки. Но порой наши мнения сильно расходились. Вот ты сказал о едином фронте, что ж, может, это дело хорошее. Но то, что ты говоришь сейчас, — неслыханная клевета на наше руководство.
Брозовский спокойно выдержал его угрюмый взгляд и не спеша вынул из кармана газету.
— А это тебе знакомо? — Он протянул Шунке «Форвертс». — Орган твоего партийного руководства. Читай сам. Я поначалу тоже думал, что это невозможно, но здесь все написано. А ваша здешняя газета уже завтра перепечатает это воззвание.
Шунке остановился у стола как вкопанный. Нижняя губа его отвисла, и трубка чуть не вывалилась изо рта. Буквы запрыгали у него перед глазами. Он грузно опустился на стул.
— И ты собираешься голосовать за Гинденбурга? — спросил Брозовский.
Теперь в комнате было слышно только свистящее дыхание Шунке да приступ кашля, напавший на Боде. Когда Вольфрум заговорил, жена его вышла из комнаты.
— Я знаю вас, — обратился он к Шунке и Боде. — Знаю, что вы честные люди. До сих пор вам и в голову не могло прийти, что от вас потребуют такое. Но вот оно, черным по белому! — Он показал на газету, лежавшую перед Шунке. — Еще одно «меньшее зло». Это вершина позора! Тьфу!
Боде скрипнул зубами. В октябре восемнадцатого года, когда война была уже безнадежно проиграна, он очутился на Западном фронте в хаосе отступавших войск. Но фельдмаршал продолжал воевать, хотя знал, что проиграл окончательно. Бегство из одной линии окопов в другую, беспрерывное отступление днем и ночью фельдмаршал называл «организованным выводом войск на родину»… А теперь вожди социал-демократов — Герман Мюллер, Карл Зеверинг и Отто Вельс — требуют от него, Боде, чтобы он выбрал этого фельдмаршала президентом Германии!
— Нет! Не буду голосовать! Хватит! И будь что будет! — Он угрожающе выпрямился.
Поскольку в первом туре никто из кандидатов не получил решающего большинства, руководители СДПГ призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Гинденбурга. Они сняли кандидатуру Брауна с той же легкостью, с какой большая часть их отказалась от своих прежних убеждений.
В порыве гнева Шунке скомкал газету.
— Почему вы упрекаете меня? Что-нибудь изменилось оттого, что ты вышел из партии? — крикнул он Вольфруму. — Разве я виноват во всем?
— Дело не в упреках, — ответил ему Брозовский, — речь идет о жизни и смерти. «Кто голосует за Гитлера, тот голосует за войну!» — сказал Эрнст Тельман. А кто — за Гинденбурга, тот прокладывает дорогу нацистам.
— Это старо.
— Тем не менее приходится повторять.
— Тельман не получит большинства.
— Если рабочие объединятся, изменится многое.
— Если, если!.. — воскликнул Шунке. Он подумал о Лаубе и Барте. На партийном собрании социал-демократов и у рейхсбаннеровцев они переспорят всех, кто бы ни выступил против этого решения.
— Неужели ты допустишь, чтобы в рабочем городе Гербштедте победил Гинденбург? — сказал Вольфрум. — Вряд ли ваше самопожертвование зайдет так далеко. Ведь здешние социал-демократы еще не превратились в воинский союз.
Шунке нервно теребил свои волосы. Потом с надменным видом схватил шапку и, не простившись, ушел домой.
— Я выступлю сам, — сказал Боде. — Однажды они меня смешали с грязью и выгнали как собаку. На этот раз не выйдет!
Брозовский посоветовал ему не действовать в одиночку.
— Чтобы изменить политику, — сказал он, — ваше руководство должно пойти другим путем. И вы, рядовые члены партии, обязаны заставить их. В одиночку этого не сделаешь.
Боде устало покачал головой.
— В теперешнем положении уже ничего не изменишь. Рабочие в нашей партии пассивны, решать будут не они.
— Но на производстве, в профсоюзах…
— Никто и пальцем не шевельнет.
— Это не так. Рабочие хотят бороться. Но им надо выступить единым фронтом.
— Посмотрим.
После этого разговора Боде навестил Цонкеля.
— Что решено, то решено, — сказал Цонкель. — Или ты полагаешь, что там, в Берлине, выставляют себя на посмешище?
— Как это — решено? Что стоит в газете, вовсе еще не решено. А на посмешище мы сами выставляем себя перед всеми рабочими!
— На собрании ты еще кое-что узнаешь.
— С меня хватает этого.
— Вижу, тебя опять настропалили.
— У меня своя голова.
— Слыхали эту песенку.
— Мартин, неужто ты не видишь, куда мы идем?
— Мы твердо стоим на ногах!
— Голоса мы потеряли. А нацисты получили намного больше. Своей политикой мы сами толкаем людей к ним. Так дальше нельзя.
Цонкель разозлился.
— Мы главный оплот системы, не правда ли, мы цепные псы капитала? Ты хорошо усвоил набор лозунгов Брозовского.
Боде вспыхнул. «Спорить с ними бесполезно», — подумал он.
После того как он ушел, к Цонкелю ввалился Лаубе.
— Владелец ресторана «У ратуши» отказывается сдать нам зал для собрания, — заявил он. — Черт знает что!
— То есть как это отказывается? — возмутился бургомистр. — Мне самому пойти к нему, что ли?
— Говорит, что все заказы на помещение были сделаны предварительно. Извинялся, показывал книгу записи клиентов: «Стальной шлем», Союз фронтовиков, Женский национал-социалистский союз, штурмовые отряды… Я снял малый зал в «Гетштедтском дворе».
— Вполне сойдет, — сказал Цонкель с облегчением. — Да и незачем поднимать шум из-за помещения.
Народу на собрание пришло мало. Прибывший по приглашению Лаубе депутат рейхстага говорил о правовом положении президента в демократическом государстве, но оратора слушали невнимательно.
С заключительным словом выступил Лаубе. Он заявил, что всем, несомненно, ясна серьезность политической ситуации и что главная задача теперь — это превратить день выборов в день великой борьбы за демократию и республику; когда же он сказал, что считает дискуссию на сегодняшнем собрании излишней, в зале поднялся шум.
Слова попросил Боде.
— Только короче, — недовольно сказал Лаубе. — Ну о чем тебе говорить? Нам нельзя терять время.
— Я плохо себе представляю Гинденбурга в роли демократа, он держит республику за глотку…
Ему не дали договорить. За столом президиума все разом закричали.
Тогда Боде вышел вперед.
— Дайте мне договорить.
— Ты не говоришь, ты подстрекаешь! — крикнул Барт. — Мы тебя знаем.
— Я высказываю свое мнение.
— Это мнение тебе втемяшили другие!
— Ты всегда плясал под чужую дудку, а вот здесь, — Боде поднял зажатый в руке партийный билет, — целая жизнь!
— Кончай!
— Не задерживай!
— У нас есть более важные дела!
Клика Лаубе — Барта не давала ему говорить.
— С меня довольно! — задыхаясь от гнева, выкрикнул Боде, разорвал свой партийный билет и швырнул его на стол.
Лаубе холодно посмотрел на него.
— Мы за республику! — крикнул он, когда Боде и еще четверо покинули зал. — Свобода! — Он вскинул правую руку вверх и во все горло заорал боевой клич «Железного фронта».
— Не давайте запугать себя этим трусливым перебежчикам. Выполняйте ваш долг, — взывал депутат рейхстага. — Вместе с силами, поддерживающими государственный порядок, против врагов демократии! Все за наше великое дело!
«Кто же здесь перебежчик?» — спросил себя Шунке. Он сидел, словно пригвожденный, и смотрел вслед уходившему Боде.
Когда «Железный фронт» призвал гербштедтских социал-демократов выйти на демонстрацию в поддержку Гинденбурга, Шунке остался дома. Озлобленный, он даже не смотрел в окна. Не так уж много народу собралось на этот раз под флагом с тремя стрелами. Вместе с «железными» шли немецкие националы и Союз фронтовиков. Во главе колонны «Стального шлема» вышагивал разжиревший фарштейгер. Шествие завершали социал-демократы; Цонкель, Лаубе и Тень шли в первом ряду. Тень сгибался под тяжестью рейхсбаннеровского знамени, украшенного тяжелыми кистями. Боде швырнул его у калитки под ноги новому знаменосцу.
Цонкель опустил голову, увидев Боде среди большой группы безработных, стоявших с поднятыми кулаками у тротуара.
Безработные кричали:
— Долой Гинденбурга!
— Рабочие, голосуйте за Тельмана!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Выступление социал-демократов на стороне Гугенберга, одного из крупповских директоров, босса кинофирмы «Уфа», скупщика прессы и главы «Гарцбургского фронта» — сборища всевозможных антиреспубликанцев, — оказалось невыгодным республике.
Первое, что сделал после своего переизбрания Гинденбург, — он же герой Танненберга, как угодливо величали победителя президентских выборов его оруженосцы, — это отправил Брюнинга (да, да, того самого господина Брюнинга) и весь рейхстаг по домам и назначил канцлером фон Папена. А берейтор Франц фон Папен, в свою очередь, одолжив у генерала фон Шлейхера лейтенанта с тремя солдатами, послал их к господам Брауну и Зеверингу. Канцлер выгнал этих министров вместе с прусским правительством за то, что они постарались — с помощью голосов рабочих, членов социал-демократической партии, — избрать восьмидесятилетнего старца, доживавшего свои дни в подаренном ему верноподданными поместье Нойдеке… И господа зеверинги, брауны и другие уступили.
Избрали новый рейхстаг.
Барабанщик мюнхенской коричневой шайки летал на самолете из одного города в другой и своими бредовыми речами разжигал самые темные страсти. На вилле «Хюгель» стальные и угольные короли доверительно похлопывали его по обвислым ефрейторским плечам и вкладывали обещанные миллионы в национал-социалистское дело.
Это было выгодно их республике.
Паладины новоиспеченного фюрера вербовали, покупали и жаловали всякого, кто протягивал им длань и брал задаток. По улицам маршировали колонны коричневорубашечников. На остановившихся заводах — а их было предостаточно, — в поместьях, гранд-отелях, в пивных погребках для них устраивали казармы. Деньги? Их хватало. Деньги давали те, которые ими владели. Но господа, встречавшиеся на вилле «Хюгель» и вызывавшие к себе барабанщика, предъявляли большие требования. Им хотелось устроить чистку в масштабе страны.
Буби фон Альвенслебен уже успел приобрести второй «хорьх». Он маршировал со всей бандой по деревням, получал «сдачи» и… опять приезжал туда на грузовиках, принадлежавших Мансфельдскому акционерному обществу.
На всех перекрестках раздавались свистки нацистов.
Берейтор Франц фон Папен взял прусский барьер. Прусский ландтаг был переизбран. Волчок закружился быстрее. Столь дисциплинированная прежде ячейка Цонкеля превратилась в поле битвы.
Берлинские транспортники остановили в столице все средства передвижения — забастовка. В Рурской области, в Саксонии, в Южной Германии — забастовка. Гамбургскую надземку, суда на Везере, доки — все охватила забастовка!
На улицах теперь уже не только свистели, но и стреляли. Во всей Германии были убитые, много убитых. Налеты, покушения, стычки… Папен, продержавшись всего лишь несколько недель, сдался. Канцлером стал генерал фон Шлейхер, генералы рейхсвера взяли власть в свои руки. Рейхстаг был снова распущен. Наступил ноябрь, год тысяча девятьсот тридцать второй подходил к концу. Апокалиптическая скачка начала превращаться в какой-то дьявольский танец.
Рабочие мужественно сопротивлялись произволу. Они были единственной силой, способной остановить роковой ход событий.
На Вицтумской шахте в бой вступил Шунке. Одним взмахом руки он смел Лаубе с трибуны собрания рабочего коллектива.
— Даешь единый фронт! Долой «меньшее зло», которое стало отныне нашим самым большим злом!
Длинные серые колонны рабочих с песнями шли по городу. Юле Гаммер нес знамя. В первом ряду вместе с Брозовский, Вольфрумом и Боде шагал Шунке.
Пауль Дитрих и Эльфрида Винклер запели песню. Все подхватили ее. Эльфрида счастливыми глазами смотрела на Пауля.
Видишь — отряды по улицам гулким
Гордо и грозно печатают шаг.
Лица нахмурены, взгляды суровы,
Руки упрямые сжаты в кулак.
Нет ни погон, ни мундиров, ни касок —
Люди в рабочих спецовках идут.
Гордо и грозно рабочие сотни
Молот и серп на знаменах несут
[5].
В новый рейхстаг рабочие послали на этот раз целую сотню своих депутатов. Барабанный бой и свист нацистов не произвел ожидаемого впечатления, раздутый нацистский колосс потерял на ноябрьских выборах миллион своих бывших сторонников, которые с брезгливостью отвернулись от бесчинствующих разбойников и ландскнехтов. Только Гинденбург, которого Браун и Зеверинг подсунули в качестве добротного товара рядовым социал-демократам, спас коричневого барабанщика.
Генералу Шлейхеру пришлось освободить канцлерское кресло. Все вооруженные силы республики были приведены в боевую готовность и отданы в распоряжение Гитлера. Вдоль границ Германии словно пролегла «запретная зона»; на территории, ограниченной этой зоной, разрешалось стрелять из всех видов оружия. Воцарилась мертвая тишина.
Долгая ночь «длинных ножей» началась факельным шествием мракобесов у Бранденбургских ворот. Их черное ремесло не выносило дневного света.
В Гербштедте долгая ночь наступила лишь через сутки. Минна Брозовская даже дважды выглядывала в окно, не веря собственным глазам. Так оно и есть: Ольга Бинерт выталкивала своего мужа в дверь, — наверное, он колебался. Бинерт, в новехонькой форме штурмовика и коричневых сапогах, не знал, куда девать руки; наконец он заложил левую руку за ремень, как это видел на портретах в кабинете начальника штурмового отряда. Робко озираясь, он неуверенно зашагал по улице; высокие жесткие голенища поддерживали его, было заметно, что он нуждается в твердой опоре.
Вальтер смотрел ему вслед, насвистывая мотив насмешливой песенки. Минна позвала сына в дом.
— Мам, ты видела штурмовика Бинерта? Похоже, что у него зубы разболелись. Подумать только, — этот тип, да еще в форме штурмовика… — Рассмеявшись, мальчик помчался во двор, чтобы сообщить новость отцу.
Брозовский задумчиво покачал головой и погладил вихрастую макушку сына. Если уж Бинерт отважился, не таясь, выйти на улицу, значит, что-то произошло. Но что? Он вогнал топор в колоду, возле которой лежали связанные пучки хвороста для растопки котла, и направился в кухню. Газет еще не было — рано. «Радиоприемник бы!»
— Видно, этому кто-то задал перцу, иначе не могу объяснить, — сказала Минна. Смешная фигура Бинерта все еще стояла у нее перед глазами. — Кстати, ему ведь сегодня в утреннюю смену. Странно, что она не пустила его на работу. При ее-то жадности…
— Надо бы узнать… — Встревоженный Брозовский направился к двери, но не успел ее открыть, как в комнату вбежала Гедвига.
— Гитлер — рейхсканцлер! Мы слышали по радио. Юле зайдет позже. Они сейчас у Вольфрума. На рынке такой шум поднялся. Будьте начеку.
Она выпалила все это без остановки и ушла.
Брозовский даже скрипнул зубами. Теперь будет еще тяжелее. Партия уже предупредила коммунистов, велела им перейти на нелегальное положение, призвала повысить бдительность.
— У тебя что-нибудь еще запрятано дома? — спросила Минна мужа. Она сохраняла полное спокойствие, хотя видела, что он взволнован.
— Нет, ничего… — Его взгляд, обежав комнату, остановился на нише между дымоходом и шкафом. — Подожди, а знамя?
Минна вытащила из ниши знамя в клеенчатом чехле. Куда его девать?
— Следует ждать обысков, — сказал Брозовский. — Знамя надо спрятать в надежном месте. Посоветуюсь с товарищами. Сегодня же. В руки нацистов оно не должно попасть. — Он посмотрел на жену. У нее лишь чуть вздрогнули веки, когда она услышала его строгий голос.
— Как ты думаешь, что теперь будет? — спросила она. Он пожал плечами.
— Трудно сказать. Легко не будет. Раз у них власть, значит, будут зверствовать и убивать…
* * *
День едва занялся, а секретарь магистрата Фейгель и толстый Меллендорф уже водрузили на здании ратуши флаг со свастикой. Пролезая между чердачными балками, полицейский пыхтел, словно разжиревший племенной боров, и перепачкал свой парадный китель.
Цонкель, понурив голову, сидел в канцелярии и едва дышал, ошеломленный обрушившимися событиями. Меллендорф не хотел впускать его в ратушу.
— Ваша бургомистерская песенка спета, — съязвил он. — Теперь мы поставим другую пластинку.
Фейгель запретил Цонкелю исполнять служебные обязанности. Пока еще неизвестно, какие поступят указания. Но скоро все прояснится, господин фон Альвенслебен как раз собирается занять пост окружного начальника в Эйслебене.
Окружного начальника?
Цонкель сразу не разобрался, что сегодня в поведении Фейгеля бросилось ему в глаза: дерзость, заносчивость или надменность. Лишь позже он сообразил: да ведь секретарь городского совета был в коричневой форме!
В коридоре с шумом хлопали двери, топали сапоги: штурмовики осуществляли захват власти. Все происходило словно в кинофильме, с той лишь разницей, что у главных действующих лиц не было противников.
Цонкель остался один. Никто не интересовался бургомистром, никто не искал его, никто не спрашивал, никому он не был нужен.
Рядом, в кабинете Фейгеля, на окне установили громкоговоритель. В морозном воздухе грохотали марши, песни, нескончаемые крики «хайль» и отрывистый хриплый голос…
По рыночной площади, развернув штандарты со свастикой, шел отряд вооруженных винтовками штурмовиков и эсэсовцев в черных мундирах с автоматами. Их было не больше сорока. По дороге к ним присоединилось еще несколько человек.
Гербштедтцев почти не было видно на улицах. Возле биржи труда топтались несколько безработных. Явившийся на биржу Фейгель запер все двери.
— Сегодня праздник. Присоединяйтесь к демонстрации.
Безработные молча выслушали его и один за другим разошлись.
Над площадью звучали отрывистые лающие фразы — какой-то штурмфюрер произносил речь. «Германия, очнись! — горланил он. — Новые времена! Долой процентную кабалу! Сегодня мы взяли Германию, а завтра — весь мир будет наш…»
В погребке «У ратуши» звенели стаканы. Несмотря на холод, с самого утра здесь было полно народу, и трактирщик еле успевал разносить пиво.
Священник встретил посланную к нему депутацию на ступеньках своего дома. Звонить в колокола он отказался.
— Всемогущий господь установил праздничные дни по собственному усмотрению. Сегодня нет никакого христианского праздника…
Долговязый наглец в коричневой рубашке обругал священника, а приятель Бинерта Рихтер толкнул закрытую лишь на задвижку дверь колокольни и потянул за веревку. Заглушая слова священника, раздался удар большого колокола, прозвучавший во здравие еще одного канцлера, который только что завершил путь от Кайзерхофа до имперской канцелярии.
Нацисты продолжали свое шествие, кричали «хайль» и горланили песни.
Вслед за коричневыми и черными гитлеровцами шли группы «Гарцбургского фронта», пестрая смесь воинских союзов — стрелков, пехотинцев, саперов, ветеранов, — кто по два, а кто по четыре человека в ряду. С флагами, лентами, орденами и нарукавными повязками со свастикой. Во главе «штальгельмовцев» шагал фарштейгер Бартель в мундире «Стального шлема».
Из-за своей медлительности он все-таки прозевал момент и не примкнул вовремя к нацистам. Политика дирекции была настолько туманной, что он не сумел правильно сориентироваться. Он полагал, что с нацистами покончено после того, как в ноябре им пришлось откатиться и генерал Шлейхер «взял вожжи» в свои руки. Вот это характер! И вдруг такой сюрприз…
Хотя фарштейгер поспел только на второе сборище, он кричал «хайль» громче остальных, воодушевленнее. Старик Кегель в декабре ушел наконец на пенсию, стало быть, зевать теперь никак нельзя.
Остатки поредевшей кучки «штальгельмовцев», маршировавших сейчас вслед за Бартелем, были не очень-то представительны. Бартель сознавал это и старался еще более молодцевато и торжественно, чем обычно, печатать шаг. «Вот мучение-то, — думал он. — Терпи, авось зачтется». Гетштедтская улица шла круто на подъем.
Вдоль улицы приветствовали демонстрантов женщины. Ольга Бинерт махала флажком; рядом с ее откормленной пышногрудой фигурой жена фарштейгера выглядела усохшей монашенкой.
Бартель глядел прямо перед собой. «Стерва, ведь не пришла ко мне», — подумал он об Ольге. Он так рассчитывал на это. Штурмфюрер был моложе…
Из первых рядов колонны раздавались выкрики:
— Долой еврейскую кабалу! Долой! Германия, проснись!
Во главе гербштедтских штурмовиков шагал со знаменем сын зерноторговца Хондорфа.
Возле больницы, перед домом Брозовских, они загорланили еще сильнее. Громче всех кричал Рихтер, тесть Хондорфа, он выбежал из строя и пнул сапогом в дверь. Только Бинерт немного стушевался, даже сбился с шага.
— Долой коммунистов! На виселицу их!
Из чердачного окошка дома Бинерта на длинном флагштоке свисало, доставая почти до земли, огромное полотнище с белым кругом и черной свастикой. На других домах вдоль улицы лишь кое-где виднелись фашистские знамена.
После того как удары в дверь прекратились, Брозовский облегченно вздохнул, положил топор в угол и выпустил плачущего Вальтера из кухни в переднюю.
Руки Минны дрожали, когда она ставила кастрюлю с кипятком обратно на плиту. Не найдя пакетика с цикорием, она принялась искать его в кухонном шкафу, куда сроду и не убирала.
— Да ты всегда кладешь его в коричневую кастрюлю, вот же он, ха-ха-ха! — рассмеялся Вальтер, торжествуя, что мать растерялась среди ею самой установленного порядка. — К тому же никто не жаждет кофе. Или, может, ты, отец?
Брозовский посмотрел на жену. Она опустила глаза.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Поздним вечером, сидя за швейной машинкой, Минна шила из двух новых камчатных скатертей большой чехол. С полуоткрытым ртом, чуть склонив набок голову — так лучше видно, — она следила за тем, чтобы толстая складка материи равномерно ложилась под иглу и шов получался бы ровный. Работать аккуратно — было для нее насущной потребностью, она ничего не делала наполовину, тем более при шитье чехла.
Старший сын помогал ей, держа за концы сложенные скатерти, чтобы не получилось нечаянной складочки; он не сводил глаз со строчащей иголки и осторожно, миллиметр за миллиметром, тянул из-под лапки полотно. Работа была почти окончена. Из еще не зашитой стороны свесилась золотая бахрома. Мать заправила ее обратно, прострочила оставшуюся сторону, и две белые скатерти надежно укрыли знамя.
На улице под окнами послышались шаги. Минна прекратила шить. В комнате все стихло. Остановились или ушли?
Нет, пошли дальше.
— У страха глаза велики, — проворчал Отто.
Мать кивнула сыну. Продолжаем! Она нажала ногой на педаль и шумно выдохнула. «Осторожность — далеко не страх», — подумала она.
Брозовский отошел от окна. Напряженное выражение его лица понемногу смягчилось. Швейная машина равномерно застрекотала.
Он смотрел, как медленно разматывалась катушка.
— Готово. — Минна обрезала нитку. Короткие хвостики в конце шва она откусила.
Убрав со стола небольшую вазу, Брозовский сложил покрывавшую стол пеструю скатерть и повесил ее на спинку стула.
Отто одним взмахом набросил на стол только что сшитые скатерти и одернул уголки. Ну вот, все на месте. Правда, еще немного пахло нафталином. Он понюхал и решил, что запах скоро выветрится.
— Что ж, во всем есть своя положительная сторона. Вот и подарок к серебряной свадьбе подышит наконец свежим воздухом, — пошутил отец, чуть улыбнувшись. — Годами скатерти лежали в комоде, и мать ни за что не хотела вытаскивать это сокровище. Наверное, решила сохранить их новехонькими до золотой…
Сын молчал, хотя видел, что отец ждет от него ответа. Эта едва заметная улыбка и добродушное подшучивание резко контрастировали с горестной складкой у рта. Отто хорошо знал: отец шутит потому, что ему как-то надо выговориться.
Взяв с лежанки чехол от знамени, Отто сунул его под мышку, прихватил обе половинки разъемного древка и отправился в кухню. Когда оттуда донесся глухой треск, родители только молча переглянулись.
Отто разломал древко. Несколько мгновений он подержал на ладони металлический наконечник, сделанный в виде сжатого кулака, и топором смял его в бесформенный комок. Потом поднес спичку, и клеенчатый чехол мгновенно воспламенился под медным котлом, словно магний. Потрескивая, загорелись щепки, языки огня побежали по древку, жадно слизывая вздувшиеся пузырьки черного лака, и через секунду-другую все запылало.
Юноша проглотил подступивший к горлу комок. Уставившись на пламя, он дал волю своим чувствам. Хорошо, что родители не видят его сейчас. Он плакал не от горя; стыд и гнев были причиной слез. В этом самом котле мать варила консервы, присланные из Кривого Рога, а он?
С окаменелым лицом Отто вернулся в комнату и, не взглянув на родителей, сел в углу, подперев голову руками.
— Что ж, пока это так, — сказал он минуту спустя, чтобы прервать тягостное молчание. — Поживем — увидим. Не так страшен черт, как его малюют.
Минна сначала услышала какой-то слабый звук за окном, будто царапали по стеклу. Она предостерегающе подняла руку и, наклонившись, вся превратилась в слух. В окно осторожно постучали. Брозовский с сыном переглянулись. Широкоплечий сильный юноша тихо вышел в коридор, на цыпочках подошел к входной двери и прислушался.
— Отворите, это я, — прошептали за дверью.
Отто узнал голос. Что случилось? Он чуть приоткрыл дверь и сквозь узкую щель увидел фигуру человека, который так плотно прижался к филенке, что его силуэт почти сливался с нею в темноте.
Он впустил Рюдигера.
— Я на минутку, — сказал тот, сунув посиневшие на морозе руки под мышки. — Собачий холод… Ну вот, охота на нас началась. Я едва успел удрать. В Гетштедте идут аресты. Даже не успел надеть пальто. Выпрыгнул во двор через окно — они уже вошли в дом. А ты готов, Отто? Пока пробирался к вам, целый час прятался за больницей. Кажется, за вашим домом тоже наблюдают. Но мне надо было с тобой непременно поговорить. Оставаться у вас мне нельзя. Конспиративные квартиры подготовлены… — Он умолк, словно спохватившись, что сказал лишнее.
— Мы готовы ко всему, — медленно ответил Брозовский.
— Ко всему? — Рюдигер обвел взглядом комнату. — Мне кажется, в Гербштедте дела особенно плохи. Место ненадежное.
Минна тяжело двигалась по комнате. Делая вид, будто не слышала того, что сказал Рюдигер, она пододвинула ему стул к печке.
— Садись-ка прежде всего.
Ее ладони невольно погладили белоснежную скатерть. Она не бросалась в глаза и лежала на столе так, будто всегда была здесь. Минна подвинула швейную машину на место и убрала катушки в ящик.
Рюдигер и Брозовский, наклонившись друг к другу, разговаривали приглушенными голосами.
Среди рабочих брожение. Доменщики на заводе Круга отказались выпустить из печи чугун и прекратили работу. Служащие заводоуправления в последнюю минуту спасли печь: сами выпустили чугун.
Раздевалки душевых превращались во время пересмены в залы для собраний. На рудничных дворах горняки сидели, не приступая к работе и не обращая внимания на окрики штейгеров.
«Что делать?» — спрашивали рабочие.
Они ждали призыва, сигнала.
Покончить с коричневой заразой! Всеобщая забастовка. В двадцать четыре часа все будет решено. Однажды мы это уже доказали — во время капповского путча. Создайте единое руководство, объединитесь наверху, а мы едины…
О сложившемся положении только и скажешь: момент назрел! Придется кое-чем поступиться, чтобы склонить руководство СДПГ и профсоюзов к совместным действиям. Опасность, грозящая рабочему классу, слишком велика. Конечно, сегодня мы можем разбить фашистов одни, если же рабочие будут сплочены, то сможем всегда! Все зависит от того, насколько социал-демократы понимают опасность.
Рюдигер рассказал, что к нему домой приходили несколько заводских рабочих — доверенные представители социал-демократических комитетов — и спрашивали совета. Они готовы действовать.
— И у нас рядовые члены СДПГ тоже готовы, — сказал Брозовский. — На одном собрании они потребовали у окружного начальника, чтобы «рейхсбаннеровцам» выдали оружие. Так Лаубе отказался передать это требование по инстанции в Эйслебен.
Отто-младший время от времени приоткрывал дверь на улицу и вслушивался в темноту. Кроме пьяных криков, доносившихся из города, ничего не было слышно. На всякий случай он приставил лестницу к задней ограде во дворе.
— В погребке «У ратуши» торжественно обмывают победу, — сообщил Отто. — Видимо, кандидат в бургомистры Фейгель раскошелился на несколько марок… Слышно, как шумят на площади. — Отто рассмеялся, сверкнув отличными зубами.
Брозовский потер подбородок и поставил маленькую вазу, которую все это время вертел в руках, на середину стола.
— В таком состоянии они на все способны. Спирт придает им храбрости. А в ней фашисты здесь нуждаются. До сих пор они еще одиноки, население их не поддерживает.
Сын не разделял опасений отца.
— Храбрость, у них? Даже в пьяном виде не бывает. Тем более без иногороднего подкрепления. А подкрепление ушло, его перебрасывают то туда, то сюда… Когда они пьяны, их вообще нечего бояться, в лучшем случае они дерутся из-за баб. Эти субчики валяются сейчас на улицах и только глотки надрывают.
— От них можно ожидать всяких сюрпризов. Они вооружены и чувствуют себя сильными. Ладно, давайте решать, как договориться с Цонкелем и Лаубе.
Надо встретиться с ними, и возможно быстрее, подумал Рюдигер. Потом он вспомнил о жене. Чем закончился налет на его квартиру? Он знал: Лора не трусиха, но она прихварывала, а бандиты беспощадны.
— Я извещу Юле, — сказал Отто-младший. — Он живет по соседству с Шунке, а с тем можно говорить. Ведь это Шунке рассказал Юле, что «рейхсбаннеровцы» требуют винтовок. Барт предложил исключить его, но Лаубе не рискнул на это пойти. У Шунке много сторонников в их партии. Может, вы у него дома и встретитесь? Там никто и подозревать не будет. — Отто поискал шапку. — Выйду с черного хода, через забор…
— Сиди. Сегодня уже поздно, — не очень настойчиво пытался отговорить его отец. Отто понимал, что это делается ради матери.
— Чего это вы разыгрываете передо мной комедию? — резко спросила сидевшая у печки Минна.
— Ну, ну, ну, — примирительно проворчал Брозовский. Он и сам подумал о Шунке. Ведь это от Шунке им стали известны подробности последних событий в ратуше.
— Брось ты свое «ну»!.. Неужели вы думаете, что к вам прибежит
Цонкель, а тем более Лаубе? Они не придут ни сегодня, ни завтра. Начинать надо снизу. Это уже доказано.
Взгляд Минны задержался на обоях. Наверху отстал бордюр, надо подклеить. Подклеить, склеить… Ее мысли вернулись к разговору. Ну что они надумали: хотят склеить то, что разбито вдребезги. Этого не склеишь. Новые прочные вещи выходят только из-под кузнечного молота, спаянные и скованные в пекле горна.
Рюдигер внимательно посмотрел на Минну. Вид у нее был такой простой, даже слишком простой. Представляла ли она себе ясно дальнейшее или только догадывалась, что теперешние события означают нечто большее, чем обычный эпизод борьбы за существование?
— Это верно, — сказал он. — Единство надо создавать снизу. Задача не такая уж трудная, практически она решена. Рабочие за борьбу. Однако по собственному опыту мы знаем, что́ может произойти в результате измены, когда борьба начнется. Мы должны убедить их руководство в том, что нам следует держаться вместе. И пусть они скажут всю правду членам своей партии. Мы же должны уяснить себе одно: если руководство социал-демократов разрушит возникающее в низах единство, мы не добьемся победы.
— Я вас не понимаю. На что вы надеетесь? Ведь все это одни пожелания. Они не хотят ни бороться, ни побеждать… Нет, вы их до сих пор не раскусили.
Минна решительно отмахнулась от всех возражений.
— Фашизм действует им на нервы, — сказал Брозовский.
— Нервы… Одно за другим, уступили все, что имели. Они отдадут и последнее — лишь бы их оставили в живых.
* * *
Предсказания Минны сбылись не полностью. Шунке, правда, досадовал потом, что обратился к Барту, ибо тот нарушил данное им обещание и увильнул. Барт позвонил в эйслебенский комитет СДПГ и попросил указаний. Взбешенный секретарь комитета первым делом осведомился, не слышал ли Барт подозрительного щелканья в телефонной трубке и в своем ли они, гербштедтцы, уме. Он категорически запретил всякие сепаратные переговоры с коммунистами. Довольно! Никакой азартной игры, никаких действий.
Барт настоятельно убеждал Цонкеля и Лаубе не ходить на переговоры. Однако они пошли.
Рюдигер, Вольфрум, Юле Гаммер и Брозовский уже собрались, когда одновременно появились Цонкель и Лаубе, хотя было условлено приходить поодиночке. Цонкель сдержанно поздоровался с каждым за руку, а Лаубе ограничился небрежным кивком и тут же уселся в угол дивана.
Разговор начался непонятной для инициаторов совещания прелюдией. Цонкель заявил, что, поскольку данная встреча состоялась в квартире Шунке, так сказать, на нейтральной полосе, то он констатирует следующее: противная сторона официально представлена четырьмя делегатами, они же с Лаубе явились сюда — он подчеркивает это с самого начала — как частные лица.
— У нас нет партийного поручения. Мы пришли послушать вас исключительно из личного интереса.
Вольфрум довольно внятно проворчал, что «противная сторона» находится не здесь, а в другом месте; они же должны совместно представлять одну «сторону» — рабочую. Шунке сказал, что ни о какой «нейтральности» его не может быть и речи; он по-прежнему социал-демократ и партийный в высшей степени, это ясно как день.
— Я бы не сказал, что это было так уж ясно в последнее время, — раздраженно бросил Лаубе. — Так, как ты себя вел…
— Я вел себя как рабочий, — громко ответил Шунке.
— Пожалуйста, оставьте это, — вмешался Цонкель. — Или вам хочется копаться в грязном белье?
Он был сильно простужен и охрип. Вытирая то и дело платком распухший от насморка нос, Цонкель добавил, что нет смысла мешать все в одну кучу.
В каркасном здании с тонкими стенами было слышно все, что происходило в соседних квартирах. С первого этажа из радиоприемника доносилась маршевая музыка. Шунке сказал, что он специально попросил нижнего соседа — вполне надежного человека — включить радио погромче. Немного маскировки для посторонних ушей не повредит. В эту минуту из приемника раздались громовые звуки «Баденвейлеровского марша».
Рюдигер начал было краткий обзор последних событий. Лаубе тут же прервал его, заявив, что сам читал газеты и слушал радио. Можно обойтись без вступления, так как времени у него в обрез. Пусть Рюдигер скажет сразу, что они хотят от него с Цонкелем.
— Можно в нескольких словах? Мы хотим обсудить с вами, каким образом можно быстрее всего создать сплоченный боевой фронт всех рабочих и антифашистов для свержения гитлеровского правительства. Какими средствами мы сможем сломить открытый террор нацистских банд, направленный против всех рабочих. Хотим установить, какими силами мы располагаем, как ввести их в действие и готовы ли вы начать борьбу вместе с нами. Терять время нельзя.
Рюдигер произнес все это, сохраняя полное спокойствие.
Минут пять царила тишина. Цонкель спрятал лицо за носовым платком, а Лаубе уставился на сцепленные руки. Он сидел, закинув ногу на ногу и опустив глаза. И зачем он сюда пошел? Ведь было ясно с самого начала, он должен был знать это, да и знал: коммунисты хотят совершить путч. Заварить свою кашу. Было бы удивительно, если бы они не намеревались это сделать. Уж он-то их знает. Вот Барт поступил умнее.
Молчание стало невыносимым. Юле Гаммер беспокойно заерзал на стуле, потеряв всякое терпение. Брозовский заметил это и положил руку ему на колено. Внизу из репродуктора рвался чей-то крикливый голос. Судя по всему, то был Геббельс, новый министр пропаганды. Вероятно, шла трансляция из берлинского «Шпортпаласта»…
— Я думаю, что надо сначала определить, — сказал Вольфрум, — придерживаемся ли мы единого мнения о нацистском правительстве. То, что сейчас происходит, касается нас всех.
Цонкель убрал носовой платок. Смотри-ка, он сунул его в нагрудный карман, подумал Юле Гаммер, а не в штаны, как это делал раньше. Быстро обучился хорошим манерам господин Мартин. Потеряв терпение, Юле грубо спросил:
— Будет у нас мужской разговор или нет?
— Неужели вы всерьез думаете, что, сидя в Гербштедте, можно делать большую политику? Такие вопросы решают в Берлине, а не в провинции, — ответил Цонкель.
— Дело не в провинции — террор здесь точно такой же, как и там. Но допустим, что в Берлине уже не могут больше принять нужных решений. Значит, нам тогда и не дышать, что ли? — Рюдигер вопросительно посмотрел на Цонкеля.
— Что значит террор?.. До сих пор ничего еще не случилось такого, что давало бы основание делать подобный вывод.
— Ошибаешься. Сегодня полиция вместе со штурмовиками и эсэсовцами совершила первые налеты, в последние дни аресты следуют один за другим. Геринг со своей бандой ворвался в здание ЦК компартии, нашу прессу запретили, наши депутаты не могут пользоваться своими мандатами, нашу партию загоняют в подполье… Будем выжидать, пока очередь дойдет и до вашей партии? Официальные запреты не заставят себя ждать. А тем временем нацисты разделаются с вами.
— С нами? Интересно! Я еще ничего не слышал о том, что ты говоришь. «Классенкампф» мне доставили сегодня, как обычно.
Цонкель безуспешно пытался вспомнить, кто ему принес газету и какой это был номер — сегодняшний или вчерашний. В ратуше творилось что-то странное. Кроме уборщицы и страдающего астмой курьера, он никого там не встретил. Секретарь магистрата засел в своем кабинете и действовал совершенно независимо, однако не забывал переправлять ему, Цонкелю, с курьером указы и циркуляры прусского премьер-министра и министра внутренних дел Геринга, число которых множилось с каждым днем.
Лаубе прищелкивал пальцами, делая вид, что его одолевает скука. Интересно, с чего это они вдруг взялись защищать свою легальность, а ведь прежде о принципе легальности и знать ничего не хотели? И социал-демократы, видите ли, должны еще поддерживать их.
— Ясно одно: нацисты укрепляют свои позиции, — ответил Рюдигер. — Отрядам СС и штурмовикам выдано оружие из арсеналов рейхсвера и полиции. «Стальной шлем» и другие союзы скомплектовали группы вспомогательной полиции, их также снабдили винтовками. Вот вам и армия для гражданской войны. Из состава берлинской полиции, рядовых и офицеров, Геринг отобрал людей и формирует собственный полицейский полк. В прусской полиции нацистов полным-полно…
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Лаубе вызывающим топом.
— Ничего. Просто цитирую то, что вычитал в сегодняшней «Фольксблатт».
— Нет никакого смысла торчать здесь.
— Будешь ждать, когда тебя схватят за горло?
— Меня?.. Чепуха!
— Товарищ Лаубе, выслушай меня спокойно и терпеливо, — начал Брозовский, которому стало не по себе от словесной перепалки. Они действительно не сознают всей серьезности положения. Либо они в самом деле ничего не подозревают, либо не хотят понять. — Фашисты перешли в наступление. Они основательно подготовились. Сначала они запретят нашу партию. Рюдигер уже говорил, практически нас…
— Да бросьте эти пышные надгробные речи. Вы словно на собственных похоронах выступаете.
— Товарищ Лаубе, — невозмутимо продолжал Брозовский, — после того как нацисты запретят, арестуют и разгромят нашу партию, наступит черед СДПГ. Потом пойдут профсоюзы, буржуазные демократы… — Брозовский говорил быстро, словно опасаясь, что Лаубе его не выслушает.
Так оно и случилось.
— Ерунда! — перебил его Лаубе.
— Можешь прочитать об этом в книге Гитлера «Моя борьба».
— Оставь свои поучения.
— Есть примеры в истории, товарищ Лаубе. Вспомни Италию, Маттеотти! Тогда ты говорил…
— Избавьте меня наконец от ваших премудростей и ссылок на «тогда». Мы в Германии, а не в Италии.
— Будем продолжать в том же духе, товарищ Цонкель? — резким голосом спросил Брозовский бургомистра. — Вы не могли не заметить, что после тридцатого января действительно кое-что изменилось. Если мы не найдем общего языка, они разделаются с нами поодиночке, с каждым в свое время.
— У нас существует конституция. Ей присягал президент, такую же присягу обязан принести и рейхсканцлер.
— Он так и сделает, а потом тебя подошьют в архив. — Брозовский вытер пот со лба. Неужели они так наивны?
— Где ты живешь, Мартин? — Вольфрум поднялся, резко отодвинул стул. — Чего стоит конституция — видишь сам. Чтоб поговорить друг с другом, мы дожидаемся темноты и прячемся в таких вот комнатушках.
Напускное спокойствие слетело с Цонкеля.
— Чего же ты хочешь?.. Всеобщую забастовку? При семи миллионах безработных об этом и думать нечего. И вы хотите втянуть нас, не так ли? Нет, мы не пойдем на это. Правительство пришло к власти легально. Нет никаких законных оснований объявлять всеобщую забастовку против Гитлера. В законности и состоит, кстати, его отличие от капповского путча, вы, кажется, это имеете в виду, если я вас правильно понял. Надо дать нацистам возможность прогореть. Они долго не продержатся…
— А тем временем тебя повесят, — перебил его Брозовский. — И тебе будет трудно решить, законно это сделано или нет.
— Обычные ваши разглагольствования. Болтайте, болтайте. Сегодня имперский министр внутренних дел заявил представителям прессы, что правительство будет действовать вполне законно и в соответствии с конституцией.
— Так ведь это Фрик! — вспылил Вольфрум.
Лаубе вдруг повысил голос до пронзительного визга:
— Если коммунистическая партия сама не спровоцирует своего запрета, то ее не запретят.
Решающее слово было сказано. Социал-демократ Лаубе произнес его.
— Вы еще вспомните об этом, — медленно проговорил Брозовский.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Этой ночью Брозовский спал не у себя. Выполняя указание партийного руководства, он ночевал в одной из явочных квартир в Гюбице.
Товарищ, предоставивший ему убежище, работал дорожником на эйслебенской автостраде, а кроме того, вел собственное хозяйство — у него с женой было пять моргенов земли. Он хорошо подготовил квартиру и заверил своего тайного гостя, что тот может жить здесь хоть несколько месяцев. Еды на это время хватит, нуждаться он ни в чем не будет.
Хозяин провел Брозовского на чердак. Под стропилами висели четыре свежекопченых окорока.
— Полюбуйся-ка. — Он постучал пальцем по толстой свиной коже.
И в самом деле здесь можно было скрыться на долгое время. Чердак низенького дома был забит кипами прессованной соломы. Стоило отодвинуть несколько кип в сторону, и в стене открывался небольшой проем, который вел на чердак примыкающего к дому хлева. Оттуда проем тоже прикрывали кипы соломы. Внешне это выглядело так, словно брандмауэр, разделявший два чердака, был с обеих сторон обложен штабелями соломы. Да и куда еще складывать солому?
Пришлось изрядно потрудиться, чтобы сдвинуть кипы. За ними-то и находились апартаменты Брозовского. Над головой, в плоской толевой крыше светилось окошко с откидной фрамугой, Брозовский улегся на узкую походную кровать и с блаженством закутался в уютные толстые перины с синими цветочными узорами. Через оконце доносилось позвякивание цепочки, которой была привязана телка. Рядом, за тонкой перегородкой, также лежала солома, а дальше, у люка, стоял огромный ларь с зерном. К люку можно было попасть только со двора по приставной лестнице.
Этот потайной уголок устроил себе сын хозяина, погибший несколько лет тому назад под дорожным катком. Никто не знал о существовании чердачной каморки. Только одно было плохо — помещение не отапливалось.
Брозовский задумчиво смотрел в окошко на звездное зимнее небо. Кому будет польза от того, что он проживет здесь в относительной безопасности долгое время? Никому. Но партия по-иному понимала жизнь на нелегальном положении. Товарищам, которым угрожает опасность, надо на какой-то срок исчезнуть. Пусть так. Однако работа должна продолжаться, иначе уход в подполье будет означать только одно: спрятаться. А это немыслимо. Напротив, партия обязана сейчас утроить, удесятерить свою активность. Времени терять нельзя, это равнозначно гибели. Вот как следует понимать подполье.
Его хозяева были настроены благодушно. Судя по всему, они верили, что фашистская диктатура — явление временное. Очень много людей думают так же. Это хорошо. Большая опасность состоит, однако, в том, что ничего не предпринимается. Нацисты власть не уступят. Если их не свергнуть теперь, «третий рейх» может просуществовать немалый срок. Сами гитлеровцы говорят о «тысячелетнем рейхе»; хоть они и профессиональные врали, нельзя не видеть, что они намерены обосноваться надолго. Тому, кто этого не видит, придется пенять на себя. Но наибольшая опасность заключается в тезисе СДПГ о «прогорании» нацистов. Этим лозунгом социал-демократы убаюкивают рабочих, парализуют их боевую силу и мешают им осознать главное: чтобы предотвратить страшную беду, необходимо бороться. Бороться теперь, сегодня, сию минуту! Сколько времени, по мнению этого беспомощного простофили Цонкеля, будет длиться «прогорание» нацистов? Месяц, год, десятилетие? Кто доживет до их конца?
Цонкель и Лаубе отказались бороться — правление их партии не высказалось… Как будто они когда-либо высказывались… Они промолчали, когда, нарушив конституцию, выставили за дверь Брауна и Зеверинга, и они не скажут ни слова, когда нацисты избавятся от Цонкеля.
Брозовскому вспомнилось известное выражение: против объединенной силы профсоюзов никакое правительство не выстоит и сорока восьми часов!
Это было сказано тогда не спьяну и не из хвастовства. В тысяча девятьсот двадцатом Капп и Лютвиц почувствовали это на собственной шкуре. Ну и что?
На этом все кончилось. Рабочие массы выгнали бы сейчас фашистскую нечисть в два счета, как в свое время каппистов. По всей Германии необходимо создать единый фронт, единое руководство, вот тогда нацистский кошмар развеется как дым.
От волнения на лбу Брозовского выступила испарина. Он подумал, что его бездеятельность, его временное пребывание в безопасности может ускорить приближение катастрофы, угрожающей рабочему классу, и от такой мысли стал мучиться угрызениями совести.
Все ли он сделал?
Нет! Играл в карты — на белую фасоль. Смешно! Стоял на футбольном поле и наблюдал, как мальчишки гоняли мяч. Развлекался! Рассуждал о политике с Минной на кухне, ругал все на свете, иронизировал, брюзжал, но ничего не делал. Попусту тратил время! С важным видом строил всякие теории и предоставлял событиям идти своим чередом — как и сейчас!
А может, теперь уже поздно?
Нет. Для настоящего коммуниста никогда не может быть поздно. Еще существует партия, и рабочие полны решимости бороться. А рабочие будут на земле всегда, и всегда готовые к борьбе. Рабочие были, есть и будут всегда. Без рабочих нет жизни…
Хорошо. А кто их организует, поведет, разъяснит и укажет им путь? Партия! А где она?
Брозовский горько усмехнулся.
Хорошо валяться тут в постели. Партия может им гордиться. А сам он разве не партия? Разве горняки, перед которыми он сотни раз выступал, не питали к нему доверия, разве они не видели в нем, Отто Брозовском, партию?.. Он не переоценивает себя, отнюдь. Это доверие относилось к партии, от имени которой он говорил. А может быть, горняки с Вицтумской шахты сейчас-то и ждут его, может, думают, что их бросили в беде? Может быть, четыреста мужчин и женщин на бирже труда — ждут его совета?.. Судя по его поведению — не ждут. Он может беззаботно почивать на лаврах, все чудесно идет своим чередом. Такого Брозовского, по-видимому, никто не ждет, да и зачем? Тот Брозовский выступал на собраниях с речами, если не было непосредственной угрозы, если все проходило благополучно, если с ним ничего не случалось. Собраниям этим не мешал ни дождь, ни мороз — они проходили в натопленных залах. В самом деле было чудесно. Вот это придавало духу. А если не придавало, то и не убавляло. Все было не так уж плохо. Верно, господин товарищ Брозовский?
Безответственный негодяй! Уж наверняка пролетарии ждут не дождутся какого-нибудь сверхъестественного существа, и спасение может прийти к ним теперь не иначе как только с неба. Ничто другое не помогло…
Брозовский сбросил с себя перину, поднялся с кровати и распахнул настежь фрамугу. Его обдало ледяной волной воздуха. Сейчас это было ему кстати.
«Кто голосует за Гитлера, тот голосует за войну!» Где только не повторял он эти слова: и на бирже труда, и в прокуренных пивных, и под землей в шахте, и в душевой, на квартирах, лестничных клетках и во дворах. А как он похвалялся своей мудростью перед Боде и Шунке! Сначала война внутри страны — она уже идет. А потом?..
Понимает ли уже кто-нибудь сейчас, что будет дальше? Немногие. Люди едва ли догадываются о том, чем могут окончиться теперешние события. Им надо разъяснить это. Нацисты здорово расхвастались, спору нет. Поэтому нужно предупредить народ, что у нацистов огнестрельное оружие, которое в руках общепризнанных убийц стреляет само.
Он стоял, прислонившись спиной к холодной стене, пока не окоченел, потом опомнился и, дрожа от озноба и возбуждения, снова улегся в постель.
* * *
К концу дня двенадцатого февраля об этом узнал и Брозовский. Он стоял полуодетый в своем убежище, собираясь вечером покинуть его. Старый закаленный дорожник с бурым, продубленным ветрами и непогодой лицом дрожал от гнева. Он вернулся раньше, чем обычно, со своей воскресной прогулки, едва пригубив заказанную им в деревенском трактире кружку пива. Поначалу Брозовский ничего не понял из его сбивчивого рассказа. Что там стряслось? Неужели ему суждено получить из Гюбица опять дурные вести, как в тот раз, когда сообщили о предательстве во время забастовки?
Эсэсовцы совершили налет в Эйслебене на помещение комитета КПГ и расположенный за ним зал рабочего спортивного союза. Три человека убиты, число раненых еще точно не установлено. Их десятки, большинство — дети.
Это было намеренное убийство… Забыв попрощаться, Брозовский со всех ног кинулся на зимнее вечернее шоссе.
* * *
За несколько дней до этого гаулейтер Йордан вызвал к себе в Галле крейслейтера Альвенслебена и отчитал его как школьника. Долговязый помещик стоял по струнке перед низеньким гаулейтером, в чистоте расы которого он уже давно сомневался, и бормотал извинения. Йордан не дал ему договорить.
Отсиживаться в окружном совете по уютным кабинетам, нагуливать жир, почивать на незаслуженных лаврах, позволять чествовать себя как победителя — этому должен быть положен конец. Не для того совершена национал-социалистская революция… Йордан пыхтел от негодования.
Нацистам, несмотря на все их усилия, не удалось пробить мощную оборону мансфельдских горняков. И то, что они раструбили на весь мир о захвате власти, ни в малейшей степени ничего не изменило. Горняки остались непреклонны. Нацистам лишь удалось привлечь на свою сторону неустойчивые элементы и часть мелкобуржуазной прослойки. Для парадного марша такого пополнения было маловато.
И никто не понимал этого лучше самого Йордана. Звонок из канцелярии фюрера — не шуточки. И все из-за этого хвастуна голубых кровей, фон Альвенслебена. Сидит со своей шайкой бездельников, пьянствует и пальцем пошевелить не желает, чтобы разделаться с пролетарским сбродом.
Нет, коммунистам надо всыпать, это решено. Дрожа от гнева, гаулейтер приказал всем отрядам СС области Галле — Мерзебург вступить в город Лютера в воскресенье. Во-первых, он проучит — и надолго — проклятую «коммуну», а во-вторых, покажет белоручке-крейслейтеру, как это делается. Долготерпению пришел конец.
— Идите! — грубо крикнул он Альвенслебену.
И наступление началось.
Под звон колоколов старой церкви у рынка, созывавших к заутрене, по городу затопали взводы эсэсовцев, которых привезли на многочисленных грузовиках. Впереди, в сопровождении усиленного эскорта, шагали Йордан и Альвенслебен. В верхней части города, на Брайтенвег, группа налетчиков, открыв прицельный огонь по окнам здания комитета КПГ, ворвалась в него. Находившиеся в здании товарищи отбивались всем, что было под рукой. Они падали один за другим, сраженные пулями и ударами остро заточенных саперных лопаток. Секретарю комитета выбили глаз, пули изрешетили штукатурку на стенах, помещение было разгромлено; клубок вцепившихся друг в друга тел выкатился на улицу. Еще уцелевшие защитники, яростно действуя кулаками, выгнали бандитов за двери; сбитые с ног эсэсовцы, лежа на земле, открыли огонь, и новая волна фашистов, топча раненых, опять ворвалась в помещение. Оставшихся в живых рабочих оттеснили к спортивному залу.
Жители соседних домов поспешили было на помощь, но выстрелы загнали их обратно. Эсэсовцы окружили квартал и с тыловой стороны подошли к спортзалу, где в это время сорок — пятьдесят ребят занимались физкультурой. От винтовочных залпов разлетелись огромные окна. Началась страшная паника. Дети и преподаватели бросились к выходу во двор, но оттуда, навстречу им, бежали товарищи из здания комитета, которых преследовали «старые бойцы» Йордана в черных мундирах.
В нацистов полетели гимнастические булавы, пошли в ход гантели. Силы были слишком неравные.
Обороняющихся били прикладами, лопатами, ременными бляхами. Несколько человек, пытаясь спастись, залезли на крышу, но их оттуда сбросили…
* * *
В понедельник утром служащие биржи труда были удивлены: толкотня у окошек вдруг уменьшилась, а потом и вовсе прекратилась без какой-либо явной причины. В окнах было видно, как стоявшие на улице разрозненными группами безработные начали собираться в большую толпу. В прежнее время в этом не увидели бы ничего необыкновенного, однако с некоторых нор такого не наблюдалось. Заведующий биржей, решивший было перекусить, завернул бутерброд в бумагу. От волнения он даже опрокинул крышку термоса, наполненную дымящимся кофе.
— Убийства в городе Лютера Эйслебене, убийства в Бреслау, убийства в Эссене, убийства в Хемнице, убийства в Кенигсберге, убийства в Гамбурге, Берлине, Лейпциге, во многих городах и деревнях… Такова кровавая диктатура фашизма! Сколько это еще будет продолжаться, товарищи?
Меллендорф, носивший с конца января специальную форму и считавший своим долгом ежедневно следить за порядком возле биржи труда, был поражен, когда ему под ноги упала листовка. Это же запрещено! Но прежде чем он понял, что происходит, до его ушей донесся голос оратора.
Мужчины и женщины подходили ближе, чтобы лучше слышать. На тротуарах останавливались прохожие.
— Что случилось?
Брозовский здесь. Значит, слух о его исчезновении — неправда. Вот он, стоит на ручной тележке.
Некоторые женщины, направлявшиеся за покупками, услышав оратора, испуганно заторопились дальше. Другие остановились: интересно, что говорят коммунисты, ведь еще неизвестно, чем все…
— Нацистское господство — это подавление всякой свободы. Оно отнимает у рабочих последние права. Фашизм — это убийство и война. Создайте единый фронт для свержения Гитлера. Объединяйтесь…
Служащие биржи труда закрыли двери. Говорить такое на глазах у полиции — чистейшее безумство. Заведующий биржей, сняв телефонную трубку, начал дрожащей рукой набирать номер. Кто-то из служащих посоветовал ему не вмешиваться в это дело.
В толпе громко зааплодировали Брозовскому. Толстый Меллендорф приготовился к решительным действиям. Отступи он сейчас, был бы потерян весь его авторитет, приобретенный с таким трудом. Положив руку на расстегнутую кобуру, он попытался пробиться сквозь людское кольцо.
— Довольно! — кричал он. — Разойтись! Прекратить!
Но перед ним будто стояла стена. Никто не посторонился. Напротив, прибывали все новые и новые люди, ставили велосипеды и присоединялись к толпе.
— Долой власть нацистов! Долой фашистский террор! Боритесь за свои права! Требуйте работы и свободы! Протестуйте против насилия коричневых палачей! Не допускайте больше убийств! — Короткие фразы вонзались в толпу. Брозовский поднял сжатую в кулак руку.
— Рот фронт жив!
Над толпой взметнулись кулаки.
— Долой коричневую чуму!
Меллендорф вынул пистолет и начал расталкивать стоящих.
— Собираться толпами запрещено! — кричал он. — Расходитесь! Расходитесь!
— Заткни глотку! — крикнули ему из толпы.
Меллендорфа внезапно стиснули так, что он не мог пошевелить руками, и в начавшейся давке прижали спиной к стене дома. Полицейский счел благоразумным не пускать в ход оружие. Люди вокруг были ему незнакомы. Их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего. В соседнем переулке на некоторое время образовался затор, затем толпа быстро рассеялась.
Перед зданием биржи труда остались ручная тележка и ее владелица. Меллендорф учинил растерявшейся женщине форменный допрос, но та повторяла одно и то же: она направлялась на мельницу, как вдруг ее окружили какие-то люди и сказали, что им на минутку нужна ее тележка. А потом началось это собрание…
Фейгель бесновался. Выслушав рапорт городского полицейского, он почувствовал удушье. До сих пор все было спокойно. Однако эта новая вылазка коммунистов показала, что они еще будут сопротивляться. Он брызгал слюной в телефонную трубку. После этой истории в Эйслебене следовало кое-чего ждать. Начальник районной полиции, с которым Фейгель почти час беседовал по телефону, прервал наконец разговор, сославшись на то, что у него есть более неотложные дела, нежели какое-то сборище безработных, к тому же окончившееся. Пусть этим займется городская полиция.
Фейгель был возмущен. Старый полицейский рутинер! Никакие новые веяния его не коснулись. Секретарь городского совета попытался соединиться с районным руководством нацистской партии. Линия была беспрерывно занята.
Чертов Брозовский! Фейгель оставил телефон в покое и распорядился, чтобы и второй городской полицейский немедленно приступил к исполнению своих обязанностей. Никаких скидок, на службе надо быть теперь все двадцать четыре часа.
Около половины второго зазвонил телефон. Говорил Хондорф из конторы Вицтумской шахты. Он сообщил: только что в раздевалке, перед девятьюстами горняков из утренней и дневной смен, выступил Брозовский; он убедил их принять резолюцию, призывающую к борьбе против правительства и к свержению такового. В голосе Хондорфа прозвучала ирония, когда он сообщил, что фарштейгер Бартель немедля «вмешался в события» и получил при этом легкие телесные повреждения.
Секретарь магистрата кисло поморщился. Всего два дня сидит в конторе этот обанкротившийся отпрыск зерноторговца и уже опять проявляет свою спесь. Да, с ним еще намаешься. Сам все видел, а над Бартелем потешается. Для чего же тогда Альвенслебен произвел его в штурмфюреры, — чтобы сидел в стороне и наблюдал? А почему его, Фейгеля, обошли чином?
Хондорф сказал правду. В медпункте шахты Бартель прикладывал к вздувшейся на голове шишке свинцовые примочки. Фарштейгер полагал, что собрание в раздевалке разбежится уже при одном его появлении. Однако он ошибся. В разгар его, в общем-то незамеченного, вмешательства ему на голову свалились подбитые железом ботинки, почему-то сорвавшиеся с верхней вешалки. Ни охрана рудника, ни нацисты не осмелились заглянуть в раздевалку.
Вечером отряды вспомогательной полиции выступили к полном составе. По улицам расхаживали парные патрули с винтовками. Между Фейгелем и Хондорфом произошло столкновение, окончившееся тем, что штурмфюрер СА Хондорф заставил штурмовика Фейгеля пробежаться для тренировки дыхания трижды по пятьдесят метров перед самой ратушей и отправил патрулировать, хотя Фейгель рассчитывал дежурить у телефона.
В паре с Бинертом он топал взад и вперед по Гетштедтской улице. Казалось, ночи не будет конца. Проходя мимо дома Брозовских, Фейгель сказал Бинерту, стучавшему зубами от холода, что с этим отродьем будет решительно покончено. Решительно!
Во вторник утром на стенах многих домов, даже на боковом фасаде ратуши появились лозунги, написанные масляной краской: «Долой нацистское правительство!», «Долой кровавый террор!»
Направлявшиеся на биржу труда несколько безработных остановились у ратуши и, засунув руки в карманы, обменялись замечаниями по адресу нанятого Фейгелем маляра, который подгонял своих подмастерьев, смывавших со стены краску. Перед биржей прохаживались вооруженные патрули вспомогательной полиции.
Долговязый шестнадцатилетний подмастерье швырнул вниз щетку, ведерко с бензином и спустился со стремянки.
— Не буду я этого делать.
Мастер на глазах у всех отвесил парню оплеуху, но тут же получил сдачи: брошенное кем-то полено ударило его по ногам. Прихрамывая, он удрал с площади. Стоявшие неподалеку безработные поглубже засунули руки в карманы, не спеша пересекли рыночную площадь и скрылись в соседней улице.
Один из них свернул в переулок к небольшому дому, поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Двое других, оставшись на тротуаре, не спускали глаз с подъезда. Стоявший за дверью Брозовский-младший схватил приготовленный на всякий случай шахтерский бур. Дождавшись окончания условного стука — два коротких и один длинный, — он облегченно вздохнул и открыл дверь.
Из-за занавески, разделявшей чердак на две половины, вышел его отец и поинтересовался, в чем дело.
— Листовки готовы? — тихо спросил прибывший. Брозовский утвердительно кивнул головой, и Отто впустил гостя.
Пауль Дитрих и Юле Гаммер связывали пачки. За занавеской стоял небольшой гектограф, который обслуживали Эльфрида Винклер и несколько женщин.
«Все на массовую демонстрацию! Рабочие, приходите в Эйслебен!» — гласил заголовок на маленьких, еще влажных от краски листовках.
— Расклеивать только вечером. На предприятиях передавать из рук в руки. Бумаги мало, — инструктировал Брозовский товарищей.
Вечером он с Гаммером вышел из дому. У забора, за сарайчиком, стояли их велосипеды. Некоторое время друзья шли, ведя машины в руках, а потом, не зажигая фонарей, поехали в направлении Вельфесгольца.
— Когда они кончают работу, в шесть? — спросил Брозовский. Он подул на окоченевшие пальцы левой руки. Поврежденная рука была чувствительнее к холоду.
— Брось, не поможет, — заметил Юле. — Только сильнее мерзнуть будут. Возьми-ка лучше перчатки.
Оба слезли с велосипедов, и Гаммер протянул Брозовскому свои рукавицы. Юле не боялся холода.
— Так когда же кончают? — переспросил Брозовский, не обращая внимания на советы Юле.
— В шесть. Они на молотьбе. Надо спешить, а то разойдутся по домам.
Друзья ехали по обледенелой проселочной дороге, было скользко, они старались держаться середины дороги и продвигались очень медленно. Наконец слева показалась усадьба барона Штромберга. С гумна доносился глухой стук молотилки. У парковой ограды велосипедистов тихо окликнули.
— Юле? — спросил перелезший через ограду парень. — Идемте. Сюда.
Он повел их через парк. На снегу дрожали отблески освещенных окон усадьбы. Молотилка остановилась. Батраки, собрались в сарае.
— Завтра в Эйслебене мы хороним наших товарищей, убитых эсэсовскими бандитами. Мансфельдские рабочие своей массовой демонстрацией заявят, что они полны решимости дать отпор фашистскому террору. Это касается нас всех, вместе с вами…
Брозовский говорил спокойно, не обращая внимания на необычность обстановки. Пятьдесят пар глаз — женщины, молодые девушки, мужчины и юноши — смотрели на него.
Управляющий имением с часами в руке боязливо топтался возле Гаммера, прислонившегося к молотилке.
— Сейчас еще только без четверти шесть, — прошептал он. — Надо было обождать. Если этот пес пронюхает, такое начнется!
— Ты же сам выключил машину.
— Я в темноте время спутал.
— Да, может завариться каша.
Гаммер подошел к сараю. Под чьими-то шагами заскрипел снег. «Наверное, инспектор или кто-нибудь из усадьбы», — подумал Юле.
— Черт возьми! — внезапно крикнул он своим мощным басом. — Соскочил ремень. — Он пнул ногой железное колесо машины так, что раздался звон.
— Нас вы не одурачите! Ремень… — послышался сзади него чей-то заикающийся тонкий голос.
«Это барон!» Юле сделал несколько шагов ему навстречу. Наверное, тот уже давно стоял здесь. К сараю торопливо шел инспектор, ведя на поводке двух догов.
— Что здесь происходит? — крикнул он, пожалуй, еще громче, чем Юле.
Увидев барона, инспектор кинулся к нему и попытался оттеснить Юле. Гаммер был на голову выше помещика.
— Вы простудитесь, господин барон.
У инспектора за спиной висело охотничье ружье. Своей суетливостью и желанием угодить помещику он производил смешное впечатление.
Брозовский был начеку. Он занял такую позицию, с которой видел все, что происходило перед сараем. Отто слышал предупредительный возглас Юле, но продолжал говорить, словно происходившее его не касалось.
— Господа думают, будто всякое сопротивление уже подавлено. Ошибаются! Рабочие дадут отпор кровавым палачам…
Громкий лай прервал его. Натасканные на людей доги рванулись с поводков, заслышав команду инспектора.
— Где управляющий?.. Почему стоит машина? Ага, подстрекатели! Тайная сходка. Но у нас здесь тоже есть свои люди, все ваши уловки мы знаем.
«Измена!» — мелькнуло в голове Брозовского. Батраки и батрачки бросились врассыпную, в сарае осталось менее половины собравшихся.
— Они выискивали среди нас предателей. Подкупают их, пользуются ими, как отмычками. Но, несмотря на все, товарищи… — Брозовский не успел закончить — дог прыгнул и свалил его на землю.
Внезапно собака завизжала, вскинув оскаленную пасть. Юле, успев схватить какой-то железный прут, перебил собаке хребет, но тут же сам упал, опрокинутый вторым псом. Дог вцепился клыками ему в грудь, разорвав куртку; Юле в последнюю секунду удалось схватить пса за горло. Тяжелое дыхание, вырывавшееся из пасти, перешло в прерывистый хрип.
— Отпустите собаку! — рявкнул инспектор, наставив ружье на Юле.
— А ну-ка убери свою трещотку!
От молотилки метнулась тень, и в один миг инспектор был сбит с ног, ружье выстрелило само. Заряд дроби угодил в крышу.
Юле отшвырнул мертвого дога под колеса молотилки и отряхнул пыль с брюк. В сарае осталось лишь восемь человек. Барон убежал, когда пес кинулся на Брозовского.
* * *
Могильная тишина, которой так жаждали власти, не наступила. Мерзебургский окружной президент усилил полицейские отряды; в день похорон они блокировали все подходы к Эйслебену. Гаулейтер потребовал: малейшую попытку организовать демонстрацию пресечь! Альвенслебен стянул все свои резервы. Да только напрасно!
Рабочие коллективы колоннами направились от заводов и шахт к Эйслебену. Прорвав полицейские заслоны, они вошли в город и соединились с местными рабочими.
Десять тысяч шли за гробами. Несчетное множество людей, стоявших на всем пути к кладбищу, обнажали головы, когда проходила траурная процессия.
Брозовскому не удалось вовремя добраться в Эйслебен. В Зирслебене он наткнулся на вооруженные отряды вспомогательной полиции и был вынужден сделать крюк. Он догнал траурную процессию на Клостерплац, возле кладбища. Несли огромные венки, прибыли делегации из дальних городов и предприятий, замыкала шествие колонна гербштедтцев, они шли по восемь человек в ряд.
И впереди развевалось Криворожское знамя!
Брозовский вытянул шею. «Неужели оно?» Он протер глаза. Знамя не исчезло. Его нес Отто Брозовский-сын. Красное полотнище было прибито к необструганной планке… Рядом со знаменем шагали Пауль Дитрих и Генрих Вендт.
«И Генрих…» Брозовский энергично пробирался через людскую стену к своим.
Не отвечая на его приветствие, Вендт продолжал смотреть прямо перед собой. С некоторых пор они все больше и больше отдалялись друг от друга. Размолвка их, собственно, началась вскоре после забастовки. Генрих долго скрывал от товарищей свою беду. Узнали об этом только на рождество. Его пасынок, которого он воспитывал как родного сына и которому дал свою фамилию, тайно вступил в Союз гитлеровской молодежи. На рождество женская нацистская организация подарила парню новую форму, и он вместе с Бинертом ходил на вечера, которые устраивали штурмовики.
Брозовский шагал между Вольфрумом и Боде. Эльфрида Винклер то и дело оглядывалась на него. Рядом с Юле Гаммером она казалась ребенком, ее маленькая рука потонула в его лапище. У девушки был бледный, нездоровый вид.
Юле, чуть приотстав, шепнул Брозовскому:
— Сегодня утром взяли Рюдигера. В поместье Вельфесгольц арестовали четырех, управляющего пришлось сразу отправить в больницу…
Брозовский невольно вздрогнул.
Процессия свернула к могиле. Тысячи людей, как бы давая клятву, подняли сжатые кулаки. Зазвучали слова скорби, борьбы, покаяния и ненависти.
«Вы жертвою пали…»
У вырытой могилы складывали венки. Брозовский склонил покрытую шрамами голову над опущенными гробами и бросил вниз три горсти земли. Ему последовал Юле Гаммер и тысячи людей, чьи сердца были переполнены болью, гневом и ненавистью.
Мерзлые комья земли глухо ударялись о крышки гробов, и в этих ударах Брозовскому слышались раскаты грозы перед наступающей ночью.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Вальтер уже давно перестал выспрашивать у матери, где отец и когда он придет домой. Не задавал он больше таких вопросов и старшему брату, — Отто всякий раз смотрел на него так, будто Вальтер с луны свалился.
— Самому надо видеть и соображать, — отвечал он. — И оставь меня наконец в покое с твоими дурацкими расспросами.
Мальчик возмущался тем, что мать с братом не доверяли ему. Он вовсе не слепой и соображать умеет. Разумеется, все значение событий он осознал лишь постепенно. То, что его отцу необходимо скрываться, стало ему окончательно ясно после того, как директор школы Зенгпиль выступил перед учениками с речью, в которой нещадно поносил марксистов, коммунистов и всяческих «недочеловеков». Большинство детей ничего не поняли из его напыщенной болтовни и сидели во время словоизвержения директора притихшие, уныло разглядывая свои руки. Кто такие «недочеловеки», Вальтер не знал, это слово он слышал впервые. Но то, что его отец был коммунистом, мальчик знал очень хорошо. Отец гордился этим.
Фюрер твердой рукой положит конец проискам «недочеловеков», кричал директор детям. Третья империя станет могучим государством. Германия — страна, в которой царит порядок и перед которой должны дрожать враги. Прежде всего надо вышвырнуть евреев, а коммунистов арестовать и стереть с лица земли. Тот, кто против фюрера, будет уничтожен. А для строптивых найдутся крепкие стены, где их научат повиноваться.
Перейдя от обобщений к частностям, директор назвал фамилии врагов фюрера в Гербштедте и в том числе отца Вальтера. По окончании директорской речи все ученики, даже самые маленькие, выстроились на школьном дворе и, вытянув вперед правые руки, приветствовали знамя со свастикой, которое поднял на новый флагшток Вилли Рихтер, одетый в форму детской гитлеровской организации. Тот самый Вилли, который уже дважды оставался второгодником. Вальтер не захотел поднимать руки, и Линда Бинерт наябедничала на него директору. Учитель Петерс назвал ее глупой индюшкой и погладил Вальтера по голове.
На следующий день учитель Петерс не явился в школу. Линда Бинерт ходила с важным видом — она знала самые последние новости: оказывается, Петерс вовсе не настоящий учитель. Его сняли и выгнали. Весь город знает, что он против фюрера; а в школу ему удалось устроиться только благодаря своему партийному билету СДПГ. Их родственник, штейгер, знает это точно и уже сообщил, куда следует. Однажды Петерса пригласили заниматься с сыном одного директора завода. Так он даже этого не мог. Его выгнали потому, что он бил своего ученика по щекам. Директор школы Зенгпиль получил от отца этого мальчика письмо, там все написано.
— Линда сейчас ходит только в своей коричневой обезьяньей курточке. Как пегая коза. А лицо у нее все в прыщах, — сообщил Вальтер и спросил у брата, почему учитель Петерс и дядя Гаммер — «недочеловеки».
Мать молча сидела за столом и, задумавшись, помешивала остывший суп. На щеку ей свесилась седая прядь. Отто украдкой посмотрел на мать. Да, постарела она. У рта пролегли морщины, которых он прежде не замечал, кожа на лице желтая, вид нездоровый.
Отто шумно вздохнул и отодвинул тарелку с недоеденным супом. Петерс рассказал ему, что школьное начальство пустилось на всевозможные хитрости, чтобы найти повод для увольнения. Отпрыску советника коммерции, к которому он шесть лет назад был приглашен в качестве домашнего учителя, Петерс действительно надавал затрещин; да и было за что: этот балбес в рождественский вечер выстрелил из своего пневматического ружья в
ухо уборщице. Петерс диву давался: каких только «улик» не насобирал Зенгпиль против него.
Не получив ответа, Вальтер нехотя принялся за суп. Опять перловка, она уже стоит у него поперек горла, хоть бы разок поесть гороху со свининой…
В этом году у них не было никакой скотины на убой. И не будет. Вальтер нахмурил лоб. И вообще многого уже больше не будет. Дядя Келльнер за день до смерти сказал ему: «Толстый Геринг, значит, поджег рейхстаг. Кроме этой сволочи некому. А что в газетах пишут, так то вранье. Они подожгут всю страну, а потом весь мир. Да, мой мальчик, старому Келльнеру приходит конец. Для вас привольная житуха тоже кончилась. Слава богу, мне уже этого не увидеть. А вот вам придется пережить. Ну и времена настали…»
Вальтер громко чавкал. Каждая ложка супа превращалась во рту в клейкую кашу.
— Не чавкай, — прикрикнула на него мать. — Это еще что за мода? Ешь, словно глину месишь…
Он обиженно опустил голову, чуть не окунув нос в тарелку.
Неожиданно в комнату вошел отец и, улыбаясь, поздоровался кивком головы. Он подошел к столу, пощупал толстую скатерть под клеенкой, удовлетворенно кивнул еще раз и обменялся взглядом с женой. Они поняли друг друга.
— Отец! — Вальтер кинулся ему на шею. Из глаз мальчика брызнули слезы.
— Сын рабочего не плачет! — сурово сказала мать.
В их семье было не принято проявлять чрезмерную сентиментальность. Брозовский даже не подал руку жене. Старший сын лишь приподнял голову.
— Ну?
— Я очень спешу. Но надо хоть раз как следует помыться. Сегодня же еду. Товарищи в Альслебене берут меня на баржу, в рейс по Заале. Собери мне немного белья, Минна. Я грязный как черт.
— А куда ты едешь, отец?
Брозовский, держа сына за плечи, чуть отстранил его от себя.
— Это что у тебя, малыш? — уклонился он от ответа.
На лбу мальчика, от брови до волос, темнел еще не заживший шрам. Вальтер быстро прикрыл его ладонью и сказал, что «ничего особенного». Новый классный руководитель вызвал его на первом же уроке и заставил учить гитлеровское приветствие. Потом учитель сказал, что его отметки ниже всякой критики и что совершенно непонятно, почему такой «образцовый» мальчик сидит во втором ряду. Отныне его место за первой партой, перед самой кафедрой, на виду у учителя. И если он не исправится, то на пасху в следующий класс не перейдет. Упрямство из него быстро выбьют. А во время перемены Вилли Рихтер подговорил своих приятелей, которые тоже вступили в отряд юных нацистов, затеять драку с Вальтером.
— Они удрали, отец. Мне вот успели влепить. Но нас было больше. Учитель записал все в классный журнал. Будто начал я. Это неправда. Рихтер своим новым ножиком ударил меня вот сюда. Теперь меня наверняка оставят на второй год, за плохое поведение… — Вальтер печально взглянул на отца.
Минна увидела, как опустились плечи мужа. Он беспомощно переводил вдруг потускневший взгляд с жены на сына. Так, значит, они вымещают злобу на детях.
— Пойду растоплю печку, воды подогреть, — сказал сдавленным голосом старший сын.
Шаркая ногами, он вышел из комнаты. Вскоре из кухни донесся шум воды, льющейся в котел, и стук деревянного корыта, которое Отто притащил со двора.
Брозовский снял куртку. Минна нарезала хлеб и поставила ужин на стол. Потом поднялась наверх и сложила белье. Брозовский торопливо ел, а Вальтер молча смотрел на него. Лоб отца прорезали глубокие морщины, по впалым щекам, словно трещины, пролегли складки. На левой руке виднелся огромный синяк.
— Что это? — показал Вальтер на руку. — Ты ударился?
— Да, — ответил отец, — ухватился неловко. — Он сам почувствовал, что отговорка получилась неудовлетворительной.
— Тебе надо скрываться, отец? — спросил вдруг Вальтер очень серьезно, так, как спрашивала его иногда мать, ожидая в ответ только чистосердечного признания, и ничего иного.
— Некоторое время, — ответил Брозовский, жуя.
— Удирать — это неправильно, отец, — строго сказал Вальтер.
— Все зависит от обстановки. Надо уметь выждать. Ничего, придет другое время, сынок. Рабочие поймут, как им действовать. Сейчас нацисты охотятся за нами, но сломить нас им не удастся. Нас так много, что им не справиться.
— Отец, а почему рабочие все терпят? Ведь их большинство, а тех куда меньше.
— Да, почему. На это трудно ответить, сынок.
Брозовский задумался. Вальтер не спускал глаз с его губ. Он хотел знать, почему рабочие так долго ждут, так медлят. Они должны бить нацистов, а не наоборот. Вот в их школе так же — детей рабочих намного больше.
— Рабочим надо еще учиться и учиться. Век живи, век учись. У них не хватает знаний. Ты сам помнишь, как нелегко было выучить азбуку… Азбука жизни гораздо сложнее. А этого большинство людей не понимает, не сознает до конца. Но когда-нибудь все изменится. И рабочие поймут, как им следует поступить. Они все возьмут в свои руки. — Он протянул ладони над столом и крепко сжал кулаки. — Вот так. Все: школа, государство, власть — все будет в их руках!
— Можешь мыться, — сказал Отто, заглянув в комнату.
Вальтер укоризненно посмотрел на брата. Неужели он не видит, что мешает разговору? Отец, отодвинув дощечку с нарезанным хлебом, быстро встал из-за стола.
— Ты же не наелся, — попыталась удержать его Минна.
— Я сыт, сыт… Времени мало.
В кухне, стоя перед корытом, Брозовский с наслаждением плескался и фыркал. Жена намылила ему спину и принесла чистую рубашку. Он чувствовал себя так, словно заново родился.
— До чего же противно, когда неделями помыться толком не можешь. Белье становится, как короста. — Он насухо вытер полотенцем плечи и тут же, без всякого перехода, спросил: — А как со знаменем? Оно ни в коем случае не должно попасть к ним в руки. Если б было можно, я охотнее взял бы его с собой. Вы что-нибудь придумали? Лучше убрать его из дома, и поскорее.
— Знамя они не получат, — просто ответила Минна.
Брозовский оделся. Минна, почистив щеткой его куртку, стала тереть воротник платком, смоченным в мыльном щелоке.
Движимый каким-то смутным чувством беспокойства, Отто пошел к наружной двери посмотреть, все ли тихо на улице.
— Папа! — с отчаянием крикнул в ту же минуту Вальтер.
Перед домом, резко затормозив, остановился грузовик. Было слышно, как через борт прыгали на мостовую люди. Внезапно посыпались осколки разбитого стекла, треснул оконный переплет, и в комнату, отодвинув штору, просунулся ствол винтовки. С улицы в окно влез штурмовик. Под ударами прикладов с треском распахнулась входная дверь. Отто попытался задержать нападающих. Какой-то верзила ударил его прикладом меж глаз. Отто, потащив за собой одного из фашистов, упал на каменные ступеньки. Удары кованых сапог обрушились на него — в живот, в зубы… Отто, стоная, скатился на тротуар.
— Беги! Беги с черного хода! — крикнула Минна мужу, задыхаясь от страха.
— Молчать!
Черноволосый штурмовик с силой оттолкнул ее к чугунной печке. Минна головой ударилась об острый край. Печка пошатнулась, из швов насаженной трубы посыпалась глиняная крошка. Потеряв сознание, Минна рухнула на пол. Вальтер с криком кинулся к матери, но штурмовик ногой отшвырнул его под стол.
В квартиру ворвался десяток нацистов. Трое из них сразу побежали наверх, двое во двор.
На Брозовского набросились четверо. Ударом приклада ему сломали поврежденную руку. От страшной боли он громко вскрикнул. Второй удар рассек лицо. Из разбитых бровей побежала кровь. Брозовский упал.
— Не торопитесь, друзья, не торопитесь, — обратился к озверевшим штурмовикам верзила, стоявший у двери. — Еще все впереди. Пусть пока подрожит да что-нибудь нам расскажет.
Усевшись поудобнее на диван, он вытянул ноги и отодвинул стол.
— Что, крысенок, залез в щель? — рассмеялся он, увидев под столом Вальтера. — Ну-ка, сопляк, вылезай и расскажи, куда вы запрятали ваше роскошное знамя?
Вальтер, не шевелясь, сидел на корточках.
Так вот фашисты какие, думал он. Отец говорил, что они ландскнехты, наемники и что в один прекрасный день рабочие, когда как следует научатся, прогонят их. Им овладело упрямство. Сердце мальчика готово было выпрыгнуть из груди, но с его губ не слетело ни единого слова. Язык будто онемел.
— Ну, выкладывай, — потребовал сидевший на диване верзила.
— Нет, вы посмотрите на этого упрямца! Недурно воспитали его старики, — сказал черноволосый штурмовик. Схватив Вальтера за шиворот, он подтащил его к дивану. — Отвечай, когда тебя спрашивают.
Верзила зажал мальчика между колен и скрутил ему уши с такой силой, что содрал кожу.
— А ты, оказывается, маленький шутник… До чего же у тебя твердые звукоулавливатели…
У Вальтера пылали уши, градом лились слезы, но он молчал. Его стегали ремнем, он молчал. Они хотят забрать знамя. Но ведь мать сказала отцу: они его не получат. Отец с матерью не хотят отдать знамя, значит, фашистам его не получить. Он не проронит ни слова.
Под конец он ползал на четвереньках по полу, ничего не соображая от боли. И когда послышался стон лежавшей возле печки Минны, истязавший Вальтера верзила потерял терпение.
— Вот стервец! Заприте его на кухне, нечего ему тут глазеть. Побеседуем-ка лучше со стариками, языки у них теперь развяжутся… А того, на улице, бросьте в машину, захватим с собой.
— Пусть сначала поговорит здесь. Если уж трепаться, так хором, — засмеялся один из штурмовиков.
— А он еще может?.. Тогда тащите его сюда, — ухмыльнулся верзила.
Двое нацистов усадили Минну на стул. Из раны на виске, которую она зажимала пальцами, сочилась кровь. В голове стоял такой гул, словно пчелиный рой бился о стенки улья. Она не ответила ни на один вопрос. Когда втащили ее старшего сына, она подняла лицо. Отто начали зверски избивать. Охваченная страхом, мать закрыла глаза. Отто стонал, не приходя в сознание. Минна вскочила и оттолкнула палачей.
— Собаки!
Удары ремней, обрушившиеся на ее голову, глухими толчками отдавались в мозгу. Боли она не чувствовала, ей казалось только, что все вокруг шаталось.
В комнату втащили Брозовского. Он еле держался на ногах, двое штурмовиков поддерживали его.
— Ну-с, поговорим спокойно, как подобает мужчинам. Нашего визита вы, как видно, не ждали, а?.. В нашем деле достаточно телефонного звонка, милейший. Только услышим, что лиса в норе, мы тут как тут и ставим капканчик. Ну, так где у вас знамя, Брозовский?
Брозовский ничего не слышал. Казалось, он прислушивается к чему-то далекому-далекому, доносящемуся оттуда, где горняки свободно живут и трудятся. Он не видел десятерых штурмовиков, которые, толкаясь, ввалились в его маленькую комнату. Не слышал и того, что сказал верзила:
— Что ж, если у них в доме такие порядки, всыпьте ему!
Тело Брозовского, словно брошенное на рештак, сотрясалось от беспрерывных ударов. Нацисты били его, пока у них не онемели руки. Четверо держали старшего сына и Минну. Порой он видел их, стоявших в двух-трех шагах со скрученными за спиной руками. Один из штурмовиков стволом винтовки не давал Минне опускать голову. Пусть все видит. Ее полузакрытые глаза горели диким гневом, нацисты с трудом удерживали ее.
— Отдашь красную тряпку?
Брозовский, казалось, не слышал вопроса. Он молчал. Молчал и когда нацисты привели Вальтера из кухни и на глазах у отца стегали так, что мальчик зашелся в крике.
— Отдашь свою красную тряпку, отдашь?.. Где знамя? Говори!
Зрелище было ужасное. Тело Брозовского под градом ударов изгибалось, как пружина. Ругательства озверелых бандитов не поддавались описанию.
— Вот проклятая сволочь!
Нацисты, выбившись из сил, стали совещаться и решили начать все сначала.
— Ты отдашь тряпку, отдашь?..
Ни слова. Молчание. Лишь один раз, еще в сознании, Брозовский встретился взглядом с женой. Чуть заметно поведя головой, она ответила на его немой вопрос. Он знал, что иного ответа Минна не даст. Брозовский падал, его поднимали и снова били, но он молчал.
— Лёвентин, готово?
Звеня шпорами, в комнату вошел Альвенслебен. Среди штурмовиков поговаривали, что он любит драматические эффекты. Его появление было точно рассчитало. Штурмовики ухмылялись. Крейслейтер тщательно продумал операцию, назначенную на эту ночь в Гербштедте. Он намеревался проучить «сброд». Четверых уже посадили в подвал. А на этого он пожелал посмотреть лично. Бартель позвонил как раз вовремя. Вчера вечером Альвенслебен поспорил на пять бутылок шампанского. Пари принял директор Лингентор. У старого мошенника отличный нюх: он быстро включился в круг «жертвователей» и подал заявление о приеме в НСДАП. Однако Альвенслебену хотелось заполучить его в СА, — здесь Лингентору помогут сбросить лишний жирок. Взносы ему придется платить порядочные. Впрочем, сейчас они все перестали скупиться.
Самое позднее пятого марта, когда станут известны результаты выборов в новый рейхстаг, которые принесут фюреру абсолютное большинство, в Эйслебене, у подножия памятника Лютеру, должно быть сожжено Криворожское знамя. За сожжение знамени, за победу на выборах, за окончательное поражение коммунистов собирался он выпить выигранное шампанское.
Лингентор полагал, что знает Брозовского лучше. В свое время Брозовский причинил ему немало хлопот. Дело тогда зашло так далеко, что генеральный директор «пропесочил» его, Лингентора, словно рядового чиновника. Лингентор знал: Брозовский знамени не отдаст.
Альвенслебен только усмехнулся и заверил Лингентора, что тот ошибается. Пусть только этот большевик попадется ему в руки. У него, Альвенслебена, заговорит любой.
И вот этот момент наступил.
— Ну, как дела? — нетерпеливо спросил Альвенслебен.
— Ничего не получается, крейслейтер. — Лёвентин вытянулся по стойке «смирно».
— Очень мило. Тоже мне герои.
Брозовский лежал без сознания на полу.
— Принесите воды. Сейчас очухается.
Они облили его, встряхнули, поставили на ноги. И не добились никакого ответа.
Альвенслебен, сидя на диване, покачивал ногой. Его надменное лицо чуть потемнело.
— Так, значит, не хочет. Заговорит потом. Все образуется. — Он поиграл хлыстом перед глазами Брозовского. — С сегодняшнего дня вашим праздничкам конец… Дом обыскали? — обратился он к Лёвентину.
— Поверхностно.
— Тогда приступайте. — Он вышел на улицу.
В доме все перевернули вверх дном.
Четверо Брозовских молчали. Они не слышали ни звука, едва шевелились; они молчали. Потом старших вывели из дома, и младший остался один.
Когда — последней — вытолкали его мать, он уткнулся лицом в спинку дивана и зарыдал…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
После двадцатичасового ареста Минну Брозовскую выпустили. Она бесстрашно потребовала, чтобы освободили ее мужа и сына. Фейгель, холодно усмехнувшись, указал ой на дверь.
Лёвентин, который всю ночь до полудня «занимался» Брозовскими-мужчинами, распорядился избавить его от старухи. А «чурбаки» эти у него заговорят, он их доведет до кондиции.
— Убирайся и радуйся, что выбралась отсюда живой, — кричал на нее Фейгель. — Ишь чего захотела — выпустить мужа и сына, — они свое с лихвой заработали! Выпустить… Чтобы они опять шатались по всей округе со своим дерьмовым флагом? Печатали листовки и устраивали сборища? Мы прикрыли их лавочку! Нынче ветер подул с другой стороны. Смотрите не вздумайте чего-либо там устраивать!
Начало смеркаться, когда Брозовская вышла на улицу; держась за стены домов, она с трудом потащилась в гору. Кровь стучала в висках, казалось, голову стиснули железным обручем. Минна даже не чувствовала встречного ледяного ветра, пронизывавшего ее насквозь. Внутри у нее все окаменело.
Она не удивилась, обнаружив, что входная дверь не заперта. Веник, задвинутый в дверную ручку со стороны прихожей, поддался легкому нажиму и выпал. Ступив в пустую холодную прихожую, Минна зябко поежилась. Потом отворила дверь в комнату и увидела, как притаившийся за печкой Вальтер схватил приготовленный топор.
— Сынок!..
Глаза мальчика светились зелеными огоньками, его била дрожь. Он положил топор и кинулся к матери. Опустившись на стул, Минна привлекла сына к себе. Она должна взять себя в руки. А для этого ей необходимо сейчас побыть одной, ничего не слышать, не видеть, только думать и думать о том, что случилось; все существо ее взывало к отмщению, только к отмщению. Безотчетно она прижала к себе Вальтера.
Он прильнул головой к ее груди, мать слышала, как колотится его сердце.
Из его покрасневших, воспаленных от долгого плача глаз выкатилась одна-единственная слеза. Когда рука Минны коснулась его исцарапанных ушей, он невольно отпрянул, но потом еще крепче прижался к матери. Вальтер не проронил ни звука, только скрипнул зубами, словно разгрыз стекло.
Постепенно она овладела собой, ее рука ласково и бережно поглаживала взлохмаченные волосы мальчика. Он остался у нее единственный. Зачем он живет, зачем она родила его?
Над репсовым диваном тикали косо висевшие на стене ходики. Их монотонное тиканье гулко, словно в подвале, отдавалось в тишине. Минна не обращала на них внимания, не слушала их. Она не знала, сколько времени прошло. Ей казалось, будто время и все вокруг остановилось. Она бессознательно поглаживала голову сына. Что-нибудь сказать ему не было сил.
Через разбитое окно ветер шевелил обрывки гардин. Дуло. Минна не замечала этого. Небольшая люстра с подвесками из зеленого бисера покачивалась на сквозняке, бросая призрачные блики на лицо женщины. Ее щеку, от подбородка до уха, пересекал широкий запекшийся рубец. На пальцах засохла кровь. Минна не видела этого. Ее опустошенный взгляд был направлен на печку. Когда ворвались нацисты, схватили ее за горло и толкнули в угол, она тут же потеряла сознание. Поэтому она не знала, что, падая, ударилась об острый край печки, что этот страшный удар рассек ей щеку. На ее шее был большой кровоподтек всех цветов радуги — от бледно-желтого до иссиня-черного.
Вальтер устал стоять. Он обессилел. Почему мама ничего не говорит? Всю ночь и весь день он просидел в ожидании на табуретке у печки. Выходил только за топором и задвинул веник в ручку наружной двери, чтобы не открывалась. Ведь кто-нибудь должен был прийти, не могли же оставить его одного.
Худенькое тело мальчика сотрясали рыдания. Ни он, ни мать еще не проронили ни слова. Только тикали часы да говорила разоренная комната.
Беда нагрянула вчера вечером, это было совсем недавно. Того, что не знали мать с сыном, знала комната. Она знала, кто сдвинул стенные часы, — потому они и висели сейчас криво, — и заглядывал за них в поисках листовок; знала, кто прорезал репсовую обшивку дивана, — из прорех вылезла травяная набивка; знала, кто поставил посреди комнаты платяной шкаф, сорвав с петель дверцы и выбросив на пол одежду.
Мать с сыном лишь смутно помнили все эти события, затуманенные в их сознании криками, болью и кровью и потому не запечатлевшиеся в точной последовательности…
Часы, жалобно скрипнув, внезапно остановились. Раздался еще один короткий звонкий удар, и они умолкли. Маятник с легким дребезжанием скользнул по обоям и повис. Стрелки показывали двадцать один час, минута в минуту. Прошли ровно сутки.
Минна поднялась и, вытянув голову, вслушалась в тишину. Постепенно ее сознание начало отмечать, что произошло в их маленькой гостиной. К ней возвращалась утраченная чувствительность, пелена, затуманившая ее глаза, прорвалась. Минна прижала к себе Вальтера и все вспомнила.
Да, прошло всего двадцать четыре часа, не больше. А поначалу ей казалось, будто после этого страшного сна прошли годы. Но то был не сон, ее окружала горькая действительность. Прошел лишь один-единственный день. И какой день! Она не забудет его до самой смерти.
Морщинистая кожа вокруг ее рта натянулась, Минна глубоко вздохнула, сжала и разжала руки — хрустнули суставы. К ней заметно, приливами, возвращалась ее энергия. Минна взяла сына за плечи и, отстранив от себя, посмотрела на него так, словно впервые увидела.
— Что с тобой сделали!.. Мы им еще отплатим! Разве это люди! Звери, звери…
Она подошла к дивану. Пальцы ее лишь на секунду коснулись забрызганной кровью камчатной скатерти, брошенной на спинку дивана. Скатерть здесь, Минна только не сразу заметила ее, когда вошла. Да она и должна быть здесь. Бандиты до последней минуты требовали указать, где спрятано знамя. За эту скатерть, за знамя, которое хранилось в ней, идет борьба, борьба за то, что́ знамя это значит для мансфельдских горняков. Всего лишь на секунду ее пальцы прикоснулись к скатерти, затем Минна бережно расправила ее и постелила на стол…
Чтобы описать, как выглядит квартира после произведенного штурмовиками обыска, не найдется подходящих слов, надо изобретать новые. У Минны Брозовской для этого не было времени, да она и не ставила перед собой столь честолюбивые планы. Засучив рукава блузки, как это делала обычно, когда приступала к тяжелой работе, она резким взмахом головы отогнала от себя мрачные мысли. Надо было приниматься за дело.
Мансфельдским горнякам в своей жизни приходилось много работать, они строили дома из глины, смешанной с рубленой соломой, из шлакоблоков — больших, блестящих черных кирпичей, которые они сами формовали на шлаковых отвалах, — но разрушать, громить дома им еще не приходилось ни разу. Это право оставили за собой наемники третьего рейха, которые облили бензином ковровые дорожки и перила в здании рейхстага и подожгли его.
Именно об этом думала Минна Брозовская, и это прочно засело в ее сознании. Она орудовала веником, мыла, подклеивала фанерные дверцы шкафа, обои. Выносила мусор и битое стекло, разравнивала вскопанный нацистами глинобитный пол на чердаке, смачивала водой и утрамбовывала его, прилаживала оторванную дощатую перегородку, замазывала печную трубу, убирала сажу и мыла пол.
За полчаса слепого, яростного разрушения можно натворить многое. Она трудилась несколько часов. Давно уже миновала полночь, когда Брозовская наконец присела, сложив на коленях руки.
Глаза ее излучали ясность и спокойствие. Она убедилась, — не осознавая этой мысли во всей ее широте, — что работа помогает справляться с ударами судьбы. Пусть вокруг гибель и разрушение, жизнь все равно продолжается и идет вперед. Им не убить ее.
Вальтер спал в верхней комнате. На место разбитых стекол он вставил картон, но бокам входной двери вбил и стену скобы и заложил дверь брусом. Потом присел на ящик с углем и задремал. Мать отнесла спящего сына наверх и уложила в постель.
«Чертов гаденыш! — крикнул ему вчера Длинный с хлыстом. — Все это отродье надо вздернуть». А Толстый снова и снова скручивал ему уши. Мальчик лишь изредка бросал взгляд на отца, на мать, на брата — и молчал.
Да, он был ее отродьем, ее! Минна гордилась им. Она долго сидела, задумавшись. Думала о муже, о старшем сыне, о Вольфруме, которого едва узнала, когда его, словно куль, проволокли по коридору. Что с ними будет? Ответить на это она не могла. Она знала только одно, и мысль эта накрепко врезалась в ее сознание: знамя, зашитое в камчатную скатерть, которую старший сын подарил ей к серебряной свадьбе, это знамя не должно попасть в руки врага. Ни за что!
Это она обещала мужу. Он поклялся сохранить его, сберечь ценой крови своего сердца, поклялся в присутствии тысячи людей, когда партия вручила ему знамя на хранение. И она, Минна, в тот же вечер в этой самой комнате дала слово помогать ему. С того дня охрана знамени стала ее кровным делом, делом чести всей их семьи.
Тридцать лет прожила она с Отто Брозовским бок о бок. Жизнь с ним была нелегкой, иногда очень трудной, на их пути встречались и ухабы, и тупики, и тяжкие удары. Он был упрямым, твердолобым и не привык подстраиваться к людям. Долгие годы супружеской жизни шлифовали их — как морской прибой гальку, — пока они не притерлись и не стали понимать друг друга с полуслова. Правильно ли они строили свою жизнь? И да и нет. Многое могло быть иначе, многое происходило и без их участия. Кое-что они сами усложняли. Минна не всегда бывала справедливой к мужу. Часто, не отдавая себе отчета, она обвиняла его в вещах, которые от него не зависели. А чаще всего обстоятельства оказывались сильнее их, и им приходилось подчиняться, хотели они того или нет. Но сидеть сложа руки они не умели. Трудились изо всех сил, до изнурения, — это были вынуждены признать даже их подруги. И несмотря на все, Брозовские ничего не нажили, остались почти с тем же, с чем начали, поженившись. Крута была их дорога и извилиста.
Политика — какое вам дело до нее, держись от нее подальше, впутаешься — беды не оберешься. Возьмите лучше еще один участок земли, за работой, глядишь, и дурные мысли пройдут. Политика портит характер, кто с ней свяжется — пропадет… Советов им давали предостаточно. Родственники, знакомые, соседи, начальство, умные и глупые… Каждый считал себя умнее других. Но все эти советчики, несмотря на свое благоразумие, попадали впросак, да еще удивлялись, как это могло получиться… Хотелось ли когда-нибудь ей заниматься политикой? Нет, такими вещами она не интересовалась. Она в них ничего не понимала. Пусть этим занимаются люди, которые смыслят больше ее. Она же не отбивалась от стада…
Ну, и каково им жилось?.. Когда стало плохо с продуктами — все ругались. Нечем было платить за квартиру или аренду — все причитали. Началась война — плакали и причитали еще больше. Жизнь была нищенской, — неудивительно, что мужчины время от времени бастовали. У каждого семья, дети. Разве это непонятно?.. Не из озорства же бастовали. И при чем тут политика? Всем ясно — если снизили заработную плату, значит, нечего будет есть. Политика — дело больших господ в Берлине, на то они и сидят там. А партия — это другое. Партия означала хлеб и деньги за квартиру, а с Союзом фронтовиков или Женским союзом были связаны понижение заработной платы и еще бо́льшая нищета. Если в Берлине правительства сменялись, как времена года, это неминуемо сказывалось на жизни горняков и их семей, на еде и обуви. Это было понятно и самым бестолковым. Подобным образом Минна рассуждала всегда. И вот гитлеровское правительство схватило рабочих за горло, это правительство означало смерть.
Минна ужаснулась.
Стихнувшее было чувство тревоги постепенно охватило ее с новой силой. Что теперь будет? Она беспомощно оглянулась. Неужели ее мужу и сыну грозит смерть? Минна прижала руки к бившемуся в страхе сердцу. Неужели она осталась совсем одна и никто ей не поможет в ее горе? Где товарищи ее мужа? Может, они испугались, бросили арестованных на произвол судьбы? Где же тогда найти помощь и поддержку? Где рабочие? Все в ней взывало к помощи, к вере в товарищей мужа. Наконец, она взяла себя в руки.
Знамя, его нельзя здесь оставлять…
Минна торопливо поднялась и прислушалась. Шаги… Кажется, кто-то крадется к окну?.. Нет, это стучит ее собственное сердце. Она знала, что шаги ей почудились, и тем не менее при каждом порыве ветра у нее перехватывало дыхание.
Знамя надо перепрятать в другое место немедленно. Все расспросы, допросы и даже худшее она выдержит, в этом Минна уверена. Она предчувствовала, что нацисты будут следить за ней, — будут являться сюда снова и снова, рассчитывая застать ее врасплох. Слишком многие знали, что знамя хранится в доме Брозовских. Муж, Отто, Вальтер… Оно лежало на столе, бандиты не нашли его. Но выдержат ли все, не проговорятся? За своих-то она уверена! И тем не менее…
Она завесила окно в кухне. Месяц, выглядывавший из-за забора, бросал во двор длинные тени. Минна прикрыла все щели и даже завесила лампу. Затем распорола скатерть. Уже дважды ей пришлось зашивать туда знамя. Куда же девать его теперь?
Когда темный алый бархат заструился из своего укрытия, сердце Минны заколотилось. Руки задрожали от страха и волнения.
Брозовская заставила себя успокоиться. Она все вытерпит, все перенесет, только бы знамя было в безопасности. Сейчас, в эти минуты, знамя воплотило в себе все, что составляло для нее жизнь: муж, дети, дом, ее судьба, партия, к которой она вместе с мужем принадлежала многие годы, всё…
Знамя принадлежало ей, только ей, сейчас она была одна за всех. Минна приподняла знамя и гордо выпрямилась. Вышитые золотом буквы засверкали в сумеречном свете, и Минна вдруг подумала, что горящие на знамени слова — завещание. Завещание, врученное ей. Пока жива, она должна держаться, выполнять то, что ей поручено. Что скажут товарищи ее мужа, что скажут горняки Вицтумской шахты, что скажут советские шахтеры и их жены, если она не сбережет знамени? Придет день, и они спросят: кто это такая Минна Брозовская? Почему она не сдержала данного ею слова, почему нарушила его, почему не встала на место арестованного мужа? Почему изменила нашему долу, делу рабочих всего мира?
А нацисты? Почему они так охотятся за знаменем? Ведь оно для них — кусок материи, красная тряпка. Но, разорвав его в клочья и растоптав, они хотят унизить мансфельдских коммунистов, выставить их предателями рабочего дела. И ее семью, семью Брозовских, в которой все были всегда честными тружениками — и отец с матерью, и сыновья, даже младший, — эту семью они хотят опозорить в глазах людей. Пусть люди показывают на них пальцем… Вот, смотрите, они предали свое дело! Поглядите на эту женщину: она сразу же выбросила знамя, как негодный хлам! Они только притворялись, грош им цена! Держат нос по ветру, лицемеры…
Минна опустила руки. Нет, так о них никто не посмеет подумать, никогда!
А кто она такая? Никто. Вчера ее обозвали дрянью. И даже хуже. Минна выпрямилась. Нет, никто не сможет унизить ее. У нее есть сердце, рука ее прижалась к груди. Она жена мансфельдского горняка.
Там, далеко за окном, через которое все же просачивался лунный свет, Вицтумская шахта; они мечтали, что эта шахта будет принадлежать самим горнякам. А еще дальше, на востоке, в нескольких днях езды отсюда, есть где-то город Кривой Рог, есть свободная страна, и все рабочие этой страны смотрят сейчас на нее, Минну Брозовскую.
Лучше смерть, чем трусливые уступки. Позволить грязным рукам убийц вырвать у нее знамя? Ведь оно не просто знамя, оно значит гораздо больше. Оно не должно попасть в руки врагов. Горняки Кривого Рога подарили его своим немецким товарищам, чтобы они гордо несли его в грядущих боях. Так сказал Рюдигер, так говорил ее муж и все товарищи. И что бы ни случилось — знамя это будет развеваться в день их победы! Бандиты, убийцы, грабители — вы его не получите, чего бы это ни стоило!
Знамя надо спасти!
Минна зашила сложенное полотнище в серое байковое одеяло и постелила его на диван, прикрыв порванную репсовую обивку. С этой ночи в доме Брозовских на диван не садились.
Она разгладила край одеяла и тщательно заправила его под спинку дивана. За окном забрезжил рассвет, когда Минна, обливаясь потом, улеглась в постель.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Еще не совсем рассвело, когда к Брозовским прибежала Эльфрида Винклер. Увидев ее, Минна испугалась. Несомненно, произошло что-то ужасное. Обычно свежие, красные губы Эльфриды были фиолетовыми, темные круги вокруг глаз старили ее, было видно, что девушка провела бессонную ночь.
У Минны были свои заботы: Вальтер ни за что не хотел идти в школу и упирался, не давая матери надеть на него ранец. Мальчик опасался злорадных вопросов нового учителя и насмешек «юных нацистов», но мать полагала, что ему лучше быть среди детей, и мягко, но настойчиво, выпроводила его за дверь.
— Матушка Брозовская… — Эльфрида разрыдалась и дрожащими руками сияла с себя накинутый платок. Лицо ее было пугающе бледным.
Минна усадила ее и налила чашку кофе, а сама прислонилась к печке, не решаясь расспрашивать девушку. Эльфрида посмотрела на нее каким-то умоляющим взглядом, словно прося извинения, и закрыла лицо руками. Потом, запинаясь, начала рассказывать:
— Вчера вечером, едва стемнело, штурмовики забрали Гедвигу, Юле и Пауля. Их застигли за печатанием листовок. Я даже не смогла их предупредить… Меня послали с готовыми листовками к Вольфруму. Только я отошла метров сто, как из-за угла показались машины. В одной я увидела Хондорфа, он жил раньше по соседству в доме Ширмеров, снимал комнату у Рихтера. Хондорф все знал, он-то и выдал. К счастью, я встретила по дороге Боде. Он не пустил меня к Вольфруму — туда тоже приехали штурмовики, на третьей машине. Боде повел меня к себе домой. Заснуть я не смогла… Что теперь делать?
Минна обняла девушку и стала ее успокаивать. Все случилось так, как предсказывал Генрих Вендт; на последнем партийном собрании он заявил: «Всех нас разгонят как миленьких, все полетит к чертям. Ручные гранаты — вот что сейчас надо. Остальное — чепуха, я сыт по горло вашей болтовней…»
Арестовали всех известных коммунистов. Спрятаться им не удалось.
С трудом скрывая растерянность и сама не веря своим словам, Минна сказала глухим голосом:
— Не все потеряно, Эльфрида. Мы еще живы, и Боде с нами, и много шахтеров. Всех в тюрьму не посадишь. Сколько раз мы уже бывали в безвыходном положении. Рабочие с этим не примирятся. Кстати, я видела Вольфрума.
— Ты… ты видела Вольфрума? Где?
— Когда меня выпускали, штурмовики проволокли его по коридору.
— Выпускали?.. А где ты была?
— Разве не видишь? Смотри… — Рука Минны описала полукруг. — Они у нас побывали днем раньше, позавчера.
Минна была довольна, что Эльфрида не заметила ее растерянности. Как же обособленно жила эта девушка, как обособленно жили последнее время другие товарищи, если они ничего не слышали о новости, которая наверняка с быстротой молнии разнеслась по городу. Минна вдруг поняла опасность, угрожавшую всем подпольным партийным ячейкам: они все больше и больше изолируются. Словно удар хлыста грубого кучера по чувствительным ноздрям лошади, мозг ее пронзила мысль о том, что решающая битва проиграна. Неужели мы действительно обречены на бездействие?.. Это невозможно, это немыслимо. И, возражая собственным сомнениям, она решительно сказала:
— Немецкие рабочие не безмозглые бараны. Они не будут стоять в сторонке и ждать, пока нацисты все растопчут.
Только сейчас Эльфрида оглядела комнату, но не успела ничего сказать — на нее напал удушающий приступ кашля. Она тщетно пыталась справиться с ним. Худенькие плечи ее вздрагивали.
«Да она тяжело больна, — с тревогой подумала Минна. — Ее надо немедленно уложить в постель. Наверное, началось воспаление легких. Арест единственного близкого человека окончательно выбил ее из колеи». И хотя Эльфрида сопротивлялась, Минна настойчиво повлекла ее наверх, в спальню.
— Давай-ка раздевайся. Не будь ребенком. Тебе надо хорошенько выспаться.
Эльфрида не соглашалась. Она хотела идти в полицию разузнать о Пауле, добиться его освобождения.
Минна, не слушая ее, расстегнула пуговицы и кнопки на ее одежде, достала из комода постельное белье. На какой-то миг худая стройная девушка оказалась против окна, и Минна четко увидела контур ее фигуры в свете наступающего дня. Живот Эльфриды заметно округлился. Минна даже отступила на шаг, не веря своим глазам: «Да она беременна, на пятом месяце, не меньше. Вот почему ей нездоровится».
— Так вы еще и глупостей натворили? — невольно вырвалось у нее.
Эльфрида с плачем бросилась Минне на шею. Брозовская бережно уложила ее на кровать старшего сына.
— Мы же думали на пасху пожениться…
Присев на край кровати, Минна взяла ее горячую руку. Эльфриде нужен покой, прежде всего покой, уход и хорошее питание. Иначе она не выдержит… Неужели Гедвига ничего не заметила? Ох, дети, дети, как они еще глупы. Никому не сказали ни слова. Этого еще ей не хватало… Она спустилась в кухню и заварила тысячелистник. Каждую осень она заготавливала несколько больших пучков этого растения. Минна напоила девушку горячим отваром, положила ей компрессы на лоб и на грудь, и Эльфрида в изнеможении уснула.
Она спала весь день и не слышала, как около полудня за Брозовской снова пришли.
— Давай, собирайся. Поболтаем часок.
Двое парней в коричневой форме вели себя, словно в трактире. Они обшарили комнату, перевернув все вверх дном.
По улице возвращалась из школы группа детей. Увидев Брозовскую, шедшую под конвоем штурмовиков, одна из дочек Вендта вскрикнула и помчалась обратно в школу, чтобы сообщить Вальтеру.
Учитель оставил мальчика в классе после уроков за то, что он «прогулял» один день. Девочка позвала его со двора. Вальтер подергал запертую дверь и, не раздумывая, выпрыгнул в окно с двухметровой высоты. Однако он опоздал.
Меллендорф прогонял его от ратуши раз пять или шесть. Прохожие на улице останавливались. Мальчик так кричал, что было слышно за рынком.
— Вот вам наглядная агитация за нацистов, — заметил пожилой прохожий. Его изборожденное морщинами лицо дышало гневом. — Погодите, они еще преподнесут нам такой подарочек!
Вальтер снова и снова пытался проникнуть в ратушу. Немного погодя бывший учитель взял его за руку, как маленького ребенка, и повел домой. Мальчик плакал навзрыд.
Его мать вернулась поздно вечером. Эльфрида и Вальтер, словно сестра с братишкой, лежали, спрятавшись под одеялом. Они даже не пошевелились, когда вошла Минна. Страх парализовал их.
В ратуше на Брозовскую обрушились крики и ругань. Она требовала свидания с мужем. Над ней издевались. Отвечали, что она его никогда больше не увидит. Был, и весь вышел. Для таких типов заготовлены уютные местечки, надежные, как могила. В довершение всего ей предложили подписать протокол допроса. Минна отказалась. Четыре часа продолжались издевательства, пока наконец Фейгель не убедился, что от нее ничего не добьешься.
Когда она вернулась домой, ей показалось, что стены нависли над ней, вот-вот обрушатся и погребут ее под собой. Она страшно устала, руки и ноги отказывались ей служить. Последним усилием воли Минна преодолела слабость. Сняв с дивана серое байковое одеяло, она поднялась на чердак и засунула его под стропило между дощатой обшивкой и черепичной кровлей. Убирая приставную лестницу, она обернулась и увидела Вальтера: он смотрел на мать горящими глазами. Минна молча приложила палец к губам.
На следующий день нацисты решили сделать передышку. С большой шумихой они устроили предвыборное факельное шествие по улицам города. В заключение демонстранты бросили факелы перед домом бургомистра. Крики «хайль» сотен штурмовиков, собранных, как всегда, со всех окрестностей, угрожающе раздавались в ушах Цонкеля; в его доме несколько часов кряду стоял удушающий запах гари, проникавший через все щели.
Утром на Гетштедтскую улицу пришел Шунке. «Черт с ней, с этой бандой», — возразил он жене, которая робко уговаривала его быть осторожнее и не ходить к Брозовским. Внимательно осмотрев поврежденные окна и дверь чуть выпуклыми глазами, он спокойно заявил Минне, что все починит. Вооружившись рубанком и молотком, он вставил новые горбыльки в оконные переплеты и застеклил рамы. Стекло дал ему бесплатно стекольщик из города, сказав, что для Брозовского ему не жаль, ибо он всегда шел прямой дорогой, и некоторым не худо бы взять с него пример. Но сам он в эти дни не рискнет навестить Брозовских — дела в его лавке идут кое-как. Поэтому старик Шунке взял к себе в помощники учителя Петерса; тот, как заправский подмастерье, придерживал ему лестницу.
Бинерты с недавних пор установили в оконных нишах зеркала-шпионы. Одно смотрело влево по улице, другое — вправо. За неделю до смерти старый Келльнер сказал привратнику больницы, заговорившему о бинертовских зеркалах, что Ольга Бинерт переняла это у рантье Гартмана, у которого служила в девичестве.
Удобно устроившись за гардиной, Ольга могла наблюдать все, что происходило на улице. От ее взгляда ничто не ускользало. «Шпионы» очень редко бывали без работы. Теперь наступили их страдные денечки, и все затраты оплачивались с лихвой.
То, что сюда притащился этот старый хрыч Шунке, неудивительно, — он же из их шайки. Но присутствие Петерса поразило ее. Как он осмелился, как мог позволить себе путаться с этими… Непонятно… Да еще теперь, когда потерял место. Она уже много лет удивлялась Петерсу. Такой интеллигентный человек, но, видимо, жизнь ничему его не научила.
Ольга разозлилась. «Прогнали с места, сидит без куска хлеба, а важничает». Надо сбить с него гонор. Вот теперь ей представилась возможность отплатить ему за то, что он во время школьной экскурсии в Гибихенштейн «отшил» ее, когда она хотела с ним полюбезничать.
Все они получат по заслугам. Петерсу тоже достанется, как и Брозовским; он еще воочию увидит, как рухнет карточный домик его фантазий. У фюрера твердая рука, это не то что в старые времена, когда на народ низвергался поток никчемных распоряжений. Хорошо, что мы вовремя встали под знамена, не заперлись в своей норе. Потом-то все понабежали, захотели примазаться. Даже доктор, их сосед, вступил, хотя жена его всегда держалась в сторонке. Штейгер, Ольгин зять, называет их «павшими в марте»
[6], таких, как доктор и других, примкнувших в последнюю минуту. Бинерты же с полным правом могут считать себя старыми бойцами, хотя Эдуард никогда не понимал этого…
Окончив ремонт, Шунке нерешительно потоптался.
— Что я еще хотел сказать… Только пойми меня правильно, Минна… Вот, товарищи собрали… Восемнадцать марок двадцать пфеннигов. Это только из моего забоя. Возьми. Это от Красной взаимопомощи. Другие еще не отчислили. Но дадут все…
Шунке засмущался. По отношению к Минне он всегда испытывал некоторое чувство вины.
Осенью он крепко схватился с Юле Гаммером. На юбилейных торжествах рабочего хора Юле окрестил его и всех социал-демократов «социал-фашистами и паразитами». У Юле часто так бывало: в горячке он не выбирал выражений. Но Шунке обиделся и рассвирепел: «Если я такой негодяй, то ты раскольник и государственный нахлебник! Ты чересчур ленив, чтобы работать, потому и бегаешь к нам каждую неделю за пособием».
Минна с мужем развели тогда этих драчливых петухов, а в ноябре, после демонстрации, Юле пришел к Шунке и сказал: «Давай забудем это. Чего только не наговоришь сгоряча».
Шунке все еще служил кассиром в кассе вспомоществования. Работал он там многие годы не за страх, а за совесть. Позавчера он хотел было получить в банке денежное пособие для семей арестованных в Гетштедте «рейхсбаннеровцев», но опоздал. Банковские служащие высмеяли его. Счета оказались закрытыми, а Лаубе, к которому Шунке не без внутренних колебаний обратился, сказал ему, что сейчас переходный период и все само собой разумеется: деньги эти не пропадут, новое правительство хочет лишь оградить себя от возможных злоупотреблений.
Шунке словно хватили обухом по голове. Он задыхался.
Минна положила ему руку на
плечо. Ей не хотелось, чтобы он опускал глаза. Она знала, что он мансфельдский горняк. А горняки помогают без лишних слов. Даже если порой ошибаются в людях.
Покосившись на Вальтера, Шунке прошептал:
— Скажи Эльфриде, что Боде раздал на шахте все листовки. Пусть она как-нибудь зайдет к нему.
После полудня Ольга Бинерт насчитала сразу четыре велосипеда, стоявших у дверей Брозовских. То, что сторонники Брозовских, не стесняясь, посещали этот дом, уязвило ее.
Гости, стиснув зубы, слушали рассказ Минны. Дорожный рабочий из Гюбица сердился на Брозовского за то, что тот покинул его верное убежище и попал прямо в лапы нацистов. Сорокалетний горняк из Вицтумской шахты в ответ на это заметил, что партия не может вечно играть в прятки. Арест Брозовских вызвал бурю на шахте.
Позже к Минне зашел какой-то незнакомец. Держался он самоуверенно и утверждал, что живет в Гетштедте. Поговорив о том о сем, он спросил, где знамя. Подпольное партийное руководство, мол, поручило ему доставить знамя в безопасное место.
Едва он вошел, Минна сразу почувствовала, что он не «свой». Особой проницательности тут не потребовалось. Столь неуклюже не поступил бы ни один товарищ.
— Правильно, — со скрытой издевкой ответила Минна. — Так сделайте это.
Незнакомец вдруг заторопился и ушел. Эльфрида вспомнила, что видела его однажды в Эйслебене на консервной фабрике, когда уголовная полиция арестовала одного молодого рабочего.
Быстрее чем можно было ожидать Эльфрида выздоровела и взялась помогать Минне по хозяйству. Решили, что Эльфрида временно переселится в квартиру Гаммера, чтобы та, по крайней мере, не пустовала и была под присмотром. При обыске там вырвали все замки из дверей, и в комнаты входил любой, кому заблагорассудится, пока по просьбе Альмы Вендт домохозяин не заколотил двери трехдюймовыми гвоздями.
Однако Вальтер не был согласен с этим планом и хотел, чтобы Эльфрида осталась жить у них. Ведь все равно решили вести совместное хозяйство. Он долго спорил с женщинами и задержал Эльфриду больше чем на час. Спор был решен неожиданным образом.
На этот раз выехали опять вечером. Альвенслебен был доволен первоначальным впечатлением, которое произвели его внезапные налеты. Он полагал, что жители, прежде всего банда Брозовских, достаточно запуганы. Дневные аресты вызывали среди населения слишком много ненужных разговоров. Соседи бегали друг к другу, возмущались: даже те, кто не имел ничего общего с коммунистами, выказывали недовольство. Например, пастор. Сводки о настроениях среди жителей звучали, правда, благоприятно, однако сообщения со стороны наводили на размышления. Пока что Альвенслебен не мог себе позволить всего, что хотел. К тому же он получил приказ: накануне выборов умерить активность и действовать осмотрительнее.
В доме Брозовских под ударами затрещала дверь.
— Открывайте!
Штурмовики оттолкнули Минну и ворвались в квартиру. «Гвардейцы» Альвенслебена, разделившись по комнатам, перерыли весь дом. Обыскали также сарай, хлев и курятник.
— Кто вы такая, что вам здесь надо? — напустился Лёвентин на Эльфриду, которая стояла в коридоре, собираясь уходить. Выйди она двумя минутами раньше, ее не застали бы здесь. Вальтер, мгновенно забыв о споре, стоял с открытым ртом и ждал, что ответит Эльфрида фашисту.
— Что вы на меня кричите? Орите на своих…
— Осторожнее, куколка, а то упадешь, — вмешался один из штурмовиков и сделал Лёвентину знак: протянул руку с опущенным книзу большим пальцем.
— Станьте вон туда, в угол, — хмуро приказал ей управляющий Альвенслебена. Глядя мимо Эльфриды, словно ее здесь и не было, он распорядился: — Хорошенько посмотрите все. Баллерштедт, останешься здесь. В этой лавочке целый день какая-то подозрительная возня, как в голубятне… «товарищи» беспрерывно наносят визиты… Нам обо всем доложили, и, смею вас заверить, это прекратится.
Черноволосый штурмовик, которого Минна запомнила по первому налету, усмехнулся, глядя на Эльфриду:
— А эта цыганка смахивает на еврейское отродье. Ее так и тянет к «товарищам».
Эльфриду поставили рядом с Минной и Вальтером. Она еще больше побледнела, но внешне казалась спокойной. Вальтер стиснул голову руками. Почувствовав, что он сделает сейчас что-нибудь необдуманное, Минна крепко обняла его. За себя она не опасалась, — только за Эльфриду и сына. И еще боялась, что нацисты все же найдут знамя.
Наверху раздавался такой грохот, что, казалось, обвалится потолок. С шумом и треском сдвигали и опрокидывали мебель, весь дом содрогался и трещал. Покрытые паутиной фуражки штурмовиков говорили о том, что на чердаке обшарили каждый угол. Один за другим налетчики возвращались вниз. Последним спустился Лёвентин. Бросив карманный фонарь на стол, он велел почистить свой запылившийся мундир.
— Мы еще найдем эту тряпку! — процедил он сквозь зубы. — Один из вас сам укажет, где она спрятана, за это я ручаюсь. Мы помаринуем вас в вашем же соку. Пошли!.. А эту пташечку захватим с собой. Она не зря сюда залетела.
Указав на Эльфриду, он оторвал Минну от Вальтера, вцепившегося в нее.
Когда женщин вталкивали в машину, Брозовская спиной ощущала долгий вопрошающий взгляд мальчика, мучительно сверливший ее. Черноволосый штурмовик швырнул Вальтеру в голову сумочку Эльфриды.
— Убирайся к чертям, щенок! — крикнул он.
Вальтер бросился вслед за машиной, добежав до Бинертов, он остановился и повернул назад. Свет заднего фонаря машины отразился в бинертовском зеркале-шпионе.
В сознании Вальтера происходил сложный процесс. Сам того не понимая, мальчик в какие-то доли секунды расстался с беспечным детством. Его образ мышления изменился.
«Зачем ты бежишь вслед за машиной, будто маленький? — размышлял он. — Разве ее догонишь? Думаешь, тебе удастся освободить маму, как в книжке про индейцев Билл Тодд освободил похищенную краснокожими белую женщину? Дурачок, разве штурмовики выпустят из рук то, что схватили?»
Низко опустив голову и прижав к груди подбородок, Вальтер поплелся домой. Только сейчас он заметил, что выбежал в одних носках. Он даже ступать стал осторожнее, чтобы сберечь носки и не доставить матери лишних хлопот.
Бережно взяв с плиты велосипедный фонарь Отто, он наполнил его карбидом и направился в сарай. Ворча, подвинул ручную тележку на место, убрал разбросанный огородный инвентарь и загнал в курятник кур.
Ослепленная светом фонаря, громко закудахтала наседка, сидевшая в пустом закутке для свиней. Вальтер посветил на ее гнездо в соломе. На следующей неделе ожидались цыплята. Наседка рылась в раздавленных яйцах и склевывала скорлупу. Схватив курицу за крылья, Вальтер повертел ее в воздухе, пока она не оцепенела, а затем сунул к остальным курам.
Вернувшись в дом, мальчик сел, подпер голову руками и задумался. Значит, нацисты теперь сильнее, у них есть винтовки. Сдержать их теперь некому. Они требуют знамя. Отец ни за что не хочет отдать его. Поэтому они избили отца и забрали. Мама спрятала знамя и тоже не отдает его. Поэтому штурмовики то и дело увозят ее и ругают. Брат хотел защитить отца и мать, его тоже избили и посадили в тюрьму. Сам он тоже не выдал, поэтому и его били…
Вот так обстояли дела.
Знамя привезли из Советской России. Здесь, в этой комнате, дядя Рюдигер рассказывал, сколько он перетерпел, пока привез знамя к мансфельдцам. Оно принадлежит рабочим. И никому больше. Оно дороже, чем все их имущество, намного дороже. Если бы это было не так, разве мама, которая бережет, как сокровище, каждую чашку, даже с отломанной ручкой, разве она позволила бы перебить всю посуду?.. Нет, не позволила бы. Знамя принадлежит горнякам. Они, говорил отец, должны еще учиться, как защищать себя и самим строить жизнь.
И вдруг он понял, что должен делать. И подсказали ему это штурмовики. Надо всегда учиться, а это возможно только, если ты наблюдателен. Вальтер был очень наблюдателен.
Он запер входную дверь и задвинул в ручку стоявший наготове брус. Знамя необходимо вынести из дома — вот что! И сделать это, кроме него, Вальтера, никто не может. Отец сказал однажды, что скорее позволит сжечь дом, но знамени не отдаст. А тот чернявый гадина грозился, что в следующий раз, когда придут с обыском, то поджарят их малость…
Надо спасать знамя, унести сегодня же вечером. Потирая пальцами лоб, Вальтер стоял посреди комнаты. Вечером?.. Нет, его могут заметить. Ночью, в темноте, школьники не гуляют по городу, слишком много надсмотрщиков. Лучше всего самое неожиданное. Он сделает это завтра, среди бела дня, когда никому и в голову не придет.
Раздумывая, мальчик бродил по дому. Но куда его отнести, кому? Кто возьмет его, спрячет и не выдаст?
Страшные сомнения одолевали Вальтера. Вопрос возникал за вопросом, и ни на один он не находил ответа. Как все было бы просто, если бы можно было спросить у отца. Ишь чего захотел — отца… Если бы здесь был отец, то Вальтеру нечего было бы делать.
Его лучших друзей — дядю Юле и тетю Гедвигу — посадили. Вот если бы можно было пойти к ним… Господин Вольфрум и господин Вендт тоже арестованы. Дедушка Келльнер умер, он наверняка не отказался бы. Пауля Дитриха тоже забрали… Мальчик даже вздрогнул от страха. Пауля! Ведь он, Вальтер, только он виноват в том, что Эльфриду арестовали! Она бы успела уйти, если бы он ее не задержал. Пауль никогда ему этого не простит. Он вел себя как ребенок, у которого хотели отнять игрушку.
Вальтер мысленно перебрал целый ряд знакомых своих родителей. У кого из них хватит мужества?.. Мальчик понимал, что для этого требуется мужество. Ведь если узнают…
У отца много товарищей по работе, но их он знает не очень хорошо. Господин Шунке, господин Петерс, господин Боде. Боде! Однажды, когда дядя Юле презрительно отозвался о Боде, отец сказал: «Брось, он хороший парень». Дядя Юле всегда был скор на расправу. Господин Боде был раньше знаменосцем у «рейхсбаннеровцев», значит, он понимает, что такое знамя. Тем более это знамя. Листовки он тоже брал на шахту. Вальтер сам слышал, как господин Шунке сказал об этом маме, слышал, хотя они разговаривали тихо.
Вдруг ему пришло в голову, что он с таким же успехом может думать лежа. Будет даже удобнее. Он поднялся наверх, придвинул к стене стоявшую посреди комнаты кровать и залез под одеяло. Напряженно вслушивался он в ночь — не едет ли машина. Он вообразил, что за ним непременно приедут. Но на этот раз он их не впустит. Под утро усталость одолела его, и он проспал школу. Когда Вальтер открыл глаза, уже сияло солнце. Поеживаясь, посидел еще немного на кровати. Опять учитель будет читать нотацию, как в тот раз, когда он пропустил день «без уважительной причины».
— А вот возьму да не пойду сегодня в школу, и пусть этот учитель-м… — произнес вслух Вальтер и тут же осекся.
Слово, которое он не договорил, было особым выражением, каким его старший брат окрестил учителей. Он называл их всех без исключения мучителями. А этот новый, с возмущением подумал Вальтер, к тому же и шпик.
Мальчик вышел в кухню и подставил голову под кран, однако настроение его не улучшилось. Мама этого терпеть не могла, но когда ее не было дома, Отто проделывал то же самое. Вальтер угрюмо пожевал горбушку черствого хлеба. Ничего съестного больше не нашлось. Разжигать огонь в плите ему не хотелось, это слишком долго. А вообще-то можно было бы сварить какую-нибудь кашу и солодовый кофе. Немного сахару еще осталось…
Он съел чайную ложечку сахара, бросил горбушку в ящик и поспешно направился на чердак.
А где же лестница? Может, эти бандюги унесли ее во двор?
Вальтер огляделся. Не найдя лестницы, он присвистнул и, ухватившись за поперечную балку, подтянулся. Усевшись верхом, он стал продвигаться к скату черепичной кровли.
Крыша совсем прохудилась. Повсюду сквозь щели виднелось небо. В оттепель мать по всему чердаку ставила тазы и ведра. Он часто лазил на чердак, но никогда не обращал внимания на эти щели, а сегодня они сами бросались в глаза.
Он нагнулся, вытащил задвинутый между обрешеткой и кровлей мешок и стал шарить в освободившемся пространстве. При этом он нечаянно выдавил локтем треснутую черепицу и она со стуком полетела во двор. На чердаке сразу стало светло. Оказалось, что мать засунула одеяло под самую нижнюю доску.
Уголок одеяла, за который он ухватился, был мокрым. Вальтер, рассердившись, заткнул мешком дыру в крыше и подумал, что придется все же затопить печку, чтобы высушить одеяло. Вот обмотать бы им сейчас башку учителю и этой стерве — Линде…
Спустившись, он растопил плиту и развесил над ней одеяло. Запахло дымом и горелой угольной мелочью.
Во что же положить одеяло? На дворе, когда он кормил кур, ему пришла мысль использовать чан, в котором готовили корм для свиньи. Он висел, опрокинутый, на калитке козьего хлева. Все равно он больше не нужен, только ржавеет. Свинью-то кормить нечем.
Под струей воды Вальтер хорошенько вычистил метлой чан и поставил его обсохнуть в духовку.
«Оно не промокло, только немного отсырело», — подумал Вальтер, бережно ощупав одеяло. Затем туго свернул его, уложил в чан и накрыл крышкой, привязав ее веревкой к ручкам.
В прихожей Вальтер остановился и глубоко вздохнул. Да, не так-то просто выйти на улицу, как ему казалось поначалу. Не с приятелями играть идешь… Что, если Бинертша следит за ним в свое зеркало? Ей все видно. Запустить бы в нее камнем! Что ответить, если по дороге кто-нибудь спросит: «А что у тебя в чане? Где твоя мама, что поделывает отец?»
Он грубо ответит: «Несу кухонные отбросы знакомым. Разве не видно?..»
За дверью Вальтер еще раз представил себе, с каким возмущением он ответит на глупый вопрос, и напрягся, словно ему предстояло поднять огромную тяжесть. Ухватив чан за обе ручки, он понес его перед собой. Вот придет он к Боде и решительно скажет ему: «Товарищ Боде, возьмите на хранение знамя. Оно должно быть обязательно в надежных руках».
Но тут же опять возникли сомнения. А что, если Боде окажется дома не один?.. Жена его наверняка поднимет крик. В какую смену он работает?.. У палисадника Боде Вальтер остановился, раздумывая, не повернуть ли назад.
Боде спорил с женой.
— Рано еще удобрять ржаное поле, — утверждал он. — Земля сырая, слишком сырая.
— В поместье сыпали удобрение прямо по снегу, — возражала жена. — Почему мы всегда должны быть последними?
— Барону-то что, если даже половина утечет с талой водой. А нам спешить некуда. Мне еще надо зайти к Шунке.
— Не суйся больше в эти дела. Видел, как получилось с Эльфридой? Если узнают, что она здесь ночевала, несдобровать и нам. Ничего тут не изменишь. Что я буду делать с детьми, если тебя заберут, как Брозовских?
— Сейчас нельзя стоять в стороне. Постыдилась бы!
— Постыдилась, постыдилась… Мучиться-то мне. А за что, за что?..
Увидев Вальтера у калитки, Боде сразу вышел во двор.
— Что хорошего принес? Заходи.
— Отбросы для скотины, — запинаясь, ответил Вальтер.
Вместе с ношей он быстро зашел за угол, чтобы жена Боде не заметила чана.
— В чем дело, что он принес? — крикнула она из кухни, привстав на цыпочки и вытянув шею.
— Там знамя, господин Боде, — зашептал Вальтер. — Спрячьте его быстрее.
Хрящеватый нос Боде побелел, как на морозе. Громко высморкавшись, он вытер палец о штаны. Горячая волна крови прилила к его лицу.
— Какое знамя? Парень, ты что…
— Т-сс! — Вальтер кивнул головой в сторону кухни.
— Правильно, малыш, молодец. — Овладев собой, Боде заговорил громко, чтобы слышала жена. — Корм для скотины всегда пригодится. — И, подойдя к кухонному окну, добавил: — Картофельные очистки для нашей свиньи. Высыплю их в бочонок.
На пороге хлева он тихо сказал:
— Какой же ты неосторожный, днем… Давай быстрее сюда, ей незачем знать об этом.
Смутившись, Вальтер стал оправдываться:
— Но ведь в темноте еще заметнее, когда тащишь чего-нибудь тяжелое. Каждый обращает внимание. Я думал…
Боде распахнул над хлевом дверцы курятника и сунул туда чан.
— Ну, вот. Выйдешь садом, а то она спросит, почему не забрал чан. — Боде проводил Вальтера до задней калитки и вернулся в дом.
Сделав вид, будто ему все осточертело, он проворчал:
— Ладно, пойду разбросаю удобрения. В саду уже совсем сухо, ветром хорошо продуло.
— Я же говорила, — оживилась жена. — В такую-то погоду самое время. А мальчик ушел? Мог бы пообедать у нас…
Боде утвердительно кивнул головой.
— И чего только с людьми делают, — добавила она, вздохнув.
— Вот видишь. А мне стоять в стороне и смотреть? Промолчав, она поставила начищенную до блеска сковороду на кухонную полку.
Боде набил трубку и не спеша прикурил.
— Приготовь тележку, — сказала жена, развязывая фартук. — Если поторопишься, через час закончишь. А я пока сбегаю к мяснику. Еще и лапшу успею сварить…
Боде пошел в сарай, достал лопату, фартук и пакеты с удобрением. Услышав, как хлопнула дверь, он вернулся обратно и полез на чердак. Открыл старый сундук и стал в нем рыться. Не находя того, что искал, он тихо чертыхался. Наконец из-под старой одежды он вытащил запыленный чехол для знамени. Как удачно, что Цонкель приобрел тогда этот чехол, подумал Боде.
Заперев на засов двери сарая, Боде вытащил чан, втиснул одеяло с зашитым знаменем в чехол, перевязал его и уложил снова в чан. Затем погрузил все на тележку и выехал со двора.
На пригорке за Гербштедтом дул резкий пронизывающий ветер. Тяжело дыша, Боде поставил тележку на меже своей пахотной полоски и надел синий холщовый фартук, в котором всегда выходил сеять. В поле не было ни души. Только вдали, в стороне Вельфесгольца, виднелись упряжки — пахали на помещичьем поле. Они ему не мешали. Насыпав удобрение в полу фартука, он зашагал по участку, разбрасывая аммиачную селитру. Вернувшись после первого захода, он еще раз внимательно осмотрел местность и взялся за лопату. Его руки работали как машина. Дерн он осторожно снял и положил в сторону. У самого межевого камня вырыл яму в метр глубиной и опустил в нее чан. Засыпал яму, утоптал землю и прикрыл сверху дерном. Пот лил с него градом.
Затем Боде пошел навстречу ветру, напевая и горстями разбрасывая остатки удобрения.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Сначала Брозовский воспринял только ноющую боль и звон в ушах, но постепенно боль заполнила все тело, вызвав неприятные подергивания. Он не мог понять, откуда этот звон и нытье. Ему казалось, будто он парит в воздухе, а все эти тупые, дергающие прикосновения идут извне. Потом он почувствовал невыносимо резкую боль, но не мог определить, где — в голове, в груди или в руках. Он пытался преодолеть ее, но она с еще большей яростью вгрызалась в каждый кусочек тела. По мере того как возвращалось сознание, тело обретало чувствительность. Руки шарили, нащупывая опору. Все тело горело огнем, каждый нерв извивался в бушующем море пламени. Он сделал усилие, пытаясь открыть глаза, и не знал, удалось ему это или нет. Вокруг по-прежнему было темно. Внезапно страшная боль вернула его к действительности. Мозг начал работать, как заведенный механизм часов, и с каждым ударом пульса его память все больше и настойчивее оживала.
Кажется, теперь ночь? На допросе его несколько раз швыряли на пол; помнилось, что в комнате был еще дневной свет. Когда это было? Вчера, позавчера? Его сын отчаянно защищался. Могучее тело Юле Гаммера, которого они все-таки одолели, повисло на сломанных стульях, словно выпотрошенная туша животного. С того момента Брозовский не видел ни Отто, ни Юле. Увидел только санитара, который бинтовал головы пострадавшим штурмовикам, а одному из них накладывал шину на руку.
Брозовский шарил вокруг себя по гладким каменным плитам. Пальцы его попали в какую-то липкую грязь, он с отвращением стряхнул ее и медленно уселся. Левая рука была неподвижна. От плечевого сустава до локтя она раздулась в бесформенный ком, предплечье висело, словно парализованное. Отпираясь на правую, Брозовский повернулся, чтобы встать на колени. Это удалось ему лишь после нескольких отчаянных попыток. Согнувшись, он привстал и пальцами развел слипшиеся веки. Свет! Вокруг стало светло, он видел. Должно быть, день клонится к вечеру. Сквозь прутья решетки пробивались сумерки, заходящее солнце окрасило узкую полоску неба в темно-сиреневый цвет. С поразительной ясностью в его сознании запечатлелись мельчайшие детали этой картины. Он прислонился горячим лбом к холодной стене, надеясь хоть немного унять нестерпимую боль. Но это не помогло, все тело его пылало, словно огромная зияющая рана.
За дверью послышался шум. Протопали кованые сапоги, пронзительно закричала женщина. Затем все стихло. Медленно темнело. Сгущались сумерки.
Когда на потолке вспыхнул свет, Брозовский отошел в дальний угол камеры.
— Смотри-ка, этот снова стоит, как ни в чем не бывало… Эй, подай голос…
— Я же говорю: у него дубовая шкура. Поливать не потребуется.
Штурмовики вытащили Брозовского из угла и объявили ему о предстоящей очередной «беседе». Держась за перила, он со стоном взобрался по лестнице. Его привели в большую комнату.
Она показалась ему знакомой. Кажется, здесь помещалась городская касса… Но ему не дали додумать. Штурмовики обрушили на Брозовского поток брани и угроз, пытаясь его запугать.
— Сегодня дело будет посерьезнее, милейший. Когда тебя начнут спрашивать, отвечай как следует.
Его поставили посреди комнаты. На стертых, усеянных бесчисленными сучками половицах виднелись большие пятна крови. Окна за деревянным барьером были завешаны толстыми шерстяными одеялами, а цветочный горшок с шарообразным кактусом, за которым кассир влюбленно ухаживал, стоял на сейфе. Перед глазами Брозовского раскачивался стальной прут, словно выискивая, куда побольнее ударить.
— Стань прямо, руки на затылок! — рявкнул ему в ухо стоявший сзади штурмовик. — Ты же сам охранял когда-то французов и знаешь, как это делается.
— В двадцать первом, во время гельцевского путча, он даже испытал это на собственной шкуре, — вставил какой-то тип с длинной лошадиной физиономией, щеголяя своей осведомленностью.
Брозовский смог поднять только правую руку.
— Начало неплохое…
Они схватили его за левую, сломанную, и вывернули кверху. От безумной боли Брозовский потерял сознание.
Когда он пришел в себя, то снова почувствовал тошноту и захлебнулся в приступе кашля. Штурмовик-санитар сунул ему под нос комок ваты, смоченный остро пахнувшей жидкостью.
— Отошел… Дурачком не прикидывайся, у нас это не пройдет, дружочек. Расскажи-ка теперь, куда вы дели знамя.
Брозовский не ответил. Он даже не взглянул на альвенслебенского управляющего. Хлестнули пощечины. Брозовский, покачнувшись, упал на колени, потом медленно поднялся. И по-прежнему молчал.
— Приведите-ка его сыночка, — приказал Лёвентин. — Это ему развяжет язык… Сейчас мы предложим тебе семейную беседу за решеткой. Такого ты еще не знаешь. Уж кто-нибудь из вас разговорится.
У Брозовского словно что-то оборвалось внутри. Пытать его мальчика… Нет, пусть лучше его самого… Он хотел было заговорить, но голосовые связки его будто заржавели.
Трое втащили Отто в комнату. Его лицо превратилось в бесформенную массу. Лишь налившиеся кровью глаза сверкали, как кипящая медь. Только по глазам узнал его отец, больше ничто не напоминало ему родного сына.
Штурмовики силой подтащили упиравшегося юношу к Лёвентину.
— Ни слова, отец… Ни слова!
— Заткнись! — Нацисты содрали с него рубашку.
Отто вырвался и стал отбиваться.
— Гад! — сдавленно прохрипел какой-то штурмовик, отлетевший к барьеру.
Нацисты гурьбой накинулись на юношу и перегнули его через деревянный барьер. Кожа на спине Отто лопнула под ударами плети. Из его груди вырвался почти животный хрип, но он не проронил ни слова.
Брозовский кинулся на мучителей. Куском проволоки они связали ему руки за спиной и ремнем перетянули горло. Он упал.
Очнулся Брозовский на полу камеры. Арестантская камера в этом городке была поистине каменным гробом, века наполнили ее гнилостным запахом и промозглой сыростью. Она сама могла бы служить орудием пытки. И все же, когда снаружи запирали дверь и Брозовский оставался один, он чувствовал, как спина его согревается на холодных камнях. Камни были человечнее.
Но мучители не оставили его в одиночестве. Открылась дверь, и к ногам Брозовского, словно мешок сырых опилок, шмякнулся Рюдигер. На полу, где он лежал, сразу появились темные пятна.
— Вы главари, и знаете все. А ну, выкладывайте!
Оба лишь холодно посмотрели на палачей. Ни один мускул не дрогнул на их лицах.
Штурмовики прикрутили Рюдигера к откидной койке у стены; они загоняли ему занозы под ногти, раздробили челюсть. И все напрасно.
Брозовского согнули дугой так, что у него затрещали суставы и хлынула кровь изо рта. Он молчал.
Почувствовал ли он себя хоть раз сломленным? Нет! Он мог утверждать это с чистой совестью. Могло отказать его тело, руки, ноги, слух,
ОН — нет. Его жизнь пульсировала лишь между его рассудком, который временами помрачался, и совестью, которая была всегда начеку. Все остальное для него уже не имело значения.
Подвешенный к оконной решетке, он был похож сейчас на издававший стоны спутанный моток веревок. Вывернутые суставы распухли, руки и ноги безжизненно повисли, на его теле не было живого места.
Единственное, что еще осталось, — это коммунист Брозовский. Мышцы, ребра, кости больше не принадлежали ему. Ну, что ж, пусть палачи пытают его, топчут, жгут, ломают и вешают. Но его мозг и мысли принадлежат коммунисту Брозовскому. И он молчал.
Груды протоколов росли. Третья часть жителей Гербштедта прошла через руки «домашней гвардии» Альвенслебена. Показания за показаниями. Но лишь немногие показали, что знамя находится у Брозовского, хотя им предъявляли фотографии, снятые в день похорон в Эйслебене.
Штурмовики арестовали учителя Петерса, Шунке, Боде, а потом…
Секретарь магистрата Фейгель насмешливо кривил губы. Наконец осуществилась его тайная мечта, и он не мог скрыть своего удовлетворения по этому поводу. Альвенслебен, разозлившись, оттянул церемонию передачи власти еще на один день, но что-либо изменить был не в силах. Фейгеля, этого «изворотливого пса», он терпеть не мог, и в отношении кандидатуры бургомистра у него были свои планы. Однако начальство распорядилось иначе. Местные органы власти должны быть очищены от низшей расы, марксистов и всяких прочих демократов. В Гербштедт назначили нового бургомистра.
По случаю «прихода к власти» в Гербштедт на торжественную церемонию были созваны все местные штурмовики. Фейгель потребовал достойного «обрамления». Аудитория была настроена отлично — после церемонии намечался банкет в погребке «У ратуши». С нескрываемым удовлетворением и необычно скрипучим голосом Фейгель зачитал Цонкелю в кабинете бургомистра декрет о восстановлении профессионального чиновничества. Тоном и манерами он подражал при этом старому ландрату фон Веделю, у которого двадцать пять лет назад начал свою карьеру писарем.
— Вашему кумовскому хозяйничанью пришел конец. Свинарник следует основательно вычистить. Передайте мне ключи. И — вон отсюда…
— Это… это еще не закон, — начал было Цонкель. — Этот декрет…
— Теперь распоряжаемся мы!
Стоявшие вокруг штурмовики загоготали. Один из них пнул сапогом кресло, в котором, словно парализованный, сидел за письменным столом Цонкель.
— Пусть хотя бы встанет, когда с ним разговаривают! — сказал штурмовик.
— Да гоните его в шею! — заорал другой.
Цонкель тяжело поднялся. Он пытался протестовать. Над ним стали издеваться. У выхода сын зерноторговца Хондорф ухватил его за грудь и сорвал воротничок с галстуком. Кто-то толкнул его, он пошатнулся и ударился головой о дверной косяк.
— К этому гусю я как-то зашел насчет пособия, — сказал, смеясь, штурмфюрер Хондорф. — Так он все на законы ссылался. Пускай теперь сошлется. Закон есть закон.
Штурмовики прогнали его, как сквозь строй, по коридору и вниз по лестнице, не прекращая грубых шуток.
Городской полицейский Меллендорф встал навытяжку перед Хондорфом.
— Порядок, — сказал тот и барственным жестом отпустил его.
— Дайте, я ему врежу, — крикнул какой-то низенький парень лет восемнадцати и ударил поясным ремнем Цонкеля по голове.
— Сегодня у нас великий боевой день! — шумел парень. — Кому там еще всыпать? Так хорошо начали…
Цонкель, отпрянув, закрыл руками голову. Его пнули ногой в зад.
— Ага, он сдается, поднял руки… Нас этим не проймешь! — рычал парень, срываясь на визг. У него ломался голос, и ему очень хотелось, чтобы он звучал мужественно.
Цонкель лишь успел сообразить: «Неужели это Карл Вендт?.. Кажется, Барт рассказывал, что внебрачный сын Лаубе вступил в штурмовой отряд».
Цонкель пролетел последние ступеньки. Один из штурмовиков подставил ему ножку, он упал и рассек верхнюю губу.
В первое мгновение Брозовский не узнал человека, которого с шумом втолкнули в комнату. Напрягая память, он провел по глазам рукой. Цонкель! Вот уж кого он меньше всего ожидал встретить, когда его снова привели на допрос. Неужели бургомистру придется вытирать пол своим темно-синим костюмом?
— Надеюсь, вас не надо представлять друг другу? Коллеги из фирмы «Христосики».
«Свита», доставившая Цонкеля, покатилась со смеху от «первоклассной остроты» своего обершарфюрера. Но Лёвентину было не до шуток. Он рявкнул на них так, что посыпалась известка со стен. «Бездельники, — со злостью подумал Лёвентин, — ни на что не годны, а уже мнят о себе…»
— Убирайтесь отсюда!
Лёвентину надоело заниматься рукоприкладством. Вечером он решил наконец доложить крейслейтеру о результате допросов. Но предварительно он хотел испробовать новый прием, подсказанный Фейгелем: устроить главным смутьянам очную ставку, и сообщил кое-какие необходимые для этого «гвоздевого номера» детали. «Ну и прохвост», — подумал о новом бургомистре Лёвентин.
Управляющий насупился. Лоб его перерезали четыре складки.
— Итак, с кого начнем? Кто ударил меня стулом в «Гетштедтском дворе»?.. Эй вы! Вы обязаны знать это по долгу службы! — Рукояткой стальной дубинки он ткнул Цонкеля между глаз.
Цонкель догадывался о том, что происходило в последние дни здесь. Для жителей города это не было тайной. Но он ничего не хотел знать и ничему не хотел верить. «Этого не может быть. Пока я исполняю свои обязанности, я не потерплю никакого беззакония», — внушал он себе, хотя уже не мог что-либо изменить. Городская полиция ему не подчинялась, никто не хотел выполнять его распоряжений. Да и был ли он бургомистром последнее время? Нет, он лишь отсиживал служебные часы. Словно видение всплыла в памяти сцена в кабинете, когда Брозовский сказал ему: «Ты еще вспомнишь меня. Вспомнишь, когда тебя самого вышвырнут. Да будет слишком поздно».
Слишком поздно!.. Слова Брозовского глухо звучали в его ушах, он слышал их с пугающей ясностью. Остального Цонкель не слышал. Брозовский оказался прав. Сбылось то, о чем он говорил на квартире у Шунке: сначала возьмутся за коммунистов, потом за социал-демократов. Так оно и вышло.
О чем спрашивает стоящий перед ним человек? Цонкель ничего не понимал и ничего не отвечал. Молчал он и когда штурмовики сбили его с ног ударами стальных прутьев.
— Я тебе подскажу, кто это был. Я помогу тебе… — Лёвентин хлестнул его изо всей силы. — Вот тебе, вот! Это был Гаммер, вспоминаешь? Но он у меня уже готов. И с тобой я разделаюсь!
Цонкель обливался потом и кровью. В нем пробудилось то, что, казалось, давно уже умерло, — старое горняцкое упорство. Он не согнулся перед палачами. Да, было слишком поздно. И он был тоже виноват в том, что стало слишком поздно. Он верил тем, наверху, принимал за чистую монету все, что говорили о таких, как Брозовский: будто они преследуют лишь свои сугубо партийные интересы. Цонкель с отчаянием бил себя в грудь, рвал волосы, стонал под ударами нацистов и до крови кусал губы, — но не от боли, а от сознания своей вины. И безудержно плакал. Штурмовики торжествовали: этого они быстро сломили, этот расскажет все, даже больше, чем от него ожидают.
Лишь один Брозовский знал, что Мартин Цонкель ничего не скажет, ни добровольно, ни под пыткой. Он видел, что плачет Цонкель — от стыда…
Приход крейслейтера на время прекратил допрос. Альвенслебен, не выбирая выражений, высказал «домашней гвардии» свое недовольство. Если он что-нибудь вбил себе в голову, он пытался осуществить это любой ценой. Вот уж никак не рассчитывал крейслейтер, что встретит в Гербштедте подобное сопротивление. Все шло вкривь и вкось. Сегодня он возьмет вожжи в свои руки: так или иначе сверху получен приказ — навести наконец порядок в этом городишке.
— Никуда вы не годитесь! — сказал он Лёвентину в присутствии Фейгеля. — Если я проиграю пари, вам несдобровать. Запомните это.
«Обошел меня все-таки, канцелярская крыса», — подумал с неприязнью Альвенслебен и бросил на Фейгеля взгляд, который не сулил новому бургомистру спокойной жизни с господином ландратом.
Лёвентин пожал плечами. Он сделал все, что мог. Альвенслебен надменно заявил ему:
— Посмотрите, какие чудеса вам покажу я, если возьмусь за дело. Я живо приручу этот сброд.
Штурмфюрер Хондорф предложил попробовать вариант с Вендтом-младшим. Это обещает быть забавным. Просто удивительно, каким стал этот парнишка, — настоящий сорвиголова.
— Кто он такой?
Услыхав, что Вендт — пасынок арестованного Генриха Вендта, Альвенслебен тотчас согласился: подобные сцены он любил — и приказал позвать Карла…
Войдя, юноша выбросил руку вперед и вытянулся.
— Ты знаешь Брозовского? — спросил Альвенслебен. — Знамя у него?
— Так точно, крейслейтер!
— Скажет ли он это тебе? — Альвенслебен поиграл хлыстом. Кажется, этот малец из неплохого теста.
— Конечно, крейслейтер! — Парень буквально рос на глазах.
Альвенслебен открыл портсигар.
— Куришь?
Вендт кивнул и нервным движением взял сигарету.
— Благодарю, крейслейтер.
Фейгель стал судорожно искать спички, но Альвенслебен с неприязнью в голосе остановил его:
— Не трудись, бургомистр, — и щелкнул зажигалкой. На его гладко выбритой физиономии с резкими чертами появилось хищное выражение.
Внимательно следя за лицом Карла Вендта, он спросил, подчеркивая каждое слово:
— Твой отец тоже здесь? А ты, оказывается, крутишь, парень…
— Он мне не отец, крейслейтер! — горячо перебил его Вендт. — У меня нет отца…
— Ладно. Посмотрим.
Брозовский сидел под самой лампой. Его посадили на винтовой стул, поднятый до упора. За его спиной стояли, перешептываясь, палачи. Оборачиваться ему запретили.
— Как всегда, мы приготовили для тебя маленький сюрприз, — усмехнулся один из штурмовиков.
Вошел Альвенслебен. Вся свора щелкнула каблуками. Подбоченясь, Альвенслебен дважды обошел вокруг Брозовского, внимательно вглядываясь в него, и сказал с брезгливой миной.
— От него воняет, как от свиньи.
Штурмовики подобострастно загоготали.
— Он вправду свинья, крейслейтер, — угодливо выскочил один из них.
Вошли Лёвентин и младший Вендт. Карл вытягивал шею, чтобы расслышать последние распоряжения управляющего, которые тот отдавал вполголоса.
— Это он? Ты знаешь его?.. Спроси, куда он спрятал знамя.
Закурив новую сигарету, Альвенслебен бросил пачку штурмовикам.
Карл стоял, вытянувшись. Когда он подошел к Брозовскому, лицо его и шея мгновенно побагровели.
— Знамя у тебя, Брозовский. Оно всегда было у тебя, я сам видел его у вас дома. Отдай его…
Словно испугавшись собственной смелости, он отступил на шаг и растерянно посмотрел на Альвенслебена. Под ледяным взглядом крейслейтера он подтянулся и вдруг пронзительно крикнул:
— Куда ты его запрятал? Отдай!
Брозовский узнал парня, лишь когда тот подошел к нему вплотную, — и брезгливо отвернулся. Что ж, возможно, он иногда бывал несправедлив к Генриху, но такого Генрих не заслужил.
Один из стоявших сзади штурмовиков повернул стул так, чтобы Брозовский оказался лицом к Вендту. Губы Карла судорожно кривились, руки дрожали, то сжимаясь в кулаки, то разжимаясь. Он боялся крейслейтера.
— Говори, где оно? Ты слышишь, Брозовский?
Брозовский смотрел мимо бесновавшегося юнца, словно не был знаком с ним и заданный вопрос относился к кому-то другому. Карл Вендт, растерявшись, оглянулся на Альвенслебена. Крейслейтер выжидающе, с любопытством смотрел на парня и, затягиваясь сигаретой, пускал в потолок клубы дыма. Он словно наслаждался сценой. Да, это была великолепная минута…
Внезапно Вендт ударил Брозовского. Стул покачнулся, Брозовский потерял равновесие и упал. Вендт бросился на него и начал бить ногами и кулаками.
— Скажешь? Скажешь?
От изнеможения у мальчишки выступила на губах пена. Валявшееся у его ног тело только вздрагивало. Никакого результата.
В порыве раздражения Альвенслебен хотел было прогнать Карла, но, подумав, решил подождать. Все же это щекочет нервы, такое не каждый день увидишь. Жаль только, что своей горячностью парень портил дело.
— Приведите его старика. Будет чему поучиться! — с циничной усмешкой распорядился крейслейтер. Затем подтащил к себе опрокинутый стул и сел на него, поджав ноги.
Ослепленный светом, Генрих споткнулся о порог и наступил на руку Брозовскому, распластанному на полу. Усы Генриха свисали двумя свалявшимися клочками войлока. Сквозь протертые рукава куртки торчали острые локти, измятые штаны были порваны на коленях, внизу, к бахроме, прилипли кусочки кожи. Генрих не мог стоять, штурмовикам пришлось его поддерживать. Голова заключенного болталась, казалось, она держится на тонкой ниточке, как у марионетки. Отсутствующим взглядом скользнул он по предметам и людям, как бы не замечая ничего вокруг.
По знаку крейслейтера старика посадили на стул. При виде отчима Карл отступил и хотел было спрятаться за спинами штурмовиков.
— Эй, ты! Так мы не договаривались! Спроси-ка старика, может, он знает. — Альвенслебен рассматривал отца с пасынком, как две клячи, которые собрался продать живодеру и прикидывал, сколько за них выручит.
Лёвентин понимал своего хозяина без слов. Он пнул молодого Вендта коленом под зад.
— Слышал приказ?
Словно затравленный зверь, повернулся пасынок к отчиму. Издавая какие-то нечленораздельные звуки, он закрыл лицо руками.
— Не ломай комедию! — грубо прикрикнул Лёвентин. — Сперва петушился и выхвалялся, а теперь раскис. Но все же мы надеемся, что штурмовик Вендт справится с паршивым заключенным Вендтом.
Последние слова заставили Генриха поднять голову. Глубоко запавшие глаза его расширились от ужаса. Нет, это не сын! Этого не может быть! Нет! Его узловатые пальцы уставились на пасынка.
— Нет, это не он!
С глухим хрипом старик упал. Альвенслебен приказал убрать его, а заодно выгнал и парня.
— Похвально!.. Впрочем, ничего удивительного, его же воспитал такой, как этот… — Альвенслебен щелкнул пальцами.
Затем он бросил окурок в горшок с кактусом, стоявший на сейфе, и долго смотрел, как вьется дымок вокруг колючек.
— А ну, приведите его в чувство, — кивнул он на Брозовского.
Один из штурмовиков подошел к полке и достал из сигарной коробки ватный тампон. Брозовского посадили на стул. Когда он открыл глаза, Альвенслебен сказал:
— Уйдите все. Останутся только Лёвентин и вы (он имел в виду штурмовика, державшего тампон). Да, вы. И принесите мне стул поудобнее. На случай, если это затянется.
Допрос длился дольше, чем предполагал крейслейтер, и безрезультатно. Наконец у него лопнуло терпение: откуда у этих мерзавцев такая выдержка?.. Поразительно. Он одернул полы мундира.
Ночь, даже самая долгая, длится с вечера до утра. Утром она кончается. Сегодняшняя ночь не имела конца. Брозовский знал это лучше других. Все муки и боль, если бы их собрать за целую человеческую жизнь, пришлось пережить Брозовскому в тысячекратном размере в эту одну-единственную ночь.
Брозовский и знамя слились воедино. Он не отдавал его. Только одна мысль еще тлела в нем: не отдавать знамени.
Штурмовики втолкнули в комнату Пауля Дитриха. Он летал как мячик под ударами кулаков. Под конец они еще оттоптали ему каблуками пальцы на руках, — он схватил за горло штурмовика с лошадиным лицом и, даже упав, не отпускал его.
После допроса какой-то субъект с перебинтованной головой и руками, похожими на звериные лапы, выволок за волосы Эльфриду Винклер.
Только с Юле Гаммером они были осторожнее. Лёвентин приказал Меллендорфу надеть ему наручники. Впятером они притащили его, закованного, и поставили перед крейслейтером.
— Это известный Гаммер. Помните, в «Гетштедтском дворе»… Мы уже несколько раз допрашивали его.
— Знаю. Вы мне все уши прожужжали об этом хулигане. — Злорадно усмехаясь, Альвенслебен обратился к Юле: — Ну как, с «боевой организацией против фашизма» покончено, а?.. Вот мы вас и прижали.
Юле соображал: «Куда его ударить? Лучше всего — между ног». Взмах… и Альвенслебен перелетел через кресло. Лишь потому, что он успел мгновенно повернуться, ему удалось избежать всей силы удара.
На Гаммере повисли сначала шестеро, затем — восемь нацистов.
Барьер рухнул. Словно медведь, отбивающийся от волков, Юле швырял своих мучителей. От его пинков они с грохотом падали, ломая мебель, поднимались и вновь набрасывались на него. Когда побоище окончилось, допрашивать Гаммера было бесполезно.
Нацисты утирали взмокшие лица. Даже Альвенслебен вытер платком внутренний ободок фуражки. Ведь ему тоже досталось.
— Я им покажу! — оскалился он. — А ну, тащите всех подряд!
Альвенслебен велел принести воды. Прежде чем выпить, он высыпал в стакан белый порошок. Глаза его лихорадочно заблестели.
Весь дом наполнился шумом и криками. Цонкель с рассеченным лбом стоял на коленях на ступеньках парадной лестницы, по которой еще утром поднимался бургомистром.
Лёвентин снова заставил Карла Вендта бить Брозовского. Охваченный страхом и яростью, парень бил его только по лицу и остановился лишь, когда Альвенслебен сказал:
— Сначала, сосунок, наберись храбрости. Вон отсюда!
Разъяренный крейслейтер с размаху запустил стаканом в стену, осколки разлетелись по всей комнате.
Брозовский лежал ничком. Альвенслебен, развалившись в кресле, носком сапога коснулся лежавшего.
— Брозовский, может, попробуем еще разок, а?.. Говорить ты все равно будешь. Это только начало! — Он велел посадить его на стул. — Ну, брось свои фокусы, отвечай! Где тряпка?
Лёвентин грыз ногти. Втайне он радовался, что его заносчивый хозяин потерпел
крах, и потому считал себя оправданным. Он знал, что Альвенслебен не продвинется с Брозовским ни на шаг.
Слышны были только скрип полуразбитого стула и тяжелое, со свистом, дыхание арестованного.
— Я вас всех вижу насквозь! — заговорил Альвенслебен. — У меня вы станете шелковыми… Вон тот, — он ткнул большим пальцем в сторону двери, за которой штурмовики громко ругали молодого Вендта, — далеко не последний, кто перешел к нам. Скоро все запроситесь, на коленях молить будете…
Он взял еще одну сигарету, выкурил ее до конца и только тогда продолжил допрос.
— Послушайте, Брозовский, то, что вы делаете, — самоубийство. Вы губите и себя и своих. Отдайте знамя, и все кончится.
Брозовский взглянул на него из-под заплывших век и промолчал. Разве может понять этот юнкер, что такое честь рабочего?
— Ваша партия больше не существует, Брозовский, — продолжал Альвенслебен. — В лучшем случае она только куча обломков. Власть в наших руках, а то, что наши руки взяли однажды, не выпустят никогда. Мы выловим вас одного за другим. А кого не найдем, тот сам перейдет к нам. Партии коммунистов больше не существует, она мертва.
Брозовский вздрогнул и поднял голову.
— Наша партия жива, она живет здесь, господин фон Альвенслебен! — Брозовский ударил себя кулаком по груди. — В моем сердце.
Альвенслебен судорожно вцепился в подлокотники кресла.
— Все это пройдет, Брозовский! Что умерло, то умерло! — Он поднялся. Выражение лица его переменилось, — Выбирайте одно из двух. — Он взглянул на часы и равнодушно, будто поведение Брозовского нисколько его не интересовало, сказал: — На размышления пять минут. И тогда — конец.
Кивнув Лёвентину, он вышел из комнаты. Толпившиеся в коридоре штурмовики вытянулись по стойке «смирно». Вендт-младший спрятался за их спинами. Хозяин погребка «У ратуши» накрыл стол для начальства в одной из верхних комнат. Приготовленный ужин стоял уже несколько часов. Альвенслебен поковырял в тарелке, отодвинул ее и залпом выпил несколько рюмок подряд. Глаза его остекленели, как после употребления сильно действующих наркотиков.
Лёвентина это не удивило, он знал своего хозяина. Управляющий поглощал один за другим бутерброды с ветчиной, словно печенье.
— Пошли продолжим, — сказал Альвенслебен.
С набитым ртом Лёвентин поспешил вслед за хозяином. Его гимнастерка на спине, груди и под мышками была мокрая от пота.
Брозовский сидел неподвижно.
— Ну? Время истекло. Значит, нет! — Альвенслебен повернулся на каблуках и резко скомандовал: — Введите распространителя листовок! Того, что поймали днем на Вицтумской шахте!
Нечто, напоминающее человеческое существо, втащили в комнату. У Брозовского перехватило дыхание. Штурмовики, держа арестованного под руки, поставили перед Брозовским. Узнать его было невозможно.
— Посмотри на него внимательно, Брозовский. В нем тоже еще недавно жила партия. Но он получил хороший урок и сделал вывод. Он говорит, что знамя у тебя. Этот человек понял, в чем суть дела. Мы его обработали профессионально… Знамя у него? А ну, отвечай!
Лёвентин подкрепил слова крейслейтера тычком стального прута.
— Оно… у него… — пробормотал окровавленный рот.
Брозовский не вынес укоризненного взгляда, в котором таился животный страх, и закрыл глаза.
— Пусть смотрит на дело своих рук, этот знаменосец пролетариата! Откройте ему глаза!
Брозовскому подняли голову. Какой-то штурмовик вцепился ногтями в его веки и раскрыл их.
— Посмотри на эту кучку дерьма! Твой товарищ!
Тот шатался и глухо бормотал. Перед глазами Брозовского все поплыло. Чем это кончится?
Внезапно перед ним оказалась Альма Вендт. Маленькая, высохшая, похожая на призрак. Ее отчаянный крик разрывал ему душу.
— Да, да, ты!.. Сидишь себе и молчишь, а мой муж гибнет! — Она вдруг упала на колени и начала умолять: — Скажи, где знамя, Отто, скажи. Тогда Генрих вернется домой. Ведь оно у тебя…
Ее слабеющий голос доносился до его слуха откуда-то издалека, он переходил то в жужжание, то в тихий шелест, — как тогда, в камере.
— Ты… — Он не слышал ее слов, он угадывал их. — Это ты, ты всегда…
Кто это был, кто?
— Знамя?.. Да, знамя у нас! Оно у нас!.. — громко крикнул Брозовский, но ему зажали рот.
Кто же был тот человек, которого держали перед ним?.. В камере — он знал — был Вольфрум. Вольфрум не сдался. Он оставался коммунистом.
Брозовский мысленно отчитывался перед самим собой.
Когда он проходил по коридору, ему послышался шепот: «Лучше покажи место…» Его охватило волнение: товарищей пытают, бьют до смерти, — и все из-за него, потому что он молчит. Его слово — закон для них, они поступают так, как поступает он. Он — пример для них. А они — это партия. Разве можно сломить партию, убить ее великую идею? Можно уничтожить человека. Но партию — никогда. Никогда! Это не Брозовский находится в камере, а партия. Кто помогает ему держаться? Партия. Кто велит ему молчать? Партия. Партия — больше, чем один человек. Партия — это тысячи людей, нет, много больше, партия — это все.
Выше партии ничего нет на свете. А знамя принадлежит партии. Оно — не просто символ, который нацисты могут уничтожить. Оно — честь мансфельдских рабочих, а чести никому не уничтожить. Что пользы его товарищам, если он, Отто Брозовский, станет предателем, изменит своему классу?
Враги торжествовали бы, он покрыл бы себя позором, а товарищи все равно не избежали бы пыток. Потому что их хотят уничтожить, хотят уничтожить авангард рабочего класса. Речь идет не о символах, а о будущем немецкого пролетариата.
Он вынес себе оправдательный приговор. Партия должна жить. Что же касается товарищей и его самого… Так они живут только благодаря партии.
Брозовский и знамя! Нацисты топтали искореженные останки человека, стремясь погасить последнюю искорку жизни, изо дня в день применяли самые изощренные пытки и, ничего не добившись, придумывали новые зверства.
Брозовский крепко сжимал знамя в руке, прятал его в своем сердце, высоко поднимал во время ночных допросов, а после ухода палачей знамя прикрывало его. Когда угасало сознание, Отто вновь писал друзьям в Кривой Рог письмо от имени своей шахтерской ячейки; когда же сознание пробуждалось, он читал ответ криворожских горняков товарищам в штреке и в штольнях Вицтумской шахты, и знамя парило над ним.
— Я вырву красный лоскут у этой собаки! Посмотрим, кто из нас сильнее. — Альвенслебен являлся на допросы ежедневно. За дело взялись «специалисты» из Галле. Шохвицской «домашней гвардии» Брозовский оказался не по зубам.
— Надо развязать язык его старухе. Хороши мы будем, если не справимся с бабой…
Бесформенным черным комом сидел Брозовский перед палачами. Его жена была недвижна. На вопросы она не отвечала, словно они не относились к ней.
Он слушал ее стоны, слышал ее хриплое дыхание, слышал ее крики. Его рот был полон крови, тщетно он пытался подняться на ноги.
Вокруг стоял грохот.
И вдруг над всем этим гвалтом:
— Никогда! Будь тверд, Отто! Мы сильнее! Знамя?
Никогда!
Ночь. Мрак. Холод. Он ничего не видел. Не чувствовал. Не слышал. Все исчезло: боль, слезы, мысли, страдания… все куда-то провалилось.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Когда воскресным утром отряд штурмовиков с Хондорфом во главе, вооружившись длинными бурами, отправился на полевые участки шахтеров, Эдуард Бинерт необычайно перепугался. Откуда пришел слух, Бинерт не знал, но Ольга мгновенно разнесла его по городу. Бинерт в разговоре с Фейгелем всего лишь высказал предположение, что Брозовские могли закопать знамя на своем бывшем поле, всего лишь предположил, не зная ничего определенного. А бургомистр Фейгель тут же, скоропалительно, доложил об этом по телефону начальству. И вот два десятка штурмовиков стальными бурами прощупывали пахотный участок Брозовских. Хондорф чертыхался, прошло уже несколько часов, перековыряли все поле, метр за метром, и никакого результата.
После того как крейслейтер Альвенслебен открыл перед зерноторговцем Хондорфом новые коммерческие перспективы, а также включил его в список депутатов крейстага, штурмфюреру Хондорфу было дозволено переступить порог отцовского дома. Старый Хондорф поначалу принял предложение Альвенслебена с кисло-сладкой улыбкой. Дела — с этим банкротом? Однако вскоре он заметил, что контакт с крейслейтером сулит необычайные выгоды. Он поставил только одно условие: его сын должен порвать с дочкой Рихтера, которая тем временем родила девочку и на которой Хондорф-младший собирался жениться. Тут следовало навести порядок. Штурмфюрер, поразмыслив, пришел к выводу, что лучше поладить со стариком, чем жить на птичьих правах в мансарде у будущего тестя и слушать писк младенца.
Бинерт орудовал буром на пару с Рихтером. Из всего отряда они были единственными, кто прежде держал в руках этот инструмент. Хондорф, подбоченясь, стоял рядом и подгонял их. К Бинерту он придирался особенно.
— Давай работай. Хотел показать, что ты умнее всех, вот и разгребай эту навозную кучу. Ищи, попробуй только не найди. Здесь полегче, чем в забое. Не правда ли? Ищи, ищи… Другие ведь меньше тебя понимают в этом деле.
По распоряжению Альвенслебена Хондорф привез целую подводу буров с Вицтумской шахты. Он был убежден, что дело это напрасное, и теперь отыгрывался на Бинерте. Ну а то, что заодно доставалось и Рихтеру, его тестю, не беда, — надо постепенно создавать необходимую дистанцию.
Молодые всходы безжалостно вытаптывались. Штурмовики угрюмо ввинчивали буры в землю, вытаскивали, снова буравили, и — никакого результата. Однажды бур наткнулся на что-то твердое. Заработали лопаты, и на метровой глубине показался большой обломок валуна. Рихтер выкатил его из ямы.
После полудня, к концу работы, Хондорф заставил Бинерта сделать двадцать пять приседаний с буром в вытянутых руках. Штурмфюрер стоял на валуне и злорадно ухмылялся.
— Это развивает суставы, Бинерт. Прямее держись, прямее, не шатайся!
Хондорф досадовал, что здесь не было Фейгеля. Вот уж его он заставил бы поплясать. Бинерт только под горячую руку попался.
Взяв буры и лопаты «На плечо!», отряд зашагал по Гетштедтскому шоссе обратно в город. Хондорф и не подозревал, что у межевого камня, почти рядом с тем местом, где Бинерт, напрягая остатки сил, приседал с буром, начинался участок Боде. Вот там бы старания увенчались успехом…
Услышав пение возвращавшихся штурмовиков, Вальтер спрятался за занавеску и переждал, пока они пройдут. У мальчика замерло сердце, когда он увидел буры на плечах нацистов. Пока не было матери, Боде каждый день водил его к себе домой обедать. Но позавчера на шахте была облава и Боде арестовали. Бинерт с Рихтером донесли, что он и некоторые другие шахтеры писали мелом на вагонетках лозунги с пожеланиями гитлеровскому правительству скорейшего конца. Вальтер знал, где спрятано знамя. Он не отставал от Боде до тех пор, пока тот не сообщил ему, куда закопал чан.
Мать оттащила сына от окна. Она вернулась домой два дня назад, почти в тот самый час, когда арестовали Боде. Вернулась совсем седой. Вальтер видел, что мать внешне очень изменилась, но не мог понять, в чем именно.
— Они обшаривали поле, — выдохнул он, и от волнения даже забыл закрыть рот.
У Минны задрожали руки. Вальтер надел шапку и молча вышел из дому. Мать, прижав руки к сердцу, глядела ему вслед. Она не стала его задерживать.
Вальтер шел ровной отцовской походкой. Он выглядел спокойнее, чем многие взрослые. Он шел ради отца. Минне стало даже стыдно за то, что она однажды подумала, будто мальчик может проговориться.
Придя к жене Боде, Вальтер сказал, что хочет помочь ей посадить ранний картофель. Ничего не соображая, женщина вытаращила на него заплаканные глаза. Арест мужа словно парализовал ее, она даже забыла о еде.
— Наш Вилли пошел играть в футбол, — повторяла она, думая, что мальчик пришел к ее сыну.
— Тем лучше, — сказал Вальтер.
Он стал ее убеждать. Поняв наконец, зачем он пришел, фрау Боде запричитала:
— Отберут у нас поле. Ни к чему все это, ни к чему. Отберут, как у вас отобрали. Иди домой. Если тебя увидят, сразу поймут, что на этих вагонетках и вправду писали… Какая глупость! И почему отец меня не слушал…
— Где у вас картошка? — спросил Вальтер.
— Да ты в уме? — вспылила фрау Боде, когда мальчик, зайдя в сарай, взял корзину с проросшим картофелем и погрузил ее вместе с лопатой на тележку. — Кто же в воскресенье…
— А то будет поздно, фрау Боде. Пойдемте, надо сделать сегодня.
В конце концов ему удалось убедить ее, и она безвольно последовала за ним на поле. Вальтер бешено орудовал лопатой. Фрау Боде, ничего не подозревая, безучастно наблюдала за ним. Лишь когда Вальтер выкопал чан и уложил его на тележку, она поняла, в чем дело. Лицо ее побелело от страха, дряблая кожа под острым подбородком мелко затряслась. Неужели ее муж настолько замешан в этих делах? Мысли одна за другой замелькали в ее мозгу, завертелись каруселью. Если об этом узнают…
Губы ее дрожали, минуту-другую она стояла как вкопанная. Затем, решившись, накрыла фартуком чан. Мальчик прав, об этом никто не должен знать.
— Нацисты бурят поля. Завтра они опять могут прийти, — угрюмо сказал Вальтер. — Надо выручать господина Боде.
В саду, за сараем, она сама взялась помогать мальчику. Ее подгонял страх за мужа. Вальтер видел, что она действует только из страха. Его лицо покрылось красными пятнами, он с трудом сдерживал охватившее его беспокойство.
Обкопав большой куст георгин, они осторожно подняли его вместе с комом земли и в образовавшуюся яму опустили чан. Фрау Боде вдруг осознала, что мальчик поступил правильно. Обняв Вальтера, она прижала его к груди. Он вел себя как настоящий мужчина. Не то что некоторые взрослые. Когда вчера, в отчаянии, она побежала к Лаубе, тот велел сказать, что его нет дома. Даже такого важного барина, как Цонкель, и того арестовали.
Она заботливо посадила цветочный куст на место и полила взрыхленную землю.
— Он расцветет, — проговорила она, — обязательно расцветет…
Вальтер ушел, подбодрив ее обещанием, что его мать придет ей помочь.
— Жены рабочих должны помогать друг другу, — сказал он. — И сыновья тоже.
Всю неделю, до Первого мая, штурмовики с бурами обыскивали поля. Вальтер только посмеивался, когда они под вечер проходили колонной мимо его дома. Альвенслебен не сдавался. Поля продолжали систематически обшаривать, и Бинерт проклял час, когда его угораздило сболтнуть Ольге то, что вскоре разнеслось по всему городу.
Минна поначалу избегала выходить на улицу. Вальтер приставал к матери, уговаривая ее украсить дом к Первому мая зелеными ветками, как они это делали каждый год.
— Наш флаг мы не вывесим, а зелень можно. Пусть видят разницу. Учитель в школе сказал, что отныне Первое мая будет немецким праздником. Фюрер учредил его только для немцев.
Глаза Вальтера заблестели. Мать погладила его по макушке. Суровое выражение лица ее смягчилось.
Ольга Бинерт завесила весь фасад своего дома березовыми ветками и флажками со свастикой. Врач городской больницы отрядил ей на подмогу целый взвод санитаров и медсестер. Жители верхней части улицы, никогда прежде не украшавшие свои дома к маю, в этом году словно решили перещеголять друг друга.
Те, чьи дома шли вниз по улице, пока ничем не проявляли себя. Казалось, они выжидали, что будет делать Брозовская. Минна с Вальтером отправились на холм, где они каждый год срезали березовые ветки. Домой она вернулась с охапкой зелени. Сын принес на плече две молоденькие березки и поставил их по бокам двери в ведра с водой, чтобы не завяли. Минна сплела из веток гирлянды. Вальтер, прибив их над дверью и окнами, отошел на середину улицы полюбоваться своим творчеством.
Ольга Бинерт тут же отправила дочку к ректору Зенгпилю, наказав ей узнать, имеют ли Брозовские право украшать свой дом. Отец со старшим сыном сидят в тюрьме, мать только что выпустили, а их младший беспризорник стал еще нахальнее…
Зенгпиль решил посмотреть на все сам. Назначенный ортсгруппенлейтером НСДАП, он серьезно относился к своим обязанностям. Поглядев на дом Брозовских, он не нашел повода для вмешательства. Ольга не скрывала своего раздражения.
Великодушно улыбаясь, Зенгпиль, однако, не терял внушительного вида.
— Будьте и впредь столь же внимательны, фрау Бинерт. У нас всех сегодня очень большие обязанности. Коммунисты, естественно, еще живы. И могут кое-что выкинуть. Если нам и удалось изолировать здешних главарей, то их сторонники все еще на свободе. Тельмана поймали, болгарского поджигателя Димитрова тоже, но… вы сами видели в день выборов — пять миллионов одураченных все-таки голосовали за этих врагов народа. Что касается общенемецкого праздника, тут…
Зенгпиль решил взять себе на заметку все дома, на которых были зеленые украшения, но не было флагов со свастикой.
Под вечер к Брозовским пришла жена Вольфрума. Она с удивлением оглядела нарядный фасад дома.
— Да вы, никак, нацистами заделались? Что это значит, Минна? — резко спросила она. — Мужья сидят в тюрьме, а вы?..
— Мы?.. С тех пор как я себя помню, мы празднуем Первое мая. И в этом году тоже. Тем более в этом году! Это наш праздник! Нацистам его у нас не отобрать! И мужья наши отметят его наверняка… если смогут… я от своих убеждений отказываться не собираюсь.
Кетэ Вольфрум без дальнейших расспросов повернулась и ушла, хотя намеревалась поговорить с Минной о перспективах… Но ведь Первое мая — завтра. Еще до того как стемнело, Кетэ успела украсить фасад, вот и все перспективы.
Ночью и ранним утром у многих домов, где жили рабочие, зазеленели фасады.
Электротехник Ширмер услышал крик, раздавшийся из квартиры Вендтов. Сын Альмы вывешивал в окно большой флаг со свастикой. Мать стояла в глубине комнаты и ломала руки, не решаясь вмешиваться. Лишь старшая из трех девочек смело бросилась на брата и расцарапала ему лицо, когда он стал ее отталкивать. Двумя ударами он свалил ее на пол.
— Убирайся в свою фашистскую казарму, — кричала двенадцатилетняя девочка. — Здесь тебе нечего делать! Отец выгнал бы тебя вон…
Ширмер крепче сжал в руке молоток, которым прибивал березовые гирлянды. Жена поспешно втолкнула мужа в коридор от греха подальше.
— Вот паршивец!.. Да я его!.. — Ширмер хрипло дышал, на лбу его выступил холодный пот.
В первые же утренние часы Меллендорфу с Фейгелем пришлось собственноручно счищать надписи, появившиеся на стенах домов и стеклах витрин.
«Да здравствует 1 Мая — международный праздник рабочего класса!»
От лозунгов, написанных масляной краской, веяло свежестью и боевым задором.
Штурмфюрер Хондорф отказался выделить штурмовиков в помощь бургомистру. С восходом солнца он отправился по улицам города во главе хора и оркестра, трубившего утреннюю зорю. Оркестранты и певцы из хора подмастерьев были одеты в коричневую форму.
Фейгелю пришла мысль возложить ответственность на домовладельцев. Начал он с зерноторговца Хондорфа, на воротах дома которого виднелась большая надпись:
«Красный фронт жив!»
К двум часам на майскую демонстрацию собрались представители всевозможных нацистских союзов и обществ. Зенгпиль приказал явиться всем школьникам. Колонна насчитывала около четырехсот человек; впереди, разумеется, шли штурмовики.
Сильно поредевший отряд «штальгельмовцев», надевших нарукавные повязки со свастикой, оттеснили во «второй эшелон». Возглавлявший их Бартель обозлился. Еще до начала демонстрации Хондорф-младший заявил ему, что «Стальной шлем» — организация второсортная, а потому соваться вперед нечего; если же Бартеля не устраивает место позади штурмовиков, пусть пристраивается за школьниками.
В последних рядах колонны, перед детьми, шагали представители воинского союза и общества по сбору пожертвований, — среди них Лаубе с Бартом. Лаубе нацепил Железный крест второй степени, сверкавший как новенький на лацкане темно-синего костюма. Стоявшие у обочины жены горняков многозначительно переглядывались, кивая на него, и подталкивали друг друга локтями. Лаубе, сделав вид, что не замечает косых взглядов и шушуканья, смотрел прямо перед собой и твердо печатал шаг…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В тот день, когда Георгий Димитров и его товарищи в зале имперского суда в Лейпциге начали разоблачать перед всем миром нацистских поджигателей рейхстага, Эльфрида Винклер и Гедвига Гаммер вернулись домой.
Гедвиге и беременной на последнем месяце Эльфриде пришлось побывать в трех тюрьмах — Эйслебене, Галле и Наумбурге, — прежде чем их выпустили. О судьбе своих мужей они ничего не знали; правда, в тюрьме они не однажды видели друг друга издали, но перемолвиться словом не удалось ни разу.
Эльфрида с помощью надзирательницы женского отделения медленно спускалась по лестнице с четвертого этажа в тюремную канцелярию. Последнее время она была не в состоянии выходить на прогулки и лишилась даже получаса свежего воздуха.
— Не понимаю я этого, — удивился шарфюрер эсэсовской конвойной команды, доставившей в Наумбург очередной транспорт с политическими заключенными. — По-моему, мы становимся слишком либеральными. Что, она не может произвести на свет своего щенка здесь? Кстати, у него была бы отличнейшая метрика: родился в окружной тюрьме, город Наумбург… Недурно звучит, а?
Довольный своей шуткой, он загоготал, похлестывая по голенищу сапога ремнем. Пожилой тюремный чиновник, вручавший Эльфриде справку об освобождении, засмеялся по обязанности и смолчал, когда распоясавшийся шарфюрер СС хлопнул его с размаху по плечу.
Улучив минуту, чиновник шепнул Эльфриде:
— Не волнуйтесь. Десять минут назад освободили фрау Гаммер. Вы поедете вместе, она ждет вас.
Сияло солнце. Все вокруг выглядело светлым и приветливым. Вагончики наумбургского трамвая с веселым треньканьем катились по улицам, люди спокойно шли по своим делам, словно и не было здесь тюрьмы, где сидели арестованные женщины.
Гедвига, поддерживая Эльфриду под руку, направилась к вокзалу. Она очень похудела, скулы ее заострились, костлявые плечи торчали; из-за своего высокого роста она напоминала человека, шагающего на ходулях.
— Ну как, выдержишь? — спросила Гедвига, бережно усадив Эльфриду в пустое купе.
Устало кивнув в ответ, Эльфрида прижалась щекой к плечу спутницы. Вскоре начались родовые схватки; после пересадки в Галле боль стала нестерпимой, губы у Эльфриды потрескались. На каждой остановке Гедвига бегала к водопроводному крану и смачивала носовой платок. Вагонные толчки и тряска довели Эльфриду до отчаяния. С помощью попутчиков Гедвига уложила ее на скамью. Какой-то горняк, севший в поезд на станции Кельме, положил Эльфриде под голову свой рюкзак и постелил на лавку пальто. Пассажиры наперебой давали всевозможные советы, а толстая рыночная торговка, не знавшая, куда девать свои корзинки, принялась рассказывать схожий случай. Ребенок, по ее словам, родился мертвым.
Горняк велел ей «заткнуть рот». Обиженно поджав губы, она умолкла и принялась с чавканьем есть апельсин.
Гедвига не решалась попросить у нее апельсин для Эльфриды. Это сделал горняк. Однако торговка, не удостоив его ответом, сошла на ближайшей остановке.
Наконец поезд прибыл в Гербштедт. Железнодорожники, к которым обратился горняк, перенесли Эльфриду в станционный зал. Она была в обмороке и еле дышала.
— Что нам с ней делать? — спросил железнодорожник.
— Немедленно отправьте ее в больницу! — крикнул горняк из отъезжающего поезда. — Она вот-вот разродится.
Начальник станции снисходительно разрешил взять двухколесную тележку для багажа. Гедвига, с узелком в руках, плакала, глядя, как железнодорожники укладывают Эльфриду.
— Она этого не выдержит, не выдержит, — жалобно причитала Гедвига, утратившая всю свою былую решительность.
Вечерело. Пассажиры, сошедшие с поезда, главным образом рабочие, направлявшиеся в ночную смену, обступили тележку и давали всяческие советы.
— Почему эта женщина путешествует одна, да еще в положении? — спросил молодой человек, по виду служащий торговой фирмы.
— Помолчи, дурак, — раздался ответ. — Во всяком случае, не для собственного удовольствия.
— Что за дикость! — воскликнул какой-то бородач. — Да позвоните кто-нибудь в больницу! В этой карете ей и помереть недолго. Человек все-таки, а не лошадь! — Он подошел к тележке и, узнав Эльфриду, вобрал голову в плечи. Шея его будто окунулась в воротник зеленой летней куртки.
— Правильно! — поддержали его в толпе.
Разгорелся спор. Один из железнодорожников побежал к служебному телефону и, невзирая на возражения начальника станции, позвонил в больницу.
— Речь идет о человеческой жизни, — сказал он резко начальнику, преградившему ему дорогу. — Сами видите, что женщина умирает.
— Да у них здесь нет санитарных машин, — послышался голос из толпы. — Обычно в таких случаях вызывают пожарную.
Железнодорожник вернулся красный, как кумач.
— В больнице ответили, что машины нет и что вообще у них не родильный дом, — сообщил он. — Кого теперь интересует больная женщина…
— Как вы смеете? — раскипятился служащий торговой фирмы. — Что значит «теперь»? Что вы хотите этим сказать?
На его реплику никто не обратил внимания.
Возле собравшихся остановилась проходившая мимо группа дорожных рабочих. Узнав, в чем дело, один из рабочих сказал:
— Сами справимся. Вон там, в сарае, есть носилки.
Кто-то побежал за ключом от сарая. Дорожники, положив свои инструменты, развернули носилки. Начальник станции со значком НСДАП на кителе стал опять протестовать, когда рабочие взяли казенные одеяла и укрыли Эльфриду. Четверо мужчин, не обращая на него внимания, подняли носилки и двинулись вниз по улице в город.
— Скажите… скажи, ты не жена Юле Гаммера? Вы откуда, из тюрьмы? — Бородач шел рядом с Гедвигой, которая, шатаясь, как пьяная, плелась за носилками.
Она не ответила. Бородач поддержал ее, когда она споткнулась, и повел под руку.
В больничном вестибюле медсестра, откинув одеяло с носилок, всплеснула руками.
— Боже мой!
Между колен Эльфриды лежал младенец.
— Помогите мне, быстрее!
Дорожники отнесли носилки в помещение, указанное сестрой, и помогли раздеть Эльфриду.
— Да есть здесь какой-нибудь врач или нет? — оглушительно крикнул в коридоре один из рабочих. — Неужели надо прежде умереть, чтобы его дождаться?
Сбежавшиеся из палат больные взволнованно обсуждали происшедшее.
Добравшись до домика Брозовских, Гедвига в полном изнеможении прислонилась головой к дверному косяку. Дальше она идти не могла. Бородач не успел ее поддержать, и она, скользнув по стене, опустилась на ступеньки.
Вальтер с матерью выбежали в коридор: мальчик услышал стоны за дверью.
— Гедвига! — не помня себя, закричала Минна.
Брозовские втащили Гедвигу в дом.
— Позови врача… Нет, подожди. Я сама пойду.
— Мы уже отправили Винклер в больницу. Они приехали вместе, — тихо сказал бородач, который привел Гедвигу. — Вот что творят с нами…
Минна поспешила в больницу. Сестра не пустила ее к Эльфриде, лежавшей без признаков жизни.
— Собаки, собаки! — задыхаясь, повторяла Минна.
Один из рабочих тронул ее за плечо.
— Еще не все кончено, — прошептал он. — Я зайду к вам на днях.
Наконец явился врач. Его потревожили за семейным ужином. Первым он выставил рабочего из палаты и напустился на медсестру.
— Что это за безобразие?.. Извольте выполнять инструкции, иначе вам здесь нечего делать!
Медсестра, выслушивая нотацию, с большим трудом сдерживала гнев. Вместо ответа она откинула одеяло с роженицы. Врач переменился в лице.
— Почему не вызвали меня сразу же? — крикнул он.
Через четверть часа все было позади. Эльфриде сделали укол, пунцовый младенец лежал в белоснежной постели. Минна до утра просидела возле больной, следя за каждым ее движением. Никакие уговоры врача не заставили ее покинуть свой пост.
Дома, в комнате матери, Вальтер стоял на коленях около дивана, сжимая руку Гедвиги Гаммер.
— Тетя Гедвига, когда вернется папа? А дядя Юле, Отто и дядя Пауль? Они скоро придут?
— Ох, деточка, деточка… — только и смогла прошептать Гедвига.
В начале февраля Ольга Бинерт впервые ощутила вокруг себя какую-то пустоту; у нее появилось чувство, будто в городе что-то происходит, и это «что-то» рано или поздно коснется и ее. Она пыталась отогнать от себя это «глупое» ощущение, но без успеха.
После отъезда из Гербштедта директора Зенгпиля, назначенного школьным инспектором при ведомстве гаулейтера, Ольга стала руководить женской организацией. На новом поприще перед ней возникли кое-какие трудности. Жены чиновников и лавочников, которые после мартовских событий чуть ли не гуртом повалили в организацию, не желали подчиняться Ольге. Да и она испугалась ответственности. Бартель приложил немало усилий, чтобы добыть ей это местечко. Для нацистов он тем временем сделался почти незаменимым человеком и держал себя так, словно самолично основал НСДАП. Даже среди своих единомышленников он слыл стопятидесятипроцентным нацистом. У Альвенслебена Бартель приобрел особенный авторитет с тех пор, как у себя на шахте начал железной рукой насаждать нацистскую организацию «Трудовой фронт» среди горняков и даже среди служащих, для которых, по мнению одного штейгера, «вся эта лавочка не приличествовала званию».
Но помог Ольге не он, а Хондорф, который летом перешел в отряды СС в том же звании штурмфюрера. Незадолго до помолвки с дочерью директора Лингентора — засидевшейся тридцатидвухлетней девицей, слывшей весьма разборчивой и чванливой, — он порвал свои отношения с Рихтерами. Одна Ольга знала, почему этот офицер СС так пекся о ней. Во время двухдневного слета «старых бойцов» в Галле, куда ее пригласили как почетную гостью, ее номер в гостинице оказался рядом с номером Хондорфа. Ольга не могла без дрожи вспомнить о том, что проделывал с ней этот мужчина, бывший моложе ее на двадцать с лишним лет.
Дома у нее все шло так, как она хотела. Эдуард получил наконец тепленькое местечко. Хондорф выполнил то, что обещал: Бинерта назначили на освободившуюся должность в отделе материального оборудования Вицтумской шахты. У штейгера, зятя Ольги, дела тоже обстояли неплохо. Он давно мечтал вступить в кадровые части СС, так как долгое время уже состоял в местном эсэсовском отряде. Для начала — хотя бы в звании шарфюрера, тем более что перспективы на повышение в СС были очень благоприятные. Не то что у рядового штейгера, да еще при теперешних условиях, когда продвижения надо ждать годами.
Все шло хорошо. Но слухи, которые поползли по городу после возвращения Гедвиги и Эльфриды, настораживали. Правда, никто не осмеливался говорить открыто. Многим заткнули рты. Тем не менее чувствовалось, что город встревожен, что тайно зреет недовольство.
Впервые в жизни Ольга испугалась за себя. Часами она не спала по ночам; с непривычки это было тяжело вдвойне.
Брозовские, конечно, превратили свой дом в «ночлежку», — это следовало предвидеть. Ничего иного Ольга от них и не ожидала. В отношении Гедвиги Гаммер она полагала, что та, получив хороший урок, придет к властям с повинной. Хотя бы ради того, чтобы получить жилье. Ничего подобного не произошло. Гедвига, правда, ходила ежедневно отмечаться в полицию, как было предписано, однако ни о чем не просила. Даже Фейгель, которого полиция обо всем информировала, удивлялся поведению фрау Гаммер.
Рассказывали, что она ни разу не зашла в свою опустевшую квартиру, которую временно, за неимением лучшей, предоставили чиновнику, переведенному из Эйслебена в Гербштедт на должность секретаря городской управы; чиновник, кстати, состоял в отряде штурмовиков. Гедвига даже не поинтересовалась своей мебелью, которую свезли в сарай «Гетштедтского двора», где хранился театральный реквизит; еле удалось уговорить ее забрать из кухонного шкафа единственный уцелевший столовый прибор: алюминиевые ложки и вилки.
По мнению Ольги, больничный врач вконец спятил, не допустив Меллендорфа в палату допросить эту Винклершу. Полицейский не солоно хлебавши направился из больницы прямиком к Ольге домой и пожаловался ей.
Но самое невероятное случилось сегодня утром. Винклерша вышла из больницы с новехонькой детской коляской, и только что, — Ольга не поверила бы своим глазам, но зеркало-шпион не ошибалось, — пасторша понесла кастрюльку с едой в дом Брозовских.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
В один и тот же день вернулись домой Боде и Генрих Вендт; позднее приехал Вольфрум. До судебного процесса дело не дошло. Продержав несколько месяцев в тюрьме, их — неизвестно почему — выпустили, а других оставили.
В дороге Вольфрум раздобыл газету. На предпоследней странице, под рубрикой «Разное», было напечатано краткое сообщение о том, что болгарского коммуниста Димитрова и его земляков, которых обвиняли в поджоге рейхстага, оправдали, а голландца Ван дер Люббе приговорили к смертной казни.
Вольфрум раздумывал недолго. Одну марку и двенадцать пфеннигов — всю свою наличность — он решил тут же прокутить. В зале ожидания Гетштедтского вокзала в Галле он купил наилучшую сигару и две кружки пива. С наслаждением осушив их, он вытер губы. Какое блаженство…
По пути домой он встретил на рыночной площади Лаубе. У Лаубе теперь постоянно красовалась в петлице ленточка Железного креста второй степени, а возле нее круглый значок со свастикой. Его и Тень Бартель первыми завербовал в партию фюрера; случилось это второго мая, после того как были распущены профсоюзы. Каждая заполненная для вступления в НСДАП анкета служила Бартелю ступенькой вверх.
Увидев Вольфрума, Лаубе в первое мгновение растерянно улыбнулся. Он не знал, как себя вести, и хотел уже было поднять руку в гитлеровском приветствии. Но Вольфрум скользнул взглядом мимо этого чужого человека с нацистским значком на груди. Он не был знаком с ним.
Боде, Генрих Вендт и Вольфрум получили повестки с приказом явиться на Вицтумскую шахту и приступить к работе. Вендт не пошел из-за болезни.
— Медь! Нам снова требуется медь, — говорил Боде и Вольфруму оберфарштейгер Бартель. Он не упускал ни одного случая, чтобы не упомянуть о своей новой должности. «Как оберфарштейгер, я распорядился… Как оберфарштейгер, я обязан…»
Вольфрум отмалчивался, Боде покашливал в кулак.
— Радуйтесь, что вам доверили взять в руки кайло. Н-да, настропалили вас крепко… Скажите спасибо фюреру за его великодушие. Вступайте в «Народную копилку», каждый пфенниг у нас на счету. Вам известно, что вы должны искупить перед обществом? Настоятельно рекомендую вам также записаться в «Национал-социалистское общество народной благотворительности». Хайль Гитлер!
Вольфрум с Боде молча повернулись и пошли. Бартель остановил их.
— Вы, кажется, меня неправильно поняли. — Он язвительно усмехнулся. — Хайль Гитлер!
— Счастливо оставаться, — проворчал Боде, а Вольфрум молча посмотрел в окно.
— Ах, вот как?.. Впрочем, неудивительно. Мы ведь так давно знакомы…
Бартель обернулся к открытой двери в соседнюю комнату и позвал:
— Господин Барт!
Тень услужливо скользнул в кабинет.
— Вот двое вновь поступивших. Направьте-ка их для начала на рудоразборку. Пусть попривыкнут, а то разучились работать в забое. Кстати… у вас есть анкеты «Народной благотворительности»? Дайте-ка парочку, Вольфрум и Боде желают вступить. Заполним прямо здесь, на месте, не правда ли?..
Скрипя зубами, оба заполнили анкеты. Пальцы Барта слегка дрожали, когда он протянул Вольфруму авторучку. Вольфрум смотрел на него, как на неодушевленный предмет. Мразь! В лацканы пиджаков Барта, Лаубе и оберфарштейгера впилась паучья свастика.
Генрих Вендт не поправлялся, несмотря на все свои старания. Напротив, здоровье его еще ухудшилось, силы покидали истощенное тело. Прождав три месяца, он получил пособие: девять марок в неделю. Выдал пособие бургомистр Фейгель по просьбе пасынка Вендта, которому надоели причитания матери. От Генриха, разумеется, все скрыли. Альма умолчала о том, что ей за это пришлось вступить в нацистский Женский союз. Если позволяла погода, Генрих сидел в садике за домом. Он кашлял так, что слышно было на улице. Однажды, когда Карл, одетый в форму штурмовика, пришел навестить мать, Генрих, увидев пасынка, рухнул на пол и стал биться в припадке; на губах его выступила пена.
Весной тысяча девятьсот тридцать четвертого года вернулся домой старший сын Минны. Рассказывал он мало, только передал привет от отца, с которым незадолго до отъезда успел проститься в лагере.
— Как он себя чувствует? — спросил Вальтер. — Что он просил мне передать?
Отто был немногословен.
— Чтобы ты не стал ветрогоном, — ответил он.
— Я?.. Эх ты… — У рта Вальтера пролегла упрямая складка. Мальчик вырос и уже доставал брату до плеча. — Лихтенбург — это замок или так называется лагерь? Ну, расскажи!
Но как ни настаивал Вальтер, брат молча смотрел на него отсутствующим взглядом. Только однажды он сказал.
— Потом когда-нибудь, Вальтер. Ты сам должен понимать…
Отто совсем замкнулся в себе. Лишь у коляски, в которой, суча ножками, лепетал что-то маленький Пауль, он мог стоять или сидеть часами, качая ребенка. Когда в комнате никого не было, он говорил:
— Слышишь, малыш? Это все ради тебя. Чтобы тебе никогда не пришлось такого пережить. Твой папа выдержит, мы все выстоим. Нацисты дождутся, — мы их изрубим на куски!..
Страстные, гневные слова слетали с его губ, и глаза горели ненавистью.
Трижды в день он ходил отмечаться в полицию. Меллендорф и чиновник гестапо, который теперь засел в городе, скрупулезно следили за этим. Брозовский и Цонкель пользовались особым вниманием Меллендорфа; бывший бургомистр до сих пор не мог найти себе работу, хотя пробыл в тюрьме недолго.
В канун Первого мая в раздевалке Вицтумской шахты хлынул дождь листовок. На копре, высоко над шкивами, развевалось красное знамя; на тротуарах и стенах домов зарябили лозунги.
Когда Отто явился в полицию, там уже сидел Цонкель в распахнутой рубашке.
— Ага, коммуна хочет доказать, что она еще существует, — проговорил гестаповец.
Отто занял место рядом с Цонкелем. Им дали по ведру, щетке и повели на очистку улиц; каждого сопровождали двое штурмовиков с винтовками.
Под радостные вопли и визг большой группы «юных нацистов» Отто начал счищать лозунг, написанный на стене школьного здания. Всякий раз, когда он нагибался, чтобы обмакнуть щетку в ведро, штурмовик колол его булавкой в зад.
Глаза Отто застилала красная пелена. Выпрямившись, он смотрел в холодные, насмешливые глаза охранников.
— Давай, давай, скреби, собака! — подгоняли его нацисты.
Линда Бинерт, прыгавшая и визжавшая больше всех, крикнула штурмовикам, чтобы привели и Вальтера Брозовского. Из всего класса он один из немногих, кто не вступил в отряд «юных нацистов». К тому же он остался на второй год. Так ему и надо…
— Пошли за ним, — крикнул рыжий мальчишка. — Проучим его!
Стайка зверенышей помчалась через школьный двор.
Только мысль о матери, о брате, о маленьком Пауле и Эльфриде удерживала Отто. До самой ночи его гоняли по городу, на рыночной площади его заставили при свете карманного фонаря ползать на коленях и счищать надписи с тротуаров.
В кровоподтеках, оборванный, он вернулся домой. Эльфрида сидела у кровати Вальтера. Голова мальчика была перевязана толстым слоем марли. Ему пришлось отбиваться от шайки «юных нацистов».
— Не сердись, Отто, я им дал как следует. Особенно рыжему Рихтеру. Он тоже наверняка валяется в постели…
Вальтер победоносно поднял распухшую руку. Минна, обняв старшего сына, гладила его по голове. Плечи его вздрагивали.
Второго мая Отто послали на подземные работы в шахту. Он пошел в забой, в который потоком лилась вода. Товарищем по работе оказался двоюродный брат Рюдигера. Он рассказал, что Лора серьезно заболела и живет только его помощью. О Фридрихе он ничего не слыхал, все запросы остались без ответа. Последней весточкой от Рюдигера был привет, который он передал из концлагеря Заксенхаузен.
Второго же мая пришло письмо от Юле Гаммера с Бергерских болот, но вручить его было некому: Гедвига, еще до возвращения Отто, переехала к своей родственнице в деревушку на юге Гарца, так как в Гетштедте не могла найти работу и ей не на что было жить.
Старый почтальон, знавший Юле с детства, спросил у Брозовской новый адрес Гедвиги.
— Отдай письмо мне, — ответила Минна. — Я сама отвезу его Гедвиге. Я знаю, где она живет.
Минна пожирала глазами грязно-серый конверт. Да, она узнала руку Юле Гаммера, его куриный почерк, так не подходивший этому крупному сильному человеку.
Почтальон замялся.
— Не имею права, Минна. Меня же сюда специально послали, к тебе. Хотят выведать, знаешь ли ты адрес Гедвиги… «Их водой не разольешь», — сказал про вас этот, из гестапо, который всегда письма вскрывает, — признался старик нехотя. — Только не выдавай меня, Минна.
Брозовская взяла у него из рук письмо.
— Оставь его, — попросила она. — А мы переправим.
— Это будет стоить мне места и головы в придачу. Нельзя. Да там и никаких секретов нет. Они же его распечатали, еще смеялись, что Юле так смиренно пишет.
Минну бросило в жар. Она с трудом сдержала себя. Почтальон старательно надписал новый адрес, который сообщила Брозовская, а она записала адрес отправителя.
Старик обиженно ворчал, видя, что Минна никак не поймет, что иначе ему нельзя поступить.
— Будешь так делать, — сказал он, уходя, — только других подведешь. Ведь шпики на это и рассчитывают…
Вечером мать держала совет с сыновьями. Вальтер бурно поддержал ее план. Отто, изнуренный своей первой сменой на шахте, безучастно согласился: пусть мать едет.
В воскресенье утром Минна вместе с Вальтером пешком отправились в Гетштедт, а оттуда поехали почтовым автобусом. Деревня, где жила Гедвига, находилась далеко в стороне. От конечной остановки автобуса пришлось идти еще одиннадцать километров, и Вальтер по дороге стал прихрамывать.
Добрались они до места в полдень. В небольшом крестьянском дворе Гедвига чистила свинарник. Вид у нее был очень болезненный. Из-под платка свисали пряди волос.
Минна оглядела ее, сокрушенно качая головой. Письмо еще не дошло сюда, Гедвига ничего о нем не знала.
Окончив работу, она села с гостями на штабель дров у сарая. Сначала Гедвига равнодушно слушала, руки ее
беспокойно двигались, поглаживая колени; наконец ей надоело слушать, и она перебила Брозовскую:
— Вот наша награда, Минна! Вот ради чего мы варили еду на полгорода. Не забыла еще?
— Гедвига, возьми себя в руки. Все это непременно кончится, поверь мне.
— Да, но кончится плохо. — Гедвига смотрела мимо Брозовской куда-то вдаль.
Рядом в зарослях крапивы копошилась гусыня со своим выводком. Золотисто-желтые комочки, попискивая, шныряли среди зелени.
Всего этого Гедвига не замечала.
— Да, плохо… — повторила она, тяжело вздохнув, и показала рукой в сторону дома. — Вот он тоже вступил. Чтобы не выделяться. Теперь все вступают. На майские праздники вышел на парад в мундире. Гордый. Вообще-то он неплохой парень, однако шагает вместе с ними… Кончится? Для кого?.. Чего вы еще ждете, какого конца?
— Гедвига, подумай о Юле. Опомнись. Мы, жены, должны поддерживать наших мужей.
— Юле?.. Он уже не вернется. Я чувствую, — глухо проговорила она, не глядя на Минну.
Вальтер не мог больше слушать этого. Когда они неожиданно вошли во двор, Гедвига всего лишь на секунду прижала к себе мальчика. И теперь он бросился к Гедвиге, обнял ее и стал тормошить.
— Тетя Гедвига… Мы сильнее. Мы выдержим. Мы же не отдали наше знамя.
— Да, мой мальчик. Ради знамени… — Она только улыбнулась в ответ на попытки Вальтера утешить ее, и в этой улыбке чувствовались усталость и отчаяние.
Гедвига слушала, кивала головой, а когда прощались, сказала:
— Рабочие не хотят, чтобы стало лучше, они предпочитают, чтобы все оставалось
как есть. Если получу письмо и там будет что-нибудь интересное, я приеду к вам.
Крепко сжимая ей руку, Вальтер смотрел на нее немигающим взглядом.
— Тетя Гедвига… — вздохнул он и поплелся вслед за матерью.
Гедвига не приехала.
Через некоторое время пришло письмо от Пауля Дитриха с тех же Бергерских болот. Эльфрида прижала конверт к груди. Много писать не разрешалось, поэтому письмо было коротко: привет, несколько слов благодарности всем друзьям, а в конце был какой-то загадочный намек на старое кайло, которым бы хотелось снова поработать в шахте и по которому он соскучился, но увидеть его уже не придется.
Отто, Минна и Эльфрида долго ломали голову над разгадкой этого «кайла».
Однажды горняк, работавший вместе с Отто на закладке породы, ушиб себе руку:
— Чертово кайло! Тяжелое, как кузнечный молот, — вскричал он и швырнул его в закладку.
И Отто вдруг осенило: кайло… молот — это же Гаммер! Пауль намекал в письме на Гаммера
[7], значит, с Юле что-то стряслось.
Прошло несколько месяцев, и от товарища, вернувшегося из лагеря с Эмсландских болот, они узнали следующее: Юле убил лопатой эсэсовского охранника, пытался бежать, но его застрелили.
Бывший заключенный нахмурился.
— Каждый день кто-нибудь повисал на колючей проволоке…
Среди близких друзей Брозовских это была первая жертва. Минна опять поехала к Гедвиге, но уже не застала ее.
— Знаете, она вдруг взяла и ушла, — сообщила ее родственница. — Мы очень удивились. Ведь ей было здесь хорошо — не верите? Последнее время она казалась немного чудной. Почему она ушла — не понимаю… — Женщина пожала плечами и возобновила прерванную работу.
Обратный одиннадцатикилометровый путь по полям и через лес Минна шла босиком, держа туфли в руках.
Многое она передумала в дороге. Что же это творится с людьми? Даже Гедвига, такая сильная… Но сдаваться нельзя!
В последнее время Минна с тревогой замечала, что Эльфрида и Отто часто уединяются. Она терялась в догадках. Неужели они забылись? Оба молоды, одиноки, живут под одной крышей… Неудивительно, если… Нет, невозможно и подумать об этом. Это было бы предательством.
Она решила поговорить с Отто.
Он опередил ее. Однажды вечером, когда Вальтер уже лег спать, он сказал:
— Мама, мы решили…
Минна в ужасе заткнула уши. Вот, так она и думала!
Отто с изумлением посмотрел на нее, а Эльфрида понимающе усмехнулась.
— Что с тобой? — недоуменно спросил сын. — У нас есть план… Мы долго его обдумывали. Да выслушай же, — повысил он голос, когда мать собралась было выбежать из комнаты.
Эльфрида усадила Минну на диван, рядом с собой.
— Деньги я теперь собрал, — сказал Отто. — Вполне хватит. Идею предложил я, мы ее довольно долго обсуждали. Эльфрида все не соглашалась, но ехать ей надо, сначала в Эмден. Я скопил сто двадцать марок. На первое время ой хватит. Будет жить там, неподалеку от Пауля. Может, ей и удастся навестить его. Говорят, что некоторым женам разрешили свидание с мужьями. Иногда я, правда, сомневаюсь, но, может, все-таки что-нибудь и получится.
Минна отняла от глаз ладони. Она закрылась, чтобы не видеть обоих.
— Дети… — прошептала она дрожащими губами.
Эльфрида погладила ее руки.
Так ничего и не поняв, Отто пошел в спальню и принес свои сбережения. Потом пересчитал пятимарковые бумажки и положил их на стол перед Эльфридой.
— Скользкие, как мыло, — сказал он. — Намыленные сбережения! — Отто внезапно расхохотался. — Нацисты подбрасывают нам деньжонок, дают возможность братьям шахтерам заработать лишнюю марку. Правда, не серебряную, а бумажную. Безработных больше нет, на биржу труда никто не ходит. Есть кондитерские фабрики — шоколад, пирожные, конфеты… Послушайте, чего только не рассказывают прежние безработные, что они делают и для чего… Медь тоже нужна Гитлеру… Тьфу, черт! Грешные это деньги. И хуже всего, что мы вынуждены зарабатывать их!
Обе женщины, растерявшись, смотрели на разгневанного Отто.
Но вспышка прошла так же внезапно, как и началась, и он успокоился, по крайней мере внешне.
— Поезжай, Эльфрида, — сказал он сдержанно. — Пусть эти деньги пойдут на доброе дело. Может, тебе удастся поселиться в Папенбурге, хотя нацистов там черным-черно… Пауль наверняка обрадуется, когда увидит малыша.
Мать мысленно попросила у Отто прощения за все грехи, которые совсем недавно приписывала ему.
Через неделю Эльфрида с ребенком уехала. Кетэ Вольфрум посадила их в поезд. Вольфрум и Шунке тоже дали Эльфриде денег. Шунке помогал также Вендту и Цонкелю.
Однажды гестаповцы нагрянули к Шунке с обыском и арестовали его. Перевернули весь дом в поисках списков «Красной помощи», но ничего не нашли. На третий день Шунке выпустили.
Неделю за неделей Минна ждала вестей от Эльфриды. Однажды, когда Отто возвращался с работы, его догнал какой-то велосипедист и сунул ему помятый конверт. Письмо было из Саарбрюккена. Почему оттуда?
Дома Отто прочел письмо и подпрыгнул от радости.
— Убежали! Оставили этих негодяев в дураках! — Он раскатисто засмеялся, хлопнул себя по коленкам и, пританцовывая, прошелся по комнате.
— Ура! Просвет! — воскликнул он. — Нет, два просвета, второй — это велосипедист!
В письме было сказано, что счастливая пара и чудесный мальчик надеются на скорую встречу с друзьями и желают им всего наилучшего.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Брозовский вернулся неожиданно. Два года и две недели провел он в концлагере Лихтенбург, что под Торгау, о чем свидетельствовали многочисленные пометки на календаре, сделанные рукой его жены.
Обстоятельства, сопутствовавшие переводу Брозовского на эту каторгу, неизгладимо запечатлелись в его сознании. Он был старым мансфельдским горняком; почти сорок лет, проведенные им на шахте, сформировали того человека, каким он стал. Вряд ли он сам сознавал, что из него сделало время, хотя ему казалось, будто он хорошо знает себя. Но может ли кто-нибудь вообще быть всегда уверенным в себе?
Мучители не давали ему покоя, их пыток не вынес бы ни один человек. Воля Брозовского выдержала их. Город встретил его музыкой: праздновалось возвращение Саарской области в лоно рейха. Из установленных на улицах репродукторов гремела речь рейхскомиссара Бюркеля.
Брозовский даже чуть сгорбился под мощным каскадом слов. Он невольно оказался свидетелем эффектного зрелища в своем родном городе — парада сторонников фюрера и канцлера — и был вынужден смотреть на него.
Виной всему была его неосведомленность. Знай он об этом заранее, то просидел бы до позднего вечера на вокзале. И вот он стоял на краю тротуара, зажатый толпой восторженных зрителей, большей частью женщин, и не мог шагнуть ни вправо, ни влево. А двигался он теперь с трудом.
Сначала прошли школьники с гирляндами цветов и венками, за ними — оркестр. Когда проносили знамена, из колонны выбежал какой-то парень, сбил с головы Брозовского шапку, затем схватил его правую руку и поднял вверх для гитлеровского приветствия. На мостовую упали костыли, стоявшие вокруг Брозовского люди отпрянули.
Брозовский не видел, что в первом ряду знаменосцев шагал Эдуард Бинерт с почетным кинжалом «старого бойца» на боку. Не видел он также и Ольги, одетой в просторное, свободно ниспадавшее платье из сурового полотна; она стояла во главе Женского союза перед трибуной у ратуши, принимая парад, на груди ее отливало серебром руническое солнце. Рядом с Ольгой находился какой-то важный чиновник из Эйслебена; в толпе прошел слух, будто это директор Лингентор.
Брозовский добирался домой по Гетштедтской улице более часа. На многих домах висели флаги, на очень многих. Даже на тех, которые первого мая тридцать третьего года были украшены только зелеными ветками, но этого Брозовский не знал.
Жена его не бросилась со слезами ему на шею, как это можно было бы предположить. Она только поздоровалась с ним кивком, сердечно пожала ему руку и взяла костыли, на которые он опирался, потом она помогла ему снять пальто. Ее зоркие глаза видели, что сам он не справился бы.
Ниша между шкафом и печной трубой была пустая. Брозовский сел так, чтобы ее видеть. Было бы неверно утверждать, что разговор с первых же минут коснулся этой пустой ниши. Нет, говорили о детях, о жизни, о его возвращении… И все же они поглядывали на нишу, и им казалось, будто невидимый красный шелковый шнурок надежно ограждает ее.
Открылась входная дверь и с шумом захлопнулась. Послышались шаги. Вальтер оцепенел, увидев отца в комнате. Мальчик порывисто шагнул было вперед, чтобы кинуться к нему в объятия, но тут же застыл в испуге, заметив, что у отца вдруг побледнело лицо и глаза расширились от страха.
Брозовский попытался подняться, но не смог. Минна успокаивающе обняла его. Он хрипло дышал, жадно хватая воздух, руки его судорожно дергались.
Вальтер, оглядев свой наряд, понял, в чем дело. С криком он сорвал с себя портупею и коричневую форменную рубашку «юных нацистов», — в таком виде он промаршировал по улице мимо отца, но они не заметили друг друга.
— Домой в рейх, домой в рейх! — крикнул он срывающимся голосом и, рыдая, бросился ничком на пол.
— С ним жестоко обошлись, — сказала Минна мужу. — Посмотри на его голову, вся в шрамах. Как у тебя… Разве что его не засыпало в окопе… Почти каждый день приходил домой в крови. «Домой в рейх!» Сил уже не было слушать это… Гонялись за ним целой шайкой, даже большие парни, уже окончившие школу. Меня вызывали туда, пригрозили, что отберут у меня мальчика… и вот результат.
Подняв с полу коричневый лоскут, она протянула его мужу. Потом помогла встать Вальтеру. Брозовский все еще мучился от удушья.
Минна уже несколько лет не видела, чтобы Вальтер плакал. Возвращаясь домой окровавленным, он стискивал зубы, но в глазах у него не было ни слезинки. Теперь слезы лились ручьем. Как он ждал этого дня, как радовался, — все его мальчишечьи мечты были связаны с этим днем. И вот теперь отец сомневается в нем. Никто: ни Боде, ни Вольфрум, ни мать, ни фрау Рюдигер — он часто навещал ее — не сомневались в нем, все ему доверяли. А отец сомневается!
Мальчик боялся взглянуть на отца. Лишь услышав его рыдания, он бросился к нему.
Вальтер завел разговор о знамени вовсе не потому, что не мог больше молчать. Для того были очень веские причины.
Еще неделя — и он расстанется со школой. Он уже давно чувствовал себя взрослым, молчаливость стала чертой его характера. Учитель называл эту черту упрямством; он не знал, что ее выковала суровая жизнь, да и откуда ему знать — ведь он не был ни педагогом, ни психологом; всего лишь — уполномоченным нацистской партии в школе. Он добился того, что Вальтера оставили на второй год в последнем классе.
Ладно, сидеть так сидеть. Вальтер знал, за что его оставили, к тому же у него был сносный компаньон, Вилли Боде, которого постигла та же участь. «Пимпфом» Вилли стал еще полгода назад. После того как вступление в эту организацию сделалось обязательным для всех детей, мать Вилли сама привела его и записала в «пимпфы», как называли юных нацистов. Вальтер тогда сострил по его адресу:
— Не ты вступил, а тебя вступили.
Вилли, с которым Вальтер по неведомым причинам почему-то никогда не был в настоящих дружеских отношениях, навел его на мысль о знамени.
— Шестнадцатого марта будет введена всеобщая воинская повинность, слыхал? — сообщил Вилли Вальтеру на школьном дворе. Вилли всегда любил немного прихвастнуть, если узнавал что-либо новенькое. — Когда нам стукнет двадцать, нас тоже забреют. Мне-то все равно. Мать говорит, что выбора нет — идти или не идти. Там уж нас как следует воспитают, иначе мы вырастем лодырями. Что ты на это скажешь?
Вальтер насторожился. Кровь бросилась ему в лицо.
— Твоя мать так сказала? Нет, не могла она сказать этого!
— Честное слово, сказала. А почему бы и нет? Думаешь, я треплюсь? — Вилли был искренне возмущен недоверием Вальтера.
— Мамаша твоя ведь умная женщина…
— Ты послушал бы, как она каждый день пилит отца. Он о солдатах уже слышать не может. А мать еще о каком-то старом чане ему зудит. Понятия не имею… что за чан! В общем, говорит, настало время по одежке протягивать ножки.
Не дождавшись ответа, Вилли, насвистывая, пошел прочь. «Чудак, — подумал он о Вальтере, — вообразил, будто знает мою мать лучше меня».
«Еще один отступил», — подумал Вальтер. В тот же день он подкараулил Боде, когда тот возвращался со смены.
— У меня нет больше сил, мальчик. Она боится, прожужжала мне все уши. Забери, говорит, из сада чан; не заберешь — сама выброшу весной, когда буду сажать цветы. Плевать, говорит, я на него хотела… — Боде виновато, словно побитый пес, посмотрел на мальчика.
Вечером за ужином Вальтер заявил:
— Его надо забрать сегодня же. Она совсем потеряла голову. — Мальчик испытующе посмотрел на брата.
Отто тяжело поднялся из-за стола и буркнул:
— Да.
Отец молчал. Когда поздно вечером Отто вышел на улицу, у старого Брозовского потеплело на душе.
Было за полночь, Брозовский не ложился. Отто вернулся поздно. Сняв куртку, он расстегнул жилет, не спеша размотал обвернутое вокруг торса бархатное знамя и постелил его на стол.
Несколько недель пролежало оно на столе под белой скатертью. Семья обедала на кухне.
Они понимали, что с возвращением отца борьба не прекратится. Она продолжалась. Для нее лишь наступил переходный период. В какую форму выльется она, пока еще не было ясно. Во всяком случае, комната в доме Брозовских оказалась сейчас самым надежным убежищем для знамени. Брозовские ломали голову над тем, как лучше использовать тот короткий срок, какой они сами установили. Ведь что-то должно было случиться.
Брозовский обходил свое небольшое владение, то здесь, то там прикладывал хозяйскую руку; останавливался у высокой стены, где были пристроены клетушки свинарника, крольчатника и курятника, всматривался в облупившийся фасад дома, на котором желтыми пятнами проглядывала глина. Он не торопился, хотел все хорошенько обдумать. А между тем трижды в день ходил отмечаться в гестапо, как и все, кого выпустили из лагерей.
На узких тротуарах города не разминуться двум знакомым гербштедтцам. В первые же дни после возвращения Брозовский заметил, какие резкие перемены произошли в людях. Как-то по дороге к ратуше Брозовский еще издали увидел своего старого знакомого. Однако тот быстро свернул в первый же переулок, явно избегая встречи. Почему люди так вели себя, Брозовский не знал: был ли то страх, или они изменили своим убеждениям, а может, устав ждать, решили приспосабливаться?
Он очень глубоко, ощущая почти физическую боль, переживал, когда видел, что его сторонятся, избегают. Он инстинктивно чувствовал, что люди, словно сурки, зарылись в землю и выглядывают только затем, чтобы схватить отравленную приманку, которая разлагает их ум и душу.
Навестил его однажды лишь Ганс Ринэкер, мешковатый парень с низким, заросшим черными волосами лбом; он был напарником Брозовского на Вицтумской шахте. Ринэкер даже не обратил внимания на Ольгу Бинерт, которая, остановившись, смотрела ему вслед до тех пор, пока за ним громко захлопнулась дверь.
— Ну и времена, старик, настали. — Ринэкер пожал Брозовскому руку и уселся. — А ты неважно выглядишь.
Гость сообщил, что недавно женился. Ожидает ребенка и в дальнейшем не против повторения. Он ведь тоже за многодетную семью. Ринэкер расхохотался.
— Подал я заявление на ссуду по семейным обстоятельствам, получил восемьдесят марок. Неплохо, а? Есть свой домишко, надстроил мансарду. Все сам, по программе трудовых заготовок. А с чего бы нам отказываться от денег, если дают? Все сейчас ловчат. Кто нос по ветру держит, тот и наживается.
Он говорил без передышки в знакомой Брозовскому по прежним годам манере.
— Да, а с репарациями знаешь что? Все. Больше не платим. И мирному договору тому, и плану этих, ну как их, американцев, — тоже конец! Я сразу сказал: не буду платить, а мои дети — и подавно! Вот так…
Брозовский молча слушал. Парень явно не понимал, что вокруг него происходит.
Уходя, Ринэкер сказал:
— Да, мне предложили вступить в резерв СА. Большего я, по-ихнему, не стою, — ведь я в армии не служил. Так я этого гуся, что пришел ко мне, чуть пинком под зад не вытурил из дома… Со мной этот номер не пройдет. Рема они пристрелили, а ведь он служил не хуже, чем генерал Шлейхер. О чем тут еще говорить?
Брозовский сидел в замешательстве. Значит, клюнули на приманку, развесили уши, поверили громким речам и бездумно идут, куда их подталкивают.
Но спустя какое-то время он встретил человека, который передал ему привет из Лейпцига от Петерса. Учитель заведовал складом у оптового торговца красками.
— Ну как, Отто, пришел в себя? — спросил товарищ. — Время есть, отдыхай. Ты нам еще понадобишься. Пока справляемся сами. Особо не спешим. Но каждый на своем месте!
— Что там делается? — спросил Брозовский, имея в виду Вицтумскую шахту.
— Если б ты только видел! От их темпов глаза на лоб полезут. Добыча, добыча… А на латунном заводе установили новые автоматы для изготовления патронов. Цифры, которые ты тогда называл у ворот шахты, выглядят просто смешными по сравнению с теперешней продукцией.
Товарищ был одним из пикетчиков, слышавших «лекцию» Брозовского. Прощаясь, он добавил:
— Господин служащий Барт и господин горнорабочий Лаубе едут летом с группой общества «Сила через радость» на Средиземное море. Вот это называется социализмом. Барт со мной согласен. — Товарищ ехидно усмехнулся.
Брозовский решил навестить старика Вендта. Минна отговорила его.
— Альма теперь бегает с жестяной кружкой, собирает в фонд нацистов. Это Фейгель заставил ее отрабатывать должок… Меня она обходит за версту. Генрих, говорят, тяжело болен.
Навестить Вендта так и не пришлось. Высокомерный гестаповец, у которого Брозовский регулярно отмечался, повел вдруг с ним задушевную беседу.
— Значит, сынок ваш пойдет учиться на радиомеханика? Хорошая специальность. Можно кое-что смастерить дома, послушать новости со всего мира…
Обостренным чутьем Брозовский почувствовал опасность. Он вспомнил, что Вальтер предложил собрать радиоприемник. Отто уже купил кое-какие детали. Осторожность и еще раз осторожность, сказал он себе мысленно.
Генрих Вендт умер в тот день, когда газеты впервые заговорили о войне в Испании. Июль в этом году выдался очень жарким. Пастор не читал молитв над могилой, ибо покойник был неверующим.
Стоя позади группы родственников, Брозовский смотрел, как без отпевания и колокольного звона закапывали Генриха Вендта.
Его дети бросили на гроб несколько букетов увядших цветов. Старшая дочь стояла недвижно с плотно сжатыми губами. Брозовский положил свой венок у изголовья гроба. Ему вдруг страстно захотелось сказать прощальные слова мертвому товарищу.
— Кончились твои страдания, Генрих. Ты был стойким до конца. Мы никогда тебя не забудем…
Кладбищенский сторож перебил его:
— Это еще чего выдумали! Произносить надгробные речи запрещено.
— …имя твое не угаснет в нашей памяти…
— Вон отсюда! Я заявлю, куда следует! — Сторож оттолкнул Брозовского.
Родственники покойного направились к выходу. Старшая дочь хотела было пожать Брозовскому руку, но мать силой увлекла ее за собой. Могильщик взялся за лопату. У входа на кладбище остановился автомобиль. К могиле спешил Карл Вендт в мундире прапорщика вермахта. Он опоздал.
Сторож тут же сообщил ему, что Брозовский произнес речь. Широко расставив ноги, Карл встал перед Брозовским.
— Так. Даже после смерти вы не даете ему покоя и хотите перетянуть к себе. Это вам даром не пройдет, сволочи!
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
Три дня Брозовского держали под арестом и строго допрашивали. Обращались с ним вежливо и, разумеется, не добились ничего. Гестаповец спросил, между прочим, о знамени, однако повышенного интереса к этому вопросу не проявил. Перед тем как отпустить арестованного, он даже предложил ему присесть.
— Господин Брозовский! — сказал гестаповец. — Взгляните на эти три вещицы. Все они проверены на практике. — Он чуть повысил голос. — Одну из них или все три, смотря по желанию, вы можете выбрать для себя, если впредь что-нибудь случится.
На столе лежали: стальной прут, прикрепленный к пружине, резиновая дубинка с обмотанным колючей проволокой концом и ржавая цепь. Гестаповец поиграл «вещицами».
— Да, слыхали что-нибудь об организациях «Красота труда» или о «Силе через радость»? — беспечно спросил он, словно они обсуждали, кто куда поедет в отпуск. — Я хотел бы вас настоятельно предостеречь, дорогой мой. Учтите, ваше поведение бросается в глаза.
Беспечный тон, которым были произнесены эти слова, ничуть не уменьшал их серьезности.
Брозовский медленно плелся вверх по улице. Дышать было очень тяжело. Он обливался потом и несколько раз останавливался передохнуть.
Отто, возвращаясь со смены, догнал отца на полпути к дому. Увидев, в каком он состоянии, сын сурово нахмурился, подхватил его под руки и повел, вернее, понес домой.
— Меня определили сегодня в «Трудовой фронт», — процедил Отто сквозь зубы, едва войдя в кухню, и швырнул свой рюкзак на лавку так, что треснула эмаль на кофейной фляжке. — Предлагают стать квартальным уполномоченным. Рекомендовали меня как заслуживающего доверия. Можете себе представить? Им нужны администраторы… Да они издеваются над нами!
Родители не знали, что ему посоветовать. Отказавшись от обеда, Отто вышел во двор и стал колоть пни, которые они выкорчевывали с братом. Щепки с силой ударялись в стену.
Перед ужином к Брозовскому пришел гость. Минна побелела, когда, открыв дверь, увидела ортсгруппенлейтера Гюнермарка.
Гость молодцевато гаркнул:
— Хайль Гитлер!
Чтобы избежать ответного приветствия, Брозовский быстро спросил, чему обязан такой честью, и подвинул гостю стул.
Ортсгруппенлейтер не спеша сел на предложенный стул, прежде чем начать воспитательную работу с семейством Брозовских. На столе под белой скатертью лежало Криворожское знамя. Ортсгруппенлейтер не стеснялся, он вытянул под столом ноги и уселся поудобнее.
— Видите ли, говоря откровенно: речь идет о вашем участии в общенародном деле. Каждый представитель немецкого народа должен сейчас занять свое место…
Брозовский не успел даже спросить, каким образом.
Ортсгруппенлейтер и не ждал вопросов. Он держал речь и не сомневался в эффективности своих слов.
Прежде Гюнермарк служил приказчиком в магазине готового платья в нижней части города. Брозовский лишь смутно помнил его лицо. По сей день он носил бумажную куртку, которую купил в рассрочку в этом магазине еще до того, как стал безработным. Сегодня же бывший продавец выступал в роли владельца магазина, и потому торговая деятельность его и общественные функции ортсгруппенлейтера укрепляли в нем сознание своей значимости. Закон о защите чистоты немецкой расы и чести немца катализировал его продвижение от продавца до владельца. Короче говоря, требовался ариец, который бы поставил на ноги дышавшую на ладан лавочку. В качестве «гвардейца» Альвенслебена Гюнермарк присутствовал на съезде НСДАП в Нюрнберге и собственными ушами слышал, как этот закон зачитывали с трибуны. Гюнермарк долго не колебался. Зенгпиль перед своим отъездом в краевое управление НСДАП рассеял последние его сомнения, и Гюнермарк решился. Так он сделал первое «хорошее дельце»; второе он обстряпал после отъезда Зенгпиля, став его наместником — предводителем гербштедтского чиновничества. Умные люди быстро продвигались по общественной лестнице, вместе с доходами повышались и чины. Это же само собой разумеется. Щупленький еврей, по случаю передачи дел, болтался в петле часа два у дверей своего магазина при лунном свете, пока чья-то рука не перерезала веревку.
И вот его бывший приказчик, краснощекий, упитанный, с сознанием своего достоинства, сидел в квартире Брозовских, олицетворяя собой истинного главу фирмы. Разговаривал господин Гюнермарк сейчас совсем не так, как прежде с клиентами; он тщательно осмотрел небольшой радиоприемник, который Вальтер все-таки смастерил на досуге. Прежде всего проверил настройку. Беседовать с ним, сохраняя выдержку и спокойствие, было для Брозовских выше их сил.
Минна вскоре устала слушать нескончаемый поток слов о прекрасных поездках в норвежские фиорды и на лазурную Адриатику, о наконец пробудившейся Германии и немецком трудолюбии, об избавлении от процентной кабалы, о великогерманском рейхе, о немецкой продукции, о разгромленной финансовой олигархии и прервала его:
— Скажите же наконец, что вы от нас хотите, зачем вы, собственно, пришли, господин Гюнермарк?
— И вы еще спрашиваете? Разве вы сами не чувствуете, что вы с каждым годом все больше и больше изолируетесь? И вместо того чтобы признать свою неправоту, ваш муж выступает с надгробными речами.
— Мы всегда шли прямой дорогой. И когда умирает порядочный человек, его не закапывают, как собаку. Неправедно поступали другие, а неправость к добру не ведет, — закончила Минна несколько громче, нежели намеревалась.
Либо этот человек ничего не понял, либо не хотел дать маху.
— Фюрер снял все ограничения на прием в национал-социалистские организации, — сказал он вежливо. — Все национальные силы призваны вступать к нам. Вам тоже представляется шанс. А с тем, что после всего еще останется, — он повысил голос, — мы рассчитаемся. Беспощадно. Смотрите не опоздайте. Хайль Гитлер!
Вставая, он оперся о стол и скомкал скатерть прежде, чем выбросил вперед руку в нацистском приветствии. Он был раздражен и не хотел этого показывать.
— Будьте здоровы, — сказала Минна и, выждав, пока гость покинет дом, поправила сползшую скатерть.
В последние дни Отто, как и отец, то и дело выходил во двор, разглядывал желтые пятна на задней стене дома и беспокойно бродил взад и вперед.
Мать выжидательно наблюдала за ним. Суровое выражение лица и взгляда, которые она бросала на сына, словно приказывали: «Да действуй же скорее, нельзя медлить!» Порой ему хотелось, чтобы она высказала вслух свои мысли, посоветовала что-нибудь. Но Минна всегда была скупа на слова. Как бы случайно остановившись возле крольчатника, она лишь сказала, что кролики еще больше прогрызли дыру в глиняной стене. Поманив животных к себе пучком клевера, мать молча посмотрела на Отто и подбоченилась.
Сын, стоя посреди двора, тоже подбоченился и сказал, что для ремонта штукатурки на фасаде ему понадобится длинная лестница и немного цемента.
Отто купил мешок извести, ведро цемента, Вальтер принес гравия, и братья начали с того, что замазали облупленный фасад дома. Вальтер притащил также большую, похожую на снарядную гильзу, жестяную банку из-под карамели, выброшенную лавочником. Теперь конфеты хранили в стеклянных банках.
Знамя по-прежнему отливало огненным глянцем. Туго свернутое и зашитое в клеенку, оно точно уместилось в цилиндрическую жестяную банку. Четыре пары рук прикоснулись к нему, прощаясь, прежде чем Вальтер запаял крышку. Шесть горящих глаз оставались сухими, увлажнились только материнские. Испуганно оглянувшись, словно кто-то мог увидеть слезинки на ее лице, Минна вытерла глаза фартуком.
Брозовский сам светил карбидным фонариком; Отто выломал подгнившие доски крольчатника, примыкавшие к стене. Когда в нишу опустилась банка, кролики ринулись в нижний этаж и забились в угол. Вальтер влез в крольчатник с ведром цементного раствора и замазал нишу сверху. Потом твердая рабочая рука Отто быстро заделала отверстие снизу. Несколько ящичных дощечек заменили выломанные. Кролики обнюхивали свежую солому. Клетка обрела обычный вид. Минна подбросила животным еще немного корма.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Жизнь в доме Брозовских словно замерла на долгое время. Немецкий народ получал пушки вместо масла. В Испании второй год бушевала гражданская война. Единственная связь с миром поддерживалась через маленький самодельный радиоприемник, возле которого старый Брозовский просиживал вечерами, плотно завесив окна и заперев двери.
Он не замечал перемен в поведении старшего сына. От природы замкнутый, Отто обычно редко выходил из дому. Он стеснялся людей и не любил толпы. Сидя в уголке дивана, не принимая участия в семейных разговорах, он мечтательно улыбался и тихонько насвистывал. Но в последние дни, к удивлению родных, он стал чаще выходить из дому, возвращался ночью, а на другой день бывал весел и бодр.
Некоторое время мать тоже ничего не замечала. Но вскоре почувствовала, что сын что-то затеял.
Наконец весной, краснея и заикаясь от смущения, Отто открыл свою тайну: он собирается жениться.
— Кто же она? — спросила мать.
— Да ты ее не знаешь, — замялся Отто.
— Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы познакомимся с невестой? — насмешливо спросил отец.
Покраснев как рак, Отто выбежал из комнаты. Со двора донеслось его громкое пение.
— Рад, что наконец признался. — Брозовский весело подмигнул жене.
Отец не ошибся. Уже несколько недель Отто собирался поговорить с родителями, но откладывал со дня на день. И сейчас он был очень доволен, что все прошло удачно. Вальтер, узнав новость, стал барабанить кулаками по спине брата.
— Ну и хитрец! Другие хвастаются своими невестами, а ты прячешь. Интересно, скоро я буду дядей?
Вальтер помчался вокруг стола, спасаясь от ремня Отто.
И вот наступил торжественный день: Отто привел невесту.
— Это Лизбет, ее отец работает на латунном заводе…
Отто чувствовал настоящий страх перед матерью — он знал, какой у нее зоркий глаз, и не был уверен, выдержит ли девушка испытующий взгляд. Но волнения были напрасны: его невеста, простая, расторопная девушка, сразу пришлась Минне по сердцу.
Скромные свадебные торжества окончились быстро, почти не замеченные соседями; молодые поселились наверху, и Лизбет вошла в семью, словно принадлежала ей всегда. В доме стало несколько оживленнее.
Осенью произошли еще два знаменательных события: Отто досрочно стал отцом, а несколько дней спустя, когда он возвращался из шахты, его снова встретил тот самый велосипедист, который два года назад передал ему письмо из Саарской области и которого он так долго и нетерпеливо ждал.
— Один человек вспомнил о тебе, — лаконично произнес велосипедист, вручив Отто помятый конверт, и поехал дальше.
Газеты сообщали о взятии Гижона франкистскими войсками. Герника была разрушена. Нацистская пресса утверждала, что красные сровняли город с землей, хотя весь мир знал, что немецкие летчики на «штукасах» разбомбили маленький баскский городок дотла. Гитлеровский легион «Кондор» вписал еще одно позорное деяние в мировую историю.
Письмо читали дома всей семьей. Его прислал Пауль Дитрих из Испании. Этот конверт объехал полсвета. Он побывал в карманах матросов, докеров, железнодорожников и нелегальных курьеров. В письме сообщалось, что Эльфрида с ребенком живет в Советском Союзе, а Пауль с осени тысяча девятьсот тридцать шестого года сражается в рядах Интернациональной бригады. «No pasarán!»
[8], — заканчивалось письмо.
Отто сжал кулаки. А он торчит здесь, ничего не делает, даже пальцем шевельнуть не может. События вокруг идут своим чередом. Малейшее движение антифашистских групп беспощадно подавляется. Отец сидит у радио; вся его деятельность свелась к слушанию московских передач. Передавать услышанное дальше он уже не мог.
— Я не могу больше сидеть сложа руки, — сказал Отто отцу. — Почти два года прошло, а мы только сейчас от какого-то велосипедиста узнаем, что наша партия жива. Но где она?.. Мы-то не участвуем в ее борьбе.
Он опустил голову и уставился в стол. Брозовский принял слова сына как упрек и не нашелся, что ответить. После долгой паузы Отто прокашлялся и сказал:
— Это не дело, отец, что нас так долго не привлекают к работе.
Брозовский-старший еще больше ссутулился.
— Мне тоже это не нравится. Я все жду и жду… Но, видимо, у подпольного руководства есть свои соображения…
— Соображения, причины… Я хочу действовать! — Отто нетерпеливо стукнул кулаком по столу. — А может, нам не доверяют?
— Ерунда! Кто может нам не доверять? Просто за нами фашисты следят особенно внимательно и того, кто с нами свяжется, тотчас повесят.
Брозовский был недоволен тем, что мог только успокаивать. Точно так же, как и Отто, он знал: партия жива. Это было ощутимо по тысячам мелких событий и происшествий, а иногда и зримо.
Аресты в Гетштедте, в Эйслебене, на шахте; неожиданно забрали совсем незнакомых людей… Однако бывших заключенных все еще не привлекали к подпольной работе в целях безопасности. Их ряды после арестов поредели. Судебные процессы следовали один за другим, но общественность ничего о них не знала; подпольные группы не были связаны друг с другом.
— Только один-единственный раз я имел связь с центром, — тихо сказал Брозовский, — но этот товарищ вынужден был скрыться. Поэтому я не рассказал тебе. Местное руководство провалилось, он один уцелел. Полагаю, что ему удалось бежать за границу.
— Но ведь ЦК должен находиться где-то в стране, не все же работают за границей.
— ЦК здесь! — ответил Брозовский с уверенностью, не допускавшей никаких сомнений.
— Тогда я организую на шахте тройки. Надо только начать, а связь с центром мы уж найдем.
Отто объединился с Вольфрумом, Боде, Шунке и другими товарищами. Но дело не подвигалось, связаться с центром не удалось. Работа их ограничивалась шахтой и распространением информации.
Слушали радио. Интернациональные бригады заняли Теруэль, однако войска генерала Франко, в состав которых входили легионеры, марокканцы, итальянцы и немцы, вновь захватили его. Немецкие войска оккупировали Австрию, Чемберлен — «человек с зонтом» — продал Чехословакию на Мюнхенской конференции. Вальтера послали отбывать трудовую повинность. По всей Германии раздавался «Эгерландский марш», вскоре он загремел из Пражского Града. Брозовский хворал. Началась война.
Зимой пришло письмо от Вальтера из Польши:
«Срок трудовой повинности для меня окончился, теперь я солдат. Мамочка, пришли мне, пожалуйста, серые шерстяные носки: здесь, в Кутно, холодно, — читал вслух Брозовский. — Отпуска мне пока не дают».
Минна взяла у него из рук письмо, еще раз внимательно перечитала и спрятала в старый настенный календарь, где она хранила письма. Брозовский разгневался. Не слушая его, она вышла в кухню и уселась на табуретку, на которой всегда сидел Вальтер.
Весной от него пришло письмо из Норвегии. В сложенной вчетверо слегка влажной бумаге с расплывшимися буквами лежал березовый листок. «Здесь еще встречаются карликовые березки, но мы топаем все дальше на север, а там деревьев нет совсем», — писал Вальтер. Письмо кончалось следующими словами: «Сердечный привет от солдат Вальтера Брозовского и Вилли Боде. Мы все еще вместе».
В сентябре Вилли приехал в отпуск из Франции и привез привет от Вальтера. Вилли присвоили чин обер-ефрейтора. Он сообщил Отто, что на Вальтера в их части с первых же дней смотрели как на меченого.
— Что бы он ни сделал, ему все равно достается. Фельдфебель — редкая сволочь. Говорили, что он из Шохвица, но это неверно. Живем, как арестанты. А знаешь, кто у нас командир? Управляющий из имения Вельфесгольц, он теперь майор. И надо же, чтобы мы попали как раз к нему. Так что нашу жизнь представляешь…
Слушая Вилли, Отто комкал в руке какую-то бумагу. Это была полученная сегодня повестка о явке на военную службу в город Майнц.
— А как вообще настроение? — спросил он. — Я имею в виду солдат. Рвутся в Англию?
— Гм, настроение? Там и рта не раскроешь! Солдаты словно с ума посходили. Хотят перевернуть весь мир. Когда нас привезли из Норвегии во Францию, там уже все было окончено. Так они обозлились, что опоздали.
— Ну, а ты? Тоже получил лычку?..
— Иди ты к черту! Я — как все. А что прикажешь делать?
Вилли предложил Отто сигарету.
— Ну, а в общем-то, у Вальтера в порядке? — спросил Отто, почувствовав, что Вилли чего-то не договаривает.
— Где там! Только матери не рассказывай… Его направили в стройбат. Знаешь, что это такое? Ну вот…
Вечером Отто уложил свой чемодан. Лизбет плакала без удержу. Прощаясь, он постеснялся обнять ее при родителях.
— Нас становится все меньше, — сказал ему отец по дороге на вокзал.
— «Блицкриг» заморочил головы даже тем, кто еще до последнего времени рассуждал здраво, — ответил Отто. — Один из нашей бригады, который всего месяц назад вполне разумно смотрел на вещи, ходит теперь с нацистским значком. Он дал мне добрый совет, чтобы и я к ним присоединился. — Отто сплюнул.
Когда поезд тронулся, Отто крикнул из окна:
— Привет маме и Лизбет… И вообще… — Он вытянул руку в «великогерманском» приветствии и сжал кулак.
Письма Отто приходили с «Атлантического вала», из Бельгии, с океанского побережья. А потом — из лагеря, который имел только номер почтового ящика.
В это время Карл Вендт, обер-лейтенант Африканского танкового корпуса, неделями слонялся по Гербштедту в плотно облегающем мундире цвета хаки, оповещая о предстоящей свадьбе с Линдой Бинерт. Владельцы лучших ресторанов в округе встречали его с распростертыми объятиями, как прибыльного клиента. Он сорил деньгами так, будто сам их печатал.
Свадьбу отпраздновали очень пышно. Невеста, вся в белом шелку, шла под руку со своим обер-лейтенантом. «Из Парижа!» — доверительно сообщала она всем, кто интересовался ее нарядом. Брозовские, жившие уединенно, ничего не ведали о свадебных приготовлениях. Поэтому они были очень удивлены, когда против их дома эсэсовский оркестр заиграл «Марш африканцев», открывая торжественный вечер. Торговец утильсырьем вывез после пирушки полную телегу осколков. Разгулявшиеся гости напоили его дряхлую клячу пивом, и она вытанцовывала, словно породистый арабский жеребец.
Ольга Бинерт нажала на все кнопки и педали. В Женском союзе судачили, что это самая шикарная свадьба, какую когда-либо играли в Гербштедте; даже шикарнее свадьбы старого графа Шуленбурга, которому прислал телеграмму с поздравлением сам кайзер и лично засвидетельствовало свое почтение все дворянство между Заале и Гарцем. Сорок одна пара — в соответствии с текущим сорок первым годом — выступала в торжественном шествии. Мужчины — все в мундирах. Прибыл даже Альвенслебен, штандартенфюрер дивизии СС «Мертвая голова». Он вел под руку мать невесты. Бартель злился. Ему пришлось шагать рядом с собственной супругой, причем в шестой паре, вслед за Хондорфом, ортсгруппенлейтером Гюнермарком и за старшим зятем Бинертов — Куртом, который был облачен в серую полевую форму СС со значком гауптштурмфюрера в петлицах и Рыцарским крестом на шее. Старшая дочь Ольги была в благоухавшем платье с фламандскими кружевами. Альвенслебен поздравил ее. Ольга Бинерт сообщала налево и направо, что «ее зять летает из Антверпена бомбить Англию», хотя всем было известно, что он служит в танковых войсках. Ольга выпросила для себя у Хондорфа небольшой пустячок. Из Лиона, города шелкопрядильщиков, он прислал ей пакет. Сегодня на ней было лучшее платье из всех, что она когда-либо имела. Ольга даже перещеголяла своих дочерей. Можно было подумать, что невеста она.
Шествие замыкал Бинерт с нафабренными усами. Под руку с ним Альма Вендт. Годы не прошли для него бесследно. Новенький мундир СА еще больше подчеркивал его согнувшиеся плечи. Изысканное общество и подавляло и возвышало его одновременно. Альма надела черное платье, которое сын купил ей после похорон своего отчима. Оно было единственным у нее. Старшая дочь написала ей, что не приедет на свадьбу. Такой компании она не подходит. Младшая дочь пришла, да и то потому, что брат пригрозил; его однополчанину не хватало девушки для пары. Младшая справедливо заметила: сестра не приехала потому, что отец перевернулся бы в гробу, если б увидел ее в этом обществе.
Церемония венчания длилась недолго. Пастор сделал все, что от него требовалось по долгу службы. Переусердствовал только кистер. Звонили все колокола до единого.
Пиршество открылось в ресторане «У ратуши» с большой помпой. Альвенслебен произнес речь, в которой подчеркнул, что молодой супруг уже с юных лет присягнул на верность фюреру, несмотря на всяческие препятствия, которые ему пришлось преодолевать. Он не забывал своего долга, даже когда действовал против воли родителей, избравших ложный путь. И вот он вошел в состав элиты фюрера.
Во время речи Альвенслебена Альма незаметно ушла домой. Бинерт, обрадовавшись, что теперь ему никто не помешает, занялся напитками.
Поздней ночью на улице раздался топот и галдеж, пьяные голоса загорланили песню. Гости провожали «молодых». Самый лихой гость выбил окно в доме Брозовских.
Минна молча собрала осколки. Губы ее сжались в тонкую полоску. Она видела, как страдал муж, но помочь ему ничем не могла.
Жизнь у них стала серой.
Брозовский отчаянно сопротивлялся болезни. Но однажды его подкосил страшный удар и он слег.
Гитлеровские полчища разгромили Югославию, захватили Грецию, пытались добраться до Александрии…
Брозовский сказал Вольфруму:
— Они достукаются… Вот увидишь: эти победы приведут их к гибели.
Седой, молчаливый, мрачный Вольфрум ответил:
— Теперь у них в руках вся Европа. Они собираются победить на всех фронтах, окончательно. Какие у них еще планы? На шахтах и заводах растут барачные лагеря. Миллионы угнанных в неволю иностранцев вынуждены работать на них, на войну!
Он сомневался, доживет ли до того дня, когда можно будет дышать свободно, и взглядом как бы просил у друга поддержки и совета.
А Брозовский верил: этот день непременно настанет. Не усомнился он и тогда, когда Вольфрум передал ему свой разговор с одним старым социал-демократом, работавшим в профсоюзе, человеком честным и порядочным.
— Чего ты хочешь? — сказал тот. — Мы боролись десятки лет, и безрезультатно. У нас не было единства. А теперь… Одним росчерком пера Гитлер осуществил то, чего мы столько времени добивались. За Первое мая платят предприниматели, и они обязаны оплачивать все праздничные дни; безработных нет, заработная плата растет, отпуска стали законом, рабочий приобрел вес… Мы живем…
— А война?
— Войну, можно сказать, уже выиграли!
Но не это подкосило Брозовского.
Как-то вечером к ним пришла исхудалая, совершенно подавленная женщина. На щеках ее горели лихорадочные пятна, грудь разрывалась от страшного кашля. Лицо ее покрывала мертвенная бледность. В полумраке Минна не сразу узнала Лору Рюдигер. Брозовский хотел встать, чтобы поздороваться с гостьей, но не смог. Лора сказала, что Фридриха больше нет в живых: его убили в концлагере.
Рюдигер… Это он прятал знамя на своем теле.
Никто не знал, как он умер. Всю ночь просидели Брозовский, Минна и Лора на диване. Так и застал их хмурый рассвет. Голова у Брозовского была тяжелая, сердце билось неровно, во рту пересохло, язык не слушался.
Они почувствовали себя старыми и одинокими. Минна уложила мужа в постель. Она тащила его на руках, как Вальтера в тот вечер, когда вернулась из тюрьмы.
В горячечном бреду Брозовский дрался с врагами. Срывал с себя рубашку, прятал в нее знамя, водружал его на копер Вицтумской шахты, нес его на похоронах Рюдигера, размахивал им над головами тысяч демонстрантов, заворачивался в алое полотнище, чтобы погибнуть вместе с ним, и победоносно вздымал его, когда атакующая лавина рабочих свергла фашистскую власть.
Он кричал, звал погибших товарищей. Обливаясь потом, разговаривал с ними, как если бы они сидели у него дома за столом. Рюдигер, Гаммер, Вендт…
Он обещал им, что будет ждать их. Он верит им. Он знает, что они верны партии и вместе с ним будут стоять возле знамени.
Знамя, знамя…
Перепугавшаяся Минна вызвала врача из больницы. Поджав губы врач стоял у постели Брозовского. Он знал, о каком знамени говорил больной, хотя Минна, чтобы заглушить бред мужа, разговаривала нарочито громко.
Под белым халатом врач носил на лацкане пиджака значок НСДАП. Минне было известно, что он отказался поместить в больницу работавшую в поместье польскую девушку, у которой рука попала в соломорезку: даже управляющий, без сомнения, далеко не жалостливый человек, и то возмущался поступком врача. Хотя скорее всего он жалел не пострадавшую девушку, а потерянную рабочую силу.
— Вы неисправимые дураки, — сказал врач. — Вы поставили себя вне народа. Тот, кто теперь еще хранит эти тряпки, — безумец. Немецкие солдаты стоят в Нарвике и на Крите, движутся к Суэцкому каналу, а сегодня…
Минна невольно отступила к стене. Она почувствовала, что услышит сейчас нечто ужасное.
— …а сегодня утром, — продолжал он с ненавистью, — мы перешли русскую границу. Большевикам пришел конец. Через полтора месяца на площади у кремлевской стены будут сожжены все красные знамена мира!
— Нет!.. Ошибаетесь! Они не сгорят! Это погубит Германию…
— Фрау Брозовская! — Голос врача повысился до визга. — Я предупреждаю вас. Мы соседи, я врач, и тем не менее я предупреждаю вас!..
Когда он ушел, Минна разорвала рецепт и растоптала клочки. Она лучше знает, отчего заболел муж. Такой врач ей не нужен. Минна ругала себя за то, что вызвала его. Сама справится! Он, видите ли, предупреждает — от чего?.. Нет, сейчас уже поздно предупреждать! Они напали на Советский Союз, хотят уничтожить… Кого? Страну рабочих и крестьян, ха-ха-ха! А вдруг они сегодня или завтра придут сюда с обыском? Знамя — нет, никогда!
Минна положила мужу компресс на грудь. Пот лил с него градом. Затем обернула теплыми компрессами голени и энергично растерла все тело до красноты; припомнила старинные домашние рецепты, о которых слышала еще от бабушки. Брозовская изо всех сил боролась за здоровье мужа и выходила его.
Через три дня, хотя температура еще не спала, он открыл глаза. Взгляд его был ясен.
Минна сложила руки. Она думала о горящем Брест-Литовске, о других советских городах и селах, охваченных огнем, об ужасах новой войны, о Рюдигере и Гаммере, о Криворожском знамени…
«Пускай узнает обо всем, — решила она, — теперь это его не убьет, он одолел болезнь, ему необходимо знать».
— Нацисты вторглись в Советский Союз, — сказала Минна.
Пересохшие, потрескавшиеся губы больного раскрылись. Из груди его вырвался долгий мучительный стон, пылающее лицо побледнело. Положив руку ему на лоб, Минна почувствовала холодную кожу.
— Это будет их концом, — сказала она, — на этом они свернут себе шею.
Он сам, без ее помощи, сел в кровати. Его бугристый лоб, заросшие рыжеватой щетиной щеки, покрытый шрамами череп, полуоткрытый рот, в котором виднелось лишь несколько зубов, — все напряглось, подтянулось. Минна воочию увидела, как в нем прибывают силы.
Брозовский справился не только с болезнью, он преодолел и слабость своих разбитых суставов. Отказавшись от помощи Вольфрума, он сам надел чистую рубашку.
Он рассмеялся. Желчно, горько, язвительно, с чувством превосходства.
— Пусть попробуют! — сказал он.
Через неделю ему удалось установить первую связь. Он разыскал того горняка, который вскоре после его возвращения из Лихтенбургского лагеря сказал ему: «Подожди, ты еще нам пригодишься». Вот и дождался Брозовский своего часа. С утра до вечера он был теперь на ногах. Цонкель заявил ему, что готов сотрудничать, он даже настаивал на этом.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Четвертый год Цонкель служил в частной фирме по строительству железнодорожных путей. Работа ему давалась очень тяжело. Не имея специальности, он устроился грузчиком; в конце первого же месяца, перекладывая рельсы, он надорвался и с грыжей попал в больницу.
В ноябре ему удалось избежать отправки на восток лишь благодаря плевриту, свалившему его опять на больничную койку; Цонкель лежал с температурой сорок в тот день, когда его бригада путейщиков, включенная в состав «организации Тодт»
[9], грузила в эшелон инструмент и оборудование.
Товарищи по работе писали ему из Смоленска:
«Тебе повезло, старина. Мы укладываем здесь новое полотно. Даже насыпь приходится делать заново. Мостов больше не существует, рельсы скручены, словно пружины. В общем, люфтваффе поработала что надо; такого ты еще не видал. Но и наш брат иногда взлетает здесь на небо, как, например, Франц Лютер. Он угодил киркой по партизанской мине…»
У Цонкеля побежали мурашки по спине, когда он прочитал это.
Боясь, что после выхода из больницы его немедленно мобилизуют, он еще перед тем, как врач закрыл ему бюллетень, сделал попытку устроиться в дорожную колонну Галле-Гетштедтской железной дороги. Но его туда не приняли.
— Теперь у нас все работы выполняют пленные, — сказал дорожный мастер. — Зря нам, что ли, русских навезли? Их как песчинок на дне моря. Получаем по потребности. Вот кто нам нужен, так это технический персонал. Но ведь вы не специалист… А вообще-то какой немец станет теперь вкалывать?
Из Гетштедта в Гербштедт Цонкель отправился по шпалам. Выпал снег. На путях работало более ста военнопленных. Часовые крикнули Цонкелю, чтобы он сошел с полотна. За штабелем шпал, прямо на голой земле, лежало несколько больных.
— Убирайся-ка отсюда, благодетель, не считай ворон, — прикрикнул на него унтер-офицер. — Здесь подыхают лишние дармоеды.
Дома Цонкель сказал жене:
— Нацисты обращаются с людьми, как с отбросами. Если только Гитлер выиграет войну, нас заставят вытягиваться в струнку перед каждым телеграфным столбом. Но они ее не выиграют, блицкриг уже провалился.
Жена промолчала.
— Я должен найти работу как можно быстрее. И поблизости. Все равно какую. Иначе будет плохо. Схожу-ка к Шунке, может, что-нибудь придумает.
— Шунке… откуда ему знать, где есть работа? — возразила жена. — Лучше не связывайся.
После изгнания из ратуши Цонкель долго не мог найти работы. Ему отказали даже на шахте, причем в то время, когда Вольфрума и старшего сына Брозовского снова приняли на работу.
Как только сумма не выплаченного Цонкелем земельного налога достигла почти четырехсот марок, Фейгель распорядился о принудительной продаже участка с торгов. Выручил Цонкеля родственник его жены, одолживший ему деньги на выкуп закладной.
— Что значит «не связываться»? — заворчал Цонкель. — Пора и мне за что-то приниматься. Нацисты выложили свой последний козырь… Там, где они сейчас маршируют, многие уже сломали себе шею.
— Однако они уже захватили пол-России.
— Да, только половину. В этом все дело. Они ведь к зиме собирались быть в Москве. А где они сейчас?
Фашистская армия застряла под Ленинградом и Москвой. Радиотрескотня уже никого не могла ввести в заблуждение. Опустошенную землю от Финского залива до Азовского моря покрыл глубокий снег, из которого торчали обуглившиеся развалины.
В лютый мороз длинными колоннами гитлеровцы гнали население из оккупированных областей на принудительные работы. Подразделения вермахта зарывались в промерзшую землю, прятались в бункерах.
Тогда и обрушился на них контрудар. Гитлеровские полчища откатились назад за сотни километров, оставляя Красной Армии танки, орудия, все свое снаряжение. Тысячи немецких солдат остались в снегах навсегда.
Цонкель втолковывал жене, что в этой войне армия Гитлера впервые встретила противника, оказавшегося способным дать ей серьезный отпор и нанести сокрушающие контрудары.
— Русские отвоевали территорию размером с пол-Германии, — сказал он.
— А что будет весной, как ты думаешь? — спросила жена. — Ведь
ему всегда везло…
— Не всегда. Гитлер со своими маршалами недооценил Советскую Россию. Так же как недооценивали ее всегда и мы, замечая только второстепенные минусы. Мы не хотели видеть ничего другого и поддались внушению; а нам постоянно вбивали в головы, что Советы не удержатся. Мол, за двадцать четыре года они восстановили против себя весь народ. Но теперь видно, что они выдержали, и не только выдержали, но и наносят поражения врагу.
В дверь постучали. Разгоряченный Цонкель умолк.
— Хайль Гитлер!.. Вот мы и застали вас обоих. Удачно. Хайль Гитлер!
В комнату вошли Ольга Бинерт, фрау Бартель и фрау Барт. Ольга была в новом меховом манто. Карл Вендт прислал этот подарок своей теще ко дню рождения из Харькова.
— Мы собираем одежду в фонд «Зимней помощи». Каждый должен дать что-нибудь для армии фюрера. Шерстяные вещи, свитера, меха. Все, без исключения, обязаны участвовать в этом благородном деле. Мы с вами сидим здесь в натопленной комнате, а нашим солдатам нужны теплые вещи. Ранняя зима доставила армии много хлопот. Все должны помогать им.
Ольга показала рукой в окно. Школьники в форме юных нацистов подвезли к дому ручную тележку, на которой лежала груда одежды.
— Каждый дает, что может. В первую очередь меховые вещи.
Цонкель вышел из комнаты.
— У тебя ведь есть такая жакетка на кроличьем меху, — сказала Барт жене Цонкеля. — Ну та, что тебе узка. Можешь ее тоже сдать.
Вся тройка уполномоченных фонда «Зимней помощи» тараторила, перебивая друг друга. Фрау Барт вынесла из дому охапку шерстяных вещей. Ольга Бинерт наклеила на поля газетного листка несколько пестрых этикеток.
— Не потеряйте их, — сказала она Цонкелю, уходя. — Берегите их хорошенько. Это факсимиле фюрера, напечатанное с оригинала. Хайль Гитлер!
В тот же вечер случилось неслыханное. В ратуше был совершен поджог. Огонь вспыхнул в комнате, где складывали собранные теплые вещи, Фейгель первый почувствовал запах гари. Когда пожарные погасили огонь, фрау Бартель перерыла кучу обугленного тряпья; большинство вещей еще можно было опознать. На всю ратушу прозвучал ее истерический крик:
— Так я и знала! Лучших вещей нет, нет и моей шубы! Здесь был грабеж!
Меллендорф составил список уцелевшего, и уполномоченные сравнили ее с реестром собранных вещей. Ольга Бинерт удостоверила, что все находилось под строгим контролем. Отсутствовали многие вещи, причем самые дорогие.
В городе поговаривали, что на такое способен лишь Фейгель. Однако следствие не обнаружило никаких улик. Бургомистр Фейгель довел до всеобщего сведения, что сбор вещей продолжается и что любое пожертвование будет принято с благодарностью.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Март тысяча девятьсот сорок второго года начался для Брозовского с неожиданности.
Знакомый из Гетштедта передал ему самокрутку.
— Возьми, хороший табачок. Но сначала прочти, а потом уж прикуривай, — сказал он, усмехаясь.
Брозовскому назначали встречу. Товарища, приславшего самокрутку, он знал много лет по партийной работе. Знал, что тот сидел в концлагере и что его приговорили к шести годам каторжной тюрьмы. Но как же он оказался на воле?
Минна посоветовала мужу выждать. Гетштедтский знакомый снова передал Брозовскому привет и еще одну самокрутку.
— Можешь быть уверен в нем, Отто, — сказал он. — А ты ничего не хочешь передать?
В ответ Брозовский тоже передал самокрутку.
Они встретились в маленькой квартире в Эйслебене. Высокий плечистый человек в очках с толстыми стеклами крепко пожал руку Отто и испытующе посмотрел на него.
— Ничего, все нормально, — сказал он в ответ на извинения Брозовского, — мы ведь тоже тебя прощупывали.
Разговор их продолжался два часа.
— Партия существовала все время, — ответил товарищ на вопрос Брозовского, — но одного существования теперь мало. Мы должны активизировать работу. И начнем ее на заводах, шахтах, в лагерях для депортированных, а также среди солдат. Подпольщиков надо обеспечивать жильем, продуктовыми карточками, деньгами, одеждой. Я дам тебе адреса нескольких явок. Дела, как видишь, идут.
Они условились о встрече и выработали код для передачи сведений. Товарищ, оказавшийся руководителем Средненемецкой антифашистской рабочей группы, оптимистически проанализировал обстановку и в заключение сказал:
— Насколько можно судить, позиции Гитлера значительно ухудшились. Но он еще стоит на ногах, гвардия его палачей пока свирепствует. Борьба предстоит нелегкая.
Брозовский набил полную пазуху листовками. Не рискуя возвращаться домой автобусом, он пять часов шел пешком.
Через полгода вокруг Гербштедта — на шахтах и металлургических заводах, в лагерях военнопленных — уже существовала пусть еще тонкая, но прочная сеть Средненемецкой антифашистской рабочей группы; существовала и сильная организация среди депортированных рабочих.
За эти полгода изменилось многое. Немецкая армия застряла на Кавказе. Однообразно-торжественные «экстренные сводки» прекратились. Радио то и дело рявкало: «Сталинград должен пасть!» Но Сталинград не пал.
Зато пало много немецких солдат. На последних страницах газет, где печатают объявления, все больше и больше места стали занимать фамилии в жирных черных рамках.
Тридцатого ноября, за день до того, как новый преемник Альвенслебена, крейслейтер Зауэр, вызвал к себе в Эйслебен на Клостерштрассе редактора газеты и зачитал ему декрет министра пропаганды, запрещающий впредь принимать от граждан траурные объявления об убитых на фронте, в сортировочной Вицтумской шахты между Шунке и Бинертом произошел следующий разговор.
— Вашего рейхсмаршала Геринга, — сказал Шунке, — теперь можно называть олухом. Он сам заявил, что если хоть одна бомба упадет на немецкие города, то пусть все назовут его олухом. Так оно и есть. Не станет же он нарушать данное им слово. Каждую ночь американцы с англичанами бомбят наши города. Куда девалась люфтваффе? В сводках упоминают какие-то названия: Клецкая, Калач, — но ведь это далеко за линией фронта. Что происходит?
Бинерт жевал кончики длинных усов, похожих на два мотка проволоки.
— Кто олух? Наш рейхсмаршал? Где он, говоришь? За фронтом?.. Ты где этого набрался, а? Слушаешь вражеское радио? Распространяешь слухи, брюзжишь и сеешь недовольство? Я тебе припомню! Я такой рапорт напишу!
— Так ведь об этом пишут газеты…
— Знаю я твои газеты: бим-бим-бим-бом! Говорит Лондон. Бим-бим-бим-бом! Запомни, каждый, у кого болтается язык!..
Спотыкаясь о рельсы и сверкающие маслом пластинки, Бинерт побежал от сортировочной площадки к зданию управления Вицтумской шахты.
Шунке глядел вслед надсмотрщику. Не выдержав темпов работы, введенных нацистами, Шунке получил тяжелое увечье и как полуинвалид работал теперь на сортировке. Ольга Бинерт с годами добилась своего. Бартелю больше не удавалось одерживать верх над ней. Эдуарда перевели на наземные работы, назначив контролером рудооткатки, и Шунке был вынужден день-деньской выслушивать его стратегические мысли: как надо выигрывать сражения и сотнями тысяч убивать русских. Мысли эти зарождались у Бинерта, по его собственному уверению, во время просмотра еженедельных выпусков кинохроники. Кино он посещал с такой регулярностью, что киномеханик не начинал сеанса, пока Бинерт не усаживался на свое место.
Через час Шунке арестовали. Двое мрачных субъектов, конвоировавших его, лишних слов не тратили. Когда садились в машину, один из них коварным ударом под колено сбил Шунке с ног.
О его аресте Минне сообщила Кетэ Вольфрум, встретив ее в городе, а сама она узнала об этом от мужа. Украинцы, работавшие на сортировочном дворе вместе с Шунке, рассказали Вольфруму о случившемся.
Вольфрум рассвирепел:
— Так глупо влипнуть… Нет, это недопустимо. Коммунист не имеет права легкомысленно относиться к своей безопасности, — сказал он.
Минна поспешила домой. Навстречу ей попалась Ольга Бинерт с опухшим от слез лицом. Обычно гордая и надменная, словно повелительница сотен рабов, она выглядела сегодня совершенно разбитой.
На другой день Брозовский молча протянул жене газету, и Минна поняла, отчего ревела Ольга Бинерт:
За фюрера и рейх в боях на Восточном фронте погиб мой любимый супруг, наш дорогой зять и шурин, кавалер Рыцарского и германского Золотого крестов Курт Фогт, штурмбанфюрер СС.
С гордой скорбью Гертруда Фогт, урожд. Бинерт, Эдуард Бинерт и фрау Ольга, Курт Вендт и фрау Линда, урожд. Бинерт.
— Вот так-то, — сказал Брозовский.
Когда Минна кончила читать, он взял газету и насчитал еще восемь черных рамок. В некоторых объявлениях отсутствовали слова «с гордой скорбью» и лишь скромно упоминалось, что погиб отец, сын, зять или шурин.
В следующем номере уже не было ни одного траурного объявления. Писали зато о неожиданно ранней зиме на Восточном фронте, которая всегда была союзницей русских. Военный корреспондент сообщал о превосходящих силах генерала «Зимы», о растущей ожесточенности боев и о натиске противника, который, пытаясь оттянуть свою гибель, в отчаянии бросает на фронт последние резервы.
— Вот так-то, — повторил Брозовский. — Натиск. Совсем иной тон. Они оказались под натиском… Пойду-ка выпью кружку пива.
Минна обомлела от удивления. Пиво — среди бела дня?.. Это стоило бы записать. Она не помнила, чтобы ее муж выпил кружку пива с тех пор, как вернулся из тюрьмы. Не замечала она прежде в нем и безжалостности. Однако она промолчала.
Брозовский сидел в «Гетштедтском дворе». Новый хозяин ресторана, не знавший его, спросил о незнакомом посетителе у обзаведшегося солидным брюхом Меллендорфа и подставил ухо в ожидании ответа.
Поскольку полицейский был неспособен после восьми, если не девяти, кружек пива и нескольких рюмок разных вин говорить шепотом, Брозовский тоже услышал свою фамилию.
Пропустив это мимо ушей, он заказал вторую кружку пива. Трактирщик подсел к нему и завел оживленный разговор о положении на фронтах.
— Весной придет конец войне. Вы не думаете? Русские совсем выдохлись.
— Да, наверняка, несомненно. Кто его знает? — В сегодняшнем настроении Брозовский готов был пойти и на большие уступки собеседнику.
Посетителей в это время дня было мало. Меллендорф играл в карты с незнакомой Брозовскому компанией. Упиваясь собственной властью, он гаркал:
— Contrá! Я повторяю вслед за Манштейном: contrá! Массированная танковая атака — и эти жалкие остатки будут раздавлены. Слыхали о наших «тиграх»? Для них не существует никаких преград! Этот сброд мы уничтожим! Вот!..
Меллендорф «крыл» карты партнеров. Его отвислые сизые щеки колыхались в такт движениям руки.
Хозяин ресторана высказал свое мнение о битве под Сталинградом. О немецких танках он был осведомлен больше, чем Брозовский. По всей вероятности, он уверовал в их превосходство после серьезной беседы с Меллендорфом.
— Когда наши двинут, камня на камне не останется…
— Когда двинут, конечно. Еще бы.
— Зима нам мешает…
— Вряд ли! — Брозовский заказал третью кружку, чтобы хоть на две минуты избавиться от «эксперта по танкам» и передохнуть.
Тем временем вошли новые посетители: пожилой мужчина, лет за пятьдесят, и парень лет двадцати, — судя по виду, иностранные рабочие. У старшего под мышкой был свернутый мешок. Они скромно сели в угол и заказали пива.
Брозовский заметил, что Меллендорф перестал тасовать колоду.
— Пиво? Что еще за новости? — крикнул блюститель порядка и вылез из-за стола. — А ну-ка, предъявите документы!
Пожилой стал рыться в карманах.
— Ну?..
Тот протянул ему замусоленную бумагу. Меллендорф едва взглянул на нее.
— Ага, поляки. Что вам здесь надо?
— Купить немного картошки…
Тяжелый кулак ударил рабочего в лицо. Тот зашатался. Изо рта и носа полилась кровь. Брозовский изо всех сил стиснул кружку, словно хотел раздавить ее.
— Получите, господин хозяин! — резко сказал он, когда поляки выбежали из ресторана.
Меллендорф хотел было наподдать еще и молодому, но не успел.
Брозовский даже не притронулся к третьей кружке и вышел вслед за поляками, не обращая внимания на полицейского. Тот, с победоносным видом осушив кружку, кричал:
— Какая наглость, а? Они уже бродят, где им вздумается. Ну, я научу их порядку. Один уже схлопотал, сволочь! Может, здесь есть желающие?.. — Меллендорф покосился на Брозовского, когда тот направился к выходу.
Брозовский догнал поляков у рынка, на углу Гетштедтской улицы. Старший плакал и пытался остановить кровь.
— Вам нужна картошка? Пойдемте!
У самих Брозовских ее было немного: осенью им выдали пока лишь половину зимнего пайка. Но Отто привел поляков к себе домой и насыпал им небольшой мешок.
— Здесь фунтов двадцать, на неделю вам хватит.
Он пожал им руки.
— Ты камрад, ты хорош камрад, — сказал поляк, когда Брозовский сунул ему в карман деньги, которыми тот хотел расплатиться.
— Не надо, друг. Сталинград! Вы слышали о нем? Этим сволочам недолго осталось размахивать кулаками. — Брозовский дал рабочим несколько листовок на польском языке. Взволнованные, они ушли, а он уселся дочитывать газету.
— Будь осторожнее, ты становишься слишком безрассудным, — остерегла его жена. — Не теряй выдержки, если не все идет так быстро, как тебе хочется. Не забывай, что случилось с Шунке…
Он только взглянул на нее поверх очков. Она поняла. Никаких слов больше не требовалось.
В воскресенье, перед рождеством, произошла сенсация. Сборщики пожертвований в фонд «Зимней помощи» предприняли генеральное наступление на кошельки горожан. Церемония сбора была на сей раз поставлена на широкую ногу: концерт на площади, шествие отрядов «юных нацистов» и младших школьников с барабанным боем… Постучались даже к Брозовским.
— Пожертвуйте, что можете: белье, меха, платья, костюмы, — объявила сборщица, улыбаясь. — Все пригодится.
Минна внесла десять пфеннигов. Сборщица, не глядя, бросила монету в копилку. Ей не терпелось сообщить важную новость.
— Слышали?..
Нет, они ничего не слышали и получили новость «горяченькой»: Ольгу Бинерт освободили от занимаемой ею должности руководителя Женского союза.
Минна сложила руки под фартуком.
— Вот это да… Кто же будет на ее месте?
— О-о, кто-нибудь найдется. Скорее всего, фрау Бартель… — Шепот перешел в торжествующе-язвительную скороговорку.
Вся эта история всплыла наружу благодаря длинному языку жены Бартеля. Несмотря на строжайший приказ — помалкивать, она болтала по всему городу о том, как дорого обходятся шикарные свадьбы… Ее даже не остановил выговор, полученный от гаулейтерши Женского союза. В кассе оказался недочет…
Жена оберфарштейгера мстила Ольге Бинерт по крупному счету. За все. За многолетнее унижение и за предположение — хотя и трудно доказуемое, — что между оберфарштейгером и Ольгой Бинерт что-то было. Правда, ей не удалось когда-либо застать эту парочку вместе, но мало ли что… И вот соперница низвержена.
Сборщики провели в этот день большую работу. Всем, кто еще не знал главной новости, ее сообщали громко либо вполголоса на ухо.
Неделями к Бинертам никто не заглядывал. За покупками ходила Линда. Ее мать не покидала дом. Когда к ним подъехала подвода за различными вещами, ортсгруппенлейтер конфисковал вдобавок ценные предметы и меха, принадлежавшие Линде: шубу из меха полярной лисицы, норвежское покрывало из шкуры северного оленя, каракулевую шкурку и шкатулку из кованого серебра. Линда кричала, что это — подарок, присланный ей мужем из Флоренции. Ольге Бинерт пришлось отнести вещи на подводу и явиться в ратушу для подписания протокола.
С начала февраля Брозовский вдруг заметил, что многие знакомые снова стали здороваться с ним.
Радиоприемничек у него был не ахти какой, но самые важные сообщения Брозовский слушал и днем и ночью. Он слышал, как Геринг с пафосом крикнул в микрофон: «…и возвести там, что ты видел нас лежащими здесь, как то повелел закон!»
Не один Отто слышал эти слова. Их слышали миллионы, слышал и противник. Миллионы узнали о том, что в мороз и пургу, под разрывы советских снарядов, под грохот советских танков, между Волгой и Доном погибли сотни тысяч немецких солдат.
Врач из больницы тоже услышал. Встретив Брозовского на улице, он поздоровался с ним.
— Что вы об этом думаете? — Глаза его холодно поблескивали за тонкими стеклами.
— Зима… — осторожно ответил Брозовский.
— Думаете, зима?..
Фронт продвигался на запад. Бои шли под Ростовом и Харьковом. В газетах опять замелькали названия городов, известных еще по первому году войны: Вязьма, Орел, Курск…
Возник новый термин «тотальная мобилизация». Снова пошли собрания, демонстрации, радиотрескотня. «Воле фюрера мы все послушны!» — пыжился Геббельс.
Брозовского вызвали на биржу труда. К его удивлению, чиновники были приветливы; ему сообщили, что он годен к трудовой повинности и направляется на Вицтумскую шахту сортировщиком. Бартель поставил его на место арестованного Шунке.
На вагонетках появились лозунги:
«Долой Гитлера!»
«Кончайте войну!»
Брозовского вызвали на допрос. Допросили Вольфрума. Допросили Боде. Допросили Бинерта.
Да, да, Бинерта! По настоянию Бартеля. Нельзя доверять человеку, чья жена в такое тяжелое время хапнула деньги из кассы национал-социалистского движения. Допросы оказались безрезультатными. Во время них по штольням продолжали катиться вагонетки с новыми лозунгами. На несколько дней остановилась рудооткатка. Арестовали нескольких «восточных» рабочих. «Арестовали» — не то слово: несколько безжизненных тел были перенесены земляками, под присмотром полицейских, на машины, ожидавшие у ворот шахты. Рабочих заподозрили в том, что это они сломали рудооткатку, засунув в канатный шкив ломик, похищенный в инструменталке.
Минна не знала, что и думать; такого она не припоминала: Линда Бинерт поздоровалась с ней на улице.
Линда была на восьмом месяце беременности. Ее сопровождала, верней тащила, Альма Вендт.
Берлин, Эссен, Кельн и другие города подверглись жестоким бомбардировкам. В Гербштедте была объявлена первая воздушная тревога. Ортсгруппенлейтер Гюнермарк вместе с Фейгелем стоял на холме за городом и наблюдал в бинокль летящие на юг эскадрильи бомбардировщиков.
— Нам бы истребителей побольше, — сказал он. — Я бы дал им жару…
Фейгель благоразумно согласился с ним.
Брозовский под вой сирены, при затемненных окнах, фальцевал на кухне листовки. Одну из таких листовок Меллендорф сорвал с дверей собственного дома. Далось ему это нелегко: пришлось взгромоздиться на стул и, балансируя, одной рукой держаться за стену.
Бомбоубежище было набито битком. Люди ворчали, огрызались, но пришлось потесниться: Линда Бинерт родила здоровенького мальчика. Альма, ее свекровь, в темноте побежала разыскивать акушерку. На улице ее остановил дежурный ПВО и за неповиновение применил силу. Еще до того, как после окончания тревоги подоспела помощь, какая-то решительная женщина перерезала пуповину маленькими ножницами и сделала все необходимое.
Ольга Бинерт заголосила, как деревенская старуха, когда почтальон принес извещение и положил его на подоконник. Заходить в дом он не стал. Много подобных извещений разносил он последнее время и — всякий раз выслушивать крик и плач был не в силах.
— Ребенок даже не увидит своего отца! — причитала Ольга. — Никогда не увидит!
Сорвав со стены портрет фюрера, подаренный ей гаулейтершей Женского союза за выдающиеся заслуги, она тут же, на глазах испуганного мужа, растоптала его.
Альма Вендт не пережила гибели сына. Убитая горем, измученная, преждевременно состарившаяся, она тихо сошла в могилу. Пастор сказал, что она последовала за своим сыном, чье тело погребено в чужой земле и чью могилу никто не найдет.
Хоронить Альму помешала воздушная тревога. Люди успели лишь опустить гроб и убежать. Только старый пастор остался и оказал ей последние почести.
В одной из ночных передач Брозовский впервые за много лет услышал дорогое для него название. Немецкий диктор произнес его растянуто. Красная Армия вступила в Кривой Рог.
Криворожское знамя — оно снова будет развеваться. Снова на рудниках будут добывать руду, снова начнут выплавлять сталь.
Минна сумела завоевать сердца и доверие нескольких женщин.
Теперь уже Брозовский предупреждал ее:
— Твои разговоры в убежище могут плохо кончиться. Ты слишком неосторожна.
— Оставь меня в покое! — отрезала она. — Теперь дело не в нас с тобой. Когда люди снова захотели доискаться правды, — надо им помочь. Если каждый из нас сумеет сагитировать десятерых — уже не важно, что случится с нами самими.
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
Мимо отвала породы шла длинная колонна советских военнопленных, направляясь в лагерь. Тех, кто не мог идти, товарищи несли на черенках лопат. Часовые следили, чтобы никто не ступал на поле и не выдергивал молодую картошку и свеклу.
Брозовский с Цонкелем стояли в сторонке. Выждав, когда часовые прошли, Брозовский бросил одному из пленных сверточек. Тот мгновенно спрятал его под рваной курткой и ответил благодарным взглядом.
— Стыдно, и ничем нельзя помочь, — сказал Брозовский. — Ну что толку от ломтика хлеба…
Цонкель пробормотал в ответ что-то невнятное. Они спускались с холма.
— Мне все преподнесли сегодня в чистом виде. Я даже не мечтал, что мне еще раз доведется работать на Мансфельдское акционерное общество. Итак, круг замкнулся: откуда я вышел, туда и пришел. — Большим пальцем Цонкель указал через плечо назад, на шахту.
Свою первую смену на отвале он отстоял. Приняли его на работу против воли Бартеля.
Брозовский слушал его, не перебивая. «Да, да, мой дорогой Мартин, — думал он, — тебе придется здорово переучиваться. В твоем возрасте это нелегко. Надеюсь, что теперь-то ты никуда не свернешь».
И все-таки Брозовский сомневался. Он часто встречался с Цонкелем. Тот брался за любое задание, но при этом, однако, высказывал несколько странные мысли о будущем. Например, он неправильно оценивал военное положение и соотношение сил внутри антигитлеровской коалиции. После того как американцы высадились в Северной Африке и сбросили Роммеля с его Африканским корпусом в Средиземное море, Цонкель сказал, что теперь судьба войны решена.
Когда Брозовский заметил ему, что у Гитлера на Восточном фронте стоят сто семьдесят пять дивизий, а в Африке лишь две или три, что судьба войны решается на Востоке и главную тяжесть ее несет Красная Армия, Цонкель согласился с ним. Однако он возразил, что англичане и американцы атаковали наиболее уязвимые фланги, а это опаснее.
Во время боев за Сталинград и после разгрома армии Паулюса его взгляды изменились. Он почувствовал мощь Советского Союза, проявившуюся в этом гигантском наступлении.
— Новую Германию можно построить только вместе с русскими, — сказал Цонкель. — Иначе это сделать невозможно. Высадка союзников в Сицилии — это лишь мелкий укол в сравнении с тем, что осуществляет Красная Армия. Жалкий намек на второй фронт.
Но вот вчера западные союзники высадились на французском побережье у Котентена. Брозовскому было интересно, что скажет на это Цонкель.
— Геббельс, понятно, разорется: «Мы сбросим их в воду! Мы их разгромим! Подождем, чтобы их заманить подальше…» Как думаешь, Мартин, чем это кончится?
— Пока еще сомневаюсь. Все-таки «Атлантический вал» — не шуточное дело. И потом, кто знает, может, у нацистов уже есть «чудо-оружие»…
— Это ты брось, с «чудо-оружием» или без него — судьба войны уже известна. Все было решено еще под Сталинградом. Мы говорим сейчас о большой политике. Американцы, судя по всему, хотят поспеть первыми.
— В Берлин?
— Вот именно.
— Знаешь, Отто, я очень долго боялся, что Советский Союз не выдержит. Так и быть, признаюсь тебе сегодня. Я всегда думал: хорошо, если бы правда оказалась на твоей стороне. Это было моим якорем спасения. Так оно и вышло. Но все, что произошло за это время… Фашисты совершали страшные зверства. Ведь они оставили за собой выжженную землю, и теперь я боюсь обратного: что будет, когда сюда придет русская армия? Представляешь себе, какова будет месть?
— А сам ты как себе представляешь это?
— Я…
Цонкель задумался.
— Н-да… Как я себе представляю месть?
— Независимо от того, кто придет сюда первым, — сказал Брозовский. — Ясно одно: нам надо быть едиными. Ошибки прошлого не должны повториться. И единственная гарантия этого — единая рабочая партия. Мы должны приложить все силы, чтобы создать ее уже сейчас.
— Вполне с тобой согласен. Хватит колошматить друг друга, этому больше не бывать. — Складывалось впечатление, что Цонкель искренне высказывает свои убеждения. Однако внезапно он сказал фразу, ошеломившую Брозовского:
— А не лучше было бы, если бы сначала Германию оккупировали западные страны? Ты представляешь, какая начнется бойня, если русские солдаты начнут мстить за все, что немцы причинили их стране, их семьям?
— Ну, и что ты предлагаешь? — сдержанно спросил Брозовский, хотя кипел от злости.
— Что предлагаю?.. Подождать. То, что было, ведь уже не повторится. Мы получили урок и дорого заплатили за него. Нам надо на первых порах вести гибкую линию, Отто. Таково мое мнение.
— А я думаю, что нам нужна очень твердая линия. — Брозовский произнес это так спокойно, что Цонкель посмотрел на него. — А расплаты не избежать. В программе нашей группы записано, что, когда пробьет час, мы немедленно должны захватить все ключевые позиции. По возможности, до того, как произойдет оккупация, и независимо от того, кто сюда войдет. И дело здесь не в гибкости, дело в том, что мы должны действовать, а не выжидать. Нам предстоит очень много наверстывать.
— Но чьими руками, кто у нас остался?
— Рабочий класс!
— А в каком он состоянии? Нацисты потянули рабочих за собой, как стадо баранов. И сделали их соучастниками своих преступлений. В результате каждый теперь боится.
— А с кем же ты мечтал осуществлять свою программу?
— С такими людьми нельзя построить ничего нового. Они испорчены.
— Слушай, Мартин, рабочие — они здесь, никуда не делись, народ существует. Временно классовое сознание, может быть, затемнено, но рабочие — живы. Не знаю, выживем ли мы… но рабочий класс будет жить всегда. Правда, фашисты хотят всех потащить за собой в пропасть, это ты верно сказал — хотят всех сделать соучастниками. Трудно предвидеть, насколько это им удастся. Но бесспорно одно: новая, наша Германия будет построена нашими силами, теми людьми, которые здесь живут.
Дальше они шли молча, погруженные в свои мысли, и расстались, не подав друг другу руки.
Подойдя к дому, Брозовский встретил жену, несшую за плечами корзину с кормом для кроликов, и помог ей снять груз.
По односложным ответам мужа Минна заметила, что он в плохом настроении. «Какая муха его укусила?» — подумала она.
Когда Брозовский поведал ей о своем разговоре с Цонкелем, она сказала:
— Просто не верится. Это что же, американцы нас будут спасать? Не своими ли «ковровыми» бомбежками? Нет, пожалуй, с ним надо быть осторожным; неужели он так ничего и не понял?
— Кое-что понял. Но он колеблется, как и прежде. У него одновременно надежда и страх, сомнения и слепота, понимание трагедии и боязнь ответственности. Но как можно опасаться возмездия, когда нацисты только еще готовятся окончательно рассчитаться с нами? Мы должны быть очень бдительными и сейчас и потом. А вправлять мозги Цонкелю — дело тяжелое.
Брозовский вытер пот со лба. «Да, сейчас очень, очень нелегко, — подумал он. — Но и потом будет не легче».
— На кого же можно положиться? Вроде бы кое-что он понял. Работает с нами, делает все, не трус… Может, фантазирует?
— Очевидно, хочет начать с того, чем кончил в тридцать третьем.
— Неужели он способен на такое безумие?
— И да и нет… Но это не меняет дела, мы пойдем своей дорогой. Люди нас поймут. Мы должны завоевать их доверие.
Минна подбросила кроликам зелени.
— Это зависит от каждого из нас. Надо работать еще больше.
Брозовский молча кивнул.
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
Молодая проводница проверяла билеты в полупустом вагоне. Поезд шел очень медленно, казалось, он еле тащится от станции к станции. В Клостермансфельде объявили предупредительную воздушную тревогу. Неспокойно было ездить осенью сорок четвертого. Ловко передвигаясь по наружной ступеньке вдоль вагона, из купе в купе, проводница с тревогой поглядывала в небо. Она все время торопилась обратно, в то купе, где пассажир со шрамами на голове так интересно рассказывал. Только… неужели он не замечает, что за ним шпионят?
Она лихорадочно соображала: как бы дать ему знать? Этого толстяка она запомнила: в который раз он заводит разговор об одном и том же — наступление, контрнаступление, высадка американцев в Северной Франции, парашютные десанты, прорыв русских на Висле. С этого начиналось всякий раз. А кончалось обычно тем, что до Гетштедта толстяк успевал наметить себе жертву среди пассажиров. К концу июля число арестованных возросло до трех человек за каждую поездку. А однажды арестовали четверых; к счастью, им удалось скрыться в темноте. Но перед этим на вокзале завязалась драка, в которой провокатору крепко досталось. Генеральский заговор двадцатого июля дал возможность толстяку собрать обильный урожай. К концу осени число арестов несколько снизилось. Сегодня он опять расставил сеть, и жертва сама лезла в ловушку.
Проводница рывком открыла дверь и вошла в купе. Лицо ее, слегка загорелое и румяное, выражало решительность. Но, приблизившись к толстяку, она вдруг оробела.
Толстяк сидел у окна, слегка наклонившись вперед, и громко разговаривал. И хотя ветерок, ворвавшийся в купе, растрепал редкие волосы на его макушке, толстяк сделал вид, что не заметил вернувшейся проводницы. Она же, точно зная, что от его внимания ничто не укрылось, села таким образом, чтобы из-за спины толстяка видеть сидевшего напротив Брозовского.
— Вы так думаете, а?.. — громко кричал он, стараясь заглушить стук колес.
— Да, я так считаю. Война — несчастье. Да, да. Надо бы подумать о том, как нам выпутаться из этой истории. — Брозовский нахмурился.
Толстяк расплылся в улыбке.
— Вы действительно так думаете? — подчеркнуто переспросил он.
Проводнице показалось, что он набрасывает на шею собеседнику тонкую петлю.
В другом конце скамьи сидел рабочий. Глаза его были закрыты, но проводница видела, что он внимательно слушает, а веки опустил для маскировки. Женщина, читавшая иллюстрированный журнал, сидела с напускным безразличием, однако ее плотно сжатые губы и бледный лоб свидетельствовали о том, что она с тревогой следит за разговором.
— Я думаю, пяти лет войны с нас вполне хватит, — горячо сказал Брозовский.
— А как вы можете выпутаться из нее? Война есть война. Она продолжается независимо от нашего желания. Здесь уж ничего не поделаешь.
— Если каждый будет так рассуждать, то — конечно.
— А как рассуждаете вы? — в упор выпалил толстяк.
Брозовский не сразу нашелся.
— Я думаю так, как должен думать каждый разумный человек, — уклончиво ответил он.
— Это — пустые слова.
— Людям надоело! — взорвался Брозовский. — Бесконечные бомбежки, воздушные тревоги…
Он спохватился, поняв, что толстяк провоцирует его. «Зачем я ввязался в этот никчемный разговор о холодной осени и погибшем от дождей урожае? — думал он. — Минна сказала, что мы должны работать еще больше. Да, но только не таким дурацким способом», — укорял он себя.
Листовки он распространял без единой осечки. У него выработалась такая ловкость, что он доставлял листовку к месту назначения почти с сомнамбулической точностью и уверенностью. Товарищ в
Клостермансфельде тоже был молодцом. Аккуратно и без проволочек он передавал дальше все, что получал.
— Бомбы, бомбы… Знаете ли, у генералов, которые двадцатого июля взялись за бомбы, чтобы избавиться от Гитлера, были такие же мысли: им тоже надоело, — усмехнувшись, сказал толстяк. — И что же?..
— Это не выход… — Брозовский заколебался, стоит ли говорить дальше. Он мгновенно почуял ловушку, в которую его заманил собеседник.
— А вы знаете иной? — Это прозвучало вполне добродушно. Толстяк явно забавлялся.
— Что вам на это сказать…
— Не знаете. Еще бы! Когда нужно ответить точно и определенно, никто не знает, что говорить. Я неправ?.. — Толстяк нетерпеливо ждал ответа.
— Почему же! Кое-что можно сказать…
Якобы спавший рабочий, потягиваясь, стукнул кованными ботинками по отопительной трубе под лавкой.
Толстяк усмехнулся над этой неловкой попыткой предостеречь загнанную в тупик жертву.
Брозовский поднял голову. Проводница округлившимися от страха глазами посмотрела на него из-за спины толстяка и подмигнула. Брозовский насторожился. Она дважды чуть повела головой в сторону сидевшего рядом с ней толстяка.
Но и шпик отнюдь не зевал. Он видел все, что делали четверо людей, находившихся в купе. Не ускользнуло от него даже то, что у читавшей журнал женщины дрожали руки. Прокашливаясь, он словно нечаянно толкнул коленом проводницу. Та испуганно отпрянула.
«Вот собака!» — подумала она и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Толстяк тоже чуть повернулся и оттопыренным задним карманом брюк коснулся бедра проводницы. Она почувствовала твердый предмет.
У нее вдруг сильно забилось сердце. Она боялась. Теперь он опять приведет ее к начальнику станции, в боковую комнату, и станет читать нотацию. Это случалось раз или два каждый квартал. Как правило, если его охота успешно заканчивалась. Летом он, бывало, «ловил» нескольких человек за рейс, и в такие дни требовал от нее содействия. Ей всякий раз удавалось откупаться, но какой ценой…
Проводница тряхнула головой и в отчаянии прижала кулаки к глазам. Ничего не видеть. Не думать об этом… Когда ее муж приезжал последний раз в отпуск, она вдоволь выплакалась у него на груди; он удивленно спрашивал, что с ней, но она не осмелилась признаться ему во всем.
— Гетштедт! — крикнула она, распахивая дверь.
— Подождите, минутку. Не торопитесь. Война еще не кончилась, — почти приятельским тоном обратился шпик к Брозовскому, когда тот вместе с другими пассажирами двинулся к выходу.
Брозовский почувствовал, как сильная рука стиснула его запястье. Только сейчас он понял, что проводница предостерегала его.
— Гетштедт!.. Гетштедт! — выкрикивала она, спустившись на перрон. — Освобождайте вагоны!
Брозовский заставил себя сохранять спокойствие. Как глупо получилось, — думал он. — И кого же он убедил? Ни один из четырех не промолвил ни словечка, каждый сидел, как воды в рот набрав. Только толстяк посочувствовал ему, и он, как желторотый новичок, клюнул на эту приманку.
— Теперь — марш из вагона! Шагай впереди меня, к служебному входу.
Толстяк заговорил совершенно иным тоном.
Этот тон был знаком Брозовскому. Он не попытался оказывать сопротивление, — напрасное дело. Одним взглядом он оценил обстановку на перроне: парные патрули фольксштурма, полиция и усиленные наряды гестаповцев, которых сразу выдавала их деланная манера держаться как можно неприметнее.
Рабочий в кованых ботинках, покидая перрон, еще раз оглянулся на Брозовского; его долгий взгляд говорил, что он все понял. Взволнованная женщина, ехавшая с ними в купе, что-то шепнула рабочему и поспешила прочь. Последнее, что Брозовский видел на перроне, — было ее испуганное лицо.
На пороге гестаповской «дежурки» толстяк дал ему коленом под зад и, махнув рукой коллегам в комнате, ушел обратно на перрон. Брозовский налетел на стол. Прежде чем он успел оглядеться, две или три пары рук сорвали с него одежду. Один из гестаповцев стащил ему через голову куртку, обыскал карманы, отпорол подкладку и, осмотрев бумажник, остался неудовлетворенным.
— Имя, фамилия, специальность, адрес…
Брозовский едва успевал отвечать. Гестаповец, осмотревший бумажник, пощелкивал ногтем по удостоверению личности. Это было все, что лежало в бумажнике.
Брозовский, в одних кальсонах, стоял посреди комнаты, когда вернулся толстяк вместе с проводницей.
— Личность знакомая, — крикнул ему гестаповец, державший удостоверение Брозовского. — Старая гвардия, уже прошел один курс лечения; да, видно, мало оказалось, потребовался второй.
— Вот как?.. Великолепно! — Толстяк с удовольствием потер руки и прежде, чем усесться за писание протокола, закурил сигару. — На этот раз возни с ним не будет. — Он весело засмеялся. — Безупречные свидетели слышали каждое слово и могут, не сходя с места, все подписать… Не правда ли, фрау Эли?
Молодая женщина, сдерживая слезы, проглотила комок, подступивший к горлу.
Брозовского поразило, с какой легкостью толстяк изложил на бумаге весь их разговор, слово в слово, — с некоторыми, впрочем, добавлениями. Проводницу заставляли подписывать каждую фразу отдельно. В одном случае она отказалась.
— Этого я не слышала…
— Вы слышали гораздо больше. Смотрите у меня!
Но она не подписала.
— Этого я не слышала. Он не говорил про фюрера.
— Да ну-у-у?
Толстяк рассмеялся. Это прозвучало неприятно.
Он стал долго и подробно распространяться о том, что именно хотел Брозовский сказать той или иной фразой и как ее следует истолковывать: смягчающим или же отягчающим вину образом.
В заключение он спросил проводницу:
— Скажите-ка, фрау Эли, вы знаете этого человека?
— Нет! — Женщина хотела было отступить на шаг, но наткнулась на стоявшее сзади кресло.
— В самом деле, нет?.. И того кочегара, помните, летом, вы тоже не знали, да? Стоять! — крикнул он, когда она сделала попытку присесть.
— Вы немного раскисли, да? — спросил он, видя, что она молчит. — Хотели предупредить эту свинью, не так ли? — Даже голос его звучал цинично.
Он медленно поднялся и наотмашь ударил ее по лицу своей широкой лапищей. Женщина с жалобным воем, словно смертельно раненное животное, упала навзничь на кресло и скатилась на пол.
Брозовский не знал, почему это случилось. Ему показалось, что даже один из гестаповцев сделал протестующее движение. Брозовский шагнул было к упавшей и сразу же получил такой удар под «ложечку», что у него потемнело в глазах.
Смутно, как бы издалека, донеслись до него слова:
— Эту длинноволосую каналью тоже заберите. Она, конечно, не столь важная птица, как сей тип, но несколько месяцев этапного лагеря пойдут ей лишь на пользу. Хотела предупредить негодяя, подавала ему знаки…
По полу протащили человеческое тело. Брозовский преодолел слабость. Толстяк приблизился к нему вплотную, повернул его дважды и вполне добродушно сказал:
— Так, так, Брозовский…
— Если не ошибаюсь, этот праведник уже не раз сидел за решеткой, — поспешил кто-то проинформировать толстяка.
— Об этом он расскажет сам. Мы еще с полчасика с ним побеседуем.
Полураздетого Брозовского поставили к обитой жестью двери. Позднее он никак не мог вспомнить, что в этот момент было с проводницей: лежала ли она уже на полу, или ее все еще заставляли подписывать протокол. Не помнил он также, была ли обитая жестью дверь в этом же помещении или в другом. Он вообще ничего больше не помнил.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
О том, что случилось несчастье, Минна догадалась, как только в их притихший дом нагрянули с ночным обыском.
Уже несколько месяцев они жили вдвоем во всем доме. Невестка с внуком переехала к своему отцу, где после смерти матери вела хозяйство. Минна не подавала виду, что скучает по малышу. Она все чаще и чаще бродила как неприкаянная по комнатам, вытирая тряпкой пыль то здесь, то там; присаживалась на минутку-другую и тихонько постанывала. Однажды она застала мужа в сарае, когда он чинил сломавшееся колесо у игрушечной тачки, оставшейся после отъезда внука. Дед подарил ее мальчику в день рождения, когда ему исполнилось четыре года. Увидев Минну, Брозовский отложил игрушку в сторону и, вздыхая, поплелся в дом.
Гестаповцы привели с собой арестованного Брозовского, очевидно, как доказательство своего права на обыск. Лишь войдя в комнату, он заметил, что среди сопровождавших его нацистов не было «вагонного собеседника». Как хвастливо заявил своим коллегам толстяк, он занимается только филигранной работой.
Минну удивил не арест мужа, а то, что гестаповцы всерьез надеялись узнать что-нибудь такое, что они еще не знали. Неужели они так ничему и не научились? Минна владела собой настолько, что не изменилась даже в лице, когда в комнату втолкнули мужа. Только когда его начали бить, она закрыла глаза.
Обыск, крики и бесчинства продолжались всю ночь. Уже давно наступило утро, когда гестаповцы прекратили безрезультатные поиски. Все это время Минна почти недвижно, скрестив на груди руки, простояла в коридоре. Идти Брозовский не мог, и нацистам пришлось нести его до машины.
В этот раз Минна не оказалась наедине со страхом и растерянностью. На улице собрались люди. Гестаповец приказал им разойтись. Минна крикнула мужу: «Прощай!» Жители соседних домов выглядывали из окон, не скрывая своего возмущения происшедшим.
Они сочувствовали Брозовским. Днем к Минне пришли две женщины и помогли навести в доме порядок.
— Я знаю, что мне надеяться не на что, — сказала младшая из них. — От мужа больше года нет писем. «Пропал без вести!» Ни слуху ни духу. Наводила справки — пожимают плечами. «Ждите», — говорят. А чего ждать? Все кончено! — Она погрозила «им» шваброй.
Через неделю эта женщина по заданию Минны поехала в Клостермансфельд. Минна долго не могла решиться, довериться ей или нет. Раздумывала два дня и две ночи. Пока что об этой явочной квартире в большом горняцком поселке знали только двое: муж и она. Только дважды ей довелось бывать там, и то в исключительных случаях, когда Брозовский никак не мог отлучиться, а съездить надо было обязательно. Он всегда предпочитал делать это сам. «Что лучше, то лучше», — любил говорить он. Минна пришла к выводу, что в сложившейся обстановке довериться необходимо. Связь не должна прерваться после ареста Брозовского, Минна не хотела оставаться в стороне. Слишком многое зависело сейчас от нее.
Опасаясь, что за ней опять установили слежку, Минна не рискнула ехать сама. Вдобавок она беспокоилась за курьера группы: если в условленный срок кто-нибудь из Брозовских не явился бы в Клостермансфельд, то курьер мог отправиться в Гербштедт и налететь на засаду гестаповцев. Минна была обязана предупредить его.
Ее опасения подтвердились. Несколько дней спустя, когда Минна вышла в город за покупками, ее остановил какой-то тщедушный молодой человек и велел ей идти к полицейскому участку, не привлекая внимания прохожих. Минна была готова ко всему и все же испугалась. Рыночная площадь выглядела как обычно. Торопливо шагали женщины. Несколько стариков беседовали друг с другом, дымя трубками, набитыми вишневым листом. Какой-то мальчишка пронзительно свистел. По булыжной мостовой громыхала конная повозка. Так бывало изо дня в день.
Оглядев агента с головы до ног, Минна спросила натянутым голосом:
— Что вам от меня нужно? Так всякий может пристать…
— Хватит болтать. Идите!
— И не подумаю. — Она уже овладела собой и стала издеваться над ним.
«Надо, чтобы на нас обратили внимание, — подумала она. — Главное, чтобы меня не увезли тайком».
— А кто вы такой вообще?
Побагровев от злости, шпик вытащил из кармана брюк прикрепленный цепочкой служебный жетон; показав его Минне, он раздраженно сунул свое «удостоверение» обратно, но не попал в карман, и жетон повис на цепочке, болтаясь у колена.
Молодому гестаповцу очень хотелось казаться важным, и это смешило Минну. «Наверное, новичок, — подумала она. — Неужели и в гестапо уже не хватает кадров?»
Видя, что она продолжает улыбаться, шпик не выдержал.
— Ваша наглость обойдется вам дороже! — крикнул он.
Стали останавливаться прохожие. Минна старалась припомнить, куда она заходила. «В булочную, к зеленщику, в москательную лавку… Хорошо, что не успела зайти к Кетэ Вольфрум, хотя и собиралась. А то втянула бы ее опять…»
— Быстрее, быстрее! — прошипел на Брозовскую шпик и подтолкнул ее в спину.
Какая-то девушка возмущенно закричала:
— Что он пристал к женщине? Еще толкается! Какое хамство!
Через площадь на помощь к агенту спешил Меллендорф. Ведя Брозовскую в участок, он украдкой озирался на прохожих: ему не очень хотелось быть причастным к этому аресту.
В полицейском участке содержимое сумки вытряхнули на стол; оттуда выкатились кочан капусты, полтора килограмма картофеля и полбуханки хлеба. Лист газеты «Фёлькишер Беобахтер», как обычно, Положенный на дно сумки, переходил из рук в руки.
Жирным шрифтом чернел заголовок: «О героизме наших женщин в тылу». Меллендорф быстро сложил лист. Дотошный агент гестапо внимательно рассмотрел флакончик с таблетками, обнаруженный в сумке, и наконец приступил к обыску.
Брозовская не проронила ни слова. Когда после унизительной процедуры она посмотрела на Меллендорфа, этот прожженный тип опустил глаза и стал лихорадочно складывать в сумку продукты.
В городе очень многое изменилось. Бургомистра Фейгеля перевели к берегам Варты, на оккупированные польские земли. «У фюрера сейчас на счету каждый способный немец», — сказал он, прощаясь с городскими чиновниками. Говорили, что он теперь второй человек в Познани и имеет перспективы стать обербургомистром. Другие утверждали, что он служит в Бромберге. Но вот уже две недели, как его семья вернулась в Гербштедт. Причем фрау Фейгель снимала комнату. Ходили слухи, будто два товарных вагона с имуществом бургомистра разбомбили, и всего добра у Фейгельши только то, что на ней надето. После отъезда Фейгеля пост бургомистра долгое время оставался незанятым; прибывший наконец наместник — какая-то бесцветная личность из Остербурга — пытался вводить всяческие новшества. Так, он хотел чтобы кладбищем и уборкой улиц отныне распоряжались городские власти. Но всякий раз наталкивался на возражения Бартеля, которому удавалось склонить на свою сторону большинство городского совета.
Бартель был единственным из оставшихся в Гербштедте «старых бойцов». Заняв пост ортсгруппенлейтера после ухода Гюнермарка на фронт, Бартель сделался неограниченным повелителем города. Он был и председателем городского совета, и командиром местного фольксштурма, и начальником гражданской противовоздушной обороны, и шефом добровольной пожарной охраны. Несмотря на такую концентрацию власти в своих руках, на шахте Бартель оставался все тем же оберфарштейгером, которого обходили назначаемые дирекцией более молодые дипломированные специалисты.
Он начал выдыхаться и заметно утратил авторитет. Явно не справляясь с многочисленными обязанностями, стал нервничать и принимать опрометчивые решения. Меллендорф мог бы многое порассказать об этом. Последнее время вообще кое-что делалось невпопад.
Меллендорф подошел к Брозовской и протянул ей сумку.
— Вы можете идти.
Молодой гестаповец вышел раньше, громко хлопнув дверью. Минна взяла сумку, даже не взглянув на полицейского. Под глазами Меллендорфа набухли синие мешки, кожа сморщилась. Стараясь придать своему голосу твердость, он сказал:
— Но я обращаю ваше внимание…
Минна молча вышла. На улице выла сирена. Через площадь бежали люди. Опять воздушная тревога!
— Штурмовые самолеты! — крикнул какой-то мальчик. — Гляди, так и шныряют!
Но ничего не было видно. Одна женщина, задыхаясь, тащила за руки детей. Из переулка выбежал запыхавшийся Барт в мундире отряда противовоздушной обороны.
— Марш в убежище! — петушился он. — Очистить улицу!
Увидев Минну, он отдал ей честь по-военному. Она даже растерялась, не зная, что ей делать. Тень стал в полном смысле слова тенью. В мундире Барт был похож на карлика.
Зима подходила к концу. Вальтер не писал. От старшего сына тоже не было вестей. Тщетно пыталась Минна узнать, куда отправили мужа. Только в феврале она получила наконец открытку из тюрьмы Люккау с приветом.
Однажды вечером пришел Вольфрум и принес ей железнодорожный билет до Люккау и деньги на дорогу.
— Поезжай, навести его, Минна. Просто поезжай туда, и все. Должны же они дать свидание.
Она еще никогда не ездила так далеко. Была как-то в Магдебурге, а уж поездка в Галле казалась ей чуть ли не кругосветным путешествием. Люккау?.. Где это?
Вольфрум показал ей этот город в старом школьном атласе, где двадцать лет назад дети напрасно искали не обозначенный на карте Кривой Рог.
Минна решила ехать. Кетэ Вольфрум и старый Шунке со знанием дела перебинтовали ей ноги — последнее время она жаловалась на судороги. Шунке стал совсем дряхлым. Когда его выпустили из тюрьмы, гестаповский комиссар сказал в его присутствии: «Эту развалину пора выкинуть. Все равно скоро подохнет. По крайней мере, сэкономим на похоронах».
— Мы тебя так запеленали, что доедешь до самой Ялты, — сказал Минне Шунке. — Радио слышали?
Конечно, слышали. Минна слушала каждый вечер. Она и здесь заменяла мужа. Союзники на конференции в Крыму советовались о судьбе Германии. Сколько еще ждать, пока эта судьба сбудется?
В поезде она сидела рядом с толстым мужчиной. Он был очень разговорчив и запросто решал стратегические вопросы. Когда он начал критиковать военное положение Германии, Минна вынула из свертка бутерброд с гарцским сыром. Сыр был очень старым, это чувствовалось по запаху. Толстяк отодвинулся.
На перроне в Галле Минна еще раз увидела соседа. Окруженный группой слушателей, он разглагольствовал о положении на фронтах. Воздушная тревога прервала дискуссию. Толстяк тут же помчался в убежище через обычно запертый служебный вход багажного отделения. Покинутые собеседники смеялись ему вслед.
— Он думает, что я его не узнал, — донеслось до Минны, — теперь уж мы на его удочку не попадемся.
После часового ожидания поезд отправился дальше. В Эйленбурге он опять застрял. Пассажирам пришлось покинуть вагоны. Лишь под утро снова тронулись в путь.
Запас еды, взятый в дорогу, подходил к концу. Поездка оказалась не такой простой, как это представлял себе Шунке. Целый день пришлось ждать в Герцберге. Путь был забит военными эшелонами. Пожилой солдат, сидевший на открытой платформе около дымящейся полевой кухни, бросил буханку хлеба детям беженцев, слонявшимся по перрону среди чемоданов и мешков. Изголодавшаяся детвора затеяла потасовку.
Минна тщетно пыталась раздобыть в зале ожидания чего-нибудь съестного. Буфет осаждали растерянные, озлобленные беженцы. К завтракавшему за столиком мужчине подошел жандармский патруль и арестовал его. Девочка лет двенадцати схватила оставшийся на столике кусок хлеба и с торжествующим видом помчалась к матери.
После полудня Минна разузнала, что есть возможность поехать в Люккау с почтовым автобусом. Ей действительно повезло. Уже смеркалось, когда она подошла к воротам тюрьмы. Дежурный охранник выпроводил ее.
— Поздно явилась, уважаемая. Наши клиенты ложатся спать вместе с курами.
Брозовская ночевала в зале ожидания. Вокруг стоял неумолчный шум; говор, крики, перебранка наполняли здание вокзала. Беженцы рассказывали ужасные истории. Минна вела себя осторожно и сдержанно, хотя иной раз ее так и подмывало вмешаться в разговор.
Рано утром Брозовская уже стояла у тюремных ворот. Один чиновник отсылал ее к другому, пока она не попала к директору.
— Вы напрасно приехали, — сказал он холодным, деловым тоном. — Восемнадцатого февраля вашего мужа отправили отсюда с этапом. Больше ничего не могу вам сообщить.
Все. Все впустую. Куда они завезли его? Обессилев, она прислонилась к стене. Не помнила, как дошла до станции, как очутилась в поезде. Все же она поехала. Страшно болели ноги, болела голова, болел живот.
Едва добравшись домой (это было первого марта), Минна упала на кровать и проспала два дня. Разбудил ее сильный стук. Она выглянула в окно. Патруль противовоздушной обороны загонял людей в убежища. Вниз по улице семенила Ольга Бинерт, навьючив на себя складную кровать и подушку с одеялом. Где-то далеко слышалась стрельба. Дрожа от холода, Минна растопила печку.
Воздушная тревога продолжалась. Минна сварила суп из бульонных кубиков. От его запаха у нее закружилась голова. Сколько дней она не ела? Минна не помнила. Поев, она села за гардиной и стала ждать. Чего? Она и сама не знала.
Когда прозвучал отбой, было уже темно. Вскоре в дверь постучал Шунке. Его сопровождали Вольфрум и широкоплечий незнакомец в очках с толстыми стеклами. На вопросы гостей Минна отвечала механически.
— Значит, не застала Отто?
— Нет, не застала. — Ей казалось, только сейчас она начала понимать, что от нее хотят. Однако не была уверена в том, кто ее спросил: Шунке или Вольфрум.
Шунке внимательно посмотрел на нее.
— Смотри не заболей, Минна, — сказал он с тревогой.
Это было последнее, что она услышала.
Вольфрум успел подхватить ее.
— У вас тут есть врач? А то я пришлю нашего из Эйслебена, — сказал незнакомец Вольфруму, который укладывал Минну на диван.
— Этого еще не хватало! — глухо ответил Вольфрум. — Я сбегаю в больницу.
Минна еле дышала.
— Тогда не теряйте времени… Сегодня, между прочим, было первое противотанковое учение. Господа фашисты спятили сами и хотят свести с ума всех. Учтите: наступают критические дни. — Незнакомец провел ребром ладони по горлу. — Ступайте в лагеря для иностранных рабочих — это верная опора. Идите на предприятия — рабочим нужен ваш совет. Необходимо парализовать фольксштурм, чтобы они не наломали дров.
* * *
Очнувшись, Минна увидела возле себя нескольких соседок. Молодая женщина, которую она посылала в Клостермансфельд, помогла ей приподняться и подложила под спину подушку.
— Ничего, матушка Брозовская, мы с ними за все рассчитаемся, — сказала она.
Девятого марта, в день рождения Вальтера, Минна встала с постели. А что, собственно, произошло с ней? Да ничего особенного. Просто у старой женщины не хватило сил.
Неужели?.. Так просто?..
Послеполуденное мартовское солнце ярко светило. Минна вышла во двор и села под окном. Пронзительно завыли сирены.
До каких пор это будет продолжаться? Месяцы, дни, недели?..
Тысячелетнему рейху наступал конец. А где ее семья? Отто, Вальтер, муж?
Вечером пришел незнакомец из Клостермансфельда. Он не стал задерживаться, только передал ей текст листовки.
Итак, Минна стала заменять мужа. Ночами, при сиянии осветительных ракет, она фальцевала листовки, таскала их в рюкзаке в бомбоубежище, ездила, встречалась с множеством людей, думала о муже, о сыновьях; иногда в задумчивости останавливалась возле крольчатника.
Где-то вдали рвались бомбы. Самолеты гудели под низко нависшими облаками. Над самыми крышами проносились в бреющем полете штурмовики. Через город проехало несколько грузовиков с отступающими солдатами. Вслед за ними удрали на машине зерноторговца Хондорфа Бартель, Барт и фольксштурмовцы… Затем наступила тишина.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
Утром американские танки стояли возле Заале. Широкими автострадами, тянущимися с запада на восток, передовые части американской армии обошли Гербштедт с севера и юга.
Красавец мост, перекинувшийся у Альслебена через Заале, погрузился в воду у западного берега. Искромсанные железобетонные арки и стальные опоры торчали из реки. Эсэсовские банды, разбросав на дорогах восточнее Заале мины и подрывные шашки, удрали в Кённерн. Многие по дороге переодевались в гражданское платье, прятались в крестьянских усадьбах, укрывались, кто где сумел. Продвигающиеся на восток американцы не могли переправиться через Заале; их танки, машины и орудия скапливались на шоссейных дорогах и проселках, наводняя весь прибрежный район.
Вечером со стороны Гарца опять раздавалась перестрелка. Разрозненные отряды эсэсовцев тщетно пытались пробиться к Заале. Быстро наступающие американские войска выдвинули мощный заслон на запад. У восточных отрогов южного Гарца моторизованные части американцев воздвигли импровизированную оборонительную линию, задержав без особых усилий остатки гитлеровских частей: при первом же контрударе нацисты разбежались.
По Гербштедту носились джипы. Пленных солдат и фольксштурмовцев сажали на грузовики и увозили. Танки двинулись дальше на восток. В тылу американской армии было сломлено последнее сопротивление распыленных подразделений фашистского вермахта.
Для Минны Брозовской война окончилась, хотя между Заале и Эльбой, и особенно на Одере, жестокие бои продолжались. Не обращая внимания на ночную стрельбу, она сидела у приемника, ловя советские передачи.
Кюстрин, Штеттин, Франкфурт, Зееловские высоты были взяты советскими войсками; форсировав Одер и прорвавшись вдоль Балтийского побережья через Мекленбург и с юга, они гигантскими клещами охватили Берлин и начали штурм столицы.
Еще раздавалась по радио трескотня карлика Геббельса. Он говорил о скорой окончательной победе и призывал к последнему решающему удару. «Кого он призывает?» — мысленно спросила Минна.
Конец!.. Конец ужасам. Минна часто обсуждала с мужем, каким будет конец фашизма. Они надеялись, что первыми к мансфельдской земле прорвутся советские войска. Но американцы пришли раньше. Что теперь будет?
Минна измучилась. Населению еще запрещалось выходить на улицу, и люди сидели, притаившись, в погребах и убежищах. Но завтра она все равно пойдет в город, соберет мужчин и женщин, соберет старых товарищей мужа. Они сядут вместе, ни от кого не скрываясь, и посоветуются, обсудят, что делать дальше…
Она не сумела бы описать овладевшее ею чувство, ибо не смогла бы дать себе отчет в том, что, собственно, происходило в ее душе. Она не ощущала настоящей радости и облегчения; она, скорее, боялась. Она желала передышки, однако понимала, что это останется только желанием. Сколько уцелело людей, с которыми можно строить все заново? Их перечтешь по пальцам. Она чувствовала себя заброшенной, одинокой. Пыталась уснуть и не могла; была голодна, но не догадывалась о том, что ее мучает голод.
Минна прислушалась. Что это? Может, просто гудят перенапряженные нервы? Со двора донесся какой-то скребущий, шуршащий звук. Словно что-то тяжелое сползло по каменной стене. Минна припала ухом к оконному стеклу в кухне и услышала осторожные, крадущиеся шаги…
Она в страхе поспешила к двери. Поначалу хотела выбежать на улицу и звать на помощь. Товарищ, которого недавно прислал к ней руководитель тройки, просил ее быть осторожнее: в районах, занятых войсками союзников, недобитые «оборотни» в последнюю минуту расправляются с антифашистами.
Минна инстинктивно схватила старый нож для резки сала, который от бесконечной точки стал похож на шило. Кто-то подкрался к окну и, кажется, прижался к стеклу лицом?
Несмотря на штору, Минна физически ощущала присутствие человека за окном.
— Мама!..
Нож выпал у нее из рук. Она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Старший!.. Это его голос…
Красные пятна выступили у нее на щеках. В этом человеке с запавшими глазами она едва узнала своего сына. Отто, напряженный до предела, стоял на кухне, сгорбленный, растерянный, все еще прислушиваясь к малейшему звуку. Скелет. Сколько времени не было известий от него? Минна думала, что потеряла сына, что его нет в живых; она скрывала свой страх, боялась с кем-нибудь говорить об этом, даже с собою.
Отто сел на скамейку, на которой любил сидеть в детстве. Мать придвигала тогда вплотную к нему стол, чтобы мальчик не упал. Сидел он здесь и подростком, а она порой не знала, чем его накормить. Его исхудавшие руки со сплетенными пальцами и сеткой вздувшихся жил устало лежали на клеенке. Он ждал, словно его позвали к обеду, и, чуть склонив голову набок, слушал: что делается там, наверху, в спальне?
— Девятый день скрываюсь в наших краях, — рассказывал он. — На прошлой неделе был в Хельбре. Американцы еще стояли в Нордхаузене. Пришлось однако удирать — шпики согнали с места. Не знал, куда деваться. Потом явились американцы, но лучше не стало. Гоняли меня, как зайца. И американцы и немцы. Немцы — чтобы прикончить, американцы — чтобы забрать в плен. Будто мне мало еще досталось… Хватают каждого встречного, если он по виду годится в солдаты. С меня довольно, я сыт по горло. Пусть ищут других…
Минна обняла сына. С тех пор как Отто стал взрослым, она решилась на это впервые.
— Где они… спят? — спросил Отто наконец и кивком указал на потолок. Он так соскучился по жене и сыну.
— Все хорошо.
Отто слушал мать молча. Только изредка сжимал кулаки и глубоко вздыхал. Потом она сварила суп из оставшихся семи картофелин. Чистя их, Минна сама ощутила вдруг жгучий голод. Оба с волчьим аппетитом набросились на еду.
В большом чане закипела вода; Отто помылся. Мать старалась не смотреть на его истощенное тело. В стенном шкафу еще оставалась баночка с оленьим жиром. Минна смазала царапины и болячки на спине сына, потом достала белье. Перед рассветом он улегся спать. В свою постель. Когда мать часа через два заглянула к сыну, он крепко спал, а у полуоткрытого рта из-под подушки торчала рукоятка массивного пистолета.
Рассвело. Минна вышла на улицу. Из окон дома Бинерта свисали две белые простыни, прикрепленные к тем же полированным шестам, на которых прежде Ольга вывешивала флаги со свастикой. На подоконниках больницы висели простыни, торчали подушки, привязанные к половым щеткам, а с крыши опускалось на фасад широченное знамя Красного Креста. В нижней части улицы, где она, сужаясь, сворачивала к рынку, тоже трепыхались белые полотнища.
Итак, все сдались. В городе не прозвучало ни одного выстрела, хотя Бартель собирался мобилизовать на оборону всех горняков и даже угрожал расстрелять Барта в его собственной квартире, когда тот заявил, что болен. Горняки сидели дома; вот уже два дня, как шахта прекратила работу.
Улица была пустынна и тиха. Потом со стороны ратуши донесся скрежет танковых гусениц. Все загромыхало и забряцало так, словно помещичьих лошадей впрягли в паровые плуги и погнали по булыжной мостовой. Вскоре из-за угла показалась длинная серая труба, и на улицу выползло горбатое чудище.
Мимо него вверх по Гетштедтской улице промчался джип и остановился прямо у дома номер двадцать четыре. Минна не успела даже вернуться к дверям. Из машины выпрыгнул мужчина лет тридцати, в гражданской одежде.
— Фрау Брозовская?
Минна удивилась. Что ему надо? Откуда он знает, ее? И что могло понадобиться от нее американскому офицеру, который, потягиваясь и расправляя онемевшие суставы, лениво вышел из машины и приложил руку к стальной каске?
Услужливый немец в сером костюме, назвавший ее фамилию, широким жестом, словно конферансье на эстраде, представил американского офицера:
— Капитан Уорчестер.
Минна выжидала. В своей серой шерстяной юбке, бумажной кофте в синий цветочек и в заплатанном фартуке она выглядела не очень представительной. Словно защищаясь, она спрятала руки под фартуком и встала на ступеньку.
— Вы первая немка в городе, которой наносит визит первый военный комендант Гербштедта, фрау Брозовская. Полагаю, я не ошибся?.. Капитан Уорчестер просит вас дать ему кое-какие сведения…
Она стояла выпрямившись перед чуть насмешливо улыбавшимся офицером — ситуация его явно забавляла, — который был намного выше ее ростом, хотя и стоял на тротуаре, а она на ступеньке крыльца. Почему он пришел к ней? В городе много людей, у которых можно было бы все узнать. Мать тут же вспомнила о сыне. Неужели они ищут его, хотят забрать ее мальчика?
— Вы согласны ответить на несколько вопросов? — Молодой человек говорил бойко и был очень вежлив. Потом он что-то сказал офицеру по-английски, и оба засмеялись.
— Сведения? — переспросила Брозовская. — Какие сведения могу я дать вам?
— Сейчас, минутку… Можно зайти?
Минна встревожилась. Ее сбила с толку вежливость гостей. Насильно врываться они, кажется, не собирались. Но что им надо? Опять обыск? Разве это уже не в прошлом?
В доме Бинертов распахнулась оконная створка. Выглянула Ольга. Из джипа вылез солдат и заговорил с ней, ужасно коверкая слова. Ольга мгновенно поняла его и впустила в дом. Ему нужны были яйца.
— Американским властям характеризовали вас как разумную женщину, — обратился к Брозовской немец в сером.
— Кто характеризовал? — невольно вырвалось у Минны.
Небрежным движением руки он как бы отмахнулся от ее вопроса. Офицер, должно быть, начал терять терпение. Тихо, но решительно он сказал несколько слов:
— Речь идет о знамени. Нам стало известно, то есть мы знаем, что вы храните знамя…
— Здесь нет никакого знамени, — отрезала Минна. — Вон там висят знамена, видите? — Она показала на бинертовские простыни.
— О’кей, — весело воскликнул капитан, когда переводчик перевел ему слова Брозовской.
Он стремительно вошел в дом. Оба пробыли в комнате всего несколько минут. Американец не принял приглашения сесть. С интересом рассмотрел семейную фотографию, висевшую на стене, спросил, кто на ней изображен, где сейчас ее муж, сыновья, и предоставил переводчику задавать вопросы.
— О-о, концлагерь! — Минна поняла это и без перевода.
Ответы ее звучали все тверже. Переводчик был настойчив, но в конце концов в его голосе послышалось раздражение.
— Не понимаю, почему вы так упорно отрицаете, что знамя хранится у вас? Ведь капитан — фронтовой офицер, антифашист, он хочет помочь вам…
— Передайте ему за это большое спасибо.
— Ваше поведение непонятно. Нацистов больше нет, вам нечего теперь бояться.
— Кто вы такой, чтобы давать мне подобные ручательства? — Минна чувствовала, как в ней растет уверенность.
Переводчик обиженно промолчал.
— Идемте, мистер Дитерберг! — Капитан попрощался с седой хозяйкой, коснувшись каски указательным пальцем, и вышел, за ним — раздраженный переводчик, который успел прошипеть Минне в дверях:
— Что за упрямство! Как вы разговариваете с офицером оккупационных властей? У вас еще будут неприятности!..
Шофер джипа включил мотор. Из дома Бинертов выбежал, — в каждой руке по яйцу, — солдат и прыгнул на заднее сиденье. Когда машина развернулась, он из озорства швырнул одно яйцо в бинертовскую дверь.
К вечеру первый комендант Гербштедта покинул город, присоединившись к наступающим войскам. Они двигались беспрерывным потоком со стороны Вельфесгольца. Дети, стоявшие на обочине шоссе, с завистью смотрели, как солдаты вскрывали штыками консервы и с аппетитом поглощали ананасные ломтики. Ребятишки подбирали выброшенные банки и, вылизав сладкий сок, несли белые жестянки домой.
Какой-то солдат-негр, оскалив, словно хищник, ослепительно белые зубы, швырнул детям банку с пестрой этикеткой. Детвора бросились в драку. Рослый паренек, раскидав соперников, схватил банку и кинулся домой.
Отто все еще спал. Мать посмотрела на его исхудалое, несколько огрубевшее, посуровевшее лицо и тихо вышла из спальни.
Пусть отдыхает. Она заперла дом и пошла в ратушу. Жители один за другим выползали из своих нор. В центре большой группы украинцев, батрачивших у помещика, Минна увидела Шунке. Он спорил с одноногим чиновником учетного бюро — единственным, судя по всему, служащим муниципалитета, который осмелился прийти в ратушу.
— Хорошо, что ты здесь, Минна, — обрадовался Шунке. — Надо что-то предпринимать. Вот этот несостоявшийся кавалер Рыцарского креста утверждает, что американцы назначили его временным бургомистром… Что ты на это скажешь?
Минна посмотрела на румяное лицо чиновника. Она знала его, — он выдавал ордера на одежду. Однажды, когда ей понадобилась материя для платья, он отказал ей и при этом ехидно спросил, для чего ей нужна карточка на промтовары… На левой стороне его пиджака светлым пятном выделялось место, где прежде были прикреплены орденская колодка и круглый значок со свастикой.
«Вполне возможно, — подумала Минна. — Американцы кого-нибудь да назначат. Но пока что американцев нет, тылы их только подтягиваются. И ратуша сейчас вроде «ничейной земли».
— Сама удивляюсь, — ответила Брозовская. — Другие сидят еще в погребах, а этот тут как тут.
Но Шунке уже не слушал ее. Он внушал одноногому, чтобы тот немедленно помог разутым и раздетым украинцам.
— На это я не имею полномочий, — надменно ответил чиновник.
— У вас их и не спрашивают, — сказала Минна. — Такие «уполномоченные» нам больше не требуются. Убирайтесь отсюда. На ваше место найдутся люди с полномочиями!
— Я протестую! Меня пригласил господин Дитерберг…
Минна вдруг вспомнила, что американский капитан называл эту фамилию, обращаясь к переводчику. Выходит, бургомистра назначила комендатура.
— Так. Значит, это от вас господин Дитерберг узнал о знамени? На такие сплетни вы уполномочены?
Стуча протезом, чиновник заковылял из комнаты и направился в кабинет бургомистра. Все двери были распахнуты настежь.
— Сюда! Выход здесь! — Минна показала ему дверь на лестницу.
Шунке, не зная, что делать, вопросительно посмотрел на Брозовскую. Какая-то украинская девушка взяла ее под руку.
— Правильно, — воскликнула она. — Так и надо.
Минна сказала Шунке, чтобы он отвел украинцев в магазин готового платья Гюнермарка, — там сейчас его супруга распоряжается, — и одел их всех как следует. Оформить это можно будет потом. В промтоварные карточки и ордера все равно никого не оденешь.
Брозовская прошлась по пустым комнатам ратуши. Кругом царил беспорядок. Хотя американцы нанесли сюда лишь несколько кратковременных визитов, мебель была перевернута, документы перерыты, везде валялись бумаги. Перед отъездом кто-то из солдат оставил на столе бургомистра нерукотворный сувенир…
Одноногий чиновник последовал совету Минны лишь после того, как на него прикрикнули украинцы; в руках он держал бланки ордеров и наверняка уселся бы в бургомистерское кресло, — он уже начал было приводить в порядок стол, — не помешай ему Шунке с украинцами.
О чем думали подобные люди? О праве на пенсию, о повышении в должности, о дальнейшей службе? Словно ничего и не изменилось. Вполне вероятно, что этот чиновник — бывший фельдфебель или эсэсовец, которому в придачу к орденам пожаловали гражданское пособие за потерянную ногу…
В комнате кассира Минна задержалась на несколько минут. Деревянный барьер свалили, массивный сейф стоял неповрежденный. Было видно, что его пытались вскрыть, но ничего не вышло. Здесь, в этой комнате, она провела самые страшные часы в своей жизни.
Минна вышла на улицу. Только теперь она заметила, что над ратушей развевается огромный белый флаг. Какая-то женщина рассказала, будто сама видела, как Меллендорф влез на крышу и ползал там, прикрепляя флаг. А через час сел на велосипед и был таков. Один, в гражданском платье. Остальные уже давно удрали. Он очень спешил.
Фасад дома Бартеля тоже был в белоснежном одеянии, хотя окна зашторены. Брозовская проходила мимо него как раз, когда обитатели барачного лагеря при Вицтумской шахте срывали вывешенные простыни и полотно. Из них получались хорошие рубашки.
И вообще Минна Брозовская видела сегодня много своеобразного. Так, в переулках и тупичках, где жили рабочие, было немного белых флагов. Зато на домах зерноторговца Хондорфа, Гюнермарка, где в опущенные жалюзи барабанили украинцы, на домах мясника и пекаря, Барта и Лаубе — всюду развевались простыни.
Некоторые возбужденные бюргерши, окружив Минну, со всей убедительностью пытались внушить ей, что присутствие ее мужа было бы сейчас как нельзя кстати. Ведь что-нибудь надо предпринимать. Да и у кого больше прав на это, как не у Брозовского? А потом эти иностранцы. Каждому в городе известно, что Брозовский всегда хорошо относился к ним. Именно это и ставили ему в вину. Но вот сейчас он так нужен с его авторитетом и влиянием…
Минна не отвечала. Прошло некоторое время, пока «советчицы» поняли ее молчание и разбежались еще более возбужденные, чем прежде.
Вольфрума она застала только вечером. Жена его сообщила ей, что он не был дома несколько дней. За два дня до прихода американцев его пытались забрать, но Вольфруму удалось скрыться.
Незадолго до наступления комендантского часа — на всех домах были расклеены приказы, в которых запрещалось выходить на улицу после восемнадцати ноль-ноль, — Минне удалось разыскать Вольфрума в кабинете бургомистра.
Поздоровавшись с ней, он показал в окно на расклеенные приказы военного командования США.
— Висят, словно шляпа Геслера на шесте. Люди читают, так сказать, снимают шляпу, выполняют приказ, хотя ничего за этим не кроется. В городе-то ни одного американца нет! — Вольфрум расхохотался.
Минна недоуменно посмотрела на него. Тогда он объяснил ей, что привел сравнение с Вильгельмом Теллем и ландфогтом.
В комнате сидело еще несколько человек. Минна была поражена, увидев здесь раздобревшую жену Лаубе. Она горячо убеждала Шунке, что бургомистром должен снова стать только Цонкель, и никто иной. Ее муж все последние годы говорил ей об этом. Тайком, разумеется. До того, как его забрали в армию. Ведь больше ни с кем нельзя было поговорить.
«Забрали?.. Его?.. Так он же вступил добровольно, и еще щеголял в форме гауптфельдфебеля по городу в обществе Тени, который злился, что его опять обошли». Минна промолчала. Сдержалась она и когда Лаубе обратилась к ней.
— Ах, бедняжка, сколько тебе пришлось выстрадать, — запричитала она, ничуть не смущаясь присутствующих.
Но Шунке не сдержался:
— Мы хотим поговорить о делах. А ты лучше ступай к своим национал-социалистским сестрицам. Твое место там.
Толстуха Лаубе решительно запротестовала:
— Но ведь каждому известно, что нас заставили. И моего мужа заставили, но мы своих убеждений не изменили. Что нам оставалось делать? Приходилось плясать под их дудочку. Вы же знаете. Разве можно было иначе? А сами-то вы тоже…
У Вольфрума лопнуло терпение.
— Иди, иди отсюда! Болтать ты всегда умела за троих. Ты отлично пережила все это время, бедняжечка…
Он хотел еще что-то добавить, но не успел. К ратуше подкатила целая кавалькада машин. Послышались слова команды и топот кованых сапог по ступенькам.
Первым вошел сержант с автоматом на груди, за ним — несколько офицеров и человек в штатском.
— Что вы тут делаете? — тоном следователя осведомился долговязый лейтенант.
— Выходите отсюда. Всем построиться в коридоре! — приказал человек в штатском.
Минна узнала Дитерберга. Переводчик холодно посмотрел на нее, словно видел впервые, но потом все же узнал ее.
— И вы здесь?.. Интересно! Что это, собрание? Первое собрание? Почему не отвечаете? По какому праву вы прогнали бургомистра, назначенного военной администрацией?
Переводчик словно выстреливал вопросами в Минну.
Кабинет заполнили солдаты и офицеры. Начался неприятный допрос. Сержант с автоматом забрал у всех документы. У Минны их не было, и ее допрашивали больше других. Затем всех выгнали из ратуши. Когда они вышли на улицу, часовой загнал их обратно в подъезд. Усмехаясь, солдат отвернул рукав гимнастерки и поднес к самому лицу Вольфрума наручные часы: была одна минута седьмого.
Все остались в подъезде. Наступило семь часов, восемь. Лаубе начала хныкать. У нее куры во дворе, некому их загнать. Что с ними будет… Никто не слушал ее.
— Вот видите, — причитала она. — Со мной обращаются точно так же, как с вами.
По лестнице спустился какой-то офицер, оглядел группу стоявших, усмехнулся и вышел на улицу. Послышался шум заведенного мотора.
Все стояли в подъезде. Девять часов. Сменился часовой. Когда Вольфрум хотел выйти на улицу, он сплюнул ему под ноги жевательную резинку и втолкнул обратно в дверь.
Через некоторое время в сопровождении одноногого вернулся офицер, уехавший из ратуши. Стуча протезом, чиновник поднялся по лестнице.
— Вот тебе, пожалуйста, — тихо сказал Шунке Брозовской, — они создают «новый порядок».
Час спустя офицеры с новым бургомистром покинули ратушу. Жена Лаубе через переводчика попросила господ офицеров отпустить домой хотя бы ее, он ей не ответил.
На верхней площадке лестницы поставили второго часового. Возвратился долговязый лейтенант с голосом следователя. Это был новый комендант города. Он даже ни на кого не взглянул.
— Для них мы не люди, — пробурчал Шунке.
Целую ночь они томились в подъезде. В семь утра часовой выпустил их.
— Комендантский час окончился, — сказал он на чистом немецком языке.
Толстая Лаубе на улицу вышла, шатаясь; лицо у нее было зеленое.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
Отто, встревоженный, дожидался матери. По улицам разъезжали патрули военной полиции. Он не мог выйти из дому, не рискуя попасть в их лапы.
— Именно так я и представлял себе житье при американцах, — сказал он матери, выслушав ее рассказ о ночных событиях в ратуше. Растерев голеностопный сустав, он уселся за гардиной у окна, выходившего на улицу.
— Мать, у нас поесть что-нибудь найдется? — спросил он после долгого молчания.
Минна зябко поежилась. В доме ничего не было. Как только откроются магазины, надо бежать за хлебом. Может, пекарь сегодня работает. Вчера булочная была еще закрыта. Расстроенная, она порылась в потертом кошельке. Двадцать два пфеннига, вся ее наличность…
Она проглотила горький комок и сжала губы. Отто взял у нее кошелек и высыпал его содержимое на стол. Денег от этого не прибавилось.
Отто обшарил собственные карманы. Стоя у стола, мать с сыном не решались взглянуть друг другу в глаза. Минна тяжело вздохнула. Лишь после этого к сыну вернулся дар речи.
— Что ж, всему бывает конец, — многозначительно произнес он. — Но хоть что-то должно измениться. Пора!.. Не знаю, как именно. Но все будет по-другому! — Голос его сорвался на крик. — Всё!
Мать положила руку ему на плечо.
— Обязательно будет, — сказала она. — Успокойся. Мы и не такое пережили… У нас еще остался кролик. Займись им. Картошку я достану. Схожу к Боде или к Вольфрумам.
Возле клетки Отто пофыркал, подражая кролику, и засмеялся. Глядя на сына, мать улыбнулась. Он поймал кролика. Прежде он не сумел бы сделать это так быстро. Кролик шмыгнул бы через нишу в глиняной стене и забился в нижний угол.
Отто постучал костяшкой пальца по цементной замуровке. Раздавшийся звук напомнил удары молотка по стали.
Мать торопливо взяла корзинку и вышла на улицу, но тут же вернулась.
— Прячься, скорее! — крикнула она. — На чердак, нет, в сарай! Они обыскивают дома.
Военная полиция прочесывала город в поисках укрывающихся солдат и военнообязанных. Выйдя на улицу, Минна увидела, как полицейские сажали в машину Вилли Боде, одетого в синий рабочий комбинезон. На плечи ему накинули его военную шинель, которая висела в коридоре на вешалке. Полиция очень тщательно обыскала весь дом. Рядом с Вилли, причитая, семенила его мать.
— Мальчик уже две недели дома. Ни одна душа не знала. За что такое наказание!
Хлопнула входная дверь. Постучали. Одним прыжком Отто взлетел по лестнице. В этом доме он знал все потайные места. Подростком он так умел прятаться, что даже отец не мог его найти. А уж кому, как не отцу, знать свое жилище.
Минна вышла в коридор и переждала, пока все кончится. Громко топая, солдаты вышли на улицу. Долговязые парни не обратили внимания на старую женщину.
Офицеры из подтянувшихся тылов не были вояками, однако они гораздо лучше ориентировались в местных делах, чем капитан Уорчестер. К их приходу услужливый переводчик успел собрать кучу сведений. Источники их были различные, но суть — одна. Тем не менее люди, от которых он надеялся получить точную информацию, не рассказали ничего. Так они поступали всегда.
Как стало известно, офицеры испытывали чувство досады и недовольства из-за того, что по имеющимся у них данным в Гербштедте существует ячейка коммунистов, сгруппировавшаяся вокруг какого-то знамени, овеянного чуть ли не легендарной славой. Майор, представлявший отныне в Гербштедте военную администрацию Эйзенхауэра, не гнушался гестаповскими приемчиками, чтобы заполучить это знамя.
Брозовская посмеивалась над его попытками. Американец не овладел еще в полной мере мастерством гестаповцев и терпел неудачу. Его назойливые посещения заставляли Отто каждый раз прятаться.
Спутник майора, черноволосый охотник за сувенирами, тоже в майорском звании, был более сведущ в гестаповской методике. Он говорил по-немецки как человек, который был бы рад забыть родину своих предков. Он счел своим долгом защищать Штаты и двинулся из Америки в Европу, на войну, лишь потому, что его дед несколько десятков лет назад отправился из Европы в Штаты и там разбогател. Вернее говоря, майор двинулся не на войну, а вслед за войной. Отто в разговоре с матерью сформулировал это весьма точно: «Майор завоевывает свое за линией фронта. Он неплохо овладел этим способом ведения войны».
— Нам говорили, что вы никогда не уступаете. Вам придется уступить!
— Это зависит не от вас. — Минна даже не встала, когда вошли офицеры. С каждым днем она чувствовала себя увереннее. Восьмого мая гитлеровская Германия капитулировала. Где ж они теперь, палачи со своими фюрерами? Уступить… Ей уступить им?
— Разве вы не знаете, что надо встать, когда с вами разговаривает офицер американской армии?
Минна взглянула в его расплывшееся лицо и осталась сидеть.
— В этих четырех стенах я сама решаю, что мне делать. Другие вольны тут решать, только применив силу.
Человек в мундире американской армии покраснел. Уходя, он пригрозил Минне.
После него приходили другие. Они были осведомлены несколько больше.
— Вы говорите, что люди, которые вам рассказали об этом, антифашисты?.. Это антифашисты в кавычках, понимаете? Такие, как ваш новый бургомистр.
Брозовская говорила без обиняков. Капитан оставался непоколебим. Он был коммерсантом и кое-что понимал в торговле.
— Знамя из России, слышите, нам сказали.
— Позовите сюда тех, кто вам это сказал. Я хотела бы посмотреть на них.
Капитан стал маневрировать.
— Фрау Брозовская, мы же союзники Красной Армии. Для нас было бы большой честью…
— Вы американский коммунист?
Лицо у капитана сморщилось. Его лоб пересекла глубокая складка. Он поправил портупею и одернул мундир.
— Вы разговариваете с офицером оккупационных властей!
— Если вам угодно, я могу и молчать.
Соседи, которые двенадцать лет не заглядывали к Брозовским, уговаривали Минну уступить. Каждый день кто-нибудь совался со своими советами. Вчерашние нацисты думали, что за счет знамени они спасут город. Точь-в-точь как думали некоторые, когда знамя требовал Альвенслебен.
Но самое невероятное пришлось пережить Минне пятнадцатого мая. В этот день Отто привез домой жену. Вечером они сидели и пили кофе с печеньем. Жена Отто постаралась, и печенье удалось на славу. Шестилетний Вальтер — его дядя Вальтер, которого малыш еще не видел, настоял, чтобы племянника назвали Вальтером, — прыгал вокруг отца. Съест кусок печенья и снова скачет. Значит, вот какой у него папа. Его он тоже не знал. Но это папа, он сразу почувствовал. И мама и бабушка сказали, что это папа. Мама даже поцеловала его и заплакала…
Внезапно постучали в дверь. Отто сразу исчез. Мальчик бросился за отцом.
— И я с тобой!
— Постой! — Минна крепко ухватила малыша за руку. Такой он бабушку еще ни разу не видел.
Лизбет, открыв дверь, вернулась в комнату, поджав губы. За ней шла Ольга Бинерт.
У Минны застучало в висках; она машинально взяла со стола блюдо с печеньем и убрала в буфет.
— Я пришла просить прощения. Что было — то было. Каждый расплачивается за свою вину. Мы тоже дорого заплатили. У вашего ребенка есть, по крайней мере, отец…
Минна закашлялась, лицо ее сделалось фиолетовым. Этого она не выдержит. Нет, не выдержит. Что говорит эта женщина?
— Соседям нужно держаться вместе. Особенно в такое время. Вы должны быть уступчивее. Каждый должен чуточку уступить…
Минна хотела что-то сказать, но язык не повиновался ей.
— Если американцам нужно это знамя, отдайте им его. Вам от этого будет только польза. Ведь они совсем не такие…
Неожиданно в комнату вошел Отто, белый как мел.
— Вам лучше убраться отсюда, — тихо сказал он. Его трясло от гнева.
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
В Гербштедте возникли слухи, распространявшиеся беженцами, которые тайком переходили демаркационную линию; первые подтверждения тому, что слухи эти не были досужими вымыслами, поступили из Вельфесгольца. Молодая баронесса уже дважды ездила на машине к родственникам в Ольденбург, и в ее замке упаковывают вещи. Шунке узнал это от племянницы, служившей горничной у баронессы.
Американцы уходят, средненемецкая область, Саксония и Тюрингия войдут в советскую оккупационную зону…
— Вся эта сволочь торопится спасать свою шкуру. Под крылышком американцев и англичан они чувствуют себя в безопасности. Майор, который день-деньской околачивается в замке, выписал баронессе специальный пропуск для поездок в западные зоны, — сообщил Шунке Цонкелю, зашедшему узнать, как дела.
— Значит, это все-таки правда. Хоть бы все кончилось благополучно! — взволнованно сказал Цонкель.
— Послушай, Мартин. Мы ведь ждем этого. Я боюсь даже вообразить, какое разочарование было бы, если бы Красная Армия остановилась на Мульде и Эльбе.
— Ты это серьезно?
— Не понимаю тебя… На них, по крайней мере, можно положиться. Ты же видишь, как ведут себя американцы: от них ты толку не добьешься. Левой рукой они вроде бы хватают фашистов за горло, а правой в то же время мешают наводить порядок и строить все заново. А что в ратуше? Ложная тревога.
— Не совсем так. Может, меня все-таки утвердят…
— Ну и что из этого получится? Будешь той же марионеткой, что и раньше. Командовать будут другие! Ты же слышал, какие взгляды у коменданта на демократию. Явно не наши!
— Но ведь ландрата они признали, а он — коммунист. И они это знают.
— У них не было иного выхода: они поняли, что за ним стоят горняки. Да, он навел порядок, пустил воду, газ, электричество. Он поставил их перед фактами. Что им оставалось?
Шунке завелся. Уже целую неделю он с товарищами пытался сбросить с бургомистерского кресла американского ставленника и забрать управление городом в свои руки.
Вольфрума и Отто Брозовского выгнали из ратуши.
— Надо с ними объясниться. Так или иначе, силой мы их не одолеем. — Цонкель призывал к спокойствию. По его мнению, следовало выбирать более разумную и вежливую форму.
— Дело не в форме. Американцы не дают нам дышать, — взорвался Шунке. — Сажают нам на шею управляющего альслебенской мельницей. А кто он такой? Надеюсь, тебе не надо объяснять, что он — самый отъявленный реакционер во всей округе? «Либерал, либерал, либерал»… Покорно благодарю.
— Ты все видишь в слишком мрачном свете. Естественно, они предпочитают буржуазные кандидатуры.
— В том-то и дело!
— Да не ори так!
— Прикажешь мне прикидываться тихоней? Либо руководить будем мы, либо они. Это мы сотни раз жевали и пережевывали. Есть только один выбор.
— Ты не прав. Надо привлекать всех.
— Но нас-то с тобой они наверняка не привлекут. Мы недостаточно благородны. Пролетарии!
— Страна оккупирована. Ничего тут не поделаешь. Все равно по-твоему не получится.
Цонкель нервно теребил брелок цепочки от часов. Шунке вдруг бросилось в глаза, что Цонкель опять надел свой темный костюм в елочку.
Шунке разозлился.
— Во всяком случае, командовать здесь должны рабочие, антифашисты, — отчеканил он, — а не какие-то там спасшиеся нацисты или патриоты, не успевшие вступить в гитлеровскую партию. Либо вместе с американцами, либо против них.
— Если б это было так просто, — сказал Цонкель.
— В русской зоне это получается, — решительно заявил Шунке, — Так надо и нам делать. Или, может, тебе не хватает смелости?
— Перестань. В конце концов ты сам многое слышал. И чего только не говорят. Господи…
— Что именно? — резко перебил его Шунке.
— Ну… Давай часы… Фрау, пошли…
— Ты с ума сошел? Неужели эти двенадцать лет ты жил, как барон? Ведь это он так рассуждает! Ты опять все забыл, все прошло для тебя бесследно?.. Здесь необходима сильная рабочая партия, а это — все мы вместе. Кто хочет с нами сотрудничать — просим. А как это делается, — научимся у русских. Все!
— Но нельзя же вести себя, как слон в посудной лавке. Тут надо… — Цонкель хотел рассказать, как он представляет себе дальнейшее развитие событий. Но Шунке не дал ему больше вымолвить ни слова.
— Хватит, довольно! — крикнул он. — Поговорим на заседании группы.
Он пошел к Вольфруму.
— Это меня не удивляет, — сказал Вольфрум, выслушав его. — Знаешь, кто вчера здесь объявился? Господин гауптфельдфебель Лаубе. Он побывал у Цонкеля. Собираются вновь создавать СДПГ. Да, да, Мартин тоже. Ведь он пустил этого типа к себе в дом…
У рта Вольфрума обозначились горестные складки. Когда Шунке собрался уходить, он сказал:
— Нам предстоит немало хлопот. А с фашистами будем разговаривать так, как они разговаривали с нами. — Он угрожающе потряс кулаком.
* * *
Вольфрум посоветовал Минне поменьше откровенничать с Цонкелем. Она рассказала, что Цонкель расспрашивал ее о знамени.
— Хотела бы я знать, какая у него цель, — добавила Минна, у которой возникли подозрения. — Не собирается ли Цонкель выслуживаться перед американцами?
— Он грезит старыми мечтами. Никого не обижать радикально, не производить болезненных операций, в общем, сумбура в башке хватает… Дураком родился и ничему не научился, — сухо сказал Вольфрум. — Но тебя они еще постараются прощупать.
Добыть точные сведения о смене оккупационных властей не удалось, несмотря на все попытки. На вопрос Цонкеля комендант ответил, что слухи эти — всего лишь пропагандистский трюк русских.
— Что ж, придется приспосабливаться к тому, что есть, — заявил Цонкель на собрании группы. — Реальная политика, товарищи! В данный момент делать то, что возможно.
— Конечно, конечно, — ответил Шунке. — Мы же не вчера родились.
Минне Брозовской приходилось теперь что ни день избавляться от назойливых посетителей. Они являлись без приглашения и давали ей советы один мудрее другого.
— Красная Армия еще стоит на Эльбе, — ответила она, когда некоторые визитеры поинтересовались судьбой знамени. В этих шести словах заключалось все, что ей ранее приходилось долго и подробно объяснять.
Когда возвратился старый Брозовский, Лизбет побежала за Минной в швейную мастерскую. Эту мастерскую создали по инициативе Минны, чтобы снабдить одеждой русских, украинских, польских, чешских и других рабочих, согнанных со всей Европы.
Брозовский весил сорок три килограмма. Пришел он пешком, издалека. Сколько километров прошагал он с момента эвакуации тюрьмы из Люккау, Брозовский не помнил. Но он был жив. Живее, чем когда-либо. Когда вошла Минна, внук уже оседлал деда.
— Дедушка вернулся! — Маленький Вальтер сиял от счастья.
Да, Отто Брозовский вернулся.
— Красная Армия еще стоит на Эльбе, — отвечал он на вопросы назойливых гостей. — Еще стоит!
Приходили друзья, товарищи по работе, соседи, засыпали его вопросами, новостями.
Он старался избегать американцев, а те, наоборот, искали с ним встречи. Они устраивали ему настоящие допросы.
Американского капитана не удовлетворили лаконичные ответы Брозовского.
— Послушайте, — сказал он, — если вы вздумаете создавать политическую организацию, мы будем вынуждены вмешаться. Здесь действуют правила, установленные военной администрацией. Все подчинено военным законам…
— Это ваше право. Я — политически грамотный немецкий рабочий. И о том, что мне следует делать, решать не вам!
Капитан присвистнул.
— У вас есть знамя? — спросил он, оскалив зубы.
— У меня есть желание помогать, когда начнут строить новую Германию. Нашу!
— Мы еще поговорим с вами!
У Брозовского было мало времени. А для бесполезных разговоров тем паче. Минна с трудом усаживала мужа обедать.
— Я уже настолько привык ничего не есть, что приходится заставлять себя, — смеялся он, когда Минна бранила его.
Смертельно больной человек организовывал партию, вкладывая в это все силы. Он не сомневался, что партия возродится вновь. От этого зависела не только его собственная судьба, но и жизнь всех немцев. Каждое промедление — лишняя ошибка. Брозовский рассуждал просто: одно дело — право американцев, другое — недолгий срок, который, по его расчетам, ему оставалось прожить. Поэтому он дорожил временем. Поэтому он говорил только там, где стоило. Он подгонял товарищей, заставлял их торопиться. А когда вернулся его младший сын, — тоже ночью, как и старший брат, — четверо Брозовских перестали молчать. Они заговорили. Говорили повсюду, куда бы ни пришли. И речь их была горячей, искренней, идущей от самого сердца.
Цонкель с неудовольствием констатировал, что в настроении рабочего актива наступил какой-то подъем, чего не замечалось раньше. Исчезла нерешительность. Брозовский почти не слушал мудреные инструкции, которые читал ему бывший бургомистр.
— Мне вспомнилась строчка из одной песни, Мартин: «Вперед, и не забудьте!..» Очень подходящие слова, не правда ли? — Под ясным взглядом Брозовского Цонкель потупился. Он чувствовал себя словно раздетым донага.
— Не переутомляйся, Отто. Твое здоровье далеко не из лучших, — только и смог пробормотать он.
— Эх, Мартин, ведь такие, как мы с тобой, горы могут свернуть. Только засучи рукава! — Брозовский умел обезоруживать Цонкеля.
Дом на крутой Гетштедтской улице сделался главным сборным пунктом. В нем встречались антифашисты со всей округи. Здесь всегда толпился народ, как в ратуше. Здесь людям давали добрые советы.
Американцы вскоре узнали об этом и вызвали Брозовского в комендатуру. Но что было толку от их предупреждения? Жители избрали Брозовского в городской антифашистский комитет, а рабочие потребовали, чтобы Брозовский возглавил его.
В присутствии офицера американской разведки комитет провел свое заседание в ратуше и по предложению Брозовского принял решение избрать нового бургомистра.
В «Гетштедтском дворе» заседал учредительный комитет профсоюзов. Брозовский предложил избрать председателем Вольфрума. Горняки зааплодировали, а рабочие металлургического и латунного заводов устроили настоящую овацию. Они верили ему и надеялись на него. Заводы и шахты уже несколько недель бездействовали. А Брозовский действовал.
В доме номер двадцать четыре по Гетштедтской улице собрались представители гербштедтской городской группы Коммунистической партии Германии: по предложению Вольфрума и Шунке руководителем группы был избран Брозовский.
Коммунисты собрались ночью, тайком, заперев двери. Выставили посты: враждебное отношение американцев вынудило к этому. Собрание было нелегальным, как во времена фашизма. Но ничто не остановило коммунистов.
Против Брозовского был подан лишь один голос: голос его жены.
— Он очень болен. Ему надо беречься. Такого он не выдержит, — сказала она и тихо заплакала.
Отто Брозовский, больной, замученный, постаревший, поднялся и при всех обнял жену.
Они вспомнили погибших товарищей. Сгорбленный, поседевший Вольфрум с трудом находил слова, когда он говорил о Фридрихе Рюдигере и Лоре, о Гедвиге Гаммер, пропавшей без вести, о Юле Гаммере и Генрихе Вендте.
Все поднялись с мест и, склонив головы, молчанием почтили память ушедших. Никто не говорил о собственных страданиях.
* * *
А однажды пришла Красная Армия. Что это был за день!
В небе ярко сияло солнце. Четыре радостных, раскрасневшихся лица склонились над нишей в глиняной стене, а маленький Вальтер скакал, как жеребенок.
— Знамя, знамя, вот теперь я увижу его!
Разбив цементную «пломбу», Отто вытащил из ниши банку. Малыш сидел на плечах дяди Вальтера. Когда отцовские исхудалые руки торжественно развернули полотнище знамени, мальчик радостно закричал, но вдруг испуганно умолк.
— Дедушка!..
Брозовский зашатался и упал. Сыновья подняли его, он дрожал и не мог вымолвить ни слова.
А в скором времени маленькая группа людей с развернутым Криворожским знаменем шла навстречу советским солдатам.
У солдат из Ленинграда, Комсомольска, Тулы, Ростова и Владивостока, из Кременчуга, Саратова, Курска и Харькова, которые шли от Сталинграда через Киев, от Орла через Варшаву, от Кюстрина через Берлин, от Бреслау через Торгау на мансфельдскую землю, — сияли глаза.
Немцы шагали навстречу им с советским знаменем. Пронесенное через поражения, через ужасы фашизма, через разрушения и смерть, оно победоносно реяло, возвещая мир, свободу и новую жизнь.
Перед ними были шахты, терриконы, заводы. Перед ними лежали и руины. Перед ними было будущее.
Знамя нес старший сын Брозовского. Отец придерживал полотнище. Его глаза были устремлены вдаль. Он дышал полной грудью. Наконец-то настал этот день. Его день. Долгожданный час, которому он посвятил жизнь, о котором мечтал в тюремных застенках, который помогал выдерживать пытки и серый мрак отчаяния. И вот мечта стала явью. Рядом, опираясь на палку, шла жена. Минна вела за руку маленького Вальтера. Седые волосы обрамляли ее бледное лицо, залитое слезами. Впервые за двенадцать лет они текли, неудержимо, и старая женщина не стыдилась их. Наконец лицо ее засветилось облегченной улыбкой. Поддерживая мужа, она обняла его за плечи. Солдаты-победители окружили маленькую группу, целовали алое полотнище. У громадного танка, приложив руку к каске, стоял советский подполковник.
— Товарищи!..
— Мама, это ты сделала!.. Мама! — произнес сдавленным голосом старший сын. Почувствовав слабость, он пошатнулся, но Вальтер успел поддержать его. Лоб Отто покрылся каплями пота. Его голову, угловатую, со впадинами на висках, как у отца, прикрывало алое полотнище, на котором чисто и ярко, как в тот день, когда Рюдигер вручал знамя на хранение Брозовскому, горели золотые буквы:
Пролетарі всіх країн єднайтеся!
Всі працюючи міцним колом
навкруги Комуністичної партії
за Всесвітній Жовтень!
Русские и немцы закричали «ура»!
— Да здравствует Отто Брозовский!
— Брозовский!
— Брозовский!
— Брозовский!
Подхваченный сотнями голосов, клич разрастался все шире и шире. Зазвучала мелодия, поначалу робко, застенчиво. Потом к ней присоединились голоса, певшие по-русски. Гейзером взметнулась песня в солнечное небо…
Советские солдаты и мансфельдские горняки подняли Брозовских на плечи и понесли их за знаменем во главе колонны.
Перевод Н. Бунина.
ОБ АВТОРЕ

Советскому читателю уже знакомо имя Отто Готше (р. 1904). Его писательская биография неотделима от биографии профессионального революционера. В политике он прошел путь от члена юношеской организации до видного государственного деятеля; в литературе — от рабочего корреспондента до известного и признанного писателя.
Роман «Криворожское знамя» посвящен борцам немецкого рабочего класса за дело пролетариата и является наглядным свидетельством того, что в ночи фашизма в разных частях Германии никогда не угасал факел пролетарского интернационализма.
Примечания
1
Королева Пруссии (1776—1810). Считалась идеалом германской женщины и матери. Общество королевы Луизы — националистский женский союз.
(Прим. ред.)
(обратно)
2
Здесь игра слов: Bart — борода
(нем.).
(обратно)
3
Рейхсбаннер — боевая организация социал-демократической партии Германии, создана в 1924 году.
(Прим. ред.)
(обратно)
4
Юденхоф — буквально: «еврейский двор»
(нем.).
(обратно)
5
Перевод М. Николаева.
(обратно)
6
Имеется в виду капповский путч — неудавшийся контрреволюционный переворот в Германии (март 1920 г.).
(Прим. перев.)
(обратно)
7
Игра слов: Гаммер (Hammer) — молот
(нем.).
(обратно)
8
Не пройдут!
(исп.)
(обратно)
9
Гитлеровская военно-строительная организация.
(обратно)
Оглавление
ОТ АВТОРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
ОБ АВТОРЕ
*** Примечания ***