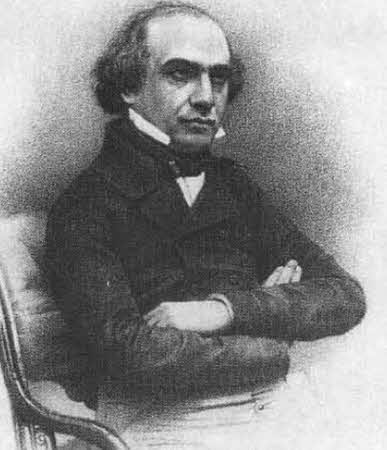Николай Цимбаев
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

*
Рецензент — доктор исторических наук
В. А. Федоров
© Цимбаев Н. И., 1990 г.
ГЛАВА I
В ДОМЕ НА ОСТОЖЕНКЕ
Вельможи XVIII века слыли оригиналами. Время было вольное, веселое, жизнь текла беззаботно, в усладах, челядь рада была исполнить любую барскую прихоть. Богатство и знатность давали право на особую повадку, на странности, на причуды. Не всякий искал воинской славы, не всякий умел сказать слово в совете государственном, но редкий вельможа не знал толк в поступках, что далеко выходили из разряда обыкновенных, и в замысловатых суждениях. Выставляемые напоказ, чудачества приносили известность, вызывали восхищение, слухи о них разносились по российским просторам, залетали и в иные земли. В моде были рассеянность, кулачные бои, знакомство с Вольтером. При дворе щеголяли то коллекцией антиков, то роговой музыкой, то крепчайшим нюхательным табаком, самолично растертым, то карточным проигрышем в тысячу душ. Ценились размах, удаль, молодечество. О графе Алексее Орлове-Чесменском, к примеру, было известно, что он силач, песенник, первейший знаток лошадей. Поэт Державин почтительно свидетельствовал, что граф «любил простую русскую жизнь, песни, пляски и все другие забавы простонародные и был благотворителен». Острый язык заменял порой административную опытность, дерзкий шалун делал карьеру, оставлял по себе долгую память.
Повествователи доныне не без тайного трепета вспоминают причуды достопамятных людей, птенцов ли гнезда Петрова, екатерининских ли орлов. Сколько сохранилось о них прелестных анекдотов, сколько историй, забавных и поучительных! Описание резкой оригинальности знаменитых сановников, умение обратить прямой укор в изящную похвалу — искусство тонкое и, несомненно, более высокое, чем ремесло льстеца. Владение этим искусством возвышает биографа над придворным, располагает к нему читателя, склонного искать в исторических сочинениях правдивые и бесхитростные свидетельства о старом времени и ушедших героях. Кто не слышал о Якове Долгоруком, умевшем даже гневному Петру всегда говорить правду, о светлейшем князе Потемкине, который в старом халате принимал иноземных посланников, о Суворове, что кричал петухом в императорских покоях, о хитроумном дипломате Безбородко, любившем, словно юный канцелярист, фланировать по Невскому проспекту… Кто не слышал этих назидательных историй? Кто не отдавал должное сочинителям? И кто, наконец, умел увидеть в простом и благородном изложении паутину давней и грубой лести?
Да, были вельможи-оригиналы, даже в высшей степени оригиналы, но не восторг, не запоздалое изумление должны вызывать рассказы об их причудах и шалостях, и нет здесь места словам о широте русской натуры. Вспомним, что были вельможи и не столь знаменитые, чей век прошел без славного служения Отечеству, в забавах, густо замешенных на неизбывном российском произволе, на холопском бесправии и общем унижении. Временами же — и на крови. Право, безобидным сумасбродом кажется среди них екатерининский фаворит Зорич, неслыханный расточитель, под чьим покровительством укрывались делатели фальшивых ассигнаций. В лексиконе старой России слово «оригинал» легко было заменить другим — «самоуправец». За барские затеи, пусть самые невинные, высокую цену платили крепостные. Платили своей свободой.
Об этом хотелось напомнить, прежде чем перейти к рассказу о двух вельможах старого закала, чьи причуды отдаленными своими последствиями сказались в судьбе русского историка Сергея Михайловича Соловьева.
Задача биографа — избегать докучных напоминаний, но вполне уместно и необходимо здесь, на первых страницах, сказать, что крепостничество лежало в основе стародавнего уклада русской жизни, что только зрелым сорокалетним человеком увидел знаменитый ученый родину свободной от рабства.
Какие только странные узоры не вышивало крепостное право по канве российской действительности! Не угнаться было искусным крепостным вышивальщицам. Страшное, отвратительное было время, когда в столицах и в провинции благоденствовали баре-самоуправцы, владетели сотен и тысяч ревизских душ, зловещие чудаки, чьи подвиги угодливо и красочно изображены в разного рода «Описаниях жизни знаменитых мужей российских». Развлекались вельможи, оригинальничали, друг перед другом дутой спесью хвастали, но не было на них печати незаурядности.
Избранниками были другие, что прожили жизнь скромно и незаметно, обойденные вниманием исторических сочинителей. Небогатые да нечиновные, были они добры, милосердны и незлобивы, утешали страждущих, радели об общем благе, видя в том свое земное назначение, и без ропота терпели поношение сограждан, раздраженных их невиданным бескорыстием Исполняя свой долг, они, избранные, не ждали благодарности и едва ли думали о том, что причислены должны быть к праведникам, молитвами и заступничеством которых крепки городские стены. Немало было в России городов, немало было и праведников. А больше и сказать о них нечего. Забыты имена, утратилось предание о подвижничестве, и ни в бронзе, ни в сердцах нет достойного памятника тем, кто был солью русской земли.
О Демидовых помнят… Прокофий, старший внук самого «петровского комиссара» Никиты Демидова, умел при случае надевать разные личины. В Петербурге он был просвещенным меценатом, в Москве — набожным благотворителем. За морем, в земле английской, в нем видели опытного и предприимчивого промышленника. На Невьянских заводах, которые отошли к нему по разделу, его называли душегубом. Известен он был чудачествами, что творил людям на удивление, себе на потеху. Выезжал на кровных рысаках, а упряжь — веревочная, как у последнего мужика, кучер же одет в парчу, пополам с дерюгой. Однажды устроил в столице народный праздник, где вино пили столь неистово, что от беспробудного пьянства умерло до полутысячи человек. Вельможный размах, сказочный, но событие действительное, историками описанное, стало быть, историческое. В другой раз скупил в Петербурге весь запас пеньки — хотел проучить англичан, которые не оказали ему должного уважения, когда он в Англию за товаром ездил, не пожелали цены сбавить. Английские покупатели прождали до конца навигации, но Прокофий Акинфьевич предпочел пеньку сгноить. Горд был Демидов-внук, горд и богат. Императрица знала его доброе сердце, ласково журила за щедрые траты на общественные нужды — на маскарады, гуляния, сельские увеселения.
В Москве на его пожертвования был основан Воспитательный дом для сирот разного звания. Денег Прокофий Демидов не жалел. Главный доход ему давали уральские железоделательные заводы, поставки шли в Петербург, в армию, за границу. Заводское дело екатерининский вельможа знал, заводы любил. Там не требовалось расходоваться на общество, там все было свое, там, на Урале, он был хозяин. Причуды забывались, Демидов карал и миловал, плутовал, незаконно, казне в убыток, переводил государственных крестьян в вечноотданные заводам. Дело шло. Мастеровые и работные люди жаловались на малую плату и несносные работы, вступали, как доносили из заводских контор, в непослушание, бунтовали. Против них высылали воинские команды, «первозачинщиков» ковали в железо, дельных мастеров прощали. Заводы не должны были стоять. Когда сумятица затихала, Прокофий Акинфьевич возвращался к столичной жизни, жертвовал, делался оригинален.
Ему было за шестьдесят, когда он придумал, как навсегда — не пенькой! — досадить сынам Альбиона. Четверть миллиона дал, чтобы на этот капитал было заведено в Москве Коммерческое училище. Первое в Европе! Сразу после Чумного бунта и завели, посрамили нацию ученых мореплавателей и высокомерных негоциантов. Планы строились смелые: обучать учеников языкам французскому, немецкому и английскому, арифметике, бухгалтерии, коммерческой корреспонденции на разных языках, географии. Приглашены были воспитатели, преимущественно иностранцы, обязанные говорить с воспитанниками вежливо и отнюдь не по-русски, готовить их к европейскому обхождению, на случай, если придется в Европе торговать. Одно разочли плохо: учеников было мало, набирать их приходилось в Петербурге и партиями отсылать в Москву, ибо, как сетовал Бецкий, главный советник Екатерины II в делах просвещения, «к отдаче в Коммерческое училище из тамошнего купечества и ниже кого из других желающих не явилось». Что и говорить, опередил Прокофий Демидов свое время, и английское купечество опередил, и московское.
По смерти императрицы Павел I не мог постичь странного способа пополнять училище привезенными юношами. Здравый смысл подсказывал простое решение. Явно было, что матушка и ее вельможи не имели, даже и в малых делах, истинной правительственной мудрости. Коммерческое училище приказал перевести в Петербург, где, и ученики под рукой, и надзирать удобнее. Ушел в Петербург и демидовский капитал. Тогда-то и уразумели московские торговые люди всю выгоду быть первыми в Европе.
В начале нового царствования, в разгар нововведений Александра I, когда распространялось просвещение, открывались университеты и делилась Россия на учебные округа, московское купечество изъявило ревность к наукам и на свои уже средства возобновило Коммерческое училище, которое получило те же права, что и петербургское. К тому времени Прокофий Демидов умер, не довелось ему порадоваться.
Купцы были настроены серьезно, приискали каменный дом на Стоженке (Остоженке). Прежний владелец дома, сенатор и генерал-аншеф Петр Дмитриевич Еропкин, усмиритель Чумного бунта, важный московский барин, умер в 1805 году. Владение вплотную примыкало к аристократическим кварталам Пречистенки, Большой Молчановки, Арбата. Рядом была Москва-река, перекаты Крымского брода. На улицах тихо, не Китай-город с его торговыми рядами.
Вместительный дом заново выкрасили, в залы и комнаты внесли шкафы, столы, скамьи, были куплены книги, карты, счеты, чернила и бумага. Из университетских воспитанников подобрали учителей и начали занятия. Нашлись и ученики, усердные мещанские дети, чья мечта — попасть в доверенные приказчики к первостатейному купцу. Торговое просвещение укоренилось, пошло в рост, и замоскворецкие Тит Титычи, помимо церквей и бедных, стали одаривать Коммерческое училище.
Программа коммерческих наук была обширна, требовала прилежания, но в торговом деле, как известно, главное — добрая нравственность. Во всех классах обязательны были уроки закона божьего, за уклонение от них строго взыскивали. Купцы-попечители желали, чтобы приказчик был богобоязнен, почтителен, чтобы, натурально, смышлен и ловок. Когда брали на службу, наводили справки у училищного начальства. Не последнее слово принадлежало законоучителю, священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву.
В Московском коммерческом училище отец Михаил начал учительствовать в 1817 году. Место видное, спокойное, но молодой священник (ему недавно минуло тридцать лет) был его достоин. Достиг он его заслугами, обширной ученостью, непоказным благочестием, ровным характером. Но была и фортуна, везение, без чего не вышел бы он из сельской глуши, остался там, как осталась вся родня его, священники, дьяконы, дьячки. Помогал же фортуне граф Иван Андреевич Остерман, второй вельможный чудак нашего повествования.
Отцом графа был знаменитый Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман, выученик Петра. Сначала царь употреблял честолюбивого вестфальца для иностранной переписки, затем доверил вести переговоры, заключить Ништадский мир. При Анне Иоанновне Остерман стал кабинет-министром, управлял иностранными делами. С Бироном дружбы не водил, но ладил. В сомнительных случаях сказывался больным. Враги считали его за человека, действующего «дьявольскими каналами» и не изъясняющего ничего прямо, а все обиняками, «темными сторонами». При иноземных дворах он имел славу великого политика, для которого не было тайн в хитросплетениях европейской дипломатии, дельца умного, проницательного, который бывал, по обстоятельствам, то осторожным, то отважным. Казалось, что после смерти Петра только Остерману обязана Россия участием в европейском концерте, что без опыта и искусства петровского сподвижника вновь исчезла бы она из семьи народов просвещенных, обратившись к прежнему варварству. При воцарении Елизаветы Петровны Остерман пал, был обвинен в измене присяге, в преследовании русских и в раздаче чужестранцам мест государственных. Голова его лежала на плахе, но казнь заменили ссылкой в Березов. Там он и умер.
Сына его отходчивая Елизавета со временем простила, отправила в Париж, состоять при посольстве. Имя отца служило Ивану Андреевичу добрую службу. Екатерина II сделала его вице-канцлером, каковой пост занимал и первый граф Остерман, поручала неважные переговоры с иностранными министрами, составление нот, меморий, прочую рутинную работу. Однажды в сердцах назвала его дураком — ни воли, ни способностей отцовских Иван Андреевич не имел, в серьезных делах робел, путался. Зато был трудолюбив, надежен, не заносился, как Панин или Безбородко, не строил планов, в исполнении затруднительных, собственное мнение высказывал, лишь будучи спрошен. В павловское царствование граф Иван Андреевич был пожалован в канцлеры — высший гражданский чин, равный фельдмаршальскому, назначен президентом Коллегии иностранных дел, а вскоре затем, отягченный старостью, уволен в отставку. С честью оставив служебное поприще, он поселился в Москве и более десяти лет удивлял москвичей своею одеждою по отошедшей версальской моде, старинным экипажем, гайдуками. Истинный был вельможа XVIII века.
Как раз на рубеже столетий юный Филипп Вигель, попав на бал у московского главнокомандующего, наблюдал, как, не принимая участия ни в карточной игре, ни в общих разговорах, сидели полукругом Остерман, Еропкин, фельдмаршал граф Каменский, вице-канцлер князь Александр Голицын, доблестный князь Юрий Долгорукий, генерал-аншеф и кавалер всех российских орденов. Вигель с почтительным вниманием смотрел на сонм бояр, словно на галерею исторических портретов. Если бы не танцы и музыка, то можно вообразить, что почтенные старцы собрались для совещания о делах государственных. Москва гордилась отставными сановниками, считала их как бы в опале и в оппозиции, что им, пожалуй, и в голову не приходило.
По отцу граф Остерман был потомком протестантского пастора, по материнской линии происходил от бояр Стрешневых и, вероятно, состоял в родстве с царями. На Евдокии Стрешневой был женат богомольный царь Михаил Федорович. Смешение вышло необычное, и увлекло оно Ивана Андреевича на путь крайней набожности и богословских интересов, что и было его главным чудачеством, редким, надо признать, для вольнодумного века. Воспитанный в православии, Иван Остерман пятилетним ребенком получил в подарок от императрицы Анны Иоанновны «Подробный молитвослов», на внутренней стороне переплета которого была сделана следующая надпись: «Великая государыня Анна Иоанновна императрица всероссийская прислала сию книжку графу Ивану Андреевичу Остерману 1730 года июня 7 дня в Москве». В старости канцлер окончательно ушел в изучение творений отцов церкви, избрав себе в наставники московского митрополита Платона (Левшина), который своею рукой писал для Ивана Андреевича и его старшего брата Федора поучения в виде уроков. Федор Андреевич был любитель наук и искусств, большой знаток латинского языка. Когда-то он был московским генерал-губернатором, но более известен совершенно удивительною рассеянностью.
Московский дом Остермана славился богатством, его наполняли управляющие, секретари, приживалы, переписчики, странники, монахи, калмыки, вестовщики, хвалители и потешатели. Нашлось место и для юного Михаила Соловьева.
Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах попал он к Остерману. Можно думать, что помог ему в том митрополит Платон, сам сын сельского причетника, глубокими познаниями и талантом проповедника достигший вершин церковной иерархии. Без малого сорок лет стоял Платон во главе московской епархии, которую содержал истинно образцово, любил всеми правдами и неправдами вербовать молодых людей в духовное звание и немало в том преуспел, создав священников нового закала, «платоновского», по тогдашнему времени просвещенных и достойного поведения. Пылкие юноши в семинариях старались подражать ему в высоте мысли и стойкости нрава. В семье Соловьевых долго и благодарно помнили представительнейшего из русских архиереев второй половины XVIII века, хотя и за ним знали изъяны. Как вспоминал Сергей Соловьев, «Платон дрался собственноручно, брал подарки от подчиненных, обогащал племянниц своих».
Митрополиту Платону было почти семьдесят лет, когда он закончил «Краткую церковную Российскую историю», о которой его современник, ученый митрополит Евгений (Болховитинов) зло сказал, что в нововышедшем творении «много с одной стороны хвастливого ханжества, а с другой — натужного беспристрастия». Соловьев судил несравненно мягче. Он поместил митрополита Платона среди лучших писателей русской истории XVIII века и высоким слогом писал, что его книга, созданная «в преклонной старости», запечатлена «печатью могучего юного таланта» и «с честию заканчивает в нашей исторической литературе XVIII век и начинает XIX век».
Граф Остерман был бездетен, Михаил Соловьев пришелся ему по сердцу, и он принял в его судьбе горячее участие. В доме графа юноша получил хорошее образование, выучил языки и с одинаковой свободой мог говорить по-французски и по-гречески. На латыни он писал по образцам графа Федора Андреевича. Понятно, что с особым тщанием следили за его успехами в богословии и церковной истории. Соловьевы — род столбовой, великорусский, еще в четвертом-пятом колене крестьянский, но впоследствии перешедший в духовное сословие. Не отстал от семейной традиции и Михаил Васильевич. Он женился и принял сан священника.
Старый Остерман подарил воспитаннику «Молитвослов», который в детстве своем принял от Анны Иоанновны. Михаил Васильевич никогда не расставался с этим даром, чтя память о человеке, благодаря которому он вышел за тесные пределы понятий и интересов сельского духовенства. По нему он и молился, и служил, по нему же учил церковному языку сына Сергея и старшего внука Всеволода, к которому потом «Молитвослов» перешел по наследству. Едва ли была еще в России семья священника, где хранилась бы подобная редкость, осязаемое напоминание о преемственности веков и поколений. Несомненно, держал в руках «Молитвослов» и другой внук Михаила Васильевича, Владимир, чья, быть может, наиболее глубокая работа «Оправдание добра» открывается словами: «Посвящается отцу моему историку Сергею Михайловичу Соловьеву и деду священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признательности вечной связи».
В Коммерческое училище священник Соловьев был назначен спустя несколько лет после смерти Остермана и митрополита Платона, без особой протекции, да так и прослужил в нем более сорока лет, уйдя на покой только осенью 1860 года, за год до смерти. Со временем он был пожалован в протоиереи, что было не более как почетное личное отличие. К училищу Михаил Васильевич привык, выгодного перемещения не искал. Для духовенства время наступило тяжкое, филаретовщина. О московском митрополите Филарете (Дроздове) говорили, что он ел по пескарю в день и попом закусывал. От подначальных он требовал одного — чтобы все клали ему поклоны, и в том полагал величайшую нравственность. Ни в одной русской епархии раболепство духовенства перед архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в московской во время управления Филарета, не скрывавшего своего сочувствия к иезуитам.
Во мнении московских барынь строгий постник Филарет был святым человеком, а отец Михаил представал как бы его неявным соперником. Всеволод Соловьев вспоминал: «Дедушку знали в Москве очень многие, да и теперь, вероятно, его еще не совсем забыли. Это был человек много учившийся, много читавший, размышлявший и в то же время человек с детски Чистым сердцем, которое никогда не могло примириться с житейскою злобою и неправдой, никогда не могло допустить их существования… Я за дедушкой следил постоянно, потому что он во мне возбуждал благоговейное чувство, и я много раз был притаившимся свидетелем его молитвы, после которой он обыкновенно появлялся как-то особенно просветленным. И я тогда, затаивая в себе благоговейный трепет, всегда сравнивал его с Моисеем… Так на него смотрели многие, и в особенности женщины — разные московские благочестивые дамы, которые обращались к нему во всех затруднительных обстоятельствах своей жизни за советами и нравственной помощью, считая его и святым, и разумным человеком».
Трудно сказать, выступал ли Филарет гонителем протоиерея Соловьева, но известно, что Сергей Соловьев отзывался о московском митрополите крайне нелестно, видел в нем «страшного деспота, обскуранта и завистника». Он писал: «Сохрани боже, если кто-нибудь из духовных, помимо его, скажет что-нибудь прекрасное, — он оскорблен… Выдвигал, выводил в люди он постоянно людей посредственных, бездарных, которые пресмыкались у его ног». Несомненно одно: образование много выше обыкновенного, навыки светского обхождения, полученные в юности, и внутренние достоинства не избавляли от неприятностей, что выпадали на долю простого священника. Подлинной отрадой для Михаила Васильевича была семья. Внук Всеволод нарисовал замечательный портрет старого священника: «Достаточно было взглянуть на его прекрасное, старческое лицо, обрамленное длинной шелковистой белой бородой, на его ярко-голубые глаза, до последних дней жизни сохранившие чистоту и ясность; достаточно было увидеть его детско-добродушную улыбку, услышать ласковый голос, чтобы сразу понять, что перед этим человеком нечего скрываться, что он имеет право войти как друг и советник в чем-либо смущенную душу ближнего. И что в нем было особенно мило и дорого — это рядом с серьезными качествами ума и сердца неизменная веселость нрава, шутливость… Дедушка, этот молитвенник и советчик, одинаково любил и отвлеченную беседу, и серьезную книгу, и стихи, и музыку, и шутливый разговор, пересыпаемый громким смехом и остроумными выходками, и вкусный обильный обед, приготовленный под верховным наблюдением бабушки, и игру с нами, детьми».
В исторических трудах Соловьева немало страниц отведено русскому духовенству и объяснению причин его печального состояния. В том, что состояние было именно печально, ученый не сомневался. Излагая историю распространения христианства на Руси, складывания православной иерархии и роста церковных богатств, Соловьев не забывал подчеркнуть успехи духовенства в насаждении грамотности и книжного учения, в примирении князей, в утишении народных восстаний и в улучшении семейных отношений, где христианские понятия сдерживали страсти, для которых языческие обычаи не могли быть уздой. Русское самопознание бесплодно, если не соединено оно с ясным осознанием заслуг православной церкви в деле государственного и культурного строительства, если забыты славные имена Кирилла и Мефодия, Антония и Феодосия Печерских, Нестора, Кирилла Белозерского, Сергия Радонежского, Савватия и Зосимы Соловецких, митрополитов Алексея и Макария, Петра Могилы, патриархов Гермогена и Никона, Дмитрия Ростовского, Феофана Прокоповича. Но историк не впадал в ошибку, имя которой — односторонность, он видел, каким страшным злом была нравственная несостоятельность духовенства, невежество, пьянство во всякий час, «прежде, после и во время обеда», неграмотность поповских детей, мздоимство священников и ненасытная жадность монастырских старцев. Духовные лица не умели сами привыкнуть и других приучить к христианскому обращению с ближними, жестокостями превосходили светские власти. В обществе старом, допетровском, слабом внутренне, всего крепче была вера во внешнюю силу, и церковь насаждала духовную несвободу, слепое, без должного рассмотрения подчинение авторитетам и тем умаляла свое достоинство. Нередкие обличения духовенства, выходившие, как правило, из его же среды, не имели непосредственного доброго влияния, ибо не могли устранить условий, которые порождали нравственное бессилие. Условия эти Соловьев называл не один раз: застой, коснение, узость горизонта, отсутствие интересов, которые поднимают человека над мелочами повседневности, дают необходимый отдых, восстанавливают силы, одним словом — недостаток просвещения. После петровского переворота священник утратил и то духовное преимущество, которое давала грамотность, оставшись, как и прежде, «нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника».
С наибольшей резкостью бедственное положение русского священника историк запечатлел в «Воспоминаниях», первыми читателями которых должны были стать внуки Михаила Васильевича: «Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где та же бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился по необходимости, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообщить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставляя после себя грязные следы, дурной запах; бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности; эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя — он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы свиньи, как-де они унижают религию!»
Суровые слова. Не бесстрастное научное обобщение, основанное на доскональном знании состояния того сословия, из которого произошел ученый, но горестное размышление об иной, невоплощенной судьбе, которая была бы, однако, вполне возможна, даже единственно возможна, если бы не пересеклись в истории рода Соловьевых две вельможные причуды, остерманова и демидовская. Была и третья, строгановская, рассказ о которой впереди.
Слабое мерцание света, обещавшее русскому духовенству выход из страшного положения, обозначилось в первой половине XIX века. Началось внутреннее, нравственное очищение, семинаристы и священники оглянулись на самих себя, «и стало им гадко». Просвещение смягчило нравы, чтение, что всегда было залогом прогресса русского человека, приохотило к светской книге, к журналам, из которых усваивались новые понятия. Сравнение нескольких поколений священников было не в пользу старых. Появились семьи священников, где недовольство было особенно сильным и благотворным, порождавшим стремление выйти из печального состояния, очиститься и отряхнуться. В России возник тонкий слой православного русского духовенства, который не чужд был интереса к научному знанию, к политике, к мирскому искусству. Отсюда вышел Николай, сын саратовского протоиерея Гавриила Чернышевского, евангельского пастыря в полном смысле слова, этот слой дал России дивную плеяду ученых, литераторов, врачей, деятелей общественного и освободительного движения. Можно назвать не просто отдельных людей, но знаменитые в истории русской культуры и науки фамилии, сразу говорившие о принадлежности их носителей к духовному сословию — Поповы, Дьяконовы, Богословские, Успенские, Богоявленские, Троицкие, Спасские, Благовещенские, Предтеченские, Рождественские, Архангельские. Семинарской латыни и архиерейскому остроумию обязаны были появлением своих фамилий Сперанские, Критские, Платоновы, Реформатские, Фармаковские, Артоболевские, Амфитеатровы, Победоносцевы, Косминские… В XIX веке то была социальная среда с устойчивым и своеобразным бытом, со строгой и ригористичной шкалой нравственных ценностей, где трудолюбие было мерилом всех добродетелей, с культурными навыками, равно далекими как от традиционных крестьянских представлений, так и от культуры дворянской, крепко усвоившей петровские уроки и ставшей частью культуры европейской. К числу таких семейств принадлежали и Соловьевы.
Начало прогресса представляла преимущественно жена Михаила Васильевича Елена Ивановна, урожденная Шатрова. Дочь дослужившегося до дворянства московского чиновника, она рано осиротела. Ее отец в одном мундире простоял на морозе во время торжественной встречи Павла I, простудился и умер. Воспитание она получила заботами родного дяди, архиепископа ярославского и ростовского Авраама (Шумилина). Одним из следствий архиерейского попечения была стойкая нелюбовь Елены Ивановны ко всем ее родным, что оставались в духовном звании. Привычками и поведением они отличались от родни светской, отличались, разумеется, не к своей выгоде, и в доме Соловьевых их едва терпели. В устах остроумной хозяйки семинария была синонимом всякой гадости. Свою нелюбовь Елена Ивановна высказывала при каждом удобном случае и внушила ее детям. Сын Соловьевых, Сергей, мальчик нервный и раздражительный, с ранних лет получил отвращение к духовному званию.
Третий ребенок в семье, Сергей родился в Москве 5 мая 1820 года. Жили Соловьевы в здании Коммерческого училища в тесных, плохо обставленных комнатах нижнего этажа, окнами на двор, где в послеобеденное время гуляли воспитанники. Мальчик подолгу следил за играми детей, но сам никогда в них не участвовал. На двор его не пускали, детских развлечений он не знал. И хотя, казалось, жил он светло и беспечально, но и скудно жил, невесело. Став взрослым, он горько посетовал: «Я никогда сам не был ребенком».
Самыми близкими и любимыми были в детстве бабушка и старая няня Марьюшка, которая имела немалое влияние на малыша. Странница по натуре, няня не один раз ходила на богомолье в Соловецкий монастырь и в Киев, добродушно рассказывала о путешествиях и незабавных приключениях своей жизни, которые начались, когда ее, крепостную девочку, продали из тульской деревни, где остались отец и мать, в Астраханскую губернию. «Рассказы об этой дальней стороне, которой природа так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве, также сильно меня занимали», — вспоминал Соловьев. Врожденная склонность к занятиям историческим и географическим получила в ребенке развитие благодаря Марьюшке, ее умению живо передать впечатления о дороге, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми. Нянюшкины истории влияли и на религиозное чувство. В сильном волнении Сергей спрашивал: «Ты не испугалась, Марьюшка?» И слышал в ответ: «А бог-то, батюшка?!»
Выучившись читать, мальчик приохотился к книгам, которые стали его главным, даже единственным развлечением. Было ему, в сущности, одиноко. Сестер, Елизавету и Агнию — одна была старше на шесть лет, другая на три года — скоро отдали в пансион, что в семьях священников делали редко. Здесь не обошлось без решающего слова матери. Восьми лет и Сергей был записан в духовное уездное училище — отец думал дать сыну, посемейной традиции, духовное образование. Занимался мальчик дома, сдавая в училище необходимые экзамены. Закону божию, латинскому и греческому языкам учил его, без особого успеха, отец. Времени для постоянных занятий Михаил Васильевич не имел, дав сыну задание, он неделями не проверял выученного. Начав же спрашивать, искренне изумлялся, отчего мальчик, целыми днями сидевший над книгами, столь плохо знает латинскую грамматику. Отец не догадывался, что внутри учебной книги сын держал другую, обыкновенно какой-нибудь роман. Для других предметов Сергей посещал классы Коммерческого училища, где учили плохо и не тому, что требовалось для училища духовного.
Истинной мукой были для отца и сына поездки в Петровский монастырь, где помещалось уездное училище, на экзамены. Мальчика не радовали долгие сборы и дальняя дорога, он не видел красивых особняков на старинных улицах, многолюдства Тверской. Он боялся. Духовное училище было страной страшных ирокезов, где дикие учителя кричали, дрались, снимали скальпы с буйных, грязных, бедно одетых учеников. На экзаменах Сергей отвечал плохо, больше отмалчивался. Облегченно вздыхал, уходя из училища. Отец неспешно вел его на Тверской бульвар, угощал сладостями, купленными у разносчика, показывал московских щеголей, успокаивал. Иногда от Петровки шли вниз, к Трубе, где слушали шум московской диковинки — спрятанной под землю реки Неглинной, поднимались к Рождественскому монастырю. Отец останавливался у щербатых стен, рассказывал, как в недавнее время здесь по приказу жестокого маршала Даву расстреливали москвичей. Сергей огорчался пожаром Москвы, ненавидел Наполеона, но сильнее, чем императора французов, он ненавидел духовное училище и страстно желал как можно скорее выйти из него, поступить в гимназию.
Бедствия Петровского монастыря забывались дома, за книгами. Богатый свободным временем, Сергей читал много, с удовольствием, без разбора. Первым, надо думать, был прочитан «Молитвослов», за ним страницы Ветхого и Нового завета. У отца была библиотека светских книг, их можно было достать и у товарищей по Коммерческому училищу. За несколько лет мальчик прочитал все страшные романы Анны Радклиф, где были мрачные подземелья, готические замки, призраки и разбойники, интриги злодеев и таинственные совпадения, где в глухую ночь завывал ветер над заброшенной могилой.
В России Рэдклиф была автором необычайно популярным и притом чисто московским — переводы ее ужасов и подражания, выпущенные под ее именем, издавались почти исключительно в Москве. В двадцатые годы ее известность, правда, пошла на убыль, но юному читателю до этого не было никакого дела. Были прочитаны и писатели новые — Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Загоскин, забытый ныне Василий Нарежный, нравоописательный роман которого «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» местами и сейчас читается с захватывающим интересом.
В любимых книгах несколько лет числилось «Начертание всеобщей истории», изданное для воспитанников университетского благородного пансиона, где автор, Иван Басалаев, был преподавателем. Небольшая книга прочитывалась от доски до доски бесконечное число раз, восхищали подвиги греческих и римских героев, хотелось подражать Муцию Сцеволе, который положил правую руку на огонь, чтобы показать предводителю этрусков Пор-сене доблесть и решимость римлян, изгнавших царя Тарквиния Гордого. Недостатком «Начертания» Басалаева была краткость, и пришлось отыскивать переводную историю, составленную из французских сочинений аббата Милота. Книга была добротная, увесистая, Сергей навсегда запомнил из нее целые выражения. Европейскую историю он знал очень порядочно. Другие материки, казалось, истории не имели, но сколь привлекательны были далекие путешествия и географические описания. Колумб плыл в Индию и открывал Новый Свет, индейцев, их хижины, дикую природу, невиданных животных. В старых книгах были прекрасно выполненные гравюры, все виделось как наяву. День за днем, забыв о латыни и греческом, можно было перелистывать тома замечательного сочинения неведомого Жозефа де Ла Порта, одно название которого завораживало. То был «Всемирный Путешествователь, или Познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света, содержащие каждой страны короткую историю». Плотная, чуть шершавая бумага, изящный шрифт, четкие контуры старых карт. Мальчик был счастлив. Еще дома хранилась «История о странствованиях вообще»…
Сергей Соловьев читал отличные книги! Вобравшие в себя тогдашнее знание о прошлом и настоящем земли, они были созданы умными людьми, написаны доступно и, предназначенные взрослым, без усилий входили в круг детского чтения. Книги развивали воображение, приучали мыслить, воспитывали характер. Отличные книги! Можно было бы позавидовать сыну священника Соловьева, если бы не одно обстоятельство: мир, в котором он жил, который понимал и любил, был миром книжным, умозрительным. Подлинная жизнь была где-то там, за стенами еропкинского дома, от нее он был надежно отгорожен любовью, заботами, достатком родителей, а когда — как в духовном училище — соприкасался с ней, ему делалось страшно. Вина ли то мальчика, его ли беда — кто ответит?
Родители считали сына болезненным, берегли, он рос слабым и хилым, в прямом смысле слова домашним. Не было друзей-сверстников, не находила исхода тяга к путешествиям. Пешеходные прогулки с отцом были нечасты; Москвы, о которой Екатерина II говорила, что она не город, а целый мир, он не знал. Обжита была лишь Остоженка да близлежащие переулки. За московскую заставу выбрался лишь однажды, лет девяти, когда всей семьей Соловьевы ездили в Ярославль для свидания с родственником, архиепископом Авраамом. Путешествие совершали на долгих, в кибитке тройкою, взятой от Москвы до Ярославля. Дорога занимала четыре дня, ехали не спеша, почасту кормили лошадей, отдыхали. На пути стояли Троицкая лавра, Переяславль Залесский, Ростов — города, виденные мельком, под вечер, когда останавливались на ночлег. В Ростове отец взял сына к знакомому архиерею. Среди разговора архимандрит Иннокентий спросил: «Чем у вас, батюшка, малютка-то занимается?» Отец отвечал: «Да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина».
К тринадцати годам «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина была прочтена, пожалуй, раз двенадцать. Это были книги, увлекавшие никак не меньше, чем «Всемирный путешествователь». Карамзин рассказывал о русских героях, подобных Муцию Сцеволе, о бедствиях и славе россиян, о мудрых государях, чье правление было временем, счастливым для Отечества. При чтении пробуждался патриотизм, наивный, детский. Любимыми томами были те, где повествовалось о долгом княжении великого Иоанна III, о венчании на царство Ивана Грозного, о Казанском взятии. Неприятен был последний, двенадцатый том, где описывались Смутное время и несчастья русской земли. Сергей Соловьев мечтал, что когда-нибудь отыщется продолжение истории Карамзина и он сможет прочитать о событиях, восстановивших крепость Российского государства. Ах, если бы сыскалось продолжение!
Читая и перечитывая Карамзина, мальчик незаметно приобрел обширные и твердые познания в русской истории, в памяти без труда оставались страницы чудесной прозы. Карамзинский слог легок, суждения ясны, изложение плавно, в необходимых же случаях стремительно или величаво. Много позже Соловьев понял, что «История» Карамзина должна служить образцом хорошего вкуса, чувства меры, взвешенности и осмотрительности. Приобретя опыт историка, он вполне оценил карамзинские примечания, которые в детстве оставлял без внимания. Громадность труда автора изумляла.
При беспорядочном детском чтении выбор книг был случаен, но не случайны были ни интерес к истории, ни увлечение историческими романами, ни обращение к Карамзину. В те годы тяга к прошлому была в России всеобщей, чтение исторических книг стало потребностью дворян, чиновников, купцов, лиц духовного звания, разночинцев. Исторические знания, будь то прошлое Рима, Англии или России, признавались необходимыми, в сочинениях историков искали ответы на злободневные вопросы. После поражения декабристов история, в известном смысле, заменила политику. Молодой литературный критик Иван Киреевский писал в 1830 году: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает
все. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к Истории». Позднее другой критик, Виссарион Белинский, воскликнул: «Наш век — век по преимуществу исторический. Все думы, все вопросы наши и ответы на них, вся наша деятельность вырастает из исторической почвы и на исторической почве».
Взрослые, как и дети, читали романы Вальтера Скотта, который, по убеждению Белинского, «докончил соединение искусства с жизнью, взяв в посредники историю». С появления в 1816–1817 годах первых восьми томов «Истории государства Российского» не ослабевал интерес к творению знаменитого писателя, ставшего историографом. Карамзин писал просто, изящно, его «История» была увлекательнейшим чтением, а по обилию фактов, их умелой систематизации не имела себе равных. Пушкин вспоминал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». В начале тридцатых годов труд Карамзина сохранял значение литературной новости (двенадцатый том был издан в 1829 году, после смерти историографа), его читали, обсуждали, критиковали. Обозревая лучшие произведения русской словесности за 1829 год, Иван Киреевский выделял из общего ряда последний том «Истории государства Российского», который «превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога». Умный литератор скромно добавил: «Не по силам нам оценить его достоинство».
Карамзин был доступен и понятен всем. Дети, которые, как всегда, тянулись за взрослыми, играли в события, им описанные. Неподалеку от Остоженки, на Старой Конюшенной, главной улице московской аристократии, жили Аксаковы, дворяне радушные, хлебосольные, гостеприимные. Первенец семьи, юный Костя Аксаков (он был тремя годами старше Сережи Соловьева) зачитывался «Историей» Карамзина, которая воспламеняла в нем патриотическое чувство.
Одиночества Костя не терпел и, прочитав главу, тотчас же собирал братьев и сестер, пересказывал им давние события, заставлял слушать. Младший брат Константина, Иван, вспоминал: «В особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который, сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб».
Вячко — Вячеслав Борисович, из младших полоцких князей — был последним русским князем в Прибалтике, храбрым и неудачливым воином, чья жизнь прошла в неустанных схватках с тевтонскими рыцарями. Крестоносцы люто его ненавидели, а немецкая «Хроника Ливонии», составленная сразу после его гибели в 1224 году, почтительно именовала «королем из Кукейноса». Иван Аксаков спутал Кукейнос (Куксгавен) с Юрьевом, подробности же последнего боя князя, которых нет у Карамзина, дети скорее всего домыслили сами. Но любопытно, что из всех героев русской истории Костя Аксаков выбрал полузабытого князя Вячко, скудные сведения о котором давали простор детскому воображению и чьи подвиги удовлетворяли невесть откуда взявшуюся, но стойкую неприязнь к «вражьей силе», к вероломным и жестоким иноземцам.
В честь Вячко Костя учредил даже ежегодный семейный праздник. В этот день, 30 ноября, он, его братья и знакомые мальчики из хороших семейств — дружина воинов — надевали железные латы, шлемы, вооружались деревянными мечами и копьями, девочки наряжались в сарафаны — и все вместе водили хоровод и пели песню, для этого случая сочиненную учредителем праздника:
Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную, старинную,
Как бывало храбрый Вячко наш…
Затем следовало угощение («непременно русское», уточнял Иван Аксаков), дети пили мед, ели пряники, орехи, изюм. Все было настоящее: и праздник, и угощение, и латы, сделанные по образцам, взятым из гардероба Малого театра, и мечи, над которыми трудился домашний крепостной столяр Андрей. Были еще старинные палаши из золингенской стали и метательное копье, подарок археолога Калайдовича. Карамзинские страницы облекались во плоть, подлинный мир не упразднял книжный, а был его естественным продолжением. Действительность играла такими же яркими красками, что и древние предания. Да и могло ли быть иначе? У Константина Аксакова вопрос вызвал бы недоумение: как иначе?
Безоблачно счастливым было московское детство сверстника Сергея, его будущего друга, затем соперника и яростного критика, московское — ибо были еще ранние годы, проведенные в оренбургском имении, среди первозданной природы, оставившие радостные воспоминания о рыбной ловле, о бабочках, за которыми так весело бегать, об отцовской охоте…
Аксаковы — большая, дружная, талантливая семья. Мать, Ольга Семеновна, воспитывала детей на героических примерах (опять Муций Сцевола!), на сочинениях Ломоносова, Хераскова, Державина. Отец, Сергей Тимофеевич, театрал и клубный завсегдатай, читал в семейном кругу главы «Евгения Онегина», играл с друзьями в карты, спорил, смеялся. Впереди его ждала почти полная слепота, а за ней — слава тонкого знатока природы, великого мастера русского слова. Первая книга Константина — «История Трои» издания 1747 года, переложение Гомера. Домашние учителя — из лучших в Москве. Ве-нелин учил латинскому языку, Долгомостьев — греческому, Фролов — географии. Другом семьи был университетский профессор Надеждин, который читал с мальчиком Шиллера в подлиннике, растолковывал непонятное, учил находить прекрасное у древних и новых авторов. Барский дом с утра до вечера наполняли гости, литераторы и ученые, среди которых — Загоскин, Шаховской, водевилист Александр Писарев, Погодин, Шевырев, Армфельдт; актеры под присмотром Сергея Тимофеевича твердили роли: его советы ценили Щепкин и Мочалов. Костя всегда был на людях, среди взрослых, в атмосфере живых культурных интересов. Он не дичился, не знал ложной скромности, охотно декламировал, пробовал сам сочинять. Приятели отца удивлялись счастливым способностям и возвышенным стремлениям юного Аксакова, говорили между собой о его чистой, неподдельной любви к России и русскому народу, о не по годам горячем рвении ко всему московскому.
Константин Аксаков и Сергей Соловьев росли в Москве, жили рядом и гуляли по одним и тем же улицам, Аксаков непременно с гувернером. Легко представить, как они встречались, разглядывали друг друга — и проходили мимо. Их знакомство состоялось много позже. Что было общего тогда, в начале тридцатых годов, у одаренного юноши из богатой дворянской семьи, отлично воспитанного, знакомого с первыми московскими знаменитостями, и сына простого священника, кое-как обученного и привыкшего к одиночеству? Да и могло ли быть что-либо общее? Разве что одно — призвание к истории или, скромнее сказать, интерес к прошлому. В одно примерно время они читали одни и те же книги, одинаково увлекались русской историей, и, казалось бы, одинаков был их пылкий детский патриотизм, питаемый из одного источника, из Карамзина. Однако в «Истории государства Российского» скрыта некая тайна: труд Карамзина прост, общедоступен, но и глубок, многогранен; в нем соединились и рыцарский роман, и наставление правителям, и политический памфлет. Каждый — особенно в тринадцать лет! — читает «своего» Карамзина, и чувства, возбуждаемые известиями о суровой борьбе с захватчиками, не сходны с волнением от дивного устроения русской земли князьями московскими. Как далек доблестный Вячко от спокойного, осторожного Ивана III!
Смелым бог владеет — и пятнадцати лет от роду Константин Аксаков поступил в Московский университет. Экзамены были нетрудны, но официальны и тем непривычны. Отвечать же приходилось первому, как шел в списке: А — Аксаков. Отец, нежно любимый отесинька, успокаивал — ему не исполнилось и четырнадцати, когда он из гимназистов был назначен — именно назначен! — в студенты новооткрытого Казанского университета.
Год спустя произошли долгожданные перемены и в жизни тринадцатилетнего Сергея. Михаил Васильевич убедился в бесполезности домашних занятий, в необходимости дать сыну светское образование. Это был серьезнейший выбор, для отца нелегкий, но давнее нерасположение жены, Елены Ивановны, к духовному сословию и слезы, которые стояли в глазах сына на экзаменах в Петровском монастыре, решили дело. Хлопоты в канцелярии духовной консистории, где без посула ничего не делалось, завершились успешно. В 1833 году малолетний сын священника Соловьева был выписан отцом из духовного звания и определен в Первую московскую гимназию. Мечта сбылась. Начался долгий путь по дороге, которой никто из рода Соловьевых прежде не шел.
Препятствие встретилось сразу: изумительные познания в географии и истории уживались с невежеством в математике, с полной к ней неспособностью. Какая благодать случится от того, что треугольники подобны, а х = 23? Разве герои древности прославились решением уравнений? Сергея едва приняли в третий класс. Учитель математики, педант, чудовище, поставил — за неуспехи, за нескрываемое отвращение к точной науке — на колени. Такого наказания Сергей прежде не знал, как не слышал и таких учительских слов: «Дурак ты, дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца, отец твой хороший человек, а ты дурак!» Обида и самолюбие — не лучшие чувства, но через год экзамен по математике за третий класс был сдан блистательно. Помогла прекрасная память: теоремы, доказательства, формулы учились наизусть, как страницы аббата Милота. В четвертый класс Соловьев перешел первым по всем предметам.
Начало гимназическому образованию в России было положено в XVIII веке. Первая гимназия называлась академической и была открыта в 1726 году в Петербурге при Академии наук. В Москве гимназию основали одновременно с университетом в 1755 году. Гимназия считалась университетской и готовила детей дворян и разночинцев к слушанию профессорских лекций. Долгие годы — весь золотой екатерининский век — она оставалась единственной в Москве. К началу XIX столетия государственное управление усложнилось, ведомства военные и гражданские небывало умножились, торговые обороты возросли и повсюду, даже в Сенате, оказалась острая нужда в людях грамотных, добротно обученных, каковых в стране было до крайности мало. Молодое правительство Александра I с энергией приступило к исправлению дел в области просвещения. Усилия были предприняты чрезвычайные: выделены крупные суммы, подобраны умелые и преданные исполнители, образовано министерство народного просвещения и в короткий срок создана разумная система обучения от начальной школы до университета. Для низших сословий предназначались приходские, при церквах, школы, где учили чтению, письму и счету, а в уездах — двухклассные училища. В каждом губернском городе полагалось иметь гимназию, объявленную всесословным учебным заведением. В 1804 году был принят университетский устав, весьма либеральный, признававший университетскую автономию. Затем последовало учреждение университетов в Казани, Харькове, Дерите, преобразование Виленского и открытие в Петербурге Главного педагогического института, позднее также ставшего университетом.
В январе 1803 года император утвердил «Предварительные правила народного просвещения», согласно которым Российская империя была разделена на шесть учебных округов. Управление каждым из них возлагалось на попечителя, облеченного большими правами и независимого от местных властей. Попечитель ведал всеми учебными заведениями округа, его рвение, просвещенность и опытность определяли многое: состав учителей и профессоров, число гимназий, училищ, школ, средства, расходуемые на образование, даже цензурные нравы, ибо ему подчинялись цензоры. Первым попечителем московского учебного округа стал Михаил Никитич Муравьев, сенатор и товарищ министра народного просвещения. Когда-то Екатерина II избрала его в наставники великим князьям Александру и Константину Павловичами. Молодой стихотворец преподавал русскую словесность, верил в добродетель и чистую совесть ставил превыше всего. По взглядам своим Муравьев был, можно сказать, классическим просветителем, по литературным пристрастиям — сентименталистом и последователем Карамзина, которому он, вельможа, покровительствовал в исторических занятиях. Лучшими его воспитанниками были сыновья. Возмужав, они сделались декабристами — знаменитый Никита и не столь известный Александр. Братьев ждала Сибирь, откуда они не вернулись.
Попечителем учебного округа Муравьев пробыл недолго (он умер в 1807 году), но научная и культурная жизнь Москвы при нем процветала. Он содействовал возникновению при университете ученых обществ, которые служили делу объединения научных сил России и распространения знаний. В 1804 году было основано «Общество истории и древностей Российских», на следующий год — «Общество соревнования врачебных и физических наук» и «Московское общество испытателей природы». При Муравьеве университет получил институты клинический, хирургический и повивального искусства, ботанический сад, музей натуральной истории, профессора (запомни, читатель!) начали публичные лекции, на правильной основе заработала университетская типография, чьи издания рассматривались особой «домашней» цензурой университетских властей. Москвичи не успевали следить за новшествами, о которых сообщала университетская газета «Московские ведомости».
Муравьев непременно присутствовал при начале занятий в новых гимназиях учебного округа, куда входили почти все великороссийские губернии. В Москве, не упраздняя старой гимназии, он в 1804 году открыл прославленную в летописях русского просвещения Первую губернскую гимназию, тесная связь которой с университетом установилась с первых же дней, а окрепла после пожара 1812 года, когда университетская гимназия сгорела и более не восстанавливалась. В Первой гимназии вели занятия некоторые профессора университета, другие ее ревизовали, что позволяло поддерживать сносный уровень обучения. Гимназисты последнего класса держали выпускные экзамены в самом университете в торжественной обстановке и при стечении почетных посетителей. В повседневных занятиях строгости было меньше, в классах сидело до ста и более учеников, учителя поддерживали порядок как умели. Сохранилось предание об учителе рисования, который приходил в класс с кнутом, за что и был прозван пастухом. Инспектором гимназии долгое время был ординарный профессор Семен Мартынович Ивашковский, человек добрый, но воспитатель посредственный, без всякого авторитета. Гимназиста Соловьева он учил латинскому языку, студента Аксакова — греческому. Оба запомнили только профессорское косноязычие: к каждой фразе Ивашковский прибавлял невразумительное слово, то ли «буде», то ли «будет». Сказанное Ивашковский тут же забывал, его распоряжения не исполнялись. Неудивительно, что при таком инспекторе гимназисты о дисциплине не думали, на уроках сидевшие на первой скамье слушали, на других разговаривали, а на задних — спали или играли в карты.
Впрочем, нравы в Первой московской гимназии были несравненно чище, чем в духовном училище, а учили гимназистов лучше, чем воспитанников Коммерческого училища. Среди учителей встречались подлинные энтузиасты. Об одном из них, Павле Михайловиче Попове, скупой на похвалу Соловьев вспоминал: «С четвертого класса преподавателем русского языка был у нас Попов, учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели своего преподавания — выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были». Как не посетовать на ту легкость, с какой забываются заветы русской педагогики, имена старых русских учителей. А ведь Попов учил словесности и великого драматурга Островского, окончившего Первую гимназию через несколько лет после Соловьева.
Чему учили в гимназии? При Муравьеве, когда за образец взяли французские лицеи, преподавали естественную историю, философию, изящные науки, физику, математику, естественное право, политическую экономию, иностранные языки, но не было, как ни странно, ни закона божьего, ни русского языка, которые изучались лишь в уездных училищах. Упущение заметил Уваров, попечитель Петербургского учебного округа, где он, едва вступив в 1811 году в должность, и произвел нужные изменения. Равнодушный к вере, молодой Уваров слыл либералом, в изящной словесности следовал, как и Муравьев, за Карамзиным и смеялся над литературными староверами. Но не забывал, что ему вверено воспитание российского юношества, и не выходил из границ, установленных для русского подданного и православного. Исправив оплошность ревнителей разума и европейской учености, он выказал проницательность и почти государственную мудрость. Уваров умело делал карьеру и, никогда не служив в военной службе, твердо намеревался сделать ее на ниве просвещения. Бог с ними, с муравьевскими понятиями о чистой совести.
В истории русской культуры и науки, в русском общественном сознании Сергей Семенович Уваров оставил след столь значительный, что короткое отступление, ему посвященное, необходимо и извинительно. Необходимо тем более, что в жизни Соловьева был период уваровский, когда он, гимназист, студент, профессор, находился в сфере уваровских предписаний, испытывал воздействие воззрений, им насаждаемых.
Уваров был умен, образован, серьезно занимался изучением классических древностей, писал работы по древнегреческой литературе и античной археологии. Вместе с Жуковским, Вяземским, братьями Александром и Николаем Тургеневыми, Блудовым, Дашковым, Василием и Александром Пушкиными входил в веселое общество «Арзамас», где его прозвали Старушка. Необидно прозвали — Вяземского нарекли Асмодеем, князем тьмы. Пером публициста Уваров сражался с Наполеоном, печатал брошюры, написанные по-французски, где выражал тонкую либеральную мысль, что «цари и народы на могиле Бонапарта совместно принесут в жертву деспотизм и народную анархию». Признавая республиканский строй, которого «как идеала требуют добродетельные люди», неприменимым к «современной системе великих европейских держав», он провозглашал общим европейским идеалом правления монархию, разумеется, не наполеоновскую империю, уродливое порождение революции, а правление законное, легитимное, при котором «мощные барьеры обеспечивают гражданские свободы личности». В 1818 году Александр I сказал в польском сейме речь, понятую его русскими подданными как обещание конституции. Как счастлив был тогда князь Вяземский! И как он был обманут!
Уваровским откликом на варшавскую речь императора стало выступление перед студентами Главного педагогического института. Политическую свободу петербургский попечитель назвал «последним и прекрасным даром бога» и убеждал слушателей в том, что опасности и бури, спутники свободы, не должны устрашать, ибо великий дар сопряжен с большими жертвами, приобретается медленно и сохраняется лишь неусыпною твердостью. Прекрасно звучала ссылка на неотвратимость исторического прогресса: «Все сии великие истины содержатся в истории. Она верховное судилище народов и царей. Горе тем, кто не следует ее наставлениям! Дух времени, подобно грозному сфинксу, пожирает не постигающих смысл его прорицаний».
Карамзин увидел в Уварове опасного конституционалиста. И ошибся. Уроком, для карьеры спасительным, послужил погром Петербургского университета, в 1821 году устроенный мракобесом Руничем, когда гонениям подверглись достойнейшие профессора — Константин Арсеньев, Александр Галич, Карл Герман, Эрнст Раупах. Обвинения, им предъявленные, были бессмысленны и непристойны. Уваров — что поделать, либеральная репутация обязывала! — обратился к царю с письмом, почтительным и твердым, которое не стыдно было показать арзамасцам: «Среди 19-го столетия, на 20-м году царствования вашего императорского величества, в 30-ти шагах от вашей царской резиденции осмелились произвести среди ночи страшный террор, оскорблять честь учреждения, созданного вашим величеством, угрожать разжалованием в солдаты мирных студентов, которых не удалось возмутить, угрожать им тюрьмою и Сибирью, вынуждать от них разные кощунственные присяги… Что же это за процесс, государь, который требует для своего торжества подобных средств?» Обращение, как и следовало ожидать, осталось без ответа, с местом попечителя пришлось расстаться. Кресло президента Академии наук Уваров сохранил, впредь решил быть осмотрительнее.
В новое царствование либерализм Уварова улетучился, он бестрепетно выступил против «духа времени», о бесплодности борьбы с которым говорил прежде. Время высветило низкие стороны уваровского характера: он был мелочен, мстителен, нечестен, скуп; поступал, по выражению Пушкина, «как ворон, к мертвечине падкий». Соловьев, имевший возможность близко узнать Уварова, отзывался о нем как о подлеце, который весь замаран грязными поступками. Если и было в этих словах преувеличение, то незначительное. Соловьевская характеристика беспощадна: «Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю». В начале николаевского правления Уваров входил в новосозданные комитеты, которые определяли, кому, кого и как учить в пределах Российской империи.
После 14 декабря 1825 года гимназический курс полностью пересмотрели. 13 июля 1826 года, в день казни декабристов, Николай I издал манифест, который возвещал о суде над государственными преступниками. «Горестные происшествия, смутившие покой России», манифест объяснял недостатками «нравственного воспитания» молодых людей и предлагал дворянству, «ограде престола и чести народной», предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, не чужеземного воспитания». Был создан «Комитет по устройству учебных заведений», который выработал новый устав для гимназий, утвержденный в 1828 году. Устав был узкосословный, доступ в гимназии открывался прежде всего детям дворян. Главными предметами стали древние языки, «надежнейшее основание учености и лучший способ к возвышению и укреплению душевных сил юношей», и математика, служащая «к изощрению ясности в мыслях, их образованию, проницательности и силе размышления», за ними шли закон божий и российская словесность. Истории учили в старших классах, понемногу, с разбором. Ученикам объясняли, что древние греки жили в республиках, оттого и пришли в упадок, а Римская империя торжествовала. Политические науки были устранены, часы, отведенные на географию и физику, сокращены. Для улучшения нравственности гимназистов разрешались телесные наказания. Не наукам практическим, успехи которых определяли тогда ход европейской цивилизации, не философии, опасной для незрелых умов, учили в николаевской гимназии, в ней учили главной российской добродетели — повиновению. В тридцатые годы за этим зорко следил Уваров, назначенный министром народного просвещения в год, когда Сергей Соловьев поступил в гимназию. Николай I был доволен министром, который понимал правительственную политику в области просвещения как сочетание «доверенности и кроткого назидания» со «строгим проницательным надзором». Хорошо сказано, вполне в духе графа Бенкендорфа! Заслуживал поощрения Уваров и за умение сказать афоризм: «Не ученость составляет доброго гражданина, верноподданного своему государю, а нравственность его и добродетели. Они служат первым и твердым основанием общественного благосостояния». Именно — не ученость!
Для отечественного просвещения наступили трудные годы. Не стоит, однако, забывать, что в русской гимназии успели — спасибо Муравьеву и его единомышленникам — сложиться добрые традиции, поломать которые было непросто, что начальственные предначертания Уварова пропадали втуне на уроках Попова, что среди гимназистов нередко встречались и такие, кто одержим был стремлением узнать, выучиться. И тогда станет понятнее, отчего губернская гимназия казалась незаурядному московскому мальчику пределом мечтаний.
Учился Сергей радостно. Утром, держа в руке узелок с книгами, он быстро шел по Остоженке к Пречистенским воротам. Его ждал добрый мир: щедрые на похвалу учителя, одноклассники, благодаря которым забылось детское одиночество, новые латинские и греческие тексты (их он, конечно, переведет скорее и удачнее всех), беседы, в которых можно дать волю воображению, показать, как он много читал и много знает. И сколько предстоит узнать! Знание неделимо, познание сладостно, и едва ли Соловьев думал о том, найдется ли когда практическое применение его умению спрягать греческие глаголы.
Первая гимназия занимала два дома на Волхонке. В одном, что выходил торцом на Пречистенский бульвар, помещались квартира директора, канцелярия и часть классов. Директор Окулов гимназистами не интересовался, был светским человеком, известным в Москве остроумцем и рассказчиком. Женился он на сестре Павла Нащокина, друга Пушкина, и поэт бывал на его квартире. Стихи Пушкина Соловьев прочитал в гимназии на уроках словесности. Прочитал, запомнил… Натура его не была поэтической. Константин Аксаков — их не раз еще придется сравнивать — пяти-семи лет слушал главы «Евгения Онегина» в мастерском чтении отца, повзрослев, писал недурные стихи.
Входя в класс, Сергей направлялся к первому месту: на скамьях гимназисты сидели строго по успехам, несколько раз в год их пересаживали. Место первого ученика, занятое в четвертом классе, Соловьев удержал до седьмого, выпускного. Не помешала даже несносная математика. Лучший ученик, любимец учителей, краса гимназии — Сергей гордился собой, своими успехами, видел в том особенный знак божьего благоволения. Был набожен. Не решив задачи, молился, чтобы не спросили, — и Действительно не спрашивали. Молился, чтобы и товарища не спросили, — помогало. «Религиозности было много, но христианства было мало», — тонный позднейший вывод. Для успешного учения молитвы было недостаточно. Приходилось усердно заниматься, даже на Карамзина не хватало времени. Зато был он, Сергей Соловьев, первым учеником Первой московской гимназии. Стоило потрудиться!
Насмешки, обычная участь отличного ученика в русской школе, Соловьева обошли: товарищи признавали его первенство, особенно когда он начинал рассуждать о том, что станет основателем философской системы, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец современному неверию. Радоваться ли министру Уварову? Тревожиться ли? Юношеское благочестие — вещь отличная, но где почерпнул гимназист, сын священника, понятия о философии? Где? В том ли назначение гимназического образования, чтобы из гимназистов выходили философы-систематики? Деятельность разума ведет за собой неповиновение. Неужели бесполезны преграды, и он торжествует, неуловимый дух времени, правительство же напрасно истощает усилия, дабы его истребить? Трудна доля министра, озабоченного (зачем скрывать!) тем, чтобы европейская революция не нашла дороги в Россию.
Словесник Попов любил способного ученика, умевшего свободно мыслить, легко говорить, без робости излагавшего на уроках свои суждения. Правда, мальчик писал хуже, чем говорил на уроке, но учитель не уставал внушать коллегам высокое мнение о Сергее. Гимназические учителя, надо отдать им должное, знали нужды и запросы учеников, умели порадоваться их успехам. Однажды, будучи в гостях у сослуживца Красильникова, Попов, когда зашла речь о гимназии, об учениках, воскликнул: «Ведь вы не знаете, господа! Ведь Соловьев-то просто гений!» Хозяин, латинист Красильников, прервал восторги: «Полно, полно, Павел Михайлыч! Как это может быть! Положим, что Соловьев мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтоб у нас в гимназии завелся гений?»
На другой день гимназисты, жившие на пансионе у Красильникова, поведали о разговоре всему классу. Соловьева спор учителей, как видно, взволновал. Он вспомнил о нем в последний — и такой тяжелый для России! — год николаевского царствования, написав в ноябре 1854 года: «Прав ты, добрый старик, в своем наивном- сомнении! Мог ли в самом деле завестись гений в русской гимназии в сороковых годах XIX века? И горе, было бы ему, если б он завелся! Было в России просторное для гения время в XVIII и в первой четверти XIX века; но это золотое время прошло, и когда оно возвратится?»
Нелепо, конечно, было бы теперь рассуждать, кто из учителей, Красильников или Попов, был прав в споре, что состоялся где-то около 1835 года. Одно несомненно — Сергей Соловьев был не просто трудолюбивым, начитанным, необычайно развитым гимназистом, он обладал громадными способностями, феноменальной памятью и редчайшим даром — провидением прошлого. В области гуманитарной он был, без сомнения, одним из даровитейших людей XIX века. Русская наука должна с благодарностью помнить преподавателей Первой московской гимназии, которые сумели заметить, оценить и умножить природные дарования Соловьева.
Сергей был гимназистом пятого класса, когда в Москву был назначен новый попечитель учебного округа. Прежний, князь Голицын, именовался «последним московским барином», и многие подозревали, что на место попечителя старый вельможа попал потому, что Николай I желал доказать ненужность самого места. Князь был богат, чванлив, невежествен, занимался филантропией. Герцен, чье студенческое дело о вольнодумстве Голицыну пришлось разбирать, видел в нем добряка, который «отродясь ничего не читал». Делами учебного округа он не интересовался, ученых избегал, в Первую гимназию заходил раза два, благо жил рядом. По богатству и влиянию при дворе князь был лицом столь значительным, что звали его не иначе, как Сергий Михайлович. Звучало, словно из жития святых. (Так и Козьма Прутков в особенных случаях писался Косьмой, что, конечно, величественнее.) Новый попечитель — граф Сергей Григорьевич Строганов. Сергей — не Сергий — хотя был знатен и владел строгановским майоратом. Граф был горд, но не кичлив.
Строгановы — именитые люди, промышленники, род предприимчивый, удачливый, издавна богатый. По преданию, в XV веке один из первых Строгановых, Лука, выкупил из татарского плена великого князя Василия Темного. Его потомки владели соляными варницами Соли Вычегодской и Соли Камской, строили города, лили пушки, держали ратных людей. Отряд Ермака был послан в Сибирь на деньги Строгановых. В Смутное время строгановские капиталы помогали правительству в борьбе с иноземцами и русскими «ворами». В конце XVII века возвысился Григорий Дмитриевич, который, устранив от дел родственников, сделался единоличным хозяином строгановских владений, выручал царя Петра в трудные годы Северной войны. Его детей Петр I возвел в бароны, пожаловал землями на Урале. В XVIII веке Строгановы строили железоделательные и медеплавильные заводы, составляли библиотеки, скупали картины, коллекции гравюр, камней, медалей и монет, меценатствовали. Александр Сергеевич был президентом Академии художеств, Павел I сделал его графом Российской империи. Сын первого графа Строганова, Павел, учился во Франции, видел взятие Бастилии, записался в Якобинский клуб. Его воспитателем был суровый монтаньяр Жильбер Ромм — создатель революционного календаря. Вызванный Екатериной II в Россию, Павел Строганов стал «молодым другом» великого князя Александра Павловича, с воцарением которого сделался душой Негласного комитета, где вместе с императором, Кочубеем, Новосильцевым и Чарторыйским обсуждал планы преобразований, необходимых России. Представил записку по крестьянскому вопросу и народному образованию, как товарищ министра внутренних дел ведал медициной. Екатерининские вельможи попрекали якобинством, ворчали: «комитет общественной безопасности». Когда лукавый александровский либерализм иссяк, сенатор граф Строганов поступил волонтером в военную службу, вскоре получил полк гвардейских гренадеров. В 1812 году отличился при Бородине. В феврале 1814 года в битве при французском городе Краоне был убит его единственный сын Александр. После взятия Парижа генерал-лейтенант Строганов вышел в отставку, три года спустя умер. Странная судьба человека, жившего одним — до конца выполнить долг перед родиной, которая предпочла не заметить его усилий и поскорее о них забыть.
Дочь Павла Александровича, Наталья, наследница громадного состояния, вышла замуж за дальнего родственника из «бедной» линии Строгановых, к которому перешел и строгановский майорат в 60 тысяч душ, и графский титул. Ее мужем стал двадцатитрехлетний Сергей Григорьевич, офицер, успевший отличиться в кампаниях 1812–1814 годов.
Военным человеком граф Сергей Строганов оставался до конца своих дней. В 1828 году он был в делах с турками под Шумлой и Варною, участвовал в Крымской войне, дослужился до генерала от кавалерии. В неспокойные годы кануна крестьянской реформы занимал пост московского генерал-губернатора. При трех императорах — Николае I, Александре II и Александре III — состоял генерал-адъютантом и носил эполеты с императорским вензелем, знак личной близости и доверия царского. Прожил граф долго и с годами приобрел среди дворянства репутацию испытанного деятеля, чье слово весомо звучало в Государственном совете. После цареубийства 1 марта 1881 года старый генерал был приглашен на заседание Совета министров, где новый император Александр III поставил на обсуждение перед высшими сановниками доклад министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, утром в день смерти одобренный Александром II. У министра имелись противники, которые называли его проекты «лорис-меликовской конституцией», что было неправдой, ибо, предлагая допустить либеральную общественность к рассмотрению некоторых правительственных начинаний, Михаил Тариелович думал не об ограничении самодержавия, но о спокойствии России, нарушенном действиями «Народной воли». Сила революционеров-террористов внушала опасения, и Александр III, менее всего склонный к либерализму, колебался. Уверенность он обрел на историческом заседании 8 марта, когда почтенный старец Строганов, задав тон обсуждению, заявил, что намечаемые меры ведут «прямо к конституции», следствием которой станет захват власти «шалопаями». Затем говорил зловещий Победоносцев — и судьба «лорис-меликовской конституции», самого министра и либеральной политики была предрешена. Последовал манифест об «охране самодержавия», за ним — искоренение крамолы, умилительное единение царя с народом и «исправление ошибок» предшествующего царствования.
Другими словами, настала эпоха контрреформ, эпоха бессмысленных и своекорыстных попыток российского дворянства приостановить или изменить ход истории, который либеральные преобразования шестидесятых годов — эпоха реформ — казалось бы, неотвратимо направили по руслу буржуазного развития. Итогом же дремотного царствования Александра III явился глубочайший социальный кризис, поразивший Россию на исходе XIX века, чего граф Строганов, умерший в 1882 году, видеть не мог, а предвидеть не умел.
Позиция, занятая Строгановым в мартовские дни 1881 года, отнюдь не была следствием того обычного в престарелых политических деятелях консерватизма, который возникает от уверенности в собственной непогрешимости, от бессилия понять изменившийся мир. Граф был консерватором смолоду. Он считал себя одним из первых вельмож в империи, вельможей милостью божией, и думал, что государство Российское сильно только аристократией. Отсюда проистекало его заветное желание: поднять высшее дворянское сословие в России, дать ему средства навсегда остаться высшим сословием. Надо ли говорить об исторической вздорности и политической обреченности таких воззрений? Строганов мыслил категориями, в XIX веке обветшавшими и вдобавок нерусскими. Родовая аристократия в России, где существовало великое нивелирующее начало — самодержавие, едва ли не плод досужего воображения. Павел I любил повторять: «У нас только тот имеет значение, с кем я говорю, и до тех пор, пока я говорю». И подвергал дворян телесным наказаниям. Вспомним: «У нас нова рожденьем знатность, И чем новее, тем знатней». Оттого и писал потомок «бояр старинных», помнивший, что «водились Пушкины с царями»: «Я, братцы, мелкий мещанин».
Строганов знал два средства поддерживать могущество аристократии. Первое: сохранять и увеличивать богатства аристократических фамилий. В полном соответствии со своими убеждениями он был скуп, умело эксплуатировал крестьян, а накануне отмены крепостного права примкнул к отъявленным крепостникам. Тогда-то он и стал признанным главой консервативной придворной партии. Второе средство графа Строганова выглядело оригинальнее, оно отражало понятия сбивчивые и неясные, в основе своей утопичные, но и заслуживающие внимания. Аристократия, полагал Строганов, поддерживается личными нравственными достоинствами своих представителей, их просвещенностью. Наука, образование должны служить высшему сословию, которое, в свою очередь должно уметь пользоваться их могуществом. Консервативные убеждения подразумевали, стало быть, уважение и интерес к знанию, искусству, литературе.
На свой лад Строганов был последователен. Продолжая фамильную традицию, он составил богатейшую коллекцию русских монет, но тем не ограничился и поощрял научные занятия нумизматикой. Он получил известность как археолог, содействовавший раскопкам в Причерноморье, как собиратель икон строгановского-письма и как знаток древнерусского искусства, автор описаний Дмитриевского собора во Владимире на Клязьме. В тратах на науку и образование Строганов не скупился, давал деньги на издание ученых трудов, на археологические экспедиции. В 1825 году он учредил в Москве на свои средства бесплатную школу технического рисования — знаменитое Строгановское училище. Долгие годы стоял во главе созданного при Муравьеве «Общества истории и древностей Российских», в 1859 году основал Археологическую комиссию, председателем которой был до конца жизни.
Подлинной страстью Строганова была педагогика. Состояние, титул, генеральские эполеты мешали ему быть тем, к чему он имел настоящее призвание, — быть педагогом, хотя он и состоял главным воспитателем детей Александра II, великих князей Николая, Александра, Владимира и Алексея. В августейших воспитанниках, к слову сказать, Строганов не был счастлив.
Интерес к школьному делу граф проявлял повсюду. Путешествуя за границей, он заходил в школы, сидел, даже не понимая языка, на уроках, изучал способы преподавания, перенимал приемы учителей, сравнивал. Добросовестно старался постичь учеников, знал цену детским вопросам и озадачивал преподавателей физики: «В какую сторону вертится ручка электрической машины?» Некоторые терялись, не могли ответить. Наклонности Строганова заметил Николай I, поощрил, ввел в рамки, для государства полезные, назначив в комитет, создавший горестный гимназический устав 1828 года. К занятию места князя Сергея Михайловича Голицына Строганов, таким образом, был подготовлен.
Сделавшись попечителем, он энергично вникал в гимназические дела, в Первой гимназии сменил инспектора, которым стал университетский адъюнкт математик Погорельский, уволил слабых учителей, подтянул (человек военный!) учеников. Соловьев вспоминал: «Гордость, недоступность, скупость вооружали против Строганова многих из людей его общества; старание очистить подчиненных ему людей вооружило против него тех из них, которым уже нельзя было очиститься и которым было тяжко при нем. Но для порядочных людей, как принадлежащих к ученому ведомству, так и для всех тех, которым дорого было просвещение, управление Строганова Московским учебным округом было золотым временем. Не могу без глубокого чувства благодарности вспомнить того освежения нравственной атмосферы, которое произошло у нас в гимназии, когда приехал Строганов попечительствовать!»
Гимназию попечитель посещал часто, и как-то ему показали Сергея Соловьева. Состоялось знакомство, важное для обоих, в особенности же для будущего историка. Оба прониклись глубокой взаимной симпатией. После смерти ученого Строганов со слезами на глазах рассказывал его сыну Всеволоду: «Ведь я его помню еще гимназистом. Однажды я приехал в Первую гимназию, и мне попался навстречу мальчик такой белый, розовый, с большими голубыми глазами, настоящий розанчик, а затем мне его представили как первого ученика. С того времени я не терял его из виду». Соловьев, пожалуй, ни о ком не писал в столь приподнятом тоне: «Попечитель уважал мысль вообще, уважал науку, ставил выше всего честность, прямоту, благородство, талант, трудолюбие, святое исполнение обязанностей, имел практический смысл, не увлекался первою мыслью, как бы она ни поразила его с первого раза своею верностью и пользою применения, не доверял самому себе, как безошибочному оценщику, не доверял и другим, но выпытывал мнения у многих авторитетных людей посредством спора, сравнивал эти мнения».
За успехами гимназиста Соловьева Строганов следил внимательно, но, строго говоря, его интересовал не гимназист, а университет, куда, как легко было понять, вела Сергея жизнь. О характере строгановского интереса следует сказать несколько слов.
В должности попечителя Строганов выше всего ценил обязанности куратора Московского университета. Недавний военный губернатор Риги, он создавал себе в Москве репутацию опытного администратора, озабоченного ходом русского просвещения. Будучи одним из авторов университетского устава 1835 года, которым упразднялась существовавшая с муравьевского времени автономия, он желал показать, что не уставом, не министерскими предписаниями, но мудрым попечением охраняется достоинство университета, обеспечиваются права профессоров и студентов. Подобные стремления вполне соответствовали строгановским понятиям о предназначении аристократии, но была и другая причина, немногим известная. Строганов презирал и ненавидел Уварова. Счеты были давние, семейные. При каждом удобном случае Строганов домогался унизить министра, выставить его в неприглядном свете, указать на непригодность к делу. Уваров не оставался в долгу. Вражда между министром и попечителем была нешуточной, а главной ареной военных действий был университет, где образовались две партии — уваровская и строгановская и где первоначально влияние Строганова было слабым.
С университетом попечитель был в ссоре и искал примирения, которое понимал, правда, по-строгановски, как полное подчинение своей воле. Университетские профессора мириться не хотели, они помнили, как в мае 1826 года флигель-адъютант Строганов исполнил поручение Николая I провести ревизию Московского университета. Граф обнаружил тогда много «беспорядков»: казеннокоштные студенты нарушали дисциплину, в университетском Благородном пансионе читали запрещенные книги. Ревизор посетил вступительную лекцию Ивана Давыдова по курсу философии. Давыдов родился под несчастливой звездой. С 1821 года Совет университета трижды избирал его профессором кафедры философии, но кафедру не открывали. Наконец, в феврале 1826 года философию дозволили к преподаванию, но сомнения, нужна ли она, оставались. Давыдов составил вступительную лекцию «О возможности философии как науки» в осторожных выражениях, старался уловить перемены, наступившие после 14 декабря. Но не преуспел. Полковник граф Строганов (по образованию военный инженер) нашел лекцию вредной. Чтение философии было запрещено, печатные экземпляры лекции изъяты из продажи. Давыдова перевели на преподавание математики, он прослыл либералом. Николай I строгановские действия одобрил, вскоре сам посетил университет, после чего были уволены ректор Прокопович-Антонский и некоторые инспектора, а студент Полежаев угодил в солдаты. Это был погром, истребление ненавистного вольнодумства. Строганов в Москве действовал подобно Руничу в Петербурге в 1821 году.
Впрочем, не всегда гнев властей направлялся по верному адресу. Когда в 1831 году Давыдов получил кафедру российской словесности и приступил к чтению лекций, студенты встретили опального профессора рукоплесканиями, но скоро наступило разочарование. Давыдов поражал корыстолюбием и раболепством. Студенты ославили его в стихах, которые начинались словами: «Подлец по сердцу и цз видов…» Научный уровень его лекций был крайне
низок, он внушал слушателям, что о великих людях поэты пишут длинными стихами, ибо воображают их большого роста. Строганов обрушился на Давыдова понапрасну, в невежестве своем не уразумев, что университетский лектор читал «по Шеллингу», немецкому философу, для умов безвредному. Шеллинг в те годы жил в Эрлангене, затем в Мюнхене, московские гонения на философию его не тревожили. Невинно пострадавший Давыдов затаил обиду и, когда Строганов стал попечителем, примкнул, естественно, к уваровской партии, которую составляли старые профессора — Перевощиков, Спасский, Снегирев, Шевырев, Погодин. Они привыкли быть под началом Уварова и не ждали от Строганова добра. Другие старые профессора — Болдырев, Каченовский, Брашман, Альфонский, Фишер фон Вальдгейм, Щуровский, Морошкин — отнеслись к попечителю равнодушно. Погромы не забываются.
Строганову, чтобы утвердиться в университете, нужно было его обновить. Труд предстоял нелегкий, но попечитель был человек решительный. В несколько лет университет изменился. В нем стали преподавать Крюков, Редкин, Чивилев, Грановский, Крылов, Печерин, Баршев, Анке, Иноземцев, Армфельд, Филомафитский, Лешков, Драшусов — ученые молодые и талантливые. Попечитель покровительствовал молодым профессорам, исподволь стремился подчинить их своему влиянию, и они вскоре составили в университете новую, строгановскую партию, поначалу немногочисленную. Умный консерватор не торопился, он умел ждать, умел показать себя в выгодном свете, приласкать. Он не походил на николаевских сановников, не терпел лакейства, был способен запретить статью, где верноподданнические чувства отдавали передней. Редкая независимость, брезгливое отношение к уваровским интригам, доступность, которую так легко спутать с демократизмом, вводили в заблуждение людей очень, по-видимому, проницательных. Герцен, к примеру, полагал, что Строганов «хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгановского майората».
Между тем даже и по скромным меркам николаевского времени Строганов не был либерален ни по убеждениям, ни по образу действий. После неловкой истории с шеллинговой философией он, правда, приучил себя к сдержанности, усвоил, что в делах науки и просвещения поспешность необязательна, что начальственное дозволение действует на робкую русскую публику пуще всех запретов, что деньги на либеральный профессорский журнал можно обещать, не опасаясь последствий, — препятствия к его изданию найдут сами профессора. Либеральной славы Строганов не искал, был выше пустой молвы, и не его вина, что в России выдержка, административный навык и европейский лоск почти всегда принимались за свободомыслие, а умеренное использование генеральского окрика — за либерализм.
Константин Аксаков, впервые увидевший попечителя на одной из последних перед выпуском лекций, назвал его провозвестником «нового порядка» в университете. Отзыв лестный, если бы не аксаковское уточнение: «Хотя эпоха строгановская была эпоха очень, по-видимому, либеральная, но тем не менее внешность, а еще более аристократичность, принесли свое зло». Сказано точно. Аксаков пояснил: «В наше время профессорское слово было часто бедно, но студентская жизнь и умственная деятельность, неразрывно с нею связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды. В последующее время, со стороны профессоров, слово, быть может, стало вообще ученее и умнее, но зато студентская жизнь и весь университет подчинились влиянию форменности. Студенты скоро начали увлекаться прелестью светской пустоты и приличными манерами. Внешность, несмотря на всевозможное свое изящество, или лучше — тем сильнее, проникает в живую душу и оцепеняет внутреннюю и всю духовную, единственно нужную сторону человека».
Студенты дострогановского времени сурово смотрели на молодых щеголей из аристократических домов, пришедших в университет, преобразованный — Строганов сказал бы «облагороженный» — уставом 1835 года. Новые студенты носили отлично сшитые мундиры и форменные шинели, гордились этими зримыми свидетельствами принадлежности к университету, старые ходили в партикулярном платье, форма их тяготила; прежде единственным языком студенчества был язык русский, теперь его стала вытеснять французская речь. Начальство поощряло юных аристократов — и бездушием повеяло в университетских аудиториях. Старые студенты предвидели беду, но поделать ничего не могли. Итог, считал Аксаков, был печален: «Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды».
Слов нет, «торжество внешности» — не всегда зло, и тем более оно не было злом абсолютным. Инспектором университета Строганов назначил Платона Степановича Нахимова, старого моряка, брата прославленного адмирала. О добродушии инспектора ходило много рассказов: он даже иногда отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Если же случалась нехорошая история, Нахимов призывал к себе разумных студентов, уговаривал их повлиять на товарищей, и история прекращалась. В трудных обстоятельствах, которые возникали обычно от несговорчивости профессоров, инспектор Нахимов предпочитал действовать именем попечителя, гуманного, но и грозного. Однажды, когда университетский священник и профессор богословия Терновский не допустил к причастию двух нерадивых студентов (происшествие экстраординарное), Нахимов долго уговаривал строгого богослова быть снисходительнее, но тот отказывался: «Не могу… Иисус Христос сказал…» Инспектор не захотел слушать: «Что Иисус Христос! Что граф-то скажет?» Возражение было сильным, и Терновский сменил гнев на милость.
В сущности, Строганов и подчиненный ему Нахимов руководствовались главным правилом бюрократии: не выносить сор из избы, решать келейно. Любое происшествие в Московском университете дало бы повод к злому уваровскому торжеству или, что много досаднее, к участливому сожалению министра. При Строганове университетские нравы смягчились: младшие инспектора стали вежливее, эконом меньше обкрадывал казеннокоштных студентов, которые в ответ реже буянили, недовольные плохим питанием. Студентов перестали сажать в карцер,
их не сдавали в солдаты, а Строганов никогда и не угрожал солдатчиной. Кончился многолетний кошмар, особенно страшный для казенных студентов, зависимость которых от попечителя и инспектора была полной. В последний год голицынского попечительства стал студентом будущий великий филолог Буслаев, для которого поступление в университет буквально означало избавление от голодной смерти, — и спустя много лет он видел иногда во сне, как ему, казенному студенту, бреют лоб и надевают солдатскую амуницию…
Как не почувствовать благодетельных перемен, как не поверить в прогресс и не ощутить признательность новому начальству! Как не славить Строганова и золотые строгановские времена! И славили — точно так, как их предшественники славили времена дострогановские, которые — выражение «старого студента тридцатых годов» Ивана Гончарова — были «золотым веком нашей университетской республики». Все были правы, ибо говорили, если вдуматься, об одном — о юности, проведенной в стенах Московского университета. Гончаров писал «Обыкновенную историю» и стоял на пороге литературной известности, когда среди студентов выдавался Борис Чичерин, сухой, невосторженный господин, ставший знаменитым юристом. Чичерину принадлежит отзыв странный, где соединение имен кажется на первый взгляд неестественным, хотя оно и безукоризненно точно в отношении строгановского времени: «Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготовляя молодые поколения к служению России!»
Какова была жизнь в университете, действовали ли «все эти люди», равно как и многие другие, столь же выдающиеся, вместе или их усилия направлялись в разные стороны — это нам еще предстоит узнать, ведь Сергей Соловьев в университет пока не поступил, он учится в гимназии. Важно другое: строгановское время пришло и время это особенное.
Строганов давно перестал быть попечителем, переселился в Петербург, но старые студенты Московского университета, собираясь в Татьянин день, непременно посылали ему поздравительную телеграмму, вспоминали лекции Грановского, попечителя, сидевшего на первой лавке, трактир Печкина, где для студентов была особая комната, и половой подавал чай и свежие номера журналов; вспоминали себя, молодых, радостных, полных надежд, говорили друг другу «ты», пили, шумели в залах «Эрмитажа», где полы — так уж заведено в Татьянин день — посыпаны густым слоем опилок, и кричали «Pereat! — Да погибнет!» — кричали времени послестрогановскому, когда торжествовала гласность, проводились долгожданные реформы, а они — увы, коллега! — старели, превращались в равнодушных статских советников, в ловких адвокатов, в безыменных литераторов и забывали заветы старого доброго времени. Рядом недавние выпускники говорили о покойном ректоре Соловьеве, о катковщине, вспоминали трактир «Британия» и высчитывали, кто первым получит Станислава… Шли годы, наступил XX век. В тех же залах «Эрмитажа» новые поколения студентов — боже, как они молоды! — горячились, осуждали казачьи расправы над честными людьми и погром, устроенный в университете министром Кассо, составляли протестующие телеграммы Максиму Горькому и Леониду Андрееву, восторгались Художественным театром и жаловались на застой в делах, порожденный нескладными требованиями рабочих. И где-то в углу — благодарю, мне здесь покойнее — сидел очень старый человек, действительный студент 1847 года, последний, кто помнил отошедшее в прошлое золотое время попечителя Строганова. Кто он был — медик, математик, юрист? О чем думал? Сколько лет отпущено было ему судьбой и дожил ли он до того времени, когда невозможна стала общая встреча в Татьянин день выпускников Московского университета?
Вернемся к Строганову. Русские мемуаристы немало писали о свободном развитии Московского университета как о заслуге попечителя Строганова. Правильнее же сказать, что это развитие было свободным от уваровского влияния, но шло в духе строгановских предначертаний. Противоречия граф не терпел и, к примеру, славянофилов, крепко стоявших на своем, преследовал жестоко. Совсем не либерально держал себя Строганов в 1848 году, когда «потрясения на Западе» подвигли его подать императору записку об усилении цензурных строгостей. Ему же, Строганову, обязано русское общество созданием секретного бутурлинского комитета, оголтелый надзор которого над печатью окрасил в мрачные тона последние годы николаевского царствования и доставил горькие минуты московскому профессору Сергею Соловьеву. Впрочем, не будем опережать события.
Обновляя университет, Строганову случалось делать добрые дела: он выискивал в учебном округе способных юношей, следил за их успехами, определял в университет, посылал за границу для подготовки к профессорскому званию, очищал для них кафедры в Москве. Университет избавлялся от уваровских клевретов, в него приходили свежие научные силы. Педагогическая интуиция редко подводила Строганова — его выбор был точен. Между попечителем и министром шла война, и она приносила пользу русскому просвещению. Была ли в том их заслуга? Ответ, как кажется, нетруден.
Пройти мимо первого ученика губернской гимназии Строганов не мог. Юноша скромен, приятен и столь щедро одарен природой, что было бы грехом упустить его для науки, для Московского университета, куратором которого состоит он, граф Строганов. Требовалось немногое: постоянный присмотр, добрый совет, поощрение, иногда — прямая помощь. Успехи Сергея Соловьева будут его, попечителя, заслугой. Досадно, что подопечный простого происхождения, но к посрамлению Уварова годится и поповский сын. В конце концов университет не гвардия.
Гимназиста Соловьева расположение попечителя радовало, оно естественным образом дополняло похвалы учителей и признание соучеников. О строгановских планах он знать не мог, университетские дела его не касались, хотя, надо думать, выбор в пользу Московского университета, находившегося в четверти часа ходьбы от гимназии, был сделан осознанно и вполне самостоятельно. В 1838 году Сергей кончил седьмой класс гимназии, которая в тот год впервые получила право экзаменовать воспитанников не в университете, а у себя. Выпускные экзамены считались одновременно экзаменами на поступление в Московский университет. Соловьев отлично их выдержал и был выпущен первым учеником, с серебряной медалью (золотых не давали) и с записью на золотую доску навечно. Путь в Московский университет был открыт.
Обязанность первого ученика — написать сочинение для гимназического акта. В сентябре, уже студентом, Соловьев сказал в торжественном собрании московской Первой гимназии речь, над которой работал летом. Вскоре напечатанная, она стала литературным дебютом Сергея Михайловича Соловьева. У речи длинное название: «Рассуждение о необходимости изучения древних языков, преимущественно греческого, для основательного знания языка отечественного». Тему подобрал Павел Михайлович Попов. Восемнадцатилетний автор толково писал о достоинствах классического образования, к месту приводил изречения древних. Создатели гимназического устава 1828 года — и Уваров, и Строганов — могли быть довольны: московский гимназист рассуждал, как положено.
Лето 1838 года Соловьев провел в подмосковной князя Михаила Николаевича Голицына, детям которого он давал уроки русского языка. Предложение исходило от инспектора Погорельского — гимназия опекала своего лучшего выпускника. Впервые Сергей очутился надолго в чужом доме, в доме аристократическом, поставленном на широкую ногу, где царили нравы и обычаи, доселе ему незнакомые. В доме только прислуга говорила по-русски, в семье Голицыных господствовал французский язык. Маленькие князья изучали русский, как он учил латынь, язык Отечества был для них языком мертвым. Происходили сценки, о которых он вспоминал: «Я был в доме единственный русский не лакей, говоривший не иначе, как по-русски, и потому гувернантка-француженка, разливавшая чай, не иначе обращалась ко мне, как «m-rRusse! Князья бессмысленно смеялись над этим, а я с гордостью 18-летнего мальчика провозглашал, что я вполне доволен этим названием, что оно для меня драгоценно, что для меня чрезвычайно лестно, если я один русский в доме, или, по крайней мере, русский по преимуществу».
Соловьева удивила и возмутила «безобразная крайность в образовании русской знати», и, по собственному его признанию, в селе Никольском, Урюпино тож, в двадцати пяти верстах от Москвы по звенигородской дороге, он начал «свою гражданскую жизнь, ибо начал борьбу с одним из безобразных явлений тогдашней русской жизни». Формы, в которые воплотилась эта борьба, были просты: «господин русский» впал в крайность противоположную, в «русофилизм». Впал надолго: лет на шесть — уточнил он впоследствии. Звучит, согласитесь, забавно, но Сергей был очень молод, взгляды его не устоялись, а шесть лет — срок порядочный.
Общее содержание своих воззрений Соловьев передал, без сомнения, верно, и нет, казалось бы, надобности подыскивать иное определение, взамен соловьевского. Разве что, для ясности, стоит перевести: русофилизм — русофильство, национальная ограниченность, смешная, жалкая, страшная претензия считать свой народ выше остальных только потому, что ты — русский, родился в России и, как ты уверен, горячо ее любишь. Хорош ли такой перевод, уместен ли он, коль скоро речь идет о давнем читателе книг «о странствиях вообще», о юноше с несомненными задатками ученого, для которого важна истина? Едва ли…
Пусть остается слово, найденное Соловьевым, «русофилизм», но следует подчеркнуть его неточность или, по крайней мере, неоднозначность.
Соловьевский русофилизм зародился, понятное дело, не в Урюпине. Французомания Голицыных обострила давний детский патриотизм, истоки которого — в рассказах старой няни, в поучительных прогулках с отцом по Москве, в чистых переживаниях над страницами Карамзина. Право, если бы русофилизм в том и состоял, то как было отличить его от бесхитростной любви к России и к русскому народу? Жизнь в княжеском доме выявила, однако, и позднейшие гимназические настроения, что прививал русским юношам Уваров. Пренебрежение русских князей ко всему русскому выглядело ужасно, оно, казалось, вполне объясняло, отчего в гимназии учителя часто говорили о счастии быть подданным русского императора, об истинно русских началах, которым надлежало следовать. Говорили, не подозревая, быть может, о существовании семейств, подобных голицынскому, семейств, лишенных отечественных корней.
Французомания? В душе Сергея переплелись и ранние впечатления от стен Рождественского монастыря, и описания парада русских войск в Париже, и жалостное сочувствие к современной Франции, где, как учили в гимназии, утеряно верное понятие о монархическом правлении. Бедные французы! Россия — великая империя. Это твердо.
Дальше, правда, возникало смущение: далеко не все русское заслуживало любви. Русское барство… Здесь он встретил полное равнодушие к учению, невежество. Глава семьи Голицыных (коренной русский род) говорил: «Меня решительно ничему не учили; если я говорю свободно по-французски, то этот навык я приобрел сам после, в детстве же меня не учили даже и по-французски».
Русское крестьянство… Сергей не знал деревни; две, в гимназические годы, поездки в Ярославль немного добавили к книжным представлениям о крестьянах; гимназия обходила деревенскую жизнь молчанием, кроме хрестоматийного: крестьяне пашут, сеют, жнут и водят хороводы. В Урюпине произошло следующее: «Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате за книгами, гувернер, швейцарец Фарон, уложивши детей, вышел погулять, но скоро возвратился и пришел ко мне с следующим рассказом: «Только что я вышел в поле, как подходит ко мне мужик и предлагает свою дочь; я сначала остолбенел, потом стал упрекать его за такую страшную безнравственность: мужик отвечал: «Эх, батюшка! Что ж нам делать-то? Ведь князь уж почал!» — и тут рассказал мне обычай, что как скоро девушка в деревне достигает 15-ти лет, ее ведут к князю на растление, после чего она получает 50 рублей ассигнациями денег».
История, услышанная от швейцарского гражданина, оскорбляла, унижала нравственное чувство, ее хотелось не знать, забыть, приписать частной испорченности, возможной и в Швейцарии, но стыдно обманывать самого себя — эта история случилась в России, ее породили общественное устройство и законы российские. Недостойный крестьянин, но достойно ли великой империи столь странное сочетание слов: крепостное право. Было над чем задуматься…
Осенью 1838 года, вернувшись в город, Сергей Соловьев надел темно-зеленый сюртук с синим воротником — форму студента Московского университета.
ГЛАВА II
СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В начале апреля 1849 года Николай I имел с попечителем Московского учебного округа Голохвастовым беседу, которая может быть названа исторической. Император, никогда не скрывавший презрения к делам народного просвещения, нашел нужным изложить недавно назначенному попечителю основные правила, которыми следовало руководствоваться в общении с учащимися. Голохвастов, долгие годы состоявший помощником Строганова, был опытен и не услышал ничего для себя нового, но вполне оценил значение беседы, царское доверие и особенно тот нелегкий труд, что принял на себя государь в поисках точных определений.
Время было тревожное: революционное брожение, год назад охватившее Западную Европу, приблизилось к границам Российской империи. Венгерские мятежники, предводительствуемые Кошутом, действовали решительно, готовы были отложиться от Австрии и лишить Габсбургский дом короны святого Стефана. Как всегда, неспокойны были поляки, а тайные осведомители доносили о существовании в Петербурге антиправительственного общества во главе с неким Петрашевским. Надлежало принять безотлагательные меры против проникновения в Россию вредных западных идей и по мере возможности поразить самые истоки революционной заразы. Военное вмешательство в венгерские дела было предрешено, фельдмаршал Паскевич получил соответствующие инструкции, в армии — бодрое настроение и готовность к походу. Петербургские заговорщики, только что торжественно отметившие день рождения французского социалиста Фурье, известны, их арест — дело нескольких дней. Император верил: революционных дух будет истреблен. Главное — проявлять твердость. Малейшая слабость может быть погибельна, и пример тому — действия венского кабинета. Смуту следует пресекать в самом зародыше.
Именно об этом он говорил с Голохвастовым. Например, каков наружный вид московских студентов. Император видел благоприличных молодых людей, но немало и таких, у которых внешность и приемы совершенно неудовлетворительны: длинные волосы, нарушения форменной одежды, скверная выправка… Опасное заблуждение думать, что это мелочи. С величайшею милостью государь выразил попечителю свое недовольство: «Я бы желал, чтобы ты видел наших петербургских студентов. Было время, когда Михаил Павлович мне говорил об их распущенности и дурном виде, а теперь он сам ими любуется и завидует их прекрасной наружности». Ссылка на великого князя Михаила Павловича, солдафона и первейшего фрунтовика, придавала словам царя особую внушительность.
Дмитрий Павлович Голохвастов соединял в себе черты спесивого русского барина и чопорного бюрократа, откровенно ненавидел университет и считал его учреждением, опасным для существующего порядка вещей, местом, где пристойно состоять разве что разночинцам. Дворяне, по его мнению, должны были служить в военной службе. Словом, попечитель мыслил вполне в духе великого князя, но признаваться в упущениях по службе не желал и счел возможным указать государю на московские особенности: «В Петербургском университете нет медиков, а у нас их очень много, и почти все они очень бедные молодые люди. В Петербург студенты прибывают не из отдаленных губерний, они большею частью дети достаточных семейств, могут прилично содержать себя и состоят под семейным наблюдением, тогда как у нас большинство молодых людей из всех частей империи, без средств, без родных и покровителей, следовательно, без надзора». Сановник, по-видимому, забыл, что именно такие безнадзорные студенты стали зачинщиками беспорядков в Берлине и Вене. Недальновидность Голохвастова надлежало поправить, и попечитель услышал замечательный ответ императора: «В таком случае начальство должно заменять им родителей и родных».
Суть дела схвачена изумительно верно. Опека, попечение— первое правило николаевской политики в области просвещения, более того, основа всей вообще социальной политики. Ни одно сословие — ни дворяне, ни купцы, ни почетные граждане, ни мещане, ни однодворцы, ни крестьяне — не было изъято из отеческого попечения начальства, и, следовательно, ни одно сословие не могло не испытывать величайшей благодарности к начальству, к власти и к ее верховному носителю императору Николаю I. Власть и подданных связывали крепкие узы, делавшие любые революционные попытки не только преступными, но и бессмысленными. Так, по крайней мере, утверждала официальная идеология.
Второе правило — неукоснительное соблюдение формы. Упорядоченная служебная переписка, пронумерованные входящие и исходящие бумаги, симметричные фасады, равно отстоящие от красной линии… Форменность была во всем, но особенную важность имел мундир. Николай I строго указал Голохвастову на неумение московских студентов носить шпагу и треуголку, отдавать по форме честь: «Я столько имею опытности в этом деле, что очень вижу, что происходит от бедности и что от непривычки к форме, которую студенты стали употреблять только пред моим приездом. Я бы желал, чтобы эти молодые люди уважали мундир, который они носят, мундир, который уравнивает богатых и бедных, знатных и незнатных. Я бы желал, чтобы для собственной их пользы им было внушаемо, что они готовятся вступить на службу в свет, в общество и что в обществе, с подобной наружностью и манерами, они будут играть самую жалкую роль».
В этих словах не одна поэзия мундира, не один идеал казарменного равенства, в них, если угодно, содержится совершенное мировоззрение, в основе которого лежит признание действительным, реально существующим только того, что предписано и облечено в установленные формы. Все остальное как бы и не существует, во всяком случае, его бытие для правильного хода дел необязательно и даже обременительно. В словах Николая I кроется разгадка его тридцатилетней внутренней политики, в которой многие поколения историков не могли найти ни ясного смысла, ни реального содержания. Это была политика высочайше дозволенных форм, быть может, безукоризненно правильных, но не имевших ни малейшего отношения к тому, что во все века является основой всего, — к жизни народа. В николаевское время власть достигла полного отчуждения от народа, и правительственное попечение — попечение над формами! — едва скрывало образовавшуюся пропасть. В записках Соловьева об этом сказано точно: «Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля. Все делалось напоказ, для того, чтоб державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Все в порядке!» Отсюда все потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — и здесь было все хорошо, все в порядке; а что дальше — туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Больше ничего не спрашивалось. Терпелись эти заведения скрепя сердце, для формы, напоказ, чтобы де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы — народ образованный».
Итак, попечение и форменность.
Как проявлялись они в Москве и в Московском университете в те годы, когда Соловьев был студентом? В какой степени справедливо позднейшее соловьевское утверждение, что с воцарением Николая I «просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства»?
Посмотрим.
Осенью 1838 года Сергей Соловьев начал занятия на первом курсе историко-филологического отделения философского факультета. Отныне его жизнь и деятельность навсегда связаны со старейшим университетом России.
Общерусский центр науки и просвещения, Московский университет был в те годы, по определению Герцена, «храмом русской цивилизации», «средоточием русского образования». В его стенах теплилась живая мысль, здесь находили отклик передовые общественные настроения. Для николаевского времени это было немало.
Внутренний строй университетской жизни регламентировался уставом 1835 года и, разумеется, благоусмотрением попечителя графа Строганова. Университет состоял из трех факультетов, объединявших 33 (как в сказке!) кафедры. На философском и юридическом факультетах студенты учились четыре года, на медицинском — пять лет. Нездоровье или плохо сданные экзамены растягивали пребывание в университете еще года на два. Самым большим был факультет юридический, самым трудным считался медицинский, обучение на котором было отлично поставлено и требовало от студентов, с первого курса начинавших ходить за больными в университетских клиниках, раннего обретения специальных навыков, твердого характера и недюжинной выносливости. Не случайно здесь преобладали малоимущие, казеннокоштные студенты. Юноши из достаточных семейств предпочитали быть правоведами. Философский факультет разделялся на два отделения: физико-математическое и историко-филологическое. На современный вкус сочетание довольно странное, но тогда оно никого не смущало. У будущих математиков и филологов некоторые лекционные курсы были общими, первые слушали догматическое и нравственное богословие, обязательное для всех факультетов, логику, римскую словесность (еще не утрачена была традиция писать диссертации на латинском языке); для вторых читалась физика.
Всего в университете обучалось около 500 студентов, на историко-филологическом отделении их было около ста, и все были более или менее знакомы друг с другом независимо от курса, все были товарищи. При поступлении в университет, свидетельствовал Константин Аксаков, «первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни… Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента».
Аксаковские слова безусловно искренни, но недостоверны, точнее — достоверны в той мере, в какой они применимы к любой эпохе в истории Московского университета. В конце тридцатых годов прошлого века в здании на Моховой действительно царила атмосфера товарищества, которая, по сути своей, была противоположна николаевскому мундирному идеалу, но ни молодость, ни мундир, «который уравнивает», отнюдь не стирали сословных и имущественных различий. В привилегированном положении находились своекоштные студенты, преимущественно молодые люди хороших дворянских фамилий. В описываемое время пренебрежительно-голохвастовское отношение к университетскому образованию уходило в прошлое, усилия Строганова облагородить университет приносили плоды, и в аудиториях сидели студенты, принадлежавшие к родам древним, знаменитым в русской истории, — Аксаков, Валуев, Горчаков, Елагин, Жихарев, Кавелин, Новосильцев, Орлов, Самарин, Строганов, Черкасский, Чичерин…
Казеннокоштные студенты происходили в основном из духовного звания, и они сильнее страдали от начальства, которое требовало от них ношения мундиров с особыми суконными погончиками, чтобы отличать от своекоштных. Казенные студенты были, как правило, много старше дворянских юношей, и Буслаев вспоминал, как по коридорам рядом с недавними гимназистами ходили годившиеся им чуть ли не в отцы «совершеннолетние богословы, которые по окончании курса в семинарии вместо дьяконства и священничества избирали себе университетскую науку».
Кроме казенных и своекоштных студентов, были еще слушатели из податных сословий. Слушатели ходили на лекции, имели право носить студенческий мундир, но именоваться студентами по закону не могли, ибо, только прослушав весь курс и получив по выходе из университета звание кандидата или действительного студента, они увольнялись из податного сословия и уравнивались в правах со своими товарищами. Эти учились особенно прилежно. Профессор Крылов неоднократно повторял остроту, что только слушатели суть действительные слушатели.
Словом, студенты Московского университета составляли товарищество разношерстное и беспокойное, безоговорочно объединенное лишь ненавистью к полиции, которая тогда не имела права ни входить в университет, ни арестовывать студента. В университете не было ни землячеств, ни сходок, ни каких бы то ни было тайных обществ и союзов. Существовали, правда, кружки, о которых прославленный собиратель народных сказок Афанасьев, поступивший в университет несколько позже Соловьева, вспоминал: «Студенты в мое время делились на кружки, которые условливались их общественным положением: кружок аристократов по фамилиям и отчасти по состоянию (здесь преобладал французский язык, разговоры о балах, белые перчатки и треугольные шляпы), кружок семинаристов^ кружок поляков и кружок (самый обширный), состоявший из всех остальных студентов, где по преимуществу коренилась и любовь к русской науке и русской народности».
Как Строганов и Нахимов осуществляли надзор и попечение над этими молодыми людьми, будущими полезными деятелями русской науки и просвещения?
По-московски патриархально и по-строгановски умно.
Петербургский формализм был невозможен в сердце России, студенты люто ненавидели холодного педанта Голохвастова и души не чаяли в инспекторе Нахимове. Добрейший Платон Степанович любил студентов, как своих детей; стоило попросить его, и единица, поставленная на экзамене, переправлялась в высокий балл. Профессорам трудно было не уважить просьбу инспектора. Разве это не попечение? Была и взыскательность: Нахимов не терпел длинных волос, даже грозил за них карцером. Отставной моряк, он не считал грехом выпить с утра лишний стакан рома и понимал эту слабость в других. За глаза студенты называли его Флакон Стаканыч. Непростительно, конечно, но ведь это не бунт, не тайный сговор. Пусть тешатся…
К буянам инспектор был беспощаден. Когда хозяин трактира «Британия» пожаловался ему на студента, который задолжал, не желает платить, да и еще требует, Платон Степанович отправился в трактир сам.
«Ты задолжал, не платишь, да еще буянишь», — обратился он к бездельному студенту. Тот оробел: «Я-с, Платон Степанович, не собрался с деньгами; я ему заплачу… А он — просто грабит, цены берет хорошие, а если б вы видели, какая у него водка скверная, хоть не пей! Вот извольте попробовать сами». Нахимов выпил рюмку. «Ах ты, мошенник, — закричал он на трактирщика, — такую-то продаешь ты водку!» И начальственно распек. Студенту же посоветовал: «А ты бы лучше ром пил!» Тем дело и кончилось.
Прост был инспектор Нахимов? Скорее умен, многоопытен и истинно попечителен. В его бытность в университете не было ничего противоправительственного, никаких политических историй. Шумели студенты в «Британии», иной раз дрались с полицией, но уверен был Платон Степанович, что нет среди них заговорщиков, подобных братьям Критским, чье дело омрачило коронацию Николая I, нет вольнодумного поэта, последователя Полежаева, нет — избави бог! — и тайного общества. Стало быть, нет и опасности для правительства. Да и сами студенты были крепко убеждены в своей умеренности. Поэт Афанасий Фет, поступивший в университет в один год с Соловьевым, утверждал, что в тогдашних студенческих разговорах и спорах не было «ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?»
О Гегеле и философии речь впереди, но здесь вполне уместно выразить некоторое сомнение в словах знаменитого поэта. Тем более уместно, что другой поэт и университетский сотоварищ Соловьева — Яков Полонский (в 1838 году в Московский университет поступил и третий крупный поэт — Аполлон Григорьев!) объяснял философское умонастроение молодежи так: «Мы все были идеалистами, то есть мечтали об освобождении крестьян». Разве не скрыта в этом признании страшная опасность, которую не увидел инспектор? Ужели и бунт в николаевской России рисовался лишь в формах, отлитых десятилетия назад? Мыслят — значит не бунтуют?
Власти едва ли рассуждали столь упрощенно, до некоторой степени они понимали опасность интеллектуального протеста мыслящего меньшинства. К философским занятиям молодого поколения правительство относилось с недоверием, изучение Гегеля не поощрялось. Но попечение над умами — мечта недостижимая, да и не входило оно в служебные обязанности Платона Степановича Нахимова. Пусть об этом заботится высшее начальство, в первую голову министр Уваров. В поведении же студентов инспектор был уверен.
Граф Строганов в повседневную студенческую жизнь не вмешивался, наблюдал свысока, да и странно бы выглядел генерал-адъютант в трактире «Британия». Вместе с тем попечитель исправно ходил на лекции по всем факультетам, знал в лицо и по отзывам преподавателей всех сколько-нибудь заметных студентов, поощрял их ученые склонности, читал сочинения, осведомлялся у инспектора, имеют ли нуждающиеся уроки в богатых домах. Был, словом, не попечителем — благодетелем.
Для послушных и подающих надежды.
Фет на всю жизнь запомнил, как попечитель при упоминании на лекции его, студента Фета, перевода из Горация благосклонно промолчал. По тем временам это было более чем изумительно. К стихотворству университетское начальство с Полежаевской истории относилось с недоверием, а юный поэт к тому же выбрал для перевода оду под названием «К республике». И ничего — сошло с рук.
В необходимых случаях граф умел поставить на место. Слушатель (всего лишь!) юридического факультета Аполлон Григорьев был вызван к попечителю, который спросил его по-французски: им ли написано французское рассуждение? «Оно так хорошо, — добавил граф, — что я усомнился, чтобы оно было писано студентом». Строганов лукавил, он вряд ли позволил бы себе сомневаться во французском языке Орлова или Жихарева, но здесь какой-то безродный слушатель, выскочка. На прощание он дал Григорьеву совет: «Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться».
Исполненный аристократических предрассудков, разделявший, как и все, кто близко стоял к Николаю I, увлечение форменностью, Строганов умел казаться добрым, умел не скрывать своего внимания к профессорам, студентам и гимназистам. Мемуаристы сохранили множество историй, которые рисуют попечителя заботливым, деликатным, выдержанным, и ни один мемуарист не проводит грани между добрым участием и административным попечением, словно и не был Строганов выдающимся учеником николаевской школы. А ведь был! Был и гордился своими нововведениями, своими улучшениями по университету, сделанными в пику Уварову и к вящей славе императора Николая I. Объезжая учебный округ, он побывал во Владимире, где жил сосланный Герцен. Строганов пригласил недавнего воспитанника Московского университета к себе. Герцен вспоминал: «Он меня принял очень хорошо. Наговорил мне кучу комплиментов и скорым шагом дошел до чего хотел.
— Жаль, что вам нельзя побывать в Москве, вы не узнаете теперь университет; от здания и аудитории до профессоров и объема преподавания — все изменилось, — и пошел, и пошел.
Я очень скромно заметил, чтоб показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дурак, что, вероятно, преподавание оттого так изменилось, что много новых профессоров возвратилось из чужих краев.
— Без всякого сомнения, — отвечал граф, — но сверх того дух управления, единство, знаете, моральное единство».
Надо отдать должное Строганову: он принес Московскому университету больше пользы, чем вреда. Кто еще из николаевских сановников заслужил такую рекомендацию? Никто.
Правда, для полноты картины надо добавить, что, преуспев в заботе о «моральном единстве», попечитель менее всего интересовался материальной стороной жизни воспитанников Московского университета. Большая часть студентов, прибывших со всех концов России, жила по частным квартирам, снимая небольшие комнатки, некоторые жили весьма бедно, перебиваясь дешевыми уроками. Полонский считал себя богачом, если в его жилетном кармане заводился двугривенный, который он тратил на чашку кофе в кондитерской, где имелись лучшие журналы и газеты и где часами можно было читать все, что интересовало. (Когда Строганов ушел и попечителем стал Голохвастов, студентам запретили ходить в кондитерские читать газеты. Как не помянуть добрым словом строгановское время!)
Были студенты, которые испытывали не только бедность, но и нищету. Такие жили на далеких окраинах, в университет ходили по очереди, имея одну пару сапог на двоих или троих. Вовсе не ходить было опасно: старые студенты соловьевского времени помнили, как совсем недавно за своевольный пропуск лекции казенные студенты подвергались штрафу, вычету из стипендии, а своекоштные за десять пропущенных лекций подлежали исключению.
Профессора обычно за посещением лекций не следили, иные читали и для трех человек, но попадались и злопамятные, смотревшие на студентов как на неприятелей и беспощадно срезавшие на экзаменах тех, кто мало посещал занятия. Таким был, например, грубый и самолюбивый протоиерей Терновский, бездарно читавший богословие. Студенты тяготились его лекциями, на экзаменах получали нули и единицы. Между тем отметки у Терновского имели особое значение: получившие единицу, на каком бы факультете они ни учились, на следующий курс не переводились.
Главной причиной, вынуждавшей посещать самые скучные лекции, было полное отсутствие учебных пособий. К экзаменам можно было подготовиться только по профессорским лекциям, удобные литографированные издания которых вошли в обыкновение позднее, в пятидесятые годы, когда Соловьев был уже профессором. В его время студенты должны были слово в слово записывать лекции, которые читались профессорами нарочито медленно, нараспев. На лекциях стояла тишина, и только слышен был скрип перьев. В профессоре высоко ценились четкая дикция и поставленный голос. Одним из достоинств лекций Крюкова Соловьев считал то, что «привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно умел играть, как на инструменте; до сих пор еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом-своим». Многие студенты не поспевали за лекторами и тогда садились рядом, один записывал, сколько успевал, затем продолжал второй, третий… Дома лекции приводились в порядок, переписывались. В сомнительных случаях плохо записанный, непонятный текст показывали профессорам, те вносили исправления, дополняли. Учеба в университете — труд и труд нелегкий. Успех приходил к истинным труженикам.
Как и во все времена, среди студентов встречались ленивые, бесталанные либо такие, кто увлечен был посторонними предметами — писал стихи, рисовал, мечтал о военной службе. Лекции казались им тоскливой болтовней, они, как Афанасий Фет, дремали, поставив кулак на кулак, или искали смешную сторону в профессорском чтении. На экзаменах они тушевались, нередко оставались на второй год, а то и вовсе не кончали курса.
Обычная университетская жизнь… Сергей Соловьев вошел в нее
легко, аккуратно посещал лекции, постоянно их записывал. Он был образцовым студентом, занимался много и добросовестно, сразу обратил на себя внимание профессоров. Жил он с родителями в доме на Остоженке, сравнительно с другими студентами не бедствовал, располагал карманными деньгами, сохранив урок у Голицыных и давая еще другие уроки в разных домах. Фета он не раз выручал из беды, давая взаймы рублей десять.
Историко-филологическое отделение, где он учился, до введения нового устава называлось отделением словесных наук, о чем напоминала полустертая надпись золотыми буквами над дверью Большой словесной аудитории: «Словестное отделение». Надпись долгие годы веселила студентов, огорчала профессоров и ректора, но руки до нее как-то не доходили. В сущности, велика ли разница… Грамматическую ошибку не исправили; когда подоспело переименование 1835 года, сторож просто соскоблил позолоту. «Словестное отделение» имело неплохие традиции всеобщего безразличия.
Деканом отделения и ректором университета был известный историк, основатель и глава «скептической школы» в русской историографии Михаил Трофимович Каченовский. Профессор был стар, в 1835 году он уступил кафедру русской истории Погодину, а сам читал последнему, четвертому курсу новый предмет, введенный уваровским уставом, — историю и литературу славянских наречий. Читал он медленно, однообразно, вяло, и Соловьеву не удалось почувствовать и оценить его блестящего остроумия и едкой иронии, которые привлекали к Каченовскому не одно поколение студентов. В первой половине 1830-х годов «скептическая школа» господствовала в стенах Московского университета, учениками Каченовского были Николай Станкевич, Сергей Строев, Осип Бодянский, Константин Аксаков. Последний написал драматическую пародию в стихах «Олег под Константинополем», где высмеивал противников «скептической школы». Его друг Белинский поместил отрывки из пародии в газете «Молва» с сочувственным предисловием. Талантливых студентов Каченовский привлекал смелостью, с которой подвергал сомнению подлинность большинства летописных известий, суждениями о «баснословном» периоде русской истории. Работа Строева так и называлась — «О недостоверности древней истории и ложности мнения касательно древности русских летописей».
Все было в прошлом. Перед Сергеем сидел невзрачный старичок, прятавший лукавые карие глаза под седыми бровями; он оживлялся лишь тогда, когда находил возможным оспорить подлинность славянских древностей. Он раскрывал недавно вышедшую книгу прославленного чешского ученого и славянского патриота Шафарика, в названии которой стояло «Славянские древности», переводил целые страницы, комментировал, отмечал несообразности Доводы его были какие-то двусмысленные. О древнерусской надписи на тмутараканском камне Каченовский говорил: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: «Это, должно быть, подложная надпись!» Соловьев заинтересовался, разыскал давнюю работу археолога и президента Академии художеств Оленина «Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне тмутараканском» Прочитав ее, огорчился — тридцать пять лет назад ученые искали доказательств в данных эпиграфики и палеографии, в нынешнее же время…
Идеи «скептической школы» едва затронули Соловьева Каченовский рекомендовал читать старый журнал «Вестник Европы», который он долгие годы редактировал и по которому, как он уверял, император Николай Павлович выучился читать по-русски. В журнале встречались поверхностные выходки против Карамзина, скорее злые, чем убедительные, но не было и намека на стройную концепцию русской истории. Коренному москвичу приятно, конечно, было читать похвалы Каченовского Москве и князьям московским (когда-то именно это подкупило Константина Аксакова), но стремление отнести начало достоверных известий о русской земле ко временам Даниила Александровича и Ивана Калиты выглядело просто смешным. Многолетняя полемика Каченовского с Погодиным показала неосновательность исторического скептицизма, последнее слово в ней осталось за более молодым исследователем, знатоком и собирателем летописей, этих ценнейших источников по ранней русской истории. Позднее Соловьев признавал заслуги «скептической школы» в разработке методов исторической критики, но писал, что у скептиков была «золотая голова и глиняные ноги». В своей научной работе он предпочитал прочно стоять «на ногах», в исследовании шел, как научил Погодин, от источника и был далек от гипертрофированной его критики, характерной для Каченовского и его учеников.
В общении с Каченовским имелась грань, значение которой открылось Соловьеву не сразу. В студенческие годы он с удивлением наблюдал, как, соблюдая скрупулезную тщательность в выполнении принятых на себя ученых обязанностей, профессор всячески избегал административных дел. Ректор и декан, Каченовский уклонялся от ответственности, любая бумага по управлению университетом встречала с его стороны возражения: «Да как же это так? Да зачем же это так?» Он даже не брал домой книги из университетской библиотеки, опасаясь, что они каким-нибудь образом пропадут. Смелый ученый был осторожным и мнительным чиновником, помнившим, что предыдущий ректор Болдырев получил отставку со всех постов, неосмотрительно разрешив к печати номер «Телескопа» с возмутительной статьей Чаадаева. Соловьеву, которому судьба назначила повторение административной карьеры Каченовского, подобное раздвоение было чуждо. Слабость была не в его натуре.
При всех своих недостатках старый ученый был крупной фигурой в русской научной и общественной жизни, он с достоинством нес звание профессора Московского университета, и у него было чему поучиться. В урочный час приходил Каченовский на занятия, добродушно оглядывал студентов и начинал лекцию, которая длилась ровно два часа, по ней можно было сверять время. Такое отношение к педагогическим обязанностям внушало уважение. Другие профессора поступали иначе: Терновский вместо двух часов читал час, Давыдов опаздывал на половину лекции, которую тем не менее ухитрялся и кончить пораньше. Став профессором, Сергей Михайлович Соловьев с горечью убедился, что неточно, необязательно и молодое поколение преподавателей; некоторые вполне могли беспричинно пропустить лекцию. Катков по полугоду сказывался больным, сидел дома в халате, вспоминал берлинские подвальчики, где подают холодное пиво, ругал российские безобразия. «Тяжело, на душе тяжело», — повторял он, и окружающие сочувственно кивали головами, ведь времена-то какие, хуже аракчеевских. О студентах Катков не вспоминал. И не он один. После 1848 года померкла лекторская слава Грановского…
Профессору Соловьеву такая позиция была органически чужда. В университете он читал общий и специальные лекционные курсы, вел занятия в других учебных заведениях. В неделю выходило по 8—12 лекций. Это много. И так — год за годом.
В 1873 году Соловьев — ректор университета, академик и тайный советник — приехал в Троице-Сергиев посад, чтобы присутствовать на ежегодном торжественном акте 1 октября в духовной академии. Была и частная причина для поездки — к занятиям в академии приступил сын Владимир, доставлявший отцу немало беспокойства. Почетного гостя встречали высокие представители духовенства. Архиепископ Николай (Зиоров), тогда студент академии, вспоминал: «Мы, студенты, особенно историки, с особенным любопытством взирали на этого почтенного представителя исторической науки. На другой день был чей-то диспут, просили Сергея Михайловича остаться до диспута, он, однако же, не согласился, сказав: «Завтра у меня лекция; я за 40 лет моей службы пропустил только две лекции!» И уехал. Нас поразило это сообщение… Значит, он был прежде всего человек долга».
Лекции в университете Соловьев, как и Каченовский, читал до последнего года жизни, читал, уволенный в отставку, на правах постороннего приглашенного лектора. Печальная страница в жизни Соловьева, в истории Московского университета, но и — согласитесь! — прекрасная черта в облике великого русского ученого.
К столетнему юбилею Московского университета Соловьев написал биографию Каченовского, где достоинством своего предшественника по кафедре русской истории выставил старание «сблизить явления русской истории с однохарактерными явлениями у других народов». По-видимому, общеисторические взгляды Каченовского, убежденного в общности исторических судеб России и Западной Европы, оказали на Сергея Соловьева более глубокое воздействие чем колкости по поводу славянских древностей. В 1855 году он ясно сознавал, что антикарамзинские выпады Каченовскогс диктовались не азартом журналиста, пушкинского «злого паука», раздраженного чужим успехом, они были искренними, серьезными, хотя и неудачными попытками определить новые, достойные XIX века задачи исторической науки: «Когда «История государства Российского» блестящим образом закончила труды XVIII века, XIX век выставил новые требования. Главным препятствием к уразумению содержания отечественной истории служило то обстоятельство, что различные эпохи ее изображались одинаковыми красками, события времен давних представлялись, характеры действующих лиц в этих событиях оценивались по понятиям времен новых, на историю смотрели преимущественно как на художественное словесное произведение». Историческая критика «скептической школы» служила к опровержению этого «словесного», литературно-публицистического подхода, ее крайности искупали риторические преувеличения Карамзина. Каченовский представал не современником и соперником, а продолжателем автора «Истории государства Российского»; «скептическая школа» служила мостиком от Карамзина к Соловьеву.
В биографии Каченовского легко уловить соловьевские симпатии к общественной позиции ученого, который «постоянно держался середины между двумя крайностями; с одной стороны — неумеренной привязанностью, а с другой — презрением ко всему иностранному». Напомним, это было написано в 1855 году, в зрелые годы Сергея Михайловича Соловьева.
В пору студенчества русофилизм, обретенный в голицынском семействе, держал крепко, Сергей был, по собственному признанию, «жарким славянофилом». Конечно, надо с осторожностью подходить к этому позднему свидетельству: славянофильство к тому времени далеко еще не оформилось, сам Соловьев был молод, взгляды его не устоялись (он, пожалуй, не проводил особого различия между «русофилизмом» и «славянофилизмом»), но их существенная сторона выражена, без сомнения, точно. Подтверждением тому служит дошедшая до нас студенческая работа Соловьева «Феософический взгляд на историю России», написанная в 1841 году для профессора Степана Петровича Шевырева.
В молодости поэт-романтик Шевырев серьезно занимался исследованием древнерусской литературы, писал критические статьи. В университете он с 1833 года читал русскую словесность. Студентами профессор-поэт был принят тепло, особенно восторгались им члены кружка Станкевича, который после первой лекции Шевырева писал: «Он обещает много для нашего университета со своею добросовестностью, своими сведениями, умом и любовью к науке. Это едва ли не первый
честный профессор. Дай бог, чтобы он продержался у нас долее». Вскоре, однако, наступило разочарование. В Шевыреве, по словам Константина Аксакова, «обнаружилась раздражительная требовательность и отчасти полицейские движения». Несмотря на обширные познания, профессор стал положительно нелюбим, и Станкевич признавал: «Шевырев обманул наши ожидания: он педант». К началу сороковых годов Шевырев вполне определил свое место в рядах черной уваровской партии и был одним из главных проводников идей министра народного просвещения в Московском университете. Строганов ему не доверял.
В отличие от другого профессора словесности, Давыдова, который, по убеждению Соловьева, «продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными», Шевырев, казалось, имел душу добрую и нежную, был трудолюбив, услужлив, внимателен к студентам. Кончив курс в университете, Афанасий Фет первым делом отправился благодарить «добрейшего Шевырева за его постоянное и дорогое во мне участие». Профессор оставил Фета обедать, пил за его здоровье и поздравлял со вступлением в новую жизнь. Добрые качества Шевырева заглушались, правда, непомерным самолюбием и честолюбием, мелочностью, завистливостью и способностью к лакейству, а роль, которую он играл в образовании российского юношества, была поистине зловещей. Афанасьев писал: «Он был доступен студентам, позволял иногда спор с собою, но в то же время был и есть человек мелочно-самолюбивый, искательный, наклонный к почестям и готовый при случае подгадить… Степан Петрович Шевырев постоянно проповедовал, что русская натура выше всякой другой, что если другим народностям дано было разработать по частям прекрасные и возвышенные задачи человеческого образования: тому — музыка, другому — живопись, третьему — общественная жизнь и т. д., то русская народность все это соединит в одно целое — живое».
Неприятный осадок оставляли лекции Шевырева, они были в полном смысле казенными и состояли из бесконечных рассуждений о гниении Запада, о превосходстве Востока и православного русского мира. О том же он писал в журналах. Когда в 1841 году Погодин стал издавать «Москвитянин», он открыл его статьей Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы», идеально воплотившей воззрения Уварова. «Запад и Россия, Россия и Запад — вот результат, вытекающий из всего предыдущего, вот последнее слово истории, вот два данные для будущего» — это был главный тезис Шевырева, который подчеркивал, что воспринял его от «мужа царского совета». Россию автор резко противопоставлял Западу, «гниющей Франции» с ее «развратом личной свободы», германским землям, невидимый недуг которых — «разврат мысли». Вывод делался утешительный: «Конечно, нет страны в Европе, которая могла бы гордиться такою гармониею своего политического бытия, как наше Отечество».
Однажды после лекции, наполненной подобным прославлением России, к Соловьеву подошел студент — поляк Шмурло и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалования за такие лекции?»
Вот кому представил Соловьев обязательное курсовое сочинение, которое, кстати, так понравилось, что Шевырев продержал его у себя до самой кончины. Студенческие работы редко самостоятельны, и «Феософический взгляд на историю России» интересен одним: какие оттенки находил молодой Соловьев в одобренной свыше учености. «Феософия» — теософия, в данном случае — божественное предопределение, согласно которому Россия призвана играть особую роль в судьбе человечества, а славянские народы быть лучшей и высшей ветвью в семье европейских христианских народов. Запад несовершенен и оттого завидует России, романо-германские народы ненавидят славян. Доказательство: на Руси было призвание князей, на Западе — завоевание, положившее начало сословной вражде, злоупотреблениям власти и насильственным переворотам. Славяне, писал студент, «никогда не были покорены… потому у славян никогда не было идеи неравенства, отсюда совершенная невозможность революции». Между русским народом и царем издавна установилась «духовная, таинственная связь».
Если оставить в стороне утверждение о незнании славянами неравенства, то в остальном — грамотное переложение новейшей французской теории «завоевания»
я доморощенного приложения к ней — учения Погодина о том, что пусть все другие европейские государства и составились из «пришлецов и туземцев», из победителей и побежденных, к нам, на Русь, хотя и пришли варяги, но «добровольно избранные». О невозможности революции тогда писали все, ведь Россия — не Европа. Особенно убедителен был Погодин: «Вся история наша до малейших общих подробностей представляет совершенно иное зрелище: у нас не было укрепленных замков, наши города основаны другим образом, наши сословия произошли не так, как прочие европейские. Доступность прав, яблоко раздора между сословиями в древнем и новом мире, существует у нас искони: простолюдину открыт путь к высшим государственным должностям, и университетский диплом заменяет собою все привилегии и грамоты, чего нет в государствах, наиболее славящихся своим просвещением, стоящих якобы на высшей степени образования. Необыкновенное явление, которому подобного напрасно будете вы искать во всей древней и новой истории, которое не удивляет нас потому только, что мы слишком к нему привыкли. Таких явлений преисполнена наша история. Кто сожигает у нас разрядные книги и уничтожает местничество, основанное также на заслугах? Не разъяренная чернь бастильская в минуту зверского неистовства, не Гракх, не Мирабо, не Руссо, а чиновный боярин, спокойно, на площади, пред лицем всех сословий, по повелению самодержавного государя Феодора Алексеевича. — Кто доставляет нам средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство?
Правительство».
Все — и Погодин, и Шевырев, и молодой Соловьев — более или менее удачно пересказывали, дополняли и украшали официальную политическую доктрину, о которой самое время сказать. В литературе она получила неточное, вводящее, на наш взгляд, в заблуждение название «теория официальной народности». Создателем ее принято считать Уварова, хотя в действительности он просто с блеском развил идеи высочайших манифестов первых последекабристских лет, написанных Сперанским и Блудовым.
Краеугольным камнем, на котором была построена идеология николаевского царствования, стала мысль о превосходстве православной и самодержавной России над «гниющим Западом». Эта мысль была понятна всем, от ученого до невежды, она излагалась в гимназических учебниках и на театральной сцене, ее утверждали журналы и университетские профессора, и она оказала глубокое и пагубное воздействие на русскую общественность, ибо поощряла настроения, которые язвительный князь Петр Вяземский назвал «квасным патриотизмом». Сама уваровская теория выявляла, как полагал Константин Аксаков, «искусственность российского классического патриотизма», но к такому взгляду тогда склонялись немногие.
Наиболее точно и обдуманно Уваров изложил свою теорию во всеподданнейшем докладе Николаю I, где содержался обзор деятельности министерства народного просвещения в 1833–1843 годах — своего рода итог уваровского десятилетия. В начале доклада министр вспоминал день, когда он «удостоился получить» от царя «наставление, которому беспрерывно следовало министерство с тех пор и доныне. Этот день, незабвенный для министерства и для меня, — есть 19 ноября 1833 года». Задача, которую новый министр должен был «разрешить без отлагательства», задача, «тесно связанная с самою судьбою Отечества», сводилась к следующему: «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, надлежало укрепить Отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения».
Русскими национальными началами Уваров провозгласил православие («Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть»), самодержавие («Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на крае угольном камне своего величия… Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться») и народность («Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие… Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях»).
Цель официальной идеологии Уваров определил четко: «Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в оных душах радушное уважение к отечественному и полное убеждение, что только приноровление общего, всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу может принесть истинные плоды всем и каждому; потом обнять верным взглядом огромное поприще, открытое пред любезным отечеством, оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в тройственном понятии
православия, самодержавия и народности».
Уваровская «народность» была вынужденной уступкой духу времени, данью, которую просвещенный министр платил немецкой философии (принцип триады характерен для Канта, Фихте, Гегеля), европейскому романтизму (интерес к истории отдельных народов в ее неповторимости, пиетет к исторически сложившемуся национальному характеру, идеализация прошлого). «Народность» придавала уваровским построениям видимость целостности, оправдывала его претензии стать вровень с веком. Начало «народности», которое «затрудняло» Уварова, в писаниях его многочисленных последователей свелось к немногим элементарным понятиям — покорность, терпение, послушание властям. В связи с необычайно популярными в николаевское время сочинениями романиста Загоскина об этом со знанием дела писал Аполлон Григорьев: «Для Загоскина и того направления, которого он был даровитейшим представителем в литературе, в народе существовало одно только свойство — смирение. Да и притом самое смирение вовсе не в славянофильском смысле полнейшей общинности и законности — а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту».
Уваров провозгласил разрыв с общеевропейской традицией, довел до совершенства принципиальное политическое и идейно-культурное противопоставление России и Европы, присущее официальны} манифестам Сперанского и Блудова Следует подчеркнуть что иг теорий Уварова вовсе не вытекала необходимость политической и экономической изоляции России, хотя весьма желательной признавалась изоляция идейная Взгляды Уварова были основаны на идее национальной исключительности и имперского превосходства России. Это была теория казенного патриотизма победоносной военной империй.
Давнее, привычное для русского общественного сознания историко-культурное сопоставление России и Европы уходило в прошлое. Ему на смену пришло и глубоко укоренилось противопоставление русских и западноевропейских политических и социальных институтов, идея особого русского пути.
«Феософический взгляд на историю России» был написан в духе уваровских воззрений, иначе Шевырев не стал бы его хранить, но при внимательном изучений обнаруживаются две особенности, характерные для Соловьева Во-первых, он полагал, что в силу особых качеств русского народа на него возложена священная обязанность «быть вечным восприемником народов при святой купели крещения во Христе». Россия призвана «воспитывать дикие народы Азии», играть по отношению к ним цивилизующую роль. Это было личное, заветное и, быть может, давнее убеждение, едва ли не навеянное рассказами няни о страданиях русских людей в степной неволе. Верность этому взгляду Соловьев сохранил на всю жизнь.
Вторая особенность — менее личная, и связана она
с повальным увлечением тогдашними студентами Гегелем и немецкой философией. Объясняя задачи сочинения, Соловьев прямо ссылается на авторитет Гегеля: «Всего больше Гегелю принадлежит слава систематического построения мыслительного рассматривания истории. Последний философ произнес истину неоспоримую, что всякий народ должен иметь свою историю и, следовательно, должен иметь свою философию истории».
Николаевское время располагало к размышлениям. «Писать было запрещено, путешествовать запрещено, можно было думать, и люди стали думать», — пояснял Герцен. Философский искус последекабристского поколения не был самоцелью, в любомудрии искали ключ к познанию российской действительности. Иван Киреевский, мыслитель тонкий и оригинальный, в 1830 году проницательно заметил: «Нам
необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?
Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может.
Наша философия должна развиться из
нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов
нашего народного и частного быта. Когда и как? — скажет время; но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели».
Углубление в системы Шеллинга и Гегеля было, разумеется, уделом избранных, которых сочинения немецких философов избавили, пожалуй, от страшной участи достойнейших представителей предшествовавшего поколения — быть заживо погребенными в снегах бескрайней Сибири. Русское общество и прежде, и — увы! — много позднее знало эти как будто неожиданные уходы в отвлеченное мышление, эти всплески влечения к высшим вопросам бытия. В конце павловского царствования, когда цензура безумного императора запрещала переводы из Демосфена, Цицерона и Саллюстия под тем предлогом, что авторы — республиканцы, измученный Карамзин сетовал: «Бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или… будет перекладывать в стихи Кантону метафизику».
Хотя III Отделение и подозревало московских юношей, объединявшихся «в кружки под флагом нравственной философии и теософии», в «якобинстве» и в стремлении возродить тайные общества в России, но совершенно прав был Пушкин, когда в 1835 году писал: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!»
Пушкинские слова не требуют пояснения, и все же, как комментарий к ним, поставим рядом высказывание Юрия Самарина, друга и соученика Константина Аксакова по Московскому университету, одаренного человека и замечательного деятеля «эпохи реформ» который в 1861 году утверждал: «Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет целого поколения. Остались Орловы, Клейнмихели и Закревские. В развитии нашей общественности последовал насильственный перерыв».
Философские искания тридцатых годов были и естественной формой отхода от политических интересов декабристского времени, и закономерной ступенью на пути к социальной проблематике, которая определяла мировоззрение «людей сороковых годов». Тридцатые годы в истории русского общества — очередное и привычное безвременье, их удел — глубокомысленное молчание, резко отличное как от политических споров просвещенного дворянства александровского царствования о конституции, о монархии и республике, о военной революции и воинской присяге, споров, конченных 14 декабря, так и от полемики, печатной и изустной, что в сороковые годы вели в журналах и в литературных салонах знаменитые «либералы-идеалисты», чьи многолетние толки о положении крепостных крестьян, об отношении сословий, о личности и обществе подготовили великие реформы шестидесятых годов. Передовые люди тридцатых годов, обремененное «познаньем и сомненьем» лермонтовское поколение, находились на перепутье, желанная ясность цели отсутствовала. Как признавал Иван Тургенев: «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления».
Огромное значение в истории русской общественности имел кружок Станкевича, который возник в Московском университете к началу 1832 года и объединил талантливейших представителей московской молодежи. Это было, как вспоминал Константин Аксаков, «замечательное явление в умственной истории нашего общества». Первоначально в кружок входили студенты словесного отделения Василий Красов, Иван Клюшников (оба — неплохие поэты), Осип Бодянский, Сергей Строев, Януарий Неверов, Яков Почека. Спустя три-четыре года вокруг Станкевича объединились Константин Аксаков, Михаил Бакунин, Виссарион Белинский, Василий Боткин, Тимофей Грановский, Михаил Катков… Какое созвездие имен! И сколь разны их судьбы! Как далеко разошлись затем пути молодых людей, вместе штудировавших Гегеля! Разошлись, блестяще оправдав слова Ивана Киреевского: «Слово «гегельянизм» не связано ни с каким определенным образом мыслей, ни с каким постоянным направлением. Гегельянцы сходятся между собой только в методе мышления и еще более в способе выражения; но результаты их, методы и смысл выражаемого часто совершенно противоположны».
Душой кружка был Николай Станкевич, умевший привлечь к себе и ушедшего в неведомый мир санскритских текстов будущего ученого-востоковеда Павла Петрова, и воронежского мещанина-самоучку, дивного русского поэта Алексея Кольцова. Ближайшим другом Станкевича был Александр Ефремов, географ, с которым жизнь не раз сводила Сергея Соловьева.
Станкевич был человеком поистине необыкновенным, обаяние его личности испытали все члены философского кружка. Белинский им восхищался и относил к числу людей «замечательных», «гениальных», для Бакунина он навсегда остался «гигантом». О влиянии на сотоварищей Станкевича, глубокому уму которого чужда была односторонность и в душе которого царили искусство, изящество, красота, Константин Аксаков писал: «Стройное существо его духа удерживало его друзей от того рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы». До отъезда Станкевича за границу в кружке господствовало взаимное благосклонное внимание. Пылкий Аксаков был ближайшим другом «неистового Виссариона» и имел все основания писать в 1836 году кузине: «Недавно я читал статью Белинского, где он высказал все мнения нашего юного поколения, мнения, которые я разделяю и часто говорил прежде. Я читал эту статью с истинным удовольствием». О настроениях Станкевича и его единомышленников, о своем собственном студенческом мировосприятии Аксаков вспоминал: «Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многим не уравнявшийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет. Но, видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там… Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, — и что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч., была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это желание, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское».
Кружок Станкевича ввел Гегеля в моду. Было время, когда Николай Станкевич признавал; «Гегеля я еще не знаю». Заветом же мечтательного философа стали слова: «Все враги Гегеля — идиоты». Упоение гегелевскою философией было безмерно. Любой, не знакомый с нею, считался в кружке Станкевича «почти что несуществующим человеком», Отсюда, добавлял мемуарист Анненков, «и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов». Иван Киреевский иронизировал: «Нет почти человека, который бы не говорил философскими терминами; нет юноши, который бы не рассуждал о Гегеле; нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно бы было влияние немецкого мышления; десятилетние мальчики говорят о конкретной объективности». Квинтэссенцией русского гегельянства стала шутка Александра Жемчужникова:
В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я.
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская.
Германия с ее университетами представлялась московским любомудрам желанной целью, и, уезжая туда в 1837 году, Станкевич ждал для себя душевного возрождения. После его отъезда в Москве на первый план выдвинулись Бакунин и Белинский, каждый, по словам Герцена, «с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений». Изучение Гегеля привело их в конце тридцатых годов к «примирению с действительностью» николаевской России. Во всяком случае, в гаком смысле истолковали они знаменитое гегелевское положение: «Все действительное — разумно, все разумное — действительно». Бакунин и Белинский были настолько последовательны в «примирении с действительностью», что, как вспоминал Иван Панаев, в их глазах «сомневаться в гении Николая Павловича считалось признаком невежества».
Бакунин утверждал: «Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же; примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь», «Примирение» Белинского нашло выражение в нашумевших статьях «Бородинская годовщина», «Мендель, критик Гёте», которые с болью читали его друзья. Грановский в конце 1839 года писал Станкевичу из Москвы, что ему везде приходится защищать Белинского от «упрека в подлости»: «Более всего мучит меня то, что студенты наши — и лучшие — стали считать его подлецом вроде Булгарина, особливо после последней статьи его. Дело все — в поклонении действительности. Ты знаешь, с каким остервенением защищает он свои мнения, до каких крайностей его доводят противные мнения. Он в самом деле говорит дичь. Статья действительно гнусная и глупая».
1839 год — Соловьев был тогда в числе лучших студентов второго курса историко-филологического отделения, где в сентябре начал читать лекции по всеобщей истории только что прибывший из длительной заграничной командировки Грановский.
Всеобщее увлечение Гегелем имело различные последствия — или не имело их вовсе и проходило бесследно. И. Киреевский предлагал поговорить с любым мыслителем, «которых у нас теперь так много»: «Если вы всмотритесь в тот умственный процесс, посредством которого этот поклонник Гегеля приобрел свое основное убеждение, то с удивлением увидите, что процесса не было никакого. Большею частию он даже совсем не читал Гегеля… Принятие чужих убеждений — дело такое обыкновенное, что из нескольких сот гегельянцев, известных мне, я едва мог бы назвать трех, в самом деле изучивших Гегеля». Скептицизм Киреевского основателен, хотя несомненно, что было и серьезное усвоение идей германского философа, которое в иных случаях (Белинский, Бакунин, Владимир Милютин, Герцен, Огарев) сопровождалось интересом к идеям социализма. К началу сороковых годов Белинский и Бакунин, как известно, отказались от покорного следования неверно понятым философским схемам, стали истолкователями диалектического метода Гегеля как средства познания и преобразования действительности. «В Москве, — писал Герцен, — социализм развивался вместе с гегелевской философией». Диалектика Гегеля объективно пролагала путь социалистической мысли в России.
Московский университет, говоря словами Аполлона Григорьева, был «университетом таинственного гегелизма, с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой». Молодые профессора, недавно слушавшие лекции в германских университетах, — юристы Редкин и Крылов, историки Крюков и Грановский — увлекали студентов идеями Гегеля, излагали с кафедры гегелевскую схему мировой истории, толковали о движении абсолютного духа. Часть старой профессуры с подозрением смотрела на новоявленных гегельянцев: со времени строгановского погрома 1826 года философия была в Московском университете запретным плодом, а высшее начальство преследовало ее как нечто вредное и совершенно лишнее для русского общества. Погодин, Шевырев, Давыдов заговорили о забвении православия, о науке «по Гегелю». Попечитель Строганов разрешил напечатать в «Московских ведомостях» герценовскую статью о лекциях Грановского при условии — не упоминать имени Гегеля. «Откуда эта гегелефобия?» — спрашивал себя Герцен. Просвещенный граф был тверд: он будет всеми мерами «противудействовать гегелизму и немецкой философии», ибо она «противуречит нашему богословию».
В учебных планах историко-филологического отделения и юридического факультета философия числилась среди предметов первого курса, но под видом философии читалась логика. Когда Иван Тургенев в начале 1842 года попросил допустить его к испытанию на степень магистра философии Московского университета, то после длительной переписки с попечителем и ректором получил ответ, где выражалось сомнение «на счет возможности допустить просителя к испытанию в науке, которая в течение 15 лет не преподается в университете».
А ведь был целый факультет, называвшийся философским!
Запретительная политика была удобна, но недальновидна. Погодин, чей пытливый ум проникал далеко за пределы обязанностей, очерченных для профессора русской истории, это понимал. Он считал своим долгом представить министру народного просвещения донесение о своем пребывании за границей: «Я думал прежде, что так называемый дух времени не существует и что это есть выражение, придуманное учеными и поэтами. В нынешнее мое путешествие, как оно ни было кратковременно,
я убедился совершенно, что дух времени есть и что с ним бороться трудно… Легко сражаться против врагов явных и знакомых, а теперь выходят на поприще и незнакомые, и невидимые».
Погодина беспокоило положение в сопредельных и дружественных России странах: «Узы, религиозные, династические, узы предания ослабли в Пруссии. Печать становится более дерзкою день ото дня, министры и правительства подвергаются оскорблениям. Самое университетское учение приняло другое направление: молодое поколение, схватившись за Гегелевы результаты, растолковало их по-своему, пустилось зря в политику и изменяет самую жизнь». Для борьбы с духом времени профессор предлагал учредить в Московском университете кафедру философии, что «послужит громовым отводом, если она достанется благонамеренному и дельному человеку». Погодин пояснял: «Студенты, занимаясь теперь философией без руководства, бросаясь также на результаты и не прилагая спасительного труда, могут избаловаться и развратиться умственно и нравственно. Конечно, это будет на короткое время, ибо рассудок русский крепче немецкого; но зачем рисковать, зачем допускать разврат и на короткое время? Огнем не шутят, а в наше время есть много огней, разрушительнее ружейного и пушечного». Совет дельный, и в дальнейшем правительство им воспользовалось.
Одним из «благонамеренных» был профессор Шевырев. В молодости он вместе со сверстниками, Дмитрием Веневитиновым и его друзьями, которые составляли прославленный в летописи русской культуры веневитиновский кружок, стал шеллингианцем и в конце жизни с гордостью заявлял: «Я оставался, в течение всего моего университетского поприща, постоянным и добросовестным противником Гегелева учения». Шевырев писал статьи о том, что в гегелевской философии нет бога — Ивана Киреевского такие статьи бесили, а Станкевич недоумевал: «Сам говорил мне, что не знает Гегеля, а потом говорит так». В университете он спорил с Гегеле с молодыми профессорами — после его схватки с Крюковым Юрий Самарии радовался: «Шевырев подрезан с ног славно». Изучавшие Гегеля, даже Станкевич, казались Шевыреву негодяями. В московские споры он вносил дух страстного антигегельянства, что ставило его в изолированное и несколько смешное положение в университете и обществе. Остается гадать, что он думал, читая соловьевский «Феософический взгляд…», где наивный студент пел дифирамбы Гегелю. Негодовал или, подобно Погодину, уповал на то, что «рассудок русский крепче немецкого»?
Беспокойная атмосфера студенческих исканий была хорошо знакома Соловьеву: «Время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из Гегелевых сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление». Соловьев не только прочел «Философию истории», но и сделал из нее обширные выписки. Некоторое время он мечтал о соединении философии Гегеля с православием: «Религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философиею, чтобы воспользоваться средствами ее для утверждения религии, христианства». Отметим, что к тому же стремился
Константин Аксаков, которого Белинский прозвал «замоскворецким Гегелем» и в котором Герцен видел полу-гегельянца и полу-православного.
Увлечение философией не переросло у Соловьева в серьезные занятия ею. Юношеские мечты об основании новой философской системы довольно скоро померкли: «Отвлеченности были не по мне; я родился историком». Однако он на всю жизнь сохранил интерес к философии истории, к теоретическим аспектам исторического познания. От Гегеля он воспринял понимание всемирной истории как единого, органического, закономерного процесса прогрессивного развития человечества. Соловьев верил, что история подчинена законам разума и должна быть изучаема историками с точки зрения разума. Он был убежден в познаваемости исторических событий, твердо придерживался фактов в научном исследовании. У Гегеля Соловьев мог встретить апофеоз государства («Философия права»), что, разумеется, было далеко еще не тождественно построениям будущей государственной школы. Влияние гегелевских идей было столь долгим и глубоким, что поздняя работа Соловьева «Наблюдения над историческою жизнью народов» представляла собой в первоначальном виде как бы сколок с «Философии истории».
Занятия философией сблизили молодого Соловьева с наилучшими представителями тогдашнего студенчества. Так характеризовал Фет членов «мыслящего студенческого кружка», в центре которого находился Аполлон Григорьев. На антресолях дома Григорьевых на Малой Полянке сходились студенты разных курсов юридического и философского факультетов, вели бесконечные беседы, в небольших комнатах стоял стон от споров и взрывов смеха. Снизу, от родителей, прибывали подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, сухарями и сливками. Обстановка была самая непринужденная и до мелочей напоминала собрания у Станкевича. Имя Гегеля повторяли так часто, что однажды слуга Иван, подвыпив, крикнул при театральном разъезде вместо «Коляску Григорьева!» — «Коляску Гегеля!» С той поры в доме его прозвали Иваном Гегелем.
В романе в стихах «Свежее преданье» Полонский, постоянный посетитель Григорьева, нарисовал обобщенную картину московской студенческой жизни. Герой романа, Камков, прототипом которого был близкий к Станкевичу поэт Клюшников, помнил,
Что ждет его семья друзей,
Стаканы с чаем, кренделей
Тарелка, трубка, разговоры
На тысячу ладов, мечты,
Приятельские остроты,
Философические споры,
И Б., и К., и Г., и тот,
Кого он скоро обоймет
В последний раз и вдаль проводит,
И тот, кто Гейне переводит,
И тот, кто вечно всех смешит,
И тот, кто иногда грустит
О запертой на ключ невесте…
Когда они вбирались вместе —
Никто из них не козырял,
Не напивался пьянство, карты
К иным из них — увы! — поздней
Пришли — уже на склоне дней,
Когда Баконы и Декарты
И Гегели от нас ушли,
Как волны теплого тумана…
В поэтических строках, которые Ап. Григорьев находил прекрасными, даны исторические реалии; Б., К. и Г. расшифрованы в примечании самим поэтом — Бакунин, Кетчер, Герцен, но перед нами не кружок Станкевича, где не бывали Герцен и Полонский, и не кружок Ап. Григорьева, о котором едва ли и подозревали Герцен и Бакунин. Полонский словно бы соединил оба кружка и был прав.
Поразительно несовершенна память русского общества! Кружок Аполлона Григорьева занял в Москве и в Московском университете место распавшегося кружка Станкевича, он наследовал все: бдения над сочинениями Гегеля и тяжеловесный язык немецкой философии, страсть к литературе и интерес к русской истории. Просуществовав до 1843–1844 годов, новый кружок обеспечил естественную преемственность идейных исканий молодого поколения и распался только тогда, когда главным содержанием общественной жизни стали споры славянофилов и западников, споры не философские, а историко-социальные. Он заслуживает серьезного внимания, но между тем остается неизвестным и неизученным. Почему? Едва ли не потому забыт кружок Аполлона Григорьева, что не был помянут он Герценом в «Былом и думах», которые и поныне остаются во многих случаях единственным источником сведений о том замечательном времени.
Составляли кружок люди незаурядные. В нем сложилась поэтическая плеяда — Полонский, Григорьев, Фет, и последний навсегда запомнил свой восторг от услышанных впервые стихов Полонского:
Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету…
Молодежь читала «Собор Парижской бомогатери» и драмы Гюго, поклонялась французскому поэту Ламартину, платила по пять рублей за книжку стихов Бенедиктова, который, по словам приказчика книжной лавки, «почище Пушкина-то будет». Григорьев за полгода выучил немецкий язык, чтобы читать Гёте и Гегеля. Всеобщее уважение вызывал старшекурсник Константин Кавелин, когда говорил, что потратил полгода на то, чтобы прочесть и понять одно только предисловие к философии Гегеля.
Кавелин был из хорошей дворянской семьи, кружок иногда собирался в доме его родителей, и Соловьев, друживший с черноглазым спорщиком, для которого был один авторитет, домашний учитель его юности Белинский, входил в незнакомую прежде атмосферу жизни московской дворянской интеллигенции. Он был благодарен Кавелину, хотя и, став профессором, долгое время чуждался салонных споров, где блистали Чаадаев, Хомяков, Грановский, Герцен. Года за два до смерти Соловьев в одной из научных работ сделал маленькое отступление, в котором нетрудно уловить то смятение чувств, что он испытывал в молодости в изысканных литературных гостиных: «Человек входит в незнакомое общество, к которому не принадлежит по своему происхождению; он чувствует неловкость, самолюбие его страдает, — как на него взглянут: не будет ли чего-нибудь оскорбительного в приеме, не дадут ли ему чувствовать своего превосходства? И как он будет благодарен тому члену этого общества, который пойдет к нему навстречу с распростертыми объятиями, своим дружеским обращением ободрит, даст развязность, заставит забыть, что есть какая-то неравность».
К кружку Григорьева принадлежали, кроме Кавелина, и другие светские молодые люди: аристократичный Михаил Жихарев, племянник Чаадаева и близкий к нему человек; Василий Елагин, сводный брат Ивана и Петра Киреевских, сын хозяйки литературного салона Авдотьи Петровны Елагиной, дом которой, «республика у Красных ворот», был средоточием умственной жизни Москвы; князь Владимир Черкасский, который прославился деятельным участием в подготовке отмены крепостного права, а в русско-турецкую войну 1877–1878 годов возглавил гражданскую администрацию освобожденной Болгарии; остроумный Александр Новосильцев, зять Голохвастова, утверждавший, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его родственник приставлен к нему в качестве скотника; прилежный Сергей Иванов, со временем занявший голохвастовское место помощника попечителя; рослый красавец Николай Орлов, сын опального героя генерала Михаила Орлова, в 1814 году принявшего ключи от Парижа, видного декабриста, которому его брат Алексей, 14 декабря возглавивший атаку гвардейской кавалерии на декабристское каре, на Коленях вымолил неполное прощение у императора.
Избежав каземата и Сибири, Михаил Орлов безвыездно жил в Москве, дряхлел и вместе с Петром Чаадаевым составлял неразлучную пару, чья верность истинно патриотическим идеалам 1812 года служила примером «юной Москве», а непримиримая оппозиция николаевской эпохе изумляла… «Первые лишние люди, с которыми я встретился», — писал о них Герцен. Отставной генерал жаловал Московский университет, состоял членом университетского Общества испытателей природы и хлопотал об открытии в зале Общества публичных лекций. Он охотно привечал в доме друзей сына, Полонского же полюбил так, что по вечерам, прощаясь, благословлял.
Николай Орлов приходился по матери, Екатерине Николаевне, внуком знаменитому генералу Раевскому, и был полон военных историй об отце, деде Раевском и другом деде, Федоре Орлове, который в Чесменском сражении, после взрыва на бриге «Евстафий» был подобран в море со шпагой в одной руке и с ложкой яичницы в другой. Рассказывались эти истории добродушно, по-домашнему, и Сергей Соловьев ощущал знакомое с детства чувство гордости патриотизмом и доблестью россиян. Славно действовали на поле брани Орловы и Раевские! Когда же Николай Орлов говорил, что главной заслугой отца было искоренение телесных наказаний в дивизии, которой он командовал, Соловьеву делалось стыдно. К нему, да и ко многим другим членам кружка вполне было можно приложить строки «Свежего преданья»!
Конечно, к диким отношеньям,
От поколенья к поколеньям
Переходящим как завет,
Он чувствовал антипатию;
Но… как дитя, любил Россию,
И верил в то, чего в ней нет.
Иногда Николай Орлов — военная косточка — прямиком шел к цели: «Господа, позвольте доказать вам бытие божие математическим путем. Это неопровержимо». И доказывал. Сохранился его конспект, озаглавленный «По просьбе Григорьева», с предисловием: «Ты, верно, помнишь, любезный друг, что в прошлое воскресенье, когда мы все собрались у тебя, вследствие философского разговора, завязавшегося между нами, вы все просили меня систематически изложить мои взгляды на бумаге». Записи Орлова интересны в особенности тем, что они до известной степени вводят нас в суть философских бесед, позволяют представить ход мыслей Соловьева. Думали друзья об одном: «Цель моя в этом упражнении есть двоякая: с одной стороны я хочу доказать, до какой степени необходимо, в процессе умозрения и размышлений философических, советоваться с нашим природным чувством, <…> с другой стороны — цель моя дать сколько возможно разумное основание догматам нашей религии.
I. Жизнь есть первое явление, поражающее мыслителя при взгляде на все видимо существующее. II. Она есть двоякая: субъективная, или духовная жизнь человека, и объективная — жизнь всей материи. III. Результаты субъективной жизни есть наука, изящное, благое. IV. Результат объективной жизни есть: усовершенствование материального быта и применение результатов жизни субъективной к жизни материи, для ее пользы и наслаждений. V. Полного достижения как той и другой цели не существует <…>. VII. Есть одно стремление. VIII. К чему? IX. К совершенству и к полному наслаждению. X. Где же они? XI. Не знаем <…>.
Но что такое совершенство?
I. Человек мыслит, человек существует — человек может <…> III. Следовательно, совершенство Божества заключается в способности все понимать, чувствовать с бесконечною чистотою, все мочь — в высшей премудрости, в высшей любви, в высшем могуществе. IV. Как не понять тайны творения?»
Действительно, как не понять?
У Григорьева Сергей имел возможность близко узнать и Константина Ушинского, будущего первого педагога России, и Павла Леонтьева, неприятного горбуна, который стал соратником Каткова по изданию «Русского вестника», университетским коллегой и злейшим врагом ректора Соловьева. Еще не зная, что именно Леонтьев будет главной причиной интриги, которая приведет к его полной отставке от университетских дел, Соловьев записал: «Это был художник клеветы; всякий совершенно случайный поступок неприятного ему человека он перетолковывал в дурную сторону и тут не робел ни перед чем; наглость, до какой он мог доходить в клевете, ошеломляла; честный человек поникал, окончательно падал духом на первое время; тут Леонтьев являлся совершенно адским существом, ибо заставлял верить в силу зла» В студенческие годы Леонтьев казался и умным, и честным.
Что, кроме гегелевской философии, соединяло столь разных молодых людей? У князя Черкасского был ответ: господствующее направление в университете — историческое. Историей, русской и всеобщей, студенты занимались серьезно Здесь Соловьев чувствовал себя уверенно, по тогдашнему времени он был очень начитан в исторических сочинениях и в кружке Григорьева не имел соперников.
Вне кружка им был Дмитрий Валуев. Родственник Киреевских, Хомякова и поэта Языкова, красивый юноша учился курсом старше Соловьева и даже Сергея, знавшего, что такое неустанные занятия, поражал трудолюбием. У Валуева не оставалось времени на споры — он слушал лекции на двух факультетах, самостоятельно учил санскрит и древнееврейский, под руководством Погодина изучал старые бумаги, «драгоценные памятники нашей исторической и юридической старины», готовил их к изданию, несколько раз ездил в Симбирскую губернию, где везде — в монастырях, в губернском архиве, у купцов, в дворянских усадьбах и в «жалких лачугах» (так писал его друг и биограф Панов) — искал исторические материалы. «День его был разочтен не по часам, а почти по минутам, — вспоминал Хомяков о своем племяннике. — За всякое нарушение, хотя бы случайное, в порядке своих занятий наказывал он себя сокращением уже и так короткого отдыха».
На щеках Валуева горел подозрительный румянец — в 1845 году, когда Соловьев начал читать лекции в университете, он умер. Валуевский архив интересовал многих, и Соловьев, подражая летописному слогу, писал К. Аксакову (тогда они крепко дружили): «А есть, государь, у Языковых бумаги многи, что Дмитрий Александрович Валуев хотел печатать; и кабы те, государь, бумаги собрать и напечатать в изборнике, а аз бы их напечатал и свои предисловия поделал».
Студент Соловьев много читал. Кроме латыни, он знал французский, немецкий, английский, итальянский и польский языки, из иностранных авторов прочел Вико, Гиббона, Сисмонди, Гизо, Тьерри, Шафарика, Штрауса, Са-виньи, Нибура… «В изучении историческом я бросался в разные стороны», — вспоминал ученый. Несомненно, что чтение исторических работ, по преимуществу новейших, было плодотворным. К окончанию университета Соловьев имел твердую общеисторическую подготовку,
богатый запас фактических сведений, устойчивые представления о задачах исторического исследования, вкус к самостоятельным занятиям. Молодой Соловьев ценил не только содержание, но и форму исторического произведения. Для себя он перевел с французского «Историю завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри — шедевр исторической прозы.
Из авторов, писавших по русской истории, самое сильное впечатление на Соловьева, вслед за Карамзиным, произвел Иоганн-Филипп-Густав Эверс. Историк вспоминал: «Не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов», эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею».
Кто он, историк, стоявший у истоков новой исторической науки в России, крупнейшим представителем которой стал Соловьев?
Младший современник Карамзина, Эверс работал в России, был профессором Дерптского университета. В 1816 году, опережая Карамзина, он выпустил на немецком языке «Историю руссов», доведенную до конца XVII века. Общая схема русской истории заимствована была Эверсом у его учителя Августа-Людвига Шлецера, но принципиально новым был его интерес к «внутреннему состоянию народа», как оно отразилось в законодательных актах и договорах. События политической жизни интересовали его несравненно меньше, чем Карамзина. В предисловии к книге он писал: «Иные историки весьма пространно описывают государей и их походы. Я не хотел бы им следовать». Отход Эверса от политической истории имел принципиальное значение.
В 1826 году он издал работу, название которой Соловьев переводил как «Древнейшее право руссов». (Русский перевод 1835 года был озаглавлен «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии». Соловьев, вероятно, читал немецкое издание.) Под влиянием Гегеля Эверс понимал историю как «естественный ход развития рода человеческого», он пытался определить и понять закономерности исторического процесса. Цель своей работы Эверс изложил так: «Я намерен показать, на основании истории России, постепенный ход права, возникавшего из так называемого патриархального состояния гражданского общества». Проблема гражданского общества — чисто буржуазная, она коренным образом отделяет Эверса и тех. кто шел за ним, от предшествующей исторической мысли.
Если историки XVIII века и Карамзин начинали рус-скую историю с образования государства, с призвания варягов, то Эверс подчеркивал исторически долгий характер становления государственности. Возникновение государства он понимал как закономерный результат внутреннего общественного развития, схема которого укладывалась им в формулу, семья — род — племя. Схема Эверса была абстрактно-логической, она находилась в противоречии с содержанием русской истории, но сама постановка вопроса о государстве как итоге длительного развития общества была прогрессивной и научно плодотворной. Правовое мышление Эверса оказало заметное влияние на русских историков государственной школы, на ранние научные работы Соловьева. Теория родового быта, которую Соловьев развивал в магистерской, затем и в докторской диссертации, восходила к схеме Эверса, к его родовой теории.
Имели ли исторические занятия связь с запросами времени? Да, безусловно, хотя и не настала еще пора для прямо поставленных социальных вопросов. Добрые отзывы Каченовского о политике московских князей обращали внимание студентов на роль Москвы в русской истории — и не мог, к примеру, Константин Аксаков смириться с величием новой столицы, заложенной Петром I на топких невских берегах. Прекрасная Москва, хранящая дорогие русскому сердцу святыни, и нерусский Петербург — источник невероятных зол, город бездушных канцелярий. Русская удаль, доброта, ласка — в Москве. Чиновное безразличие, мертвящая форма — в Петербурге. Хорошо умели говорить об этом московские студенты! Иной договаривался до необходимости окончательного уничтожения петровского творения, возлагая, правда, надежды на волны Балтийского моря. Столицей тогда станет Москва-матушка.
Историко-литературные и географические сопоставления не затрудняли, со времени Радищева они отлились в безупречные формы. Вечная тема казалась исчерпанной, в разговорах об антагонизме Москвы и Петербурга трудно улавливалось современное звучание. Но оно было. Образ холодного казенного Петербурга — окольный выпад против николаевской регламентации и бюрократической централизации; тема старой Москвы — тема оппозиционная, своенравные изгибы ее опасно близко подходят к таким понятиям, как вольность и свобода.
В кружке Григорьева «историческое направление» смягчало разногласия по общественным вопросам, которые, разумеется, существовали, не могли не существовать — слишком несходны были уровни политической зрелости и гражданской ответственности его членов. Богатый помещик, князь Черкасский с годами пришел к убеждениям, которые смело можно назвать либеральными и антикрепостническими; Жихарев сделался консерватором на английский лад; простолюдин по происхождению и «мыслящий пролетарий» по образу жизни, Григорьев в разгар дебатов по крестьянскому делу равнодушно говорил: «Есть для нас, русских, вопросы глубже и важнее, чем крепостное право, это вопрос о нашей самобытности, о самобытности исторического пути». Миллионам крепостных душ не было дела до самобытности, даже если и таилось в ней нечто большее, чем бесправие и нищета, и благо Григорьеву, что его не услышали.
Были ли в кружке Аполлона Григорьева выработаны особые воззрения на окружающую действительность? По свидетельству Черкасского, были и сводились они к двум принципам: отвращение к практической деятельности, к государственной службе и презрение, сродни аксаковскому, к студентам-аристократам, к «аристократической шайке». Понятное, быть может, у Григорьева или Соловьева, это презрение выглядело забавно, когда его проявляли Черкасский или Елагин. Первый мотив в николаевское время, когда «не служить — значит не родиться, перестать служить — значит умереть», звучал вызывающе, но в действительности не был сильным. Жизнь распорядилась просто, и после университетских лет лишь двое, Полонский и Соловьев, избежали государственной службы, поступив в домашние учителя (чем они страшно тяготились), да князь Черкасский уехал в свое тульское имение, где занялся сельским хозяйством, — тогда-то он и приобрел знания и навыки, пригодившиеся ему в разработке крестьянской реформы.
Некоторые студенты владели тощими тетрадками, куда переписывали потаенные стихи Пушкина, Рылеева, Полежаева, крамольные безымянные статьи. В одной из таких тетрадей Соловьев впервые прочел строки, которые заставляли думать над прошлым России не меньше, чем книга Эверса, и, сверх того, связывали прошедшие века с настоящим и будущим. Суждения автора были афористичны, печальны и безнадежны: «Мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас… Посмотрите вокруг себя. Все как будто на ходу. Мы все как будто странники… Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего… Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного… Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разумения, и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из-среди нас. Мы ничего не выдумали сами и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь… Мы составляем пробел в порядке разумения… Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства».
«Кто это написал?» — спросил Соловьев. И в ответ услышал: «Чаадаев».
Чаадаев был ключевой фигурой русской общественной жизни тридцатых годов. У себя дома на Новой Басманной, где он принимал по понедельникам, в литературных салонах Елагиной и Свербеевых, в московских гостиных Чаадаев неизменно был, по словам Вяземского, «преподавателем с подвижной кафедры», проповедником «новых идей», которые он облекал в безупречно-изысканную форму. Ротмистр в отставке называл себя христианским философом, был увлечен католизцизмом. В русской общественной мысли Чаадаев был первым, кто высказал положение об «отсталости» России, причины которой он усматривал во влиянии православия, унаследованного от «жалкой, глубоко презираемой» европейскими народами Византии.
Идею «отсталости» России приняли те, кто не склонен был безоговорочно следовать уваровским восхвалениям православия, самодержавия и народности, кто не верил в «превосходство» России над Европой. Концепция «отсталости» России возникла в среде либеральной общественности в противовес казенной идеологии, ее вторичность очевидна, но в тридцатые годы она, в известной мере, была исторически обусловлена и прогрессивна, ибо способствовала осмыслению причин реального социально-экономического отставания крепостной России от развитых буржуазных государств Европы и поиску путей его преодоления. На ее основе со временем возникли разновидности раннего российского либерализма — западничество и славянофильство. Споры о «превосходстве» или «отсталости» России определили содержание идейной жизни тридцатых годов. Навязанное идеологами николаевского царствования, прежде всего Уваровым, противопоставление России и Европы прочно вошло в русское общественное сознание.
В знаменитом документе эпохи, в первом «Философическом письме», авторская дата которого 1 декабря 1829 года, Чаадаев писал о разрыве Европы и России. Его позиция — зеркальное отражение официальных воззрений. Он словно вывернул наизнанку знаменитую формулу Бенкендорфа: «Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение». Непримиримый противник российского деспотизма, Чаадаев писал об убожестве русского прошлого и настоящего, о величии Европы. Боевой офицер 1812 года, друг Пушкина, собеседник декабристов, он сурово судил николаевскую Россию, с обидным для национального чувства скептицизмом отзывался о ее будущем.
Соловьев с трудом верил, что несколько лет назад «Философическое письмо» было напечатано в «Телескопе». Учась в гимназии, он ничего не слышал об этой истории. Когда он высказал свои сомнения в григорьевском кружке, Жихарев иронически пожал плечами, а при следующей встрече показал номер журнала и дал возможность прочесть рукописную копию, сделанную с французского оригинала. Соловьев читал, сравнивал, замечал характерные упущения. Чаадаев писал: «Все политические революции были там (на Западе), в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние». В телескопском переводе стояло: «Все успехи Запада, в сущности, были успехи нравственные. Искали истину и нашли благосостояние».
Гордясь своей осведомленностью, Жихарев рассказал о событии, которое, с тех пор как в России стали читать и писать, как завелась в ней грамотность, не производило большего впечатления и не разносилось с большей скоростью: «Около месяца середи целой Москвы не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю»; люди, никогда не занимавшиеся никаким литературным делом; круглые неучи; барыни, по степени интеллектуального развития мало чем разнившиеся от своих кухарок и прихвостниц; подьячие и чиновники, увязшие и потонувшие в казнокрадстве и взяточничестве; тупоумные, невежественные, полупомешанные попы, святоши, изуверы или ханжи, поседевшие и одичалые в пьянстве, распутстве или суеверии; молодые отчизнолюбцы и старые патриоты — все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. Не было столько низко поставленного осла, который бы не считал за священный долг и приятную обязанность лягнуть копытом в спину льва историко-философской критики».
На наивный вопрос Соловьева, католик ли Чаадаев, Жихарев улыбнулся: «Зачем?» Соловьев промолчал: слово расходилось с делом. Ему были чужды безотрадный чаадаевский пессимизм, неверие в будущее русского народа, католические симпатии, не был он согласен и с утверждением о неисторичности русского народа, об отсутствии у него богатого исторического прошлого. Пусть многое из того, что писал Чаадаев, звучало как откровение, по Карамзина Сергей читал внимательно и умел гордиться русской стариной. Россиянин должен знать историю Отечества!
В то время Соловьев не подозревал, что споры вокруг «Философического письма» идут в московских салонах лет десять и что один из самых ранних и мудрых откликов принадлежит Петру Киреевскому. В июле 1833 года тот писал поэту Языкову о «проклятой чаадаевщине», которая «в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний»: «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — беспамятность; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти».
В рассказе Жихарева были любопытные подробности: о студентах, которые приходили к попечителю Строганову с изъявлением желания вступиться за оскорбленную Россию, об обыске у Чаадаева, когда был изъят ворох «Московских ведомостей», ибо это-де — «бумаги», о документе, полученном из Петербурга и прочитанном Чаадаеву московским обер-полицмейстером. По словам Жихарева, там говорилось, что статья «выраженными в ней мыслями и своим направлением возбудила во всех, без исключения, русских чувства гнева, отвращения и ужаса, в скором, впрочем, времени сменившиеся на чувство сострадания, когда узнали, что достойный сожаления соотечественник, автор статьи, страдает расстройством и помешательством рассудка. Принимая в соображение болезненное состояние несчастного, правительство, в своей заботливой и отеческой попечительности, предписывает ему не выходить из дома и снабдит его даровым казенным медицинским пособием, на который конец местное начальство имеет назначить особенного, из ему подведомственных, врача».
Было чему удивляться Сергею Соловьеву: «Философическое письмо» написал отменно умный человек. И объявить такого сошедшим с ума? Жихарев не находил в том ничего страшного. Напротив, мера, избранная правительством, могла быть сочтена за кроткую и милостивую, она не только не превзошла ожиданий и гнева большинства публики, но и не совсем им удовлетворила.
Соловьев много размышлял над «Философическим письмом», над мнениями и поступками Чаадаева, которые доносила до него московская молва. Самого «Басманного философа» он всегда избегал. С годами его взгляд на николаевскую действительность, смелым вызовом которой было письмо, помещенное в «Телескопе», почти совпал с чаадаевским, как совпадали с ним взгляды всех мыслящих и честных русских людей, но прошлое и будущее России он видел в другом свете. В конечном итоге вывод Чаадаева: «беды России коренятся в ее православии» — нелеп, ибо неисторичен. Чаадаев — хороший мыслитель, но плохой историк. Но в том нет беды. Беда — в незрелости общества, которое вместо возражений призывает на голову мыслителя правительственные кары, невпопад молчит и невпопад кричит, не привыкло думать, не чувствует иронии и не имеет достоинства. Общество, которое охотно терпело вельможных чудаков XVIII века, отторгло чудака новейшего склада. В цепи «личность — общество — государство» среднее звено — слабейшее. Не в этом ли источник российских бед?
Среди влияний, которые в студенческие годы испытал Сергей Соловьев, нельзя не заметить определяющего влияния его учителей, историков Московского университета. В личном общении с ними постигал он мастерство историка, размышлял над задачами исторического исследования и над местом ученого в обществе. Их, учителей, было двое — Крюков и Погодин.
Дмитрий Львович Крюков был самым замечательным профессором историко-филологического отделения. Первому курсу он читал древнюю историю — читал прекрасно, и его обдуманные, чуждые пустой фразы лекции открывали студентам неведомый мир Древней Индии, Китая и Египта, придавали свежесть заученным в гимназии повествованиям о верованиях древних греков, о походах персидского царя Дария или о борьбе римских патрициев и плебеев. Изложение Крюкова было щегольски точным, безупречно логичным и одновременно занимательным. Он понимал прелесть мелкого факта, незначительной детали. Свой курс Крюков начал с рассказа о первобытном миросозерцании и, перечисляя стихии, которые, по верованиям древних китайцев, составляли вселенную, вслед за «землей» назвал «горы». Юный Полонский был поражен, воодушевился и сделался усерднейшим слушателем лекций. Сильное впечатление чтение Крюкова произвело на Соловьева: «Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом, и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и потом посеял хорошими семенами, за что в вечная ему благодарность». Обаяние Крюкова было столь велико, что на младших курсах Сергей не сомневался — он будет специализироваться по всеобщей истории. Выбор, неожиданный для читателя Карамзина и Эверса, но вполне естественный для почитателя Крюкова и Гегеля.
В когорте молодых ученых, что довершали свое образование за границей, преимущественно в Германии, и приступали к преподаванию в Московском университете, Крюков был первым. Соловьев так и запомнил: «Крюков с товарищами». Их, молодых профессоров, барски поощрял Строганов, с ними враждовала черная уваровская партия, находившая, что от посылки русских ученых за границу для приготовления к профессорскому званию происходит страшное зло. Именно возле Крюкова стал складываться кружок единомышленников, который к середине сороковых годов определился как кружок московских западников. Увидеть расцвет кружка Крюкову было не суждено: он заболел неизлечимо и страшно. Соловьев узнал об этом в Париже; вернувшись в Москву, видел, как профессора водили под руки по улицам. Болезнь и ранняя смерть Крюкова выдвинули на первое место в кружке молодых профессоров Грановского, чьи лекции по средней и новой истории Соловьев слушал на втором курсе.
В глазах Соловьева (не студента, но зрелого автора записок) Крюков и Грановский, как и все даровитые профессора, занимавшиеся науками, разработанными на Западе, не были самостоятельны, они пользовались результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, и находились под влиянием Гегеля. Зерно истины в этом, надо признать, резком отзыве есть, но правильнее было бы сказать, что изучение классической древности в Московском университете Крюков поставил на европейский уровень. Он и сам — любезный, изящный, приветливый, но и снисходительно-холодный — казался воплощением совершенного европейца, чистокровным джентльменом, чему нимало не препятствовала его физиономия великоруса, румяная и белая, как кровь с молоком. Студенты прозвали Крюкова elegantissimus — элегантнейший. В григорьевском кружке он пользовался непререкаемым авторитетом и стоял на той недосягаемой нравственной высоте, на какую следующее поколение студентов возвело Грановского. В истории Московского университета имена Крюкова и Грановского по праву должны стоять рядом. В 1855 году, когда исполнилось десять лет со дня смерти любимого профессора, Фет посвятил памяти Крюкова скорбные строки:
Когда светильников пред нашими очами
Ко храму римских муз ты озарял ступень,
И чудилось невольно, что над вами
Горация витает тень…
Но светоч твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой, —
И, лиру уронив, поникла молча муза
В слезах над урной гробовой.
Со второго курса Крюков читал лекции по римской словесности, которая была его главной специальностью. За латинскую диссертацию о Таците он получил в Дерпте степень доктора философии, в Берлине он учился у Августа Бека, прославленного знатока классической филологии. На русском языке он напечатал всего несколько статей, в частности — разбор игры актера Каратыгина, причем обнаружил художественный вкус и эстетическое чутье. В совершенстве зная латынь, Крюков приохочивал молодых людей к Горацию и Тациту, его лекции имели — особенно на старшем, четвертом курсе — характер семинариев, практических занятий студентов, которым профессор помогал понять текст, истолковать его, сохранив верхность духу и букве древнего автора. Крюков учил тонкому анализу документа, без чего немыслимо научное исследование. Это была прекрасная школа работы над историческими источниками, что-либо подобное в преподавании русской истории начисто отсутствовало. Для Московского университета семинарии были новостью, которая вошла в обыкновение лишь в шестидесятые годы, да и тогда они применялись далеко не всеми профессорами. Сергей Михайлович Соловьев, например, признавал только одну форму преподавательской работы — лекции.
В декабре 1840 года Крюков уехал в Германию и Италию — изучать памятники римской древности. С его отъездом прекратились семинарии, и, временно освободившись от магического влияния личности и слова профессора, Сергей Соловьев получил возможность обдумать свое положение. Надо было наконец решить, что делать дальше — продолжать изучение древней истории или серьезно заниматься прошлым России. Вероятно, именно за время заграничной командировки Крюкова Сергей сделал окончательный выбор. Русская история! Детские пристрастия оказались сильнее юношеских увлечений… Можно, конечно, дать и более глубокомысленное объяснение.
В самом деле, разве не предопределено направление твоих научных занятий, если учишься ты на историко-филологическом отделении Московского университета, если кругом — ив обществе, и среди твоих друзей-сверстников — господствует интерес к истории, если ты родился историком. И если история, то русская. История твоего парода. Века проходят: сменяют друг друга владыки, рушатся царства, исчезают в пустынях некогда цветущие города — и крепче всего стоят на земле народы, с их правами, обычаями, верой и предрассудками. Народы не вечны. Исчезли мидяне и финикийцы, древние египтяне и эллины, исчезли правившие миром гордые римляне, исчезли терзавшие их гунны и вандалы. Память о пароде — в его истории, в трудах тех, кто когда-то собирал предания и читал старые бумаги. Русский парод молод, и, право, стоит трудиться, чтобы стать его историком. Так ли думал Сергей Соловьев, иначе ли — зачем гадать? Бесспорно одно: выбор, сделанный в последний год университетских занятий, не просто определил его судьбу, по и оказал глубокое воздействие на весь ход развития русской исторической науки.
Крюков вернулся в Москву в сентябре 1841 года, когда Сергей начал занятия на четвертом курсе. Узнав о решении талантливого студента, Крюков искренне огорчился и приложил немало усилий, чтобы обратить его к изучению древней истории. На лекции он расхвалил работу Соловьева по древнеегипетской истории: «Господин Соловьев! Я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Лестно, по Сергей знал цену своему сочинению, которое представляло собой сокращенный пересказ малой части открытий, сделанных гениальным Шампольоном, основателем египтологии. Результаты, добытые другими… Нет, у пего есть силы на большее.
Потерпев неудачу, Крюков (подлинно злой гений, но ведь он желал Сергею только добра!) избрал путь, казалось бы, безошибочный: прямо обратился к отцу студента с вопросом, не хочет ли его единственный сын заняться преимущественно древностями. Это было серьезное предложение, оно сулило поездку за границу па казенный счет, верную защиту магистерской диссертации, а там — и место в университете. Михаил Васильевич передал разговор сыну, в которого верил. Он не приневоливая, не советовал, лишь порой скорбно вздыхал: «Грехи! Грехи!» Сергей отмалчивался, он знал, что речь идет не об одних занятиях древней историей, по и о неприятном ему древнегреческом языке, о необходимости писать по-латыни, к чему он не чувствовал расположения. Тем дело и кончилось.
Па четвертом курсе Соловьев стал слушать лекции профессора русской истории Михаила Петровича Погодина. Давний интерес к истории России, широкая эрудиция, несомненные научные способности выделяли Соловьева из среды товарищей, и, естественно, профессор желал видеть его своим учеником. Общение с Погодиным стало, наряду с размышлениями над книгой Эверса, важнейшим фактом рапней научной биографии Соловьева.
Сын крепостного, Погодин учился в Первой московской гимназии (на это совпадение он сразу обратил внимание Сергея), затем в Московском университете, где к тридцати пяти годам занял кафедру русской истории. Он был одаренным человеком, способным ученым. Погодин много работал, его научные интересы были сосредоточены па раннем периоде русской истории, он занимался вопросами славянского этногенеза, возникновения государства у восточных славян, изучал состав русских летописей. Погодин был знатоком источников, ценил исторический документ и добытый на его основе исторический факт. Из предшественников он высоко ставил Шлецера и Карамзина, который, в свою очередь, приветствовал его магистерскую работу «О происхождении Руси». К научным заслугам Погодина следует отнести полемику со «скептической школой» Каченовского, в ходе которой оп показал ошибочность суждений скептиков о «баснословном» характере начальных веков русской истории. Борясь против «наветов скептиков», ученый высказывался за сближение истории с точными науками, он даже провозгласил себя сторонником «математической методы», что понимал как поиск исторических доказательств по образцу математических теорем. На практике это выражалось в употреблении им неуклюжих терминов — «микроскоп исторических соображений», «неприметный атом события». Любил оп и риторические возгласы: «Кто возьмется опровергнуть это математическое заключенно?»
Свою ученую карьеру Погодин прочно связал с Уваровым и его идеями. Университетские лекции профессора должны были убедить студентов в превосходстве России над «гниющим Западом», в незыблемости основ православия и самодержавия. В сентябре 1832 года, начиная курс лекций общим «взглядом» на русскую историю, Погодин использовал победу русской армии, русского народа над Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над Европой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?.. Вот какое будущее открывается при одном взгляде на Россию в одну минуту ее бытия!»
Смелым вкладом историка в развитие официальной идеологии
николаевского времени стал его конспективный «Очерк русской истории», который заключался словами: «Основание Александром первенства России в Европе и окончание европейского периода русской истории.
Начало своенародного (национального) периода царствованием императора Николая.
Крылов и Пушкин».
В знаменитой статье «Петр Великий», которая открывала первый номер журнала «Москвитянин» в 1841 году, Погодин развернул свою мысль и прямо связал ее с уваровскими построениями: «Император Александр, вступив в Париж, положил последний камень того здания, которого первый основной камень положен Петром Великим на полях Полтавских. Период русской истории от Петра Великого до кончины Александра должно назвать периодом европейским. С императора Николая, который в одном из первых своих указов, по вступлении на престол, повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие края, будущие профессоры, были именно русские, — с императора Николая, которого министр, в троесловной своей формуле России, после православия и самодержавия поставил народность… начинается новый период русской истории, период национальный, которому, на высшей степени его развития, будет принадлежать, может быть, слава сделаться периодом в общей истории Европы и человечества».
Лектор Погодин был плохой, и Соловьев справедливо вспоминал, что его лекции «не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных». На лекциях профессор сначала рассказывал о славянских древностях по Шафарику, потом рассматривал вопрос о достоверности русских летописей и о призвании варягов, что совпадало с темами двух его диссертаций. Остальное время проходило в чтении Карамзина, из которого выбирались места трогательные и красивые. Лекции по русской истории превращались в упражнения по риторике. Педагогическая цель, которую преследовал Погодин, оставалась непонятной. На лекциях он любил говорить о самолюбии молодых людей, не желающих трудиться во имя науки: «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить». Под «дровами» разумелась черновая работа с источниками.
Студенты откровенно не любили профессора русской истории. Соловьев, не желая, правда, преодолеть позднейшее нерасположение, писал: «Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своею грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает — Погодин скажет; что другой подумает или только скажет — Погодин сделает».
На погодинских лекциях Сергей скучал или доставлял невинное удовольствие товарищам, которые прозвали его суфлером Погодина. Едва тот начинал читать что-нибудь из Карамзина, как Соловьев (детская шалость!) подсказывал: «Вот тут, Михаил Петрович, в примечаниях есть еще важное указание». Профессор, естественно, обратил на студента внимание, пригласил домой, где принял очень благосклонно. На вопрос Погодина, чем он особенно занимается, Соловьев отвечал: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы».
Соловьев стал учеником Погодина. Под его руководством он изучал начавшие выходить в 1838 году издания Археологической комиссии — ценнейший летописный и актовый материал, работал в погодинском собрании древних рукописей, знаменитом Древлехранилище, которое пополнялось благодаря усилиям многих корреспондентов, разбросанных по всей России. Здесь он познакомился с неизвестной ранее пятой частью «Истории России» Василия Татищева. Учителя и ученика сближали не только занятия русской историей. Русофилизм Соловьева был тогда близок общественно-политическим взглядам Погодина.
Ученые занятия никогда полностью не захватывали Погодина. В молодости он был литератором, писал повести, исторические драмы, издавал журнал «Московский вестник», вокруг которого объединились члены веневитиновского кружка, по определению III Отделения, «истинно бешеные либералы», чей образ мыслей, речи и суждения отзывались «явным карбонаризмом». С годами Погодина все более тянуло к политической публицистике, он мечтал о служебной карьере. Место профессора Московского университета его не удовлетворяло. В общественной жизни николаевской России Погодин имел репутацию убежденного консерватора. Когда в 1841 году он стал издавать «Москвитянин», министр Уваров представил первый номер учено-литературного журнала Николаю I и выразил пожелание, чтобы «это новое периодическое издание, продолжая идти стезею благородного направления, могло некоторым образом служить и образцом для русской журналистики, к сожалению, столь мало соответствующей доселе собственной цели и общей пользе». Министр умел в выгодном свете представить тех, кто был ему угоден и кто в общественном мнении получил название «холопов Поречья» (по подмосковной, где Уваров отдыхал летом).
Погодин был крупной, по-своему уникальной фигурой в русском обществе 1830—1840-х годов. Плебей, разночинец, в сорок лет ставший академиком, он верил в крепость устоев николаевской России, служению самодержавию он отдал свои знания, способности, мастерство публициста. Вместе с тем Погодин противоречив, он внутренне чужд дворянскому обществу, которое, в свою очередь, едва терпело академика из крепостных. Многолетний «Дневник» Погодина хранит немало точных, грубых суждений о российском дворянстве, о людях, казалось бы, близких московскому профессору. Погодин — враг крепостного права, но только дневнику доверяет он свои мысли об «отвратительной системе рабства». Взгляды Погодина, в том числе и научные, его публицистика, его художественное творчество отразили противоречивый характер общественных отношений в России в 1830— 1850-е годы, когда на смену старым, крепостным порядкам шли новые, буржуазные. В мировоззрении Погодина буржуазные черты переплетены с охранительной, правительственной идеологией. Погодин ощущал несводимость своих взглядов к теории «официальной народности», субъективно он воспринимал это как враждебность традиционной европейской культуры дворянского общества исповедуемым им «исконно русским» началам. Русофилизм Погодина, его интерес к прошлому и настоящему славянских народов не могут быть поняты в рамках уваровской теории. В наибольшей степени противоречивый характер мировоззрения Погодина отразился в его «Историко-политических письмах и записках», которые он писал во время Крымской войны. Здесь мысль о мировом значении российской монархии неотделима от критики внешней и внутренней политики самодержавия. К этому времени Погодин оставил серьезные научные занятия историей, обратившись к «политическому журнализму».
Научная деятельность Погодина была преддверием буржуазного этапа в развитии русской исторической науки, и нет оснований, как это делал позднее Соловьев, ее перечеркивать. Не следует недооценивать и его преподавательскую деятельность в Московском университете — он был учителем Соловьева. Погодин привил ученику вкус к изучению исторических источников, заинтересовал его историей славянских народов. Монархизм Погодина, православно-националистическая окраска его убеждений совпадали с настроениями молодого Соловьева. Сходным, по-видимому, было их отношение к дворянскому обществу.
Весной 1842 года Соловьев получил неожиданное предложение от своего гимназического учителя Попова. По поручению московского попечителя Попов спросил, не согласится ли Сергей ехать за границу, чтобы исполнять обязанности домашнего учителя при детях графа Александра Григорьевича Строганова. Срок — год, жалованье — 1200 франков. Соловьев согласился. В сущности, ему предлагалась неофициальная заграничная командировка для подготовки к профессорскому званию, поскольку занятия русской историей не давали основания для подобной поездки за казенный счет. Это была инициатива Строганова, который всегда держал в поле зрения приятного ему молодого человека. Погодин, узнав о соловьевском решении ехать за границу, вполне его одобрил и долго говорил о необходимости каждому русскому посмотреть чужие земли.
На экзамене по русской истории, выслушав ответ Соловьева, Михаил Петрович обратился к начальству: «Рекомендую господина Соловьева — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы. Не скажу — лучший из всех — были прежде и другие такие же». Для Соловьева так и осталось загадкой, кого именно профессор имел в виду.
За экзаменами последовали сборы, прощание с родными, с друзьями — и почтовая карета понесла выпускника Московского университета к берегам Невы. В первый раз Соловьев видел красивую Тверь, Торжок, Вышний Волочек, в Новгороде любовался Волховом и вспоминал Марфу-посадницу. На третий день он был в Петербурге.
ГЛАВА III
В ЧУЖИХ КРАЯХ
Петербург был строг, чист, правилен. Молодого москвича поразили прямые и широкие проспекты, гранитные набережные, Нева, по которой сновали лодки, паровые катера, шлюпки; шли баржи, груженные лесом и камнем. Петербург строился, и строился он как город дворцов, неповторимый и прекрасный. Сергей ощутил себя в столице великой империи, и пустыми показались московские насмешки над чухонским болотом, нелепыми слова, не раз слышанные в университете: «Наша Москва — не чета Петербургу».
Невский ветер играл гирляндами цветов, которые образовывали изящные вензели: «А» и «Н». Александра и Николай. Только что завершились торжества по случаю серебряной свадьбы императорской четы, начался разъезд гостей, но Петербург неохотно расставался с праздником. Знатные иностранцы не торопились покидать «северную Пальмиру», где полиция была предупредительна и вездесуща, мощеные улицы подметены и украшены, свежая краска фасадов радовала глаз, а на площадях стояли легкие арки, увенчанные коронами. Несмотря на летнее время, город был оживлен, на Марсовом поле играли военные оркестры, батальоны гвардии маршировали в парадной форме, на Невском звучала немецкая и французская речь.
В Петербурге Соловьев пробыл два дня, на третий день, измученный многолюдством, белыми ночами, бессонницей, он взошел на борт парохода «Наследник», который совершал регулярные рейсы из Кронштадта в Травемюнде или, как говорили несведущие в морском деле люди, из Петербурга в Любек.
В те годы путешественники, стремившиеся в Европу, редко избирали зимний санный путь, дорогой и трудный. Почти все предпочитали плыть морем, хотя морское путешествие считалось небезопасным. В мае 1838 года в море, недалеко от Любека, загорелся пароход «Николай I», который русская печать называла «лучшим во всем мире». Пассажиры, среди которых был юный Иван Тургенев, были спасены благодаря энергичным действиям капитана и команды. Много лет спустя Тургенев вспоминал, как для предотвращения паники капитан приказал матросам обнажить кортики: «Матросы, большею частью датчане, со своими энергичными и холодными лицами и чуть не кровавым отблеском пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх».
На следующий год «Николай I» был оснащен заново. Вместе с «Геркулесом» и небольшим «Наследником» он продолжал ходить между Кронштадтом и Травемюнде. Для современников Соловьева пароходное сообщение было зримым олицетворением свершающейся европеизации России, пароходы стали символом цивилизации и прогресса. В одном из последних разговоров Пушкина с Александром Ивановичем Тургеневым, вечным путешественником, объехавшим всю Европу, была высказана надежда на пароход, «коего дым проест глаза нашей татарщине».
Весной, в апреле, когда Нева и Финский залив очищались ото льда и открывалась навигация на Балтийском море, собирались в дорогу российские дворяне, чтобы провести лето во Франции, попить целебных вод в Карлсбаде, побывать в Риме и Неаполе, полюбоваться видами Швейцарии. Главными же причинами, побуждавшими к путешествию, были праздность и то особое настроение, о котором Хомяков как-то писал другу: «Думал я нынешний год побывать за границею, подышать воздухом много-движущейся Европы (хотя и уверяю всех в качестве русофила, что этот воздух есть не что иное как сквозной ветер), однако же судьба распорядилась мною иначе. Я опять засел дома и опять еду в деревню, по летнему обычаю. А досадно. Какое-то нетерпение меня берет, какая-то тоска по художеству, по южной природе, по красоте материального просвещения. С тех пор как стихи перестали писаться, пробудилась большая жажда внешней поэзии. Главное же то, что мне хотелось бы жене показать то, что все порядочные люди видят хоть раз в жизни».
Ехали семьями, с малыми детьми и гувернерами, со слугами, многие брали с собою собственные экипажи, в которых с удобством продолжали путешествие по дорогам Германии и южной Европы. На палубе «Николая I» размещалось до тридцати господских экипажей. Оставляя Петербург, путешественники были веселы, радовались весне, солнцу, предстоящей дороге. Возвращались обычно осенью, в холод, в дождь, с пустыми кошельками. Многое повидали матросы «Николая I» и «Наследника»…
Соловьев ехал один в каюте второго класса. «Наследник» был переполнен: домой возвращались иностранные гости коронованных супругов. Во втором классе, где разместились лакеи знатных и богатых людей, шли степенные разговоры о гостеприимстве русского императора, о его семейных добродетелях, о слабом здоровье императрицы, которую старики помнили прусской принцессой, о варварстве простолюдинов, что столь явно проявилось в торжественный день 20 июня, когда отмечалось двадцатипятилетие бракосочетания Александры Федоровны и Николая Павловича, были устроены народные гулянья и раздавалось угощение. Разговоры утомляли, раздражали невежество и лакейская спесь. Соловьев долго помнил внезапное чувство одиночества — кругом были чужие люди, чужие нравы, чужой язык: «На всем пароходе я только один был русский… не с кем русского слова сказать!» Вчерашний студент Московского университета был никому не интересен. Каюта казалась ящиком, живым подобием гроба. На душе было тяжело, когда в воскресенье, 5 июля 1842 года «Наследник» взял курс на Травемюнде. День преподобного Сергия Радонежского. Именины. Милый семейный праздник. Так началось долгое путешествие в чужие края Сергея Михайловича Соловьева.
На следующий день штормило, мучила морская болезнь. Все-таки он был первым из рода Соловьевых, кому выпало плыть по морю. Недаром любил он в детстве книги о путешествиях. Пройдут годы, и его дети будут гордиться: «Мы — внуки адмирала!» Море сильно досаждало будущему зятю адмирала и — «невыразимый восторг овладел мною, когда я вышел на берег и в дилижансе поехал из Травемюнде в Любек; страна показалась мне земным раем». Почудилось, что ему двенадцать лет и он вновь прилежно рассматривает картинки «Всемирного Путешествователя». Но Любек был явью.
Старинный ганзейский город, вольный город купцов и мореплавателей, Любек когда-то имел флот, который господствовал на Балтике. О давней славе напоминали готические соборы с высокими башнями, здание ратуши с биржей, остатки средневековых укреплений. Город стоял в удалении от моря, на реке Траве-Вакениц, гавань Любека была в Травемюнде, низкие пакгаузы которого незаметно переходили в городские предместья, где стояли сказочные домики под красными черепичными крышами. «Земной рай» очаровал молодого путешественника. Недавнее волнение души представлялось чрезмерным, особенно после разговора с хозяином любекской гостиницы, добрым немцем, как он себя называл, который уверял, что всякий русский, приезжающий в Германию, пользуется в ней почетом и неограниченным кредитом. Разговор шел по-немецки, и Сергей с удовольствием отметил, что может вести его без особенных усилий. Осмотрев достопримечательности Любека, он отправился в дилижансе в Берлин.
Столица прусского королевства была скучна и пустынна. Трехдневные поиски соотечественников привели Соловьева сначала в канцелярию университета, где он справился о русских слушателях, а затем на квартиру Александра Попова, магистра юридического факультета Московского университета, чью диссертацию о «Русской правде» в отношении к уголовному праву Погодин, а вслед за ним и Соловьев, сочли «жиденькой». Но то было в Москве.
В Берлине встретились старые знакомые. Попов свел новоприбывшего с другими москвичами — с Василием Пановым, с Александром Ефремовым. Все были молоды — старшему, Ефремову, шел двадцать седьмой год, — любознательны, начитанны и неглупы. Зажили весело: ходили на лекции, вместе обедали, после обеда отправлялись на загородные прогулки. Рассуждали о берлинских профессорах, вспоминали Москву. Ефремов хорошо знал Белинского, Константина Аксакова, Бакунина, Грановского, благоговел перед памятью Николая Станкевича. Иногда рассказывал об умершем друге. Речь его делалась торжественна и печальна, он говорил высоким слогом. Сергей пытался понять причину преклонения перед человеком, который, на его взгляд, принадлежал к отсталой школе Каченовского и ничего не успел совершить. Панов и Попов причисляли себя к московским «славянам», наперебой хвалили речи Хомякова, говорили об учености Ивана Киреевского, о заслугах его брата Петра, собиравшего народные песни. Соловьев внимательно слушал. В короткое время он узнал о жизни московского общества, о летучих настроениях и оттенках мнений больше, чем за все годы студенченства и сухого общения с профессором Погодиным. Хомяковские мысли о великом будущем славянского мира были понятны и притягательны. Неясное беспокойство возникало, правда, когда на память приходили островерхие крыши Любека. Подлинно земной рай!
Главным содержанием берлинской жизни был университет. Домашний учитель Строгановых, он не мог надолго задержаться в Берлине и потому торопился увидеть европейски прославленных профессоров. Лекции слушал жадно, без особого разбора, по истории, философии, географии, теологии, филологии. Содержание некоторых лекций неожиданно оказывалось известным из прежде прочитанных книг — ни новых фактов, ни новых мыслей, и он удивлялся немецким студентам, усердно записывавшим за профессором.
Поразил Шеллинг, «великолепный старик с орлиным взглядом». Живой классик. Шестидесятисемилетний философ, к которому слава пришла еще в конце прошлого века, завершал чтение знаменитого берлинского курса лекций, начатого с большой торжественностью в 1841 году. Шеллинг излагал философию «мифологии и откровения», призывал искать истину по ту сторону разума, в особом «опыте», недоступном рациональному познанию. «Философия откровения» должна была, по убеждению Шеллинга, соединить знание и веру. Московское увлечение философией, юношеские мечты утвердить на ее основании христианскую религию вспомнились Соловьеву, когда он услышал на лекции нелестный отзыв о Гегеле, своем недавнем кумире. Содержание лекций Шеллинга показалось Соловьеву вычурным, чересчур философско-мистическим, но глубокое впечатление производила отточенная речь, величавая манера держать себя на кафедре.
Средневековую историю Европы в Берлине читал Леопольд Ранке. Высокая эрудиция, живое изложение привлекали к нему многочисленных слушателей. С поразительным мастерством разбирал Ранке источники, вчитывался в них, методично критиковал. Он был неутомимым тружеником, годами работал в немецких, итальянских, французских архивах, обладал феноменальной памятью. Созданный им в Берлинском университете исторический семинарий заложил основы научной школы, из которой вышли будущие светила немецкой науки — Вайц, Гизебрехт, Кёпке, Деннигес, Зибель. Критику источников Ранке гармонично сочетал с почти художественным рассказом о происходивших событиях, был исключительным стилистом, мастером исторического портрета. Ученики звали Ранке великим. Учитель призывал их к научной добросовестности и объективности, учил работе с историческими документами. Политические взгляды исследователя были консервативны, в тридцатые годы он издавал историко-политический журнал, специальной целью которого была борьба с либерализмом, с «разрушительными нововведениями». Ранке предупреждал немцев об опасности увлечения «иностранными доктринами», мечтал об объединенной Германии под главенством Пруссии. История переплеталась с политикой, объективность пропадала.
Внешность и манеры Ранке были своеобразны. Маркс называл его «танцующим карликом». Отзыв Соловьева был строже и несправедливее: «Слышал Ранке, коверкавшегося на кафедре, как пьяная обезьяна, и желавшего голосом и жестами выразить характер рассказываемого события». Слов нет, в Москве читали иначе, хотя и там артистизм Ранке нашел отзвук в лекциях Грановского.
В аудиториях Берлинского университета, из уст самого Ранке, Сергей Соловьев услышал его знаменитое определение основной задачи историка — показать, «как было на самом деле» («wie es eigentlich gewesen war»). Чем больше он вдумывался в эту формулу, тем меньше находил в ней смысла. Кто, в самом деле, хочет писать историю не так, как она происходила в действительности? Понятно, что Ранке предостерегал от умозрительного подхода к событиям прошлого, от строгой логики гегелевых схем. Да, история нелогична, но без философии она становится и вовсе бессмысленна. Соловьев сомневался в правоте Ранке. В молодости сомнения плодотворны.
Церковную историю читал Неандер, о рассеянности и странностях которого ходили легенды. Например, переменив квартиру, он ходил в университет мимо старой, ибо иначе рисковал не найти дороги. Соловьев уважительно слушал рассказы о христианском благочестии профессора, который в юности носил имя Давида Менделя и обратился в христианство под влиянием философии Платона. Пример Неандера учил строгой последовательности в делах и мыслях, что Соловьев редко встречал в России. Невольно он вспоминал Чаадаева, чьи странности и католические симпатии были столь известны Москве. Конечно, Чаадаев не ученый, не профессор, читающий лекции студентам, он — светский человек, остроумец, оратор Английского клуба, что, однако, не избавляет его от обязанности быть последовательным. Критика важна, в России опа — дело нелегкое и опасное, но достаточно ли для правильного общественного развития одной критики, не важнее ли дело.
Берлинские лекции были во всех отношениях поучительны для Соловьева. Он с веселым любопытством слушал занятные нападки Августа Бека на научных соперников этого выдающегося языковеда. Германская филология процветала, но по форме полемика мало чем отличалась от старых споров Погодина и Каченовского.
Ефремов изучал в Берлине географию, именно он и привел Сергея на лекцию Карла Риттера, старика, известностью не уступавшего Шеллингу и Ранке. Величайший географ нового времени был мягок, нетороплив, убедителен. Бурши прозвали его «котиком». В лекциях Риттера его русский слушатель нашел редчайший сплав географии и истории, идеи немецкого ученого оказали глубокое воздействие на становление научных взглядов Соловьева.
Риттер говорил о влиянии природных условий на уклад жизни людей, на их занятия, быт и нравы. История человечества обусловлена географической средой, особенности которой создали и продолжают создавать неповторимые формы общежития, законы и учреждения. Земля — дивный храм, сотворенный провидением для воспитания живущего на ней рода человеческого. Ученый предостерегал от заблуждения, столь свойственного лучшим умам XVIII века, которые верили в «естественного человека». Нет, нельзя говорить о человеке вообще — такого не было в прошлом и не будет никогда. Есть человек исторический, понятия, вера, культура которого сложились под воздействием той географической обстановки, той природы и того климата, в которых живет он и жили его предки. Внешний облик, темперамент, обычаи северян и южан не могут быть одинаковы; горцы непохожи на жителей равнины, степные кочевники отличны от тех, кто обитает у моря. Риттер тонко подмечал различия, учил сравнивать. История народа уникальна, как и свойства земли, на которой он вырос. У каждого народа свой путь, и продиктован он не особенностями народного духа, о чем так много рассуждали немецкие и французские романтики, а рельефом местности, очертанием береговой линии, климатом страны — условиями, неизменными в течение тысячелетий. Французские порядки хороши во Франции, но они неприемлемы в Германии, ибо противоречат ее естественным географическим условиям. Не следует подражать другим народам, подражание — всегда неудача. Главное — услышать голос родной земли, и тогда можно узнать, угадать, увидеть путь, по которому должен идти твой народ. В пути же не следует торопиться. Быстрые, насильственные превращения бессмысленны.
Медленно меняется географическая обстановка, медленны, постепенны, но неотвратимы исторические перемены в судьбах народов. Ускорить их невозможно, противодействовать им бесполезно. В переводе на язык политических понятий: «Ни реакции, ни революции». Великий географ учил социальной умеренности. География выступала в роли судьбы. Идти против географии — значило, до известной степени, идти против господа бога, создавшего море и сушу.
Риттер был ученым, в воззрениях которого география превращалась в землеведение (он и ввел в науку это понятие), в синтез собственно физической географии, этнографии, антропологии, истории, экономики и статистики. Он много сделал для развития исторической географии, для понимания взаимоотношений человека и природы. Но если в географических трудах Риттера исторический элемент иногда преобладал над естественнонаучным, то в его исторических размышлениях чувствовался подход натуралиста-систематика, склонного все объяснять влиянием географических условий.
Соловьев готовился стать историком, он хорошо знал европейскую историю и потому не мог абсолютизировать роль географической среды в развитии человечества. Но он прочно усвоил сравнительный метод Риттера, верил в его плодотворность и искал пути его применения в исторических исследованиях. Спустя много лет Владимир Соловьев подчеркивал, что, по мнению отца, «непременным условием научности должно быть
сравнительное изучение однородных явлений».
Метод был универсален. Он приводил молодого ученого и к таким глубокомысленным наблюдениям, педантично записанным: «За границею я подметил резкое различие между русским и немецким относительно пищи: русский, то есть славянин — преимущественно хлебоедец, немец — мясоедец; маленькие булочки, которые подаются к столу в Германии, приводили меня в отчаяние, ибо совестно было беспрестанно спрашивать хлеба. Французы и бельгийцы гораздо хлебоеднее немцев и здесь, следовательно, приближаются к славянам; это приближение особенно заметно в одинаково сильном употреблении медовых коврижек на востоке и на западе Европы, но не в середине».
Медовые коврижки… В семье Соловьевых любили сладкое (как любил сладости Владимир Соловьев!), и надо ли напоминать читателю, что по Европе путешествовал очень еще молодой человек, что это путешествие — странствие подмастерья. Важно одно: географию медовых коврижек Сергей Соловьев постиг самостоятельно и вполне правильно. Сравнительный метод работал!
Под влиянием Риттера сложилось у русского историка убеждение, что историю народа следует писать, помня о географии. В зрелые годы Соловьев понимал «природу страны» как ведущий, наряду с «природой племени» и «ходом внешних событий», фактор исторического процесса. Эту научную истину он вывез из Берлина.
В августе Соловьев отправился в Дрезден. Он впервые ехал по железной дороге и вполне оценил ее выгоды. Пароход и паровоз виделись вершиной технической мысли XIX века. Дрезден, резиденция саксонского короля, был замечательно красив. Соловьев любовался Цвингером. который заключал в себе несколько музеев, королевским замком, соборами «немецкой Флоренции» со знаменитой Брюлевской террасы, служившей постоянным местом прогулок, осматривал город и протекавшую внизу Эльбу. Терраса названа была по имени графа Брюля, саксонского министра, прославленного казнокрада и расточителя XVIII века. Сергей ел мороженое, легко думал о преходящей мирской славе. Приманками Дрездена были королевская опера и картинная галерея. Соловьев подолгу стоял перед картиною Тициана «Динарий Кесаря», его поразило соседство божественного спокойствия Христа с искаженным от лукавства обликом искусителя.
От русских, живших в Дрездене, Соловьев узнал, что Строгановы находятся в Теплице — чешском курорте с целебными источниками и купальными заведениями. Он отправился к месту службы.
«Опять очутился я в чужом доме, опять столкнулся лицом к лицу с русскими барами». Семейство Строгановых было под стать Голицыным.
Александр Строганов служил в гвардейской артиллерии, сражался под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, с русской армией вошел в Париж. В 1834 году Николай I сделал сорокалетнего Строганова товарищем министра внутренних дел, потом тот стал генерал-губернатором черниговским, полтавским и харьковским, а два последних года, до отставки, управлял министерством внутренних дел. Граф считал себя государственным человеком. В отличие от Сергея, старшего брата, неизменно вежливого, аристократически обходительного, Александр был высокомерен и часто груб, не терпел возражений. На воспитанника Московского университета, которого рекомендовал и которому покровительствовал брат, отставной министр не обращал ни малейшего внимания.
Графиня Наталья Викторовна Строганова была дочерью князя Кочубея, александровского министра и богача. В приданое мужу она принесла состояние и огромные связи: в начале царствования Николая I ее отец был председателем Государственного совета и Комитета министров. В Петербурге у Строгановой была блистательная министерская гостиная, где собирался высший свет. Детьми графиня занималась мало, но их нового учителя невзлюбила сразу. Соловьев платил ей тем же. Детей было двое: девочка тринадцати и мальчик двенадцати лет. Служба не отнимала много сил — пригодился опыт московских уроков.
Отставка графа Александра была внезапна и безоговорочна: Строгановы считали себя в опале. В Теплице Соловьев был разочарован, когда узнал, что они не могут жить нигде, кроме Парижа. Уезжая из Москвы, он был уверен, что его ждет Италия. «Быть за границей и не быть в Италии было очень для меня тяжело». Но пришлось смириться.
Ранней осенью Строгановы собрались в Париж. Из Теплице все поехали в Дрезден, оттуда в Веймар, а затем во Франкфурт, где место Соловьева в строгановской карете заняла ожидавшая там гувернантка. Соловьев расстался с хозяевами и поехал дальше один, о чем нисколько не жалел. Из Майнца он плыл по Рейну до Кёльна, с интересом осматривал с парохода места, овеянные романтическими преданиями. Перед ним проходила повседневная жизнь маленьких немецких государств, тихих, добропорядочных. Отрадное впечатление произвела Бельгия «по своему опрятному, чисто европейскому труду, видимому везде, и необыкновенной деятельности, движению, особенно на железных дорогах, где не довольствуются тем, что предлагают вам напитки и закуски, но также предлагают дешевые брюссельские издания французских сочинений; а города — с их геройскою средневековою историею и с их цветущим настоящим, с их свободою и благочестием, с их церквами, наполненными произведениями искусства и богомольцами, не женщинами, как во Франции, но мужчинами, и молодыми! Бельгия служила для меня утешительным доказательством, что свобода совместима с религиозностью и крепче от этого соединения, что народ, дельный по преимуществу, всегда религиозен».
Месяцы, проведенные в чужих землях, позволили всмотреться в европейский политический уклад. Любопытно было сравнивать олигархический Любек, где правили бургомистр и совет господ, с Бельгией, которая пользовалась плодами либеральной конституции, Пруссию с ее милитаристским духом и Габсбургскую империю, аристократическую и разноплеменную. Местные отличия были интересны, нигде не было ничего похожего на русские порядки.
Многое, правда, ускользало от внимания Соловьева. Наслаждаясь красотами Дрездена, он не заметил острого соперничества либералов и консерваторов в политической жизни саксонского королевства, не увидел, как правительство короля Фридриха-Августа II пытается ограничить реформаторскую деятельность ландтага, избранного на основе конституции 1831 года, и совсем не заинтересовало его настроение ткачей, горнорабочих и крестьян, недовольство и отчаяние которых несколько лет спустя привели к знаменитому дрезденскому восстанию. Военными действиями восставших руководил Михаил Бакунин, и, читая в майских газетах 1848 года описание подавления восстания прусскими войсками, профессор Соловьев против воли (тревожным, тревожным для русских ученых был 1848 год!) вспоминал случайную встречу в тихом Дрездене шесть лет назад. Бакунин яростно поносил царя, пренебрежительно отзывался о России и русских. Слушать было неприятно, и Сергей скоро отошел от громкоголосого барина, знакомого по Москве. Потом была еще одна встреча, в Париже, на лекции историка Кине, который обличал иезуитов. Бакунин и на лекции нашел повод обратить на себя внимание, кричал «Да здравствует Польша!», что для русского подданного было действием предосудительным. Впрочем, возвращаться в Россию он, кажется, не собирался.
Бельгия была воротами во Францию. Из Брюсселя железная дорога вела в Париж.
Долгие странствия расширили кругозор Сергея Соловьева. Он видел большие европейские города — Петербург, Берлин, Дрезден, Прагу, Франкфурт, Кёльн, Брюссель, привык к уличной суете, к громадным, в пять-шесть этажей, домам, где жителей было больше, чем в ином уездном городе, к общественным зданиям — дворцам, музеям, театрам, соборам, на осмотр которых уходили часы. Внешний облик столицы Франции не поразил нашего путешественника. Но Париж — Париж был неповторим! Он казался подлинным центром Европы, средоточием ее духовной, умственной, политической, промышленной жизни. Неповторима была парижская жизнь, к которой следовало присмотреться, чтобы лучше понять. К счастью, жить в Париже предстояло не один месяц.
Каким Соловьев увидел Париж 1842 года? Картина, представшая перед ним, ярче всего изображена в книге литератора Владимира Строева, изданной в том же году в Петербурге. Пребывание Строева в Париже финансировал богатейший человек в России А. Н. Демидов, князь Сан-Донато, желавший распространить в чужих краях верные и своевременные сведения о своем отечестве. Исполняя демидовскую причуду, Строев два года снабжал парижские издания материалами о России, но не преуспел, не заинтересовал французов родиной князя Сан-Донато (титул, купленный тщеславным богачом). Книгу о Париже, однако, Строев написал хорошую:
«Первые впечатления Парижа очень странны. На улицах так много народа, что ходишь лавируя, а не прямо: такой шум, что хочешь заткнуть уши. В окнах магазинов так много изящного, замысловатого, что невольно останавливаешься по целым часам, забывая, что надобно идти далее. Волны народа текут по улицам, встречаются, уступают одна другой, сшибаются и потом опять расходятся. Все беспокойны, торопливы, как во время пожара или наводнения. Кажется, что какое-нибудь общественное бедствие взволновало массу жителей, что они доживают последний час и торопятся докончить важные дела. Даже гуляющие ходят скоро. Франты курят на улицах сигары и пускают дым под дамские шляпки. Кабриолеты ездят шагом, потому что улицы слишком узки и часто между собою пересекаются; кучера не кричат строгого
пади, а учтиво просят посторониться; иначе пешеход не побоится ударить и лошадь, и кучера чем попало. С первого взгляда видишь, что Париж город людей небогатых; им дают дорогу кареты и богачи, для них заведены дешевые обеды, дешевые магазины, дешевые экипажи. Богатство прячется, не показывается в гордом блеске, чтоб толпа не стала над ним трунить или забавляться. Экипажи запряжены парочкой; четверни лошадей никогда не увидишь. Лакей одет скромно, без галунов, но изящно, в белых перчатках, в белом галстуке. Господа с бородами, а лакеи и кучера тщательно выбриты. Все наоборот…
Город неправилен, некрасив и нечист, как все старинные города, построенные мало-помалу, без определенного плана. Улицы извиваются змеею; нет трех улиц прямых и правильных. Они очень узки, и потому солнце не проникает в них; в самую лучшую погоду на небольших улицах мокрота и сырость. Дома высоки, но кажутся старыми и ветхими; их красят редко, когда вздумается самому хозяину, а полиция в это не мешается. Архитектура домов самая простая; колонны употребляются только в зданиях общественных. Стены тонки; простенки узки, весь дом, как фонарь, в окошках. Это довольно красиво…
Первые впечатления Парижа не только странны, но даже неприятны. На грязных, бестротуарных улицах теснится неопрятный народ в синих запачканных блузах, в нечищеных сапогах, в измятых шляпах, с небритыми бородами. Он валит толпою, как стена, и никому не уступает дороги. Он сам весь испачкан, весь в грязи, так ему нет дела до других, одетых чисто и опрятно. Эта неучтивость (на улицах) дошла теперь до того, что все толкаются и никто не думает извиниться…
Улины невыразимо грязны. Кухарки считают улицы публичною лоханью и выливают на нее помои, выбрасывают сор, кухонные остатки и пр. Честные люди пробираются по заваленным тротуарам, как умеют. Парижанки давно славятся искусством ходить по грязи. Надобно признаться, что они мастерицы этого дела. Иная исходит пол-Парижа и придет домой с чистенькой ботинкой. Как серна, перепрыгивает она с камешка на камешек, едва касаясь до мостовой кончиком носка; приподымет платье и не боится показать прелестную ножку…
С неопрятностию улиц яркую противоположность составляет чистота женской одежды. Парижанки славятся умением одеваться. С юности вперяют им мысль, что первый, главнейший долг женщины — нравиться. Все ее средства, все минуты, все желания, вся жизнь устремлены к этой цели. Зато что и за женщины! И сколько их! В Петербурге мужчин более женщин. В Париже наоборот: на одного мужчину приходится по нескольку женщин. Куда ни погляди, везде женщины: в магазинах, в винных погребах, в трактирах. В театрах они отворяют ложи, берегут плащи, раздают афиши и берут на водку. Они метут улицы, заменяют дворников, даже зажигают фонари на улицах…
В Париже обедают поздно, часов в шесть вечера, по окончании всех дел. Утро продолжается долго; можно кончить все дневные хлопоты и сесть за стол без забот, без мысли о послеобеденном труде. Это очень умно. С обедом наступает час беззаботной жизни, веселья и наслаждения. Разговор не прерывается во весь обед: со всех сторон сыплются рассказы, новости, приключения, анекдоты, остроты. Во время заседаний Палат идут споры о последствиях начатых прений. За столом есть приверженцы всех партий — орлеанисты, легитимисты, оппозиция, республиканцы, бабувисты. Спор завязывается быстро. Надобно видеть, с каким умом, с какими учтивыми сарказмами, с какою утонченною осторожностию они перестреливаются, перебраниваются, нападают и защищаются. Решительно, в мире нет ничего веселее парижского обеда в хорошем
кафе!..
Напрасно стал бы я описывать магическое впечатление парижских бульваров, когда идешь по ним в первый раз, вечером. Эту панораму надобно посмотреть; нельзя нарисовать или описать ее. Все дома заняты магазинами; все магазины освещены газом. Бульвары не освещены, а иллюминованы».
С первых дней Соловьев установил твердый распорядок дня, от которого не отступал все два года пребывания в Париже. Он мог быть доволен парижской жизнью. Занятия у Строгановых шли по утрам, к полудню он был свободен. Привязанности к ученикам он не чувствовал. Мальчик был неглуп, но вял, беспорядочен, откровенно тяготился учением; девочка была живее — и только. Пользы от занятий выходило немного. В полдень завтракали, и Соловьев шел в Королевскую библиотеку, где занимался часа два-три. Потом он возвращался домой, перебирал сделанные выписки, работал. В шесть часов был обед. Вечер посвящался чтению новых книг, журналов. Спать ложился рано.
Сергей твердо усвоил слышанные от Погодина слова Шлёцера, великого знатока русского летописания: «Постоянство и твердость можно приобрести, только распределив свое время точно так же, как в монастыре».
Воскресенье было днем полного отдыха от занятий, отдыха душой и телом. Утром Соловьев шел в православную церковь, что находилась на Елисейских полях. После обедни заходил к священнику Вершинскому. Здесь он попадал в привычную с детства обстановку, слушал витиеватые обличения католицизма и неверия. Временами ученый священник увлекался, предрекал нечестивой Франции гибель. Сергею он казался самодуром. У Вершинского сходились пить чай русские среднего сословия — домашние учителя, гувернеры, управляющие, все те, кому был закрыт доступ в аристократические гостиные Сен-Жерменского квартала. Среди соотечественников Соловьев встретил Сажина, с которым когда-то посещал коммерческое училище. Сажин служил гувернером у князя Гагарина, был добр, весел и беззаботен. В Париже он жил давно и охотно знакомил Сергея с городскими достопримечательностями. От священника они уходили вдвоем, шли в Лувр, облик которого пострадал во время июльских событий 1830 года. Сажин показывал следы пуль на фасаде, в залах музея рассказывал, как «в то несчастное время» многие картины были изорваны, изрезаны, расстреляны. Расстреливать картины! Не того ли хотел Бакунин для России?! Было над чем задуматься…
Курсом французской истории, написанной камнем, казалась королевская резиденция Тюильри. Доступ во дворец, который помнил Екатерину Медичи и Генриха IV, был закрыт. Часть тюильрийского парка, созданного Ленотром, была огорожена железной решеткой, в аллеях стояли часовые. Место прогулок короля. Подходить к решетке было опасно, года три назад часовой застрелил простолюдина, который прислонился к решетке, чтобы отдохнуть. Военный суд оправдал часового.
Огромный Пале-Рояль, прежний дворец герцогов Орлеанских, был отдан во власть торговцев и рестораторов, в его галереях расположились дорогие магазины. Сажин и Соловьев заходили в Пале-Рояль обедать. Соловьев с интересом осматривал комнаты дворца, в которых когда-то жил нынешний король. Сажин показывал софу, сидя на которой Лафайет решил, что герцог Орлеанский будет королем, окно, пробитое пулей во время
июльских беспорядков, балкон, куда выходил новый король и пел с народом «Марсельезу». В залах висели картины, представлявшие жизнь Луи-Филиппа. Простой офицер, он твердо стоял под градом пуль при Жемаппе. Бедный эмигрант — преподавал географию и математику в швейцарском пансионе, скитался в дебрях Северной Америки. Сажин говорил о привычках короля, о его всем известной скупости, о расточительности принцев. Многое казалось пустым вздором, сплетнями, интереснее было слушать о личной храбрости старого человека, на которого часто устраивали покушения, о повадках конституционного короля. Запомнились две истории.
Летом 1835 года Париж был возбужден. В короткое время было открыто пять заговоров против жизни короля. 27 июля появился номер сатирического журнала «Шари-вари», напечатанный красными кровавыми буквами и с карикатурою, где король был представлен ходящим по трупам. Оппозиция на свой лад отмечала годовщину прихода к власти Луи-Филиппа. На следующий день был назначен смотр войск и национальной гвардии. Министры и королевская семья умоляли Луи-Филиппа отменить смотр, но король, — здесь Сажин невольно повышал голос, — не принадлежал к числу людей, отступающих перед опасностью. Когда королевский кортеж вступил на бульвар Тампль, Луи-Филипп заметил, что из одного окна показался дым. «Жуанвиль, — сказал он находившемуся рядом сыну, — это приготовлено для меня». Раздался залп сложно устроенной адской машины. Маршал Мортье, офицеры штаба, национальные гвардейцы и зрители были убиты. Чудо спасло Луи-Филиппа и его сыновей. Это было знаменитое покушение анархиста Фиески. В Москве о нем говорили глухо и по-разному; в Париже Соловьев понял, что его симпатии всецело на стороне Орлеанской династии.
Второе происшествие напоминало исторический анекдот. Когда два года назад находившийся в оппозиции Тьер пришел к власти и составлял знаменитое «министерство 1 марта», он затруднялся в выборе министра финансов. Король, которому палата депутатов урезала расходы на содержание двора и для которого новое министерство, куда вошли шумные противники королевской политики, было личным оскорблением, воскликнул: «Затруднений не будет! Пусть представит мне, если хочет, и министерского швейцара, я согласен на все». Принимая новых министров, Луи-Филипп не скрыл дурного расположения духа и произнес историческую фразу: «Господа! Я вынужден выносить вас, выносить свой позор. Но я конституционный король, я обязан терпеть и это».
Монарх, ограниченный в своих действиях, в своем выборе… Оппозиция, открытая, не таящая себя и своих намерений… Закон, что выше и короля, и оппозиции, закон, оберегающий и короля, и оппозицию. Все охраняется законом. Высший закон — конституция, запретное в России слово. Но горе тому, кто неосторожно приблизится к решетке королевского парка! Орлеанская династия, казалось, олицетворяла во Франции законность и твердый порядок. Московские представления о слабости власти Луи-Филиппа не подтверждались. Сильный монарх — не обязательно неограниченный монарх. Неприятное королю «министерство 1 марта» продержалось у власти лишь полгода. Конечно, образ действий конституционного правителя не тот, что у самодержца. Что лучше? Сергей избегал поспешных суждений, сравнивал. Спора нет, император без всякой охраны гуляет по Летнему саду, где его может встретить последний из подданных. Но это ли главное?
Сажин и Соловьев подолгу простаивали перед собором Парижской Богоматери, удивлялись прозрачному каменному кружеву, вспоминали историю Квазимодо и Эсмеральды. По крутым лестницам они взбирались на башню, смотрели на шумный город, опоясанный стеной. Сажин часто уводил товарища к заставам, где устраивали гулянья, а вино было дешевле. В хорошую погоду уходили в Венсеннский лес — излюбленное прибежище парижских дуэлянтов. Приезжие из России обязательно бывали у заставы в Клиши, где 30 марта 1814 года русские дивизии атаковали французскую армию.
Воскресные вечера были отданы театру. Париж слыл законодателем театральной моды. Здесь проходили знаменитые премьеры, создавались и рушились репутации, здесь были собраны лучшие актеры, певцы, музыканты, танцовщики. Парижские театры делились тогда на большие, бульварные и маленькие театры предместий, куда редко заглядывали люди из общества. Публика больших театров была чопорна и разборчива, хлопали редко. Мужчины носили желтые перчатки, во время антрактов надевали шляпы и читали вечерние газеты. В бульварных театрах к желтым перчаткам примешивались черные, публика смеялась, шумела, перебивала актеров.
Сергей с удовольствием ходил в Большую королевскую оперу, постановки которой отличались великолепием и роскошью. На сцене пели прекрасный тенор Дюпре, бас Левассёр, танцевала великая Фанни Эльслер (знатоки говорили, что она сделала из качучи поэму). Первоклассная труппа была в Итальянской опере — женские партии пели Гризи и Персиани, разделившие парижан на гризистов и персианистов, блистали первый тенор Рубини, бас Лаблаш, прозванный «героем пения», его соперник Тамбурини. Итальянская опера была наслаждением редким, почти недоступным. Меломаны Европы и Америки приезжали в Париж слушать итальянцев. Билеты были дороги, да и за теми приходилось выстаивать с пяти часов, хотя спектакль начинался в восемь. Русская колония была без ума от итальянцев, но выражала и недовольство, когда пел тенор Николай Иванов. Певчий придворной капеллы, посланный для усовершенствования в Италию, он не вернулся в Россию. Голос певца отличался выдающейся красотой, а пение — прекрасной школой и вкусом. Между тем Соловьев постоянно слышал разговоры о том, что Иванов плохой актер, игра которого заключается в том, что он кладет правую руку на сердце и выставляет левую ногу вперед. Говорили, что парижане его не любят, что ему давно пора оставить Париж — перемена места принесет ему только пользу. Ясно было, что хулители охотно бы слушали Иванова в Петербурге. Соловьев спрашивал себя, почему певец не едет на родину, и не находил ответа. В первую парижскую зиму самого его часто тянуло домой.
Из больших драматических театров Соловьев предпочитал Пале-Рояль, где играла несравненная Дежазе. Актриса была стара, но отлично играла роли молоденьких женщин и особенно молодых мужчин. Она умела говорить без слов, одними движениями лица и глаз. В бульварном «Водевиле» привлекал Арналь, обладавший удивительной веселостью. Он играл в обыкновенном платье, без грима, избегал шутовских трюков, но умел насмешить до упаду. Это был идеальный комический актер. Только два раза за сезон Сажин и Соловьев были в Комеди Франсез, смотрели Рашель. Сергей признал в ней великий талант, но ее роли в классических трагедиях Корнеля и Расина показались ему тяжелым завершением воскресного отдыха. Другие театры играли пьесы новых драматургов — Гюго, Дюма, Скриба, Сулье, Ансло, Делавиня, Бояра, Теолона, Бразье. Первый ученик московской гимназии легко понимал тонкости французского языка, хотя выговор и обличал в нем иностранца. За два года парижской жизни он стал знатоком современной драматургии. Знатоком, но не поклонником!
В воскресные дни и в будни много времени уходило на просмотр газет. В Париже газеты были повсюду — с утра до вечера ими торговали на улицах полунищие разносчики, их можно было спросить в любом кафе, их читали все сословия. Первое время голова шла кругом от их обилия, от самых невероятных известий, в них помещаемых. Вскоре появилась привычка, стал отдавать предпочтение правительственному «Монитёру», с наслаждением читал маленький листок «Шаривари», который без пощады высмеивал знаменитостей: скупость барона Ротшильда, жадность первого министра маршала Сульта, беспринципность главы оппозиции Тьера. Политические карикатуры были запрещены в год покушения Фиески, но запрет ловко обходили. Газеты были разных направлений: министерские и оппозиционные, легитимистские, орлеанистские, бонапартистские, республиканские, ультрадемократические. Серьезные и бульварные. Их издавали люди богатые и влиятельные, чьи имена были известны всем, ибо все — и члены палаты пэров, и поденщики — читали газеты. Кто не умел читать, подсаживался в кафе к другим: один читает — пятеро слушают.
Журналисты имели власть, почти неограниченную, они возвышали в газетах своих друзей и казнили врагов, хвалили, клеветали, выводили в люди, губили репутации — и оставались безнаказанны. Если дело доходило до суда, то присяжные оправдывали газетчиков под тем предлогом, что не должно стеснять свободу печати. У порядочного человека, чья честь была затронута, оставалось одно средство — дуэль.
Сажин с чужих слов говорил о том, что парижские журналисты — люди продажные, что торговля журнальной совестью в Париже обыкновенна и не почитается за стыд или преступное дело, что переходы из одной партии в другую совершаются открыто, и литераторы, чья наглость не умеряется благоразумием цензуры, торгуют своими убеждениями, как лавочники мылом. Слова Сажина напомнили громкие тирады Аполлона Григорьева, громившего Греча, Булгарина, Полевого, Сенковского. В Париже деньги были силой, но парижские газеты не всегда издавались ради доходов, нередко истощали издателей. Шла борьба за политическое влияние, за избирателей, за право руководить общественным мнением. В Париже, где только мертвые не говорят о политике, газеты служили интересам партий, но не литературных, как в России, а политических. Журналисты были политиками, знаменитые министры и депутаты начинали как журналисты. Газета легитимиста Женуда не признавала Луи-Филиппа королем, называла его похитителем престола. Граф Валев-ский, побочный сын Наполеона, неумело, но упрямо вел бонапартистские издания. Министерство, душой которого был Гизо, субсидировало газету ловкого Эмиля Жирардена, во время выборов ее раздавали даром. Органы умеренной либеральной оппозиции превозносили Тьера, Одилона Барро, Дюпена.
Журнальные нравы были любопытны, но однообразны. Подробно изложив речь министра Гизо в палате депутатов, правительственные газеты печатали: «Палата рукоплещет». Оппозиционные издания передавали ту же речь скупо, бессмысленными фразами, а в заключение писали: «Палата шикает». Бульварные газеты были заполнены пасквилями, нападками на личности Писались статьи чисто выдуманные, для возбуждения паники на бирже или ужаса в гостиных. Они назывались утками (canards), без них обходился редкий номер газеты. Шли сообщения о бунтах в Мадриде, о смерти турецкого султана, о землетрясении в Америке, о грандиозных пожарах в Индии. Читатели не были в претензии, когда в следующем номере известие опровергалось.
Часто печатались небылицы о России. Публика охотно читала истории о несчастном пленнике, очутившемся в Сибири в 1812 году и вчера возвратившемся во Францию. Соловьев заметил, что в воображении французов под именем России существует какое-то небывалое царство, где возможна любая нелепость. Словно сговорившись, газеты писали о России мало и часто недружелюбно, осуждали плохо скрываемую вражду русского императора ко Франции и ее королю. Николай I представал как притеснитель Польши, деспот и гонитель католической веры. Всех шокировало заявление Виктора Гюго, что он любит Россию и чрезвычайно желает видеть Московский Кремль. Правда, знаменитый писатель добавил, что долгое путешествие в страну снегов его пугает и ему жаль оставить жену и детей.
Кое-что Соловьев понял после визита в русское посольство, куда он пришел с рекомендательным письмом от попечителя Московского учебного округа. Имя Строганова открыло двери: его принял глава посольства. Николай Дмитриевич Киселев был родным братом графа Павла Киселева, который стоял во главе министерства государственных имуществ и желал улучшить положение казенных крестьян. В Москве Соловьев по слухам, доходившим из Петербурга, с сочувствием следил за смелым реформатором. Парижский Киселев был любезен, охотно согласился дать ручательство за Соловьева, чтобы тому выдавали книги на дом из Королевской библиотеки. Внимание сановника сильно облегчало научные занятия, и Соловьев долго благодарил господина посла. В конце беседы «господин посол» не сдержался и прочел молодому человеку маленькую лекцию о великодушии государя императора, о стремлении России к европейскому миру, об алчном короле баррикад и его чудовищно преступном отце Филиппе Эгалите, якобинце, голосовавшем за казнь Людовика XVI. Такая страна и такой король недостойны иметь у себя посла российского императора. «Именно поэтому, — добавил Киселев, — и только поэтому, — здесь он многозначительно помолчал, — я являюсь поверенным в делах». Это была высокая политика. Это был полезный урок, значение которого не ослабло и после того, как Соловьев узнал, что Киселев замещал посла графа Палена, большей частью отсутствовавшего в Париже.
В настоящее время историки знают о русско-французских отношениях периода июльской монархии много больше, чем знал Соловьев. Известно, например, что правительство Николая I придавало серьезное значение антирусским высказываниям французской прессы, и в III Отделении разрабатывались планы воздействия на общественное мнение Франции. Исполнителем этих планов в Париже был Яков Толстой, в молодости председатель литературно-политического общества «Зеленая лампа», приятель Пушкина, член Союза благоденствия. После 14 декабря он отказался возвратиться в Россию из Франции, стал эмигрантом, о чем скоро пожалел, завел обширные знакомства с парижскими литераторами, политиками, журналистами, жил литературным трудом. В 1836 году посол граф Пален рекомендовал Якова Толстого, который «уже более двенадцати лет из личной склонности, по убеждению и из патриотизма занимается литературной и политической полемикой», на роль секретного агента III Отделения, чтобы тот, не возбуждая подозрений, стал бы бороться «против нежелательных уклонений в прессе», бороться «с заблуждениями и клеветой, которые не перестают распространять о нас». Толстой был вызван Бенкендорфом в Петербург, прощен, обласкан — русское посольство заплатило его парижские долги. Во Францию он вернулся в скромной роли корреспондента министерства народного просвещения, который, правда, получал тайное содержание от III Отделения.
Ловкий и пронырливый, Яков Толстой солидно поставил дело. Кроме изданий, посвятивших себя борьбе не на жизнь, а на смерть с «жандармами Европы», остальные газеты перемежали нападки на деспотизм статьями, где легко было усмотреть преданность интересам России. Гизо был уверен, что русские субсидии вдохновляют газетную кампанию против проводимого им союза с Англией и имеют целью свалить министерство.
Парижские издатели соперничали, — нет, не за русские субсидии, — за возможность намекнуть, что русское посольство готово им заплатить. Это поддерживало их кредит в банкирских кругах. Дошло до того, что Жирарден обличал бонапартиста Дюрана в том, что тот обманывает публику, хвастая, будто получает деньги от России. Дюран действительно просил денег у самого Бенкендорфа (к прошению он приложил программу газеты), но встретил отказ. Умный Жирарден был скромнее: он ходатайствовал всего лишь о дозволении его газеты к распространению в России. Его просьбу поддержал Пален, сообщавший министру иностранных дел Нессельроде: «Хотя взгляды, защищавшиеся до сих пор Эмилем Жирарденом, и не отличались слишком высокой нравственностью и он меняет их, поскольку ему это выгодно, я полагаю, что, пока он будет оставаться в тех рамках умеренности, какой придерживается ныне, и будет защищать деятельность нашего правительства от нападок хулителей, его не следует обескураживать». В петербургской газетной экспедиции стали принимать подписку на газету Жирардена, а издателя предупредили, что льгота будет действительна до тех пор, пока газета «будет вестись в том же умеренном духе, в каком ведется ныне». Предосторожность нелишняя: Жирарден, как и другие издатели, был ненадежен, открытая принадлежность к «русской партии» считалась во Франции признаком дурного тона. Яков Толстой жаловался Бенкендорфу, что «газета, превозносившая вас сегодня, назавтра мешает вас с грязью».
У парижского агента III Отделения была мечта: основать печатный орган для восхваления России и ее политики, которым он мог бы всецело располагать. Он набросал и программу издания: «Союз с Англией неизбежно приведет Францию к гибели, революция — бич рода человеческого, вместилище всех несчастий и бедствий, предвестник низвержения тронов и общественных смятений — не остановится в своем поступательном и разрушительном движении, пока Франция не будет поддержана союзом с могущественной нацией, олицетворяющей собой порядок и благоденствие. Влияние, которое Россия окажет на Францию, задержит дальнейшие успехи анархии, не ушло еще время для того, чтобы остановить развитие демагогии и неистовство цареубийц». Толстой писал об этом Бенкендорфу, пытался заинтересовать богача Демидова, даже говорил с Тьером, политическим соперником Гизо. Он уверял всех, что газета будет иметь спрос и «сами наши противники будут черпать из нее сведения». Мысль Толстого понравилась наместнику в Царстве Польском фельдмаршалу Паскевичу, и он обратил на нее внимание царя. Николай I счел излишним «отвечать на статьи и брошюры, издаваемые за границей с ругательствами на нас». Паскевичу он высокомерно писал: «Пусть лают на нас, им же хуже. Придет время, они все будут перед нами на коленях с повинной, прося помощи». Неизвестно, вспоминал ли император эти слова в разгар Крымской войны, но и в 1843 году, в самом начале которого происходила переписка с Паскевичем, это были слова недальновидные, пугающе безответственные.
Парижский сезон 1843 года прошел под знаком скандального внимания к России. В свет вышла книга известного путешественника и литератора маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Представитель старинной аристократической фамилии, чьи отец и дед погибли на эшафоте во время якобинского террора, страстный клерикал и убежденный консерватор, маркиз поехал в Россию искать доводов против представительного правления. Знатный иностранец был принят Николаем I, ему наперебой угождали русские вельможи. Кюстин видел Петербург, Москву, Ярославль и Нижний Новгород. Он был наблюдателен, умен и зол. Деспотизм николаевской империи превратил маркиза в твердого либерала. В парижском салоне мадам Рекамье он рассказывал об азиатской роскоши двора, о ненависти царя к конституции, о кулачном праве и всесилии чиновников, рассуждал о цивилизации, которая прикрывает варварство, о колоссе на глиняных ногах. Не боясь ошибиться, он предрекал гибель этого ужасного строя — русского самодержавия, которое не имеет иной опоры, кроме чиновников и страха. Но страх, как известно, не создает порядка, он только прикрывает хаос. Русская же бюрократия никогда не станет душою правильно организованного общества. Царь всесилен, он может все, однако не делает всего, что может, потому что, остроумно пояснял маркиз, «если бы он это делал часто, он не смог бы этого делать долго». Собеседники легко улавливали намек на Павла I.
Прежде чем вышла книга, стала известна фраза Кюстина: «Россия — страна фасадов». В книге маркиз добавил: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Прочтите этикетки, — у них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей».
Слухи о перемене в настроениях Кюстина беспокоили русское правительство. Когда же книга вышла в свет, царь, прочитав ее, бросил на пол и воскликнул: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем!»
Книга имела бешеный успех, в короткое время выдержала пять изданий. В Россию ее ввозили тайно, иметь запрещенную книгу считалось хорошим тоном. «Я не знаю ни одного приличного дома, где бы не нашлось сочинения Кюстина о России», — вспоминал позднее Александр Герцен.
О чем писал французский путешественник? О стране, въехав в которую «с первого взгляда видишь, что такое общество, которое существует здесь, можно терпеть только по привычке; нужно быть русским, чтобы жить в России; и, однако, внешне здесь все происходит, как везде. Различие только в основе вещей». Эта основа — деспотизм. В России одно признание тирании «уже будет прогрессом».
Что находили в книге русские читатели? Утверждения, что русский государственный строй — это «перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства», что русские ни о чем серьезном не разговаривают и что их общественная жизнь — «постоянный заговор против правды». Находили обидную правду: «Русский думает и живет, как солдат! Солдат, какой бы ни была его страна, почти не гражданин; здесь же он еще менее гражданин, чем в других местах; он — заключенный, осужденный стеречь других заключенных». Искали и находили слова надежды: «В день, когда сын Николая позволит проникнуть во все классы идее, что тот, кто командует, должен уважать тех, кто подчиняется, в России произойдет нравственная революция; и инструментом этой революции станет Евангелие». Ревностный католик, Кюстин понимал, что нравственным очищением дело не ограничится и, «не пройдет 50 лет, как либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в России вспыхнет революция, гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западная Европа чувствует еще до сих пор». Увидев то, что не увидело большинство его современников, Кюстин заключал рассказ о русском деспотизме знаменитыми словами: «Когда солнце гласности взойдет, наконец, над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется. Впрочем, содрогнется он не сильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда, наконец, истина до них доходит, она никого уже не интересует… Я уехал из Франции, напуганный излишеством ложно понятой свободы, я возвращаюсь домой, убежденный, что если представительный образ правления и не является наиболее нравственно чистым, то, во всяком случае, он должен быть признан наиболее мудрым и умеренным режимом».
Окончательный вывод маркиза де Кюстина был безотраден: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления.
Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы».
Соловьев внимательно прочел книгу французского путешественника, отметил многочисленные неточности, поспешные и невежественные суждения. О Москве Кюстин писал вещи совершенно небывалые, которые не стоило и опровергать. Забавно было читать описание Кремля: «Я никогда не забуду дрожи ужаса, охватившего меня при первом взгляде на колыбель современной русской империи. Кремль стоит путешествия в Москву!.. Если б великан, именуемый Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль сердце этого чудовища. Его лабиринт дворцов, музеев, замков, церквей и тюрем наводит ужас. Таинственные шумы исходят из его подземелий; такие жилища не под стать для нам подобных существ. Вам мерещатся страшные сцены, и вы содрогаетесь при мысли, что сцены эти не только плод вашего воображения. Раздающиеся там подземные звуки исходят, грезятся вам, из могил. Бродя по Кремлю, вы начинаете верить в сверхъестественное. Кремль — вовсе не то, чем его обыкновенно считают. Это вовсе не национальная святыня, где собраны исторические сокровища империи. Это не твердыня, не благоговейно чтимый приют, где почиют святые, защитники родины. Кремль — меньше и больше этого. Он попросту — жилище призраков…
Во всем виден беспорядок и произвол, все выдает ту постоянную тревогу за свою безопасность, которую испытывали страшные люди, обрекшие себя на жизнь в этом фантастическом мире Все эти бесчисленные памятники гордыни, сластолюбия, благочестия и славы выражают, несмотря на их кажущееся многообразие, одну единственную идею, господствующую здесь над всем: это война, питающаяся вечным страхом. Кремль, бесспорно, есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического. Слава, возникшая из рабства, — такова аллегория, выраженная этим сатанинским памятником зодчества».
Взгляд автора был поверхностен, он смешивал правительство, народ, страну. Его сообщения о русском быте были просто смешны. Дикость русских в представлении Кюстина доходит до того, что «предмет обстановки, которым меньше всего пользуются в русском доме, — это кровать». Его знакомый князь «проводит ночи на деревянной скамье, покрытой ковром и несколькими подушками. И в данном случае дело объясняется вовсе не причудой старика. Иногда можно встретить парадную постель — предмет роскоши, который показывают из уважения к европейским обычаям, но которым никогда не пользуются». Французский маркиз, судивший о России, напоминал порой русского священника Вершинского, судившего о Франции. Но как опровергнуть главный вывод Кюстина? Что можно сказать о русской свободе? И разве нет в России деспотизма?
Соловьев многого не знал. Он не знал, что поэт Жуковский в сердцах обозвал Кюстина «собакой», однако добавил: «Нападать надобно не на книгу, ибо в ней много и правды, но на Кюстина». Не знал, что князь Вяземский взялся за перо, чтобы ответить Кюсгину, но бросил статью на полуслове, что дипломат и поэт Федор Тютчев писал: «Книга г. Кюстина служит новым доказательством умственного бесстыдства и духовного растления, отличительной черты нашего времени, особенно во Франции».
Осенью 1843 года в Париже на французском языке было издано «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина, озаглавленного «Россия в 1839 году». Автором брошюры был Николай Греч, чье усердие служило видам III Отделения. По словам Греча, нет ничего выше русского правительства и русской системы управления. В России думают и говорят не менее свободно, чем в Париже, Берлине и Лондоне. Свобода мнений предоставлена в стране каждому, а цензура существует исключительно в интересах самих подданных императора. Действия правительства безупречны: ссылка Лермонтова на Кавказ пошла на пользу поэту, его дарование развернулось там во всей широте. В Париже никто не покупал книги Греча, его беспардонная ложь вызывала негодование. В декабре 1843 года Александр Тургенев сообщал Вяземскому, что русские и полурусские дамы, жившие в Париже, получили визитные карточки, где значилось: «Г-н Греч, первый шпион его величества российского императора».
Холопский ответ Греча оставил Соловьева равнодушным. Ему важно было самому отыскать точные возражения Кюстину. В Королевской библиотеке он просматривал старые журналы, читал мемуары французов, побывавших в России. Ему принесли книгу литератора Ансло, приезжавшего на коронацию Николая I в свите маршала Мармона. В России Ансло проводил ночи на балах, утром спал, а днем обедал. Книга «Шесть месяцев в России» была невероятно слаба, автор не умел ни описать виденного, ни объяснить причин его, ни означить последствий. Ансло все сравнивал, но сравнения были пустыми — он хотел, чтобы всюду была Франция. Самое полезное он находил вредным, ибо забывал, что он в России. Суждения Ансло были узки, ограничены его чувствами истинного француза, его знанием французских нравов а обычаев, французской истории и политики и полным незнанием России. Суждения Ансло были
национально ограниченны. Так и в книге Кюстина, где жесткая правда часто соседствует с откровенной глупостью, очевидной для русского читателя.
Сергей Соловьев не просто понял основную ошибку Кюстина, он, казалось, нашел истоки французской неприязни к России, больше того — нашел ключ к объяснению хода европейской истории XIX века. Ключ этот — национализм, дурная сторона которого — закоренелые предрассудки толпы, положенные в основу политики, низкие страсти, неподвластные доводам рассудка. Однако Сергей был бы плохим последователем Гегеля, если бы не открыл другой, светлой стороны, если бы не увидел в национализме единства борющихся противоположных начал.
Повсюду в Европе народы рвали путы идущей из средневековья династической политики, требовали пересмотра границ, установленных тайными соглашениями государей. Процесс становления национальных государств был необратим. Последний пример — бельгийская революция 1830 года, когда было уничтожено голландское господство и создано независимое государство, трудолюбивая Бельгия. На очереди — объединение Италии. Кто из студентов Московского университета не слышал о тайном обществе «Молодая Италия»? В Париже о деятельности Мадзини и его соратников рассуждали открыто, им сочувствовали. Не скрывали французы и своего сочувствия к Польше, лишенной государственности и разделенной между Австрией, Пруссией и Россией. Решение Венского конгресса противоречило духу времени. Стало быть… Нет, не дело домашнего учителя Строгановых осуждать императорскую политику в Царстве Польском. Не дело, хотя французские газеты полны рассказами о преследовании католиков, об арестах польских патриотов, о гонении на польскую культуру.
Французская враждебность к России была мифом или, что точнее, одним из способов утверждения национальных ценностей, исторических, политических, религиозных, культурных.
Да, была высокая политика, о которой можно было догадываться, были обвинения французской, английской, немецкой печати в стремлении России к гегемонии в Европе. Справедливые обвинения? Старшее поколение французов преследовало видение: казачьи биваки на Елисейских полях. Русские в Париже! Молодежь, воспитанная в преклонении перед памятью Наполеона, мечтала о реванше. Вновь французы в Москве? Из памяти не изгладились рассказы отца… Три года назад король послал принца Жуанвиля на остров Святой Елены, останки Наполеона были перевезены во Францию и торжественно похоронены в Доме Инвалидов. Шпага императора вернулась во Францию под крики толпы: да здравствует Наполеон! Правительство Луи-Филиппа притязало на наследие Империи.
Мир европейской дипломатии был таинствен, сведения, получаемые из газет, из отрывочных разговоров за столом у Строгановых, лишь отчасти раскрывали причины стойкой враждебности к России. Сергей все больше убеждался, что совсем не внешняя политика определяла тон парижских газет и действия партий в палате депутатов. Император Николай действительно не питал дружеских чувств к Орлеанской династии, в его глазах незаконной, похитившей престол у старшей ветви Бурбонов, при случае зло отзывался о близком знакомстве «июльских рыцарей» с государственной казной. Но французскому королю, жившему от покушения до покушения, терпевшему нападки печати, вынужденному давать министерские посты своим политическим противникам, Николай I был полезен; ему нужен был внешний враг, этот холодный и жестокий император северных варваров, всегда готовых ринуться на прекрасную Францию. Чем больше внешних врагов, чем они страшнее, тем слабее оппозиция Луи-Филиппу, тем достижимее национальное единство. Мудрые заветы истории, принципы великого Наполеона, воевавшего со всей Европой, — их никому не дано опровергнуть.
Глубинную связь внешней и внутренней политики Соловьев понял еще на лекциях Грановского. В Париже он долго обдумывал иной, философский взгляд на непреходящую враждебность Европы к России. Усвоенный благодаря Шевыреву и Погодину, этот взгляд объяснял все ненавистью старого, сходящего с исторической арены романо-германского мира к миру новому, славянскому, которому принадлежит будущее. Неожиданно было слышать высказывания, знакомые со студенческой скамьи, из уст Мицкевича. Гениальный поэт, вынужденный оставить порабощенное отечество, читал в Коллеж-де-Франс лекции по истории славянских литератур. Скорбный, не от мира сего, Мицкевич был прекрасен. По-французски он говорил медленно, с заметным акцентом, но на слушателей сильное впечатление производили его слова об избранности польского народа, в исторической судьбе которого полнее всего выразилась христианская идея, о польском мессианизме, призванном обновить мир. Автору «Феософического взгляда на историю России» суждения Мицкевича не казались новыми, не столь уж важно, что русско-православной оболочке поэт предпочел польско-католическую — суть оставалась неизменной. О чем-то похожем говорили в Берлине Попов и Панов. Разумеется, тогда речь шла о миссии русского народа.
В грядущее величие славянства хотелось верить. Но гибель романо-германского мира… Гибель Европы? В Париже это звучало смешно. С научной точки зрения подход, которому учил Риттер, требовал сравнения, возможного лишь при многообразии исходных данных, даже если эти данные — народы и их история, требовал не отрицания чужого опыта, а его усвоения. В семье народов, как в гимназии, преуспевают первые ученики, любознательные и прилежные. Твердая основа национальной гордости — упорный труд, народное трудолюбие. Любовь к родине не должна основываться на унижении других народов. Путь подозрительности и взаимных обвинений бесплоден и опасен. В цивилизованной Европе, рассуждал Соловьев, не должно быть споров о превосходстве одного народа над другим. Русские — европейцы. Русский патриотизм столь же законен, как и национальная гордость французов. Только будущее покажет, чей вклад в прогресс человечества будет весомее.
Хорошо думалось во время прогулок. Город был исхожен вдоль и поперек, но нигде Соловьев не ощутил враждебности парижан, будто вовсе и не читали они газетных выходок против России и русских. Женщины были прекрасны («Сильно понравились мне жантильные француженки», — позднейшее признание); мужчины обходительны, веселы, легко вступали в разговор. Все с уважением относились к форме, что Сергей странным образом испытал на себе, — он и в Париже ходил в серой студенческой шинели. Узнав, что имеют дело с русским, парижане удваивали любезность.
Власть денег в Париже была сильна, а у подданных царя они водились. В магазинах Пале-Рояля высокая политика не играла роли. Здесь национальные чувства французов легко мирились с дурным выговором иностранцев, их нередко странной одеждой и манерами. О да, «эти варвары» достойны сожаления, но наш долг — цивилизовать их, дать им понять, что значит безупречный французский вкус, непогрешимая парижская мода. Их дело — платить. В Париже любая безделушка выглядела замечательно; все было мило, все изящно и на все — тройная цена. Парижский торговец не упускал своей выгоды, умел услужить и напоминал Сергею московских приказчиков — из тех, кто был отесан Коммерческим училищем.
Наблюдая парижскую жизнь, Соловьев пытался понять душу Франции, разобраться в особенностях французского национального характера — и не преуспел. До конца своих дней сохранил он влечение к великой тайне, что скрыта в русской, польской, немецкой или французской душе, много думал об этом и кое-что написал. Его историко-психологические этюды отличались глубокомысленностью, часто были остроумны и изящны; никто не сделал большего в постижении души русского народа и русского национального характера, но и никто столь остро не чувствовал, что их строгое, подлинно научное изучение невозможно. Что-то главное неизменно ускользало, оставалось неопределенным само понятие — «национальный характер». Незадолго до смерти, в последней крупной работе «Император Александр I: Политика — Дипломатия», он предпринял свою, быть может, самую удачную попытку рассказать о национальном характере. Как всегда, он использовал сравнительный метод, но писал — и с блеском! — о французском народе: «Энергический, страстный, быстро воспламеняющийся, способный к скорым переходам от одной крайности в другую, он употребил всю свою энергию на то, чтоб играть видную роль в обществе, приковывать к себе взоры всех. Никто больше и лучше его не говорит; он выработал себе такой легкий, такой удобный язык, что все принялись усваивать его себе, как язык преимущественно общественный. У него такая представительная наружность, он так прекрасно одет, у него такие изящные манеры, что все невольно смотрят на него, перенимают у него и платье, и прическу, и обращение. Он весь ушел во внешность; дома ему не живется; долго, внимательно заниматься своими домашними делами он не в состоянии; начнет их улаживать — наделает множество промахов, побурлит, побушует, как выпущенный на свободу ребенок, устанет, потеряет из виду цель, к которой начал стремиться, и, как ребенок, даст себя вести кому-нибудь. Но зато никто так чутко не прислушивается, так зорко не приглядывается ко всему, что делается в обществе, у других. Чуть где шум, движение — он уже тут; поднимется где какое-нибудь знамя — он первый несет это знамя; выскажется какая-нибудь идея — он первый усвоит ее, обобщит и понесет всюду, приглашая всех усвоить ее; впереди других в общем деле, в общем движении, передовой, застрельщик и в крестовом походе и в революции, опора католицизма и неверия, увлекающийся и увлекающий, легкомысленный, непостоянный, часто отвратительный в своих увлечениях, способный возбуждать к себе сильную любовь и сильную ненависть,
страшный народ французский! Среди угловатого и занятого постоянно только своим делом англичанина; ученого, трудолюбивого, но слабого и вовсе не изящного немца; живого, но неряшливого и разбросавшегося итальянца; молчаливого, полусонного испанца, — француз движется неутомимо, говорит без умолку, говорит громко и хорошо, толкает, будит, никому не дает покоя. Другие начнут борьбу нехотя, по нужде, француз бросается в борьбу из любви к борьбе, из любви к славе. Все соседи его боятся, все с напряженным вниманием следят, что он делает: иногда кажется, что он угомонился, истомленный внешнею борьбою, занялся своими домашними делами; но эти домашние занятия кончатся или революцией), которая возбудит движение по всему соседству, или военным деспотизмом, который, чтоб дать занятие и славу народу, не оставит в покое Европы».
После России — что скрывать — великий историк больше всего любил Францию. Воспоминаниями о Париже навеяно его признание: «Чистый славянин, получивший воспитание русское, свободное, без гувернера-иностранца, я свободно мог предаваться влечению славянской натуры, вследствие чего не люблю немцев и сочувствую романским кельтическим народам… Читать французскую, английскую и итальянскую книгу для меня так же легко и приятно, как читать русскую; читать немецкую книгу — труд тяжелый».
Одним нехороша была парижская жизнь молодого Соловьева — зависимостью от Строгановых, чье настроение определяло, останется ли он на другой год в Париже, как долго пробудет летом на богемских водах, получит ли возможность повидать южную Германию или заехать в Прагу. Граф Александр Григорьевич соперничал с домашним учителем в наблюдательности, фланировал по улицам, схватывал резкие черты нравов, рассказывал о них за обедом. Когда прискучило, стал посещать анатомические лекции. Соловьева он поразил тем, что за два парижских года ни словом не обмолвился о вере, хотя аккуратно ездил по воскресеньям в православную церковь. Среди французов граф выделял Тьера, тот тоже был отставным министром. Графине Строгановой занятия мужа казались пресными, ей недоставало привычной атмосферы сановного Петербурга. Утешение она нашла в салоне Софьи Петровны Свечиной, пожилой русской дамы, давно жившей в Париже.
Дочь екатерининского статс-секретаря Соймонова, рано выданная замуж, Софья Петровна, не обретя счастья в супружестве, впала в мистицизм, модный в александровское время. Ее наставником стал Жозеф де Местр, сардинский посланник в Петербурге, враг Наполеона и знаменитый католический писатель. Свечина много читала, размышляла, писала по-французски сочинения на благочестивые темы. В 1817 году она переселилась в Париж, перешла в католичество, окружила себя иезуитами и занялась делами милосердия. Ее парижский салон выделялся своим клерикальным направлением, здесь собирались строгие легитимисты, защитники старого порядка и католической веры, недовольные Луи-Филиппом и Гизо, в действиях которого они находили недостаточное уважение к духовенству. Посещение салона Свечиной означало успех в высшем свете, ее внимание ценили молодые люди, которым она покровительствовала, граф Монталамбер и Альфред Фаллу делали видную карьеру в рядах легитимистской оппозиции. Софья Петровна была умна, живо интересовалась литературой, политикой, социальными вопросами. Александр Иванович Тургенев признавал, что в беседе с ней он отводил душу. К знатным соотечественникам она проявляла особенное внимание, поддерживала разговор на любые темы, неизменно сводя его к уверению, что вне католицизма нет спасения. После сближения Строгановой со Свечиной распространился слух, что графиня приняла католическую веру.
Среди русских парижан история наделала много шума. Поневоле осведомленный о скандале в доме Строгановых, Соловьев уклонялся от его обсуждения, для себя же усвоил простые истины. Во-первых, он вновь убедился в значении молвы, общих толков, которые и в Париже заменяли русским общественное мнение. На правах домашнего человека, от которого графиня не считала нужным таить свои взгляды, он знал вздорность слухов, нелепость обвинений. Опровергать их, однако, было бесполезно — общее убеждение не считалось с разумными доводами. Соловьев получил комментарий к чаадаевской истории, которая со слов Жихарева казалась невероятной. Кто в Москве не слышал о чудачествах Петра Яковлевича? И все верили. Умнейший человек, чьи взгляды и поступки расходятся с общепринятыми, бессилен перед мнением толпы.
Во-вторых, перед ним открылись маленькие секреты французской политической жизни. Естественно, он не имел доступа к Свечиной, зато некоторые посетители салона бывали у Строгановых, и он
их хорошо узнал. Альфред Фаллу громил инструкции министерства просвещения, отстаивал принцип свободы обучения, что звучало либерально и привлекало Соловьева до тех пор, пока из частных разговоров он не понял, что свобода обучения — путь к усилению влияния католического духовенства на юношество. Сам Фаллу просто повторял затверженное с чужих слов, за его спиной не раз слышался диалог, придуманный драматургом
Скрибом:
«— …Он болван, но он мой дядя, мне необходимо его куда-нибудь сунуть.
— Что он умеет делать?
— Ровно ничего.
— Пустите его по народному образованию».
Третья истина была печальна. Космополитизм русской знати, что когда-то так поразил в голицынском Урюпине, поистине не имел пределов. Свечина была далеко не худшим образцом полного отчуждения от России. В январе 1844 года Соловьев не сдержался — горько было его русской душе — и написал Погодину: «Скажите мне, господа цивилизованные европейцы! Почему вы, замечая с таким тщанием все полезное и бесполезное на Западе, до сих пор не заметите одно — того, что здесь каждый народ гордится своею народностью, любит и хвалит ее; отчего одни русские лишены права делать то же? Кто из нас более европейцы — вы ли, которые разнитесь с ними в самом существенном, или мы, подражающие им в этом. Вы, приезжая из Парижа, хотите тотчас похвастаться глубокомысленным суждением о Тьере и Гизо, новым фраком и цепочкою; зачем вы не хотите позволить и нам также показать парижский тон, ставить свое и своих выше всего на свете, как то водится в парижском обществе? Нет, милостивые государи, вы не убедите меня, что я рискую возвратиться из Европы с варварскими понятиями и квасным патриотизмом; у меня есть доказательство моего европеизма: когда я говорю с европейцем, хвалю, защищаю Россию, то он понимает меня, находит это естественным, ибо сам поступает так же в отношении к своему отечеству; но вас, позорящих отчизну, вас не понимает он, считает уродами, презирает». Гневная тирада была порождена постоянными размышлениями о народности, о патриотизме и национализме; истину, в ней заключенную, он выстрадал и умом, и сердцем. К Сергею приходила зрелость, безобразные крайности, свидетелем которых он был, больше не толкали к наивному русофилизму, чувство национального достоинства уживалось с сознанием равенства прав всех наций в Европе.
У истории с обращением графини Строгановой в католичество было московское продолжение. Прослужив два года домашним учителем, Соловьев расстался с хозяевами по собственной воле и по совету графа Сергея Григорьевича, ждавшего его в Москву. Граф Александр остался им чрезвычайно доволен, уговаривал задержаться в Париже еще на год, прибавлял, что его отъезд причинит семейству большие неудобства, что они не успеют сыскать другого учителя. В Париже Соловьеву делать было решительно нечего, научные занятия звали в Россию, но если бы не настойчивость московского попечителя, он бы уступил. В Москве Сергей Строганов однажды наедине спросил: «Скажите, пожалуйста, справедливы ли слухи, которые носятся здесь, что графиня Наталья Викторовна приняла католицизм?» Застигнутый врасплох Соловьев пересказал то, что говорилось русскими в Париже. Это была ошибка. Старший брат известил младшего, тот ответил, что молодой человек ничего не понял. Он рассердился так сильно, что лет пятнадцать говорил, что Соловьев человек недаровитый и не может оказать больших услуг русской науке, что в Париже он занимался не тем, чем бы следовало. По обычаю всех Строгановых, граф был меценатом, собрал прекрасную библиотеку и недурно знал историю. К его мнению в сановном Петербурге прислушивались. Когда стала выходить «История России с древнейших времен», Александр Строганов сделался ее внимательнейшим читателем, в письмах к брату подвергал тома Соловьева суровому разбору. Корректный Сергей Григорьевич обыкновенно сообщал: «Вон какое длинное письмо написал брат о вашей книге! Он до вас не охотник, но он не знает настоящего положения науки, судит по-старому». Только в 1855 году, после выхода пятого тома, старший Строганов сказал: «Брат пишет, что прочел ваш пятый том, но не прибавляет никакого об нем суждения». Соловьев одержал победу, оценить которую мог только он один.
Двухлетнее пребывание за границей оказало немалое воздействие на развитие научных и политических взглядов Соловьева. Завершается его становление как ученого европейской культуры, глубоких знаний и разносторонних интересов, четче выявляются его политические симпатии. Во Францию он приехал поклонником исторических трудов Гизо, в Париже легко сделался, по его словам, «приверженцем Орлеанской династии и министерства Гизо», иными словами — либералом и сторонником буржуазной монархии. В России с такими взглядами легко было пропасть, в пестром же спектре французских партий Соловьев не принимал даже робкую династическую оппозицию и был так умерен, что не мог понять, «чего еще французам нужно более того, что они имели».
Побывав в палате депутатов, он неприятно поразился шуму, суете, невниманию к ораторам: сказывались строгие российские представления о порядке. Палата депутатов напоминала театр, где идет плохой спектакль. Среди актеров он выделил невзрачного Тьера, который говорил живо, весело, убедительно, умел увлечь, заговорить, задобрить, но не производил впечатления государственного человека. Иное дело — Гизо. Небольшого роста, худощавый, больше похожий на англичанина, чем на француза, министр не блистал цветами красноречия, был суров, точен, неумолим. Большинство палаты повиновалось его воле, а он хладнокровно отражал нападки оппозиции и был похож на генерала, побеждающего в сражении.
В глазах Соловьева Гизо воплощал силу либерализма, был идеальным проводником тех подлинно либеральных начал, о которых русский историк много позднее написал в знаменитом рассуждении о достоинстве и обязанностях настоящего правительства: «Чтоб не бояться ничего, правительство должно быть либерально и сильно. Оно должно быть либерально, — чтоб поддерживать и развивать в народе жизненные силы, постоянно кропить его живою водой, не допускать в нем застоя, следовательно — гниения, не задерживать его в состоянии младенчества, нравственного бессилия, которое в минуту искушения делает его неспособным отразить удар, встретить твердо и спокойно, как прилично мужам, всякое движение, всякую новизну, критически относиться к каждому явлению. Народу нужно либеральное, широкое воспитание, чтоб ему не колебаться, не мястись при первом порыве ветра, не восторгаться первым громким и красивым словом, не дурачиться и не бить стекол, как дети, которых долго держали взаперти и вдруг выпустили на свободу. Но либеральное правительство должно быть сильно — и сильно оно тогда, когда привлекает к себе лучшие силы народа, опирается на них; правительство слабое не может проводить либеральных мер спокойно: оно рискует подвергнуть народ тем болезненным припадкам, которые называются революциями, ибо, возбудив, освободив известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имеет право быть безнаказанно либеральным, и только люди очень близорукие считают нелиберальные правительства сильными; думают, что эту силу они приобрели вследствие нелиберальных мер. Давить и душить очень легкое дело, особенной силы здесь не требуется».
Соловьевское увлечение Гизо — обычное и очень распространенное заблуждение современника. Проницательный в других случаях, он не увидел, что прямолинейная политика министра была направлена именно против участия «лучших сил народа» в делах государственных и в конечном счете привела к революции 1848 года и падению Орлеанской династии. Упрямо цепляясь за высокий имущественный ценз, который ограничивал число избирателей, полноправных граждан Франции, Гизо пренебрегал золотым правилом либерализма: своевременная уступка, политический компромисс в некоторых случаях равнозначны победе. Вместо избирательной реформы он бросил знаменитую реплику: «Обогащайтесь — и вы будете избирателями!» Сила, которую демонстрировал министр, переходила в совсем нелиберальное упрямство, в реакцию. Достойно упоминания, что и после февральской революции 1848 года, когда были изгнаны и Луи-Филипп, и Гизо, Соловьев видел причину событий в слабости короля, который «не понимал, что для Франции нужно правительство сильное, король, сильный своими достоинствами, энергический, способный стоять наглядно в челе народа, способный давать чувствовать, что сильная рука правит, направляет и умеряет движение».
Сильное и либеральное правительство — твердое убеждение Соловьева, главный политический урок заграничного путешествия. Этому он впоследствии учил других — с профессорской кафедры, в журнальных статьях, в частных беседах и на уроках, которые давал наследнику российского престола. Слушатель лекций историка, а затем его единомышленник и университетский коллега Чичерин прекрасно подытожил: «Либеральные меры и сильная власть». История не прощает правителям ни слабости, ни реакции. Стоит забыть эти принципы, и приходит ужас революции: гильотина, проскрипции, массовые казни, сожженные дворцы и расстрелянные картины.
Соловьев не знал предсказания Якова Толстого о скором падении Орлеанской династии, а если бы и знал, вряд ли поверил — в последние полвека в Париже было пролито столько крови, сменилось столько режимов, что мысль о новом перевороте выглядела чистым безумием; озлобленные заговорщики недаром устраивали покушения на короля, они бессильны, неспособны изменить ход событий и полагаются на случай, на слепую удачу — ведь наперед ясно, что судьба Франции не зависит ни от бомбы, ни от кинжала, июльская монархия прочна. А российская? Пятьдесят лет — большой срок, но Сергей молод, здоров и вполне может стать свидетелем того, сбудутся ли слова Кюстина о революции в России, более страшной, чем французская. Правительство Николая I сильно, но никому на свете, даже бесстыдному Гречу, не придет в голову назвать его либеральным. Кюстин прав, в России царит деспотизм, император — всесильный и страшный деспот…
Время, проведенное в чужих краях, не прошло даром. Вчерашний студент больше не верил в то, что между царем и народом существует духовная связь. В Париже, где родилась теория «завоевания», объяснявшая появление классов и их борьбу, сопровождаемую насильственными переворотами, где он мог видеть ее знаменитейших представителей Гизо, Тьера, Минье, Мишле, где жил кумир юности, отец «классовой борьбы» в исторической науке, Тьерри, ослепший от чтения рукописей, разбитый параличом, но продолжавший работать с помощью преданных учеников, — в Париже поблекли краски погодинской теории «призвания», и повзрослевший Соловьев с досадой вспоминал, как он писал для профессора Шевырева, что у славян никогда не было неравенства, и выводил отсюда совершенную невозможность революции. Господи, да где и когда было равенство! Социальные контрасты неизбежны, более того, необходимы, ведь противоречие — источник развития. Важно не отсутствие общественных противоречий, важно — как, в какой форме они разрешаются. В России все исходит от императора, все, пожалуй что, и равны — в рабстве. Французские карикатуры изображали императора Николая I великаном, стоящим в окружении склонившихся подданных — пигмеев.
Ни в Париже, ни позже, в России, Соловьев не переставал быть монархистом; вдумчивый последователь Риттера, он не задавался несбыточными мечтаниями о скорых преобразованиях на английский или французский лад, о заимствованиях, не подкрепленных «природой племени» и «природой страны»; он не только изучал, но и чтил национальные и географические особенности. На огромных пространствах России — «хоть три года скачи» — нескоро свершится то, на что сетовал великолепный Дюма: «Франция — страна столь прозаическая, а Париж — город столь цивилизованный, что во всех наших восьмидесяти пяти департаментах… вы не найдете даже небольшой горы, на которой не было бы телеграфа, и сколько-нибудь темной пещеры, в которую полицейский комиссар не провел бы газ».
Соловьев верил, что история не делает скачков, что прочно только медленное развитие… Но развитие! В России же — рабство и мертвый покой. Виноват царь. Нет сомнения, что именно в парижские годы Соловьев проникся ненавистью к николаевскому деспотизму, к Николаю I, который в его глазах стал «воплощенной реакцией всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого века». Уже тогда он ощущал в императоре врага: «Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай любил только бездушное движение войсковых масс по команде. Это был страшный нивелировщик: все люди были пред ним равны, и он один имел право раздавать им по произволу способности, ум, все, что мы называем дарами божиими; нужды нет, что в этом нечестивом посягновении на права бога он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненавидеть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости божией, до конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства, по милости императора. Не знаю, у какого другого деспота в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом приобретенным, как у Николая».
В калейдоскопе парижской жизни Соловьев не забывал, что главная цель его путешествия — подготовка к серьезным научным занятиям историей. Не переставал он следить и за делами Московского университета, куда страстно мечтал вернуться. Вернуться ученым, профессором, мастером. Известия о Москве он получал, главным образом, от Погодина. Жизнь за границей не ослабила погодинского влияния на Соловьева. Между ними шла оживленная переписка, Соловьев обращался к учителю за советом, рассказывал о своих занятиях, делился впечатлениями. Летом 1842 года, побывав в Праге, он познакомился с Вацлавом Ганкою и Францем Палацким, славными учеными и видными деятелями чешского национального возрождения, убедился в высоком научном и общественном авторитете Погодина среди славянских ученых. Понятнее стал интерес Погодина к славянскому миру. В немецких и французских газетах Соловьев читал о том, что пробуждение национального самосознания славянских народов Австрийской и Османской империй искусно используется царскими дипломатами, что исповедуемые Погодиным идеи славянской общности есть панславизм, орудие русской гегемонии в Европе. В глаза бросалось противоречие: «Движение в пользу народностей, происшедшее вследствие высокого развития западноевропейских обществ и вызванное внешним материальным сжатием наполеоновской системы, — это движение не могло не отозваться и у нас, русских, и у славян вообще».
Уезжая из Праги, Соловьев разговорился
о политике с французом. Толковали о панславизме. «Ведь это слияние довольно трудно, — сказал попутчик, — потому что славянские народы не могут понимать друг друга». Сергею захотелось пошутить. «Как? Русский может понимать чеха, и наоборот; вот вам доказательство». Он обратился к кучеру по-чешски, тот, разумеется, отвечал. Не поняв шутки, француз пришел в ужас: «Когда так, то Австрия погибнет!»
В Париже едва ли не в первое воскресенье Соловьев встретил в церкви Погодина. Встреча не была неожиданной. Летом 1842 года Погодин предпринял заграничное путешествие, чтобы отдохнуть, освежиться, набраться научных и политических новостей. Благословение на поездку дал сам Уваров. Соблюдая строгие правила бюрократии, министр запросил московского попечителя: «Не находит ли он препятствия к отъезду профессора Погодина за границу на два месяца, сверх вакационного времени, с сохранением получаемого им от Московского университета содержания?» Граф Строганов отвечал, что не находит других препятствий, «кроме некоторого нарушения порядка при имеющих быть в нынешнем году вступительных в Университет экзаменах, на которых Погодин должен участвовать в качестве экзаменатора». Дело было улажено, но по Москве пошли неприятные слухи о возможной отставке профессора.
В июле 1842 года, сразу вслед за Соловьевым, Погодин оставил Москву. Его путь был причудлив: Харьков — Полтава, где он с пригорка осмотрел места исторического сражения; гоголевская Васильевка и гоголевский Миргород — Киев, где он свидетельствовал почтение генерал-губернатору Бибикову, будучи наслышан о его «русском духе»; затем на границе он «помолился русскому богу, на свою сторону, и, перекрестясь, переступил черту».
Дальше шла Австрийская империя: Львов, Краков, Прага, Мариенбад, в котором путешественника ждал Шафарик, чьи «Славянские древности» исправно служили Погодину при чтении университетских лекций. С чешским ученым московский профессор беседовал о славянском народном характере и о «нынешнем духе национальности, который вдруг пробудился во всех словенах, после долговременного усыпления, и с удивительной силой, быстротой, как вихрь, в недрах гор долго заключенный и внезапно нашедший себе путь, разлился, — в русинах австрийских и лужичанах саксонских, малороссиянах русских и силезцах прусских, турецких болгарах и венгерских словаках, не говоря уже о кроатах или чехах, сербах». Сошлись на том, что никому не дано знать, что из этого выйдет. Еще Погодин рассуждал «о состоянии человечества в наше время, о тех болезнях, кои пред нашими глазами обнаружились в гражданских европейских обществах, и не нашли они еще места в политических терапиях, какие врачебные средства нужны для их исцеления». Излюбленное погодинское: «Европа больна». Серьезный Шафарик, слушая Погодина, вежливо молчал.
За Мариенбадом последовали Дрезден, Лейпциг, Веймар, Берлин, Копенгаген, Геттинген… В дороге нашло его нехорошее письмо Строганова. Попечитель возражал против поездки в Копенгаген, предпринятой по поручению Уварова: «Я с своей стороны не могу дать подобного поручения да и согласия моего на эту отсрочку, потому что она будет вредна для Университета, где вас ожидают два курса студентов. Перед отъездом вашим, предвидя невозможность исполнить прежнее предположение ехать в Копенгаген, вы говорили, что будете довольствоваться свиданием в Веймаре с протоиереем Сабининым. Как же вы это забыли, милостивый государь?» Интриги, интриги…
Ученое путешествие продолжалось: в Дюссельдорфе он посетил поэта Жуковского, был в Кёльне, Антверпене, Брюсселе. Здесь, набравшись смелости («служа с лишком двадцать лет профессором, издавая несколько журналов, напечатав столько сочинений, в коих ясно выражены все мои мысли, и гражданские, и человеческие, я смею считать себя вправе на доверенность своего правительства»), он нашел Иоахима Лелевеля, историка, руководителя польского национально-освободительного движения 1830–1831 годов. Отрекомендовавшись «человеком ученым, чуждым политики» и поговорив часа полтора о происхождении частного владения в Польше, Погодин простился «с горестным чувством: зачем оторвался от науки этот человек, который мог сделать для нее столько; как мог он вместо того, чтоб открывать глаза своим соотечественникам, содействовать их ослеплению. Бедная мудрость человеческая!» Историк-эмигрант жил скромно, не имел русских книг даже для справок. Погодин посоветовал «обратиться с просьбою к г. министру народного просвещения». Странный совет и странный визит. При чем тут наука? Благовидный предлог для малопочтенной политической миссии. Не один Яков Толстой старался избавить Николая I от титула притеснителя Польши…
В Париже Погодин провел пять суток, говорил с Шатобрианом, смотрел на игру Рашель, стоял у гробницы Наполеона («лучше б было оставаться ему на острове Святой Елены»), кормил булками медведей в парке. «Это мои земляки», — объяснял он, и французы смеялись.
С учеником Погодин говорил недолго и доброжелательно, сожалел, что тот не виделся с Шафариком, обращал внимание на историческую важность происходящего в славянских землях: «Никто никого обвинить пока не может: все происходит само собою; явного беззаконного содействия движению нет, а есть такое, какого никто запретить не может и не запрещает». Последними словами профессор намекал на свои высокие связи. К удивлению Сергея, он несколько раз сказал: «Горжусь своим квасным патриотизмом». Ему же, Сергею, нравились Любек и Рейн, Бельгия и Париж. Юношеский русофилизм поколебался основательно. Расставаясь, Погодин предложил Соловьеву заняться в Париже славянскими языками и славянской историей, еще раз съездить в Прагу, чтобы на месте ознакомиться с политическими и культурными отношениями славянских народов. О неудовольствиях со Строгановым он умолчал, но со временем дошли вести из Москвы.
Соловьев очутился в сложном положении. Для себя он давно определил: главное содержание его научных занятий — русская история. Но в Париже для этого было мало средств, в Королевской библиотеке он нашел одно «Полное собрание русских летописей», кое-что можно было брать у Александра Тургенева, который неутомимо разыскивал старые бумаги, относившиеся к русской внешней политике. И все. Трижды прав Ранке — история пишется в архивах. В Париже он только мог выбрать тему магистерской диссертации по русской истории. Как и в детстве, его привлекали великий князь московский Иван III и Иван Грозный.
Оставалось одно: принять совет Погодина, читать труды по всеобщей истории, преимущественно по славянской. Соловьев задумал написать сравнительно-историческую работу о борьбе родового и дружинного начал у народов Европы и Азии. Антагонизмом замкнутого рода и насильственно выделившейся из него дружины он объяснял главнейшие явления в истории человечества: «В Азии на семитические племена я смотрел как на представителей родового начала, на персов — как на представителей дружинного, в Европе — на пелазгов, под которых включал и славян, смотрел как на представителей родового начала, на еллинов — дружинного; в римской истории в борьбе патрициев и плебеев я видел борьбу родового и дружинного начала». В первоначальном виде работа до нас не дошла, судя по замыслу, молодой историк отдал в ней дань Эверсу, Гегелю и Гизо.
Соловьев, настойчиво размышлявший о судьбах наций в Европе, вполне понимал погодинские идеи о возрождении славянских народов. Побывав второй раз в Праге летом 1843 года, он писал в Москву: «Прага нужна для Москвы, а Москва для Праги, и оба города — два ока миру словенскому». Его радовали известия из России «об успешном ходе словенщины в нашем факультете: то была мне райская весть!» Напрашивается предположение, что Соловьев готов был, по возвращении в Россию, начать в университете изучение славянской истории, поскольку кафедру русской истории, казалось, прочно занимал нестарый Погодин.
В столице Чехии Соловьев сделал визит Шафарику, который напоминал схимников в русских монастырях, выслушал поучение: «Я твержу своим постоянно: сохраняйте язык — и с ним все сохраните». С молодыми сторонниками чешского возрождения Сергей сошелся легко, это были превосходные, чистые, добродушные люди, патриоты и либералы, одинаково отвергавшие австрийское владычество и российский деспотизм. С ними он пел патриотические песни, совершал загородные прогулки, когда танцам не было конца: «Танцевал и я, — это было в последний раз в моей жизни».
Из Праги он отправил Погодину научный отчет о своих парижских занятиях: «Восемь месяцев, проведенных в Париже, были посвящены мною изучению средней истории, этих седми дней творения нового общества, с постоянным приложением к миру Словен и Руси. Огромность предмета меня задавила, занимательность развлекла, и вот почему из множества материалов, собранных мною, я не успел составить ничего целого, стройного, определенного. Будущую зиму, которую я также решился провесть в Париже, ибо в этом чортовом городище заниматься так же покойно, как в монастыре, займусь, с божией помощью, приведением в порядок собранного и распределением в отдельные статьи. Может быть, я проговаривался вам и в Москве, что любимый мой предмет — отношение дружин завоевателей (готской, гуннской, варяго-русской, гетской, ляшской и др.) к словенским общинам, что хотел я прежде сделать предметом моей магистерской диссертации; но теперь вижу ясно, что это должно быть предметом многолетних изысканий, и потому хочу выбрать предмет гораздо ограниченнее, именно хочу писать о двух Иванах — III и IV. Шафарик в разговоре со мною упомянул о необходимости краткой всесловенской истории, и мне тотчас пришло в голову, не близок ли я к этому труду прошлогодними моими занятиями? Я не осмелился ему сказать об этом, ибо опыт научил меня ничего не обещать».
В январе 1844 года Погодин получил новое известие из Парижа: «Я уже писал к вам, что нынешний год я хотел посвятить приведению в порядок собранных в прошедшем году материалов — так и сделал с божиею помощью. В октябре приехал я в Париж и к новому году приготовил первую статью «Рим», которая обнимает то, что узнал и надумал я об истории Рима, особенно по отношению ее к средним векам, новому обществу; к маю месяцу надеюсь кончить вторую статью, под названием «Варвары», в которой изложится характер народных перемен и характер новых народов, который вместе с старым римским началом содействовал к образованию европейского теперешнего общества. Вместе с Западною Европою я должен был войти в соприкосновение и с Западною Словенщиною, изучить странную судьбу Богемии и Польши, причем мне вздумалось также систематически изложить взгляд свой на историю этих двух стран. Эта история, или историйка, думаю, может быть полезна студентам нашего факультета, занимающимся Словенщиною».
За полтора года была проделана огромная работа, но Погодина, озабоченного своим положением в университете, мало интересовали академические успехи Соловьева. Зато его утешила статья, полученная летом 1843 года, в которой Сергей Соловьев описывал свое впечатление от зарубежных университетов. В Париже, как и прежде в Германии, он жадно слушал лекции знаменитостей: историка Шарля Ленормана, который разбирал немецкую книгу Штрауса «Жизнь Иисуса» с католической точки зрения, Кине и Мишле, ругавших иезуитов, Минье, прекрасно говорившего в торжественном заседании Французской академии. В статье, написанной в Мюнхене за один дождливый день, Соловьев рассуждал об особой природе русского народа, гармонически сочетающей запросы ума с велениями души, которую не могут удовлетворить ни «сухое преподавание немцев», «ни восторженная импровизация французов». Автор призывал к развитию самобытного просвещения, к «национальному» воспитанию молодых людей, что было близко учителю Голицыных и Строгановых: «Стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклеймленный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах».
Погодин был в восторге от сентенций в православно-русском духе и сразу же поместил статью в «Москвитянине», придумав название: «Парижский университет: Письмо из Праги от 23 июня 1843 г.». Шевыреву он писал: «Соловьев обещает нам прекрасного в нашем духе исследователя».
Погодин ошибся. Ошиблись и те московские друзья Соловьева, которые нашли, что хорошая статья испорчена фразами, слишком обычными для «Москвитянина». Прочные научные знания, европейская выучка, широкий политический кругозор позволяли ему трезво судить об окружающем мире, оберегали от крайностей бездарного русофильства и бессильной русофобии. В основе его убеждений лежал просвещенный русский патриотизм, и в начале 1844 года он гордо писал домой: «Что до меня, то где бы я ни был, никогда не перестану профессировать русскую историю, то есть русское сознание, кричать русским голосом, на весь крещеный мир». Профессировать — значит открыто исповедовать, и Соловьев готовил себя к миссии просветителя, воздействующего на русское общественное сознание, которое он понимал как неотъемлемую часть сознания великих европейских народов.
Статья о Парижском университете для него была ценна возможностью приветствовать недавнее строгановское разрешение читать публичные лекции в Москве. Молодой человек словно бы предвидел успех Грановского, чей публичный курс средневековой истории был начат в ноябре 1843 года: «Да откликнутся же на этот призыв мужи науки, в сердце которых горит святое пламя отчизнолюбия, и да заговорят с нашим обществом речью русскою, умною и вместе теплою. Но прежде пусть взвесят собственные силы и уразумеют всю великость своего назначения. Да страшатся унизить науку потворством обществу: русское общество накажет презрением человека, осмелившегося предложить ему забаву вместо назидания. Да страшатся представить обществу мертвую книгу вместо живого и любящего; русское горячее сердце требует голоса сердечного, на русской почве мысль без чувства беспотомственна». Грановский не мог не обратить внимания на эти слова.
В Мюнхене, окончив статью, Соловьев встретил Александра Попова, который ввел его в круг русских художников. Всех потешал гравер Степанов, он был русофил, презирал немцев и уважал свой русский кулак, как несомненный признак превосходства. Соловьев сразу вспомнил Надеждина. Степанов был неоригинален, он просто повторял мысль издателя «Телескопа», высказанную в 1836, чаадаевском, году. Надеждин тогда воспел «русский кулак», который противопоставлял достижениям «просвещенной Европы». В «русском кулаке» он видел основу «самобытности великой империи»: «Европейцу как хвалиться своим тщедушным, крохотным кулачишком? Только русский владеет кулаком настоящим, идеалом кулака. И, право, в этом кулаке нет ничего предосудительного, ничего низкого, ничего варварского, напротив, очень много значения, силы, поэзии!» Все это, особенно в устах грубоватого Степанова, звучало отвратительно. С русофильством было покончено.
Последний европейский университет, где Соловьев слушал лекции, был Гейдельбергский, среди профессоров которого выделялся демократически настроенный Шлоссер. Соловьев хорошо знал многотомные работы этого историка, посвященные описанию жизни народных масс.
Лето 1844 года было на исходе. Пора было возвращаться домой, московский Строганов торопил. Сергей вновь сел на пароход и в начале сентября приехал в Петербург. В чужих краях он пробыл 26 месяцев.
В России его ждала кафедра русской истории Московского университета.
ГЛАВА IV
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Погодин подал в отставку в феврале 1844 года. Под рукой он давно говорил о желании оставить университет, о неблагодарности Строганова, возле которого благоприлично прячется леность, посредственность и ничтожество и нет хода истинно даровитым русским людям. Раздражали молодые профессора, их успех у студентов и в обществе, заступничество за них попечителя. Когда в невинной заметке «Москвитянина» Погодин слегка задел господ профессоров, чьи занятия «умной наукой политической экономией» остаются неведомы публике, «как будто бы не существовало и кафедр», Строганов сделал выговор, и пришлось оправдываться перед Чивилевым, который мог-де оскорбиться. А между тем в том же номере журнала дан пример беспристрастия: напечатан жестокий упрек Шафарика ему, Погодину.
Еще хуже вышло с курсом публичных лекций Грановского, который тот открыл в ноябре 1843 года. Московское общество словно сошло с ума, дамы окружали кафедру, благоговейно внимали рассказу о риторах V века. Чаадаев назвал лекции «событием» (много спустя Анненков уточнил: «событие политическое»), Хомяков объявил, что профессор и чтение достойны лучшего европейского университета, и добавил: «К крайнему моему удивлению, публика оказалась достойною профессора». Грановского хвалили за смелость, которая, как заметил Анненков, «могла тогда заключаться в публичном заявлении сочувствия к Европе». Герцен с дозволения Строганова напечатал восторженный отзыв в «Московских ведомостях».
Поначалу «два Петровича», Погодин и Шевырев, полагали, что «ненадобно ничего говорить», но замалчивать блистательный успех было неприлично. Шевырев написал разумную статью, где отдал должное молодому доценту, но высказал сожаление, что русский ученый «приковал себя к одному чужому знамени». Речь шла о Гегеле: «Почти все школы, все воззрения, все великие труды, все славные имена науки были принесены в жертву одному имени, одной системе односторонней, скажем даже, одной книге, от которой отреклись многие соученики творца этого философского учения».
Вроде бы продолжался старый спор шеллингианцев и гегельянцев, но статья едва не привела к запрещению публичных лекций. Почему лектор ничего не говорит о России? Пошли разговоры об умалении роли отечества в истории, Погодин и Шевырев их умело поддерживали. Грановским заинтересовался московский митрополит Филарет, он должен был объясняться с кафедры: «Меня обвиняют в пристрастии к каким-то системам; лучше было бы сказать, что я имею мои ученые убеждения». Герцен нашел, что сотрудники «Москвитянина» (он их огулом называл славянофилами) суть добровольные помощники жандармов. Истинный славянофил Константин Аксаков поссорился из-за статьи с Шевыревым и шумел в гостиных, что объяснение Грановского «благородно, одушевленно, прекрасно». И Юрий Самарин так думал, и Иван Киреевский, от которого Погодин получил сухое письмо. Поучал как мальчика! Его брат Петр, прозванный «великим печальником земли русской», хлопал Грановскому не меньше других. Хомяков провозгласил: «Крайности мысли не мешают какому-то добродушному русскому единству».
Верхогляды, невежды, бедные смыслом пустозвоны Английского клуба! Разумеется, им не обойтись без взаимной приязни и лукавого восхищения. Ах, как нужна в России критика строгая и нелицеприятная, как надо колоть, шпынять. «Готов был прежде, буду и вперед, дондеже есмь». Он, Погодин, был на лекции у Грановского. Непредвзято сказать — очень незрело. Под 23 ноябрем 1843 года он записал в дневнике: «Такая посредственность, что из рук вон. Это не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия. России как будто в истории не бывало. Ай, ай, ай! А я считал его еще талантливее других. Он читал точно Псалтырь по Западе».
Слушая Грановского, Погодин думал об отпоре. О лекциях антизападных. Но кто станет их слушать? Один Шевырев… Нет, оставить университет, оставить Россию, переселиться в Гейдельберг «как в место успокоения», там написать настоящий русский роман, где вывести все классы общества: хозяев, мотов, литераторов, титулярных советников, поручиков, частных приставов, купцов. Или — сесть за историю России. И еще есть дело: собрать материалы для собственной биографии. Столько пережито!
Дурное настроение не улучшило чтение Кюстина, от которого часто «мороз продирает по коже». Запись в дневнике, через две недели после отзыва о Грановском: «Прочел целую книжку Кюстина. Много есть ужасающей правды о России. Когда он дышит своим аристократизмом, я жалею, что Робеспьер не поцарствовал больше; когда он играет роль простого наблюдателя, которого будто хотят все обмануть и никак не могут, то бывает просто смешон; когда начинает умничать, то делается скучен; но за изображение действий деспотизма, для нас часто неприметных, я готов поклониться ему в ноги».
Как узнать, где настоящий Погодин — в этом ли высказывании или в другом, лет на шестьдесят опередившем сентенции Розанова: «Наводило грусть наше довольство и чистые комнаты, и теплое одеяло, и сахарное варенье!»
Домовитость московского ученого была известна многим, и Шафарик советовал из Праги: «Ваш план писать историю России вне России прекрасен по мысли, гениален и поэтичен, но не практичен». Затем приводил доводы в пользу спокойного местечка в Таврической губернии или вблизи Москвы, но еще лучше — «в самой Москве». Неужели шутил Шафарик? Напрасно, мысль действительно гениальна. Чтобы найти верный тон, надо пожить где-нибудь на Балтийском море, для живейшего воспоминания о варягах, затем перебраться на Днепр, в Киев, помнящий удельный период, и, наконец, предстоит путешествие в монгольские степи. Тогда создастся живая история, представляющая людей, племена и события во плоти и крови, понятная грамотному крестьянину, модной даме и смышленому дитяти, занимательная и достойная стать выше «Истории» Карамзина. Игра стоила свеч.
Ссылаясь на долговременное нездоровье, которое произошло от трудов на службе, Погодин ходатайствовал об увольнении. Старому другу Максимовичу он сообщил: «Я подал в отставку — отойти от зла и сотворить благое, с полною пенсиею». Последнее характерно. Втайне Погодин думал не о русской истории, но о переезде в Петербург, о службе в министерстве народного просвещения под крылом Уварова, которому могло пригодиться и его перо публициста. Решение далось «со слезами и размышлениями», и позднее Погодин не раз о нем сожалел: «Года через два я думал опять вступить в университет
с более укрепленными силами, и по собственной просьбе начальства, что было бы для меня гораздо крепче, а теперешние неудовольствия могли, представлялось мне, кончиться по какому-нибудь случаю увольнением даже без пенсии, которую мне хотелось, так сказать, застраховать, пока министром был Уваров, мне благожелавший. Опасение и намерение неосновательные; я был уверен также, что через два года обратятся ко мне с просьбою, потому что нельзя ж оставлять университет без русской истории, и в том, как оказалось, я ошибся жестоко».
В «совершенной опрометчивости» ухода из университета Погодин убедился скоро. Помог Соловьев, весной 1844 года получивший в Париже двусмысленное письмо учителя. Погодин писал, что оставил кафедру, что Сергею надо бы возвратиться в Россию для занятий русской историей, но и за границею пожить было бы полезно; во всяком случае, место адъюнкта ему готово. Добрая весть? Адъюнкт — желанное оставление при университете. Но адъюнкт — помощник профессора. Кто же профессор?
Строганов не скрывал своего желания, чтобы кафедру русской истории в Московском университете занял Соловьев. От попечителя зависело немало, но нельзя было сбрасывать со счета ни Погодина, ни профессорскую корпорацию. И здесь шансы двадцатичетырехлетнего домашнего учителя казались невелики.
Любимым учеником Погодина был Николай Калачов, годом старше Соловьева, необычайно трудолюбивый, под стать Сергею. Но имелся изъян: когда он говорил, мало кто его понимал. Соловьев как-то обронил: «Мое несчастье — не понимать Калачова». Погодин еще до защиты Калачовым магистерской диссертации смирился: «Труженик, а своего нет суждения».
Вторым в списке возможных преемников, поданном Погодиным в Совет университета, стоял Василий Григорьев, давний знакомый Грановского и тайный его недоброжелатель, в 1842 году защитивший диссертацию о достоверности ярлыков золотоордынских ханов. Григорьев — превосходный исследователь-востоковед и недобрый, завистливый человек, на своем месте он очутился под старость, когда возглавил цензуру в России. В описываемое время он служил в Одессе, и Погодин усиленно звал его в Москву. Григорьев отнекивался: «Если я и получу место в университете Московском, так это все же не по части русской истории; стало быть, между отставкою вашею и определением моим нет никакой связи». Погодин подтверждал, что дело идет именно о чтении русской истории, и досадовал на попечителя, который остановил свой выбор на Соловьеве, кандидате, находящемся в путешествии: «Он малый хороший, «с душою», но слишком молод».
Ответ Григорьева, лично Соловьева не знавшего, удивителен: «Если в Соловьеве один недостаток — молодость, так беда не велика: по-моему, «молод да умен, два угодья в нем». Беда не в молодости его, а, как я слышал, в том, что рано он хитрить начал и не годится для кафедры русской истории не по уму и не по сведениям, а по недостатку нравственного достоинства; но этого Строганов не понимает». Так впервые пока еще безвестный Сергей Соловьев был судим и осужден злоязычным и безответственным русским обществом, в котором никогда не переводились «художники клеветы», подобные Григорьеву. Одно утешение: для своих упражнений Григорьев безошибочно находил крупные мишени, после смерти Грановского его амикошонские воспоминания обсуждались журналами больше, чем итоги Крымской войны. Григорьевская попытка отнять у Соловьева нравственное достоинство всегда выглядела грязно, ибо и в молодые годы Сергей был тем, о ком Ключевский писал: «Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси в виду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях; осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня».
Погодин сильно хлопотал за Григорьева, писал к Уварову, но определение в Московский университет не состоялось, и переехавший в Петербург востоковед сделался чиновником министерства внутренних дел. Оба, Погодин и Григорьев, винили в неудаче графа Строганова; Григорьев, вдобавок, не верил никому: ни Уварову, которого он непочтительно звал Семенычем, ни Погодину, ни себе. «Одно желание — умереть до тридцати лет, то есть в течение восьми месяцев… Покорить мир я не могу, покориться ему не хочу — что же делать?» Да, у Соловьева был сильный соперник, но не подумайте, чтобы он метил в маленькие Наполеоны. Напротив, совсем напротив: «Я не понимаю жизни человека отдельно от жизни других людей, а другие люди играет в преферанс и служат или бьют баклуши; в таком почтенном обществе можно только гнить, ну и гнием».
Третьим кандидатом считался Афанасий Бычков, Соловьев его не жаловал как человека, отличающегося «петербургским характером деятельности, поверхностностью, шерамыжничеством». Непонятно, на каком поприще выдающийся археограф мог проявить такие хлестаковские черты. В марте 1844 года Бычков стал хранителем рукописей Публичной библиотеки, был безмерно счастлив — «часы, проводимые в библиотеке, самые приятнейшие». (Спустя годы Бычков передал свой пост сыну Ивану, и ровно сто лет, с 1844 по 1944 год, это семейство оберегало русские национальные святыни.) Возвращаться в Москву ради места профессора Бычков не хотел, Погодину оставалось жаловаться на то, что «молодые люди стали нынче жестче».
Так Соловьев, стоявший четвертым, последним, вышел на первое место. Когда он приехал в Москву, Строганов встретил его очень приветливо, сказал, что Погодин очистил место и надо готовиться к магистерскому экзамену, успех которого даст право на кафедру.
Сергей стал писать диссертацию, тема которой определилась в Париже: княжение Иоанна III и судьба Великого Новгорода, покорившегося московскому князю. По мере работы хронологические рамки
расширялись, яснее сказывалось влияние Эверса, отмечавшего своеобразие отношений Новгорода к великим князьям. От начала русской истории Соловьев шел к 1477 году, последнему вольному году Новгорода, изучал власть князя и власть веча, увязывал новгородское народовластие с первоначальным родовым бытом славян, а княжеское самовластие — с «новыми городами», которые в отличие от «старых городов» не имели самостоятельности. Соловьевская теория «старых» и «новых» городов возникла из потребности найти внутреннюю закономерность перехода от Киевской к Владимиро-Суздальской Руси, указать на связь между двумя периодами русской истории, «варяжским» и «монгольским», которые Погодин упрямо обособлял.
Не думая превзойти учителя в знании летописных подробностей, Соловьев больше заботился о соответствии теории и фактов и делал это настолько умело, что ревнивый к чужому успеху Хомяков заметил: «Это исследование г. Соловьева есть истинная заслуга». Приступая к диссертации, Соловьев избегал бесед с Погодиным, который хотел, чтобы ученик занялся «окончательным решением вопроса о варягах». Здесь сравниться с Погодиным было трудно, и Сергей отвечал, что вопрос кажется ему решенным. «Почему вы со мной не советуетесь?» — спрашивал Погодин. «Я не нахожу приличным советоваться: хорошо ли, дурно ли напишу диссертацию — она будет моя. Буду следовать вашим советам — она станет не вполне моя». — «Что за беда! — восклицал Погодин. — Мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством». Соловьеву это крайне не нравилось.
В конечном счете магистерская диссертация получила название: «Об отношениях Новгорода к великим князьям: историческое исследование». Она была издана в 1845 году типографией Московского университета тиражом в 100 экземпляров, и уже в конце года ее невозможно было достать. Герцен писал о ней как о чрезвычайной редкости.
Кроме диссертации, предстояли экзамены. Соловьеву ли, всегдашнему первому ученику, беспокоиться? Именно ему. Не он ли в статье «Парижский университет» восхвалял «высокую мудрость правительства», не он ли восклицал «стыд и горе!» в адрес университета, где — что вы, речь не о Московском! — несчастный юноша погибает окончательно, встречая «чуждое направление». Было отчего радоваться тогда Погодину и Шевыреву. Но теперь молодые профессора, московские западники, смотрели косо: они были рады, что избавились от Погодина, что ослабела «черная уваровская партия», и не хотели пускать в свои ряды погодинского ученика, ретиво судившего «чуждое направление». Как писал Соловьев, они «не хотели обуваться из сапогов в лапти».
О том, что статья в «Москвитянине» написана в погодинском духе, знали все. Но никто не знал, что из Парижа в Москву вернулся серьезный молодой ученый, которого пристальные занятия русской историей спасли от русофилизма и чей патриотизм, как он сам признавал, был благодаря науке введен «в должные пределы». Соловьев чувствовал свое одиночество: «Итак, против меня готовилось сильное сопротивление; на кого же я мог опереться, в ком искать защиты против профессоров западной стороны, могущественных своим единством, достоинствами, силою у попечителя?»
Экзамены начались в январе 1845 года. Сергей готовился к ним, перечитывая студенческие конспекты и выписки, сделанные в Париже Отвечать следовало из истории, географии, народного права, политической экономии и статистики. Историю, русскую и всеобщую, оп знал. В географии, древней и новой, любимой с детства, трудностей не предвиделось, да и экзаменовать должен был берлинский знакомый Ефремов, который к тому времени стал приват-доцентом университета Ради политической экономии и статистики Соловьев сделал визит профессору Александру Чивилеву, холодному и зло-остроумному человеку, чьи лекции, будучи студентом, он слушал с удовольствием, запоминая рассуждения о природе стран и ее значении в жизни народов. С Чивилевым разговор не получился. На представление Соловьева, что ему нужно доказать способность к занятию кафедры русской истории и написать хорошую диссертацию, а не отвлекаться на предметы побочные, профессор сухо ответил, что будет совершенно достаточно прочитать для экзамена все книги, рекомендованные на лекциях. Для историка, занятого диссертацией, это было непосильно. Заранее определить вопросы, которые он предложит на экзамене, Чивилев отказался, хотя в те годы это было в обычае. Ничего не поделаешь — Соловьев ушел раздосадованный, понимая: нелюбезность Чивилева есть проявление позиции западной партии. К другим профессорам обращаться он не стал. С Чивилевым потом, став профессором, он очень сблизился, тот был честен, точен в исполнении служебных и гражданских обязанностей, джентльмен в наружности и манерах — всем хорош, но в делах религии «не верил ни во что». Для строго православного Соловьева это оставалось непостижимым.
В канун первого экзамена по всеобщей истории Грановский подошел с упреком: зачем Соловьев не переговорил о вопросах, которые он желал бы получить. Времени на удивление не было, Сергей поблагодарил, сказал, что ему интересна Реформация, он особенно ею занимался. Грановский отклонил выбор: тема щекотливая, неловко говорить о ней в присутствии Строганова, обязанного блюсти православие. В таком случае пусть Грановский сам назначит вопросы — Соловьеву было все равно. Грановский указал строптивому молодому человеку три вопроса: Франция при первых Капетингах, средневековая Испания и параллель западного и русского летописания. Третий вопрос был с подвохом: Шевырев доказывал, что русская летопись выше западной, и экзаменаторам хотелось знать, что думает Соловьев. Ему вопрос не понравился, но Грановский настаивал, и надо было согласиться.
В ответах Соловьев показал прекрасные знания, Грановский не мог не признать этого, но сделал существенную оговорку: «…в отметке написал, что я обнаружил обширную начитанность, но прибавил, что я затрудняюсь в изложении — намек, что у меня нет способности к занятию профессорской кафедры». Точно рассчитанный удар западной партии!
На экзамен по русской истории пригласили Погодина, который предложил изложить историю отношений России к Польше с древнейших времен до последних лет. Как всегда, почтенный профессор путал науку и «политический журнализм», вопрос был немыслимой сложности, и что должны были подумать те, кто знал о недавней встрече Погодина с Лелевелем. Сергей говорил целый вечер, старался показать знание русской истории, вспоминал прочитанные книги по истории славянства, парижские лекции Мицкевича, статьи из французских газет. Погодин бестактно обрывал, замечал, что негоже вдаваться в подробности. Скорее всего он ждал, когда Сергей назовет его статью «Исторические размышления об отношениях Польши к России».
Написанная под впечатлением польского восстания 1831 года, она высказывала мысли, родившиеся у Погодина при изучении польской истории, «без всякого отношения к нынешним происшествиям». Михаил Петрович стоял за научную честность: «Да прилипнет язык к моей гортани, если я подумаю когда-либо святое науки умышленно представлять в ложном свете для частных видов, хотя бы это было даже в пользу моего отечества!» Его огорчали несправедливые (он так и написал) обвинения России в участии в разделах Польши: «И в 1773, ив 1793, и в 1795 годах Россия не сделала никаких похищений, как обвиняют наши враги, не сделала никаких завоеваний, как говорят наши союзники; а только возвратила себе те страны, которые принадлежали ей искони по праву первого занятия, наравне с коренными ее владениями, по такому праву, по какому Франция владеет Парижем, а Австрия Веною».
Ловко! Соловьеву так не суметь. И не в возрасте дело. Тогда, в 1831 году, Погодин был немногим старше, но даже Царство Польское, вошедшее в Российскую империю, его не смущало: «Россия и Польша соединились между собою, кажется, по естественном: порядку вещей, по закону высокой необходимости, для собственного в общего блага», Естественно, после таких размышлений московского профессора у порядочных людей возникала сомнения в истории и историках.
Экзаменационный ответ Погодин счел удовлетворительным, но западная партия провозгласила, что и вопрос, и ответ были гимназические, а не магистерские, и нельзя сделать вывода о пригодности Соловьева к занятию профессорской кафедры. «Заключение совершенно справедливое!» — признавал Соловьев. Третий экзамен, Чивилеву, был сдан совсем неудачно, о русской торговле он знал мало. Четвертый кандидат профессора Погодина терпел неудачу.
Больше других огорчился Строганов, призвал Соловьева, сказал много нелестного. Соловьев объяснил, что нелепо тратить силы на статистику, когда он должен «пред всею ученою Россиею» (редкий для него случай высокого слога) показать знание русской истории: «Экзамен прошел, остается защита диссертации, которую я представлю немедленно. Она все решит». И не сдержался, сказал, что у него есть соперник — Погодин, который не раз, не стесняясь присутствием Сергея, сожалел: «Рано, рано в отставку!» Строганов знал гораздо больше Соловьева, переменил тон, и они расстались хорошо.
Погодин уже в феврале 1845 года ездил к Строганову, отдавал себя в его распоряжение: «Готов читать лекции год, два, чтобы ввести Соловьева, которого одного нельзя оставить, иначе погубишь». Попечитель был и любезен, и рад, но поставил такие условия, что Погодин, по собственным его словам, «остался в дураках». Читать русскую историю без вознаграждения! Как почетный член университета! Дело тянулось полгода. Давыдов, который вел переговоры от имени Совета, подчеркивал: «Вы не стесняетесь другими обязанностями, лежащими на профессорах». Ясно, что попечитель выбрал Соловьева, который сам пришел к Погодину объявить о повелении Строганова готовиться к лекциям. «Не знаю, — ответил Погодин, — чего хочет Строганов? Хочет ли он, чтобы вы были при мне адъюнктом, или при ком-нибудь другом?» Опять адъюнкт…
В июле вопрос обсуждали на факультете, и Шевырев заявил, что странно отдавать предпочтение неизвестному молодому человеку, когда знаменитый профессор Погодин выздоровел и готов вернуться на кафедру. Шевырева никто не поддержал, поручили Давыдову вновь снестись с Погодиным, который в негодовании ответил: «Чем более читаю ваше письмо, тем более удивляюсь: какой злой дух нашептал вам оное? Я готов исполнить желание товарищей, рад читать даром, но как же вы хотите, чтоб этот труд не считался даже и службою университетскою? Неужели вы не знаете, что у профессоров не останется более двух слушателей из двадцати, если они будут читать как почетные члены, и что все эти слушатели перейдут к швейцару Михайле Андрееву, который будет ставить баллы. Что же, вы хотите выставить меня на позорище, разыграть со мною комедию?» Строганов преуспел: Погодин в университет не вернулся.
В августе 1845 года Совет университета определил: для чтения русской истории иметь в виду кандидата Соловьева.
В сентябре Соловьев приступил к чтению лекций в Московском университете. Ему было двадцать пять лет, и он не защитил магистерской диссертации. После первых лекций Грановский, чей авторитет был бесспорен, заметил: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки». Лестно, но ведь правда. Из ученика, из странствующего подмастерья вырос мастер. Соловьев вспоминал: «Понятно, какое значение имели для меня на первых порах эти слова; ими Грановский привязал меня к себе навсегда, на всю жизнь счел я себя ему обязанным».
Строганов торжествовал: обласканный им маленький гимназист превзошел все ожидания, оправдал все усилия. Министр Уваров и его партия — что от нее осталось! — унижены. Никто не откажет попечителю в даре находить талантливых людей. Неудачника он не пожалел: «Дай бог, чтоб Погодин кончил так, как этот начал». Отношения учителя и ученика были испорчены навсегда.
Как случилось, что неудачливый экзаменующийся вдруг завоевал расположение лучших профессоров факультета? Выручила, как и предвидел Соловьев, диссертация.
Он подал ее ранней весной, официально, Давыдову; тот переслал Погодину, который, прочитавши, остался недоволен. Как историк, он не ценил полет мысли, не подкрепленный источниками. Но еще не созрело решение: похвалить ли ученика (к его, Погодина, славе), или высмеять. Смущал мягкосердечный Шевырев: «Мне жаль Соловьева, надобно бы поддержать его. Он поторопился. Виноват набольший. Балует и торопит не в пору. А по образу мыслей Соловьев мне нравится. Другие же, противного направления, рады его затереть. Я заметил во всех отступниках (Грановский и Чивилев) нерасположение к нему». Разумеется, в первую голову вина на Строганове, тут Шевырев прав. Что, если Соловьев (как же он переменился! два года назад в Париже совсем другим был!) одумается и впрямь станет исследователем «в нашем духе». Следовало повременить.
Гуляя по Арбату, Соловьев встретил Грановского и Кавелина, разговорились. «Что же ваша диссертация?» — спросил Грановский. «Давно подана». Сергей удивился, слыша такой вопрос от секретаря факультета. «Как подана? — усмехнулся Грановский. — Никто на факультете об ней не знает». Соловьев объяснил, что она у Погодина. «А, это дело другое», — сказал Грановский, и они расстались. Случайная уличная встреча? Да. И странный диалог. Отчего диссертация должна быть у Погодина — он болен, он в отставке, он враждует с факультетом. Он знаток русской истории? Но рядом с Грановским стоял Кавелин — и отмалчивался.
Соловьев отправился к Погодину просить, чтобы вернул диссертацию, и услышал замечательные слова: «Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз при первом опыте выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша, как магистерская, очень хороша, но как профессорская — вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы; повторяю: труд прекрасный, как магистерская диссертация; но как профессорская — не годится». Сергей заверил, что о профессорской (нечто небывалое, строго говоря) нет речи, что цель его — покончить с магистерской и ехать в Петербург искать места: «Если вы находите, что диссертация, как магистерская, удовлетворительна, то сделайте одолжение, напишите это, чтоб после факультет вас уже более не беспокоил».
Без доли лукавства, вероятно, Погодина бы он не переупрямил. Профессор отнекивался, соглашался написать просто: «читал». Соловьев настаивал; «Если диссертация удовлетворительна, то почему вы не хотите этого написать?» Погодин наконец уступил, написал на диссертации: «Читал и одобряю». Крепко сжимая многостраничный труд, Сергей шел от Погодина по Девичьему полю к Остоженке и повторял: «Подлец!»
И у такого человека быть адъюнктом! Как-то в разговоре Погодин пояснил, что под этим разумеет*, «Если бы я был опять профессором, а вы у меня — адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне нездоровилось или я не был бы расположен читать, то читали бы вы». Соловьев прокомментировал эти слова: «Зная характер Погодина, его громадное высокомерие, властолюбие и отсутствие деликатности в обращении с низшими, зависимыми людьми, я видел, какое страшное рабство предстояло мне, и, разумеется, никак не мог согласиться на подобные отношения».
Еще Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ, воскликнул: «Не приведи бог служить по ученой части!»
На следующий день диссертация была у Давыдова, потом у Грановского и только от него попала в руки Кавелина. По старой памяти, по дружбе, завязавшейся в кружке Аполлона Григорьева, Соловьев не ждал подвоха, но впечатлительный, увлекающийся Кавелин, прочитав диссертацию, буквально «восплясал от радости». В Соловьеве он нашел
единомышленника. В науке это бывает нечасто.
От Кавелина Грановский и другие профессора западной партии услышали, что труд Соловьева — важнейшее событие в исторической литературе после Карамзина и «сам по себе составляет эпоху в области исследований о русских древностях», автор же подает радостные надежды в будущем. Единственное пожелание: обратить должное внимание на родовое начало. К родовой теории Кавелин склонялся решительнее Соловьева: «По нашему глубокому убеждению, едва ли можно найти одно замечательное явление или событие в древней русской истории, особенно до Иоанна III, которое не определялось бы этим началом, даже после Иоанна III множество явлений русской жизни объясняется только им, и чем далее назад от нашего времени, тем более». Это он объявил в печатной рецензии на соловьевскую диссертацию. Впрочем, родовая теория — частность. Важнее другое: Кавелин переломил общественное настроение. «Вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями».
Диспут по диссертации состоялся 3 октября. Давыдов объявил этот день «Минервиным праздником молодого ученого». Он-то понимал: протеже попечителя. Он — не Погодин, о нем никто не скажет, что он не благоприятствует Соловьеву. Погодин же занес в дневник: «Читал Соловьева. Ужасный вздор, а на диспуте Бодянский, Давыдов и прочие чинят поклонение новой мысли. Говорят мои мысли, а хоть бы кто вспомнил обо мне. Перед диспутом Чивилев сказал мне, что распущен слух о намерении моем восстать на Соловьева, могут студенты быть подговоренными. Ах, подлецы какие! Я сказал несколько слов в похвалу. Строганов осмелился выговаривать мне, зачем я мало возражал и не сказал ему мнения ни об диссертации, ни об лекции, которого он у меня не спрашивал. Как будто радуются и торжествуют мое поражение. Несчастные! Что я вам сделал, кроме пользы!»
Защита прошла красиво. Мнение Погодина о неверности теории «старых» и «новых» городов никто не поддержал. Официальный оппонент Грановский хвалил, равно как и Бодянский, Кавелин, Калачов, Давыдов. Превозносили до небес. Уколол Шевырев — зачем не упомянут Карамзин, чьи плодотворные мысли остается лишь подбирать и развивать. Возражение не дельное, и «диспут кончился со славою для меня».
Среди тех, кто порадовался успеху Соловьева, был Александр Иванович Тургенев, парижская библиотека которого так выручала два года назад. Старик назвал диссертацию Сергея примечательным явлением в нашей «безотрадной литературе», хотя и его беспокоило «излишнее молчание о Карамзине». Ровно через два месяца после соловьевского диспута Тургенев умер. Уходило старое поколение, поколение современников, читателей и почитателей Карамзина. Как естественно звучит: карамзинское поколение!
И никому в голову не приходило сказать: погодинское поколение или — гораздо сдержаннее — погодинские читатели. Статьи, рассеянные в журналах, жалкий «Москвитянин», уход из университета… Погодин жаловался знакомым на «наглость» Соловьева, не понимал, за что эта удивительная неблагодарность. Шевырев попытался объяснить: «Много раз я тебе говорил и опять повторяю: дурно ты делаешь, что пренебрегаешь молодежью. С таким презрением к ней нельзя продолжать издания журнала. Тщетно я хочу быть примирителем — никак не могу. Но ты меня почти никогда не слушаешься — и это не в первый раз. Я делаю все, что могу, в твою пользу, но нигде не нахожу сочувствия — и должен сказать тебе о том искренно. Я один остаюсь тебе верен. Но мои силы ограниченны. Ты всему вредишь своим упрямством и излишнею гордостью».
Получив, это письмо, Погодин рассвирепел: «Какая это молодежь? Кто они? Что они сделали прежде? Жалкая посредственность, которой самолюбие, чуя мое мнение, раздражилось». Приехав к Шевыреву обедать, долго говорил о бессмысленных рецензентах, которые Соловьевым начинают эру. Эру?! Грустно и печально кончался для Погодина 1845 год.
В декабре у Погодина был Соловьев, привез подарочные экземпляры диссертации, — не огрубел еще молодой человек, есть чувство. Но хорошо так поступать со старым профессором, с учителем? Задал вопрос и услышал дерзость: «Вы прежде скажите мне, что дурного сделал я в отношении к вам?» Что дурного?! Всего не перечтешь, под руку попались соловьевские книжки: «Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали, — какому-нибудь Ефремову, и тому надписали». В Ефремове Погодин ошибся, тот не сторонний Соловьеву человек, но добрый приятель, да и мыслят они сходно. Сергей возразил: «Но видели ли вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог дать и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать экземпляр; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар; вас я причисляю также к лицам официальным, ибо вы были экзаменатором; но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестною, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка между нас не пробежала».
Не черная кошка — кафедра в Московском университете, его, погодинская кафедра. Недавно из Парижа, а никакой учтивости, не выучился уважать старших: «А это хорошо — начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?» — «Решительно в голову не пришло», — отвечал Соловьев.
На излете ссоры Погодин упомянул почтенного Михаила Васильевича, который, как отец и священник, должен был бы наставлять сына. Соловьев только что получил первое жалованье, более года он жил на средства родителей, деньги, потребные для печатания диссертации, занял у Строганова, еще были траты на мундир, на книги. Спасибо Строганову — предложил давать уроки его сыну, готовившемуся в университет; Погодин и не поинтересовался, откуда брались деньги, а берется поучать семью Соловьевых: «Что касается до моего отца, то, конечно, он сердился на вас гораздо больше, чем я сам: старик дождался единственного сына из-за границы, открылась возможность, чтоб этот сын остался при нем в Москве, на почетном и обеспечивающем месте, и вдруг он слышит — вы, старый и не нуждающийся больше ни в каком месте человек, перебиваете место у его сына!»
С тем и расстались. Погодина утешил Уваров, не утвердивший Соловьева в адъюнктах. Строгановский подопечный сделался «исполняющим должность». Канцелярские тонкости, но Соловьев переживал: «Это была первая неудача по службе, начало держания меня в черном теле».
В новом, 1846 году Погодин издал книгу «Историко-критические отрывки», по-своему замечательную, в которой собраны работы разных лет, лучшее, что дали уваровские «православие, самодержавие и народность» в исторической литературе. В книгу вошли две свежие, прошлогодние статьи, обе принципиальные, где доставалось и западным историкам, и своим, доморощенным сочинителям. Одна, «Параллель русской истории с историей западных европейских государств, относительно начала», утверждала незыблемое николаевское: «Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит». Даже изящно!
Там, на Западе, было завоевание, зло которого неизлечимо: «Завоевание, разделение, феодализм, города с средним сословием, ненависть, борьба, освобождение городов, — это первая трагедия европейской трилогии. Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, революция — это вторая. Уложение, борьба низших классов… будущее в руце божией». На Востоке, в русской истории, нет ни завоевания, ни его следствий: разделения сословий, феодализма, среднего сословия, рабства, ненависти, гордости, борьбы. Не будет и революции, «славяне были и есть народ тихий, спокойный, терпеливый», изначально безусловно покорный: «Поляне платили дань козарам, пришел Аскольд — стали платить ему, пришел Олег — точно также».
Погодинские параллели заставили нарушить молчание самого Петра Киреевского, который написал и напечатал статью «О древней русской истории», где началу покорности противопоставил «большое взаимное сочувствие, выходящее из единства быта». Славянофилы, которых многие, вроде Герцена, смешивали с постоянными сотрудниками «Москвитянина», спешили отмежеваться от Погодина.
Еще больнее Погодин задел западников.
Редактор «Московских ведомостей» Евгений Корш поместил неосторожную заметку «Бретань и ее жители», где снисходительно заметил: «Средний век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него». Страна без истории? С этим не могли согласиться ни Погодин, ни Иван Киреевский, ни Соловьев. Собственно говоря, Корш хотел воспеть Петра I, благодаря которому русские «решительно распростились с своею неподвижной стариною, с безвыходным застоем кошихинской эпохи» и пошли путем обновленной жизни и многосторонней деятельности. Бретань, конечно, была поводом высказать западнический взгляд на русское будущее: «Как бы ни было невежество упрямо и грубо, всепобеждающая сила цивилизации рано или поздно одолеет его. Бретани предстоит эта участь в скором времени: железные дороги необходимо разольют в ней свет образованности».
Погодин подготовил ответ. События происходили в феврале — марте 1845 года, он тогда хлопотал о возвращении в университет, ездил к Строганову, унижался без успеха, «Москвитянин» уступил Ивану Киреевскому, который успешно обновил «напитанный Погодиным» журнал. Статья «За русскую старину» вышла хлесткая. Помог, как ни странно, Гришка Кошихин (Котошихин), подьячий Посольского приказа, при царе Алексее Михайловиче бежавший за рубеж и казненный там за убийство. От Котошихина осталось сочинение, нелестное для русских. Буйный подьячий рисовал их косными, невежественными, лживыми, чванливыми, бессовестными. «Кошихинские времена» — своего рода символ бессмысленного покоя. Или, как у Корша, застоя.
Для начала Погодин «довел до сведения» автора заметки о Бретани, что на Руси, разумеется, не было Парижа, но была Москва; не было западных средних веков, но были восточные, русские. Любопытно, что и Евгений Корш, и Погодин исходили из противопоставления России и Европы, не соглашаясь лишь в толковании его последствий. Московский профессор верен себе: в николаевской России «занимается заря новой эры». И какое удачное получилось в статье завершение: «Избави нас боже от застоя кошихинской эпохи, но и сохраните нас, высшие силы, от кошихинского прогресса — прогресса Кошихина, который изменил своему отечеству, отрекся от своей веры, переменил свое имя, отказался от своего семейства, бросил своих детей, женился на двух женах, и кончил свою несчастную жизнь от руки тех же иноплеменников, достойно наказанный за свое легкомысленное и опрометчивое отступничество!»
До конца жизни Михаил Петрович гордился статьей «За русскую старину», при случае читал гостям, своему биографу Николаю Барсукову, например. Кончив чтение, потрепал «молодого деятеля» по плечу и дал поручение разыскать в Петербурге его новую шубу, которую у него обменяли на археологическом съезде. Барсуков рассказал об этом эпизоде без улыбки, почти благоговейно.
Печатая «Историко-критические отрывки», Погодин верил, что восторжествует над недругами. Хотя бы в потомстве. Достало бы терпения. Он и Шевыреву говорил: «Ей-богу, мы делаем вещи невероятные, и потомство (о потомство!) скажет нам спасибо! А любезные современники — Строгановы, Бодянские, Соловьевы, Белинские и прочие и прочие! Жизнь есть служба, есть борьба!»
В предисловии, помеченном ноябрем 1845 года, Погодин представил себя жертвой, ученым, которого бессовестно обкрадывают: «Читатели увидят здесь некоторые исторические мысли, встречавшиеся им, может быть, у других авторов. В свое время я не отыскивал прав литературной собственности, веря русской пословице: на всякую долю бог посылает; а теперь выставленные под рассуждениями годы первого их напечатания покажут ясно, кому что принадлежит». Но такова уж погодинская несчастливая звезда: даже Шевырев, издав книгу о древней русской словесности, забыл его упомянуть: «а упомянуты и Соловьев, и черт знает кто».
Кавелин откликнулся на книгу Погодина рецензией, в которой назвал его «защитником старого против нового», превратившим русскую историю в курс психологии в лицах. О статье «За русскую старину» рецензент высказался предельно ясно, связав ее с общественной позицией Погодина: «Желая сделать из русской истории «охранительницу и блюстительницу общественного спокойствия», он непременно требует, чтоб и она имела свой средний век, после которого, как известно, и начала развиваться полиция предупредительная. Иначе она была бы невозможна, а это не допускается г. Погодиным».
Соловьев промолчал, как будто «Историко-критические отрывки» были событием заурядным, на лекциях говорил студентам о родовом быте, преподносил свои и кавелинские мысли. Досада взяла Погодина, когда он побывал на экзаменах в университете. Отвечали студенты, год слушавшие курс Соловьева: «Все свои умничанья он заставляет учить студентов. Строганов портит его, а может быть, это и собственное его свойство: опрометчивость и самонадеянность».
По-другому судил о первом университетском курсе Соловьева его слушатель Борис Чичерин: «Совершенною новостью для всех был курс Соловьева. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей. Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло».
Соловьев отмолчался, даже когда летом 1846 года Погодин выпустил три тома «Исследований, замечаний и лекций о русской истории», хотя, казалось бы, вот удобный повод сказать доброе слово о предшественнике по кафедре. Советовался о совершенных пустяках, о том, можно ли принять на службу отпущенного погодинского человека, но не подошел, не поговорил об «Исследованиях», которые посвящены «молодым друзьям русской истории, студентам университетов, и в особенности студентам Московского университета». Впрочем, оно и к лучшему; вот Василий Григорьев, на которого столько времени было положено, написал с обидной откровенностью: «Лекции ваши не произвели на меня сильного впечатления… Вы сами не знаете, сколько в вас немецкого. Вы до сих пор занимаетесь русскою историею, идя по следам немцев».
Соловьев лето 1846 года провел на даче, продолжал давать уроки сыну Строганова, жил тихо, хорошо, обрабатывал докторскую диссертацию. Для затеянного славянофилами «Московского сборника» он написал статью о родовых отношениях между князьями Древней Руси, где очень пригодились кавелинские замечания. Действительно, родовое начало, проще говоря, начало родства господствовало в стране, где не было твердых юридических отношений. Кавелин, ознакомившись со статьей, похвалил за то, что родовым отношениям «возвращено их настоящее глубокое решительное значение в судьбе древней России». Бесспорно, родовая теория прочно утвердилась в исторической литературе, как бы ни объявлял ее Константин Аксаков поклепом на русскую историю.
С Кавелиным отношения сложились самые дружеские, без церемоний. Константин легко воодушевлялся, охотно спорил, не скрывал религиозного вольнодумства, насмешничал. Повторял слова, пущенные в ход их общим приятелем, Аполлоном Григорьевым, который, недолго прослужив секретарем Совета университета, подался в Петербург, откуда писал, что профессора Московского университета — «стадо скотов, богохульствующих на науку», а их бесплодные теории полны цинического рабства, прикрытого лохмотьями западной учености. Что сталось с умницей Аполлоном, окончившим курс первым кандидатом, Сергей не знал. Спасибо, хоть делал исключение длй «свежего, благородного, хотя исполненного предрассудков и византийской религии Соловьева». Кавелин, числившийся в «стаде», смеялся, потом друзья, как вспоминал Соловьев, «упивались развитием наших сходных научных взглядов». Лет через пятнадцать они взаимно охладели друг к другу, и Кавелин, в котором вдруг заговорила дворянская спесь, бросил о Соловьеве: «поп».
Их часто ставили рядом, сравнивали. Белинский, который привлек обоих к сотрудничеству в «Современнике», отдавал предпочтение Кавелину, его легкому слогу, умению увлечь читателя: «Статьи Кавелина для нас в 1000 раз важнее и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы нам доказали, как 2Х Х2 = 4, что для науки статьи последнего в 1000 раз важнее статей первого. Я никогда не забуду, как Герцен в Париже, прочтя об отношениях князей Рюрикова дома, сказал мне: очень хорошо, только страшно скучно и читать — мука. А ведь Герцен — не публика! Но кафедра — иное дело; и там ценится высоко живое и красноречивое изложение; но, как бы сухо, и мертво, и неуклюже ни читал профессор, если в его лекции есть крупицы фактов и воззрений чистого золота, молодые служители науки будут от него даже в восторге. Журнал — другое дело. Он занимается и наукою, но не для науки, его цель — не просвещение, а образование».
Тогда же Погодин (шел 1847 год) большим достоинством счел кавелинскую ясность, даром что сам изъяснялся с нарочитым косноязычием: «Он берет большее преимущество пред Соловьевым, который решительно видит все навыворот и не помнит, что говорит, хоть и говорит, пишет легко и живо. Оба они отделали или хотели отделать меня одинаково (знать, сильны!), следовательно, и в этом отношении я могу судить об них, не склоняясь ни на чью сторону. В успехе Соловьева я отчаиваюсь, окончим сравнение, если он не подвергнется радикальному лечению, а на успех Кавелина я надеюсь, лишь только откинь он предубеждения».
Чичерин находил замечательным, что в одно время два человека, Кавелин и Соловьев, без предварительного уговора пришли к одному взгляду на русскую историю и сделались основателями новой русской историографии. Им не было и тридцати лет, когда они сформулировали родовую теорию и изложили начала государственной школы. В глазах Чичерина юридические знания Кавелина служили «драгоценным восполнением» ученой деятельности Соловьева. Истоки же — от Грановского: «Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо они были его слушателями». Отсюда и сходство воззрений.
К весне 1847 года докторская диссертация была написана. Она называлась «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» и в напечатанном виде составляла объемистую книгу в 700 страниц. Когда Сергей привез ее Погодину, тот проворчал: «Вишь, какой блин испек!»
Исследуя летописи, духовные и договорные грамоты великих и удельных князей, монастырские акты, Соловьев построил теорию, которая объясняла ход русской истории до Ивана Грозного как «естественную связь событий», как «естественное развитие общества из самого себя». Он находил несправедливым деление на периоды — удельный, монгольский — и предлагал «принять выражения определеннейшие: отношения родовые и отношения государственные», борьба которых и составляла содержание истории Руси до конца XVI века, до «пресечения Рюриковой династии», когда произошло окончательное торжество государственных отношений над родовыми, торжество, «купленное страшной, кровавой борьбой с издыхающим порядком вещей». Некоторые положения диссертации звучали очень резко.
О времени после Ярослава Мудрого он писал: «Все князья суть члены одного рода, вся Русь составляет нераздельную родовую собственность; идет речь о том, кто из князей старше, кто моложе в роде: за все это споры, все междоусобия. Владения, города, области имеют значение второстепенное, имеют значение только в той степени, в какой соответствуют старшинству князей, их притязаниям на старшинство, и потому князья беспрестанно меняют их. Интерес собственника вполне подчинен интересу родича. Вместо разделения, которое необходимо связано с понятием об уделе, мы видим единство княжеского рода». Сказанное противоречило тогдашним представлениям, равно как и требование исключить из русской истории понятие «монгольский период»: «Это название может быть допущено только тогда, когда мы берем одну внешнюю сторону событий, не следя за внутренним, государственным развитием России; мы не имеем никакого основания ставить монгольские отношения на первом плане, приписывать азиатской орде такое сильное влияние на развитие европейско-христианского общества».
Погодин назвал диссертацию «парадоксами молодого человека» и снисходительно заметил: «Примерное трудолюбие его ручается, что он останется недолго под их властью». По поводу монгольского периода между учителем и учеником завязалась печатная перепалка. Соловьев поместил в «Московских ведомостях» заметку, после чтения которой Погодин не сдержался: «Получил газеты и нахожу ругательство подлейшее и невежественное Соловьева. Вот подлец-то». Другие судили сдержаннее, хотя Соловьев не раз слышал, что не следует вооружаться против учителя. Ответ Погодина был, по признанию современников, «немилосердным», но одно его возражение заслуживало внимания: «Исключить — легко сказать, но чего стоило нашим предкам прожить этот период? Исключить одним почерком пера воспоминание о двух с лишком столетиях рабства, позора, страданий, слез, крови, убитого чувства, — двух с лишком столетиях, в продолжение коих все князья должны были, как сказал я, ездить в Орду, на берега Амура и Волги, для поклонения ханам, все митрополиты, между коими были Петр и Алексий, смиренно просить ярлыков даже для свободного богослужения, все граждане должны были преклонять свою голову пред последним татарином и считать себя рабами, — о, это такой период, на который татары наложили глубоко клеймо свое, и исключать их имя из него, — не знаю, значит ли понимать этот период?»
Окончание погодинской статьи исполнено достоинства, даже Грановский был доволен: «Соловьев говорит наконец о моем непонимании истории, о моем незнании фактов, о моей недобросовестности в исследованиях. Об этом спорить я не могу, — может быть, все это и правда. Пусть судят другие, а мое дело стараться понять, чего не понимал; узнать — чего не знал, и учиться, учиться, учиться».
Новый академический год Соловьев начал с чувством, доселе неведомым — «чувством оскорбленного авторского самолюбия».
Предыдущий, правда, окончился на редкость благополучно: он защитил докторскую диссертацию. Экзамены, ей предшествовавшие, нисколько не затрудняли, дались несравненно легче магистерских. Достаточно было сказать экзаменаторам, близким приятелям, друзьям, на какие вопросы он хочет отвечать. Свою подготовку к экзаменам он описал в шутливом письме Константину Аксакову: «По грехам, государь, пришла на меня кручина всякая. Ведомо тебе, государь, што от приказу велено мне стать на пытку, и как, по грехам, учнут меня пытати крепко, а мне как отвечати. А будут, государь, меня пытать Александре Чивилев и Тимофей Грановский, да иноземец Гохман; а нешто Тимофей учнет меня пытати о немцах, про Францовскую сторону и про Англенскую, и про Италенскую, и про Тарабарские Немцы, и про всякие безбожные Латыни, Лутеры и Кальвины, как те богоборные языки меж собою ссоры чинили и воевалися, друг друга секли и грабили. И мне, государь, как то все знати, а учнет меня, государь, Олександра Чивилев пытати про немцы, сколько у тех немцев лошадей, овец, коров и свиней, и мне, государь, про те немецкие лошади, и коровы, и овцы, и свиньи како знать. А обида, государь, великая, что нас, православных крестьян, русских людей, про немца пытают, и аз, государь, от той кручины ума отбыл».
Погодина на экзамен не приглашали.
Предварительное рассмотрение диссертации на заседании факультета завершилось блистательным успехом. Строганов был в восторге — от педантичного Голохвастова он услышал: «Это такая книга, что по прочтении каждой страницы я мысленно с почтением кланяюсь автору». Катков говорил знакомым о Соловьеве: «Не правда ли, какой чудесный труд его диссертация? Как все в ней зрело, обдуманно и живо? Прекрасно разработаны Москва, Иван Васильевич. Честь ему и слава!» Погодин расспрашивал Шевырева, бывшего на обсуждении, негодовал на общее восхищение: «Досадно слушать о подлых каждениях».
Слух о достоинствах соловьевской диссертации дошел до Петербурга, и перебравшийся туда, ближе к Уварову, на место директора Педагогического института, Давыдов слал доверительные письма Погодину: «Что ж смотрит Степан Петрович Шевырев. Ведь на него только и надежда. Так повторяется это здесь в кабинете министра». Но Шевырев, как писал Соловьев, был бессилен «по одинокости и по неуважению начальства и товарищей».
Публичный диспут проходил в июне, после студенческих экзаменов. Вновь официальным оппонентом выступил Грановский, за ним говорили Бодянский, Кавелин, Шевырев. «По окончании ученого обряда диспута громкие рукоплескания свидетельствовали об уважении посетителей и посетительниц к трудам молодого ученого» — так описывала событие газета «Московский городской листок». Погодина на диспуте не было.
Главные возражения делал Кавелин, который доказывал, что под сенью родовых отношений присутствовали и развивались другие, семейные, которые и разлагали родовые и из которых вышла вотчинная система Северо-Восточной Руси. Соловьев ответил Кавелину резко, разгорелся спор, да такой, что вмешался Шевырев, стал успокаивать. Почтенный профессор не хотел знать, что спорят единомышленники, что дело идет о развитии родовой теории. Его больше заботило внешнее благоприличие.
Вскоре после диспута Давыдов, несомненно, выражавший уваровские взгляды, писал из Петербурга Погодину: «Новое поколение превозносит до небес Соловьева; но посмотрим и подождем конца. Право, я не вижу, что нового сказал он? Разве в перифразах содержится новая мысль? Он знает уловки своего поколения — выворотить наизнанку старое. Во всем этом я вижу детство и удивляюсь, как С. П. Шевырев смотрит на это равнодушно. Юное поколение умеет его обнять, а потом и располагает им по своей воле».
Успешная защита докторской диссертации укрепила положение Соловьева в университете, сделала его желанным сотрудником лучших российских журналов и, избавив от спешной работы, дав известный досуг, ввела в самую сердцевину московских споров западников и славянофилов.
В историю русского общества сороковые годы вошли как время духовных исканий, острых идейных споров. Образованные русские люди как бы очнулись от долгого затишья, наступившего после 14 декабря 1825 года, и начался тот удивительный взлет общественной мысли, о котором Анненков написал: «замечательное десятилетие». Деятели, чьи убеждения сформировались в то время, ощущали себя
«людьми сороковых годов» и гордились этим наименованием. Это было поколение «либералов-идеалистов», к которому, безусловно, принадлежал Сергей Соловьев.
Смысл, который тогда вкладывался в понятия «либерал», «идеалист», удачно раскрыл Иван Тургенев. Вспоминая Грановского, писатель нашел хорошие слова: «Он был идеалист в лучшем смысле этого слова — идеалист не в одиночку». Поиски идеала, стремление к нему были ответом на злобу дня, ибо речь шла прежде всего об идеале общественном. Есть у Тургенева и напоминание о том, что в сороковые годы, «когда еще помину не было о политической жизни, слово «либерал» означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и, наконец, пуще всего означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов».
«Люди сороковых годов» действовали в атмосфере более живой, более либеральной (слово «свобода» было бы неуместно), нежели в предшествующее десятилетие, хотя общественное оживление было относительным и поневоле скромным. Основы николаевского строя не изменились; он был бездушен, опирался на военную и чиновную бюрократию, от подданных требовал слепого и беспрекословного подчинения. Исправно работал репрессивный аппарат III Отделения, малейший ропот народа бестрепетно заглушался, «недовольные» презирались. «Недовольные» — название комедии Загоскина, написанной по желанию Николая I, где в жалком виде были представлены Чаадаев и Михаил Орлов. Официальная идеология внушала мысль о величии России и о скорой гибели Запада. В середине сороковых годов ввели новые запреты на поездки за границу («приняты меры к тому, чтобы сделать Россию Китаем»), в результате чего Европа стала «какою-то обетованною землей». Так записал в дневник петербургский профессор и цензор Никитенко.
Действительно ли Российская империя была совершенно отлична от государств Запада? Да, в ней сохранялось крепостное право.
Николаевский режим не искоренил либеральные идеи в России, и тот же Никитенко писал: «Хотеть управлять народом посредством одной бюрократии, без содействия самого народа, значит в одно и то же время угнетать народ, развращать его и подавать повод бюрократам к бесчисленным злоупотреблениям. Есть части правления, которые непременно должны находиться под влиянием народа или общества. Например, часть судебная». Сходно думали и другие мыслящие современники, что побуждало их зорче всматриваться в русскую и западноевропейскую действительность, осмыслять прошлое и задумываться над будущим отечества. В конце тридцатых годов в московских гостиных вспыхнул спор о России, ближайшим поводом к которому стала публикация «Философического письма» Чаадаева. Салонная жизнь старой столицы оживилась, участники спора увидели себя в центре общественного внимания. Герцен вспоминал: «Барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот… Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои».
В те годы Москва, с ее неповторимой атмосферой литературных салонов, была средоточием умственной жизни. В гостиных блистали Чаадаев и Хомяков, Грановский и Герцен, Иван Киреевский и Константин Аксаков. В идейных спорах заметная роль отводилась воспитанникам Московского университета, для которого «замечательное десятилетие» было блестящей эпохой, когда в расцвете сил были молодые профессора, составившие ядро «западной партии».
Уваровское противопоставление России и Европы, журнальные нападки на «гниющий Запад», восхваление «тишины и спокойствия православной Руси», споры о русском прошлом, о «превосходстве» или «отсталости» России, которые вызвало «Философическое письмо», а главное — необходимость определить свое отношение к настоящему, к николаевской действительности, требовали ответа от «либералов-идеалистов», от тех, кто не смирился с торжеством «православия, самодержавия и народности». Именно в Москве года три-четыре спустя после появления «Философического письма» были высказаны новые воззрения на характер русского исторического развития в его взаимосвязи с западноевропейским, на судьбу России. Соответственно изложенным воззрениям участники спора постепенно соединились в два кружка: западников и славянофилов. Здесь берет начало история двух течений русской общественной мысли — западничества и славянофильства.
Знаменитый спор западников и славянофилов, нарушив покой московских салонов сороковых годов, скоро перешел на страницы журналов, ему отдали дань литераторы, ученые, публицисты. В чем суть спора? Какие формы он принимал?
О великом споре написано немало. Разбор высказанных мнений не входит в задачу этой книги, но очевидно, что точное понимание сути спора возможно лишь при строгом историческом подходе, при соблюдении хронологических и тематических ограничений. Принципиально неверно рассматривать западничество и славянофильство вне реального исторического контекста, придавать спору западников и славянофилов несвойственное ему вневременное значение, видеть в нем главное содержание, смысл русской истории от IX века до века XX. Редко, но встречается, правда, и другая крайность: знакомый Соловьеву Михаил Жихарев, после университета еще теснее сблизившийся с Чаадаевым и ставший его душеприказчиком, назвал спор западников и славянофилов столкновением «пустого с порожним». Сказано, пожалуй, излишне резко.
Хомяков, Грановский, Герцен, Аксаков, их друзья и единомышленники мучительно искали ответы на вопросы: «Каковы пути исторического развития России? Что ожидает русский народ в будущем? Европа ли Россия?» Спор славянофилов и западников не был бесплоден.
Сложившиеся в условиях глубочайшего кризиса крепостной России, славянофильство и западничество отразили попытки русских либералов создать целостные концепции буржуазного преобразования страны. Одновременно московские споры сороковых годов были ответом мыслящих людей на усилия николаевских идеологов навязать русскому обществу противопоставление России и Европы. Славянофилы и западники были едины, выступая за отмену крепостного права путем реформ, без участия народа. Кроме исходного неприятия крепостных порядков, в славянофильстве и западничестве было немало и других точек соприкосновения: критика николаевской системы, его внутренней и внешней политики, отстаивание свободы совести, слова, печати и общественного мнения, отрицание революционных преобразований. Западники и славянофилы приняли — в своеобразной и усложненной форме — казенную мысль о том, что «Россия — вне Европы».
Спорившие стороны были едины в подходе к русскому прошлому, столь, как они верили, отличному от прошлого европейских народов. Славянофилы рисовали светлый идеал Древней Руси, а западники отрицали саму мысль о возможности на Руси европейского средневековья. Одни идеализировали Древнюю Русь, другие видели в ней лишь отрицательную сторону. Критическое отношение к настоящему объединяло, но острые споры шли о будущем. Западники верили в европейское будущее России, восхищались делом Петра I и желали содействовать дальнейшей европеизации страны. «Россия — не Европа, но она должна стремиться ею стать» — примерный ход их рас-суждений. Славянофилы порицали Петра I, внесшего в русскую жизнь раздор и насилие, мечтали о создании общества, избавленного от характерных для Запада революций, с пристальным интересом изучали общину, в которой видели залог русского решения социальных вопросов — «слияние капитала и труда» и предотвращение «язвы пролетариатства».
«Россия — не Европа, а стало быть, в ней невозможна революция» — логика славянофилов. Или как писал Константин Аксаков: «Опасность для России одна:
если она перестанет быть Россиею». В основе своей спор западников и славянофилов был спором о выборе пути буржуазного развития: европейском, который в XIX веке казался большинству единственно возможным, универсальным, либо особом, русском.
В 1839 году обменом посланиями между Иваном Киреевским и Хомяковым была сделана попытка отлить в новые формы программу русского либерализма. Хомяков указывал на «прекрасное и святое значение слова государство»; подчеркивал необходимость сильной центральной власти, но мечтал о времени, когда «в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет Древняя Русь». Называя достоинства старой Руси, которые следует воскресить, Хомяков не столько воспевал прошлое, сколько перечислял преобразования, необходимые николаевской России: «грамотность и организация в селах»; городской порядок, распределение должностей между гражданами; заведения, которые облегчали бы «низшим доступ к высшим судилищам»; суд присяжных, суд словесный и публичный; отсутствие крепостного права, «если только можно назвать правом такое наглое нарушение всех прав»; равенство, почти совершенное, всех сословий, «в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей»; собирание «депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных»; свобода церкви. Хомяков излагал своим слушателям программу либеральных перемен, переведенную на язык исторических воспоминаний.
С событий 1839 года началась история славянофильства, история славянофильского кружка, подлинным центром, душой которого был Алексей Степанович Хомяков. «Ильей Муромцем» славянофильства назвал его Герцен, который писал: «Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь… Необыкновенно даровитый человек, обладающий страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор». Главной задачей славянофильства Хомяков считал «воспитание общества», что славянофилы понимали как его полное преобразование на началах, ими указанных. Эти начала они считали угаданными в русском народе, узнанными в русской истории. Хомяков и его единомышленники ощущали свою избранность, что как бы налагало на них обязанность и бремя обращения к русскому обществу, его «пробуждения» и «воспитания». Быть славянофилом — значит быть «воспитателем» общества, и Хомяков утверждал: «Все наши слова, все наши толки имеют одну цель, цель педагогическую».
Хомяков приучал своих единомышленников к мысли о медленности «воспитания общества», о необходимости предшествующего ему самовоспитания: «Много еще времени, много умственной борьбы впереди… Все дело людей нашего времени может быть еще только делом самовоспитания. Нам не суждено еще сделаться органами, выражающими русскую мысль; хорошо, если сделаемся хоть сосудами, способными сколько-нибудь ее восприять. Лучшая доля предстоит будущим поколениям». В сороковые годы мысль о необходимости «воспитания общества» предполагала неприятие и глубокую критику российских общественных отношений, а затем, в стремлении к славянофильскому идеалу, и их изменение.
Славянофильский кружок объединял людей, получивших сходное воспитание и образование, это был кружок выпускников Московского университета. За исключением Ивана Аксакова, окончившего Училище правоведения, и Федора Чижова, учившегося в Петербургском университете, все видные славянофилы в юности были связаны с Москвой и ее университетом. У профессоров университета занимались Иван и Петр Киреевские, кандидатом университета был Хомяков, в разные годы там учились Александр Кошелев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Александр Попов, Дмитрий Валуев, Владимир Черкасский, Василий Панов, Василий Елагин, Александр Гильфердинг, Петр Безсонов.
«Славянской партии» противостояла «западная».
Московский кружок западников сложился несколько позднее славянофильского, примерно в 1841–1842 годах. Во главе его стоял Тимофей Николаевич Грановский. В университете он читал курс истории средних веков, в эпоху всеобщего внимания к истории он, по выражению Герцена, «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду». Едва приехав в Москву из Германии, где он готовился к профессорскому званию, Грановский был поражен, познакомившись с зачатками славянофильства. В ноябре 1839 года он писал Станкевичу: «Бываю довольно часто у Киреевских. Петр (собиратель русских песен) очень хороший человек, к Ивану, старшему, — как-то не лежит сердце. Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу».
Грановский был кумиром московского студенчества. Во время магистерского диспута Грановского в феврале 1845 года студенты приветствовали его восторженными овациями. После защиты Грановский начал очередную лекцию словами: «Мы, равно и вы, и я, принадлежим к молодому поколению, — тому поколению, в руках которого жизнь и будущность. И вам, и мне предстоит благородное и, надеюсь, долгое служение нашей великой России, — России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеве-там иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением».
В университете около Грановского объединились молодые профессора — Александр Чивилев, Петр Редкин, Константин Кавелин, Сергей Соловьев, Никита Крылов, Петр Кудрявцев, Михаил Катков, редактор университетских «Московских ведомостей» Евгений Корш. Кроме коллег по университету, к Грановскому тяготели литераторы Иван Галахов, Василий Боткин, три Николая — Кетчер, Павлов и Сатин, актер Михаил Щепкин. «Наши» — назвал их Герцен: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического».
Западники и славянофилы постоянно спорили. Ожесточенные споры были парадоксальным отражением глубокого внутреннего единства западничества и славянофильства. Верную мысль высказал Герцен: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинакая.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
Что разделяло славянофилов и западников в их любви к России и к русскому народу? Прежде всего они расходились в оценке прошлого России, в решении возбужденного Чаадаевым вопроса о неисторичности русского народа, в подходе к традициям европейской культуры. В разгар споров западники упрекали славянофилов с их пристрастием к русской старине в косности, в ретроградном стремлении сохранить все отжившее, в непонимании великого подвига Петра I. Подобные упреки — полемическое преувеличение, которое нельзя принимать всерьез.
В программной статье «О сельской общине» Хомяков писал, обращаясь к «приятелю»: «Сделай одолжение, отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашею мечтою. Одно дело: советовать, чтобы корней не обрубать от дерева и чтобы залечить неосторожно сделанные нарубы, и другое дело: советовать оставить только корни и, так сказать, снова вколотить дерево в землю. История светит назад, а не вперед, говоришь ты; но путь пройденный должен определить и будущее направление. Если с дороги сбились, первая задача — воротиться на дорогу».
В спорах с Грановским, Герценом, Соловьевым, в «сшибках с общеевропейской точкой зрения» славянофилы нередко терпели поражение. «Замечательно, что славянофилы до сих пор печатно постоянно были побиваемы, и на всех пунктах», — писал Боткин к Анненкову в 1847 году. И именно это письмо содержало признание: «Но между тем славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; они первые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию».
«С них начинается перелом русской мысли», — сказал позднее Герцен.
Славянофилы много писали о русском народе, его прошлом, настоящем и будущем. Их патриотизм был высокой пробы. «Отечество, — писал Хомяков, — не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которою я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то или такие-то права и такие-то и такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которым срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся цельность моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми желаниями сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло». Любовь к родине не перерастала у славянофилов в национальную кичливость, они неизменно подчеркивали необходимость свободного развития всех народностей. «Да здравствует каждая народность!» — восклицал Константин Аксаков.
Славянофилы склонны были подозревать своих противников в недостатке патриотического чувства, в незнании русской истории и неуважении к ней, в преклонении перед Западом. Подозрения, исходившие чаще всего от Константина Аксакова, были, разумеется, пустыми. Действенный характер патриотизма западников показал Тургенев: «Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал — полоса помещичья, крепостная, — не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувство смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал… Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн, — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда».
Слова Тургенева требуют уточнения: славянофилы не меньше западников чувствовали «отвращение» к крепостничеству. Здесь, в отношении к крепостному праву, коренилась общность западников и славянофилов, здесь кончались их споры. На подлинную основу знаменитого соперничества западников и славянофилов, на исторический смысл западничества и славянофильства указал Анненков: «Между партиями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон… Но еще не наступило время для разъяснения этого примиряющего начала, лежавшего в зерне посреди бранного поля и беспрестанно затаптываемого ногами борцов. Зерно, однако же, проросло, несмотря на все невзгоды, как увидим. Связь заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже именно на нем основанного».
Соловьев слыл западником, по его путь к западничеству и место в западническом кружке были своеобразны. «Западная партия» признала Соловьева своим после того, как Кавелин прочитал его магистерскую диссертацию. Можно сказать, что к западничеству Соловьева привели серьезные занятия историей, знание прошлого России, непредвзятость и научная объективность. Прочные знания, европейский кругозор позволяли ему трезво судить об окружающем мире, наука оберегала от крайностей славянофильства и западничества. Примкнув к западникам, он всегда сохранял независимость суждений, да и саму «западную партию» понимал в узком смысле — «партия профессоров, получивших воспитание в западных университетах». Многое в западниках Соловьева настораживало: неверие и материализм одних, политический радикализм других, безнравственность третьих.
В 1846 году ошеломила «крыловская история». Великолепный лектор, мало уступавший Грановскому, Никита Крылов читал курс римского права, был деканом юридического факультета, столпом «западной партии». Соловьеву он не нравился: «Крылов служил ясным доказательством тому, как мало значат, как бесплодны умственные способности без основы нравственной. Это был человек чистый от всяких убеждений, нравственных и научных, ибо способность иметь последние показывает также нравственные требования в человеке, вступившем в ученое сословие».
По Москве ходили дурные слухи: декан Крылов берет взятки с поступающих в университет. Соловьев возмущался — в университете этого не может быть. Не верил и Грановский: «Вздор!» По средам в доме Крылова, женатого на сестре Евгения Корша, бывали веселые вечера, где собирались профессора-западники. На другой сестре Корша женился Кавелин, на третьей, самой некрасивой, хотели женить Соловьева. Тогда бы они породнились с Кавелиным. Но обошлось. Из всех Коршей Соловьев выделял одного, Евгения, необыкновенно остроумного, начитанного: «Пресимпатичная натура, хотя ленивая, чересчур мягкая, как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, требующем хотя сколько-нибудь энергии, твердости».
Вдруг, в конце лета, жена Крылова бежала к Кавелиным, жалуясь на грубое обращение мужа, на невозможность жить с человеком, который пьет и берет взятки. История получилась громкая. Кавелин, Корш, Грановский, Редкий объявили, что покинут университет, если в нем останется Крылов, позорящий профессорское звание, подлец и взяточник. Крылов сначала испугался, не читал лекции, но вскоре переметнулся к уваровской партии, ославил недавних товарищей безбожниками, коммунистами и развратниками, ездил с доносами к митрополиту Филарету, подружился с Погодиным. Соловьев не имел охоты разбираться в семейной ссоре (через некоторое время супруги помирились), но его возмущало стремление Крылова прикинуться православным русским человеком, что как будто могло оправдать — а в глазах иных и оправдывало — его полную безнравственность. Крылова поддержал — еще бы — министр Уваров, взяточник остался безнаказанным, и тогда Корш, Редкин, Кавелин, Грановский подали в отставку, трое первых ее получили, оставили Москву (это происходило в 1847 году), перебрались служить в Петербург. Грановского министр не отпустил, потому что он не выслужил обязательного срока после посылки за границу на казенный счет. Позднее Грановский говорил, что он и его приятели слишком высоко держали университетское знамя и что в России это всегда кончается поражением.
Другая история того же лета внешне прошла почти незаметно, но ее значение было громадно. Среди западников всегда дремали зачатки злых споров, и на подмосковной даче в Соколове выявилась непримиримость демократизма и либерализма. Материализм Герцена и Огарева не был принят «нашими», либералами-идеалистами, во главе которых стоял Грановский. Соколовские споры показали всю иллюзорность деления русского общества на гегельянцев и шеллингианцев, раскрыли, что в области философии подлинные разногласия коренятся в отношении к ее основному вопросу. Развязка спора передана Герценом:
«— Все это так мало обязательно, — возразил Грановский, слегка изменившись в лице, — что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.
— Славно было бы жить на свете, — сказал я, — если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.
— Подумай, Грановский, — прибавил Огарев, — ведь это своего рода бегство от несчастия.
— Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренне обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.
— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло… Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело».
В следующем, 1847 году Герцен уехал за границу.
Соколовские споры и «крыловская история» внесли разлад в кружок, где прежде мирно уживались оттенки мнений, преобладало единство, где все стояли — Соловьев испытал это на себе — друг за друга горой. Соловьев отдалился от «крайних западников», он всегда подчеркнуто сторонился Белинского и Герцена, которые в споре со славянофилами отождествляли свои убеждения с западничеством. Это не мешало ему внимательно читать их статьи, вдумываться в их суждения о событиях русской истории. Так, на ученого оказали определенное воздействие оценки Белинским личности Ивана Грозного и петровских реформ, суждения Герцена о Петре I.
Разброд среди западников теснее сблизил Соловьева с Грановским, к которому он относился с глубоким уважением. По мнению Соловьева, в Грановском была неотразимая притягательная сила, и тот, «кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной».
Знаменитых историков Московского университета соединяли общие взгляды на предмет исторического исследования, на просветительские задачи университетского преподавания. Именно Грановский заложил основы того направления, которое получило название государственной школы и виднейшими представителями которого стали Кавелин и Соловьев. Докторская диссертация Грановского, которую он защитил, правда, позже Соловьева, посвящена была средневековому аббату Сугерию, советнику французских королей Людовика VI и Людовика VII, проводившему политику усиления центральной власти, подчинения ей духовных и светских владык. Чичерин, для которого Грановский остался идеалом профессора истории, писал: «Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогдашнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории». Очевидно, что Грановский и Соловьев, поровну деливший рабочие часы между университетом и архивом, прекрасно дополняли друг друга.
Сходными были и общественные воззрения ученых, о чем верно сказал Соловьев: «По политическим убеждениям Грановский был очень близок ко мне, то есть очень умерен, так что приятели менее умеренные называли его приверженцем прусской ученой монархии». Умеренность, нерешительность — упреки, которые не раз приходилось слышать и Соловьеву. Друзьями был даже как-то назначен вечер, чтобы выслушать его исповедание веры, но по какой-то причине вечер не состоялся, о чем весьма сожалел пытливый Боткин. Скорее всего Соловьев просто уклонился. Зачем? Главной формой его участия в общественной Жизни были исторические сочинения, которые всем доступны. Читайте.
Высокая научная репутация легко открыла Соловьеву доступ в западнические журналы — «Отечественные записки» и «Современник», редакции которых даже конкурировали, стараясь заручиться его согласием на сотрудничество. Боткин, представлявший в Москве «Отечественные записки» (оба журнала издавались в Петербурге, единственный в Москве «Москвитянин» для Соловьева был закрыт), обращался к Грановскому за содействием и сообщал редактору Краевскому, что готов «кадить» Соловьеву, лишь
бы подвигнуть того на участие в журнале. Боткин подозревал, что Соловьев колеблется из-за близких отношений к некоторым славянофилам, и успокоился, лишь услышав о скором докторском экзамене. Соловьева он тут же заверил, что «Отечественные записки» столь дорожат его сотрудничеством, что до получения решительного ответа не станут искать другого автора по части русской истории. В письме Краевскому Боткин объяснял: «Не будете ли вы меня бранить за такую галантерейность, но она сделана была вследствие моего большого желания втянуть Соловьева в «Отечественные записки». Ведь это человек очень дельный, хотя, к сожалению, и очень сухой». Переговоры продолжались при жарком участии Галахова и Грановского, и было подписано соглашение о постоянном сотрудничестве Соловьева в «Отечественных записках», чем Боткин не без основания гордился.
Позицию «Современника» изложил Белинский, писавший Боткину, а через того — и всем «московским друзьям»: «Нечего и говорить о Соловьеве. Это человек совершенно чуждый нам, да не близкий и вам. Он. не хочет принадлежать никакому журналу исключительно. Он наклонен к славянофильству, но его отношения к Погодину не позволяют ему печатать своих статей в «Москвитянине». Поэтому для него «Отечественные записки» и «Современник» — все равно, и мы очень будем ему благодарны, если, печатая в «Отечественных записках», он будет и нам давать статьи».
В «Современнике» статьи Соловьева стали печататься с 1847 года, в «Отечественных записках» — год спустя. Неизбежным следствием сотрудничества в журналах стало знакомство с цензурной практикой. Соловьев крайне нелестно отзывался о «шайке людей», занимавшихся «направлением литературы» из-за хорошего жалованья: «На суд невежды поступает книга или статья, в которой он ничего не смыслит; читает он, спеша на обед или на карты, и все, что кажется ему подозрительным, марает безответственно; кажутся ему подозрительными, недозволенными факты, давно уже известные из учебников, и он марает их, ибо давно уже позабыл учебник, если когда-либо и держал его в руках, — марает или даже еще переделывает сам, выдумывает небывальщину». Вообще по возвращении из Парижа его отношение к николаевскому правлению нисколько не улучшилось, внутреннее состояние России удручало.
Но откуда шли разговоры о склонности Соловьева к славянофильству? Да так и было. Изжив юношеский русофилизм, приобретя «правильный взгляд на отношения между древнею и новою Россиею» (его слова), Соловьев сохранил от прежних, столь любимых с детства занятий древней русской историей теплую симпатию к Древней Руси, к ее лучшим людям. «Эта теплота высказывалась в моих лекциях, в моих статьях, чего славянофилы не могли не заметить, особенно в противоположность с выходками Кавелина и других крайних западников».
Богатый Кошелев, думавший стать примирителем обеих партий, устраивал обеды и ужины, на которых Грановского и Константина Аксакова сажал по концам стола, а посередине садился сам и рядом — Соловьев. Роль «срединного человека» Сергею Михайловичу — именно так обращались к нему теперь — не удавалась. Кошелев казался мужиком и горланом, пожелавшим играть роль передового человека в обществе, даже совершенным дураком, когда речь заходила о высших материях. Надо заметить, что о современниках Соловьев часто судил опрометчиво. Кошелев, например, был дипломатом школы Нессельроде и Поццо ди Борго, в аристократизме не уступал Строганову, а к философии пристрастился еще в веневитиновском кружке.
Со славянофилами Соловьева роднил искренний интерес к русскому народу, к его языку, культуре, традициям, к устному народному творчеству. Он разделял стремление славянофилов объяснить настоящее через прошлое, живой отклик находили у него их славянские симпатии. Вместе с тем ученый не мог одобрить дилетантского подхода славянофилов к занятиям историей, их предвзятых суждений об отдельных событиях прошлого, их идеализации простого народа. Для него это были изъяны очевидные и вполне достаточные, чтобы не верить в славянофильство. Однокашник Соловьева по университету Полонский в поэме «Свежее преданье» описал настроения героя, Камкова, которые были близки соловьевским. Каиков полагал,
Что есть у всякого народа
Святая цель — его свобода.
По-своему он понимал
Свободу. Быть вполне свободным —
Он думал — значило связать
Себя во многом, сочетать
Свой личный идеал с народным.
Так отчего же мой Камков
Не сделался славянофилом?
Друзья! не тратя лишних слов,
Скажу, что бедный мой Камков
Не верил потаенным силам.
«Нет! — часто думал он, — пока
Наш мужичок без языка, —
Славянофильство невозможно
И преждевременно и ложно…»
Главное, что отделяло Соловьева от славянофилов, — его твердое убеждение в единстве исторического развития России и Европы. Здесь согласие было немыслимо. Славянофилы, как, впрочем, и западники, — ведь и те, и другие умещались в пределах неширокой доктрины российского либерализма, — исходили из чаадаевского положения об «отсталости» России, понимая «отсталость» как благо, как преимущество, веря, что именно в силу своей «отсталости» Россия избежит гибельного пути подражания Западу и найдет особое, чисто русское решение социальных и политических вопросов. Для западников «отсталость» России подразумевала необходимость усилий Петра Великого и чаемого «нового Петра», чтобы догнать ушедшую вперед Европу. И всегда оставалась неуверенность: удастся ли наверстать упущенное. После 1848 года, разрабатывая концепцию «общинного социализма», Герцен остроумно соединил части западничества и славянофильства, стал писать, что «отсталость» действительно благо, ибо в неразвитой и нищей России сохранился социальный институт, давно забытый в Западной Европе, — крестьянская поземельная община. Герцен понимал общину как зародыш коммуны и доказывал, что Россия ближе к социализму, чем Запад, где фаланстер — лишь мечта лучших умов. В герценовских суждениях (они легли в основу русского народничества) немало ошибочного и антиисторического, но в данный момент важно подчеркнуть: и он не сомневался в «отсталости» России.
Соловьев сомневался. Пожалуй, именно это и делало его позицию в споре западников и славянофилов столь своеобразно-неопределимой. В исторических работах он последовательно проводил взгляд на русский народ как на народ европейский и христианский и, следовательно, имеющий «наследственную способность к сильному историческому развитию». Наиболее точно он выразился позднее, в «Чтениях о Петре Великом», но думал так всегда: «Внутренние условия и средства равны, и внутренней слабости и потому отсталости мы предполагать не можем». По его мнению, речь должна идти не об «отсталости», а только о задержке развития, вызванной неблагоприятными внешними условиями.
Соловьев говорил об этом многословно, и любопытно своеобразное резюме, сделанное репортером «Всемирной иллюстрации», присутствовавшим на втором чтении о Петре и точно передавшим суть воззрений историка: «Почтенный лектор является с сильным протестом против той малодушной скромности и крайне ошибочного мнения о внутренних силах нашего народа и об отношении нашего развития к развитию западноевропейских народов, которые, по недостатку сведений в родной истории, распространены в нашем так называемом образованном обществе. Он горячо протестует против столь распространенного мнения о нашей
отсталости, называя такое мнение ненаучным, и предлагает другой термин —
запоздавшее развитие. Понятие отсталости, говорит г-н Соловьев, предполагает непременно равные условия для состязания. Бегут, например, два ребенка или две лошади — по данному знаку, в один момент; но один обогнал другого, одна лошадь взяла приз, другая
отстала. Ясно, что тут можно говорить об
отсталости, которая прямо указывает на разницу сил и способностей состязателей.
Совсем другое в исторической жизни народов. Простые условия детских перегонок и конских скачек не могут быть сравниваемы с необыкновенно сложными условиями исторического развития народов. Русский народ
не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только
запоздал на два века благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра. Разница двух понятий очевидная:
отсталость нашего народа предполагает в нем меньшие внутренние силы, меньшую способность к развитию сравнительно с другими народами Европы, а
запоздалость — только менее благоприятный исход этого развития благодаря чисто внешним влияниям».
С некоторыми славянофилами Соловьев был знаком давно. С Александром Поповым жизнь сводила его то в Берлине, то в Париже, то в Мюнхене, где тот готовился к профессорскому поприщу. Но юридический факультет, сплошь составленный из западников, Попова не принял, нашел слабым, и ему пришлось ехать на службу в Петербург. Соловьев видел в Попове человека с большими способностями, но мало пригодного к труду, «блестящий на словах, он оказывался чрезвычайно слабым на деле».
Дмитрия Валуева Сергей приметил, будучи студентом, встречался с ним в Париже, а в 1845 году поместил небольшую заметку в валуевском «Сборнике исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных единоплеменных». Этот сборник был первым изданием славянофильского кружка. Как-то так выходило, что в 1845–1847 годах Соловьев участвовал во всех славянофильских печатных предприятиях: то Валуев его приглашал, то Василий Панов, оба большие труженики, чьи усилия, однако, не имели успеха — постоянного печатного органа создать не удалось. О рано умершем Панове Соловьев отзывался тепло: «Это был человек умный, распорядительный, нисколько не даровитый, до крайности неказистый, вялый, насилу вытаскивающий слова изо рта, но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенною, но где приходилось работать, работал за всех». Валуев и Панов, по его суждению, были лучшими среди славянофилов «в нравственном отношении».
Для верного понимания общественной жизни «замечательного десятилетия» важно знать, что при Николае I славянофильские попытки завести журнал либо издание журнального типа (придуманные Валуевым и Пановым «Московские сборники») наталкивались на противодействие цензуры и III отделения. Славянофильство было плохо известно русскому обществу, читатели журналов знали славянофильские идеи в пересказе, часто недоброжелательном. В 1847 году шеф III Отделения граф Алексей Орлов распорядился поощрить издателя «Отечественных записок» Краевского «к продолжению помещения в его журнале статей в опровержение славянофильских бредней». Факт в высшей степени знаменательный!
Была, правда, и внутренняя причина общественной немоты славянофилов, слабого воздействия их идей на публику. Причина эта коренилась в том, что звалось «дворянской ленью». Приглядываясь к коноводам славянофильского кружка, Соловьев находил, что «неспособность двинуться, сделать что-нибудь — порок, которым страдали все эти люди вообще». И Петр Киреевский, напоминавший добродушных чешских патриотов, и брат его, Иван, прирожденный критик и журналист, умный и даровитый, и холодный Юрий Самарин, и Иван Аксаков, поэт, служивший в министерстве внутренних дел, — все они сторонились практической деятельности. Двум последним, в глазах Соловьева, недоставало вдобавок «крепкого научного образования».
Славянофилы хороши были в салонах, в литературных гостиных, на вечерах Авдотьи Елагиной — в воскресенье, у Чаадаева — в понедельник, у Кошелева — по средам и в пятницу — у Свербеевых, Дмитрия Николаевича и его жены, первой московской красавицы Екатерины Александровны. Гостеприимный дом Свербеевых был нейтральной почвой для западников и славянофилов, Соловьева приглашали постоянно, но он, не наученный с юности, так и не обрел светского лоска, ловкости, навыка легкого разговора. Славянофилов он выводил из терпения тем, что упорно молчал, когда они вызывали на спор, судили (он-то знал: вкривь и вкось!) о русской истории. Совсем не нравился Соловьеву неуступчивый, всезнающий Хомяков. Небольшого роста, сутулый, с длинными черными волосами, он привлекал всеобщее внимание, но Сергей Михайлович характеризовал вождя славянофилов крайне нелестно: «С дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не было, — Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств оценить истинного знания, добросовестности и скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гением».
Наделенные умением красно говорить, славянофилы не привыкли работать. Оттого так нужен был им человек, подобный Валуеву, который охранял Хомякова от лени и праздности, заставлял трудиться и постоянно работал сам. Хомяков сказал о Валуеве: «Он менее всех говорит, он почти один делает».
Губительнее других привычка к кабинетной, домашней болтовне сказалась на Константине Аксакове, с которым — так было угодно судьбе — Соловьев сошелся особенно тесно. У богатырски сложенного Константина было сердце льва и душа ребенка. Он органически не умел лукавить, поражал всех беспредельной искренностью, чистотой, идеальностью воззрений на мир, которые странным образом сочетались с неистовым темпераментом общественного деятеля, бойца. Соловьев видел в нем человека, могущего «играть большую роль при народных движениях и
в гостиных зеленого русского общества». Аксаков преуспел в гостиных.
Начало сближению Константина и Сергея положил случай. Написав драму об освобождении Москвы в 1612 году, Аксаков читал ее друзьям и знакомым, хотел он знать и мнение Соловьева, специалиста в русской истории. В авторском чтении (помните: детские представления в аксаковском доме) пьеса казалась превосходной, и Сергей хвалил ее, что, разумеется, понравилось. Его стали приглашать постоянно, его привечали добрая Ольга Семеновна и умный, остронаблюдательный и ироничный Сергей Тимофеевич. В их доме легко дышалось и всегда было весело. По какому-то случаю он написал Аксаковым шутливую записку языком XVII века — Константин, в тридцать лет сохранивший детскую непосредственность, «просто сошел с ума от восторга» и страстно привязался к молодому историку. У Аксакова было такое свойство: безоглядно проникаться доверием к людям. В студенческие годы его ближайшим другом был Белинский, потом последовал разрыв, за ним — обоюдная враждебность.
К Соловьеву Аксаков стал ходить на лекции, не желал знать, что тот — западник, да и не мог в его представлении западник с сочувствием читать специальный курс по истории Смутного времени. Сергей читал именно так — живо, с сочувствием, и это еще более воспламеняло его нового друга. Не подумайте, что другие славянофилы были столь простодушны. Иван Киреевский довел нетерпимость до предела. «Как сметь употреблять язык, на котором написаны наши священные книги, для писания шутливых записок», — возмущался он и делался болен.
Весной 1847 года Аксаков защищал магистерскую диссертацию, которую писал лет десять. Или говорил, что пишет — был неимоверно ленив, неспособен к упорному, каждодневному труду.
На диспуте Соловьев, к всеобщему ликованию, упрекал диссертанта в нелюбви к Древней Руси. В тот же день на пиру, данном новым магистром, Сергей прочел написанное языком летописи сказание о том, как славянофилы ездили жениться — Панов тогда праздновал помолвку. Через несколько дней тем же языком был описан и магистерский диспут. Соловьеву жилось весело: «С обеих сторон, и с востока, и с запада, меня уважали, ласкали; фимиам, который мне воскуряли со всех сторон, мне очень нравился».
Посылая Аксакову печатный экземпляр докторской диссертации, он писал: «Государю Константину Сергеевичу Аксакову приятелишко твой Сергеевец челом бьет и поминки шлет. Не единова, государь, ты меня жаловал, говорил, что книжонку мою будешь честь с охотою: и аз, государь, как та книжонка изготовилась, посылаю ее тебе ж не мешкая. А писал я ее, ту книжонку, в правду, без хитрости, душою ничему не норовя; а отыщешь в ней, государь, какие неправды, и ты, ради бога, на меня не покручинься, а исписав все по ряду, да и пришли ко мне вскоре, штоб мне и вперед было ведомо». Применяясь к аксаковским понятиям, Соловьев отзывался о петербургских журналах: «А в тех, государь, печатных листах, што присылают сюда из Невского городка, какой правды искать? Те листы, государь, воровские: всяк, подобяся собаке, противу чужих лает».
Аксаков пренаивно полагал, что петербургский воздух опасен для русского человека, и удивлялся Соловьеву, прожившему два года в чужих землях. Он сам, предприняв в 1838 году поездку в Германию для усовершенствования в философии и филологии, едва выдержал четыре месяца, в письмах жаловался на невозможность долго оставаться за границей: «Как весело будет ехать к вам, дражайшие родители мои!»
Прекрасный лингвист, чья диссертация раскрывала значение Ломоносова в истории русской литературы и русского языка, Константин Аксаков при желании умел написать послание, стилизованное в старорусском духе, не хуже Соловьева. В начале 1848 года он обращался к другу, приглашая принять участие в очередном славянофильском сборнике: «Ведомо тебе, господине, что в прошлом, в 847 году Вася Панов изобрал книгу: Изборник Московской, и та, господине, книга добрая и земская; нешто б и ныне ту книгу собрати и в народ пустити; и то бы дело было доброе. И нонече мы, господине: я, Коста Аксаков, с братом с Иваном, да Вася Попов, да Олексей Хомяков, да Олександро Ефремов, Стариком зовут, да Олександро Языков, и иные многие люди добрые, меж себя свестяся, тем делом добрым промышляти хотим, книгу выдавати собираемся. Да и иные многие люди добрые в Москве и из иных городов, которые люди за правду и за толикое дело стоят и радеют, и те люди с нами в любви, и в совете, и в соединеньи».
В 1848 году славянофилам не суждено было издать новый сборник, да Соловьев им особенно и не интересовался. Он женился.
Избранницей Соловьева стала Поликсена, дочь морского офицера Владимира Павловича Романова.
Семьи Соловьевых и Романовых жили по соседству, одни — на Остоженке, другие — на Пречистенском бульваре, возле Первой гимназии, и давно дружили. Как произошло сближение столь разных семейств, протоиерейской и родовитой дворянской, неизвестно. Романовы жили большей частью на юге, где на Черном море служил Владимир Павлович и где в Херсонской губернии у них было имение, но часто наезжали в Москву ради детей, здесь учившихся.
Поликсена Владимировна воспитывалась в Екатерининском институте и вынесла оттуда, как писал биограф ее сына Владимира Лукьянов, «все добрые качества и добрые навыки хорошей институтки старых времен: чистоту души, веру в добро, отрицательное отношение к темным сторонам жизни, внутреннюю неспособность допускать в людях прежде всего дурное». Смолоду она, жгучая брюнетка, была замечательно красива.
Романовы — старинный южнорусский дворянский род, среди предков Поликсены Владимировны был Григорий Сковорода, великий украинский философ XVIII века, скитальческую жизнь которого век спустя повторил на свой лад его потомок Владимир Соловьев, мыслитель не менее замечательный. Владимир Романов, в честь которого супруги Соловьевы назовут своего четвертого ребенка, воспитывался в Морском кадетском корпусе, лейтенантом Балтийского флота совершил кругосветное путешествие на корабле «Кутузов», во время которого посещал владения Российско-Американской компании. С правителем дел компании Кондратием Рылеевым он был знаком по Петербургу. 30 декабря 1825 года лейтенант Романов был арестован в Херсонской губернии, в доме своей тещи, и доставлен в Петербург на главную гауптвахту, откуда его перевели в Петропавловскую крепость с повелением «посадить по усмотрению и содержать хорошо». В вину ему вменяли то, что он знал о Северном и Южном обществах и принял поручение Рылеева распространять их идеи. Членом тайного общества Владимир Романов не был, по высочайшему повелению от 15 июня 1826 года его три месяца продержали в крепости и отправили служить в Черноморский флот, с ежемесячным докладом о поведении. За отличия в турецкой кампании он был награжден золотым оружием и в 1828 году произведен в капитан-лейтенанты, через шесть лет он был за раной уволен в бессрочный отпуск, а потом и в отставку. На службу он вернулся в Крымскую войну, в Севастополе был контужен, в 1856 году стал капитаном I ранга. В отставку он вышел в 1861 году контр-адмиралом.
Был Владимир Павлович добр, честен, храбр, к Соловьеву относился хорошо. В конце николаевского царствования, когда молодые профессора находились в явной опале, морская служба Романова неожиданно сказалась на их судьбе. При попечителе Назимове инспектором студентов был Иван Абрамович Шпейер, моряк, как и соловьевский инспектор, незабвенный Нахимов. Молодые профессора страдали от ректора Перевощикова и искали сочувствия у доброго и честного моряка (им очень хотелось в это верить), который должен понять людей, напрасно гонимых. К Соловьеву Шпейер особенно благоволил, по давнему знакомству с тестем-моряком. Шпейер и Назимова утвердил в мысли, что на молодых профессоров все наврали, что они вовсе не бунтовщики (попечитель ждал, что в университете непременно будет бунт), а ректор — негодяй, который гонит достойных людей. Попечитель, сам военный человек, генерал, верил. Когда доносили, что Соловьев — человек неблагонамеренный, Назимов возражал: «Пустяки! Я знаю его тестя — прекрасный человек!»
Мать Поликсены, Екатерина Федоровна, происходила из хорошей фамилии Бржесских, помещиков Харьковской и Херсонской губернии. Когда Владимир Романов был арестован, она следом за ним помчалась в Петербург и, по семейному преданию, энергично за него хлопотала, что, разумеется, нимало не помогло бы, будь ее муж сколько-нибудь теснее связан с декабристами. У Екатерины Федоровны был фамильный гонор, и, почти наверное, она не вдруг согласилась отдать свою дочь за какого-то безродного профессора. Партия, что ни говорите, незавидная. К семейству Бржесских был близок Фет, университетский товарищ Соловьева, и однажды в доме Романовых он был несказанно удивлен, когда объявили, что к обеду приглашен Сергей Соловьев. В происхождении самого Фета было темное пятно, и поэтому он с особой остротой воспринял известие о том, что Романовы дали слово Соловьеву.
Осенью 1847 года Соловьева утвердили экстраординарным профессором, у Романовых он был объявлен женихом. Радость! Но рядом, как всегда, шло огорчение — его пригласил Строганов и встретил словами: «Вы укоренились в университете, больше не нуждаетесь в моей помощи. Я вышел в отставку». Удар был так неожидан, что Соловьев не почувствовал всю его силу. В изнурительной бюрократической схватке Уваров одолел. Строганов добавил: «Официальные отношения между нами кончились, должны начаться более тесные». Соловьев вспоминал: «Сердце у меня начинало разрываться…»
Служебные испытания начались в день, когда, узнав об отставке попечителя, профессор физики Перевощиков напился пьян и кричал: «Долой!» Подняли голову Погодин и Крылов. Назначенный попечителем Голохвастов оказался слаб, нерешителен. Весной 1848 года ректором сделался Перевощиков, который объявил строгановских профессоров опасными либералами, а Соловьеву запретил читать публичные лекции. Это было вдвойне тяжело, ибо Соловьевы обзаводились хозяйством, нуждались, а год был голодный, все дорого..
Свадьбу Поликсены и Сергея сыграли 11 февраля 1848 года. Соловьев сделал невесте прекрасный свадебный подарок: помня ее украинские корни, он написал «Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу», который затем печатался в «Отечественных записках».
Медовый месяц кончился тревожно. Соловьевы после свадьбы поселились в доме тестя, который однажды принес известие о февральской революции во Франции. Режим Луи-Филиппа и правительство Гизо, которым Сергей восхищался, пали. «Сердце мое сжалось черным предчувствием». Прочитав газетные сообщения, Соловьев сказал: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!»
Пророчество оправдалось.
Николай I всегда ненавидел просвещение, которое поднимает головы людям, дает им возможность думать. Николаевский же девиз: «Не рассуждать!» По рассказам Владимира Павловича Соловьев мог составить представление о событиях, которые внушили императору ненависть к просвещению и образованным людям: «При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14-ое декабря».
Умеренный либерал, Соловьев видел в движении декабристов «младенческий лепет» общеевропейского движения в пользу народностей, о котором он много размышлял за границей, находил у них славянскую незрелость, распущенность, лень, и тем значительнее вывод, сделанный им в 1858 году: «Да не сочтет кто-либо слов моих словами укора: сохрани боже! Грустный опыт, грустный взгляд на настоящее не позволяет мне укорять моих несчастных предшественников; прошло более тридцати лет после их попытки, и мы находимся в совершенно таком же положении, как и они». Декабристы — предшественники…
Если видеть одну сторону дела — последовательную оппозицию деспотизму, то Соловьев совершенно прав. Как ни странно, о деле 14 декабря он отзывался словами «Философического письма» Чаадаева, который писал: «громадное несчастие, отбросившее нас на полвека назад». У Соловьева: «несчастное событие» и «событие великой важности, ибо оно объясняет многое в жизни русского народа». Перед нами — преемственность либеральной традиции.
1848 год — черный год в истории русского общества. Революционные события в Западной Европе, народные восстания в Париже, Вене, Берлине и Дрездене, крушение, казалось бы, вечной меттерниховой системы европейского равновесия — все это насмерть перепугало Николая I. «Свистнул свисток на Западе, и декорации переменились на Востоке» — слова Соловьева. При дворе сначала боялись возмущения петербургских чиновников, потом ждали известий о московской революции. Но на Руси было тихо. Обращаясь к гвардейским офицерам, царь произнес историческую фразу: «Седлайте лошадей, господа! В Европе революция». И принялся преследовать просвещение, образование в России, все, в чем он подозревал дух свободы и независимости.
В этой обстановке воспрял духом Погодин. По случаю приезда Николая I в Москву он написал статью, где превзошел всех — Уварова, Булгарина, Кукольника. Всех. Статья была о любви народа к царю. Зачин: «Этой любви к царю, этой безотчетной преданности, этой неограниченной доверенности нет нигде на всем свете». Сердцевина: «Русский народ почувствовал, кажется, что никогда его царь не был так дорог, так нужен для него, для Отечества, для Европы, для мира всего мира, как теперь». Только зачем это неловкое «кажется»? Конец статьи замечателен:
«Итак, да здравствует святая Русь и ее славный, единственный представитель, русский царь, со всем своим августейшим семейством!
Да здравствует духовенство, уча народ в духе благочестия и чистоты, в страхе божием, который есть начало премудрости, и удовлетворяя его высшим потребам!
Да здравствует дворянство, служа верой и правдой, на поле брани и в судилище мира, покидая более и более иностранное воспитание с французским языком, которое мешает ему быть вполне русским!
Да здравствует купечество, наделяя нас плодами всемирной и своей промышленности и жертвуя избытками, как прежде, на пользу меньших братий!
Да здравствует крестьянство и, в поте лица своего снедая хлеб свой, кормя нас всех до сытости, да приимет мзду свою!
Да здравствует благородное воинство, и да не оставляет победа никогда славных знамен его!
Да здравствует ученое и пишущее сословие, памятуя, что в его руках теперь вращается меч сильный, меч обоюдуострый, которым оно должно поражать порок, а не потворствовать ему, и споспешествовать распространению в народе истинных понятий и познаний!
Да здравствует, да здравствует весь православный народ!
Да воскреснет бог, и расточатся врази его!»
Целая программа…
Шевырев воспел «союз царя с народом» в стихах. Что за дело, если Герцен говорит о раболепстве! Пусть! Для Погодина и Шевырева он не указ.
Последние семь лет николаевского царствования, вошедшие в историю как «мрачное семилетие», Соловьев сравнивал с первыми временами Римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, губили все лучшее, все духовно развитое. «Грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных». Подозрительные «идеологи» преследовались, молодым людям внушали, чтобы они меньше думали, больше развлекались, больше наслаждались жизнью. Здоровый желудок, хороший стол и хорошая музыка — больше ничего не нужно. Книжная торговля захирела: книги вредно читать, они расстраивают головы разными идеями. Начались цензурные оргии. Это было постыдное время, вполне показавшее, какие слабые результаты имело просвещение XVIII и первой четверти XIX века в России: «Стоило только Николаю с товарищи немного потереть лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары».
А он, Соловьев, еще отрицал татарский период в русской истории, спорил с Погодиным. Хорошо, что осенью 1847 года, будучи женихом, он встретился с Михаилом Петровичем у Аксаковых и они как будто помирились; тот обнял ученика и витиевато, со слезами на глазах, поздравил: «Всегда желал добра, а теперь кольми паче». Тогда же, правда, появилась погодинская дневниковая запись: «Как жаль Аксаковых, которые, покорные своему изуверу, принимают Соловьева так же, как меня. О, скорее прочь от всех».
«Изувер» — Константин Аксаков. Он и впрямь переменился, в 1848 году избалованный ребенок, семейный деспот превратился в какого-то мрачного старовера в делах общественных. В марте, после первых успехов революции во Франции, он доказывал: «События, совершающиеся на Западе, замечательны. Запад разрушается, обличается ложь Запада, ясно, к какой болезни приводит его избранная им дорога. Я радуюсь обличению лжи… У нас другой путь, наша Русь — святая Русь… Вы знаете, как постоянно был я против западного направления; я теперь еще более против него. Отделиться от Запада Европы — вот все, чего нам надо».
Спорить
с Константином было бесполезно, возражений он не слушал. Некоторые его суждения раздражали воинствующим невежеством: «Мы не видим народа в Западной Европе. В Западной Европе нет народа». Что тут возразить? Или другое заклинание: «Напрасно думают иные, что консервативность западная хороша; консервативность может обратиться в революционность, как скоро консервативность эта — западная. Надо помнить, что, будучи сторонами одной и той же жизни, они могут переходить одна в другую, ибо консервативность на Западе предполагает уже революционность и есть только ее противоположность; она вызвана врагом, против которого борется. Русская же консервативность не имеет врага, ибо в русском народе нет духа революции. Стоит нам только быть русскими — вот мы и консерваторы. Но где же враг, против которого надо быть консерватором? — спросят меня. Враг этот — Запад, уже полтораста лет старающийся увлечь Россию, но, слава богу, он увлек только часть русских, да и тем становится ясно, что гибелен западный путь. Будем русскими. Погрузимся в глубину русского духа; мы найдем там неоцененные сокровища, до которых никогда нельзя достигнуть путем насильственных переворотов. Наш путь — есть путь мира, путь внутреннего, нравственного, духовного убеждения».
До чего же поверхностно изучал Константин Аксаков русскую историю!
Соловьев совсем оторопел, когда услышал, что согласие жизни с православною верою требует исключения всех общественных соблазнов — балов, театров. Фанатизм доходил до юродства. Когда-то Герцен сказал, что Константин Аксаков готов пойти за свои убеждения на костер, но в 1848 году тот был готов скорее жечь, чем гореть. Отдаление сделалось неизбежным. Какое-то время сохранялась видимость прежних добрых отношений, в начале 1850 года Аксаков крестил дочь Соловьевых Веру (первенец Всеволод родился 1 января 1849 года, в семейной жизни Соловьев был счастлив), но скоро пути Сергея и Константина решительно разошлись. В записках Соловьева осталась суровая оценка недавнего друга: «Силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный; последнее можно было бы легко сносить за открытость, добродушие, наивность, но что делало его нестерпимым, так это крайнее самолюбие и упорство в мнениях, для поддержания которых он средств не разбирал».
Пошлость, бессмыслие общественной жизни сказывались везде. Прежний кружок профессоров-западников распался, место ушедших Кавелина, Редкина, Корша постепенно заняли Катков, Кудрявцев, Леонтьев, Бабст, Чичерин, но все как-то обмельчало, выдохлось. В 1849 году следственная комиссия по делу петрашевцев запросила попечителя Голохвастова о настроениях московских профессоров Грановского, Кудрявцева и Соловьева, пытаясь определить степень их сочувствия «предосудительным идеям». Отзыв Голохвастова, отстаивавшего честь мундира, был благожелательным, но московский генерал-губернатор Закревский счел нужным установить негласный полицейский надзор. В 1850 году были кассированы выборы Грановского на место декана историко-филологического отделения философского факультета, а деканом назначен ненавистный Шевырев.
Это случилось при новом министре просвещения князе Ширинском-Шихматове. Уваров, заподозренный в заступничестве за университеты, получил отставку. Неудовольствие Николая I вызвала инспирированная Уваровым статья Давыдова, где опровергались слухи о скором упразднении русских университетов. Об Уварове Соловьев не жалел, но понимал, что ждать доброго от Ширинского-Шихматова не приходится: «Много терпела древняя Россия, Московское государство от нашествия татар, предводимых его предками — князьями Ширинскими, самыми свирепыми из степных наездников; но память об этих губительных опустошениях исчезла; а вот во второй половине XIX-го века новый Тамерлан — Николай — наслал степного витязя, достойного потомка Ширинских князей, на русское просвещение».
Что было следствием бессмысленного гонения на просвещение? «Все остановилось, заглохло, загнило». В русском обществе, среди лучших его представителей, утвердилось отрицательное отношение к действительности, привычка к бесплодному порицанию, к бесплодному протесту, к бессильной насмешке — «жалкое, страшное настроение!» Русское просвещение свернулось, как цветок на морозе: «Лень, стремление получать как можно больше, делая как можно меньше, стремление делать все кое-как, на шерамыгу, — все эти стремления, так свойственные нашему народу вследствие неразвитости его, начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством; гимназии упали; университеты упали вследствие падения гимназий; ибо в них начали поступать вместо студентов все недоученные школьники, отученные в гимназиях от серьезного труда, стремящиеся хватать вершки и заноситься, ищущие на профессорской лекции легкого развлечения, а не умственной пищи».
В лекциях профессоров молодые люди искали намеки, веря, как и невежественное правительство, что университет пропитан либеральным духом. Каткову, который читал лекции по философии, Соловьев заметил: «Какое множество у вас слушателей! Приятно видеть такое сочувствие». — «Что тут приятного, — возразил Катков. — Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я бога».
Лекции Каткова действительно никто, даже умница Чичерин, не понимал, и Ширинский-Шихматов сжалился над профессором и студентами — закрыл кафедру философии.
Невыносимая общественная атмосфера сдавливала достойнейших. Грановский, с которым Соловьев сходился все теснее, говорил, что с величайшим трудом заставляет себя брать перо в руки, работал мало, оправдываясь тем, что все равно ничего нельзя печатать. Соловьева это объяснение не удовлетворяло, он недовольно смотрел на окружение Грановского, на остроумные беседы, от которых трудно оторваться для кабинетного труда: «К сожалению, не одною остроумною беседою занимался Грановский со своими приятелями, вино также приглашалось часто и неумеренно к усилению веселости и остроумия; но и этого мало: у Грановского было несчастная страсть к картам…»
В воспоминаниях Ивана Панаева сохранился рассказ о том, как «безумная страсть» привела Грановского к таким карточным долгам, выплатить которые он не предвидел никакой возможности. Честь его висела на волоске: «К нему обратились известные московские шулера с предложением ему денег, с тем, чтобы он вступил в их сообщество. Им нужно было безукоризненное, честное имя, чистая репутация для прикрытия их мошенничества, плутней и грабежа. Грановский тут-то только увидел ясно, до какого страшного падения довела его безумная страсть, над какой пропастью остановился он». Страшная история!
Спасением Соловьева была работа Он начал писать «Историю России с древнейших времен», много времени уделял лекциям. Его университетский лекционный курс обретал стройность, излишние подробности исчезали, он превратился в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России. Читал Соловьев мастерски, им восхищались такие знатоки, как Грановский, Строганов, Чичерин, Ключевский.
Были, правда, и другие отзывы. Петр Бартенев, будущий издатель «Русского архива», остался недоволен: «Русскую историю читал Сергей Михайлович Соловьев без всякого воодушевления и с возмутительною холодностью. Немудрено: у него было столько других должностей». Предвзятость Бартенева очевидна: тогда, в дни бартеневского студенчества, «других должностей» у Соловьева не было. Когда же они появились, то студент нового поколения, Василий Ключевский, судья очень компетентный, назвал соловьевское изложение «прозрачным». Ключевский вспоминал: «Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать… При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка… Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять… Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком».
Со слушателями профессор Соловьев был сдержан, сух, вне университета недоступен. Среди студентов он слыл талантливым лектором, но гордецом, который не сближался с ними, как это делали Грановский и Кудрявцев. Лекции он читал, закрыв глаза, и никогда не видел студентов в аудитории. Соловьев был высок, с годами располнел, носил золотые очки, всегда был гладко выбрит (бороду он отрастил много позднее), и от всей его фигуры веяло какой-то торжественностью, которая побуждала студентов смирно сидеть по местам.
К обязанностям профессора Соловьев относился свято, всегда готов был дать студенту дельный совет, указать на нужные книги, разъяснить непонятное. Нередко его педагогические приемы поражали. Честолюбивый студент Чичерин знал русскую историю отлично и готовился блеснуть на экзамене. Вопрос ему попался о Смутном времени, о битве, где был ранен князь Пожарский. Подойдя к столу, он начал отвечать: «В пятницу на страстной неделе…» — Соловьев прервал: «Довольно!» И поставил «пять». Впоследствии, когда Чичерин сам стал преподавать, он напомнил об удивительном экзамене. Соловьев объяснил: «Я знал вас за хорошего студента, вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?»
В работе легче было забыть о неприятностях, которые подстерегали повсюду. Когда на лекцию Соловьева пришел Ширинский-Шихматов, профессор говорил о сложном составе русской летописи, на которую нужно смотреть как на сборник разных текстов. На следующий день министр вызвал его и сделал выговор за следование Каченовскому, за скептицизм. «Правительство этого не хочет! Правительство этого не хочет!» — кричал разъяренный князь, не слушая никаких объяснений.
К столетнему юбилею Московского университета новый министр (прежний умер), высокообразованный Норов, сделал так, чтобы Грановский и Соловьев получили ордена как выдающиеся профессора. Но благодушный Назимов представил к награде всех ординарных профессоров и гордился: «Когда это бывало в университетах, чтобы ордена профессорам ящиками возили?»
Шла Крымская война, николаевский режим явно обветшал — отсюда и неслыханная милость.
К торжественному акту 12 января 1855 года Соловьев составил речь о первом кураторе университета. Для николаевского времени «Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове», где Соловьев говорил о свободе университетской мысли, было смелым. На публику речь Соловьева произвела впечатление своей либеральностью. Юрий Самарин поздравлял с успехом, Чаадаев взялся перевести на французский. «Но перевод не был окончен, и впечатление моей речи исчезло..»
В Петербурге умер Николай I.
ГЛАВА V
«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»
Соловьев был молодым человеком, начинающим исследователем, когда приступил к делу всей своей жизни, научному подвигу, к которому был призван. Ученый вспоминал: «Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было, для составления хорошего курса, заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс; но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надобно посвятить всю жизнь. Я решился на такой труд и начал с начала, ибо, как уже сказано, предшествовавшие труды не удовлетворяли».
«…надобно посвятить всю жизнь».
«Я решился на такой труд…»
Простые слова…
Соловьев подвижнически подчинил свою жизнь исполнению великолепного замысла. Человек долга, свято преданный науке, он много, поразительно много работал. Работоспособность Соловьева была основана на беспощадном самоограничении, жестком распределении времени, твердости характера и силе воли. Глубокий ум, редкая, поражавшая современников память, блестящая эрудиция безотказно служили ученому. Ключевский характеризовал своего учителя как «ученый механизм, способный работать одинаково спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстановлять силы простой переменой занятий». Казалось, историк работал без устали. Долгого отдыха он не знал, рассчитывая отдохнуть по окончании своего труда. Тогда, мечтательно сообщал он домашним, он предпримет долгое путешествие по России. Не сбылось…
Жизнь Сергея Михайловича Соловьева была жизнью великого труженика, чьи помыслы, заботы, круг интересов, распорядок дня, даже черты характера служили главному — работе, имя которой «История России с древнейших времен».
С молодых лет он был методичен, постоянен, трудолюбив, в совершенстве овладел искусством беречь время. Зимой ученый вставал в шесть утра и, выпив полбутылки сельтерской, принимался, пока в доме было тихо, за работу; ровно в девять часов он пил утренний чай, в десять уходил из дома — читать лекции, работать в архиве, исправлять другие служебные обязанности. Домой возвращался в половине четвертого.
В университете он, как некогда Каченовский, был известен как самый аккуратный профессор, которого ни семейные праздники, ни легкое недомогание (долгие годы Соловьев ничем серьезным не болел и поражал окружающих своим цветущим видом) не могли принудить пропустить лекции. Он никогда не опаздывал, в аудиторию входил минута в минуту, так что студенты поверяли по нему часы. Это свое свойство Соловьев объяснял смешно: «Отличительною чертою моего характера была торопливость». Он спешил во всем — быстро ел, быстро ходил, всегда и всюду приходил первым. Ему не сиделось дома, если он знал, что надо куда-нибудь ехать. «Называли это аккуратностью, но это была торопливость». Своеобразная логика — и вывод столь же своеобразный, соловьевский! «Понятно, что я точно так же торопился писать и издавать». Понятно?!
Много времени историк проводил в московском архиве министерства юстиции, где у него был особый стол, за которым он десятилетиями просматривал связки старых бумаг, делал обширные выписки. Немногие русские историки — разве что присяжные архивисты — знали архивные богатства так же хорошо, как Соловьев, смолоду поверивший в правоту Ранке: историческое исследование начинается с архивного разыскания. Став знаменитым ученым, он получил важную привилегию: отобранные им архивные дела доставлялись к нему на дом. Но однажды случилась беда — служитель недосмотрел, связка бумаг выпала из саней, не нашлась, и Соловьев отказался от заслуженной привилегии.
Обедал Сергей Михайлович в четыре часа и после обеда опять работал до вечернего чая, который следовал в девять вечера. В одиннадцать часов он неизменно ложился спать. Послеобеденное время отводилось и для отдыха, когда позволительно было легкое чтение: газеты, журналы — русские и иностранные, книги по географии. Как в детстве, читать описания путешествий по Индии или Центральной Африке (сколько поколений исследователей стремилось найти истоки Нила!) было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Внимательно следил Соловьев за ходом международных событий. Интерес был непраздный: на его глазах в Европе перекраивались границы, возникали национальные государства — Италия, Германия, Румыния, Сербия, Болгария; молодые английские и французские офицеры спешили за море, во главе небольших отрядов проникали в неведомые земли, покоряли туземные племена — строили империи. Соловьев был неисправимым европоцентристом — истинный европеец XIX века — и видел в происходившем прогресс, неодолимое движение цивилизации. Столь же внимательно следил ученый за внутренними русскими делами, за текущей русской литературой, особенно же — за историческими сочинениями. Незадолго до смерти ученого его посетил Василий Ключевский, и первый вопрос Соловьева был: «А что новенького в литературе по нашей части?»
С годами уклад жизни не менялся. В строго определенные часы садился он за работу над «Историей России», особые дни были выделены для писания статей и рецензий: по вторникам — для «Отечественных записок», по пятницам — для «Современника», которые затем сменились «Русским вестником» и «Вестником Европы». Отдыхал он по воскресеньям, когда неизменно ходил к обедне в приходскую церковь, да в субботу обедал в Английском клубе, а вечером шел иногда в Итальянскую оперу — память о пребывании в Париже. В субботу же Соловьев принимал гостей — давних друзей, коллег по университету. Избранный и немногочисленный круг. С начала шестидесятых годов гости стали съезжаться по пятницам. Отдавать визиты Соловьев не любил, знакомых посещал в исключительных случаях, ограничиваясь неизбежными праздничными объездами.
Лето историк проводил на даче, которую Соловьевы много лет снимали в Покровском-Глебове, что в полутора часах езды от Триумфальных ворот. На каникулах Соловьев усиленно трудился над очередным томом «Истории России», больше гулял, свободный от лекций и заседаний Совета. Его дачный день описал Алексей Галахов: «По трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения Сергей Михайлович мог служить образцом. Все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Отсутствие аккуратности, постоянства в делах было в большинстве случаев ахиллесовой пятой москвича; у него же, сказать без преувеличения, ни минуты не пропадало напрасно. Вот как он проводил шесть рабочих дней в неделю: в восемь часов утра, еще до чаю, он отправлялся иногда один, но большей частью с супругой, через помещичий сад в рощу, по так называемой Елизаветинской дорожке, в конце которой стояла скамейка. Он садился на эту скамейку, вынимал из кармана нумер «Московских ведомостей», доставленный ему накануне, по не прочитанный тотчас по доставке, так как это чтение оторвало бы его от более серьезного занятия; чтение газеты, как легкое дело, соединялось с прогулкой, делом приятным. Обратный путь совершался по той же дорожке. Ровно в 9 часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался, именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака — до обеда. Никто в эти часы не беспокоил его, вход воспрещался всем без исключения».
Знакомые удивлялись соловьевскому педантизму, нередко посмеивались. Шестилетнюю дочку Веру как-то спросили, сколько раз она была у папаши в кабинете. «Ни разу», — был ответ. Конечно, добавлял Галахов, немного найдется таких отцов, чья рабочая комната закрыта для детей, но еще меньше таких, кто оставил бы после себя тома и тома ученых трудов.
К работе над «Историей России» Соловьев приступил, едва начав читать лекции студентам. Университетское преподавание служило его научным целям, специальные курсы, которые он читал на философском факультете, с годами превращались в очередные тома «Истории России». Первый специальный курс 1845/46 академического года он посвятил «истории междуцарствия» — эпохе, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина. На следующий год была читана история царствования трех первых государей из дома Романовых, затем наступил черед времени Петра Великого. Построенные в хронологической последовательности, специальные курсы были необходимой ступенью в освоении исторического материала, их наблюдения и выводы предваряли суждения, которые ложились в основу соответствующих томов «Истории России» и предназначались для широкой публики.
Отдельные научные вопросы ученый решал в многочисленных журнальных статьях, писавшихся, особенно в первое время, и по другой причине: «из-за куска хлеба», как выражался Соловьев. В 1848–1849 годах, например, он напечатал в нескольких номерах «Современника» большую работу, которая представляла собой законченную и до настоящего времени неоцененную (ее просто забыли) монографию «Обзор событий русской истории, от кончины царя Федора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых». Время тогда было тяжелое, гонений на просвещение не стыдились, и цензура кромсала труд Соловьева безжалостно, что он воспринимал как оскорбление: «Смолоду я обращался с наукою уважительно, не позволял себе тенденции, передавал факты, связывая и освещая их, почерпая их из источников печатных, самим же правительством большею частью изданных. И тут невежественный и желающий непременно что-нибудь вычеркнуть цензор вычеркивал!»
Впрочем, бывала и «тенденция». Соловьев сам признавал, что в том же 1848 году с особенною злостью писал для «Отечественных записок» рецензию на книгу рижского епископа Филарета (Гумилевского) «История русской церкви: период патриаршества», где нашел односторонне-славянофильский и клерикальный взгляд. Ни церковников, ни славянофилов он не жаловал.
Несмотря на рано обретенный Соловьевым навык скорого письма, первый том «Истории России с древнейших времен» создавался несколько лет — для молодого ученого срок необычно долгий, объяснимый отсутствием опыта и тем, что приходилось писать о нелюбимых начальных временах, о расселении славян, о варягах-руси, о дружине князя Олега, словом, о том, в чем особенно искушен был профессор Погодин. Со второго тома Соловьев твердо укладывался в год, стараясь выпустить книгу весной, когда общественно-научный сезон был на излете, оппоненты и критики уходили на вакации, а читатели подбирали новинки для летнего чтения. Чаще всего типография — а при жизни историка все тома печатались в университетской типографии — не подводила, и желание Соловьева сбывалось.
Первый том «Истории России» был издан в августе 1851 года. Эта дата заслуживает быть отмененной в летописи русской исторической науки.
1200 экземпляров издания разошлись быстро: книгопродавец Салаев купил их оптом и продавал с большой выгодой. Книга вызвала интерес и породила полемику, которой не бывало со времен исторических сочинений Карамзина. В разных изданиях появились отклики и рецензии, большей частью недоброжелательные. Как огорченно писал Соловьев, «ополчился легион с тем, чтоб стереть с лица земли дерзкого профессоришку, осмелившегося стать на высоту Карамзина».
В «Москвитянине» с критическим разбором выступил Иван Беляев, писавший по поручению Погодина. Спокойно, с академическим бесстрастием толковал Беляев о несостоятельности родовой теории, о неверной трактовке понятия «род», о привязанности автора к «рассуждениям и предположениям» в ущерб источникам, о неумении дать добротное описание географического положения России. Особенно отмечалась глава о дославянском населении Восточной Европы, которая «запоздала целым полустолетием». Интриган Давыдов пришел в восторг и написал Погодину, что рецензия «всем чрезвычайно нравится». Соловьев обиделся (это была ошибка), написал возражение, напечатанное университетскими «Московскими ведомостями» в пяти номерах.
Завязалась полемика, в которой с удовольствием принял участие Погодин, рассмотревший «Историю России» в связи со всей научной деятельностью своего ученика: «Такие противоречия, такие капитальные ошибки, такие недоумения находил я с первого взгляда в каждой статье г. Соловьева, начиная с первой, и потому не хотел брать на себя бесполезного труда, да и не мог жертвовать временем, чтоб прочитывать их сполна». Михаил Петрович сообщал, что не читал (здесь он лукавил) и не будет читать книгу, ибо развертывая ее раз двадцать в разные времена, он «не находил в ней ни одной живой страницы, и убедился окончательно, что процесс рассуждения у г. Соловьева совершенно другой, что угол его зрения далеко отстоит от нормального и что, следовательно, добираться до его результатов так же бесполезно, как и обвинять его несправедливо за физический недостаток мысли».
В «Северной пчеле» бранился Ксенофонт Полевой, брат литератора Николая Полевого, создателя когда-то, в первые послекарамзинские годы, шумно расхваленной, а потом брошенной автором и забытой публикой «Истории русского народа». Николай Полевой читал Тьерри и Гизо, любил простые схемы исторического процесса, но факты знал плохо и пренебрегал ими. Соловьев видел в покойном наездника на русскую историю, промышлявшего доверчивостью общества, и не принимал в расчет его сочинения. В отместку Ксенофонт Полевой убеждал читателей, что «г. Соловьев придумал родовой быт славян и по своей мысли желает переделать всю русскую историю», а его «История России» состоит из сшивок отдельных статей, писанных с разными идеями для повременных изданий. В «Истории» Соловьева нет сообразности в частях, ее рассказ
«темен и скучен».
Соловьеву казалось, что все, кто претендовал на какое-нибудь занятие русской историей, накинулись на него с ожесточением. Первый том «Истории России» заметил ядовитый Сенковский, чья «Библиотека для чтения» воспела подвиг «новейшего ученого рыцарства», «историко-архитектурную игрушку, произведенную нашим московским искусством». Рецензент (им был сам Сенковский) писал, что первые главы тома фантастичны и «в высшей степени слабы», находил в них фантасмагорию и натяжки, в следующих же главах видел «груду компиляций», через которую автор проводит одну идею — идею родовых отношений. Вывод петербургского профессора был снисходителен: «Наука Истории России нисколько не обязана новому труду господина Соловьева: ни на шаг он не подвинул ее с пьедестала, воздвигнутого Карамзиным и тщательно отделанного Устряловым». В «Сыне отечества» тот же Сенковский отметил стремление московского историка подчинить все выстроенной заранее системе, вдвинуть в нее, как в тиски, всю историю, «как будто это возможно и даже необходимо».
Огорченный Соловьев возражал Беляеву и Погодину, возражал Калачову, чья рецензия в «Московских ведомостях» отмечала некоторые частные промахи, скрытую зависимость от Погодина, в целом же была сдержанно-хвалебной, возражал Кавелину, своему другу и покровителю. Зимою 1852 года он пережил тревожное время, когда на его долю выпал «труд защиты и труд одинокий». Впоследствии на страницах «Записок» Соловьев рисовал удручающую картину: «Погодин и дружина его могли рассчитывать на успех; постоянным ругательством, исходящим от людей, считавшихся специалистами, ошеломить русскую зеленую публику, остановить успех книги, ход ее, раздражать и утомить автора, который, видя себя окруженным врагами и не видя ниоткуда номощи, откажется от бесполезной борьбы». Пожалуй, именно по выходе первого тома в сознание Соловьева вошел неотвязный мотив: зеленое, незрелое русское общество. Горько, на душе щемит…
Конечно, слова об одиночестве — мрачное преувеличение. Пусть Калачов и имел «образцово темную голову» (многолетняя деятельность Николая Васильевича по созданию архивной сети в России, его археографическая работа, как кажется, свидетельствуют о другом), но откликнулся на «Историю России» он доброжелательно и не заслужил отзыва: «Камни возопили; Калачов написал нечто».
Кавелин и вовсе не вышел из роли верного заступника. В «Отечественных записках» он поместил пространный разбор первого тома «Истории России», где заявил: «Как прагматическое сочинение новая книга г, Соловьева бесспорно принадлежит к числу лучших исторических произведений, появившихся в последнее время., Первый том «Истории России» бесспорно — историческое сочинение в полном значении слова. «История России» есть зрелый и сознательный исторический труд, а не шаткий опыт. Все исторические явления рассматриваются здесь с их внутренней стороны во взаимной связи и раскрываются последовательно, по их внутренней преемственности: бытовая сторона обращает на себя, как и следует, гораздо больше внимания автора, чем внешние события. Наконец, взгляд гораздо серьезнее, приемы строже».
По мнению Кавелина, новый труд Соловьева заслуживал благодарности и благорасположения, а не слишком строгих и небеспристрастных отзывов. Думается, что имелись в виду не только печатные рецензии. Обиднее всех судил Константин Аксаков (давно ли они были неразлучны), чей рукописный отклик остался неоконченным (прекрасное сочетание дворянской, московской и русской лени), но которому ничто не мешало высказываться в гостиных: «История России» имеет характер собранных исследований, не более. Чего нельзя сделать, то и не было сделано, и история России г. Соловьева — не история». Что ни говори, но Константин Аксаков — не Ксенофонт Полевой, он знаток русской истории, и как важно было Соловьеву прочитать кавелинское: «зрелый и сознательный исторический труд».
Поддержка Кавелина была вполне закономерна: они единомышленники, ему, Кавелину, обязан Соловьев и свободой от погодинского влияния, и отчасти теми идеями, что легли в основание первого тома. Разве не разделял Кавелин положения о развитии родовых отношений в государственные? Он, правда, не столь задорен в утверждении родовой теории, как Соловьев, находя, что общее выгодное впечатление тот ослабляет «недоказанными положениями, натяжками, желанием взглянуть на предмет с новой точки зрения, желанием объяснить необъяснимое или и без того весьма ясное, наконец, очевидными увлечениями любимою мыслью, которая в основании своем верна, но нередко искажается в ближайших применениях».
Тогда, после выхода первого тома «Истории России», Соловьеву потребовалась вся его твердость, тогда он понял, что главное — выдержка: «Но сила божия в немощи совершается; никогда не приходила мне в голову мысль отказаться от своего труда, и в это печальное для меня время я приготовил и напечатал 2-й том «Истории России», который вышел весною 1852 года. Как видно, я защищался удачно не полемическими статьями, но именно томами истории, постоянно ежегодно выходившими; 3-й и 4-й томы не опоздали. Книга шла, несмотря на продолжавшуюся руготню в «Москвитянине». Своею твердостью я выигрывал дело в глазах публики, а Погодин проигрывал — усилением ругательств, так что приятели его сочли нужным внушить ему, чтоб он остановил ругательства, сильно ему вредившие».
Антипогодипское настроение первых томов «Истории России с древнейших времен» было глубоким, хотя редко высказывалось прямо. В первом томе, например, Соловьев лишь на последней странице помянул «вредные следствия того одностороннего взгляда, по которому варяги были исключительными действователями в начальном периоде нашей истории», и дал к этим словам развернутый комментарий, где назвал Погодина по имени и даже упрекнул в том, что тот «вслед за Полевым не хочет принимать слов летописца в строгом смысле». Сама торопливость, с какой Соловьев издавал том за томом, шла не только от врожденных свойств характера. Место профессора он добыл «с бою» (его слова) и должен был удерживать его боем, должен был в короткое время сделать столько, чтоб никто не смел сказать, что университет проиграл, отказавшись от услуг Погодина.
Было бы, однако, непростительной ошибкой умолчать о непосредственном и благотворном влиянии учителя на ученика. Именно Погодин часто рассуждал о высоком предназначении русских историков, и Соловьев верил ему — как было не согласиться: «Нам, нам, русским, предстоит славный жребий обогатить науку истории новыми видами, новыми мыслями; мы можем иметь только это беспристрастие, эту терпимость, это удобство пользоваться всеми источниками. Скандинавские, словенские, восточные памятники принадлежат нам исключительно. И мало ли есть еще сторон в истории, с коих можем мы смотреть прямо. Католики не могут говорить хладнокровно о протестантах, а протестанты о католиках, французы об англичанах, а англичане о французах, демократы об аристократах, а аристократы о демократах, немцы о словенах, а словене о немцах. У них у всех есть свои колеи, свой наследственный взгляд на вещи, свои предубеждения, — а мы свободны! Какая блестящая будущность для русской науки! Трудиться, работать, жить своим умом, с сознанием своего достоинства».
Правда, дальше Погодин переходил к необходимости «сбросить, впрочем с благодарностью, вредное иго чуждого образования», к нежеланию молодых людей помогать старшим во имя науки и заключал сетованием: что долго еще дожидаться времени расцвета русской науки. Примерно так говорил Михаил Петрович в их парижскую встречу, и тогда его слова были особенно важны для Соловьева, которому непривычно было читать рассуждения Эмиля Жирардена о том, что в нынешний век хорошо устроенная фабрика поучительнее для народа, чем вся его история. Воспитанный на Карамзине, на университетских раздумьях о связи прошедшего и настоящего, Соловьев был ошеломлен, впервые встретив такое циничное отрицание исторического предания и векового опыта человечества. Погодинские слова возвращали веру.
Позднее Соловьев не раз убеждался, что его учитель невысоко ставил русский ученый мир да и науку, о которой он так хорошо говорил. Не случайно Кавелин как-то заметил: «г. Погодин часто смешивает политику с историей, и это смешение не всегда ему дается». Но слова учителя значили для Соловьева больше, чем его поступки. К науке, к историческому знанию, к общественным обязанностям историка он относился свято. Свой символ веры он высказал в 1858 году: «Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы; и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда, жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».
К спекулятивным занятиям историей Соловьев относился брезгливо и не имел охоты разбирать, какие интересы — денежные или политические — лежат в их основе. О своем приступе к «Истории России» он писал: «Я предпринял свой труд с чисто научною целью выучиться самому, чтоб быть в состоянии читать сколько-нибудь достойный университета курс русской истории и дать средство другим знать основательно свою историю, а не толковать вкось и вкривь о ней, и чтоб отнять занятие у людей — охотников в мутной воде рыбу ловить».
Здесь, вероятно, имелись в виду многие и не в последнюю очередь Погодин, что несправедливо. Историческая публицистика «холопа Поречья» стоила немногого, но в специальных исследованиях он был кропотлив и проницателен. В 1849 году Погодин достаточно верно определил значение своих исторических работ, основанных на въедливом анализе источников: «Какая сушь, закричат мои эксцентрические рецензенты: все это — одни числа, одни собственные имена, везде только реестры, каталоги. Никакой идеи, никакого рассуждения, никакой теории, никакой системы! Милостивые государи! это анатомия истории, анатомия необходимая, ибо без нее вы не можете заняться физиологиею, то есть не можете сочинять никаких систем и никаких теорий. Скажите же мне спасибо, что я принял на себя здесь эту черную, тяжелую, скучную работу и обжег вам кирпичи, из которых вы можете (если можете) строить изящные здания».
«Если можете…»
Вызов — и Сергей Соловьев его принял.
Пожалуй, главной ошибкой историка Погодина была недооценка хорошей теории, пренебрежение к «системе», которая в его глазах погребена была под развалинами «Истории русского народа» Полевого, который дела не знал, надул публику «высшими взглядами» и, взяв за подписку деньги, обязательств своих не исполнил, вместо обещанных двенадцати томов издал шесть, да и то плохих, поверхностных. К 1849 году относится любопытная погодинская заметка: «Господин Соловьев печатает в «Отечественных записках» историю Малороссии, а в «Современнике» историю междуцарствия. Это — просто Полевой по своей деятельности. Сходство между этими писателями, впрочем, не в одной деятельности: та же смелость в утверждениях, то же самоуправство с источниками, та же легкость в заключениях, так что мы не понимаем, как г. Соловьев не берется до сих пор кончить Историю русского народа. Вот его настоящий труд, к которому он призван, судя по его сочинениям. Знатоки не нашли бы даже шва между началом Полевого и концом Соловьева! Но гораздо было бы лучше, для него и для науки, если б он писал меньше, но обдумывал более».
Погодин, как видим, неплохо знал ученика, предсказал его будущее, хотя сходство с Полевым уловил чисто внешнее — многописание. Работы свои Соловьев обдумывал крепко, к историческим источникам относился бережно — здесь Погодин не прав. Вполне возможно, что сердитое профессорское сравнение с Полевым, которое тогда было почти равносильно упреку в шарлатанстве, сделалось известно Соловьеву и в какой-то мере укрепило его желание превзойти учителя.
Когда жар взаимных обид остыл, Соловьев вспомнил погодинский образ воздвигаемого здания, придав ему двойной смысл: историческое строение России и здание исторических работ о ней. В 1857 году он писал: «Положительная сторона в трудах по русской истории обозначилась ясно; последователи исторического направления с глубоким вниманием и сочувствием следят за строением великого здания; замечают, как участвует в этой постройке каждый век, каждое поколение, что прибавляет к зданию прочного, остающегося; участие к строителям, к передовым людям в деле созидания усиливается при виде тех страшных препятствий, с которыми они должны были бороться; с особенным сочувствием прислушиваются к жалобе на недостаток света. И вот, наконец, является свет, сначала слабый, потом постепенно распространяется; но чем более распространяется он, тем более чувствуется в нем нужда; требуется, чтоб все здание было освещено; чтоб все работники видели друг друга и тем согласнее могли действовать; чтоб не было темных углов, куда бы могли укрыться и лень и зло; отовсюду слышится громкий, утешительный вопль: «Света! больше света!»
Погодин был учителем, которого надлежало превзойти. Не больше. Настоящим соперником был Карамзин.
Кумир соловьевской юности занимал, по-видимому, важное место в размышлениях молодого профессора, не потерявшего надежду сыскать «продолжение Карамзина». Соловьев многим обязан Карамзину, на трудах которого он рос и учился нелегкому ремеслу историка. У него он заимствовал разбор событий ранней русской истории, с Карамзиным его роднил преимущественный интерес к политическим событиям, к истории государства. Подражая Карамзину, он оснастил первый том «Истории России» обширными примечаниями, которые с каждым новым томом делались все лаконичнее.
Просвещенный монархизм историографа был понятен Соловьеву, он разделял карамзинское убеждение, которое в наше время трудно усвоить: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое».
Размышления Карамзина над русской историей были непростыми, как и его политические пристрастия. В свое время передовая Россия с восторгом приняла девятый том «Истории» Карамзина, где гневные описания «ужасов» Иоаннова царствования скрывали либеральные намеки на современные, аракчеевские порядки. Обличение «тиранства» ставились Карамзину в заслугу теми же людьми, которые к общей идее «Истории государства Российского» относились сдержанно. «Необходимость самовластья…»
Недостаточность одних политических оценок труда Карамзина прекрасно понимал Пушкин. С иронией он писал: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина… Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал романа в истории — ново и смело!»
Превращение истории в роман или в политический трактат не могло вызвать одобрения Соловьева, остроумно описавшего появление «в нашей литературной степи» Карамзина, которое «не прошло без завистливых протестов со стороны ученой братии и со стороны шумливых и невежественных либералов, этой язвы нашего зеленого общества, убивающей в нем всякое правильное движение к свободе». Карамзин осуждался за непоследовательность: «Шумливый протест либералов затронул историографа, тем более что с крикунами надо было встречаться в великосветских салонах; чтоб помирить их с своею историею, он бросил им искаженный, рассеченный пополам труп Ивана Грозного».
Соловьеву, казалось бы, глубоко чужд назидательный, морализаторский подход Карамзина к событиям прошлого. На страницах его «Истории России» автор скрыт, стушеван, недвусмысленные авторские оценки в духе Карамзина редки. Но еще Ключевский заметил: «Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, знамение правды божией».
Принципиальное отличие Соловьева от Карамзина заключалось в последовательном проведении им принципа историзма, в
историчности, в понимании истории как органического, закономерного процесса развития. Историчность — слово, которое даже Ключевскому казалось необычным, новым. Слово, которым Соловьев обогатил русский литературный язык и русское общественное сознание.
В работе «Н. М. Карамзин и его литературная деятельность: История государства Российского», которая с 1853 года четыре года кряду печаталась в «Отечественных записках» и начала собой серию статей о писателях русской истории, Соловьев отнес своего предшественника к риторическому направлению, у истоков которого стоял Ломоносов. Первый ученый своего времени был слабым историком, вместо системы он предложил натянутое сравнение хода русской истории с римской, цель истории видел в прославлении подвигов и вместо «Русской истории» представил начальную летопись, украшенную цветами красноречия. Риторическое направление Ломоносова довели до последней крайности бездарные Эмин и Иван Елагин.
Великий талант Карамзина, необыкновенная добросовестность и тщательная, всесторонняя подготовка к труду «умерили, возвысили, облагородили» в «Истории государства Российского» риторическое направление. Историк XIX века, Карамзин предчувствовал в истории науку народного самопознания, предчувствовал, но не развил этого важнейшего для Соловьева определения. Он смотрел на историю «со стороны искусства», исторический факт сковывал его воображение, архивный документ мешал творить; «Карамзин завидует историкам, описывавшим события современные или близкие к их времени; в подобного рода сочинениях, по его словам, блистает ум, воображение. Дееписатель, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения, скажет, я так видел, так слышал — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Но, принужденный описывать события отдаленные, известия о которых извлекаются из памятников, Карамзин сознает свою обязанность представлять единственно то, Что сохранилось от веков в летописях, в архивах».
Соловьев не только отталкивался от устарелого подхода Карамзина к истории, не только рассчитывал потеснить своими книгами изящные томики «Истории государства Российского». Подобно Карамзину, он смотрел на занятия историей как на «дело государственное», видел в них свой долг гражданина и в глубине души надеялся, что правительство оценит его труд.
Карамзин, как до него Миллер и Щербатов, занимал место историографа, что давало высокое общественное положение, соответствующее жалованье и официальное право получать в архивах необходимые исторические источники.
Соловьев хотел заступить место Карамзина не только в науке. Не сочтите это самонадеянностью молодости: Карамзин стал историографом в тридцать девять лет, первый том «Истории России» вышел, когда его автору пошел тридцать второй год. Начало зрелости, оправдание надежд.
Но разве стар был «старый профессор» Погодин? Не раньше ли времени забыли о достойном ученом? Строганов выжил его из университета, Уваров не дал хода по министерству, кругом завистники, мальчишки, молокососы… Пусть же торжествует наука!
В воздухе давно носилось: историограф. По поводу небольшой погодинской статейки Давыдов (как он мешал вернуться в университет!) елейно писал в 1848 году: «Отрывки ваши из отечественной любезной всем нам Истории прекрасны. Я уже писал, что они — лучшее украшение «Москвитянина». Вижу, что вы вдохновляетесь, потому что эти отрывки навевают на меня особенное какое-то чувство, которое дается только чрез общение с духом истины — чрез помазание. Вот ваше настоящее дело». В другом письме пройдоха высказался открыто: «Вдруг мне пришло в голову: почему бы вам, как Карамзину, не проситься в историографы?» Стоило поразмыслить — у Давыдова не бывало «вдруг».
В августе 1848 года Уваров в сопровождении Шевырева, Погодина, Грановского, астронома Симонова и незабытого читателями директора Первой гимназии Окулова отправился в Поречье. По традиции гости Поречья читали хозяину лекции. Грановский избрал тему: «О переходных эпохах в истории». Он хотел проследить «таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле». Год был особенный, революционный, министр внимательно слушал, слушали Погодин, Шевырев… Свое влечение к «печальным эпохам» Грановский объяснял не только трагической красотой, в которую они облечены, но и желанием уловить последнее слово всего уходившего, начальную мысль нового порядка вещей. Несомненно, это были поучительные лекции, и нельзя не сожалеть, что их содержание известно нам лишь в общих чертах — вместо обычного описания пребывания ученых мужей в Поречье «Москвитянин» поместил шевыревское исследование о древнегреческой урне, которую Уваров привез в поместье из Италии. Граф был очень доволен статьей, а подписчики журнала с восхищением, надо думать, узнали о широте интересов министра народного просвещения.
С Погодиным Уваров вел исторические беседы, спорил о Нибуре и Шиллере. Под историей хозяин Поречья разумел — в духе риторического направления — художественное произведение и сожалел, что любезный Михаил Петрович враг формы: «Идея без формы то же, что свет в тусклом стекле. Свет прекрасен в бриллианте».
В молодости принадлежавший к окружению Карамзина, Уваров остался жрецом историографа, который учил покорности царям. Соловьев удачно выразил настроения сановников, когда-то близких Карамзину, — Блудова, Уварова, князя Вяземского: «По смерти Карамзина кружок сделал из него полубога, и горе дерзкому, который бы осмелился поставить свой алтарь подле божества. Неудавшаяся попытка Полевого еще более утвердила кружок в том мнении, что идол его останется навсегда на недосягаемой высоте и блеском своих лучей будет освещать их и давать им значение». Тем весомее прозвучал уваровский вопрос Погодину: «Зачем он не продолжил Карамзина?» Что ответить, особенно если вельможа уверен, что, оставаясь профессором истории и академиком, Погодин напишет так, «как писал о всем былом Вальтер Скотт».
Погодина больше прельщало место попечителя (не предлагали), воспитателя наследника престола (ограничились разговорами), потом он ужался до помощника попечителя, до ректора. В мае 1849 года обреченно занес в дневник: «Ах, если б напечатать мне два тома и взять приступом историографию (то есть историографа)». И тут не вышло, Уваров получил отставку. Ноябрьская запись того же года: «Подлецы!»
Честолюбивые помыслы Соловьева всецело лежали в области науки, он не домогался, не хлопотал, не просил, но иметь благоприятные условия для работы, государственное значение которой представлялось ему бесспорным, он считал делом естественным и попусту не либеральничал. «История России» не приносила автору большого дохода, а писание ради денег журнальных статей требовало времени и истощало силы.
Когда первый том был отдан в цензуру, попечитель Назимов обратился к историку с вопросом, почему он не хочет посвятить своей книги императору. Соловьеву не удалось скрыть своих чувств, и Назимов добавил: «Если не хотите императору, то посвятили бы наследнику». Соловьев ответил, что не имел бы ничего против посвящения императору, но не считает себя вправе ходатайствовать об этом. В записках он выразился ясно: «Когда правительственное лицо предложило мне отдать мой труд под покров государя, посвятив императору, хотя и антипатичному мне, я согласился». Сколько раз открывал он первый том «Истории государства Российского» и читал: «Государю императору Александру Павловичу, самодержцу всея России».
Назимов не сомневался в успехе: «Вы ординарный профессор университета, вы имеете полное право просить о посвящении». Такие были времена, что даже «право просить» надлежало заслужить.
Соловьев поблагодарил доброго попечителя, которого в Москве звали не иначе как «енерал», написал письмо на его имя, где изложил свою просьбу, а Назимов поехал в Петербург докладывать министру. Ширинский-Шихматов взглянул на дело просто: нельзя утруждать государя просьбой о посвящении, нельзя посвящать первый том. Почему? Подлинные министерские слова: «Неизвестно, успеет ли он кончить. Когда кончит сочинение, тогда я доложу».
После Соловьев не раз со смехом вспоминал об этом обещании доложить. Умер Ширинский-Шихматов, умер Николай I, один министр просвещения сменял другого, а «История России» все не оканчивалась, выходя каждый год.
Да и возможно ли кончить историю России…
В конце концов Соловьев был рад, что не посвятил книгу Николаю Павловичу. Официальным преемником Карамзина он не стал. «Государство отказалось от моего труда».
Определенную роль здесь сыграл научный и политический авторитет Карамзина, который блюли его жрецы, Блудов и Вяземский, опасавшиеся, что новейший ученый труд затмит творение тридцатилетней давности. Соловьев понимал их чувства: «Автор мог воспользоваться всеми успехами исторической науки и дал уже в прежних трудах своих задаток, что способен ими воспользоваться, способен удовлетворить настоящим потребностям образованных русских людей — такой труд мог отдалить «Историю государства Российского» на второй план не по значению его в истории русской литературы, а для настоящих потребностей публики, и этого опасения уже было очень достаточно для жрецов Карамзина».
Дмитрий Николаевич Блудов, чья долгая сановная карьера началась составлением журнальной статьи о ходе и замыслах тайных обществ в России, более известной как «Донесение Следственной комиссии», где беззастенчиво оклеветаны декабристы, соблаговолил лично сказать Соловьеву, что его предприятие очень смело. Писать русскую историю после Карамзина! Блудов посоветовал: другое дело, если б профессор издал лекции, которые он читает в университете. Историк ответил, что название «Лекции» было бы странно для труда, который грозит быть многотомным. Молодой человек совершенно забылся — как он говорит с составителем высочайших манифестов, с государственным человеком, который стоял у истоков официальной идеологии николаевского царствования. Не Уваров, а он, Блудов, первым сказал о пагубности для российских граждан «заразы, извне привнесенной», о необходимости отказаться от подражания иноземной моде, тем опасной, что «есть мода и на мнения».
Блудов не в шутку озлился, по, будучи сановником просвещенным и хорошего тона (через несколько лет его произвели в президенты Академии наук), ограничился замечанием: «Да, и в Англии пробовали писать многотомные истории, а до Юма-то не дотянули». Думал уязвить Соловьева, а сказал нелепость — успокоил. Давид Юм был знаменит в екатерининские времена, его многотомная «История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 года» давно устарела; блудовские слова выдавали его невежество и малую начитанность. Впрочем, в случае с Блудовым имело значение одно: московский профессор приобрел влиятельного врага, у которого была репутация образованнейшего человека своего времени (именно так смотрел па Блудова император) и который, не прочитав ни одной страницы «Истории России», доставлял себе удовольствие, публично отзываясь о ней с презрением. В дворянском обществе Петербурга и Москвы к словам милого Блудова прислушивались.
В неудаче с посвящением повинны были и безвестность молодого историка, и его сомнительные либерально-западнические взгляды, и даже память о неоконченной «Истории русского народа» Полевого, который, правда, посвятил свою работу Нибуру. Но, главное, со времен Карамзина изменились общественные условия, абсолютистское государство вступило в полосу глубокого кризиса, который извращенно понимался как начало нового, по погодинскому определению, «своенародного», периода русской истории. Придворный историк академик Устрялов превзошел Погодина, выразив верноподданную надежду, что именно в царствование Николая I будет создана «новая порода людей со всеми добрыми свойствами старого поколения, но без его недостатков и предрассудков». Богатая идея! В период господства подобных настроений серьезные научные исторические исследования были, при любых политических взглядах автора, не ко двору. «Прошлое России было блестяще…» — начало формулы Бенкендорфа.
Затея Назимова не удалась, но отказом Ширипского-Шихматова дело не кончилось. В августе 1851 года, когда первый том вышел из печати, в Москве праздновали 25-летие коронации Николая I. Ждали приезда императора. Назимов решил: «Хотя посвящение и не дозволено, но приготовьте подносные экземпляры. Я поднесу их императору и всем членам царской фамилии». Надо представлять, с каким мастерством делали типографы XIX века экземпляры книг па заказ! Книги были поднесены членам августейшего семейства, императорский экземпляр взял у Назимова Закревский — дальнейшее неизвестно. «Побоялся ли Закревский подносить профессорскую книгу, швырнул ли ее раздраженный царь — ничего не знаю». Обычного в таких случаях подарка не последовало.
Весной 1852 года история повторилась со вторым томом. Назимов отправил подносные тома в Петербург, министру. О дальнейшем рассказал Соловьев: «Не помню, в мае или июне месяце меня требуют в канцелярию попечителя, останавливают у загородки, отделявшей столы чиновников от места, где должны были стоять просители, и правитель канцелярии читает мне бумагу министра, гласящую, чтоб я не смел беспокоить его сиятельство присылкою подносных экземпляров моей «Истории», что они подносимы быть не могут до окончания сочинения, присланные же экземпляры будут до этого времени храниться в министерстве». Посвящение и даже поднесение «Истории России» были отвергнуты, «государственное дело» в глазах правительства выглядело предприятием частным и сомнительным, в обществе ходили неблагоприятные толки, порождаемые журнальными обвинениями в «капитальных ошибках». Оставалось одно — работать.
Из множества высказываний, сделанных по выходе первого тома «Истории России с древнейших времен», самым невероятным кажется утверждение Константина Аксакова: «История России» г. Соловьева — не история». Отчего так? Во «внуке Шимонове» был бы понятен гнев, слепая багровская ярость, описанная его отцом, по тут — неблагородная зависть, прямая клевета, бессмыслица. Как понять: «История России» — не история? Что же?
В 1848 году в Киеве была издана книга под затейливым названием «Краткое руководство к логике с предварительным очерком психологии». Автор, Орест Новицкий, знал, по-видимому, все науки. Среди его сочинений — работы о разуме, о языческой религии, о переводе Священного писания на славянский язык, об индийской философии, о духоборах. В названной книге, предназначенной воспитанникам средних учебных заведений, он писал о многом, в частности — об истории. Владея, как видно из его сочинений, высшей познавательной способностью, Орест Новицкий предложил гимназистам простую классификацию исторических трудов, которая, разумеется, не была его изобретением. Напротив, она в те годы казалась единственно возможной, общепонятной и общепринятой. Серьезные ученые не обращали на нее внимания, как не обращают внимания на таблицу умножения. Не о чем спорить. Именно вследствие общепонятности ее со временем (очень не скоро) забыли, хотя до нашего времени в изысканиях, которые претендуют быть теоретико-методологическими, встречаются рудименты старой классификации. Конечно, под новыми названиями.
Теоретик Орест Новицкий выделял четыре вида исторических сочинений, располагая их в иерархической последовательности. Первый — «летопись», которая понималась как «фактическая истина», то есть верное и точное изображение фактов. Ясно, что вопрос о соотношении умозрительной «летописи» с подлинными летописными сводами Ореста Новицкого не интересовал. Не интересовала его и история, которая вся в конечном итоге есть стремление к верному и точному изображению фактов. Торжествовал высший взгляд.
Ступенью выше «летописи» стояла «записка» — «характеристическая истина», или удачный и верный снимок нравов, образа мыслей. Что, собственно говоря, имелось в виду, понять мудрено. Физиологический очерк, напечатанный в журнале, или сочинения в том роде, что прославили Блудова? А может быть, в разряд «записок» включались воспоминания? Труден поиск зерен истины.
Третья ступень (внимание!) — прагматическое изложение истории. Иными словами, пояснял Новицкий, «прагматическая истина, то есть верное и полное развитие причин и действий, целей и средств». Сказанное можно (и должно) соотнести с «Историей России» Соловьева. Спасибо Оресту Новицкому — его книга помогает кое-что понять в полемике 1851 года.
Впервые сочетание «прагматическая история» употребил древнегреческий ученый II века до н. э. Полибий, понимая под этим такое изображение прошлого, которое касается событий государственных, излагает не простое их описание, но причины и последствия, а также дает поучение, извлекает уроки на будущее. Вплоть до конца XIX века это понятие было достаточно распространено, хотя и не отличалось определенностью. Прагматическую историю, допустим, отличали от культурной, которая занимается не ходом событий, а состоянием общества в определенный момент развития. Прагматическая история изучала причинно-следственные связи, рассматриваемые преимущественно через деятельность отдельных личностей. «Пришел, увидел, победил» — прагматическая история войны Рима
с галлами, написанная Цезарем. На исходе XIX столетия достаточно запутанное определение этого направления в историческом познании дал известный историк Николай Кареев (кстати, соученик Владимира Соловьева по гимназии). Он писал: «Теория прагматической истории должна была бы исследовать, как порождаются одни события другими, вызываясь разными переменами в волевой сфере действующих лиц под влиянием действия на них тех или других событий, которые сами, в последнем анализе, суть лишь какие-либо поступки. Прагматическая история отличается от последовательной именно проникновением во внутренний мир людей, с целью не только рассказать событие, но и представить его непосредственное действие на мысли и чувства современников, а также показать, как само оно сделалось необходимым ввиду существования у людей, его совершивших, тех или других мотивов и намерений».
Как ни судить, но «История России» вполне подпадает под данное определение и тем более удовлетворяет скромным требованиям Новицкого. С первого тома Соловьев стремится показать «развитие причин и действий, целей и средств». Его труд — труд исторический, и не случайно Кавелин начал свою рецензию словами: «Как прагматическое сочинение новая книга г. Соловьева…» Пятьдесят лет спустя Ключевский, сердито относившийся к приемам работы Соловьева с источниками, мимоходом заметил, что недостаточно «брать данное из источника и в нетронутом, сыром виде вносить в текст прагматической истории». Он имел в виду именно «Историю России».
Не отрицал — здесь можно быть уверенным — принадлежности к прагматической истории сочинений Соловьева и Константин Аксаков, в суровом суждении которого напрасно было бы искать вненаучные мотивы. Все дело в том, что с высшей точки зрения прагматическое изложение истории — не история. Согласно Оресту Новицкому есть последняя, четвертая ступень — «философическая история». В ней, в «философической истории», скрыта философическая истина, на владение которой Соловьев претендовать никак не мог. Для православного гегельянца Аксакова в этом не было никаких сомнений. Чтобы создавать полноценные исторические труды, недостаточно родиться историком. Нужен высший взгляд, для обретения которого студенческих бдений над Гегелем мало.
К сожалению, отсутствуют данные о том, относил ли Константин Аксаков к разряду «философической истории» чаадаевское «Философическое письмо», наиболее прославленное во всей русской историко-философской литературе. Отвечая всем критериям «философической истории», работа Чаадаева по аксаковской, по славянофильской мерке не обладала одним: она не содержала философической истины.
Подлинная «философическая история», пожалуй, единственная в России, создавалась Хомяковым. Сбитом знали все, бывавшие в его доме, все друзья и враги. Вся Москва. Что именно писал Алексей Степанович, оставалось, однако, тайной. Однажды Гоголь, застав Хомякова за письменным столом и заглянув в тетрадку, прочел имя Семирамиды — знаменитой вавилонской царицы. «Алексей Степанович Семирамиду пишет!» — пошутил он. Название понравилось, его принял сам автор, говоривший: «Я нынче все лето проработал в деревне над своей Семирамидой».
Заняться «Семирамидой» Хомякова принудил его племянник Дмитрий Валуев, трудолюбивейший из славянофилов. Устав от бесконечных разговоров дядюшки, он сшил тому тетрадь, припас перья и запер в кабинете на ключ, который унес с собой. Хомяков протестовал: «Чтобы написать и даже начать писать такое сочинение, какое бы я желал, у меня еще не подготовлено материалов: некоторые части и отдельные вопросы готовы, но еще много других остается впереди». Валуев был тверд: «Кто же думает заставлять его писать полное, систематическое сочинение об истории? Пусть записывает то, что рассказывает; пусть пишет вместо того, чтобы болтать».
Постепенно кабинетные занятия вошли у Хомякова в привычку, которая после преждевременной смерти одаренного племянника стала данью его памяти. Хомяков трудился над таинственным сочинением более двадцати лет, не надеялся его кончить и не печатал ни строчки. Работа была издана после его смерти в двух обширных томах под произвольным заглавием «Записки о всемирной истории». Чего только там нет! Без особой системы московский славянофил записывал свои и чужие мысли о ходе мировой истории, о древних и новых народах, их верованиях, занятиях, языке и культуре, об исторических эпохах, преимущественно о раннем средневековье. Главной заботой Хомякова было стремление поставить славянское племя на подобающее ему первое место в историческом процессе. Славянская стихия просто захлестывала «Семирамиду», философия истории сводилась к славянской разновидности гегелевской схемы движения мирового духа. К диалектике Гегеля восходило положение о борьбе противоположных начал «иранства» (начала свободы) и «кушитства» (начало необходимости) как источнике развития.
Ученик Хомякова Александр Гильфердинг, серьезный ученый-славист, находил в «Семирамиде» попытку великого ума «обнять не только внешний ход, но и внутренний смысл развития всего человечества в его совокупности». Быть может, быть может…
Несомненно одно: «Семирамида» начисто лишена элементов исторической критики. Хомяков не затруднял себя выписками из исторических сочинений, пересказывал их, как находил нужным, произвольно подбирал факты и выстраивал их, не заботясь о хронологии. Он не стеснялся смелыми догадками и фантастическими предположениями, из которых превращение любезных его сердцу англичан в потомков славян-уличан далеко не самое странное. Звание историка, по Хомякову, требует редкого соединения разнородных качеств: учености, беспристрастности, терпения, умения сравнивать, но, пренаивно добавлял он: «Выше и полезнее этих достоинств — чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может».
Что же тогда истинная история? Последовательный рассказ о происшествиях минувшего времени и о деяниях народов и их вождей Хомяков объявил совершенно бесполезным «лакомством для праздного любопытства грамотных людей». Отыскивание следов прежней жизни в ее личных и общественных проявлениях благородно, но не стоит огромных трудов, сопряженных с историческим исследованием. Такое снисходительное презрение поистине великолепно! Но можно ли иначе обосновать превосходство «философической истории» над всякой иной?
Если для историка главное — интуиция, если он вправе создавать историю там, «где летописей нет и не было», то понятно хомяковское представление об историческом ремесле: «Есть другая, высшая точка зрения, с которой исторические исследования представляются в ином виде. Не дела лиц, не судьбы народов, но общее дело, судьба, жизнь всего человечества составляют истинный предмет истории. Говоря отвлеченно, мы скажем, что мы, мелкая частица рода человеческого, видим развитие своей души, своей внутренней жизни во внешней жизни миллионов людей на всем пространстве земного шара. Тут уже имена делаются случайностями, и только духовный смысл общих движений и проявлений получает истинную важность. Говоря практически, мы скажем, что в истории мы ищем самого начала человеческого рода, в надежде найти ясное слово об его первоначальном братстве и общем источнике. Тайная мысль религиозная управляет трудом и ведет его далее и далее».
Как жалко должна была выглядеть в глазах Хомякова и всех тех, кто верил в «философическую историю» (эта вера, к слову сказать, легко уживается и с иным, нехомяковским, бездуховным подходом), «прагматическая история г. Соловьева»! Приходится удивляться, что «высшая точка зрения» не помешала Алексею Степановичу высказаться о трудах Соловьева здраво-критически: ученый «рассказывает не историю России, не историю государства Русского, а только историю государственности в России, восколько этот рассказ подготовлен другими исследователями и отчасти им самим». Более понятна следующая фраза: «Этот труд, конечно, не бесполезен. Это сбор официальных столбцов исторической летописи, подведенный под некоторую систему».
На верху первой страницы «Семирамиды» вместо заголовка автор выставил четыре буквы: «И. и. и. и.» Гильфердинг прокомментировал: «Не знаем, что он этим хотел означить». Думается, три буквы загадочной надписи ясны: «…исследование истинной истории». Если помнить особенности натуры русского мыслителя, великого насмешника, отчего не прочесть первое слово как «ироническое».
Чуждался ли Соловьев «высших взглядов», теории, исторической схемы? Нет, напротив, уже в полемике, вызванной первым томом
«Истории России», его упрекали (даже Кавелин) в привязанности к одной идее, в увлечении «любимой мыслью», в угоду которой приносились факты. Приступая к «Истории России с древнейших времен», Соловьев имел целостную концепцию русского исторического развития, которая, в общих чертах, оставалась неизменной до последнего тома. В этом заключалось несомненное достоинство его труда, начисто лишенного, однако, верхоглядства «философической истории», которая знает ответ прежде, чем бывает раскрыта летопись.
Соловьев — историк, чьи общие воззрения сложились под воздействием философии Гегеля. Идея единства и развития мировой цивилизации, убеждение в закономерности и познаваемости исторического процесса, поиск противоборствующих начал в русской истории — дань философии истории Гегеля. Русская история, написанная, «как писались истории государств в Западной Европе», — это история, в основу которой положена гегелевская схема развития человечества. Национальная история у Соловьева, как и у Гегеля, неразрывно связана со всеобщей и освещается теорией прогресса.
Идея прогресса — кумир XIX века. У молодого Соловьева она получила конкретное воплощение в родовой теории и шире — в той системе воззрений, что принято называть государственной школой в русской историографии. О значении государственной школы хорошо сказал Чернышевский: «Около 1835 года мы, после безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю. Через десять лет ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток мы встречаем строго ученый взгляд новой государственной школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни».
Действительно, наряду с Кавелиным Соловьев в сороковые годы стоял у истоков государственной школы, был ее крупнейшим представителем. Но важно не забывать, что государственная школа была связана с западничеством, возникла в недрах московского кружка западников и подлинным ее главой был Грановский, чья отчаянная борьба со славянофилами во имя дела Петра Великого оказала решающее воздействие на Кавелина, да и на Соловьева.
Последователям Грановского выпала доля конкретизировать общеисторические суждения западников, приложить их к русской истории. Чичерин находил замечательным, что в одно и то же время два человека, не столковавшиеся между собою, Кавелин и Соловьев, «пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю и сделались основателями новой русской историографии». Ничего удивительного — их вдохновлял вождь московских западников, о котором тот же Чичерин писал: «Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, установляющего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Недаром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сугерея».
Впервые общая концепция государственной школы была изложена Кавелиным в 1847 году в статье «Взгляд па юридический быт древней России», в основу которой легли лекции, читанные им в университете. Кавелин шел от давней схемы Эверса: семья — род — племя — государство. Он много писал об особенностях русской истории почти в славянофильском духе, но в конечном итоге приходил к выводу, что «мы народ европейский, способный к совершенствованию, к развитию, который не любит повторяться и бесчисленное число веков стоять на одной точке». Он приветствовал реформы Петра I, которые укрепили государство, полагая, что чем сильнее государство, тем более обеспечены права личности: «В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, веч его государственная деятельность есть первая фраза осуществления начала личности в русской истории».
Идейные корпи государственной школы уходили к учению Гегеля. Государству отводилась главная роль в историческом развитии, само развитие понималось как процесс становления и укрепления государственности. В этом виделся исторический прогресс. В сороковые годы разработка основных положений государственной школы была основной формой участия Соловьева и Кавелина в идейных спорах западников и славянофилов. Государственная школа была проявлением нового, буржуазного подхода к изучению истории, она естественным образом дополняла политические воззрения либералов-западников, основанные на вере во всесилие реформ, в правовое государство — гаранта личных свобод.
Историки государственной школы прежде всего обращались к изучению государственных учреждений и их эволюции, внутренней и внешней политики, их интересовали государственные акты, договоры, законы. В своем развитии государственная школа (Чичерин, Сергеевич, Градовский) пришла к примату истории права над другими формами исторического познания. Чичерин, например, упрекал Соловьева с позиций, противоположных хомяковским: «Слабая его сторона в исследовании русской истории состояла в отсутствии основательной юридической подготовки, вследствие чего такая важная часть, как развитие учреждений, обработана несколько поверхностно, а иногда получает даже неправильное освещение».
Государственная школа — понятие достаточно широкое, и можно, разумеется, указать на известные различия во взглядах Соловьева и Кавелина, Соловьева и Чичерина, что нисколько не опровергает бесспорного факта общности их исходных положений. Несомненное научное достижение историков государственной школы — умение строго обозначить объект исследования: государство в его развитии. При таком подходе, естественно, оставлялись без внимания важные исторические вопросы, в первую очередь жизнь простого народа, его стремления и культура, его представления о справедливости и борьба за нее. Для Чичерина история государства исчерпывала содержание истории России.
Общественно-политические убеждения историков-государственников только отчасти могут объяснить это обстоятельство. Немаловажно и другое. Научное исследование начинается с определения объекта исследования, а ограничение объекта исследования — предпосылка успешного научного поиска. Чернышевский не случайно подчеркивал «строго ученый взгляд новой исторической школы». Государственная школа давала возможность плодотворного научного исследования, изучения конкретных вопросов русской истории в связи с общей, цельной концепцией исторического развития Русского государства. Историками государственной школы созданы крупные монографические работы, которые принадлежат к лучшим достижениям русской историографии.
Остроумные критики государственной школы, славянофилы, щедро рассыпавшие оригинальные историко-философские идеи, в области конкретно-исторического изучения дали на удивление немного. Юрий Самарин изложил свои взгляды в блестящей статье 1847 года «О мнениях «Современника» исторических и литературных» и замолк. Он возражал Кавелину и мог думать, что опроверг родовую теорию, противопоставив ей теорию общинного быта: «Общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории прошедшей, настоящей и будущей; смена и корни всего великого, возносящегося на поверхности, глубоко зарыты в его плодотворной глубине, и никакое дело, никакая теория, отвергающая эту глубину, не достигнет своей цели, не будет жить». Самарин первым высказал Кавелину упрек, который затем неоднократно слышал Соловьев: исследователь «упустил из виду Русскую землю, забывая, что земля создает государство, а не государство землю».
Константин Аксаков, более других потрудившийся над историко-политической концепцией славянофилов, при жизни был почти неизвестен как автор исторических работ. Его лучшие статьи — всегда неоконченные, черновые рукописи. В отличие от Хомякова он не ограничивался «высшими взглядами» и интуицией, дотошно изучал источники, одних актов проштудировал более трехсот. Аксаковские замечания на «Историю России» умны и отвечают требованиям научной критики середины XIX века, хотя их исходный тезис «не история» и порожден поисками «философической истины». Как и Сергей Соловьев, Константин Аксаков не был рожден философом. Но он и не историк. У него темперамент общественного деятеля, публициста, для которого знание истории — полезная роскошь. Чтобы отстаивать мысль о созыве (в николаевское время!) общесословного земского собора, нужны смелость и убежденность, доведенная до фанатизма, а не изучение его исторических прототипов XVI–XVII веков.
Сохранилось не лишений комизма свидетельство Ивана Аксакова, который в начале 1850-х годов вышел в отставку и целый год занимался чтением грамот и актов, что заставило его разочароваться в Древней Руси, разлюбить ее и убедиться, что не выработала она и не хранит в себе начал, способных возродить Россию к новой жизни: «Я готовился, например, написать статью для «Московского сборника» о Земских думах, но хотел написать ее, покривив душою, ради преследуемой цели, и дать им ту важность и то значение, которого, в сущности, по моему внутреннему убеждению, они не имели. Если говорить вполне искренно, то знакомство мое с источниками, исследование по ним Земских дум в России меня скорее огорчило, нежели ободрило: мы привыкли с этим словом соединять какое-то либеральное понятие, но, раскрывая правду, я дал бы нашим противникам орудие в руки против нас же самих… Когда я занимался чтением грамот, в одно время с братом, но в разных комнатах, то одна и та же грамота производила на нас обоих разные впечатления, и мы вечно спорили; он восхищаясь Древнею Русью, я — нападая на нее… Ученые исторические исследования не только не могут служить в пользу славянофильским отвлеченным теориям, но должны разрушить многие наши верования и точки опоры».
Исторические построения всегда оставались уязвимым местом славянофильства, что самими славянофилами воспринималось достаточно спокойно. Историческое знание они всецело подчиняли общественно-политической практике и твердо уповали на пророчества Хомякова и Ивана Киреевского. Тот же Иван Аксаков писал: «Если теперь, кажется, нет более свежих сил для веры, то все же — не покинешь знамени, будешь служить убеждению, даже втайне и поколебленному в душе, ухватишься за него, как за единственный якорь спасения».
Из всех славянофилов серьезный след в исторической науке оставил один Иван Беляев, в канун отмены крепостного права написавший блестящую работу «Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе». Достойно упоминания, что в этом конкретно-историческом исследовании заметно воздействие государственной школы, историко-правового подхода, характерного для Чичерина. Исходя из славянофильского положения о разрыве государства и народа, Беляев, при всей глубине изображения внутренней крестьянской жизни, видел главную силу исторического процесса в государстве, которое закрепостило крестьян, уничтожив прежнее согласие сословий. Подлинным творцом крепостного права Беляев считал Петра I, что противоречило выводам Соловьева и Чичерина. Но спор о Петре — спор общественно-политический.
Для Соловьева славянофилы навсегда остались «мечтателями, поэтами и дилетантами науки». Вряд ли он прав. Славянофилы были серьезными исследователями духовной культуры русского народа, его былин, песен, сказок, его быта и нравов. Здесь, в области фольклористики и этнографии, они выступали как ученые-профессионалы — Петр Киреевский, Константин Аксаков, Александр Гильфердинг, Петр Безсонов, Орест Миллер.
Совсем несправедлив Соловьев к Константину Аксакову. Соловьевский отзыв, неточный даже в деталях, историку хорошо известных, стоит тем не менее привести, чтобы передать неповторимую атмосферу неистовых споров, в которой жили и действовали «друзья-враги»: «Он считал себя знатоком русской истории, потому что прочел Румянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Археографической комиссии; для подкрепления своих любимых мыслей он брал наскоком в древней русской истории несколько явлений, но у него никогда не доставало ни времени, ни духу проследить русскую историю хотя бы и не по источникам; Карамзина он не читал, из моей истории прочел первый том, когда писал свою статью против родового быта, а потом начал читать с VI-го тома, когда в славянском совете ему поручено написать разбор моей истории для «Русской беседы»: это он мне сам сказал откровенно; о новой русской истории, с XVII 1-го века, не имел никакого понятия, об истории западных и славянских народов — также. Считал он себя и филологом, но филологи отзывались об его занятиях очень неудовлетворительно. Что же делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по гостям или принимал у себя гостей».
Именно Константину Аксакову принадлежит проницательное суждение об органическом недостатке труда Соловьева — отсутствии в нем истинной истории русского народа. Оценивая «все написанное» Соловьевым в первых семи томах, он сказал: «В «Истории России» автор не заметил одного: русского народа». И добавил, сравнивая Соловьева и Карамзина: «История России» С. М. Соловьева может совершенно справедливо быть названа тоже Историею Российского государства, не более: Земли, народа читатель не найдет в ней».
Справедливо. И потому многократно повторено другими.
Демократический критик Григорий Елисеев упрекал Соловьева в том, что историка интересуют «государство и территория, а не народ», что вопрос о внутреннем состоянии и развитии народа он считает «курьезом». Задорно опровергал он мнение государственной школы о прогрессе, понимаемом как совершенствование государственных форм: «Невольно обманываешься и думаешь, что вместе с тем так же быстро возрастает и внутреннее благосостояние и развитие народа. На самом же деле оказывается вовсе не то».
Известна дневниковая запись Льва Толстого, который держал в руках тома «История России» весной 1870 года: «Все, по истории этой, было безобразно в допетровской Руси: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. — И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.
Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю.
Но, кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня?»
Последний вопрос, конечно, риторичен, но и общий смысл остальных идет от пренебрежения писателя к «истории-науке», которую давно пора заменить «историей-искусством». В рассуждении Толстого удивительным образом переплелись хомяковские представления о труде историка и расплывчатое народническое требование: показывать в истории «движение народных масс».
Тем и велик Соловьев, что он не смешивал научное исследование с поисками «философической истины», политическую историю народа — с этнографией и бытописанием. Да, в «Истории России с древнейших времен» немало пробелов, событийных и тематических. Да, Соловьев, историк государственной школы, больше всего интересовался строением и развитием государственных институтов (хотя в отдельных томах его труда есть прекрасные главы, специально посвященные «внутреннему состоянию русского общества» в разные периоды его истории). Да, он недооценивал простые формы народной жизни и движение народных масс. Да, его, восходящее к Гегелю, объяснение хода исторического развития не было строго материалистическим. Упреки можно и продолжить. Но историчны ли они? Корректны ли в научном отношении?
Соловьев сделал больше, чем любой другой историк России. Он не мог сделать всего. И не должен был. Сделанное же им — подлинная историческая наука. Не менее.
Уроком, который историк усвоил из полемики вокруг первого тома, стало очевидное нежелание отвечать на критические замечания. Лучший ответ — очередной том «Истории России». Однако в обширной работе «Наблюдения над историческою жизнью народов», над которой он работал в последние годы жизни, Соловьев затронул некоторые теоретические вопросы, так или иначе вызывавшие научный и общественный интерес.
Начинается работа с определения истории: «История первоначально есть
наука народного самопознания». Об этом историк говорил неоднократно. Говорил он прежде и о сравнительно-историческом методе, наследованном от Риттера, и о связи истории с географией: «Самый лучший способ для народа познать самого себя — это познать другие народы и сравнить себя с ними; познать же другие народы можно только посредством познания их истории… Первый вопрос в истории каждого народа: где живет народ? Сильное влияние местности, ее природных условий на жизнь народа бесспорно; но здесь должно избегать односторонности». Часто высказывался ученый и об общности исторических судеб европейских народов, объединенных могущественной христианской цивилизацией: «Застой — удел народов, особо живущих; только в обществе других народов народ может развивать свои силы, может познать самого себя. Известно, что европейские народы обязаны своим великим значением именно тому, что живут одною общею жизнью».
Новость — спор с Генри Боклем, классиком позитивизма, автором «Истории цивилизации в Англии», которая пользовалась огромной популярностью среди русской интеллигенции шестидесятых годов. Бокль утверждал, что история цивилизованной страны есть история интеллектуального развития, которое правительства более замедляют, чем ускоряют. Остроумно, согласитесь.
Соловьев возражал: «История цивилизованного народа имеет важное значение и тогда, когда интеллектуальное развитие еще не начиналось, когда еще не рождалось сомнение». С другой стороны, правительство, какая бы ни была его форма, «представляет свой народ, в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка». Безоговорочно принять это положение, конечно, невозможно, оно справедливо только в тех пределах исторического познания, что очертили для себя историки государственной школы.
Дальнейший вывод Соловьева принципиально важен и как ответ на аксаковско-толстовскую критику, и в плане его понимания роли личности в истории: «История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому для истории нет возможности иметь дело с народными массами, она имеет дело только с представителями народа, в какой бы форме ни выражалось это представительство; даже и тогда, когда народные массы приходят в движение, и тогда на первом плане являются вожди, направители этого движения, с которыми история преимущественно и должна иметь дело».
Действия «вождей» способствуют или препятствуют развитию народной жизни, приносят благоденствие или навлекают бедствия. Стало быть, правомерны усилия государственной школы: «Вот почему подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохранят навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов».
Для Соловьева абсолютно неприемлем «незаконный развод народа с государством, происшедший в головах некоторых наших исторических писателей». Он откровенно иронизировал над историками славянофильского и народнического направлений, преклонившимися перед «народной массой». Их подход, по его мнению, ненаучен, неисторичен: «В таком случае, гораздо важнее будет народная песня, даже полная анахронизмов в изложении внешнего события; предметом первой важности будут повествования летописцев о неурожаях, наводнениях, пожарах и разных бедствиях, заставлявших народ страдать, о затмениях и кометах, пугавших его воображение явлениях, которые для историка, имеющего на первом плане государственную жизнь, составляют неважные черты». Строгая логика исследователя государственной школы не находит объективных данных собственно о «народной массе»: «Историк не имеет возможности непосредственно сноситься с массою; он сносится с нею посредством ее представителей, исторических деятелей, ибо масса сама ничего о себе не скажет».
Итоговое суждение Соловьева несколько смягчает удручающее впечатление, которое производит это умозаключение, хотя и здесь историк верен раз и навсегда провозглашенному верховенству государственности: «Историк, имеющий на первом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь, ибо отделять их нельзя: народные бедствия не могут быть для него неважными чертами уже и потому, что они имеют решительное влияние на государственные отправления, затрудняют их, бывают причинами расстройств в государственной машине, что вредным образом действует на народную жизнь».
В период расцвета государственной школы ее представители исповедовали теорию прогресса, теорию исторического оптимизма. Сущность исторического процесса — развитие, органическое и поступательное. Человечество, совершенствуясь, приближается к воплощению в жизнь идеалов христианства, идеалов справедливости и добра. Логично было предположить, что впереди — «золотой век».
В молодые годы Соловьев решительно возражал против нападок на прогресс, которые находил вредными для правильного понимания истории. Особенно доставалось славянофилам, чье направление он называл антиисторическим, проникнутым «буддистским протестом против прогресса». По Соловьеву, прогресс освящается христианством и не может ему противоречить. Именно христианский идеал дает обществу и государству возможность осознать свое несовершенство и стать на путь изменения общественных и государственных форм, на путь прогресса. «Христианство, постановив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих средств, удовлетворить не может, — а если б удовлетворило, то упразднились бы изменения форм и прогресс, — христианство, по тому самому, есть религия вечная».
Прогресс естествен и неизбежен во всех сферах человеческого бытия, кроме одной — религиозной. Выше христианства нет ничего, христианство — недосягаемый идеал человечества. С этих позиций Соловьев изложил «формулу прогресса»: «Прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном».
В пореформенное время с его острыми социальными и экономическими противоречиями линейная теория прогресса перестала удовлетворять Соловьева. По свидетельству Ключевского, он стал придавать «великое научное значение» философии истории итальянца Джамбаттиста Вико, чья книга «Основания новой науки об общей природе наций» появилась в 1725 году. Вико — гениальный фантаст, ценивший интуицию не меньше Хомякова. Его «Новая наука» трудна в чтении и совершенно необычна для рационалистического XVIII века. Идея, прославившая Вико, — идея исторического круговорота, повторяющихся исторических циклов. От первоначального варварства народы через утонченную цивилизацию движутся к новому варварству, упадочному, вырождающемуся. Круговорот завершается обновлением, завоеванием старого общества новыми варварами. Если этого не происходит, то предоставленный своей судьбе бессильный народ погружается в дикость, чтобы через несколько веков вернуться к исходному первобытному состоянию и начать новый цикл развития.
В «Наблюдениях над историческою жизнью народов» Соловьев нарисовал картину старого общества, если следовать контексту — общества древнего мира, одновременно поразительно похожего на современную ему Россию: «Старые верования, старые отношения разрушены, а в новое, беспрестанно изменяющееся, в многоразличные, борющиеся друг с другом, противоречивые толки и системы верить нельзя. Раздаются вопли отчаяния: где же истина? что есть истина? Древо познания не есть древо жизни! Народ делает последнюю попытку найти твердую почву: он бросает различные философские системы, не приведшие его к истине, и начинает преимущественно заниматься тем, что подлежит внешним чувствам человека: что я вижу, осязаю — то верно, вне этого верного ничего знать не хочу, ибо вне этого нет ничего верного, все фантазии, бредни. Сначала это направление удовлетворяет, сфера знания расширяется, результат добывается блестящий, точные науки процветают, их приложения производят обширный ряд житейских удобств. Но это удовлетворение скоропреходящее… Материализм и неизбежная притом односторонность, узкость, мелкость взгляда наводнили общество; удовлетворение физических потребностей становится на первом плане: человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность; перестает верить в свое собственное достоинство, в святость и неприкосновенность того, что лежит в основе его человечности, его человеческой, то есть общественной жизни, является стремление сблизить человека с животным, породниться с ним; печной горшок становится дороже бельведерского кумира; удобство, нежащее тело, предпочтительнее красоте, возвышающей дух. При таком направлении живое искусство исчезает, заменяется мертвою археологиею. Вместо стремления поднять меньшую братию, является стремление унизить всех до меньшей братии, уравнять всех, поставив на низшую ступень человеческого развития; а между тем стремление выйти из тяжкого положения, выйти из мира, источенного дотла червем сомнения и потому рассыпающегося прахом, стремление найти что-нибудь твердое, к чему бы можно было прикрепиться, то есть потребность веры не исчезает, и подле неверия видим опять суеверие, но не поэтическое суеверие народной юности, а печальное, сухое старческое суеверие».
Что сталось с теорией прогресса? Какова судьба европейских народов?
В работе 1868 года «Прогресс и религия» Соловьев признал: «Прогресс, как условие жизни здешней, должен прекратиться с ее прекращением,
если не ранее. Когда последует это прекращение, мы не знаем; с
историческою, до сих пор прогрессивною, жизнию человечества на земле
находится в связи то явление в области откровенной религии, что Ветхий Завет сменяется Новым».
В революционном Конвенте 1792 года в таких случаях кричали оратору: «Делайте ваш вывод!» Соловьев с осторожностью зрелого ученого уклонился от окончательного суждения: «Связь видимая, для нас доступная, состоит в том, что смена Ветхого Завета Новым условила сильнейший прогресс у народов, принявших христианство, — и только».
«Наблюдения над историческою жизнью народов» привели историка к скептическому взгляду на будущее европейской цивилизации: «Предположить, что новые европейские народы будут бессмертны и из выгодных условий своего быта будут вечно почерпать возможность — вести далее дело цивилизации, мы не имеем права, ибо такое предположение будет противоречить наблюдению над всем существующим».
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» Кто знает, не здесь ли истоки мрачных предчувствий конца мировой истории Владимира Соловьева, в ту пору пятнадцатилетнего гимназиста. Сын внимательнейшим образом изучал работы отца и настолько хорошо понимал его логику изложения, что, когда Сергей Михайлович попросил его записать по памяти содержание одной из лекций о Петре Великом, сделал запись так полно и точно, что ее использовали при напечатании курса лекций.
Здесь нет необходимости пересказывать тома «Истории России с древнейших времен», останавливаясь на трактовке ученым отдельных событий русской истории, отмечая то новое, что внес Соловьев в их изучение, сравнивая его позицию с предшествующей и последующей историографией. Это задача другой книги.
Всего Соловьевым было написано 29 томов, последний из которых остался неоконченным и был издан после его смерти Нилом Поповым в конце 1879 года. Изложение оборвалось на внутренних делах России во время первой турецкой войны екатерининского царствования. Дела 1772 года. События внешней политики изложены по 1774 год. Соловьев хотел закончить этот том описанием казни Пугачева (январь 1775 года). Он мечтал довести повествование до смерти Екатерины II в ноябре 1796 года. Время, памятное его отцу, время вице-канцлера Остермана и митрополита Платона. Для полного завершения труда оставалось, как выразился Иловайский, «пройти период с небольшим в двадцать лет». Судя по тому, что последние тома, главы которых носили одинаковое название «Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны» и разнились только датами, охватывали отрезки времени в два-три года, Соловьеву не хватило семи-восьми лет жизни…
Среди источников, использованных в 29-м томе, Соловьев — единственный раз во всей «Истории России»! — сослался на устное предание. Пересказав слова пастырского обличения безобразий, которые чинили заштатные священники, стоявшие в Москве на Спасском крестце «для найму к служению по церквам», историк добавил: «Старики передавали нам, что у этих крестцовых попов был такой обычай: стояли они с калачами в руках, и когда нанимающий служить обедню давал мало, то они кричали ему: «Не торгуйся, а то сейчас закушу!» (то есть калач, и тем лишусь способности служить обедню)».
«Старики передавали…» История смыкалась с семейным преданием, с отцовскими рассказами, слышанными в детстве. Своим краем «История России» коснулась и его, Сергея Соловьева, белокурого мальчика, жившего когда-то в доме на Остоженке. Он успел описать, как генерал-поручик сенатор Еропкин собирал в разгар чумного бунта «кусочками» военную команду у своего дома «на Стоженке», и дал примечание: «Где теперь дом Коммерческого училища». Дом его детства.
Успел старый ученый сказать и о том, что более всего его тяготило и чему за долгие годы научной и общественной деятельности он не нашел разгадки — об отношении власти к народу, общества к правительству: «Ни Еропкин, ни кто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха; с другой стороны, ни Еропкин, ни кто другой не мог вдруг создать людей для исполнения правительственных распоряжений и надзора за этим исполнением — людей, способных и честных, которые бы не позволяли себе злоупотреблений».
Он много успел сделать, русский историк Сергей Михайлович Соловьев.
С выходом каждого нового тома росло научное признание «Истории России», расширялся круг ее читателей, и типографы старались удовлетворить спрос на книги Соловьева. Уже в 1854 году потребовалось второе издание первого тома, который при жизни историка печатался в общей сложности пять раз. С 1856 года повелось: ежегодно наряду с новым томом «Истории России» перепечатывались отдельные предыдущие тома. Огромная груда книг — и авторское самолюбие Соловьева могло быть удовлетворено. Прижизненных изданий второго тома было пять, третий-седьмой тома выходили по четыре раза; тома восьмой-десятый и тринадцатый-четырнадцатый (знаменитое описание первых лет петровского царствования) издавались трижды; остальные, до двадцать первого включительно — два раза. По смерти ученого продолжалось переиздание разных томов, и трижды — в 1893–1895 годах, 1895–1896 и 1911 (в один год!) — петербургское издательство «Общественная польза» выпускало в свет всю «Историю России с древнейших времен», уместив ее в шесть громадных книг.
Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей «Истории России» и даже, по свидетельству Ключевского, «преувеличивал равнодушие к ней публики». Возрастающий спрос на книгу, необходимость новых переизданий он объяснял исключительно заглавием труда и бурным ростом числа казенных и общественных библиотек, которым необходимо иметь на полках исторические работы. Ученый предсказывал скорое наступление времени, когда «История России» исчезнет со столов читателей и будет забыта. Задолго до смерти он говорил, что в недалеком будущем о русской истории напишут лучше, чем написал он. Его это обстоятельство тревожило мало, по удачному выражению Ключевского, «он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета».
Предсказателем Сергей Михайлович оказался слабым. Со дня смерти ученого прошло более ста лет, давно изжила себя его историческая концепция, устарела писательская манера, минуло время, когда по его книгам русские читатели изучали отечественную историю. Но лучшая работа Соловьева — «История России с древнейших времен» — и поныне сохраняет научный интерес, имеет большое историко-культурное и общественное значение. Годы подтвердили справедливость высказывания ученика и близкого друга Соловьева Владимира Ивановича Герье: «История России с древнейших времен» должна быть признана национальной историей. Труд Соловьева есть вполне национальная история, потому что, по словам самого Соловьева, в истории «выражается народное самопознание»… Этому высоко понятому национальному интересу, выяснению народного самосознания, служил Соловьев».
Написаны эти мудрые слова после смерти ученого.
При жизни Соловьева «История России» не получила настоящего общественного признания, и умножающиеся переиздания не должны здесь вводить в заблуждение. Соловьев имел репутацию строгого, сухого историка, он не писал для забавы читателя, не шел навстречу невзыскательным вкусам, не превращал историческое повествование в политический памфлет или собрание достопамятных анекдотов. Он не льстил русской публике, которая в короткое время пережила увлечение то имперским величием, то консервативными началами, то радикализмом, то патриотизмом, то дарвинизмом, то железнодорожным строительством, то «меньшим братом», то вселенской всеотзывностью. И всему, хотя бы недолго, верила. Хорошо сказал о Соловьеве Ключевский: «Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени».
«История России» в глазах общества всегда оставалась специальным ученым сочинением, серьезное знакомство с которым требовало времени, труда и определенной научной подготовки. Новизна сообщаемых фактов, обилие сырого архивного материала, старомодно-неспешный характер изложения затрудняли даже добросовестному и вдумчивому читателю возможность усвоить общий взгляд ученого на ход исторического развития России, понять всю глубину воздействия идей Соловьева на русское общественное сознание. Имя Соловьева никогда не стояло вровень с именами властителей дум разных поколений и общественных направлений — Герцена, Чернышевского, Каткова, Писарева, Лаврова, Льва Толстого, Достоевского, Михайловского.
Русская интеллигенция — соловьевское «зеленое общество» — привычно жила настоящим во имя будущего и не заботилась о прошлом. Об этой фундаментальной причине невысокого общественного внимания к историческому познанию, невнимания, от которого равным образом страдали Погодин и Кавелин, Соловьев и Костомаров, Бестужев-Рюмин и Ключевский, со знанием дела писал последний. На дворе стоял XX век, шла русско-японская война, «довлела дневи злоба его», и русскому обществу, расколотому на группы и партии, было, как всегда, не до истории.
Ключевский начал от споров сороковых годов, в которых сошлись западники и славянофилы: «Обе стороны сходились в одном основном положении: обе признавали, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая — великим несчастьем для России.
Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из боровшихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII века прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтораста лет спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении».
Далее он изящно перешел к соловьевской работе над петровскими преобразованиями, которая совпала по времени с эпохой падения крепостного права: «Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И, однако, то время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судоустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм».
Бедное русское общество! Ключевский неумолим в описании его пореформенного состояния: «И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса… Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настроили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?
Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа. Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по принадлежности со стереотипным предостережением, caveant consules
[1], а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы».
Полезно иногда читать старых русских историков, и, право, жаль, что их имена вспоминаются реже, чем они того заслуживают.
В исторической критике судьба «Истории России» сложилась более счастливо, чем в общественном сознании. Первые, достаточно колкие отзывы, лет через восемь-десять стали восприниматься как неосновательные. Раньше других отпал упрек в торопливости, необдуманности, неумелом компилировании. Общепризнанным стал иной взгляд: труд Соловьева — труд зрелый, последовательный по мысли, самостоятельный.
Несколько дольше продержалось аксаковское: «не история». В пику Соловьеву, написавшему в 1857 году статью «Шлецер и антиисторическое направление», Шевырев напечатал «Два слова о неисторической школе г-на Соловьева». Выступил он в газете Константина Аксакова «Молва», скрывшись под псевдонимом Ярополк. Его
поддержал только рецензент булгаринской «Северной пчелы» Яхонтов: «История России» — не история». Это были отсталые суждения, равно как и отзыв малоизвестного рецензента «Санкт-Петербургских ведомостей» Назарова: «Это богатый материал для истории, богатый свод доступных исследователю сведений об исторических судьбах русского народа, но никак не история его».
Диковинно было одно: петербургские западники (для Константина Аксакова все жители северной столицы — петровцы, западники) говорили против западника московского. «Молва» ликовала: сочинения Соловьева «ниже всякой критики и производят одну путаницу», ежегодно выходит по тому, увеличивается количество противоречий, «а нового ничего нет». В заметке без подписи Аксаков обрушился на русское общество: «У нас находятся читатели и для истории г. Соловьева; хотя ни один не прочтет пяти страниц без смертельной скуки, хотя ни один не научится из этой истории чему-нибудь новому или разрешит себе какое сомнение. И эту-то историю осмеливаются невежи сравнивать с бессмертною историею Карамзина и видеть в ней движение вперед! Движение назад она представляет на всякой своей странице».
Ни терпимости, ни памяти о прошлой дружбе… «Противники, на бой!»
Понятно, что и Соловьев не оставался в долгу, не принимал серьезной аксаковской критики, которую тот помещал в славянофильской «Русской беседе». Между тем Константин видел в Сергее автора «прекрасных монографий» (так он называл отдельные главы «Истории России»), соглашался с его ученым оправданием того, что Карамзин считал «ужасами Иоаннова царствования». Переломное время — жестокое время, но все же страшно: Соловьев и Аксаков сошлись в признании исторической обусловленности массовых казней невинных людей.
В шестом томе «Истории России» соловьевская идея борьбы родового начала с государственным, казалось, обрела историческую плоть. Грозный царь Иван IV и боярская знать: «Древнее начало было сильно, вело упорную борьбу; но уже государству пошел седьмой век, оно объединилось, старое с новым начало сводить последние счеты: не мудрено, что появилось много важных вопросов, важных требований». Торжествовала не злая воля царя, а государственное начало: «Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру своему способный приступать немедленно к их решению».
Полное историческое обеление Ивана Грозного? Нет, историк-моралист никогда не умирал в Соловьеве, росчерком пера он воздал должное царю-злодею, мимоходом оговорив свое несогласие со взглядами Карамзина, Погодина, Костомарова: «Но если, с одной стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение важного самостоятельного деятеля в нашей истории; если, с другой стороны, странно выставлять Иоанна героем в начале его поприща и человеком постыдно робким в конце, то более чем странно желание некоторых оправдать Иоанна; более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием. Характер, способ действий Иоанновых исторически объясняются борьбою старого с новым, событиями, происходившими в малолетство царя, во время его болезни и после; не могут ли они быть нравственно оправданы этою борьбою, этими событиями?»
Аксаков, который видел в родовой теории «небывалый закон жизни», в данном случае встал рядом с Соловьевым, определив борьбу Ивана Грозного с боярством как «последнее проявление борьбы между государем, начинающим новый порядок вещей, пришедшим к новому понятию власти, и его дружиной, помнящей свое прежнее значение и старающейся оное удержать». Опричнина — всего лишь «осуществленная фантазия», идеал, «исключительно проникнутый благоговейным религиозным понятием о земном самовластии». Обругал славянофильский писатель Грозного? Похвалил? Трагедии новгородского погрома Аксаков не заметил: «Иоанн нападал на лица, именно на бояр, выгораживая постоянно парод».
Большей научной выдержанностью отличались замечания другого Константина, Бестужева-Рюмина, одного из первых слушателей Соловьева. Молодой автор понимал «Историю России» как прямое продолжение «Истории государства Российского», оба, Карамзин и Соловьев, исследуют «тот же ход государственного развития». На исходе 1850-х годов, когда писал Бестужев-Рюмин, пустое блудовское противопоставление жило, князь Вяземский бурно возражал, когда московского профессора хотели пригласить в учителя истории к цесаревичу, и Строганов, от которого исходило приглашение, с необыкновенным для себя волнением убеждал Соловьева ни под каким видом не говорить наследнику ничего против Карамзина. Соловьев тогда изумился, сказал, что беспокойство напрасно, что ни времени, ни побуждения заниматься критикою «Истории государства Российского» у него нет.
Сравнивая Карамзина и Соловьева, Бестужев-Рюмин входил в тонкости, петербургским сановникам безразличные: «Сходясь с Карамзиным в главном предмете исследования, г. Соловьев бесконечно расходится с ним в пути, принятом им: там, где Карамзин не видал никаких начал, где события являлись ему простым сцеплением случайностей, там г. Соловьев видит некоторые руководящие начала. Началами этими являются для него родовой быт и государство».
Академический ученый, будущий профессор Петербургского университета, Бестужев-Рюмин был мастером историко-психологического портрета и умел немногими словами передать суть человека. О Соловьеве, которого он «имел счастье слушать» в 1848 году, он спустя три десятка лет вспоминал: «Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающие поколения в этой высокой вере». Иное дело рецензия 1859 года. Единственный из всех соловьевских критиков, Бестужев-Рюмин бил в самое уязвимое место построений государственной школы. Пусть развитие государственности — прогресс, но какова «цена прогресса»? Соловьев приветствует прогресс, «а то, чего стоил этот прогресс, он оставляет в тени, почитая свое дело совершенным одним обозрением движения прогрессивного начала, то есть государства».
На это замечание Соловьев никогда не умел ответить.
Редко отвечал он и на многочисленные выпады Николая Ивановича Костомарова, начинавшего в одно с ним время, но в связи с делом кирилло-мефодиевского братства, которое III Отделение обнаружило в 1847 году на Украине, обвинив его участников в преступной пропаганде, изъятого лет на десять из научно-общественной жизни. Костомаров написал немногим меньше Соловьева, писал он интересно, талантливо, без претензии на ученость. Для всех. Но, как и у Соловьева, у него были твердые общеисторические воззрения, в чем-то перекликавшиеся с хомяковским романтизмом. Дело историка — показать «нравственную организацию людей», раскрыть «совокупность людских понятий и взглядов, побуждения, руководившие людскими деяниями, предрассудки, их связывавшие, стремления, их уносившие, физиономии их обществ. На первом плане у историка должна быть деятельная сила души человеческой, а не то, что содеяно человеком».
В исторических работах Костомарова немало метких наблюдений над народным характером, который в его глазах определял ход истории в большей степени, чем развитие государственных учреждений, но, как видно из приведенного рассуждения, историческое событие («то, что содеяно») для него неважно. Важно «уразумение народного духа». Отсюда и пренебрежение к источнику, и склонность к голой схеме (сердечность — ум, свобода — повиновение, народоправство — государственность), и чисто хомяковский приоритет интуиции над знанием, вымысла над фактом: «Если бы какой-нибудь факт никогда не совершался, да существовала бы вера и убеждение в том, что он происходил, — он для меня остается так же важным историческим фактом».
В приложении к девятому тому «Истории России» Соловьев без труда показал произвольность исторического метода Костомарова, который без сверки с источниками заподозрил в подвиге Ивана Сусанина выдумку «книжников» XIX века. Однако без возражений оставалось главное положение Костомарова, переходившее из книги в книгу: в неоспоримых успехах государственности на Руси мало доброго, если в их основе лежит «безгласное и бессмысленное повиновение» русского народа.
Константин Аксаков, Бестужев-Рюмин, Костомаров… Вехи русской исторической науки.
Простой перечень тех, кто писал рецензии и критики на «Историю России», дает повод для богатых историографических размышлений. 1850-е годы: К. Д. Кавелин, И. Д. Беляев, В. В. Мстиславский, М. П. Погодин, Н. В. Савельев-Ростиславич, А. Н. Афанасьев, К. С. Аксаков, Н. В. Калачов, О. И. Сенковский, Ф. И. Буслаев, B. В. Пассек, К. А. Полевой, И. Е. Забелин, И. И. Срезневский, Н. Г. Чернышевский, К. Н. Бестужев-Рюмин, Н. А. Попов, П. А. Безсонов, И. С. Назаров, В. Р. Зотов, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, И. К. Бабст, А. А. Григорьев, Н. И. Костомаров, Н. А. Добролюбов, П. Л. Лавров, М. А. Максимович.
В 1860-е годы новые имена: Ф. М. Дмитриев, Г. 3. Елисеев, И. Д. Белов, А. Н. Пыпин, Н. И. Субботин, К. Д. Ушинский, Н. Я. Аристов, Д. И. Писарев, О. Ф. Миллер, А. П. Щапов, Н. В. Шелгунов, П. К. Ще-бальский, В. А. Елагин, М. Н. Капустин, П. П. Пекарский, А. С. Суворин, А. С. Трачевский, В. И. Сергеевич, М. Ф. Де-Пуле.
В 1870-е годы к ним присоединяются Е. А. Белов, C. С. Шашков, В. С. Иконников, Н. И. Барсов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Д Л. Мордовцев. С годами суждения становились все почтительнее. Когда в 1876 году вышел юбилейный, двадцать пятый том «Истории России», Соловьев получил адрес Академии наук, где его научные заслуги оценены по достоинству: «По мере приближения к нашей эпохе вы все более и более становитесь единственным и вместе с тем самым надежным проводником среди совершившихся событий, а в новейшей истории вам самим пришлось прокладывать первые пути, за которые, несомненно, настоящие и будущие исследователи прошлого России будут всегда с признательностью произносить ваше имя».
По смерти Соловьева его помянули добрым словом Герье, Ключевский, Иловайский, Бестужев-Рюмин, Стасюлевич, Замысловский, Иванцов-Платонов, Сухомлинов. Не сговариваясь, коллеги-историки отмечали, что главным делом Соловьева, «место которого в ряду величайших ученых XIX века» (Бестужев-Рюмин), навсегда пребудет «История России с древнейших времен».
Ранней весной 1851 года, когда первый том «Истории России» был подготовлен к сдаче в цензуру, Соловьев впервые в жизни выступил с публичными лекциями. Он не гнался за славой Грановского, не надеялся заработать — сбор предназначался в пользу недостаточных студентов. В обществе видных профессоров университета, которые разделили между собой 18 часовых лекций, он был самым молодым. Остальные — физик Гейман, биолог Рулье, Грановский и Шевырев.
Гонение на просвещение, характерное для «мрачного семилетия», не обошло стороной и славную традицию университетских публичных чтений. Дух свободного научного исследования, просветительская направленность лекций вызвали недовольство властей, министр Ширинский-Шихматов счел рассуждения Рулье о жизни животных «по отношению к внешним условиям» противными религии. Для Грановского, рассказывавшего слушателям о Тимуре, Александре Великом, Людовике IX и Бэконе, эти чтения стали последними. Умудренный Шевырев показывал эстампы с картин Рафаэля, говорил об итальянской живописи.
Четыре лекции молодого профессора Соловьева заинтересовали слушателей, высокую оценку им дали в печати Кудрявцев и Погодин. Правда, далеко не все сумели понять суть научных построений Соловьева, судили с внешней, декламационной стороны. Боткин думал, что Соловьев «прочел неудачно: он не имеет дара слова и говорит утомительно».
«Утомительные» лекции имели непреходящее историографическое значение: они стояли у начала «Истории России с древнейших времен». Заунывно (для Боткина), но великолепно в своей точности их название — «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого». Название, которое мог дать историк государственной школы. Обращаясь к широкой аудитории — дамы, посетители московских гостиных, просвещенные купцы, — Соловьев
впервые изложил в сжатом виде концепцию истории допетровской Руси, которую он последовательно развивал в начальных двенадцати томах «Истории России». Перед слушателями раскрывался план работы молодого историка на ближайшее десятилетие, план, которому Соловьев неукоснительно следовал и который блестяще исполнил.
Внимательное изучение соловьевских лекций убеждает в том, что, приступая к написанию «Истории России», ученый выработал твердые представления о характере русского исторического развития, которые в дальнейшем уточнялись, прикладывались к конкретным историческим событиям, развивались, но в основе своей оставались неизменными. Уже в 1851 году историк сформулировал теорию органического, внутренне закономерного исторического процесса, которая, по его мнению, определяла необходимость и возможность научного изучения русской истории и которой он неизменно оставался верен.
Публичные чтения 1851 года, краткое предисловие к первому тому «Истории России», классическая первая глава тринадцатого тома — «Россия перед эпохою преобразования» (1863), «Публичные чтения о Петре Великом» (1872) были важнейшими вехами в научной разработке Соловьевым русской истории. Идейно и композиционно эти работы составляют единое целое, в них ученый наиболее полно изложил свои воззрения на общий ход русской истории, дал ее периодизацию, высказался по ключевым проблемам истории России.
Чтение первое Соловьев начал словами, которыми он открывал университетский курс и которые долгие годы помнили его студенты и слушатели: «Если к каждому частному человеку можно обратиться с вопросом: «Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто ты такой», — то к целому народу можно обратиться со следующими словами: «Расскажи нам свою историю, и мы скажем тебе, кто ты таков».
Далее следовало основное положение соловьевской историософии: «Где, при каких природных влияниях действовал народ и с какими чужими народами и государствами изначала и преимущественно должен был иметь дело — вот первые вопросы в истории каждого народа».
Многие места лекций текстуально близки к соответствующим страницам первых томов. Это естественно. Для исследовательской манеры Соловьева характерно частое возвращение к излюбленным мыслям, он словно бы настаивал на их убедительности. Так излагал он теорию родового быта, рассуждал о взаимоотношениях князя, его дружины и подвластного населения, писал о крещении Руси. Главное содержание ранних веков русской истории, «предмет первой важности» для историка — смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего «зависело единство, могущество Руси».
Соловьев высоко ставил начатки русской государственности: «Правительственное начало должно было стоять на стороже русской земли, должно было постоянно защищать это юное общество, эти первые основы общества от непрестанных вторжений степных варваров, — потому что Русское государство, передовое государство европейское, основалось на границе степей, на границах Европы с Азиею».
Отсюда естественным образом вытекало положение, которое связывало, как у Риттера, историю с географией и политикой и которое Соловьев последовательно провел через все тома «Истории России»: «В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство, при расширении своих владений, занимает обширные пустынные пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации; господствующее племя славянское выводит поселения свои все далее и далее в глубь востока. Всем племенам Европы завещано историею высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено совершать это дело морским, восточному племени, славянскому — сухим путем».
Гордо и либерально звучал «священный завет», с которым, завершая лекции, ученый обращался к слушателям николаевского времени: «Историк русский XIX века, если хочет быть верен своему народу, своей истории, должен повторить слова летописца XII века: велика бывает польза от ученья книжного и велика бывает польза от народного самопознания!»
Ссылка на старорусского книжника не должна вводить в заблуждение. Соловьевское понимание истории далеко ушло от изречения древних «история — наставница жизни». Польза истории — не в примерах, которые можно из нее почерпнуть, не в опыте прошлого, прямо переносимом в частную и гражданскую жизнь; история — не собрание достопамятных событий и не упражнение в патриотической гордости. «Наука народного самопознания» призвана отыскивать «живую связь между прошедшим и настоящим», задавать вопросы об отношении старого к новому. Без знания прошлого непонятно настоящее.
В своих исследованиях Соловьев не отходил от традиций науки середины XIX века, и коль скоро он избегал открытой полемики, «критики» и «антикритики», то в редких случаях прямо ссылался на труды предшественников и современных историков — черта, в наше время невозможная. Но при работе над «Историей России» он всегда имел в виду идеи, высказанные ранее, мнения коллег его интересовали, и, конечно, он их учитывал. Историю исторической науки в России он знал превосходно и в 1853–1856 годах изложил ее в ряде статей, посвященных «писателям русской истории», которые занимались ею и как ученые, и как любители. По сути дела, он создал первый в отечественной науке сводный труд по русской историографии, недооцениваемый потому только, что статьи, часто очень пространные, были рассредоточены по разным повременным изданиям. Соловьев неблагосклонно отзывался о людях (бедный Константин Аксаков!), которые не почитают за нужное перед «произнесением суда над писателем» познакомиться с его сочинением, и авторов, о которых писал, знал не понаслышке, что при его громадной начитанности совершенно естественно. Перечень тех, о ком он судил, внушителен: Манкиев, Татищев, Ломоносов, Тредьяковский, Щербатов, Болтин, Эмин, Елагин, Миллер, Шлецер, митрополит Платон, Карамзин, Чеботарев, Каченовский.
Из предшественников Соловьев выделял тех, кто «предчувствовал» в истории «науку народного самопознания». Это «предчувствие» служило главным критерием доброкачественности исторического исследования, которому отчасти удовлетворяли сочинения Щербатова и Карамзина и совершенно не соответствовало «риторическое направление».
Соловьев, однако, отчетливо сознавал, что предложенное им понимание истории — достижение XIX века, и отмечал заслуги Татищева, хотя тот и не умел «определить точно значения и пользы отечественной истории», писал не так, как современные ему «европские» историки. Татищев начал с того, с чего следовало начать: «оставил попытку не по силам ни своим, ни чьим бы то ни было в его время — писать прагматическую русскую историю, и употребил тридцатилетний труд для того только, чтоб собрать, свести источники и, оставя этот свод нетронутым, на стороне, в примечаниях попытаться впервые дополнить, уяснить и подвергнуть критике летописные известия».
Подлинное «историческое направление» начинается в России с Болтина и Шлецера. У первого Соловьев выделил то, что можно назвать «монистическим» объяснением исторического процесса: «Книга Болтина есть первый труд по русской истории, в котором проведена одна основная мысль, в котором есть один общий взгляд на целый ход истории». Ломоносов прославлял геройские подвиги славян, Миллер собирал уцелевшие источники, Щербатов размышлял над отдельными, поразившими его событиями, Болтин же старался «уяснить целый ход русской истории, как русской истории, не похожей пи на какие другие».
Еще выше ценил Соловьев Шлецера, которому «принадлежит первый разумный взгляд на русскую историю; ему принадлежит научное введение русского народа в среду европейских исторических народов». Преувеличение? Для Соловьева — нет, ибо Шлецер — ученый, а не «писатель русской истории»: «Путем честного, строго научного обращения с источниками уразумев достоинство русской истории, Шлецер требовал, чтоб она обрабатывалась достойным образом, а не так, как изображали ее риторы XVIII века. То же честное обращение с источниками дало Шлецеру возможность уразуметь различие начала русской истории от начала истории других европейских государств».
Старые историки истощали силы в бесплодных спорах о делении русской истории на периоды, предлагали курьезные объяснения отдельных событий, не стояли — до Шлецера — вровень с европейской наукой, но ими началась традиция не летописного описания, а разумного познания российского прошлого. Традиция, прервать которую не дано никому. Уже Татищев сделал немало: «Собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русскою историек»».
Еще более значительны заслуги Шлецера, который «ввел строгую критику, научное исследование частностей, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории». Благодаря Шлецеру историческая наука стала в России на «твердые основания». О современных историках Соловьев предпочитал не судить, хотя в примечаниях к первому тому и вернул Погодину упрек: «вслед за Полевым…»
Общий взгляд Соловьева на историческое развитие России изложен им в кратком предисловии к первому тому «Истории России», которое он начал словами: «Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной; его обязанность предуведомить их только об основной мысли труда. Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Лучше выразить идею органического внутреннего развития нельзя.
Соловьев стремился раскрыть внутренние закономерности русской истории, готов был забыть «внешние влияния», отказывался от выделения «норманнского» и «татарского» периодов в русской истории. «При начале русского общества не может быть речи о господстве норманнов, о норманнском периоде», «историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий — именно постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные — и вставлять татарский период» — новые, принципиально важные положения Соловьева, которыми он противостоял Щербатову, Карамзину, своему учителю Погодину. Отвергнуто было и знаменитое деление русской истории на периоды, предложенное Шлецером: Россия рождающаяся, разделенная, угнетенная, побеждающая (Соловьев предпочел перевести «победоносная») и цветущая (или преображенная). В конце XVIII века Шлецерова периодизация, основанная на глубокой проработке источников, с точными, до года, датировками, вносила стройность в отрывочные и мифологизированные представления о русском прошлом. В статье о Шлецере Соловьев особо подчеркнул, что с такого, чисто внешнего деления «должна была начаться наука».
В предисловии Соловьев бегло коснулся и вопроса о связи старой, допетровской России с новой Россией, преобразованной Петром I. Вопрос, который вызывал ожесточенные споры западников и славянофилов, он раскрыл в контексте основной своей мысли о нераздельности русской истории. Повторяя известные слова Белинского, он писал: «Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования». И далее — «вместе с обществом приготовляется он идти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории XVII век с первою половиною XVIII, разделять их нельзя».
До Соловьева в русской историографии не было столь последовательного выражения мысли о единстве русского исторического развития. В этом его несомненная научная заслуга.
Отказываясь от членения русской истории на отдельные периоды, Соловьев, разумеется, видел существенные отличия разных веков русской истории. Родовая теория, приложенная к русской истории, давала следующую схему:
— время господства родовых отношений между князьями от Рюрика до Андрея Боголюбского, от IX века до второй половины XII века; «князья считают всю Русскую землю в общем, нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь, сидит на старшем столе, другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные; связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная»;
— время перехода родовых отношений между князьями в государственные — от второй половины XII века до конца XVI века; первоначально развитие шло через ослабление родовой связи между княжескими линиями, через их отчуждение друг от друга и через «видимое нарушение единства Русской земли», чем приготовлялось ее собирание, сосредоточение, сплочение «около одного центра, под властию одного государя»; в XVI веке происходит утверждение единовластия в Московском государстве;
— «страшные смуты» начала XVII века, которые грозили «юному государству разрушением»; в это время «крамолами людей, питавших старинные притязания, нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием: части разрознились в противоположных стремлениях, Земля замутилась; своекорыстным стремлением людей, хотевших воспользоваться таким положением дел для своих выгод, хотевших жить на счет государства, открылось свободное поприще»;
— XVII век — первая половина века XVIII — эпоха преобразований, когда начинается государственная жизнь России среди европейских держав;
— время со второй половины XVIII века до середины XIX века, когда явилась «потребность в духовном, нравственном просвещении, потребность вложить
душу в приготовленное прежде тело»;
— с середины XIX века Соловьев начинал новую, современную ему эпоху, когда просвещение принесло «свой необходимый плод — познание вообще привело к
самопознанию».
В многолетней работе Соловьеву, понятно, было трудно соблюдать строгую верность изложенной выше схеме, да он к этому и не стремился. Конкретное распределение материала по томам привело историка к старому, карамзинскому принципу изложения русской истории по княжениям и царствованиям, что, конечно, не было возвращением к карамзинскому пониманию истории.
В конце четвертого тома «Истории России», подводя итоги того «отдела русской истории, который по преимуществу носит название
древней истории», Соловьев вернулся к вопросам периодизации и объявил «все эти деления правильными», признал заслуги каждого из предшествовавших писателей (неужели и Погодина?), ибо каждый указывал новую сторону предмета и тем способствовал его лучшему пониманию. Споры о делении русской истории были необходимы, чтобы легче было осмотреться, «поставить грани по более видным, по более громким событиям». Но — с «течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим».
Как происходило «соединение» русской истории в органическое целое? Удалось ли провести его при изучении конкретных событий?
Будучи прагматическим историком, Соловьев отдавал безусловное предпочтение последовательно-хронологическому изложению, спокойному, повествовательному стилю, уходил от общих рассуждений. За историка говорили факты, исторические источники, которые он щедро цитировал. Даже в названии томов и глав Соловьев сдержан, подчеркнуто бесстрастен.
Первые главы первого тома остались неназванными, да и зачем подбирать нарочитые заглавия для рассказа о природе Русской равнины, о племенах, когда-то ее населявших, о нравах и обычаях славян, о первых варяжских князьях. Твердых дат почти нет. Здесь Соловьев обнаружил запас сведений по ранней славянской истории, которую он изучал в Париже, сравнительно-исторический подход к описываемым событиям, склонность к общетеоретическим построениям.
Седьмая глава первого тома получила название: «Владимир Святой. Ярослав I». Киевские князья, о правлении которых сохранились достаточно полные, разумно датированные летописные известия. Величайшее событие русской истории — принятие христианства. Без заглавия невозможно. Не об аварах речь, не об Аскольде и Дире. Форма была найдена.
Далее — до последнего, двадцать девятого тома — события рассказываются в их строгой хронологической последовательности. Второй том — от 1054 года по 1228 год, третий — от 1228 по 1389, четвертый доведен до 1462 года, до кончины великого князя Василия Васильевича Темного… И так — до царствования Екатерины II. Содержание отдельных глав скупо, чисто хронологически определено их названиями: «События при внуках Ярослава I (1093–1125)», «От взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстислава Мстиславича Торопецкого (1169–1228)», «От Батыева нашествия до борьбы между сыновьями Александра Невского (1240–1276)». С Дмитрия Донского начинается отсчет по княжениям: «Княжение Василия Дмитриевича (1389–1425)», «Княжение Иоанна III Васильевича», которому посвящены главы пятого тома.
В изложении событий XVI века Соловьев изменил своему обычаю, хронологический принцип стал сочетать с тематическим. В княжении Ивана III выделены главы: «Новгород Великий» (всего трижды помянута Марфа Борецкая, романтическая идеализация которой имела давние корни в русской литературе, да и в историографии), «София Палеолог», «Восток», «Литва»; к княжению Василия III отнесены главы «Псков», «Смоленск», «Дела внутренние». Шестой том заняло царствование Ивана Грозного: «Правление боярское», «Казань, Астрахань, Ливония», «Опричнина», «Полоцк», «Стефан Баторий».
Нет, не удалось поквитаться с этим, с детства ненавистным королем, хотя сколько раз, бывало, мечталось над Карамзиным, что сам царь Иван примет начальство над войском, разобьет Батория, возьмет обратно и Полоцк, и Ливонию. Разве историю перепишешь? Тридцатишестилетний историк думал о польском короле: «Государь энергический, славолюбивый, полководец искусный, понявший, какими средствами он может победить соперника, располагавшего большими, но только одними материальными средствами».
За главой о Батории следовала другая, «Строгановы и Ермак», где вновь звучала тема слабости одних материальных средств и вновь на примере близком, личном. Строгановы! Граф Сергей Григорьевич, неусыпный благодетель! Вот случай ответить на злой выпад Погодина, который в 1848 году разглашал: «Именитые люди Строгановы не заслуживают вовсе той чести и славы, которую восписывали им русские историки; это были смышленые торгаши, которые умели пользоваться обстоятельствами и которые жертвовали казне то, в чем отказать не могли».
Соловьев писал о строгановском движении за Урал совершенно иначе, и, разумеется, не просто исходил из желания сказать приятное о предках своего покровителя. Суждение историка логически вытекало из его общеисторического подхода: «Строгановы могли совершить этот подвиг на пользу России и гражданственности не вследствие только своих обширных материальных средств; нужна была необыкновенная смелость, энергия, ловкость, чтоб завести поселения в пустынной стране, подверженной нападениям дикарей, пахать пашни и рассол искать с ружьем в руке, сделать вызов дикарю, раздразнить его, положивши пред его глазами основы гражданственности мирными промыслами».
Для Соловьева ход русской истории во многом определялся природно-географическими условиями. Русские — народ европейский, христианский, но изначально поставленный в невыгодные условия. Для народов Западной Европы природа была мать, для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать, — мачеха. Другая мачеха — история, она, «мачеха-история», заставила «одно из древних европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека». Восточная Европа — обширная девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории. Отсюда — важнейший вывод Соловьева, строго говоря, никем и никогда не опровергнутый: «древняя русская история есть история страны, которая колонизуется».
«Древний отдел» русской истории — достоянное сильное движение народонаселения на стройных пространствах: леса горят, готовится удобренная почва, но поселенец не задерживается, чуть труд становится тяжелее — он снова в пути, «везде простор, везде готовы принять его». Земельная собственность не имеет цены (вот оно, главное отличие восточноевропейских экономических условий от западноевропейских), главное дело — в населении: «Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами; уйти на новые, лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край; с другой стороны, — удержать население, возвратить, заставить других не принимать его — вот важные вопросы колонизующейся страны, вопросы, которые мы встречаем в древней русской истории».
Славянский колонист есть «кочевник-земледелец». Великолепно сказано!
История действительно мачеха, ибо родная мать пуще глаза бережет нравственное здоровье ребенка, в природе же славянского племени Соловьев-моралист находил немало скверного: «От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве происходила полуоседлость, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то междоумочной жизни, к жизни день за день».
Где искать спасения? В государстве, в укреплении государственности. Иного ответа Соловьев не знал.
Трудности, с которыми столкнулось государственное начало на великой восточной равнине, громадны: «Государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся: легко понять, какие трудности должно было встретить государство при подчинении своим интересам интересов частных; легко понять происхождение этих разного рода льготных грамот, жалуемых землевладельцам, населителям земель».
История России есть история того, как государство во имя внешней независимости, которая понималась как высшее благо, подчиняло себе отдельные земли и закрепощало сословия. Лишь утвердившись в границах, очерченных природой, обезопасив себя от внешних врагов, превратив Россию в страну европейскую, государство могло приступить к ослаблению пут, стягивавших внутреннюю жизнь, к раскрепощению сословий. Начало было положено в середине XVIII века манифестом о вольности дворянства.
В объяснении важнейших вопросов русской истории Соловьев был точен и тонок, универсальные постулаты государственной школы дополнял суждениями, которые надолго опережали время. Казалось бы, достаточно указать на вынужденность закрепощения крестьян, сказать, что крепостное право — мера, вызванная природными условиями России и государственными потребностями в «умножении войска». На исходе XVI века шла борьба за рабочие руки: «Государство, давши служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог». Соловьев пошел дальше, высказав одну из тех мыслей, которые казались марксисту Покровскому «по крайней мере» экономическим материализмом: «Московское государство в описываемое время находилось на очень низкой ступени промышленного развития, было чисто земледельческим; мануфактурная промышленность была в младенчестве, город в смысле центра мануфактурной промышленности не существовал, город продолжал быть огороженным селом, городские жители продолжали заниматься земледелием точно так же, как сельчане и деревенщики, в чисто земледельческом государстве господствующим отношением бывает отношение землевладельца к земледельцу, причем обыкновенно первый стремится привести второго в полную от себя зависимость».
Слабость русского города, слабость русской промышленности подмечены глубоко верно, но развивать эту мысль, как и многие другие, Соловьев не счел нужным. Он описывал общий ход русской истории, монографическое изучение оставлял другим.
Не меньший научный интерес имеет его наблюдение над невыработанностью в России понятий о сословных правах и преимуществах, о всеобщем неумении и нежелании отстаивать сословный интерес, который всегда отступал перед частным. Представители разных сословий шли к «тушинскому вору», к Лжедмитрию II. Почему? Соловьев отвечал: «Крестьяне, например, собирались вовсе не побуждаемые сословным интересом, не для того, чтоб, оставаясь крестьянами, получить большие права: крестьянин шел к самозванцу для того, чтобы не быть больше крестьянином, чтобы получить выгоднейшее положение, стать помещиком вместо прежнего своего помещика; но подобное движение произошло во всех сословиях». Торговый человек хотел сделаться приказным, подьячий — думным дворянином, родовитые князья желали боярства. Сословное бесправие порождало бесправие общее, холопскую приниженность, губительно действовавшую на «природу племени».
В XVII веке русский человек в нравственном отношении продолжал жить «особе», как жили отдельные роды в IX веке. Во внешнем отношении земля была собрана, государство сплочено, но сознание внутренней, нравственной связи человека с обществом было крайне слабо. Болезнью общества стала вера в господство внешнего, формы, буквы над внутренним, духовным. Следствием стали «грустные явления народной жизни»: страшная недоверчивость друг к другу; всякий преследовал только свои интересы, нисколько не принимая в соображение интересы ближнего: «Страшно было состояние того общества, члены которого при виде корысти порывали все, самые нежные, самые священные связи!» Падению нравственности содействовала опричнина Ивана Грозного, когда водворилась «страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего», и другая, столь же губительная, — «привычка сообразовываться со случайностями», что, разумеется, не могло способствовать «развитию твердости гражданской, уважения к собственному достоинству, умения выбирать средства для целей».
Подчеркнуто благополучны названия глав восьмого тома: «Царствование Бориса Годунова», «Продолжение царствования Бориса Годунова», «Царствование Лжедимитрия», «Царствование Василия Ивановича Шуйского», «Продолжение царствования Василия Ивановича Шуйского», «Окончание царствования Василия Ивановича Шуйского», «Междуцарствие», «Окончание междуцарствия». Уж не пародия ли на историю «по княжениям и царствованиям»? Нет, трагедия. Насильственный перерыв в органическом ходе русской истории. Общее название тома: «История Смутного времени». Иначе — история бесплодного времени.
Первая причина Смуты — «неудовлетворительное состояние народной нравственности в Московском государстве». Правительство и общество низостью своей были достойны друг друга: «Любопытно видеть, как в характере Бориса и в отношениях к нему общества отразился господствующий недуг времени: Борис был болен страшною недоверчивостию, подозревал всех, боязливо прислушивался к каждому слову, к каждому движению, но и общество не осталось у него в долгу: каждый шаг его был заподозрен, ни в чем ему не верили; если он осквернил общество доносами, то и общество явилось в отношении к нему страшным доносчиком, страшным клеветником; он, по уверению современного ему общества, отравил царскую дочь, самого царя, сестру свою царицу Александру, жениха своей дочери, сжег Москву, навел на нее хана! Царь и народ играли друг с другом в страшную игру».
Пошли доносы: жены доносили на мужей, дети на отцов, доносили священники и чернецы, доносили холопы и именитые люди, доносили Рюриковичи. Мужчины доносили царю, женщины — царице. «В этих окаянных доносах много крови пролилось неповинной, многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам разослали и со всеми домами разорили».
Страшная земля! Страшный народ! Страшное общество!
И окрест — простор, пустынные земли, куда легко уйти и где легко затеряться. Не сыщут!
Многие уходили.
Суд Соловьева был строг: «Нет, все наше сочувствие принадлежит не тем, которые ушли, но тем, которые остались; все наше сочувствие принадлежит тем земским русским людям, которые разработали нашу землю своим трудом великим, подвигом необычайным, потому что были поставлены в самые неблагоприятные обстоятельства, должны были преодолеть страшные трудности, должны были бороться с природою — мачехою, при ничтожных средствах защищать обширную страну от врагов, нападавших на нее со всех сторон, и несмотря на все препятствия, создали крепкую народность, крепкое государство… Этим людям принадлежит все наше сочувствие, наша память, наша история. Прошедшее, настоящее и будущее принадлежит не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются на своей земле, при своих братьях, под своим народным знаменем».
В период общественного подъема начала 1860-х годов Соловьев счел необходимым еще раз изложить общий взгляд на весь ход русской истории. Для нового поколения читателей. Для шестидесятников. Сделал он это в знаменитой первой главе тринадцатого тома. Главу он назвал «Россия перед эпохою преобразования». Скрупулезно, в строгой логической последовательности раскрыл он свое понимание законов русского исторического развития, охарактеризовал основные события и главных деятелей русской истории. Он вновь аргументировал вывод о единстве исторического процесса, о закономерности петровских реформ. По глубине замысла, широте обобщений, убедительности выводов эта глава — одна из
лучших в «Истории России». Ее особенность — внимание ученого к событиям экономической и социальной жизни России, к русской культуре.
Соловьев был преимущественно исследователем новой истории России, крупнейшим знатоком которой он по праву считался. В «Истории России с древнейших времен» с наибольшей полнотой освещены события XVIII века: истории допетровской России отведено двенадцать томов, преобразованиям Петра I — шесть, остальные одиннадцать томов посвящены послепетровскому времени. При переходе к событиям XVIII века повествование резко замедляется, историк входит в детали внутренней и внешней политики, приводит многостраничные выдержки из источников, главы растягиваются на сотни страниц, их названия не меняются от тома к тому: том пятнадцатый — три главы «Продолжение царствования Петра I Алексеевича», том шестнадцатый — три главы с тем же названием, том семнадцатый — то же. Два тома заняло десятилетнее правление Анны Иоанновны, четыре тома — царствование Елизаветы Петровны.
Историк не забыл своей общей концепции, не отказался от нее, но сознание важности впервые освещаемых фактов, тайн петербургского двора, прелесть новизны прежде недоступных исторических документов, пожалуй, победили. Соловьев выступал в роли первооткрывателя русской истории XVIII века, и грешно судить его за некоторую рыхлость в изложении сырого первоклассного материала. Он добился от Александра II разрешения на разработку секретных архивов XVIII века и неутомимо прокладывал путь будущим исследователям.
Политическая история России XVIII века полна щекотливых мест — «удивительно, что в некоторых случаях цензором соловьевского груда выступал царь. В 1875 году министр тросвещения Толстой передал Соловьеву монаршье повеление: описать смерть Петра III, «как вы желаете», а затем прислать государю. По прочтении этих страниц Александром II историк получил извещение; «Государь император изволил разрешить вам напечатать об этом событии в том виде, как оно вами изложено».
Достойно упоминания, что Соловьев вовсе не ограничивался рамками прагматической истории, описанием «хода внешних событий». В разных томах он помещал отдельные главы, которые в совокупности — впору издавать отдельно — представляют собой впервые написанную историю русского общества от IX до XVIII века. Словно бы незаметно, попутно, историк сделал то, что впоследствии ставили в заслугу Ключевскому, Милюкову, Плеханову. Вчитайтесь в заглавия: «Внутреннее состояние русского общества в первый период его существования», «Внутреннее состояние русского общества от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Торопецкого (1054–1228)», «Внутреннее состояние…» до кончины Василия Темного, «во времена Иоанна III», «во времена Иоанна IV», «в царствование Михаила Феодоровича». Дальше строгий порядок нарушен. Есть главы о состоянии образованности «в первые семь лет царствования Елисаветы», о просвещении в России «от основания Московского университета до смерти Ломоносова».
Читать главы о «внутреннем состоянии русского общества» тяжело. Соловьев не жалел красок для показа дикости и грубости нравов, семейного и общественного деспотизма, презрения к слабым, к женщинам, к немногим подвижникам во имя христианского идеала. Так мало достоинства, чести, справедливости!
Соловьев никогда не искал славы патриота, его любовь к родине, к русскому народу действенна, строга, свята. Ключевский знал своего учителя: «Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаза, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве».
Соловьев был честен со своим народом. Он просто писал историю России, Русского государства и народа, который его создал. Просто писал…
Было бы недостойно памяти Соловьева, ученого-гуманиста, отвечать на поздний недобросовестный упрек, «историк великодержавной России». Или повторять невразумительное: «монархический патриотизм либерала-западника».
«Черным-черно, белым-бело» — старая присказка, безвредная для тех, кто не забыл, что в истории так не бывает. Никогда.
Избегая высоких слов, Соловьев умел находить точные выражения для оценки великих событий русской истории, особенно если эта оценка подтверждала правильность его исторической концепции. Куликовскую битву, к примеру, историк рассматривал как исход многовековой вражды «леса» и «степи», цивилизации и варварства, как событие поистине всемирно-историческое, которое можно поставить рядом с победой римлян над гуннами Аттилы на Каталаунских полях («Каталонская битва») и победой французского войска Карла Мартелла над арабами («Турская битва»). Этими двумя битвами Западная Европа была спасена от азиатских полчищ, но Европа Восточная еще долго оставалась открытой для их нашествий. Возникшее здесь в середине IX века государство, государство европейское и христианское, долго служило оплотом для Европы против Азии. В XIII веке этот оплот, казалось, был разрушен татарами, но «основы европейского государства спаслись на отдаленном северо-востоке; благодаря сохранению этих основ государство в полтораста лет успело объединиться, окрепнуть — и Куликовская победа послужила доказательством этой крепости; она была знаком торжества Европы над Азиею; она имеет в истории Восточной Европы точно такое же значение, какое победы Каталонская и Турская имеют в истории Европы Западной, и носит одинакий с ними характер, характер страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азиею, долженствовавшего решить великий в истории человечества вопрос — которой из этих частей света восторжествовать над другою?».
Битва на Куликовом поле — законный повод для народной гордости, однако и через двести лет после нее народ существовал без «духовного простора», при «неразвитости духовных, настоящих, самых крепких основ народности», когда внешнее однообразие (вера, обычаи, одежда, нравы) служило единственною связью между членами общества, «членами народа». В неразвитости внутренней, духовной народной связи историк видел «неразвитость народности вообще». Тем и дорого Соловьеву время царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II, что тогда происходил «переворот в нравственных понятиях», духовное начало торжествовало над материальной силой. Противопоставление двух этих начал — излюбленная идея ученого.
В одном из последних — двадцать шестом — томе «Истории России» Соловьев сурово отозвался о тех историках, что интересуются «только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов». Упомянув в этой связи Шлецера и сославшись на впечатления геттингенских его слушателей, знакомых и ему, Соловьеву (вот она, преемственность в науке!), он писал: «Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлецера; мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения; мы знаем, что они должны быть поставлены в служебное отношение к духовным требованиям; в истории мы видим осязательно истину священного изречения: «Дух есть иже живит, плоть ничтоже пользует». И далее — одно из итоговых наблюдений ученого над всем ходом мировой истории: «Мы знаем, когда являются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации: когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и золотому тельцу, тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтоб овладеть запродавшеюся им добычею».
Неразумно и опрометчиво недооценивать этот вывод Соловьева, объяснять его общим идеалистическим мировоззрением историка, сводить к либеральному протесту против торжества грубой силы и ограничивать кругозором человека XIX века. Все это правильно, но недостаточно для уяснения главного: соловьевское суждение — универсально. Оно — к сожалению! — верно во все времена.
Содержание двадцать шестого тома не дает оснований упрекать Соловьева в том, что, следя за «нравственным переворотом», он упустил из виду социально-экономический фактор. Напротив, утверждая первенство духовного начала над материальным, историк с особой остротой подчеркивал неразвитость социальных отношений, которая и дает возможность существовать в России рабству. Начало этой неразвитости — в географии страны. Российские просторы вечно враждуют с немногочисленностью населения, российские просторы — народная беда: «Так продолжал тягость над русскою землею исконный ее недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозможность добыть вольнонаемного работника. Надобно было содержать землею военного человека и надобно было прикрепить к этой земле работника; надобно было завести фабрику — надобно было приписать к ней крестьян; надобно было поощрить мореплавание, постройку мореходных судов — надобно было дать крепостного матроса, вольного рабочего не было и не было ему нужды идти в трудную и непривычную работу».
В духе социологии XIX века Соловьев подводит итог: «Где историк видит рабство, там и без свидетельств должен предполагать бегство и возмущение». Для него и бегство, и возмущение — зло, препятствующее народному благосостоянию. Особенно же пагубны «революционные требования, пугающие не только правительства, но и народное большинство, заставляющие его опасаться за самые существенные интересы общества».
И еще одно высказывание из двадцать шестого тома, которое, как кажется, завершает соловьевские размышления над идеей исторического прогресса: «Человеку приятно увлекаться мыслью о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет, нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем развитием, причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобретается плод, теряется цвет». Как далеко это от более ранних, прямолинейных утверждений…
«История России с древнейших времен» — удивительный памятник исторической мысли. Многолетний труд Соловьева вобрал в себя лучшие достижения отечественной и западноевропейской историографии XVIII–XIX веков, из тома в том историк умело проводил основные научные идеи, сохранял верность первоначальному замыслу. Сверх того, «История России» — первоклассный свод источников по русской истории IX–XVIII веков, разнообразие и обилие которых лучше любых мемуарных свидетельств говорит о громадной черновой работе, предшествовавшей появлению каждого нового тома.
Приемы работы Соловьева с источниками — тема узкоспециальная, способная, однако, поведать немало интересного о ремесле историка. Первый мастер своего дела, Соловьев однажды и навсегда принял решение: строгости в отборе источников он предпочитал их полноту и представительность. «Скептическая школа» Каченовского судила исторический памятник мерками XIX века, сомневалась и отвергала, чтобы не ввести в сомнение читателя. Соловьев полагал, что право критиковать источник равно принадлежит автору и читателю исторического сочинения. Дело историка — отыскать документ и, по возможности без искажения, передать его, если не целиком, то в обильных выдержках, в подробном пересказе. Суждения о достоверности исторического источника он выносил в редчайших случаях. Для своего времени такой подход был, пожалуй, неизбежен и оправдан, особенно когда речь не шла о монографическом исследовании частных вопросов. Иной, более жесткий метод отбора источников не только резко сузил бы их круг, но и вынудил бы пройти мимо многих новых сведений и фактов.
Ясно, что здесь возможны были промахи и изъяны: Соловьев чрезмерно доверял простоте и беспристрастию летописных известий, пользовался сомнительными летописными текстами, извлеченными из Татищева, даже ссылался на поддельную «Краледворскую рукопись». При обращении к документам внешней политики XVI–XVIII веков он как бы не замечал, что посольские донесения имели свойство описывать не то, что происходило, но то, что, по разумению послов, должно было происходить. В еще большей степени этим страдали правительственные указы и распоряжения.
Ученый мирился с такими издержками; по возможности сопоставлял разные источники, уточнял датировки, указывал на явные несообразности; единственно, чего он избегал, — переосмысления текста, предъявления к нему требований, несоответственных его времени. Источник не лукавит, если не лукавит его комментатор. Очень высоко ценил Соловьев источниковедческие приемы Шлецера, его занятия русским летописанием, подытоженные в прославленном труде «Нестор». Знаменательна логика соловьевских рассуждений: «Зная, что имеет дело с начальным летописцем, Шлецер знает также, что имеет дело с начальным, первобытным обществом; критик потому уважает Нестора, что в простом рассказе его не находит ничего, что бы не соответствовало этому первобытному состоянию. Гласно и решительно высказалось мнение, что рассказ об известном времени в жизни известного общества должен соответствовать этому времени во всех чертах своих, это соответствие выставлено как непогрешительная поверка подлинности памятника, оно выставлено главною нравственною обязанностию повествования, и труд, отличающийся таким соответствием, назван
честным…».
Сейчас такая критика исторического источника кажется недостаточной.
При изложении событий ранней русской истории Соловьев использовал преимущественно источники, уже до него известные, напечатанные в таких изданиях, как «Полное собрание русских летописей», «Собрание государственных грамот и договоров», «Акты Археографической экспедиции», «Акты исторические», «Дополнения к актам историческим». Наряду с летописными сводами он обращался к житиям святых, сказаниям и поучениям, ссылался на былины, на актовый материал, на известия греческих, латинских и арабских авторов, на польские и ливонские хроники.
Русскую историю XVI и особенно XVII–XVIII веков ученый писал, основываясь на самостоятельном изучении архивов. Для знатока масса источников, открытых и обработанных Соловьевым, представляется чем-то невероятным, непосильным для одного человека. Между тем Соловьев все делал сам. Трудно понять, как это ему удавалось.
Только в московском архиве министерства иностранных дел он пересмотрел дела: австрийские, английские, армянские, брауншвейгские, голландские, голштинские, греческие, грузинские, датские, донские, испанские, калмыцкие, китайские, крымские, курляндские, малороссийские, мекленбургские, персидские, польские, прусские, римские, турецкие, французские, хивинские и шведские. Соловьев читал написанные неразборчивой скорописью XVII века столбцы Разрядного и Малороссийского приказов, Приказа тайных дел, Преображенского приказа, пользовался писцовыми книгами и «портфелями» Миллера, собравшего документы по внутренней политике, архивными фондами Сената, Синода, Кабинета Тайной канцелярии, Верховного тайного совета. Еще была переписка Петра I и Екатерины II, законы Российской империи, донесения иностранных дипломатов, публицистика…
В томах, посвященных новой русской истории, документы цитируются особенно широко: Соловьев стремился искоренить то, по его словам, «плачевное положение», когда русские знали исключительно события древности, входили в подробности правления великого князя Изя-слава Мстиславича и оставались «в совершенном мраке» относительно лиц и событий XVIII века. Долгие десятилетия «главными источниками служили, во-первых, анекдоты, постоянно искажавшиеся при переходе из уст в уста и дававшие неправильное представление о лице и действии по отрывочности, односторонности, какой бы стороны ни касались, хорошей или дурной; во-вторых, известия иностранцев, которые читались с жадностию именно за отсутствием своих».
Соловьев дал русскому обществу желанные сведения о событиях недавнего прошлого, сведения, основанные на первоисточниках, впервые введенных им в научный оборот и изложенных в духе целостной концепции государственной школы. Все это заключено в томах «Истории России с древнейших времен».
«Чего ж вам больше?» Какова новая, более высокая ступень исторического изучения?
Ответ дал сам Соловьев: «обработанный университетский курс». Для него лукавый блудовский совет всегда оставался неисполнимым, даже спустя четверть века, когда молодой Ключевский говорил об издании курса как о профессорской обязанности. Ученик прибегал к такому изысканному соображению: «его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело», курс — это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа Соловьева и его аудитории. Соловьев называл это плохим софизмом, «не стоящим и пятачка», и прекращал разговор. Но лучше других он понимал, что не за горами день, когда русское общество получит долгожданный университетский курс.
Понимал это и Ключевский, чей столь известный «Курс русской истории» вырос из лекций, которые он читал в Московском университете после смерти своего учителя. Новые времена, новые слушатели, новые запросы. Новые приемы исторической критики. Новые теории.
И старое-престарое: учитель и ученик.
Не умаляя таланта и научных заслуг Ключевского, должно признать, что пятитомный «Курс русской истории» — сокращенная, приглаженная, олитературенная «История России с древнейших времен». Факты слушатели Ключевского черпали у Соловьева.
Соловьев избавил Ключевского от тяжелой участи первопроходца — и заиграли сравнения, появились мастерские зарисовки быта и нравов, язвительные отзывы, умело исполненные психологические портреты, обрели историческую плоть глубокомысленные сопоставления и легкие намеки. Особый, слегка витиеватый стиль Ключевского, на зависть ясная манера изложения…
Умел ли так Соловьев?
Умел.
Он не причислял себя к тем писателям, которые, «пиша историю, имели в виду единственно краснописание», мог, изнуренный многолетней повинностью, писать темно и просто плохо, но, прежде чем кончить главу об «Истории России с древнейших времен»'Сергея Михайловича Соловьева, позвольте привести почти наугад выбранные строки семнадцатого тома, где есть все — и мысль, и слог, и вдохновение. Строки, к которым приближаются лучшие страницы Ключевского: «Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен дед его — царь Алексей Михайлович или дядя — царь Федор Алексеевич; но подобно им он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его; он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только; оттого ему так нравились русские образованные люди второй половины XVII века, оттого и он им так нравился. Россия в своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быстро; в короткое время она изживала уже другое направление; царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным, передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления; Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления: отец опередил сына! Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения; отец, которому по природе его были более всего противны домоседство и лежебокость, во имя настоящего и будущего России требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество, а для этого нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного, неодолимого отвращения к выполнению их — с другой, и возникали изначала печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу, а этого именно и требовал Петр от сына».
Хорошо сказано.
ГЛАВА VI
ДЕКАН И РЕКТОР
В середине февраля 1855 года по Москве пошли слухи о болезни императора. В Петербурге явно что-то происходило: Николай I никогда не болел, вел, как всем было известно, спартанский образ жизни, и в его суровом, подчиненном солдатской дисциплине распорядке дня но отводилось места для недомоганий. Никто не отважился бы назвать Николая Павловича старым. Император-воин, император-рыцарь неполных шестидесяти лет, верный обету заботиться о благе подданных, он не мог, казалось, заболеть и особенно не мог опасно заболеть теперь, когда Россия ведет изнурительную войну чуть ли не со всей Европой…
Не верилось, что возможен иной исход, кроме продолжения долгого, бесконечного царствования. 15 февраля Грановский писал: «Боже мой! Сколько сошло в могилу наших сверстников, товарищей нашей юности! Хорошо еще тем, которые умерли как Станкевич… оставляя по себе благодарные воспоминания и сожаления. А сколько таких, которые померли заживо и с которыми больно теперь встретиться при мысли о прежних своих отношениях».
В воскресенье, 19 февраля, Соловьев, по обыкновению, пошел к обедне в приходскую церковь Николы на Песках, что на Арбате. Там он встретил Хомякова, чей дом на Собачьей площадке находился неподалеку. Всеведущий Алексей Степанович подошел к нему со словами: «Теперь, должно быть, уже присягают в Сенате: умер!»
Надо ли говорить, что московский профессор Соловьев не был опечален известием, которое огорчило в России немногих — так тяжело и удушливо было тридцатилетнее николаевское правление. Дома его ждала повестка: надлежало в мундире явиться в университетскую церковь для присяги, скорое принесение которой дворянами и чиновниками в таких случаях всегда заботило российские власти. На ступенях церкви он нашел Грановского, и первое слово было: «Умер!» Грановский ответил: «Нет ничего удивительного, что он умер; удивительно то, как мы с вами живы». Жестокие слова. Эпитафия властелину, в котором Соловьев видел библейского тирана Навуходоносора, и горькое сожаление о поколении сороковых годов, чья лучшая пора жизни пришлась на эпоху Николая I.
Москвичи не таили радости. Они, правда, не обнимались на улицах, как некогда их деды, узнавшие о смерти Павла I, но шампанского в тот день было выпито немало. Присягнув, славянофилы — Хомяков, Иван Киреевский и их друзья — собрались у Кошелева, выпили за здоровье нового императора и от души пожелали, чтобы в его царствование свершилось освобождение крепостных крестьян и созвана была Земская дума. Иван Аксаков, который накануне, 18 февраля, вступил в серпуховскую дружину московского ополчения, говорил о «величавой смене эпох», нелестно отзывался о покойном императоре: «Я считаю его честнейшим, но тупоумнейшим человеком, служившим верою и правдою своим убеждениям фельдфебельским…; я считаю Николая Павловича просто душегубцем: никто не сделал России такого зла, как он».
В день присяги Соловьев обедал у отца и там услышал, что во время горестного звона на колокольне Ивана Великого внутри обвалилась штукатурка и задавила людей. Так, несчастливым предзнаменованием началось царствование Александра II.
«Черное предвещание», вспоминал Соловьев, произвело впечатление сильное, но непродолжительное: «Стали жить надеждою». У Соловьева к надежде примешивалось беспокойство: что, если будет еще хуже?! Человека вывели из тюрьмы, ему легко дышать, но куда ведут его — может быть, в другую, еще худшую тюрьму? Или выпустят на свободу? Никто ничего не знал, но все ждали и надеялись. В Москве нового царя знали плохо, приезжие из Петербурга говорили разное, осведомленные люди помалкивали. Оставалось строить догадки о человеке — императоре! — воспитателем которого был добрый и гуманный поэт Жуковский, а учили которого, главным образом, военному делу. Иначе, говорил Николай I, наследник вырастет «потерянным в нашем веке».
Чаадаев склонялся к тому, что «будет хуже»: «Разве может быть какой-нибудь толк от человека, у которого такие глаза?!» У Александра II глаза были слегка навыкате и удивительно пустые, он не наследовал грозный отцовский взгляд. Хомяков со смехом пересказывал знакомым чаадаевское суждение, с которым решительно не соглашался. Ему казалось, что наступил удобный момент для утверждения в обществе славянофильских идей и, стало быть, все к лучшему. Константина Аксакова он убеждал: «Все, что мы сделали для пробуждения общественного сна, весь наш протест или забудется, или же забыт. Если мы теперь не выступим с силою, наш нравственный авторитет (хоть и небольшой, но все-таки уже приобретенный) пропадет вмиг… теперь дело идет завоевать Россию, овладеть обществом, и все это не невозможно».
В доме Хомякова Соловьев услышал от хозяина любопытнейшую версию русской истории, связанную, естественно, с современными событиями: «Будет лучше. Заметьте, как идет род царей с Петра, — за хорошим царствованием идет дурное, а за дурным — непременно хорошее: за Петром I Екатерина I — плохое царствование, за Екатериною I Петр II — гораздо лучше; за Петром II Анна — скверное царствование; за Анною Елисавета — хорошее; за Елисаветою Петр III — скверное, за Петром III Екатерина II — хорошее; за Екатериною II Павел — скверное; за Павлом Александр I — хорошее; за Александром I Николай — скверное; теперь должно быть хорошее. Притом наш теперешний государь страстный охотник, а охотники всегда хорошие люди; вспомните Алексея Михайловича, Петра II». В разговорах с Хомяковым Соловьев обыкновенно улыбался и молчал, Хомяков же говорил без умолку, и создавалось впечатление, что последнее слово всегда оставалось за ним, даже если речь шла о прошлом России. Впрочем, обоих тогда больше занимало настоящее — злополучная Восточная война, безответственно начатая Николаем I.
В отношении к войне славянофилы и западники проявляли редкое единомыслие: они желали поражения царского правительства. Это было настолько необычно, настолько шло наперекор общему мнению беззаботного российского дворянства, что Хомякова, великого печальника земли русской, в Английском клубе ославили изменником, подкупленным англичанами. Бедное русское общество! Пожалуй, именно тогда Грановским, Хомяковым и их единомышленниками была заложена традиция, которой в дальнейшем следовала русская интеллигенция. Любовь к России, горячее участие в ее судьбе нравственно несовместимы с поддельными патриотическими восторгами, за которыми стоят слепота и недомыслие либо безразличие и корысть, Кошелев вспоминал: «Мы были убеждены, что даже поражения России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде».
О том же писал Соловьев: «Когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении, с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой — мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет. В массе народной заметно было равнодушие».
Такое настроение, требовавшее величайшего напряжения всех душевных сил, не проходило бесследно, оно сжигало — и в короткое время ушли из жизни Грановский, Чаадаев, Иван и Петр Киреевские, немного спустя за ними последовали Хомяков и Константин Аксаков.
С началом войны возникла раздвоенность, и не было в их душах мира. Хомяков обращался к России:
О, недостойная избранья,
Ты избрана!
Знаменитое стихотворение содержало строки, которые приводили в одинаковый восторг западника Чичерина и славянофила Самарина:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
Под стать Хомякову писал стихи Иван Аксаков, и московский генерал-губернатор Закревский предлагал заключить стихотворца в крепость «до окончания войны». Но тот же Иван Аксаков был автором стихотворения «На Дунай!», где призывы «свято послужить великому делу» выражали заветное желание славянофилов видеть торжество нового, славянского мира над миром старым, отжившим, а балканских братьев — свободными от чужеземного ига.
Далекий от славянофильских увлечений Грановский говорил студентам-медикам, что если бы он был на их месте, то бросил бы университет и ушел бы в действующую армию: «Время ли теперь учиться, вы только представьте себе, что тысячи раненых солдат лежат теперь на полях сражений, стонут и мучаются и гибнут от недостатка ухода; и скольким бы из них вы могли помочь; ведь вы можете принести гораздо больше пользы, чем хороший фельдшер, а там и фельдшеров даже не хватает». Слова профессора, в котором привыкли видеть образец нравственной чистоты и благородства и чьим мнением дорожили, производили впечатление, и студенты выходили из университета, ехали в Крым и на Дунай. В письме к Герцену Грановский высказывался иначе, он близок к отчаянию: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет».
Еще при жизни Николая I, в феврале 1855 года Грановский оплакивал раннюю смерть друга, географа и экономиста Николая Фролова: «Нельзя было более и благороднее его любить Россию и с большею горячностью принимать к сердцу все, до нее касающееся». Несколько месяцев спустя не стало и самого Грановского.
Новое царствование породило надежды на скорое окончание войны. Сначала — и очень короткое время — их связывали с патриотическим одушевлением, которое при определенных условиях мог бы вызвать Александр II, чтобы, обратившись к стране и опираясь на ее громадные, втуне пропадавшие силы, добиться «честного мира». Так думали лучшие — Грановский, Соловьев, славянофилы.
Кошелев подал императору записку «О денежных средствах России в настоящих обстоятельствах», где впервые достаточно внятно была высказана сокровенная мечта русских либералов: «Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земля русской; пусть он прикажет изложить действительные нужды Отечества, — и мы все готовы пожертвовать собою и всем своим достоянием для спасения Отечества… Мы любим власть, верим ей и убеждены в том, что она должна быть сильна, чтобы быть благотворною; и сопротивление власти, потребность ее ограничить, так же чужды русского народа, как и самого православия, составляющего сущность всего нашего быта… Созвание выборных в Москву в теперешнее, крайне важное и грозное время оживит всю Россию, скрепит союз царя с народом и воздвигнет такую силу, которая в состоянии будет сокрушить все замыслы искусственно соединенной Европы».
Кошелев обещал резкое улучшение финансового положения страны (здесь мнение удачливого откупщика и очень богатого человека имело вес), подавление «дерзких замыслов Европы». Взамен он надеялся получить — как монаршью милость! — учреждение, совершенно, как он уверял, не похожее на европейские парламенты. Всего лишь — собрание выборных, обсуждающих финансы страны. При чтении записки царь, надо полагать, думал: «Мягко стелет». В сущности, Александру II предлагалось ввести законосовещательную думу, сделать шаг к представительному правлению, к конституции. Над этим следовало поразмыслить, тем более был выбор: заключение мира на любых условиях, мира «во что бы то ни стало!».
Соловьев дольше многих сохранял веру в возможный патриотический подъем, сравнивал падение Севастополя с оставлением Москвы в 1812 году и винил императора в незнании России, ее прошлого и настоящего, в слабости и в недостатке смелости, необходимой, чтобы объявить, что война только начинается. Наивность кабинетного ученого, далекого от настроений русской провинции? Скорее некоторая недоговоренность, невысказанная надежда на политические преобразования в духе кошелевской записки. Не того ли собрания выборных, с парижских еще времен, желал для России Сергей Михайлович Соловьев, поклонник министерства Гизо. Для политических взглядов историка характерно явное предпочтение парламентарных форм государственного устройства, в принципе он стоял за конституционную монархию и против самодержавного правления. Здесь, как кажется, истоки неожиданного патриотического увлечения Соловьева, и понятно, что путь, избранный Александром II, путь «постыдного мира», вызвал у него разочарование.
К Грановскому отрезвление пришло скорее. Он стал свидетелем дворянских выборов в ополчение в Воронежской губернии — патриотизма не было и в помине, богатые откупались, недостаточные шли, чтобы поправить обстоятельства за счет ратников. «Трудно себе представить что-нибудь более отвратительное и печальное, — писал он Кавелину, — …такая тупость, такое отсутствие понятий о чести и о правде». Утешало одно: воспитанники Московского университета нигде не уклонялись от выборов, особенно в Нижегородской губернии, где ополчением командовал граф Сергей Строганов. Остальные дворяне над ними смеялись. Из близких знакомых в ополчение ушли Юрий Самарин и Иван Аксаков. Последний пояснял: «Мне было бы совестно не вступить. Все идет глупо, но тем не менее люди дерутся и жертвуют». Весть о падении Севастополя вызвала у Грановского слезы: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время».
Печальное и томительное время, время новых разочарований, когда Иван Аксаков восклицал: «Ужели придется возвращаться нам на прежнее усиженное местечко, пригретое тридцатилетним сидением!» Все же с 19 февраля в стране происходили перемены, пусть поначалу и неброские. Соловьев хорошо сказал: «Пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворяться».
Коснулись перемены и Московского университета. В мае деканом историко-филологического факультета был избран Грановский. Его избрали единогласно, хотя он решительно сопротивлялся. Даже протоиерей Терновский положил белый шар. Новый декан был признателен коллегам, о своем же предшественнике Шевыреве отозвался: «Авось мы простимся с ним. Глупый и вредный человек!»
Время черной уваровской партии прошло.
Грановский был полон энергии, призывал друзей «стряхнуть лень и снова взяться за дело». Факультет он хотел разделить на два отделения, историческое и филологическое, что внесло бы порядок в набор и последовательность изучаемых дисциплин и улучшило бы подготовку студентов, отличных юношей, на которых грех жаловаться. Вместе с Кудрявцевым затеял издание «Исторического сборника», посвященного преимущественно современным событиям, ибо эластичное слово «исторический» давало возможность касаться самых жизненных вопросов. Наконец, именно Грановский стоял во главе той группы либеральных московских профессоров, которая успешно хлопотала о разрешении журнала. Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Евгений Корш были главными деятелями нового журнала «Русский вестник», издание которого должно было начаться в 1856 году. Чичерин восторженно писал: «Все так называемые западники, почитатели науки и свободы, соединялись для общего дела. Столько лет подавленное слово могло, наконец, высказаться на просторе».
24 августа министр народного просвещения Норов утвердил профессора Грановского деканом историко-филологического факультета.
27 августа пал Севастополь.
Реакция дворянских кругов была неожиданной. Грановский писал: «Высшее общество боится, чтобы новый царь не был слишком добр и не распустил нас. Общество притеснительнее правительства». Соловьев знал это еще по чаадаевской истории. Московские баре заподозрили даже Погодина, чьи историко-политические письма читал и одобрял Александр II. Чтение было успокаивающее — давняя историческая теория приводила к выводу о невозможности революции в России. Страх напрасен, уверял маститый историк: «Россия представляет совершенно противоположное государство западным. Восток есть Восток, а Запад есть Запад… Семян западной революции в России не было, следовательно, мы не должны были бояться западных революций». Следует опасаться одного: русского бунта, соединенного с расколом: «Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен Емелька Пугачев. Ледрю-Роллены со всеми коммунистами не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой Пустосвятом разинет рот любая деревня».
Сейчас трудно понять, что привело в ярость Закревского и князя Голицына, но Погодин испугался и хотел уехать из Москвы. «Они мне подкинут мертвое тело в сад, — говорил он, — и отдадут под суд за душегубство». Бедный Погодин! Страшное русское общество…
2 октября больной Грановский продиктовал жене письмо к Кавелину, которое стало его политическим завещанием. Проникнутое духом нетерпимости, резкое, раздражительное, письмо выражает дух времени, когда все более повышалась в цене четкость общественной позиции, когда правили бал не умеренность и компромисс, а решительное размежевание общественно-идейных направлений. Умевший быть тактичным, сдержанным, сердечным, Грановский здесь беспощаден.
Сначала он пишет о Герцене, которого навестил в Лондоне общий знакомый: «Утешительного и хорошего мало. Личность осталась та же, нестареющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность ничтожная и понимание вещей самое детское. Для издания таких мелочей не стоило заводить типографию. Сотрудники у него настоящие ослы, не знающие ни России, ни русского языка. Если бы эти жалкие произведения и проникли к нам, то, конечно, не вызвали бы ничего, кроме смеха и досады. Его собственные статьи напоминают его остроумными выходками и сближениями, но лишены всякого серьезного значения».
После Соколовских споров разрыв был неизбежен, и он произошел. Но последовал отъезд Герцена за границу, за ним — революционный 1848 год, свирепый бутурлинский комитет, семейные драмы. Спор прекратился, принципиальные идейные разногласия как бы затушевались. Изменилась общественная ситуация — и Грановский вновь, как в Соколове, берет на себя инициативу разрыва, выясняет противоречия. Это его обязанность, ибо он — вождь русских либералов, которым не по пути с Герценом, с радикалами. Грановский отвергает герценовскую «Полярную звезду», едва ли он в восторге и от самой идеи Вольной русской типографии. Герцен для него столь же неприемлем, как и Погодин: «Говорят из двух противуположных лагерей, а выходит один и тот же вздор». С точки зрения либерализма сказано абсолютно точно.
Долг платежом красен — и на Герцена обратилась та нетерпимость, что отличала его в спорах сороковых годов. Естественно, что Соловьев был совершенно согласен с Грановским, который в его глазах был прямой противоположностью — как человек, как общественный деятель — Герцену. О лондонском изгнаннике он вспоминал: «Я любил его слушать, ибо остроумие у этого человека было блестящее и неистощимое; но меня постоянно отталкивала от него эта резкость в высказывании собственных убеждений, неделикатность относительно чужих убеждений; так, например, он очень хорошо знал о моих религиозно-христианских убеждениях и, несмотря на то, не только не удерживался при мне от кощунств, но иногда и прямо обращался с ними ко мне; нетерпимость была страшная в этом человеке».
Другой объект для критики Грановского — славянофилы: «Эти люди противны мне как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории… Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово — православная патриархальность, несовместимая ни с каким движением вперед».
Отрыв, хотя бы временный, от общественного движения, не проходит бесследно. Грановский повторил ошибку Герцена, который в разгар «мрачного семилетия» обращался из Лондона к славянофилам: «Любой день может опрокинуть ветхое социальное здание Европы и увлечь Россию в бурный поток огромной революции. Время ли длить семейную ссору и дожидаться, чтобы события опередили нас, потому что мы не приготовили ни советов, ни слов, которых, быть может, от нас ожидают?
Да разве нет у нас открытого поля для примирения?
А социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря, — разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку».
Ошибка — не в зачислении славянофилов в ряды сторонников социализма, который был им органически чужд; ошибка — в незнании их подлинной общественной программы, их образа мыслей и образа действий. Соловьев прав: страсть к картам — несчастная страсть. Накануне и в ходе Крымской войны славянофилы двигались именно «вперед», они серьезно обсуждали проблемы отмены крепостного права, собирались для этого в деревне у Хомякова (при желании их собрание можно было бы назвать нелегальным), готовили записки по крестьянскому делу. Их цель, говоря словами Юрия Самарина, «критика того, что есть». Грановский прав в одном — славянофилы находились в оппозиции правительству.
А Грановский? Он не пишет о либеральных реформах — их необходимость ясна, он пишет о правительстве, которое должно провести их в жизнь. В России нет иной
созидательной силы, кроме правительства: «Не только Петр Великий был бы нам полезен теперь, но даже и палка его, учившая русского дурака уму-разуму. Со всех сторон беда; нехорошо и снаружи, и внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это положение разумным словом. Московское общество страшно восстает против правительства, обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже правительства по пониманию вещей».
Полно, да Грановским ли написаны эти слова? Историк-гуманист мечтает о «палке»? Да, это подлинный Грановский, историк государственной школы и социальный реформатор, чьи убеждения оказали глубокое воздействие на Соловьева, Кавелина, Чичерина и других выдающихся либералов-западников, чей авторитет объединял таких разных людей, как Кудрявцев и Катков. Для уяснения роли Грановского в истории русской общественности недостаточны расплывчатые герценовские характеристики — «этот благородный деятель», «этот глубоко настрадавшийся человек». Читая статью «На могиле друга (Грановский)», полезно помнить, что Грановский был не только другом, но и стойким политическим противником Герцена.
Относительно мотива «палки» можно заметить, что он всегда присутствует в сознании русского общества и без особого стеснения высказывается в острые, кризисные моменты. Так было в 1855 году, когда об этом говорил Грановский, безусловный лидер либералов-западников. Так было, например, в 1861 году, когда в деревне тлело недовольство полученной волей, в университетских городах манифестировали студенты, а помещики полагали, что их ограбили. Борис Чичерин получил тогда письмо от брата Василия, умного дипломата, описывавшего настроения петербургского общества: «Отовсюду слышны вздохи о власти, которая смиренно скрывается… Россия просто просит палки, и не только низшие классы, но и высшие слои общества. А искренним либералам, при виде этого коммунистического движения, остается поддерживать абсолютизм, который все же лучше анархии».
Невольно хочется повторить: бедное русское общество! Страшное русское общество!
Грановский умер 4 октября 1855 года. Он оставил после себя светлую память — прекрасный человек, мудрый наставник молодежи, которую он учил главному — умению свободно мыслить и чувствовать. Даже не учил, просто напоминал, что только свободными могут быть подлинная мысль и истинное чувство. Оставил он после себя и кружок единомышленников, из которых каждый полагал, что именно он — наследник Грановского. Непрочный кружок скоро распался, его члены разбрелись в разные стороны, и идейное наследие московского профессора оказалось разобранным на части. Одни владели «благородными помыслами», другие — «палкой». Со смертью Грановского кончилась целая эпоха в истории русского общества, о которой Кавелин сказал: «Знаменательный рассвет нашей умственной и научной жизни, короткий, как наше северное лето». Кончились сороковые годы — и настал черед шестидесятых, главный герой которых — радикал-разночинец. «Люди сороковых годов», совсем еще нестарые — Соловьеву пошел тридцать шестой год, — отступили на второй план, возвышаясь, правда, в чинах и обретая твердую общественную репутацию.
Среди друзей, коллег, учеников и слушателей, хоронивших Грановского, находился Иван Прыжов. Историк, воспитанник Московского университета, по происхождению разночинец, по убеждениям радикал, словом — тип шестидесятника. Позднее он попал в организацию авантюриста Нечаева, участвовал в страшном убийстве студента Иванова и пошел на каторгу. Прототип Толкаченко в «Бесах» Достоевского. В истории русской культуры Прыжов оставил след как автор любопытнейших книг «Нищие на святой Руси» и «История кабаков в России в связи с историей русского народа». Был он человеком наблюдательным, нецеремонным, как все шестидесятники, склонным к иронии, что в завзятом нигилисте удивительно, и оставил небольшие воспоминания. Прыжов, да и все собравшиеся, видел, как плакал обычно сдержанный Соловьев, слышал короткую речь Кудрявцева над могилой. Об этом писали и другие. Наибольший интерес представляет его описание поминок: «Говорил Погодин, начавший свою речь, кажется, стихом Горация, Соловьев, который сначала уколол Погодина, а потом расплакался. Крылов в длинной речи старался уяснить себе нравственные черты Грановского и заметил, что все достающееся другим упорным трудом и бессонницею Грановскому досталось «так легко и любовно» и приносило больше пользы, имело больше значения, чем толстые томы, которые мы пишем, пишем… И, говоря это, Крылов смотрел прямо в глаза сидевшему против него Соловьеву. Кетчер свидетельствовал, что Грановский много трудился, много читал, и постоянно с карандашом в руке, что даже во время болезни он умолял перенести его наверх, в его любимую библиотеку, что на постели, где он умер, нашли книгу с карандашом. Тут многие спросили: «Какую книгу?» — «Не знаю, — отвечал Кетчер, — я книгу убрал». Все сидели за столом, а за стульями к окну стоял Кавелин и играл стеклышком. Просили и его сказать что-нибудь, но он отказался, объявив, что он теперь уже не тот, что лучшее время его жизни было то, когда он был в Московском университете».
Словно сцена из древней истории: споры соратников над гробом вождя. «Люди сороковых годов», увиденные глазами нового поколения. Крылов, говорящий о нравственности…
Другая картина. Чичерин, которого весть о смерти Грановского застала в имении, перед Рождеством приехал в Москву. Знакомый флигель в Харитоньевском переулке. Он вошел в опустевший кабинет, увидел большое кресло, в котором обыкновенно сидел хозяин, пюпитр, за которым он писал, и зарыдал. «Вернувшись домой, я, можно сказать, с обливающимся кровью сердцем написал посвящение памяти умершего наставника своей магистерской диссертации, которую я собирался издавать и которая была им прочитана и одобрена». Научная традиция продолжалась…
Чичерин был уверен, что если бы Грановский остался жив, русская литература получила бы более благородное и плодотворное направление: «Он остался в памяти всех, как лучший представитель людей сороковых годов, как благороднейший носитель одушевлявших их идеалов, идеалов истинно человеческих, дорогих сердцу каждого, в ком не иссякло стремление к свободе и просвещению. Чистый и изящный его образ был как бы живым воплощением этих идеалов. Как часто мы обращались к нему в последующее время, при постепенном упадке русской литературы, когда среди разыгравшихся страстей, узких взглядов и низменных интересов
более и более иссякала в ней нравственная струя! Как часто мы говорили: что бы сказал об этом Грановский? То ли было бы, если бы жив был Грановский? Но он ушел, оставив после себя пустоту, которую ничто не могло наполнить. Заменить его никто не был в состоянии; председательское место осталось незанятым».
16 ноября 1855 года за смертью Грановского профессор Соловьев был утвержден деканом историко-филологического факультета на недослуженное покойным время. Студентами новый декан встречен был дружелюбно, они вообще ликовали — в ноябре им объявили, что государь приказал принимать на все факультеты неограниченное число студентов. С коллегами у Соловьева всегда были ровные отношения. По общему признанию, он был хорошим администратором, благожелательным, требовательным, авторитетным. Деканом он пробыл долго, пользуясь неизменной поддержкой передовой профессуры. Его дважды — 19 июня 1859 года и 17 июня 1863 года — утверждали в должности декана на четыре года, после второго четырехлетия утвердили деканом на три года, с 17 июня 1867 года. С конца 1863 года он по временам исправлял должность ректора университета и попечителя Московского учебного округа. Административная работа Соловьева в Московском университете имела важное значение, и он серьезно относился к своим служебным обязанностям. В необходимых случаях профессор Соловьев как никто другой умел поддержать репутацию университета.
Первым делом на месте декана было отдать долг предшественнику, учителю, другу. Соловьев написал некролог «Тимофей Николаевич Грановский», где сказал о «чувстве нравственного лишения», принял участие в разработке плана издания сочинений историка. Вместе с Кудрявцевым он собирал и редактировал его произведения, которые составили два солидных тома. В 1858 году он исхлопотал разрешение на учреждение стипендии Грановского, для которой на добровольные пожертвования был составлен капитал в семь тысяч рублей. Дела в общем-то малозаметные, особенно на фоне событий, происходивших в России и в Москве: заключение Парижского мира, речь Александра II московским дворянам, когда были произнесены исторические слова: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет отменено снизу», юбилей актера Михаила Семеновича Щепкина, где Константин Аксаков провозгласил знаменитый тост в честь общественного мнения, торжественные встречи севастопольских героев, выход в свет новых журналов, западнического «Русского вестника» и славянофильской «Русской беседы». Да, малозаметные, но достойные памяти ушедшего товарища.
Немного стоила прочувствованная статья о Грановском Леонтьева. Все знали, как тяжело приходилось декану Грановскому от каверз и происков человека, которого он называл не иначе как «злой паук». Совсем грустно становилось от журнальной полемики, что развернулась после нелепых воспоминаний Василия Григорьева о Грановском до его профессорства в Москве. Грязная была полемика.
Соловьев предпочитал работать — дома, в кабинете, где он писал «Историю» и многочисленные статьи; в архиве, где неустанно списывал ветхие столбцы; в университете, где читал лекции и входил в рутинные канцелярские дела. Должность декана влекла за собой участие в хозяйственных распоряжениях университета, разбор мелких студенческих дел и просьб, а главное — значительно сокращала каникулы, которые для ученого были особенно дороги. Но он безропотно нес свой крест.
В годы общественного подъема кануна крестьянской реформы Соловьев отдал дань «политическому журнализму», который он так скептически оценивал применительно к Погодину. В первый номер «Русского вестника», журнала, о котором мечтал Грановский, он написал статью «Древняя Россия», которая, по сути дела, открывала новое издание и имела программный характер. Соловьев не спорил со славянофилами, не защищал западников. Он писал об исторической миссии русского народа. Идеи, многословно изложенные в томах «Истории», были даны в сжатом очерке. Автор, видно, немало размышлял над судьбой народа, который был «передовым отрядом европейско-христианских народов, отрядом, выставленным на самое опасное, самое грудное место, где он беспрерывно должен бороться с врагами, подвергаться в то же время непогоде и всякого рода лишениям». Излюбленная мысль о борьбе со степью? Да, но и глубокая мысль о преодолении народом варварства, о древних русских людях, наших предках, как «борцах за цивилизацию». Это не славянофильство, но, конечно, и не западничество.
Читатель простит длинную, но совершенно необходимую выписку из статьи. Соловьев пытается решить и, как кажется, решает давний исторический спор, идущий от Миллера и Ломоносова: «Уже давно, с прошлого века, в нашей исторической литературе поднят вопрос о характере древней России, о ее отношении к новой. Уже давно некоторые писатели наши, оскорбленные упреком иностранцев, а также и русских, вторивших этим упрекам, старались показать, что предки наши и до XVIII века не были варварами. Для этого они старались доказать, что предки наши издавна имели законы, много похвальных обычаев, промышленность, вели торговлю и даже очень обширную, оставили нам множество письменных памятников и т. и. Но эти доказательства убеждали немногих, ибо возражать на них было легко. Турки, персияне, китайцы, индейцы имеют законы, похвальные обычаи; занимаются с большим успехом известными отраслями промышленности, ведут торговлю, хранят в архивах своих много письменных памятников и, несмотря на все это, слывут варварами; во-вторых, в древней России легко было найти много таких явлений, которых никак нельзя было защитить. Варварство и не варварство народа, в известную эпоху его бытия, определяются по другим признакам: варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может назваться варварским, если, при самом неудовлетворительном общественном состоянии, сознает эту неудовлетворенность и стремится выйти к порядку лучшему; при этом, чем больше препятствий встречает он на своем пути к порядку, тем выше его подвиг; если он преодолевает их, тем более великим является такой народ перед историею. Итак, были ли наши предки варварами?
Брошенные на край Европы, оторванные от общества образованных народов, в постоянной борьбе с азиатскими варварами, подпадая даже игу последних, русские люди неутомимо совершали свое великое дело, завоевывая для европейско-христианской гражданственности неизмеримые пространства от Буга до Восточного океана, завоевывая не оружием воинским, но преимущественно мирным трудом; русский народ должен был сам все создавать для себя в этой стране дикой и пустынной. Находясь в обстоятельствах самых неблагоприятных, предоставленные самим себе, предки наши никогда не утрачивали европейско-христианского образа. Ни один век нашей истории не может быть представлен веком коснения; в каждом замечается сильное движение и преуспеяние».
Несколько историко-публицистических статей Соловьева были направлены против славянофилов. Его суждения касались по преимуществу их исторических взглядов и были достаточно строги. В 1856 году по предложению редактора «Русского вестника» Каткова он принял участие в споре о сельской общине, наличие которой в России было отправной точкой исторических и общественных построений славянофилов. Спор об общине имел тогда не столько научное, сколько прикладное, политическое значение: за ним стоял вопрос о том, кто должен выносить решение о формах и размерах земельных владений в намечаемой крестьянской реформе — правительство, дворянство или крестьянство. Славянофилы отвечали: дворянство и крестьянство.
В 1856 году вышла из печати магистерская диссертация Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке», которую благословил Грановский и которая стала важным событием общественной и научной жизни страны, Чичерин — последовательный государственник, в речи на диспуте при защите диссертации он утверждал: «Образование государства — вот поворотная точка русской истории. Отсюда она в неудержимом потоке, в стройном развитии движется до нашего времени. Направления более или менее изменяются, встречаются и отклонения в сторону, но общий характер движения один». Для Чичерина государство — благо, противодействовать государству — значит мешать историческому прогрессу. Община, по его мнению, — элемент антигосударственный, печальный анахронизм. В политическом аспекте исторические аргументы Чичерина обосновывали необходимость решения крестьянского вопроса «сверху», правительством, его призыв к ломке общинного землевладения был направлен как против славянофилов, так и против деятелей демократического направления, Чернышевского прежде всего, которые верили в общину как условие социалистического развития страны Близость Чернышевского, который видел в русской общине готовый фаланстер, к славянофилам была чисто внешней, но западники не стремились к их различению.
В статье «Спор о сельской общине» Соловьев, приглашенный высказаться в качестве «авторитета по русской истории», показал неосновательность славянофильской теории русской общины как проявления «славянского национального духа», отметил родство общины с западноевропейской маркой. Он поддержал Чичерина, принизив значение общины в русской истории. В родовой теории, которой придерживался Соловьев, общине действительно не было места.
В статье «Шлецер и антиисторическое направление» (1857), также опубликованной в «Русском вестнике», Соловьев яснее высказался против сохранения общины, сторонников которой он назвал «антиисторическим направлением». Вполне очевидно, что под ним он понимал и славянофилов, и последователей Чернышевского. Акценты в статье расставлены ясно. Соловьев подчеркнул инертность крестьянства, его разобщение с другими классами народа, «бессилие смысла пред подавляющею силою привычки». Верить в общину — антиисторично, равно как и верить в созидательные способности крестьянства: «Понятно, какую помощь оказывает это сословие государству, когда последнее призовет его на защиту того, что всем народом признано за необходимое и святое. Поэтому справедливо называют земледельческое сословие по преимуществу охранительным. Почтенные свойства этого сословия, как сословия, не могут быть оспариваемы; но что же, если целый народ живет в форме быта земледельческого сословия?»
Симпатии историка всецело на стороне города: «Необходимое в государстве противодействие этой форме представляет город, как центр торговли, мануфактурной промышленности, умственной деятельности. Здесь разнообразие занятий именно таких, где человек вполне владеет предметом и может совершенствовать его до бесконечности, где, следовательно, он имеет полную возможность упражнять, совершенствовать свои умственные способности; беспрестанные столкновения с людьми из различных сфер общественной деятельности, из различных стран расширяют горизонт, окрыляют мысль и ведут народ к успехам гражданственности. Это слово: гражданственность — всего лучше показывает нам значение города в народной жизни».
Идеал Соловьева — равномерное, гармоничное развитие всех сословий, каждое из которых, подобно органам человеческого тела, выполняет особые функции. Прогресс заключается в умножении и усложнении частей «общественного организма» и в их все более согласованном совместном действии, что обеспечивается государством. Идея исторического прогресса, важнейшая в исторической концепции Соловьева, сводилась, таким образом, к совершенствованию государственных форм, к излюбленной русскими либералами всех поколений мысли о движении России к правовому государству в рамках единой европейской христианской цивилизации. Об этом историк писал в программных «Исторических письмах», которыми он откликнулся в 1858 году на полемику в русской периодической печати об основах правильной социальной политики.
Соловьев обрушился на славянофилов, «новых буддистов», которые идеализируют «древние формы», не понимают, что именно государство воплощает «народный дух». Общинное начало, общинный быт, воспеваемые «новыми буддистами», отошли в прошлое, они пали даже там, где их влияние казалось необоримым, — в Новгороде и Пскове. Причиной падения послужило «неумение уладить отношения между лучшими и меньшими людьми к выгоде обоих». Иными словами — отсутствие надежного инструмента для улаживания социальных антагонизмов. В том, что они были в Древней Руси, историк не сомневался. Он отринул мысль, которая лежала в основе исторических изысканий Погодина и славянофилов: «Пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания, — на том основании, будто бы, что на Западе было завоевание, а у нас его не было. И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей, несмотря ни на какие натяжки».
Неважно, верно ли такое утверждение с фактической стороны. Интереснее другое: Соловьев полностью принимает идеи французских историков, в частности, любимого им Гизо, которые именно из факта «завоевания» выводили понятие о классах и классовой борьбе. Отсюда — неизбежность новых форм общественного быта, «нового общества».
Государство Соловьева — надклассовое, идеальное государство во имя всех и для всех; общество Соловьева — сословное, классовое общество. Социальные контрасты неизбежны и в «правильно организованном обществе». Ведущую роль в обществе Соловьев отводил «среднему сословию», которое выступает своего рода регулятором отношений высших и низших сословий.
Одновременно «среднее сословие» — источник движения вперед, именно в нем зреют идеи гражданственности, законности и гарантий прав меньшинства. В более поздней работе ученый едко высмеял противопоставление передовой части общества неподвижной массе, в которой только реакционное правительство — примером послужил австрийский канцлер Меттерних — видит «настоящий народ»: «Меттерних очень заботился о спокойствии простого рабочего народа, который в его глазах был настоящим народом. Этот народ, по словам Меттерниха, занят положительными и постоянными работами, и недосуг ему кидаться в отвлеченности и в честолюбие; этот народ желает только одного: сохранения спокойствия; враги настоящего народа — это люди обыкновенно из среднего класса, которых самонадеянность, постоянная спутница полузнания, побуждает стремиться к новому, к переменам».
Соловьев не дописал «Исторические письма» — он как-то вдруг и навсегда утратил интерес к исторической публицистике. Но и незавершенные, они стали важной вехой в развитии государственной школы. В них зримо прослеживается ее связь с политической доктриной российского либерализма. Полемизируя с «новыми буддистами», Соловьев, по сути дела, подводил историко-правовую основу под пожелания социально-экономических реформ, государственных и общественных преобразований, которые выдвигались либералами в канун падения крепостного права.
Соловьевская теория «нового общества», идейно связанная с позитивизмом, с «социальной статикой» Герберта Спенсера, в обстановке кануна крестьянской реформы служила обоснованием необходимости буржуазных преобразований, проводимых сильной государственной властью. Выделение Соловьевым «среднего сословия», буржуазии, дает основание утверждать, что не только объективно, в своей научной деятельности, но и субъективно, в политической публицистике, он выступал выразителем либерального общественного мнения, идеологом буржуазного развития России. Его журнальные статьи предреформенных лет — хороший образец приложения фундаментальных ценностей либерализма, который в середине XIX века вступил на Западе в пору расцвета, к российской действительности, где для либеральных идей не было простора и где либеральное движение делало первые неловкие шаги.
Крестьянскую реформу 1861 года Соловьев понимал в духе государственной школы, как закономерный шаг в политике «раскрепощения сословий», начатой Екатериной II. Одновременно освобождение крестьян — необходимый этап в создании «нового общества», ибо крепостное право было «пятном, позором, лежавшим на России, исключавшим ее из общества европейских цивилизованных народов». В тринадцатом томе «Истории России» (1863) Соловьев с удовлетворением сделал вывод: «Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории: в нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом, живом, молодом народе необходимо условливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения, стремление избавиться от гибельной односторонности, в страну сел внести город и этим улучшить экономическое положение страны. Этот поворот и знаменуется преобразовательною деятельностью, с этого поворота и начинается новая русская история… Если прикрепление крестьян было естественным результатом древней русской истории, то освобождение их было результатом полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древнею и новою Россиею кончен, поверка налицо».
В разгар подготовки крестьянской реформы на общественной арене блистали хорошие знакомые Соловьева — Кавелин, Самарин, Черкасский, Чичерин, Кошелев, Катков. Печатая публицистические статьи, где он высказывался достаточно определенно, историк не претендовал на особое внимание читающей русской публики, прежде всего потому, что почти не касался главного вопроса — крестьянского. Но чем скромнее была его роль в журнальных спорах, тем большее значение приобретала его деятельность в университете, который с конца пятидесятых годов вступил в полосу студенческих протестов и беспорядков.
Студенты — чуткая и активная часть общества, они быстро оттаяли после николаевской зимы и, начав с неумелого отстаивания своих корпоративных прав, в короткое время стали общественной силой. К ним обращались с проповедью Чернышевский и Добролюбов, их опасалось правительство.
В Московском университете все началось с происшествия 29 сентября 1857 года, когда полиция на частной квартире искала скрывавшегося жулика, а обнаружила группу студентов. Полицейские чины вели себя дерзко и нагло, какой-то квартальный кинулся на молодых людей с обнаженной шпагой, крича: «Бей и вяжи ляхов-бунтовщиков!» Произошла стычка, студентов сильно избили. Узнав о случившемся, все студенты потребовали полного и беспристрастного расследования. Происходили шумные сходки, обращались к университетскому начальству с просьбой о заступничестве. Попечитель Евграф Ковалевский ездил к Закревскому. Дело произвело в Москве такое впечатление, что Закревский (дни его губернаторства были сочтены) должен был образовать особую следственную комиссию и наказать ретивых полицейских. Катков был доволен — российские граждане не мирятся с бесправием: «Не поступи студенты так энергически, как у нас не привыкли поступать, дело было бы замято и оскорбленные же были бы виноваты».
Торжество справедливости над произволом, при всей его единичности, внушило студентам сознание силы. Начались походы против негодных, а затем и против неугодных профессоров.
Первыми начали студенты историко-филологического факультета, где возник кружок «консерваторов» — так называли тех студентов, кто серьезно интересовался наукой и хотел слушать хороших лекторов. Немного странное, согласитесь, в данном случае название. Да и желание — разумное, но не всегда исполнимое. У консерваторов произошла история с профессором славянских наречий Майковым. Читал тот бездарно, и студенты решили от него избавиться. На одной из его лекций студент Герье — лет через десять он станет профессором, коллегой Соловьева и другом его семьи — встал и вышел вон; за ним последовали остальные. В тот момент Герье рисковал по меньшей мере ученой карьерой, и многое зависело от декана. Соловьеву студенты заявили: «Не будем ходить к Майкову, слушать его невозможно!»
Не обладая авторитетом Грановского, Соловьев, однако, выдержал первое серьезное испытание как администратор. Ему удалось переубедить студентов; те вернулись к Майкову, а с ними — и профессор Соловьев. Посетив несколько лекций, он уверился в правоте Герье и студен-тов-«консерваторов». Майков лишился кафедры.
Вскоре на юридическом факультете студенты, скорее радикалы, чем «консерваторы», таким же образом вынудили выйти из университета профессора Орнатского. И тому — поделом! Но профессора — не посторонняя университету полиция, в суждении о них необходимы взвешенность, неторопливость. Студенты, молодые люди, легко могут впасть в ошибку. Если изгонять всех плохих лекторов, много ли останется. Соловьеву эти истории были неприятны.
В следующем году случилось прискорбное, нет, просто возмутительное изгнание из университета профессора зоологии Николая Александровича Варнека. Студенты были кругом неправы. Талантливый исследователь, Варнек строго спрашивал на экзаменах (преподавал он у медиков и естественников), неоднократно — и справедливо! — говорил, что университет не гимназия, что студенты должны не переписывать лекции, а работать самостоятельно, что профессор своими лекциями только указывает, в каком направлении следует вести поиск. Первый курс медицинского факультета, испугавшись сурового экзаменатора, решил его освистать. К медикам присоединились юристы и филологи — варнековская история стала общеуниверситетской. Профессора обвиняли в неуважении к студентам. Только естественники старших курсов, где главным образом и вел занятия Варнек, горячо его отстаивали, но их не слушали.
Варнека освистали. Нетвердыми шагами он вышел из аудитории, кровь пошла горлом, обморок…
Чисто университетское дело? Если бы так. Когда университетское начальство потребовало от студентов письменных объяснений, то их переписывали с образца, обвинявшего во всем Варнека. Ответы вышли как один лживые. Умение держать ответ — признак зрелости, личной и общественной. Для Соловьева дело Варнека имело общественное значение, он лишний раз убедился, что русское общество — незрелое, зеленое общество. Приглядываясь к новому поколению, историк испытывал разочарование: молодость не извиняет неправедные пути.
Студенты делались хозяевами университета. Они собирали сходки, заводили столовые и кассы для взаимной помощи. Кружок «консерваторов» исчез, исправное посещение лекций стало диковинкой, по рукам ходили литографированные переводы Фейербаха, Бюхнера, Молешотта. Социалистические и радикальные идеи приобретали все большую силу. Чичерин ворчал, что всякая власть исчезла. На историко-филологическом факультете подоспела новая история, на этот раз с Леонтьевым. Соредактор «Русского вестника» читал хорошо, но, занятый журнальными делами, перестал готовиться. Вдобавок он регулярно опаздывал на полчаса и, не желая сокращать материал, вынуждал студентов пропускать следующую лекцию. К студентам Леонтьев относился свысока: «Господа! Ваша деятельность равна нулю. Вот мальчишки на дворе; те больше дела делают… Вот двери-с, те больше дела делают. А вы, вы все равно, что стены-с».
Курс обиделся, а меньшинство студентов обратилось с письменной просьбой — напомнить профессору о правилах вежливости — к декану. Соловьев (он и студентам сочувствовал, и Леонтьева, мягко говоря, едва терпел) отказался принять прошение, посчитав его незаконным. Он проявил твердость, по которой тосковал Чичерин, но едва ли его решение было мудрым и справедливым. Если он и дал студентам урок, то это не был урок либерализма и терпимости. Ведь участники протеста действовали легально и корректно. Бескомпромиссное противостояние завершилось печально. Протестующие, среди которых был Иван Худяков, были исключены. Студенты сделали для себя вывод, который Соловьев не захотел (а мог бы!) предвидеть: «Действуя законно, не отыщешь справедливости; следовательно, надо добиваться ее помимо закона — вот умозаключение, к которому пришли наиболее решительные студенты, так что администрация своими незаконными действиями сама ставит своих подданных на революционную дорогу». Это слова Худякова, который через несколько лет вошел в подпольный ишутинский кружок и был судим по делу Каракозова, стрелявшего в царя.
Осенью 1861 года, чтобы остановить наплыв в университеты разночинских элементов, правительство ввело «путятинские правила», которыми отменило освобождение бедных студентов от платы за слушание лекций. В стране, взбудораженной отменой крепостного права, происходили глубочайшие социальные сдвиги, повсюду, особенно в деревне, было неспокойно, а университетские правила, названные по имени тогдашнего министра просвещения адмирала Путятина, только подливали масла в огонь. В университетах начались волнения, в ходе которых студенты выходили за узкие пределы университетского вопроса, выдвигали политические требования.
Московские студенты не посещали лекций, созывали сходки, в помещении университета был устроен погром. Либеральные профессора (они именовали себя молодыми) не одобряли ни «путятинских правил», ни действий студентов; поочередно собирались друг у друга, совещались. Используя свой авторитет, они пытались сдержать молодежь, признавали справедливость ее корпоративных требований и одновременно призывали на помощь власть. Власть, в лице помощника попечителя Дашкова, бездействовала. Именно тогда Чичерин вывел чеканную формулу: «В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть». Что же, университетские лекции Сергея Михайловича Борис Чичерин слушал с большой для себя пользой. Его слова мгновенно стали известны и произвели чарующее впечатление на петербургские правительственные круги. Министр иностранных дел Горчаков охотно говорил: «Это тема, которую я всегда проповедовал».
После смерти Грановского Соловьев естественным образом возглавил группу молодых профессоров, и его участие в осенних событиях 1861 года было значительным. Как несочувственно сообщил приятелю другой знаменитый соловьевский ученик, в ту пору студент Василий Ключевский, Соловьев и Чичерин на совете университета «сильно восставали против этих беспорядков и величали крикунов школьниками». Между Соловьевым и Чичериным были, правда, расхождения: старший не поддерживал стремление младшего обратиться за содействием к полиции. Чичерин же изрек: «Русский человек любит, чтобы его изредка посекли; не нужно только держать его в постоянных кандалах».
На 4 октября студенты назначили манифестацию против профессоров и университетского начальства. Соловьев был оскорблен: использовать панихиду по Грановскому как предлог для нелепой затеи. Весть о манифестации быстро разнеслась по городу и приняла чудовищные размеры. Таинственно шептали:
— Я вам только говорю: 4 октября будет сбор на четырех площадях, начнется революция.
— Будто бы?
— Это верно; я слышал от верных людей; я вам только говорю, а вы покуда никому не сказывайте.
С раннего утра 4 октября московская полиция была на ногах, но панихида прошла без происшествий, хотя и были произнесены резкие антиправительственные речи.
Студенческое волнение в Москве шло на убыль, как вдруг по телеграфу было получено известие о закрытии Петербургского университета. Студенты забурлили. 11 октября собралась сходка, которую не могли успокоить ни генерал-губернатор Тучков, ни попечитель Исаков. Ночью некоторые студенты были арестованы. На следующий день толпа студентов двинулась из университета на Тверскую, к дому генерал-губернатора, — просить за товарищей. Начальству померещилась революция. Произошло побоище на Тверской площади, более известное как «битва под Дрезденом», так как все случилось у гостиницы «Дрезден».
Герценовский «Колокол» сообщал: «В числе двухсот пошли по Тверской. Лишь только вышли они на площадь, раздались свистки, и со всех сторон из засады показались жандармы.
Тут произошла схватка. Многие защищались, но все были взяты; иные бежали, но тогда тулупы, народ, кинулись на них с криками: «Бейте поляков, они пришли резать губернатора!» С яростью они брали студентов за воротники, валили, давили, полиция спасала их и говорила прохожим: «Мы спасаем! Народ рвет на части бунтовщиков!» Это показалось странным — с чего? Как? Но скоро штука была открыта; то были переодетые будочники и солдаты, и они-то с криками бросались на студентов, желая увлечь народ. Два купца первые открыли это, узнав будочника своего квартала переодетым в тулуп. Все тулупы были с усами, но без бород и кланялись начальству, подымая руку к шапке. Все это играло роль народа и душило студентов, которых полиция спасала».
Статья «Московская бойня студентов» сообщала: «Говорят, что профессор Соловьев ездил к Тучкову просить от имени профессоров команду, чтобы разгонять студентов. Тучков его не принял». Русский читатель привык верить «Колоколу», открывшему в России эру гласности, но в данном случае сообщение было недостоверным. Его источник — слухи, которые распустил сам генерал-губернатор Тучков, озабоченный тем, чтобы возложить на кого-нибудь вину за происшедшее. Действительно, если судить по статье, он едва ли не солидарен со студентами. И как удобно звучит: «говорят»… В обществе, которому неизвестна свобода слова, Соловьеву служили утешением слова из предсмертного письма Грановского: «Наша публика более боится гласности, нежели III Отделение».
Через некоторое время Герцен напечатал «Письмо к издателю», автор которого, кандидат Московского университета выпуска 1861 года Блюммер, писал: «С. М. Соловьев, о котором Ваши корреспонденты говорят, как о молодце, просившем солдат у Тучкова, первый в заседании Совета сказал, что «наука под защитой штыка быть не может!». Герцен оповестил читателей, что сообщение Блюммера «преувеличено духом партии» и наполнено «слухами, взятыми с улицы». В действительности было наоборот. Больше сказать нечего.
После «битвы под Дрезденом» студенты сделали попытку представить адрес царю. Были избраны депутаты, отправившиеся в Петербург, а затем в Царское Село, где их принял дежурный флигель-адъютант. По свидетельству Чичерина, адрес был возвращен в университетское правление с поправкою рукою Александра II двух орфографических ошибок. Для немногих студентов дело кончилось исключением из университета, остальные приступили к занятиям.
Иван Аксаков в своей газете «День» призывал молодежь учиться: «Другой цели, другой заботы, другой деятельности у вас и быть не может, и быть не должно!» По его мнению, студенты должны «изучать Россию и русскую народность, чтобы наполнить бездну, еще отделяющую нас от народа», и избегать «передовейших» западноевропейских теорий, которые, как болезнь, свойственны всему русскому обществу. Так думали и либеральные московские профессора.
Надо сказать, что в канун крестьянской реформы происходило неуклонное сближение западников и славянофилов на почве совместной практической работы. После 19 февраля 1861 года мнение немногих остававшихся в живых участников споров сороковых годов выразил Черкасский: «В настоящую минуту и прежнее славянофильство и прежнее западничество суть уже отжитые моменты, и возобновление прежних споров и прежних причитаний было бы чистым византизмом… Нужно что-нибудь новое, соответствующее настоящим требованиям общества». Черкасский хотел соединить катковский «Русский вестник» и аксаковский «День», прихватить сотрудников из университетских «Московских ведомостей», «Нашего времени» и прочих второстепенных журналов и создать сильный московский консервативно-либеральный орган, в противоположность петербургской журналистике, то есть, добавлял он, «Современнику» и компании. Такие предложения он делал Аксакову и Чичерину, но первый не хотел расстаться со своей газетой, второй же полагал, что издавать газету — значит, разменять себя на мелкую монету.
Для исследования причин студенческих волнений в университете создали комиссию из профессоров Соловьева, Бодянского, Ешевского (из его бумаг известно об усилиях Тучкова опорочить Соловьева и московскую профессуру в целом) и Чичерина. Председателем был выбран Соловьев. Доклад комиссии, получивший название «Историческая записка», предназначался для министра просвещения и содержал предложение отменить «путятинские правила» и выработать новый университетский устав. Написанный очень умеренно (писал Чичерин), доклад отводил от Московского университета подозрение, что он «сделался центром уличных восстаний и революционных идей». Несправедливо взыскивать с одних студентов, если брожение «охватывает с 1855 года все общество». Либеральные профессора особенно настаивали на следующем: «Одно из главных условий для восстановления нравственного значения университета состоит в бесплатном приеме в студенты беднейших людей, жаждущих просвещения».
Весной 1862 года доклад стал известен Герцену, который напечатал его в «Колоколе» под заголовком «Донос московских профессоров». Внимательно читая и перечитывая гневные тирады в адрес авторов доклада, недоумеваешь: почему «донос»? Соловьев и его коллеги предлагали либеральные меры, казавшиеся демократу Герцену недостаточными. Но «либерал» не есть «доносчик». Быть либералом не позор…
Правительство отменило «путятинские правила» и создало комиссию по университетскому вопросу, которая должна была создать новый устав. Вместе с профессором Бабстом Соловьев вошел в правительственную комиссию как представитель Московского университета. Герцен не преминул отметить, снова по слухам, «усердие к порядку» Соловьева и Бабста, которое будто бы поражало профессоров Петербургского университета.
Одновременно молодые профессора подвергались нападкам с противоположной стороны. Леонтьев напечатал статью «Администрация и педагогия», где обвинял часть профессуры в попустительстве студентам. Статья, в которой отразилось постепенное движение редакторов «Русского вестника» вправо, к политической реакции и шовинизму, вызвала коллективный протест: «Мы, нижеподписавшиеся, возмущенные клеветами, помещенными в 49-м номере «Современной летописи», и имея в виду отказ профессора Леонтьева дать товарищам должное удовлетворение, считаем такой поступок недостойным товарища и профессора Московского университета». Подписали протест Рачинский, Бабст, Соловьев, Ешевский, Чичерин, Мильгаузен, Дмитриев, Борзенков, Бредихин.
В высшей степени характерно мнение Чичерина: «Имена таких людей, как Соловьев, которого только оскорбленное нравственное чувство могло заставить отступить от примирительного способа действий, и Мильгаузена, которому всякий резкий поступок был противен, показывают, что дело действительно было возмутительное».
В комиссии Соловьев отстаивал академические свободы и принцип университетской автономии, что отчасти было воплощено в уставе 1863 года. В результате его письменного представления правительству не удалось провести мысль об инспекторском надзоре профессоров над студентами. Он доказывал — что поделать, приходится, — что единственно допустимой формой воздействия профессора на студента может быть нравственное влияние. Легко представить, сколько сил и времени отняла у ученого эта деятельность. Между тем он не прекращал работы над «Историей России», собирал материалы и писал крупную монографию «История падения Польши». Где он брал силы?
В 1863 году в университете кончились «аркадские времена». Предстояли выборы нового ректора взамен ушедшего на покой Аркадия Алексеевича Альфонского, который давным-давно был назначен на это место Николаем I. При всех переменах, что происходили в России и в университете, «аркадские» нравы оставались по-домашнему простыми. Достаточное число профессоров не проявляло настойчивости в обнародовании ученых сочинений, в
трудах научных обществ и в публичных чтениях. В преподавании господствовала рутина. Любопытны впечатления отставного петербургского профессора истории Стасюлевича, который писал в феврале 1862 года жене из Москвы: «К 3 часам мы вернулись домой; я заехал по дороге к ректору на квартиру, но оказалось, что преподобный ректор изволили покушать и спят. Он говеет на этой неделе и, верно, старается проводить свое время самым безгрешным образом».
Стасюлевич хотел малого — послушать университетские лекции: «Сегодня у меня день чисто университетский… я встал довольно рано, чтобы застать преподобного ректора между заутреней и обедней, и наконец застал. Препятствие уничтожено; в университет инспектор дал повеление церберам пропустить меня. Но тут возникло новое препятствие: профессора, вероятно, накушались блинов на масленице и почти все нездоровы: Капустин и Ешевский не читают, Баршев просто не пришел». Радости жизни умели ценить и старые, и молодые профессора; Стасюлевич затруднялся передать жене подробности обеда, за которым он просидел, среди прочих, с Бабстом и Чичериным с четырех до девяти часов вечера.
Для молодых профессоров декан Соловьев с его культом труда был первым кандидатом на пост ректора. Но шансы были невелики: многие боялись — вдруг новый ректор заставит трудиться. Наибольшее число голосов в Совете получили геолог Щуровский и юрист Баршев, оба представители партии «Русского вестника». Соловьев остался третьим. При вторичной баллотировке молодые профессора отдали голоса за Баршева, ибо Щуровский был умнее.
Баршев был давним, еще голохвастовским кандидатом в ректоры. Репутация у него была своеобразной. В марте 1848 года Погодин сделал в дневнике запись: «Толковал со Страховым. Он передавал мне мнения Голохвастова, который желал ректорства Баршеву. Вот дурак-то. Это уже решительное понятие дает мне об его неспособности».
Ирония истории: то, что в 1848 году не успел осуществить Голохвастов, в 1863 году было сделано не без помощи либеральных профессоров. Избрали Баршева, ректорство которого, по словам Чичерина, «было воцарением пошлости в университете».
Про Баршева рассказывали, что в своих лекциях по уголовному праву он чуть ли не ежегодно менял взгляды, стараясь приноровиться к господствовавшим течениям; он то отрицал смертную казнь, то доказывал ее необходимость. Понятно, что оппозиция такому ректору представлялась молодым профессорам обязательной.
В 1866 году произошло событие, которое современники назвали «восстанием» профессоров в Московском университете. В январе при переизбрании старых консервативных профессоров Лешкова и Меншикова катковское большинство Совета грубо нарушило основы университетского устава 1863 года. Соловьев в голосовании участия не принимал — он был вызван в Петербург для преподавания русской истории наследнику, будущему императору Александру III, и его младшим братьям, великим князьям.
В правительственных кругах ценили ученого, чье убеждение в необходимости сильной власти объективно служило трону, придавая ему известный историко-политический ореол в глазах части русской интеллигенции. По рекомендации неизменного благодетеля Строганова, назначенного попечителем к наследнику и великим князьям, Соловьев учил цесаревича Николая Александровича (в 1859–1861 и 1862–1863 годах), занимался с Александром Александровичем, в год своей смерти читал лекции великому князю Сергею Александровичу. Русскую историю члены царской фамилии знали неплохо, была ли иная польза от лекций Соловьева — неизвестно. Ни политическим кругозором, ни высокими нравственными качествами тот же Сергей Александрович не отличался.
Отсутствие Соловьева при выборах имело драматические последствия. Как-то так получалось, что попечители охотно пользовались его советами. Не пренебрегал ими и Дмитрий Сергеевич Левшин, старый генерал, не имевший понятия ни о законах, ни об университетском преподавании, патриархально желавший ублажить всех. Оставшись без советника, Левшин дал делу ход, и министр просвещения Головнин утвердил «Пешкова, из-за которого разгорелся спор, профессором на новые пять лет. В отличие от Левшина министр, имея возможность переговорить с Соловьевым, счел это излишним.
Чичерин негодовал: «Это было нечто чудовищное, неслыханное. И закон, и здравый смысл, и практика всех русских учреждений, все беззастенчиво попиралось ногами, и для чего? Для того, чтобы сохранить в университете никуда не годного профессора, которого всякий человек, имеющий малейшее понятие о народном просвещении, рад был бы сбыть с рук при первом удобном случае».
Затем страну потрясли события, которые замедлили развитие университетской распри.
4 апреля 1866 года московский студент Дмитрий Каракозов у решетки Летнего сада стрелял в Александра II. В России началась полоса белого террора — название, данное современниками. Заработала Верховная следственная комиссия, которую возглавил Муравьев, в годы польского восстания получивший прозвище «Муравьев-вешатель».
Ближайшим следствием каракозовского покушения стала отставка министра просвещения Головнина, которого «Московские ведомости» считали либералом и главным виновником «общей разнузданности молодежи». С 1863 года «Московские ведомости» находились в руках Каткова, он арендовал университетскую газету и превратил ее в оплот охранителей. Рвение Каткова не знало пределов, в обличении радикалов и либералов (их он охотно смешивал) он не имел равных и умел клеветой, запугиванием или воззванием к «народным и патриотическим» чувствам добиваться своих целей.
На Головнина он возвел сущую напраслину — и министром был назначен граф Дмитрий Толстой, петербургский бюрократ, ставленник реакции, в сравнении с которым Уваров выглядел бы отъявленным либералом и порядочным человеком. Когда Соловьева, вернувшегося из Петербурга, спросили, видел ли он нового министра, тот ответил: «Как я на него взглянул, так у меня руки опустились. Вы не можете себе представить, что это за гнусная фигура». Чичерин говорил, что граф Толстой сделал России зла не меньше, чем Катков и Чернышевский.
Оболгал Катков, как оказалось, и русскую молодежь, ничтожная часть которой состояла в кружках, подобных ишутинскому. Когда известие о выстреле Каракозова пришло в Москву, толпа студентов с пением «Боже, царя храни!» пошла к Иверской часовне, служила там молебен, оттуда двинулась к университету, вытребовала портрет императора, причем Баршев сказал патриотическую речь, и закончила свои странствия на Страстном бульваре, у редакции «Московских ведомостей». В честь Каткова! По дороге демонстранты сбивали со встречных шапки, если те не торопились их снять.
Такие настали времена. Катковщина. Или, по словам Юрия Самарина, аракчеевщина, только размененная на мелочь.
Лешковская история продолжилась в заседании Совета 28 апреля, которое было настолько бурным, что выступление Чичерина, заявившего протест против глумления над уставом, один из профессоров назвал доносом. Любят на Руси это слово. Кончилось все хаосом, неслыханным в летописях университета скандалом: Совет вернул Чичерину прочитанную им бумагу «с надписью», что обычно делали присутственные места в тех случаях, когда проситель допускал оскорбительные выражения. Возмущенному Чичерину казалось, что не только совесть, но и всякое чувство исчезли в первом ученом сословии России. Он, родовитый русский дворянин, не знал, с кем сравнить большинство Совета — с толпой пьяных мужиков или с шайкой мошенников. (Вновь и вновь: бедное русское общество.)
В Москву приехал министр Толстой, давал профессорам обеды, обвораживал. Положение его было затруднительно. Соловьев, Чичерин, Дмитриев, Бабст, Капустин, главные оппоненты Совета, известны при дворе и в обществе, иные преподавали покойному наследнику и нынешнему. Ими надо дорожить. Ректор Баршев — глупое ничтожество, но за ним стоял могущественный редактор «Московских ведомостей». Уехав, Толстой предоставил решить дело попечителю, который с согласия министра сделал Совету замечание. Но Катков пересилил. Бесчестный негодяй Толстой наградил Левшина выговором и признал правоту Совета. От своего согласия с решением попечителя он, натурально, отрекся.
Прочитав министерскую бумагу, Соловьев немедленно сказал, что надо подавать в отставку. Присутствовавшие профессора Бабст, Капустин, Рачинский, Дмитриев, Чичерин единогласно выразили то же мнение. Все шестеро порознь, но демонстративно подали прошение об отставке. Левшин ушел с поста попечителя.
Чичерин писал: «После сцен, которых я был свидетелем, для меня это был желанный исход. Но для других, в особенности для Соловьева, это был подвиг. Соловьев был человек с весьма небольшими средствами, обремененный семейством. Он и материально, и нравственно был связан с университетом, которому он отдал всю свою жизнь. К тому же он к делу вовсе был непричастен; из Петербурга он вернулся, когда в Совете все было кончено. При всем том он не считал для себя возможным оставаться в университете при таком вопиющем нарушении всякого закона и всякой справедливости. Этот благородный человек ни единой минуты не поколебался пожертвовать всем для долга чести и совести».
Отставка произвела шум. Студенты волновались, просили остаться, шли адресы, письма и заявления сочувствия. Написал письмо и граф Сергей Григорьевич Строганов. Это был ошеломляющий удар! Во имя «цивилизации нашей общей родины» он призывал не приносить в жертву целое поколение студентов, остаться в университете. От шести профессоров требовалась основная русская добродетель — добродетель повиновения. От министра ничего.
Чичерин написал было резкое ответное письмо, но Соловьев воспротивился: «Бросьте это! Старика совсем опутали; надобно ему простить за прежние его заслуги». Все-таки они любили друг друга — Сергей Строганов и Сергей Соловьев. А ведь с первой их встречи минуло тридцать лет! Чичерин разорвал письмо.
В дело вмешался даже Погодин, который на правах старшего товарища приглашал Дмитриева и Чичерина к себе на Девичье Поле, убеждал не покидать университет, беречь коллегиальное единство профессоров. Когда ему возражали, что это вопрос чести, он отвечал, что честь вовсе не русское начало и дорожить ею нечего. Поверьте, читатель, именно так говорил сын крепостного и российский академик Михаил Петрович Погодин! Да, в конце концов у каждого мыслящего человека собственные представления о русской истории, но до чего же разными были они у Соловьева («для долга чести и совести») и у Погодина («честь вовсе не русское начало»). Ваше мнение, читатель?
Ходили упорные слухи, что Толстой хочет пригласить Погодина на кафедру русской истории.
Отставка московских профессоров заинтересовала Александра II. На представлении во дворце царь спросил случайного человека, приезжего из Москвы Мансурова, что он знает об этом деле. Мансуров, член Государственного совета, проявил трезвый бюрократический подход: профессора виноваты, ибо восстают против большинства; если большинство решило, то надобно повиноваться. Понять, что профессора охраняют закон от беззаконных посягательств власти, Мансурову было мудрено. Царь согласился: виноваты, раз против большинства. Шел второй год этой истории. В России, писал Юрий Самарин, поражает не постоянное грубое нарушение закона, а отсутствие всякого о нем представления.
Вскоре Александр II был в Москве и на бале высказал бывшим там профессорам просьбу, чтобы они остались в университете. Те согласились. Протест был скомкан. Через попечителя царь пояснил, что, хотя профессора и виноваты, но они преподавали покойному наследнику, и он просит их остаться. Профессоров поздравляли, общественное мнение ликовало: неслыханное дело — царь просит профессоров. На Чичерина сердились, когда он говорил: «Мы не только осуждены, но унижены».
Позднее пять профессоров поочередно вышли в отставку, что не произвело в обществе никакого волнения. Да и причины их ухода из университета выглядели вескими и никак не связывались с засильем катковщины.
Юрист Капустин стал директором Демидовского лицея в Ярославле — место очень почетное. Лицей, созданный на деньги тех самых Демидовых, о которых речь уже шла в этой книге, был под стать Царскосельскому и готовил первоклассных правоведов.
Бабст сделался преуспевающим финансистом и использовал свои познания в экономике на посту директора Московского купеческого банка. Любопытно, что в своей предпринимательской деятельности он шел рука об руку с Чижовым. Куда подевались их споры, споры западника и славянофила? И есть ли смысл в вопросе, кто был более прав? Капиталы успешно наживали оба, Чижов даже стал миллионером.
Чичерин покинул профессуру без сожаления; в сущности, он никогда не чувствовал к ней ни малейшего призвания, его удел — кабинетная работа. Доходы с родового имения Караул позволяли бросить все и уйти в писание книг. О себе он судил трезво: «Я рожден писателем, а не профессором».
Рачинский, профессор ботаники, получил всероссийскую славу как педагог, создатель удивительной сельской школы в смоленской деревне Татеево, где было его имение. Читатель помнит картину «Устный счет» художника Богданова-Бельского — деревенские мальчики решают задачу, написанную на доске. (На большинстве репродукций она размыта. Решите — устно! —
10
2+11
2+12
2+13
2+14
2 / 365
Решили?) На втором плане картины изображен учитель — гениальный народный учитель Сергей Александрович Рачинский. Повествование уйдет далеко в сторону, если пытаться хоть в малой мере рассказать о заслугах этого человека перед русским народом. Но одно его высказывание, созвучное настроениям Соловьева, привести стоит: «Средний уровень способностей наших крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, вообще очень высок… Способности эти разнообразны, но преобладают заметно способности математические и художественные. Количество дремлющих художественных сил, таящихся в нашем народе, — громадно, и о нем пока может составить себе приблизительное понятие лишь внимательный сельский учитель».
Историк права Дмитриев, человек богатый и светский, с головой ушел в земскую деятельность и находился среди тех, кто вырабатывал принципы и образ действия земского либерализма, видевшего в местном самоуправлении необходимое условие развития общества и государства. Вместе с Юрием Самариным — еще пример сотрудничества прежних западников и славянофилов — он издал за границей брошюру «Революционный консерватизм», где язвительной критике подверглись охранители.
Общий итог ухода пятерых профессоров вывел Чичерин: «Если я для себя лично не имел причин жалеть об исходе дела, то я не мог скорбеть о нем глубоко с общественной точки зрения. Я видел разложение любимого университета. Он, а с ним и судьба воспитывающихся в нем молодых поколений предавались на жертву господствующей грязи. Еще грустнее было думать о том положении общества, в котором возможны подобные явления. Это было уже не царствование Николая, когда невыносимый гнет подавлял всякий независимый голос. После освобождения крестьян, после всех совершенных реформ, обновивших всю русскую землю, при допущенной в ней широкой гласности, приходилось повторять стихи, писанные в самую темную пору прошлого царствования:
В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.
Самая свобода печати, к которой мы взывали, как к якорю спасения, служила орудием неправды. С целью приобрести поддержку влиятельного журнала, министр утверждал беззаконие и гнал честных людей. На что же было надеяться, когда и высшие сферы, и бюрократия, и журналистика, и первое ученое сословие в государстве все соединились, чтобы попирать ногами самые элементарные начала справедливости, закона и даже приличия? Я увидел, что России придется еще пройти через долгий путь, прежде нежели выработается что-нибудь порядочное из этого мутного потока, в котором могла найти обильную пищу только самая беззастенчивая ложь». Стихи, приведенные Чичериным, — из его давней пародии на Шевырева.
Соловьев остался в университете. Чичерин вспоминал, что историк был недоволен той уступчивостью, которую он и его коллеги проявили в беседе с императором: «Сам Соловьев сказал мне, что он жалел о том, что его сбили с толку, и он согласился остаться по просьбе государя: было бы гораздо лучше, если бы мы вышли все вместе».
Достойно — уйти разом, солидарно, обратив на себя внимание общества. Достойно — остаться, чтобы в самом университете продолжить борьбу с клевретами Каткова, чтобы сделаться знаменем, вокруг которого могли бы сплотиться недовольные. Сергей Михайлович избрал второй путь. В речи на прощальном обеде по выходе с должности профессора Чичерин поставил рядом двух своих учителей — Грановского и Соловьева, чья верность Московскому университету выдержала все испытания: «У нас был профессор, который представлялся нам идеалом нравственной чистоты и возвышенности мыслей. Для меня в особенности это имя заветное и дорогое; благодарю студентов за то, что они о нем вспомнили. Я был к нему близок и обязан ему большею половиною своего духовного развития. Когда я говорю об университете, для меня с ним неразлучна память о Грановском. Но были и другие, которых нельзя не помянуть добрым словом. И теперь, рядом со мною, сидит один из них, которого я в то время уважал, как своего профессора, и которого с тех пор, как товарища, я научился глубоко любить и почитать».
Едва ли не первым делом Толстого на посту министра просвещения стало преобразование гимназий, которые — ужасно подумать! — готовили нигилистов. Да, да, нигилистов, Граф мнил себя серьезным политиком и не верил в искренность чувств, проявленных на манифестации московских студентов после выстрела Каракозова. Он не скупился на черные краски, чтобы обозначить гибельные последствия уваровской реформы 1849 года, когда — и тоже из благих политических побуждений — ограничили преподавание мертвых языков. Уваров утверждал, что изучение греческих республик и римских гражданских добродетелей способно создавать «обманы воображения». По мнению Толстого, в подобном воззрении «если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения, ибо вопрос между древними языками как основою всего дальнейшего научного образования и всяким другим способом обучения есть вопрос не только между серьезным и поверхностным учением, но и вопрос между нравственным и материалистическим направлением обучения и воспитания, а следовательно и всего общества».
Соловьев прекрасно знал, что при Николае I, как он выражался, «воспитание в общественных заведениях было подорвано фальшивостью, двоедушием. С низших классов дети привыкли различать науку казенную от настоящей, которая представлялась им в виде запрещенного плода». Знал он, что и в новое царствование ничего не изменилось. Его ученики, молодые воспитанники университета, пылкие, чистосердечные, после нескольких лет работы в гимназии превращались в «старых задавателей» уроков, переставали серьезно следить за наукой, переставали читать и делались хуже невежды, ибо сами себя считали образованными. Соловьев их искренно жалел: «Приедет несчастный с уроков совершенно истомленный, отупевший — где же ему читать! Таким образом, выходит, что если у нас все люди с высшим образованием очень мало читают и поэтому высшее образование является скоро у них в виде каких-то безобразных развалин, то учителя читают меньше всех».
Однако, как ни плохо обстояло дело в гимназиях, преобразовательный пыл графа Толстого не мог не тревожить. Такой человек на хорошее не способен. Дела средних учебных заведений касались Сергея Михайловича самым близким образом. Во-первых, он долгие годы — надо содержать большую семью, а профессорского жалованья не хватало — преподавал в них и имел высокое мнение о важности этой работы: «История есть единственная политическая наука в среднем образования, и потому ее преподавание — чрезвычайной важности: от направления ее преподавания зависит политический склад будущих граждан».
Начинал он в Третьем военном (Александровском) училище. Сколько их, юнкеров-александровцев, составлявших красу и гордость Москвы, слушало лекции знаменитого ученого! Без преувеличения можно сказать, что костяк русского офицерского корпуса брал уроки любви к Отечеству у одного из самых мудрых патриотов России.
В мае 1868 года, когда еще не исчерпала себя лешковская история и выход из университета представлялся весьма возможным, Соловьев принял на себя обязанности инспектора классов Николаевского сиротского института при Московском воспитательном доме. До выслуги полной профессорской пенсии оставалось два года, и кто знает, оставят ли его в университете. Новые, хлопотливые обязанности, совсем не синекура, хотя назначением своим он обязан императрице Марии Александровне. Соловьевы и поселились в Воспитательном доме, на казенной квартире, и с должности декана Сергей Михайлович уволился согласно прошению, обремененный заботами по образованию сирот.
Вторая причина интереса к школьным делам коренилась в том, что по его, Соловьева, «Учебной книге русской истории» обучалось российское юношество. Это не был общеобязательный учебник; у учителей гимназии сохранялась известная свобода выбора, и можно было преподавать по другим книгам. Однако большей частью предпочтение отдавали «Учебной книге» Соловьева, в которой насчитывалось свыше пятисот страниц, но которая написана была с таким блеском, что читалась залпом. Нисколько не повторяя «Историю России», Соловьев сумел рассказать русскую историю просто и понятно, здесь он не стыдился подражать Карамзину. «Учебная книга» счастливо избежала участи ей подобных (по назначению) творений, которые способны внушить ученику лишь стойкую нелюбовь к истории и нежелание знать прошлое своей земли.
Первое издание вышло в 1859 году, и в том же году потребовалось второе, дополнительное. При жизни Соловьева «Учебная книга русской истории» издавалась семь раз, седьмое издание появилось в 1867 году, как раз накануне толстовских преобразований. Затем как отрезало. Пусть учителя и имели право выбора, но были еще и рекомендации Ученого комитета министерства народного просвещения. Как можно — изучать в добропорядочной гимназии русскую историю «по Соловьеву»!
Ушел, ко всеобщей радости, с поста министра Толстой — в либеральном 1880 году появляется восьмое издание. Вернулся Толстой к власти всесильным министром внутренних дел — и вновь перерыв. Издатели дождались его смерти — и сразу вышло девятое издание. Важный, как кажется, штрих в истории взаимоотношения царской администрации и великого историка государственной школы. Всего «Учебная книга» выдержала четырнадцать изданий, последнее — в военном, 1915 году.
Наконец, третья причина, заставлявшая обращать внимание на толстовские нововведения — неизбывное российское чадолюбие. Дети подрастали, их надо было учить. Дружная и многочисленная семья Соловьевых была богата талантами. Ее судьба — отдельная большая тема, история замечательной русской семьи.
Всего у Поликсены Владимировны и Сергея Михайловича родилось двенадцать детей, из которых, правда, четверо рано умерли. На детей супруги смотрели как на божее благословение. Коллеги острили, что у Соловьева каждый год, вместе с очередным томом «Истории России», появляется и новый, также очередной, член семейства. Дети были двух типов: в отца — блондина и в мать, красавицу брюнетку. Над последними отец трунил, дразнил «печенегами».
Главная забота по воспитанию детей лежала, разумеется, на матери. Рано выйдя замуж за молодого профессора, Поликсена Владимировна быстро усвоила роль оберегательницы его сил, она всемерно ограждала мужа от мелких житейских хлопот, от всего, что могло дать повод к раздражению, — Сергей Михайлович на всю жизнь сохранил излишнюю восприимчивость, свойственную ему с раннего детства. Пренебрегая светскими интересами, которых она, институтка старого времени, вовсе не была лишена, Поликсена Владимировна всемерно поддерживала тот размеренный, рассчитанный по часам образ жизни мужа, который только и давал ему возможность работать так плодотворно. Попечение о муже не мешало заботиться о детях. Каково ей приходилось — можно только представить. Неудивительно, что с годами у Поликсены Владимировны выработалась несколько преувеличенная заботливость о близких ее сердцу людях, она верила в предчувствия, давая повод мужу подшучивать над тем, что он считал суеверием и называл «херсонством», намекая на южнорусские связи семьи Романовых.
В 1868 году Поликсена Владимировна стала обладательницей родового имения в Херсонской губернии. Жить в этом имении было негде, земля — всего до тысячи десятин — оставалась незастроенной и сдавалась в аренду овцеводам. Соловьевы там не бывали, летнее время проводили на даче в окрестностях Москвы.
В воспитании детей у Поликсены Владимировны была преданная помощница, сирота из духовного сословия, Анна Кузьминична Колерова. Дети звали ее «пророчицей», потому что ей случалось видеть вещие сны, которые сбывались, что производило, конечно, на маленьких сильное впечатление. Сергей Михайлович сравнивал «пророчицу» со своей няней Марьюшкой и сожалел, что второй такой не найти. В доме Соловьевых в разные годы жили бонны, состоявшие при девочках, была и другая прислуга — ведь Владимир Павлович Романов передал дочери «целый род» крепостных людей. Со временем семья обзавелась собственным экипажем, хотя лошадей нанимали со стороны. Кучера Николая дети просто обожали.
Глава семьи с детьми был ровен, доброжелателен, следил за их успехами, близко к сердцу принимал ошибки и неудачи. Внешне суровый и недоступный — маленькие дети были счастливы, когда им разрешали войти в кабинет отца, — он не скрывал слез, обнаружив в ком-либо из детей «неверие»: Соловьевы были искренне, без ханжества и лицемерия религиозны. Семья хранила в домашнем обиходе православно-патриархальные устои, отец показывал детям пример уважительного отношения к церковной службе, часто ходил с ними в церковь. В детях религиозная настроенность обнаруживалась рано: семилетний Владимир, прочитав жития святых, спал без одеяла, мерз, испытывал себя, подражая христианским мученикам.
Сергей Михайлович никому, даже родным детям, не навязывал своих религиозных воззрений. Когда сын Владимир подрос и четырнадцатилетним гимназистом «заболел» Писаревым, Фейербахом и Дарвином, перестав ходить в церковь, отец ни одним словом не оказал прямого воздействия. Сын рассматривал картинки с изображением допотопных плезиозавров, что укрепляло его неприятие катехизиса, читал запрещенную книгу Ренана «Жизнь Иисуса», верил в материализм. Отец ограничивался легкими насмешками над «различными измами», а застав сына над запрещенным сочинением, только сказал: «Если уж хочешь читать в этом направлении, то взял бы что-нибудь получше». И указал на другого автора, назвав (сам-то, конечно, читал) Ренана «краснобаем с фальшивыми цитатами». Лет через десять Владимир Соловьев лично познакомился со знаменитым французом, и тот произвел на него впечатление «пустейшего враля».
Терпимость и мудрость отца Владимир вполне оценил в годы, когда сам стал признанным религиозным мыслителем. В статье-памяти «Сергей Михайлович Соловьев» он написал: «Тут вовсе не было равнодушия: вскоре после этого один случайный разговор, взволновавший отца до слез, показал мне, до какой степени огорчало его мое скороспелое неверие, хотя, конечно, он догадывался, что это только болезнь роста. Но своим отношением ко мне в этом случае он дал мне почувствовать религию как нравственную силу, и это, конечно, было действительнее всяких обличений и наставлений».
Здесь уместно привести прекрасную характеристику историка, которая принадлежит биографу его сына Лукьянову: «Присматриваясь к духовному облику С. М. Соловьева, нетрудно придти к тому заключению, что это был крепкий русский человек, с большим трезвым умом, с запасом недюжинной энергии, исполненный чувства долга, богатый сознанием личного достоинства, гордый и властный, умеющий сдерживать свои порывы, но внушительный в гневе, памятливый в отношении добра и зла, но не мстительный и лично не злопамятный, точный и исполнительный, требовательный и строгий, по все же добрый и любящий, искренно религиозный по-православному, без всякой слащавости и елейности, глубоко преданный благу родного народа и родной земли, без предвзятой враждебности к иноплеменникам и чужеземцам». Ясно, что нравственный авторитет отца был для детей непререкаем.
В семье Соловьевых много и охотно читали, дети рано приобщались к Пушкину и Гоголю, к великой русской литературе. Все любили стихи — и мать, и отец, и дети. Всеволод, Владимир и Поликсена имели несомненное писательское дарование, хорошо владели пером Михаил и Мария. По пятницам у Соловьевых собирались друзья и знакомые — профессора Дмитриев, Чичерин, Капустин, Бабст, Ешевский, Герье, Евгений Корш, Нил Попов, врач и литератор Кетчер, юрист Лопатин, вели неспешные разговоры об университетских делах, об успехах науки, о политике правительства. Блистал остроумием Дмитриев, шумел Кетчер, отпускал язвительные реплики Чичерин. Сергей Михайлович любил остроты и при всяком удачном словечке шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятачка не случилось!» На пятничных вечерах не было ни музыки, ни танцев, ни карт, не было и азарта разночинских споров, столь характерных для времени, когда в умах радикальной молодежи царили Чернышевский, Писарев, некрасовский «Современник». Гости долго не засиживались, около 11 часов вечера хозяйка, заботясь об отдыхе мужа, заявляла, что пора и на покой.
Старшим детям разрешали присутствовать при беседах, они слушали и невольно вбирали в себя тот высокий настрой души, ту ревность к общественным нуждам, что были присущи старшему поколению, прославленным «идеалистам сороковых годов». Владимир Соловьев навсегда запомнил впечатление, которое произвел в профессорском кружке приговор по делу Чернышевского.
Летом к Соловьевым на дачу неожиданно приехали Корш
и Кетчер. Они что-то сказали хозяину дома, летом работавшему не меньше, чем зимой, и тот собрался с ними на прогулку, взяв, не без колебаний, с собой одиннадцатилетнего сына. Оба гостя имели удрученный вид, Кетчер вопреки обыкновению совсем не хохотал. Соловьев-старший, взволнованный, с покрасневшим лицом, говорил каким-то напряженным, негодующим шепотом, время от времени переходившим в крик.
Владимир Соловьев вспоминал:
— Что же это такое? — говорил отец. — Берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры, имел огромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение, — такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат года, — никому ничего не известно, — судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никуда не годным, — и вот, наконец, общество извещается, что этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, — а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину.
— Как вы странно рассуждаете, — заговорил Е. Ф. Корш, — ну какие тут доказательства? На какой планете вы живете? Мы — дети, они — отцы, вот и все. И какая у вас черная неблагодарность. Вас избавили от зловредного человека, который чуть-чуть не запер вас в какую-то фаланстерию, а вы требуете каких-то доказательств. Ну, кому же и верить на слово, как не правительству?
— А вот именно потому, — продолжал отец прежним тоном, — что я верю правительству, я и не могу доверять тому суду, который само правительство признало никуда не годным и обреченным на уничтожение. Всем известно, что это за судьи и что им не только судьбы человека, а последней кошки доверить нельзя.
— Ты в самом деле думаешь, — мрачно пробурчал Кетчер, — что ничего фактического не было?
— Не думаю, а совершенно уверен. Ведь каковы бы ни были эти судьи, не в сумасшедшем же доме они сидят. Сообрази сам, допустим, что в политическом процессе для успешного расследования может требоваться строгая тайна. Но, когда дело кончено, виновность доказана и приговор состоялся, то тут из-за чего же секретничать? Я готов даже допустить и такую нелепость, чтобы прятали и самого Чернышевского, боясь, как бы его не освободили. Но вину-то его, вину фактическую, доказанную, зачем прятать? Единственное объяснение — что этой вины нет и что объявлять им нечего.
К записи можно добавить одно: с Чернышевским историк виделся и разговаривал раза два, его взглядам не сочувствовал, осуждал «идолопоклонническое» отношение к проповеди писателя. Судьбу Чернышевского он объяснял незрелостью, несерьезностью и холопским духом в русском обществе: «Ну, какой тут может быть правильный рост образованности? Третьего дня ты принялся за серьезное дело в науке и в литературе, вчера тебя потащили на дельфийский треножник: не нужно, мол, нам твоего умственного труда, давай нам только прорицания; а сегодня, еще не прочхавшись от фимиама, ты уж на каторге: зачем прорицательствовал с разрешения предварительной цензуры».
У Владимира Соловьева была превосходная, унаследованная от отца память, и тот разговор он пересказал точно.
Кроме литературных и общественных, дети Соловьевых жили и другими интересами, более соответствовавшими их возрасту. Тот же Владимир оставил прелестный рассказ о дачных забавах младшего поколения Соловьевых и Лопатиных, семей, которые дали русской культуре друзей-философов Владимира Соловьева и Льва Лопатина. Описание относится, по-видимому, к 1866–1867 годам: «Учились мы розно, но летнее время проводили вместе в подмосковном селе Покровском-Глебове-Стрешневе, где наши родители в продолжение многих лет жили на даче. Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: «Пожар! Пожар! Покровское горит!» Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством. А то мы изобретали и искусно распространяли слухи о привидениях и затем принимали на себя их роль. Старший Лопатин (не философ), отличавшийся между нами физической силой и ловкостью, а также большой мастер в произведении диких и потрясающих звуков, сажал меня к себе на плечи верхом, другой брат надевал на нас обоих белую простыню, и затем эта необычайного вида и роста фигура, в лунную ночь, когда публика, особенно дамская, гуляла в парке, вдруг появлялась из смежного с парком кладбища и то медленно проходила в отдалении, то устремлялась галопом в самую середину гуляющих, испуская нечеловеческие крики.
Для других классов населения было устроено нами пришествие антихриста. В результате мужики не раз таскали нас за шиворот к родителям, покровский священник, не чуждый литературе, дал нам прозвание «братьев-разбойников», которое за нами и осталось, а жившие в Покровском три актрисы, г-жи Собещанская, Воронова и Шуберт, бывшие особым предметом моих преследований, сговорились меня высечь, но, к величайшему моему сожалению, это намерение почему-то не было исполнено. Впрочем, иногда наши занятия принимали научное направление. Так, мы усиленно интересовались наблюдениями над историей развития земноводных, для чего в особо устроенный нами бассейн напускали множество головастиков, которые, однако, от неудобства помещения скоро умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же свою зоологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета моего отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда».
Жизнь детей Поликсены Владимировны и Сергея Михайловича сложилась по-разному и не всегда счастливо.
Первенец Всеволод окончил ту же Первую гимназию, что и отец, учился на юридическом факультете, служил по юстиции. С младшими братьями и сестрами он часто не ладил. Отличительной чертой его можно назвать крайний мистицизм, черта не соловьевская — романовская. Однажды во сне он сложил стройное восьмистишие. Утром брат Владимир рассказал, что ему приснилось стихотворение. Когда сличили восьмистишия (!), оказалось почти безусловное сходство. Эту историю Всеволод Соловьев сообщал, как совершенно достоверную. Женат он был дважды, вторая жена приходилась родной сестрой первой, которая после развода вышла замуж за сына профессора Шевырева. Тесен мир. Семейная жизнь старшего сына доставляла Сергею Михайловичу немало огорчений, но была и светлая сторона — в 1875 году на свет появился внук, названный в честь деда Сергеем.
Всеволод Соловьев писал стихи, критические очерки, рано начал печататься. Настоящим его призванием стали исторические повести и романы, необычайно популярные среди читателей 1870—1890-х годов. В его произведениях — крепкая интрига, знание старого русского быта, мелких- исторических подробностей. Еще при жизни отца Всеволод прославился повестью «Княжна Острожская», за ней последовали романы «Капитан гренадерской роты», «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец» и много других…
Крестница Константина Аксакова Вера рано вышла замуж за историка Нила Попова, в котором Сергей Михайлович видел своего преемника по университету и который действительно трижды избирался в деканы историко-филологического факультета. Когда с легкой руки Герье семинарии утвердились в Московском университете, Попов возглавил русский исторический семинарий. Считалось, что семинарий совместно ведут Соловьев и Попов. Внешностью Вера Сергеевна напоминала отца, характером пошла в мать, вырастила пятерых детей.
Вторая сестра, Надежда, в молодости слыла московской красавицей. Замужем она не была, занималась благотворительностью и всю долгую жизнь хранила привязанность к Москве, напоминая тем отца.
Одаренность Владимира, четвертого ребенка в семье, была столь резкой, что вернее всего назвать его гением. Творчество Владимира Соловьева — философское, поэтическое, литературно-критическое, публицистическое — такого масштаба, что беглый разговор о нем был бы неуместен. К отцу Владимир относился с громадным уважением, но в поступках проявлял полную самостоятельность, что Сергея Михайловича иногда радовало, иногда больно задевало. Окончив гимназию с золотой медалью, Владимир поступил на историко-филологический факультет, вскоре перевелся на факультет физико-математический. Точные науки не были его призванием, и, быть может, поэтому он, к огорчению отца, определял Московский университет как «абсолютную пустоту». Курса он не кончил, но, подав прошение об увольнении из числа студентов, одновременно в короткий срок блестяще сдал экзамены на степень кандидата по историко-филологическому факультету. Его первый печатный труд начинался словами: «Важнейшая задача исторической науки…» Но Владимир Соловьев родился философом. В 1874 году, двадцати одного года от роду, он защитил магистерскую диссертацию, в двадцать семь лет стал доктором философии. По лестнице ученой карьеры, которая его не интересовала, он поднимался быстрее, чем отец…
Следующая по старшинству дочь Соловьевых — Любовь была замужем за известным в Москве врачом Степановым, рано овдовела. Нервность, присущая Романовым и Соловьевым, сказалась на ней с наибольшей силой.
Третий сын у Соловьевых родился в январе 1862 года, через два с половиной месяца после смерти деда, Михаила Васильевича, в честь которого его назвали. Белокурый и голубоглазый, он и наружностью напоминал деда. Учился Михаил все в той же Первой гимназии, окончил историко-филологический факультет, преподавал в гимназиях. С интеллектуальной стороны он более других сыновей походил на отца: ум его был критический и исторический. К «Истории России» им был составлен обширный указатели, он готовил к изданию собрание сочинений Вл. Соловьева, но сам ничего не написал. Умер он, как и братья, сравнительно молодым, ему было едва за сорок. Его единственный сын, Сергей Михайлович Соловьев-младший — поэт из плеяды поздних символистов, биограф Владимира Соловьева, переводчик. Поэзия Соловьева-младшего современному читателю вряд ли известна, и стоит привести строки, которые он посвятил деду:
Твой труд возрос, как пирамида:
Он учит вере и добру,
Жестокой правде Фукидида,
Любви к России и Петру.
В тени твоей бессмертной славы
Как сладко внуком быть твоим,
Старик суровый, величавый,
Со взором ясно-голубым.
«Как сладко внуком быть твоим…» Судьба Сергея Михайловича-младшего сложилась трагически, он в полной мере испил из чаши страшного российского бытия. Книга «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева», над которой он работал в двадцатые годы, вышла в свет в 1977 году в Брюсселе, есть ее переводы на другие языки. Когда-нибудь она будет издана и в нашей стране.
Дочь Мария вышла замуж за византиниста Павла Безобразова, переводила с французского, написала живые воспоминания о брате Владимире. Ее муж составил первый биографический очерк о Сергее Михайловиче Соловьеве.
Самая младшая дочь, Поликсена, родилась в марте 1867 года, в год смерти бабушки Елены Ивановны. Она росла любимицей матери, занималась литературой и живописью, получив подготовку в Московском училище живописи. Поликсена стала хорошей русской поэтессой, писавшей под псевдонимом Allegro. После смерти Соловьева мать и дочь перебрались в Петербург. Поликсена Владимировна надолго пережила мужа и умерла в 1909 году. Ее дочь, Поликсена Сергеевна, скончалась в 1924 году.
Короткий рассказ о детях Поликсены Владимировны и Сергея Михайловича — не просто дань традициям биографического жанра. Богато одаренные, они росли в атмосфере труда и творчества; благодаря отцу и матери, которые, надо признать, оказались незаурядными педагогами, имели редкую в России
возможность свободного развития своих талантов и наклонностей и в значительной мере оправдали те надежды, что возлагали на них в детстве и юности. Если потом, во взрослой жизни, одним недостало здоровья, другим — счастья, третьим — долголетия, то не было в том их вины. Все Соловьевы честно исполняли свой долг — так, как учили их в родительском доме.
1 апреля 1870 года Соловьев был назначен директором Московской Оружейной палаты с оставлением на службе в университете. С должности инспектора классов Николаевского сиротского института пришлось уйти. Новое назначение зависело от дворцового ведомства и отражало определенную степень близости к императорской фамилии. Одновременно здесь заключалось признание ученых заслуг историка.
Оружейная палата, для которой в николаевское царствование выстроили в Кремле особое здание, являлась и публичным музеем, и хранилищем государственных ценностей — старинного дорогого оружия, посольских даров, предметов обихода царского двора XVI–XVIII столетий. Никогда не ставя в научных исследованиях во главу утла историю быта, Соловьев тем не менее неплохо разбирался в древнем русском костюме и утвари, художественный вкус и страсть к просвещению сочетались у него с административными навыками. Место директора он занял по праву. Пригодились и его познания в археологии, которая в те годы понималась как наука о древностях. С 1864 года он состоял членом Московского археологического общества, в 1869 году председательствовал на первом археологическом съезде, где, к его удивлению, с ним вступил в полемику Алексей Уваров, сын покойного министра и неутомимый разыскатель античных, скифских и славянских древностей. Археологические интересы тесно сближали Соловьева с графом Строгановым, который прежде других и рекомендовал историка на важное место директора. Всегдашний благодетель, граф Сергей Григорьевич… И как вовремя — ведь двадцать пять обязательных профессорских лет, за которыми могли последовать отставка и пенсия, истекали в 1870 году!
Семья Соловьевых переехала в дом дворцовой конторы в Денежном переулке, в котором при всех дальнейших служебных переменах Сергей Михайлович прожил до последних дней. Квартира была большая, удобная, у детей — свои комнаты, а кабинет помещался на втором этаже, в нем было тихо, спокойно и хорошо работалось. В ноябре того же года Совет университета принял решение об оставлении ученого на службе еще на пять лет и об утверждении его в звании заслуженного профессора. Почетно и грустно — сколько лет позади…
По давно заведенному порядку шли чины и звания^ в 1871 году Соловьев стал тайным советником — третий класс в табели о рангах, в военном ведомстве он считался бы генерал-лейтенантом. В апреле 1872 года состоялось избрание историка ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности с оставлением в прочих занимаемых должностях. Последнее немаловажно: Академия находилась в Петербурге, и переезжать туда ему, старому москвичу, было бы немыслимо.
Кроме того, к этому времени главным местом службы Сергея Михайловича вновь стал Московский университет. В декабре 1870 года его избрали ректором университета. Все произошло неожиданно: Баршев уходил, а катковская партия вела дело столь бесцеремонно, что большинство Совета взбунтовалось и Соловьев получил почти одни белые шары. Министру Толстому ничего не оставалось, как в феврале 1871 года утвердить профессора Соловьева в должности ректора Московского университета сроком на четыре года.
На посту ректора Соловьев последовательно выступал против влияния на университетскую жизнь Каткова и его изданий. Демонстрацией солидарности с новым ректором стало решение Совета отказать профессору Леонтьеву в избрании на новый пятилетний срок. Леонтьев явился в Совет и заявил: «Вы лизнули моей крови, но я отомщу». И сдержал слово: «Московские ведомости» начали бесстыдный поход против университета, университетской автономии, гарантированной уставом 1863 года, и передовых профессоров. Редакция газеты, где заправляли Катков и Леонтьев, требовала отмены всех выборных прав, хотя даже при Николае I правительство не шло далее назначения ректора. Предполагалось отнять у университета право производить экзамены и доверить его особым правительственным комиссиям. Эта идея противоречила здравому смыслу, оскорбляла университетскую корпорацию.
Ситуация складывалась парадоксальная. Старейшая в Москве газета юридически считалась университетской, сохраняла университетский герб, что, понятно, вызывало протесты студентов и большинства профессоров. Ректор попытался пересмотреть контракт на аренду университетской газеты «Московские ведомости», срок которого истекал в 1875 году. Соловьев вторгался в сферы политики.
История была давняя. Когда-то «Московские ведомости» давали университету значительный доход: в николаевское время он составлял тридцать-пятьдесят тысяч рублей в год. На эти средства университет построил астрономическую обсерваторию, анатомический театр, химическую лабораторию, расширил типографию, пополнил Публичную библиотеку и Румянцевский музей. В пятидесятые годы положение изменилось. Среди типографов выросла конкуренция, появились новые издания, число подписчиков «Московских ведомостей» упало. Штатные университетские редакторы Катков и Валентин Корш вели газету неудачно (Катков попросту бездельничал), в канун крестьянской реформы она оставалась бесцветным либеральным изданием.
Боязнь дальнейшего падения доходов вынудила Совет университета сдать типографию и газету в аренду. С 1863 года в «Отчетах о состоянии императорского Московского университета» кратко сообщалось, что типография «отдана статским советникам Каткову и Леонтьеву в арендное содержание, на 12 лет, со всеми принадлежащими к ней казенными зданиями, казенным имуществом и с правом издания «Московских ведомостей», с платою арендаторами по 74000 рублей в год».
Став хозяином газеты, Катков (Леонтьев был хорош на вторых ролях) круто переменил ее политическую ориентацию. «Московские ведомости» под редакцией «публициста Страстного бульвара» (там, на Страстном, находился дом редактора) превратились в охранительное издание. Нападки на «великие реформы», шовинизм и апологетика самодержавия, разнузданная травля революционеров, клевета на либеральную оппозицию стали неотъемлемой принадлежностью газеты.
Особым вниманием «Московские ведомости» почтили университет. В 1905 году великий Вернадский, тогда профессор и помощник ректора, выразил общеуниверситетское отношение к изданию. Его вывод исторически точен и беспощаден: «Газета эта уже 40 с лишним лет ничего не имела и не имеет общего с Московским университетом. Она связала свое имя с противодействием всем чаяниям и желаниям русского общества, всем дорогим Совету Московского университета. На ее столбцах находили себе место всякие — самые возмутительные и невероятные — обвинения как студенчества, так и профессуры; в ней шла систематическая пропаганда всех пагубных как для общественной, так и для академической жизни нашей Родины мероприятий. Не останавливаясь ни перед чем, «Московские ведомости» изо дня в день многие годы разрушали авторитет и значение Московского университета, и, несомненно, выделялись в этом отношении даже среди реакционных органов печати».
Катков сделался кумиром реакционеров, правительство отметило его усердие. Катковская аренда, начало которой положили хозяйственные и финансовые нужды университета, скоро превратилась в обязательный и важный элемент внутренней политики.
Для университета типография и газета были потеряны. Финансовые расчеты Совета оказались ошибочными, поскольку арендные суммы шли в министерство просвещения, где и расходовались. Вдобавок Катков постоянно недоплачивал, за ним числилась крупная недоимка. Что же в итоге? В итоге крупная неудача ректора Соловьева. В 1875 году по высочайшему повелению и, как горько писал Вернадский, «вне каких бы то ни было законных рамок» с Катковым (Леонтьев умер) был заключен контракт на новые 12 лет с понижением арендной платы до 60 тысяч рублей. Немного, согласитесь. И что значила личная известность Соловьева среди лиц императорской фамилии, когда речь шла о серьезных политических вопросах. Почти ничего.
Сильная власть? Да. Либеральные меры? Увы…
В довершение унижения Соловьева весной 1875 года ввели в состав министерской комиссии по реформе университетов, которая должна была подготовить пересмотр устава 1863 года. Возглавляемая товарищем министра Деляновым, комиссия начала свою деятельность с подбора тенденциозных материалов о состоянии университетов.
Было бы, однако, неверно недооценивать университетские события 1875 года. Борьба Соловьева против катковской аренды при всей ее внешней локальности — острое выступление в защиту либеральных принципов, важный эпизод в истории либеральной оппозиции в России.
В тот год реакция чувствовала себя всесильной. Толстой разослал по учебным округам циркуляр, ставший знаменитым. Обратив внимание на распространение «преступной пропаганды» в империи, министр нашел, что «дети и юноши вместо того, чтобы найти в окружающей их среде и в своих семействах отпор преступным увлечениям и политическим фантазиям, встречают иногда, напротив того, одобрение и поддержку». По его мнению, это явление «показывает, до какой степени поверхностна и невежественна известная часть нашего общества». Он полагал, что «у нас нередко не семья поддерживает школу, а школа должна воспитывать семью, чего нет ни в одном европейском государстве, и что значительно усложняет и без того нелегкую задачу воспитания». Циркуляр заканчивался утверждением, что «не только прямой наш долг, но и совесть обязывают нас приготовить для службы его императорского величества и страны верноподданных не по имени только, а на самом деле, людей достаточно развитых и просвещенных, которые сознательно поддерживали бы государственный порядок и осмысленно противодействовали бы всяким нелепым учениям, откуда бы они ни происходили».
В либеральных кругах циркуляр нашли чрезвычайно замечательным по бестактности, Соловьеву же было не до шуток — он исполнял обязанности попечителя и должен был, пусть временно, проводить толстовские идеи в жизнь.
Осенью 1875 года истек пятилетний срок профессорской службы, прошли и четыре года ректорства. Соловьев отказался баллотироваться на новый срок. Он устал. Но Совет просил изменить это решение, и он согласился, сказав: «Да, я останусь, потому что это тяжело». Соловьев был избран большинством голосов на должность ректора сроком по 28 ноября 1879 года…
Он не мог отказать коллегам, не мог оставить университет. В пользу Соловьева решительно высказались молодые либеральные профессора, относившиеся к нему почтительно, видевшие в нем оплот в борьбе с Катковым. Соловьев ценил их доверие, но многого в новом поколении не понимал. Молодые профессора играли в «жрецов науки», они хотели бы, как подметил Герье, создать в университете касту посвященных, независимую корпорацию браминов, которая поставила бы свой авторитет выше авторитета государства, своего рода «орден иллюминатов». Не с такими настроениями вступал он когда-то на профессорскую стезю.
Не понимал ректор и сына Владимира, который после шумного успеха магистерской защиты стал преподавать в Московском университете философию. Сергей Михайлович не одобрял увлечений сына мистикой, каббалистикой и оккультизмом, которых чуждался его строгий, дисциплинированный ум, не понимал, зачем надо слушать лекции в духовной академии, однако о сыне заботился поистине трогательно. Когда тот уехал в командировку в Англию, отец говорил собравшемуся в Лондон статистику Янжулу: «Он мальчик хороший, но жить еще не умеет. Не будете ли вы так добры, если встретитесь, а это, наверное, возможно, если пожелаете, позаботиться об его устройстве и помочь ему, ввиду его неопытности. Вы меня очень обяжете».
Янжул исполнил просьбу ректора, хотя поручение не доставило ему удовольствия. По Москве открыто рассказывали, что молодой философ близок к кружку «Московских ведомостей», что среди его приятелей — Леонтьев и Любимов, явные враги отца, на которого они клевещут, не смущаясь присутствием сына. Русское общество скоро на приговор, строгий, но справедливый ли…
В молодые годы Владимир Соловьев прославился выступлениями против позитивизма, философского направления, господствовавшего в умах передовой интеллигенции. По давней привычке Сергей Михайлович следил за течением философской мысли, и в какой-то степени именно ему обязан сын своим умонастроением, далеким от общепринятого. Об одной их беседе сохранился рассказ Вл. Соловьева: «В ту пору, когда я резал пиявок бритвою и зоолога Геккеля предпочитал философу Гегелю, мой отец рассказал мне однажды довольно известный анекдот о том, как «отсталый» московский купец сразил «передового» естественника, обращавшего его в дарвинизм. Это учение, по тогдашней моде и к «некоторому несчастию» для самого Дарвина, понималось как существенное приравнение человека к прочим животным. Наговорив очень много на эту тему, передовой просветитель спрашивает слушателя: «Понял?» — «Понял». — «Что ж скажешь?» — «Да что сказать? Ежели, значит, я — пес, и ты, значит, — пес, так у пса со псом какой же будет разговор?»
Близость Владимира к катковскому кружку мало тревожила Сергея Михайловича. Легко ли самолюбивому молодому человеку, верящему в свои силы, в свою звезду, слышать за спиной шепот: «ректорский сынок». Поневоле захочется подчеркнуть не просто независимость — несогласие. Была и другая причина. Крайности, как известно, сходятся, и сына, который недавно прошел через искушение материализмом, который называл себя радикалом-метафизиком и в котором при водворении его в духовной академии в Сергиевом Посаде одни видели нигилиста, а другие — религиозного фанатика, мог заинтересовать профессор физики Любимов, человек не без дарования, но совершенный тип пресмыкающегося. Он весь был погружен в материальные интересы и ничего другого не понимал: поесть, погулять и получить побольше денег — вся цель его существования. Соловьеву-старшему он напоминал знакомого по студенческим годам Иринарха Введенского. Тот также ничего ни в политическом, ни в социальном отношении не желал, кроме денег, для немедленного удовлетворения примитивных прихотей. Сергей всегда сторонился этого «нового человека», сразу поняв, что он едва ли отличает должное от недолжного. Позднее Иринарх Введенский перебрался в Петербург, где, кажется, занимался переводами и сделался совершенным нигилистом. Таков и Любимов, только циничнее, грязнее. В том, что сын сумеет во всем разобраться, Соловьев не сомневался.
В 1876 году университет скромно (по-другому запретил министр Толстой) отметил юбилей — двадцать пять лет со времени выхода в свет первого тома «Истории России с древнейших времен». Ученому поднесли бювар, прислали приветственные адресы Петербургский университет и Академия наук. Откликнулись на событие и некоторые журналы. Общественное признание, поздравления, что и говорить, радовали. Четверть века назад все было иначе. В последние годы он получил несколько наград: орден святого Владимира второй степени, орден Белого орла, черногорский орден «За независимость Черной горы», командорский крест первого класса Вюртембергского ордена Фридриха, австрийский орден Франца-Иосифа первой степени, Большой крест шведского ордена Полярной звезды. Европейская известность.
Главное же — работа продолжалась. Казалось, что силы долго не иссякнут. В 1876 году, помимо очередного двадцать шестого тома «Истории России», он напечатал шесть статей, из них две, по восточному вопросу, очень значительные; в 1877 году появилась монография «Император Александр Первый: Политика — Дипломатия» и четыре крупных статьи, одна из которых — «Россия, Австрия и Англия во время движений 1848 и 1849 годов» — напоминала читателям о событиях совсем недавнего времени.
На склоне лет Соловьев особенно интересовался историей русской внешней политики. Его работа об императоре Александре I посвящена столкновению русского царя, «главного деятеля эпохи», с Наполеоном — «гением войны, гением революции». Богатая фактическим материалом, книга подчинена идее спасительности для России сильной и либеральной власти. Идея, ставшая для историка главной, раскрывалась здесь на примерах внешней политики, в сравнительно-историческом плане. Историческую заслугу Александра I Соловье® видел в том, что он (именно он!) сверг Наполеона и установил в Европе мир «после революционных бурь и военных погромов».
Рассказывая о вступлении союзных войск в Париж в марте 1814 года, автор следующим образом рисовал ход борьбы, надолго определившей развитие Европы: «В описываемые минуты Александру представилось его прошлое со дня вступления на престол, когда он явился провозгласителем великой идеи успокоения Европы от революционных бурь и войн, идеи восстановления равновесия между государствами, правды в их отношениях, при удовлетворении новым потребностям народов, при сохранении новых форм, явившихся вследствие этих потребностей. В этой Европе, пережившей страшную, неслыханную бурю, следы которой наводили столько раздумья, в этой Европе перед государем божиею милостию, пред внуком Екатерины II, выдавался вперед образ человека нового, человека вчерашнего дня, который во время революционной бури личными средствами стал главою могущественного народа. Воспитанник швейцарца Лагарпа, демократически, без предубеждений, протянул руку новому человеку, приглашая его вместе работать над водворением в Европе нового, лучшего порядка вещей. Но сын революции не принял предложения либерального самодержца: у него были другие замыслы, другое положение: он хотел основать династию, хотел быть новым Карлом Великим, а для этого нужно было образовать империю Карла Великого. Завоевательные стремления Наполеона, необходимо соединенные с насилиями, с подавлением народных личностей, дали в нем Александру страшного врага и освободили от опасного соперника. Александр стал против гениального главы французского народа представителем нравственных начал, нравственных средств, без колебаний вступил в страшную борьбу, опираясь на эти начала и средства, убежденный в великом значении своего дела, во всеобщем сочувствии к нему».
В последней крупной работе историка политическое неприятие революции нашло теоретическое обоснование: революционные перевороты исторически незакономерны, они искусственно нарушают органическое развитие общества. Соловьев писал: «Перемены в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не должны вымогаться народами у правительств путем возмущений».
Соловьевская формула непроста. В ней содержится и признание неизбежности перемен в «правительственных формах», и нереволюционность, и убежденность историка государственной школы в том, что исторический прогресс осуществляется путем закономерной правительственной деятельности.
В других своих поздних работах — «Наблюдения над исторической жизнью народов», «Начала Русской земли», «Прогресс и религия» — историк уточнял и развивал мысли, высказанные прежде: о роли государства в жизни народов («правительство… есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни»), о ведущих факторах исторического процесса («природа страны», «природа племени», «ход внешних событий»), о прогрессе, который понимался как «стремление человечества к идеалу, выставленному христианством». Либеральная основа его мировоззрения, его общественно-политических и исторических взглядов и в последние годы жизни Соловьева не изменилась.
Интересной страницей в биографии ученого стала его деятельность на посту председателя педагогического совета Высших женских курсов Герье, которые были открыты в Москве в 1872 году, в одно время с петербургскими женскими курсами Бестужева-Рюмина, знаменитыми Бестужевскими. Герье получил у Толстого разрешение открыть курсы «под личную ответственность ректора Московского университета». Состав преподавателей в первый учебный год был прекрасный: Тихонравов, Герье, Стороженко, Виппер, Фортунатов, Бредихин, Ключевский. Через два года слушательниц приводил в восторг Владимир Соловьев.
Сергей Михайлович около пяти лет был связан с курсами Герье, своим авторитетом оказав им существенную поддержку. Титул председателя был скорее почетным, ибо заседаний Совета не проводили, но само объединение в одном лице постов ректора Московского университета и председателя Совета женских курсов способствовало их утверждению как высшего учебного заведения.
Отношение Соловьева к женскому образованию не было однозначным. В молодости в статье о Парижском университете он осуждал допуск посторонней публики в университет, что превращает научные занятия в публичные чтения. Высказывался он и против разрешения женщинам посещать лекции в университете. Когда в 1861 году Совет университета обсуждал этот вопрос, Соловьев был среди тех профессоров, кто постановил «ни под каким предлогом» не допускать женщин к слушанию лекций в университете на том основании, что «совместные занятия могут вредно повлиять на успешный ход занятий молодых людей». В пользу женщин высказались тогда всего два члена Совета, у которых, как язвил Чичерин, были некрасивые взрослые дочери. Вместе с тем ни Совет, ни Соловьев не выступали против женского образования, и тогда же высказано было предложение учредить специальное заведение для подготовки «женского юношества», что через десять лет исполнил Герье.
Выступая на открытии курсов, Соловьев говорил о том, что главное их назначение не научное, но общественное: «Общество слабое, незрелое, переживающее известные болезненные процессы своего развития, обыкновенно порождает толпу людей, питающихся его болезнями, людей, которые пользуются его слабостью для целей порабощения; такие люди обыкновенно обращаются к женщине, в надежде на ее слабость, неприготовленность. Отсюда понятно, как важно для общества, чтоб этой слабости и неприготовленности в женщине не было… Общество крепнет, развивается правильно, когда молодые поколения воспитываются под впечатлением спокойного величия, которое господствует в образе матери и первой наставницы и которое бывает следствием твердых убеждений и ясного, созданного многостороннею наукою взгляда».
Небезынтересно, что в то же самое время «женского вопроса» коснулся Владимир Соловьев. В письме к кузине Екатерине Романовой, в которой он видел свою невесту, он не проявил отцовской широты взгляда: «Что касается моего мнения о способности женщины понимать высшую истину, то без всякого сомнения — вполне способна, иначе она не была бы человеком. Но дело в том, что по своей пассивной природе она не может сама найти эту истину, а должна получить ее от мужчины». Впрочем, Владимир был молод, беззаботен и изумительно — в мать — красив. Ему многое прощалось.
На большинство молодых слушательниц, настроенных радикально и жаждавших немедленной и глубокой университетской специализации, слова ректора Соловьева произвели невыгодное впечатление. Что-то домостроевское. Соловьев продолжал: «Значение женщин не увеличится оттого, что они из своих рядов выставят несколько тружениц, которые посредством микроскопа увеличат число наблюдений над некоторыми особенностями известных животных или растений; значение женщины увеличится, когда она спасет себя от односторонности, от ремесленничества в своих занятиях, когда она сделает себя полноправным членом общества, с голосом, с возможностью участвовать в жизни, в правильном развитии общества; мужчины все имеют возможность заниматься всевозможными специальностями; но все ли они полноправные члены общества в указанном! смысле, все ли имеют способность подавать свой голос?»
Если вчитаться и подумать, то становится очевидно, что ученый говорил о большем, нежели высшее женское образование, он говорил о правовом обществе, о гражданской ответственности, о сознательном участии в общественной жизни. Он говорил о том, что в России либо вовсе отсутствовало, либо находилось в стадии зарождения. Его заключительные слова выражали надежду: «Мы не сочли себя вправе отчаиваться в сочувствии, в нравственных средствах нашего общества содействовать доброму делу… Итак,
с богом за дело!»
Между тем кампания «Московских ведомостей» против университета продолжалась. Любимов собирал плохие студенческие записи лекций, коллекционировал нелепости, перевранные формулы, имена, даты и все это внес в деляновскую комиссию в доказательство крайне низкого уровня преподавания в Московском университете. Это был донос. Любимовская «Записка о недостатках нынешнего состояния наших университетов», его погромные статьи в «Московских ведомостях», где он предлагал уничтожить все университетские «льготы», вызвали протест. Любимову было послано коллективное письмо 35 московских профессоров, которые заявляли о разрыве с ним всяких отношений, кроме служебных, «разорвать которые не в нашей влаети». Соловьев, как ректор, в протесте, естественно, не участвовал.
Профессор новой формации, выдающийся социолог Максим Ковалевский, исходя из опыта политической борьбы начала XX века, вспоминал: «Помню, что я и тогда удивлялся, да и теперь не могу понять, почему доносы этого сотрудника Каткова могли вызвать в членах Совета раздражение, достаточно сильное, чтобы побудить значительное большинство профессоров к посылке ему коллективного письма, извещавшего о решении порвать с ним всякий товарищеский обмен. Ведь не вызывает же ныне однохарактерное поведение г. Пуришкевича или г. Маркова 2-го в ком бы то ни было из лиц, ими оклеветанных, или единомышленников этих лиц, желания вступить с ними в какой бы то ни было обмен мыслей, даже тот, какой предполагает заявление о разрыве дальнейших сношений».
На свой лад Ковалевский прав, но у каждого времени свои законы. Любимов пожелал сделать вид, что профессорское заявление несерьезно. При встрече с юристом Муромцевым (будущим председателем I Государственной думы) он как ни в чем не бывало протянул ему Руку — и та повисла в воздухе… Любимов жаловался министру, но в борьбе с нравственным воздействием тот был беспомощен.
12 января 1877 года физик Столетов поместил в либеральной газете «Русские ведомости» уничтожающую статью «Г. Любимов как профессор и как ученый». На следующий день по инициативе и под председательством Соловьева собрался Совет, на заседании которого профессора Герье, Усов, Цингер характеризовали писания Любимова как пасквиль, как злобную кампанию против университета. Совет подверг Любимова моральному осуждению. Студенты бойкотировали лекции одиозного профессора. Для Соловьева действия Любимова, при всей элементарности этого человека, были потрясением. Против свободного научного развития в России выступал не «енерал» николаевского времени, когда человек мысли и знания был гоним, не безграмотный мужик, но университетский профессор. Чего же ждать от такого общества?
Министерство просвещения потребовало от ректора отчет в действиях профессоров и студентов. Требование носило провокационный характер: было широко известно, что Соловьев безусловный сторонник университетской автономии. Доносы Любимова министерство целиком оправдало. Соловьев не подчинился министерству и демонстративно подал в отставку как с поста ректора, так и профессора университета. 16 мая 1877 года Соловьев был согласно прошению уволен от службы при Московском университете.
Вспоминая события 1866 года, он писал Чичерину: «Тогда были только цветики, а теперь ягодки». Чичерин прокомментировал: «Катков и Толстой с их клевретами выжили наконец из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека. Честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми средствами».
В университетских событиях 1877 года Соловьев сыграл крупную роль, которая ясно показывает его принципиальное расхождение с политической реакцией, вдохновляемой Катковым. Соловьев отстаивал лучшие, демократические традиции русской науки и университетского преподавания. Его отставка нанесла определенный моральный урон правительству, ретроградным деятелям министерства просвещения. В некоторой степени конфликт 1877 года задержал введение нового реакционного устава, которое последовало лишь через семь лет.
Университетские события отразились и в семье Соловьевых. Владимир Соловьев, приват-доцент Московского университета, отказался осудить действия Любимова. Он ссылался на принцип свободы мнения и слова, на право каждого высказывать свои убеждения, каковы бы они ни были. Поступок Вл. Соловьева его коллеги расценили как неблаговидный. На одном из вечеров у Герье хозяин дал молодому философу отповедь, всеми встреченную сочувственно. Вслед за отцом и сын был вынужден уйти из Московского университета.
Соловьев тяжело переживал уход из университета, где последние два года жизни он вел занятия как приглашенный лектор. Слабым утешением явилось избрание в почетные члены университета.
В 1877 году Соловьев тяжело заболел — сказались университетские события. Всегда свежий цвет его лица понемногу принимал желтоватый оттенок, участились припадки «желчной колики». Ни лечиться, ни говорить о своем здоровье он не любил. Все убеждения родных разбивались об одно слово: «Некогда». Всеволод Соловьев не выдержал, спросил: «Когда же будет время?» Сергей Михайлович ответил: «Когда окончу «Историю»…» В начале 1879 года ученый приехал в Петербург для занятий с великими князьями, и Всеволод, встречавший отца на вокзале, едва скрыл свое впечатление: недавно бодрый и моложавый пятидесятивосьмилетний человек казался семидесятилетним старцем.
В Петербурге Соловьева лечил Боткин, в Москве — Захарьин, оба — лучшие клиницисты своего времени. Относительно состояния здоровья он не заблуждался, находил силы для утешения близких. Всеволоду сказал: «Успокойся, у меня был Захарьин. Я прямо потребовал, чтобы он объявил мне правду. Он побожился мне, что дело не к смерти, и что я поправлюсь. Мне теперь лучше…» Шло лето 1879 года.
Соловьев до конца сохранил привычный распорядок жизни, высокий настрой души, даже прирожденную веселость. Незадолго до его смерти к нему на дачу в Нескучном заглянул Чичерин. Соловьев выглядел совершенно больным. После недолгой беседы Чичерин стал прощаться. Старый профессор сделал попытку удержать ученика: «Куда вы спешите?» — «Еду обедать в Эрмитаж с Кетчером и Станкевичами», — был ответ. «Ах, счастливцы!» — воскликнул Соловьев.
Чичерин писал: «Я с ним простился и более его не видал, но сохранил о нем память, как об одной из самых светлых и почтенных личностей, каких мне доводилось встретить. Он совершил то, к чему был призван, извлек из себя на пользу России все, что мог ей дать. Это была жизнь, посвященная мысли, труду, любимому им университету, в котором многие поколения получили от него благие семена; жизнь чистая, полная и ясная, окруженная семейным счастьем, преданностью друзей и общим уважением. Россия может им гордиться».
До последних дней жизни ученый работал над «Историей России с древнейших времен», двадцать девятый том которой остался неоконченным. После афористичной фразы: «Екатерина имела время изучить Орлова, а главное — имела время охладеть к нему», — первыми издателями тома сделано примечание: «Последние строки писаны уже ослабевшею от предсмертной болезни рукою автора. Все дальнейшее продиктовано им одному из сыновей в несколько приемов, 21, 22 и 24 сентября 1879 года. Он хотел закончить 29-й том казнью Пугачева, но смерть, последовавшая в 7 часов вечера 4 октября, прервала многолетний труд историка, думавшего о нем и в последние минуты своей деятельной жизни».
Скончался Сергей Михайлович Соловьев в годовщину смерти Грановского. Хоронили его при большом стечении народа на кладбище Новодевичьего монастыря.
В газетном сообщении либерального «Русского курьера» между прочим говорилось: «Много огорчений принесла… Сергею Михайловичу борьба за сохранение настоящего университетского устройства и на много лет, быть может, сократила его драгоценную жизнь».
Из статей, посвященных памяти великого историка, выделяются две, написанные его учениками. Герье писал о человеке, ученом, гражданине: «В Сергее Михайловиче Соловьеве обширности и глубине знания, плодотворной деятельности в науке соответствовали, что не всегда бывает, благородный и цельный характер, высота нравственного бытия.
Честный историк был и честным гражданином. Правды, которую он вносил в историю, он всегда требовал и в жизни от себя и от других. Он допускал для осуществления правды только чистые средства, признавал только прямой и открытый путь. Он служил правде не одним неусыпным ученым трудом, не одними только убеждениями, а всею своею личностью».
Преемник Соловьева по кафедре русской истории Ключевский напоминал читателям о заветах учителя: «Еще в 1843 году в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружного, братского прохождения своего великого поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новою связью, скрепляющею этот союз, и оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собой вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к
самодеятельности».
В годовщину смерти Соловьева в 1880 году на его могилу неизвестно кем был возложен венок с надписью, которая казалась зашифрованной, но в действительности намекала на страницу его книги об Александре I, на ту страницу, где говорится о необходимости иметь в стране сильное и либеральное правительство. Получился своеобразный отклик на призыв к общественной самодеятельности. Как и встарь, русское общество возлагало свои надежды на правительство, на изворотливого Лорис-Меликова. До 1 марта оставалось пять месяцев, немного больше — до того заседания правительства, на котором наш старый знакомый граф Сергей Григорьевич Строганов ясно сказал, что корень зла — в либеральных мерах.
В сущности, они всегда по-разному понимали ход русской истории — просвещенный генерал Строганов и московский профессор Соловьев.
Через несколько лет после кончины Соловьева университет, в библиотеку которого поступило книжное собрание ученого, объявил всероссийскую подписку для учреждения стипендии и премии имени С. М. Соловьева. Стипендия предназначалась молодым исследователям, готовившимся к испытаниям на ученую степень магистра русской или всеобщей истории. В 1889 году назначена была тема на соискание соловьевской премии: «Государственное хозяйство России при Петре Великом в связи с его преобразовательной деятельностью». Без сомнения, тема — истинно соловьевская. Молодой историк, будущий лидер российских либералов, Павел Милюков в короткий срок написал серьезное исследование, основанное на архивных данных.
В октябре 1895 года Историческое общество, только что возникшее при Московском университете, провело свое первое торжественное заседание, посвятив его годовщинам смерти Грановского и Соловьева. В этом был глубокий исторический и общественный смысл. На заседании хорошую речь сказал Герье.
К двадцатипятилетию со дня смерти историка Ключевский напечатал статью «Памяти С. М. Соловьева», куда без изменений включил некролог, помещенный им в забытом издании 1879 года. Там говорилось: «Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значения его учено-литературной деятельности, его образ мыслей и убеждения, его взгляд на исторические судьбы России».
Дважды ошибся Василий Осипович — и в 1879 году, и в 1904. Не давала российская действительность ни покоя исторической критике, ни досуга биографам.
Постепенно русское общество забыло о заветах Сергея Михайловича Соловьева. Общественная самодеятельность — тяжелый крест. Имя историка осталось в скучных историографических обзорах, в стандартном перечне великих ученых России…
Столетняя годовщина со дня рождения Соловьева была отмечена очень скромно, что и понятно — шла гражданская война. Лукьянов сообщал: «1-го июня 1920 г. (нов. ст.) состоялись поминки по С. М. Соловьеве в Петрограде. Кружок ученых историков и ревнителей русского исторического просвещения счел своим непременным долгом почтить столетие со дня рождения С. М. Соловьева заупокойной литургией и научным собранием, на котором было произнесено несколько речей…»
Когда исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения, о юбилее почти не вспоминали. Сочинения Соловьева, за исключением «Истории России с древнейших времен», не перепечатывались долгие-долгие годы. Лишь в 1983 году появились «Избранные труды»…
К счастью, не сбылось предсказание историка-марксиста Покровского, сделанное в 1927 году: «…лет через пятнадцать-двадцать читать Соловьева и Ключевского перестанут, как теперь никто не читает уже Карамзина».
Читают.
Читают Карамзина. Читают Соловьева. Читают Ключевского.
Читают в надежде постичь смысл и ход российской истории.
ГЛАВА VII
ЧТЕНИЯ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
(Вместо завещания)
В 1872 году Россия праздновала двести лет со дня рождения Петра I. Юбилей первого российского императора стал важным общественно-политическим событием, которому правительство стремилось придать официальный характер. Петровские торжества проходили в тихое время: революционное движение не оправилось от «белого террора», либеральная общественность оплакивала незавершенность «великих реформ». Героями мнили себя публицист Катков, министр Толстой и особенно шеф жандармов, ближайший советник царя граф Шувалов, почти диктатор, о котором Тютчев сказал:
Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой Петр,
по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй.
Власти охотно использовали национальный праздник для укрепления своего престижа в стране. Торжествовали повсюду — в Петербурге, в Москве, в Архангельске, Астрахани, Киеве, Николаеве, Казани, в Сибири и даже в Карлсбаде, где по традиции отдыхала знать. К торжествам, кульминация которых приходилась на 30 мая, день рождения Петра, готовились долго, истово. Событие такого рода — удобный повод напомнить верноподданным, кому и чем они обязаны.
В рамках петровского праздника императорским Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете была устроена грандиозная всероссийская выставка, названная Политехнической. Материалы выставки легли в основу созданного в том же 1872 году Политехнического музея. Соловьев был назначен председателем исторического отдела выставки, экспонаты которого год спустя стали фондом организованного в Москве Исторического музея. Россия, заметим, переживала тогда расцвет музейного дела.
Для Сергея Михайловича Соловьева юбилей Петра I был вторым, в котором он принял самое деятельное участие. Первый — давно отшумевшее столетие университета. Вообще ученый избегал юбилейной шумихи и пустословия, даже как бы не заметил празднования тысячелетия России. В 1866 году, правда, он сказал речь в торжественный день карамзинского юбилея, но организаторами были другие. В речи о Карамзине Соловьев, как водится, говорил о заслугах историографа, однако умолчал о том благотворном влиянии, которое оказала «История государства Российского» на двенадцатилетнего мальчика, запоем читавшего том за томом в комнате с низкими потолками дома на Остоженке.
Некоторое понятие об историческом отделе выставки, над которым работал Соловьев, дает проспект, где сказано, что в него «войдет все, сохранившееся и уцелевшее от эпохи Петра Великого по разным отраслям… тут же поместятся как портреты Петра и деятелей его времени, так и галерея русских деятелей в периоды последующих царствований». Создать такую небывалую историко-художественную экспозицию, сохранив дух эпохи, было по плечу одному Соловьеву.
На торжественное открытие выставки прибыл из Петербурга великий князь Константин Николаевич. Соловьев в мундире, со звездой и лентой сопровождал почетного гостя, давал пояснения. Брат царя возглавлял кружок высших сановников, которых молва называла либеральными бюрократами и которым приписывала главную роль в реформах шестидесятых годов. К 1872 году «константиновская партия» выдохлась, одни ее приверженцы очутились в отставке, другие, вроде Дмитрия Толстого, превратились в гонителей прогресса. Последовательных социальных реформаторов среди них было мало. И все же именно «константиновцы» в какой-то мере соответствовали соловьевским представлениям о правительственной власти — были либеральными, а на определенном этапе и сильными. С именем Константина Николаевича была связана подготовка отмены крепостного права, он поддерживал судебную и земские реформы. Ходили слухи, что им был составлен конституционный проект. У Соловьева интерес к великому князю перерос служебные рамки, сделался научным.
Вместе с Константином Николаевичем историк присутствовал на красочной церемонии спуска на воду ботика Петра, специально доставленного из Петербурга. Сорок рабочих, одетых в рубахи цветов русского флага, доставили его к Москве-реке, по которой он был отбуксирован к выставке. Гремел артиллерийский салют.
В тот же день Соловьев — он воистину был душой петровского праздника — произнес речь в торжественном собрании Московского университета, куда он прибыл в одной коляске с великим князем. Вечерело, в актовом зале горели свечи. По тетради, в некоторых случаях с затруднением разбирая собственный мелкий почерк, профессор читал, и многочисленные слушатели, блестящее общество сановников, предпринимателей, ученых, внимали: «Мы видели Политехническую выставку; мы видели разнообразные результаты человеческого труда, человеческого творчества, видели средства, которыми человек исполняет
божие повеление, средства, которыми он обладает землею. Посреди зданий, наполненных произведениями человеческого труда, искусства, знания, мы видели здание, наполненное памятью о труде одного человека. С мыслью о труде ученом, промышленном, о труде, клонящемся к поднятию общественного благосостояния, для русского человека необходимо соединяется мысль об одном человеке: этот человек — Петр Великий. Если бы мы были язычники, то Петр стал бы для нас божеством — покровителем труда».
Так Соловьев начал речь. Он говорил о России, о русском народе, о заслугах Петра, «великого воспитателя своего народа». Он выговаривал мысли давние, заветные. Завершил речь словами, в которых определил свое понимание смысла выставки и всех петровских торжеств: «Потомство празднует двухсотлетие дня рождения великого человека, и этот праздник есть праздник труда. Указанием на многообразные произведения труда человеческого, указанием на то, что делает наука для усиления труда, хотели мы справить поминки по Петре Великом в нашей старой Москве, обновленной, благодаря Петру, наукой и усилением народного труда. В Кремле и около него, под умолкнувшими бойницами древней защиты, выставились произведения труда, представляющие и более надежные средства материальной защиты, и средства крепости, защиты нравственной отрезвлением мысли и чувства. Преемник Петра на престоле царей русских благословил наше дело, и царский брат, потрудившийся в совете освобождения труда земледельческого, председит на нашем празднике труда народного на наших поминках величайшему трудолюбцу Русской земли.
Мы ждем на свой праздник своего царя, предпосылая благословение благословившему труд наш, предпосылая благословение грядущему во имя блага народного».
Когда-то, проявив слабость, Сергей Михайлович позволил занести в формулярный список о прохождении службы запись, что он — «из дворян». Глухое и совершенно недостоверное указание, хотя со временем он дослужился до дворянства, сначала личного, затем потомственного. И если бы надо было искать девиз для дворянского герба Соловьевых, то им бы стали слова, определявшие суть убеждений ученого, слова, которые руководили всей его жизнью и вполне высказались в речи о Петре: «Вера, Отечество, Труд».
Девиз неделим, и к сказанному, опуская ненужные комментарии, можно лишь добавить признание Владимира Соловьева, который подчеркивал, что в жизни отца главными интересами были интересы «религиозный, научный, патриотический»: «Ни один из них не преобладал исключительно, да они и не боролись за преобладание в его душе, будучи внутренно между собою связаны, — и потому поддерживая, а не отрицая друг друга».
Спустя четыре дня ректор Московского университета Соловьев выступил на обеде в честь иностранных гостей Политехнической выставки. Здесь он затронул вопрос, который занимал его еще в Париже, когда все читали книгу маркиза Кюстина: куда идет великая империя? И другой, для историка важнейший: не вошла ли имперская мощь в неодолимое противоречие с основами европейской христианской цивилизации? Обращаясь к собравшимся, он сказал: «Иностранцы приветствуют Россию. Но что же Россия скажет им в ответ? Русские от искреннего сердца пожелают уничтожения нелепого предрассудка, будто бы цивилизация России может быть в ущерб Европе, что мы, завоевательный народ, жаждем чужого. Пусть, вглядевшись внимательнее в настоящее и прошедшее России, они убедятся, что задача ее иная. Ни у одного народа нет меньше побуждений желать чужого: у нас громадная страна, требующая возделания во всех отношениях; станем ли мы желать ее приращения? Наука прежде всего нужна пока; под ее знаменем мы пришли к западноевропейским народам и никогда не покидали этого знамени, которое есть вместе знак мира, знак дружбы между народами».
Закончил Соловьев тостом в честь европейского согласия: «За братство народов Европы, всех и каждого, во имя науки, во имя цивилизации». Слушатели забросали оратора цветами — дождь цветов, кричали «браво!» и в довершение подняли на руки. Триумф! Триумф европейского историка-гражданина!
В Москве к петровскому юбилею готовились загодя. Организаторы торжеств, желая подвести столичную публику к славному событию, предложили Соловьеву выступить перед широкой аудиторией с лекциями об эпохе Петра I: бесплатные публичные чтения в Колонном зале Благородного собрания, куда вмещалось до трех тысяч человек. Обращение к знаменитому историку выглядело вполне естественным. Он был, бесспорно, общепризнанным главой русской исторической науки, крупнейшим специалистом в области новой русской истории, знатоком деятельности Петра I и петровских преобразований. Публичные лекции академика, заслуженного профессора Московского университета должны были оказать целенаправленное воздействие на общественное мнение.
Соловьев без колебаний согласился. Первая лекция состоялась 6 февраля, последняя, двенадцатая — 14 мая 1872 года. Читались лекции по воскресеньям, как правило, вечером, в переполненной аудитории. О первой из них газета «Гражданин» сообщала: «Громадная зала Московского Благородного собрания была переполнена посетителями, которых собралось всех, внизу и на хорах, до 8000 с лишним человек. На лекцию стеклось почти все высшее общество Москвы, присутствовал и г-н московский генерал-губернатор».
Чтения Соловьева производили на публику глубокое впечатление, о чем корреспондент «Всемирной иллюстрации» писал: «Грандиозная личность Петра восстает в воображении во всей ее жизненной красоте, и в душе поднимается гордое сознание, что ни у одного народа не было такого великого человека». Тот же корреспондент, даже теми же словами, отметил другую сторону дела: «Язык лекций не отличается, правда, особенной образностью и красотой, но тем не менее впечатление от них остается сильное: подымается в душе гордое сознание исторического значения нашего народа — сознание собственных сил, которого так недостает нашему обществу».
Вложив все силы души, все мастерство лектора в публичные чтения о Петре Великом, Соловьев достиг многого. Он не просто высказал свой взгляд на Петра I и петровские преобразования, но создал законченное исследование, которое может служить образцом композиции исторического труда. Блестяще владея материалом, ученый привлекал его в той мере, в какой это было полезно для уяснения основных положений.
Каких?
Главная мысль «Публичных чтений о Петре Великом» — утверждение созидательной, творческой роли государственного начала в русском прошлом и настоящем. Соловьев верил в возможность существования в России «народного» государства, крепость которого определяется силой государственной власти. Для него Петр I — «народный царь», «великий учитель народный», «царь-работник», его преобразования — «народное дело». Исторический материал служил Соловьеву для обоснования тезиса о единстве интересов народа и государства, о благодетельности для России сильной самодержавной власти, понимаемой как явление надсословное, надклассовое. Слушатели историка не только знакомились с эпохой Петра I, но и подводились к убеждению в необходимости для современной России крепкой власти.
Крепкой, но либеральной, созидающей. Здесь глубинное содержание «Чтений о Петре Великом», работы, где исторические взгляды ученого наиболее тесно переплелись с его общественно-политическими воззрениями, где отчетливо высказались фундаментальные положения государственной школы. Спор о Петре — всегда современен, и дело заключалось в том, что пореформенная действительность разочаровала Соловьева. Сбывалось «черное предвещание».
В шестидесятые годы он наблюдал, как быстро тускнел идеал «нового общества», как гасли мечты о совместных гармоничных действиях народа и правительства, как усиливалась сословная рознь. В России наступала смута, «уважение ко власти рушилось в самодержавном государстве: никакой системы, никакого общего плана действий, каждый министр самодержавствовал по-своему». Совершенная смута.
Пореформенное развитие страны, казалось, подтверждало верность общей исторической концепции Соловьева, его наблюдений над ролью государства в русской истории. Подтверждало, к сожалению, печальными примерами Над ними историк размышлял на тех страницах «Записок», что писались в семидесятые годы.
Разочарование в действительности, которое непросто было осмыслить любому его современнику, переросло у Соловьева в разочарование крестьянской реформой. Подчеркнем: он был разочарован не в идее, не в принципе реформы, не в ее реальном содержании — он оставался убежденным противником крепостничества! — но в методах ее осуществления.
Реформа разорила помещиков: «Человек, осмелившийся поднять голос за интересы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника, а разве у него была привычка поддерживать свое мнение?» Она привела к обнищанию крестьян, так как не дала им землю: «У прежних землевладельцев отняли собственность и поделили между народом, замазавши дело выкупом, но выкуп был насильственный! Глупые славянофилы торжествовали, не понимая, на чью мельницу они подлили воды: им нужно было провести общинное землевладение! Во многих местах с самого начала уже крестьяне не были довольны наделом, — что же будет с увеличением народонаселения?»
Предоставив крестьянам «свободу», реформа не дала им подлинного «равенства». Экономическую подоплеку отмены крепостного права Соловьев видел в духе демократа Чернышевского — переворот был совершен с обходом самого трудного дела — земельного: «Простого человека свободою опьянить нельзя, ему надобно показать осязательно, что выгоднее; но этого вдруг показать было нельзя; целого установления, сколько-нибудь сложного, он не поймет, он не приготовлен к этому привычкою обращения мысли в широких сферах, школьным и книжным образованием; он озадачит вас вопросом, который покажется вам странным и мелким, но этот вопрос его прежде всего занимает, он об нем думал, а вы не думали и не хотите признать за мужиком права мысли, думания, только не о тех предметах и отношениях, о каких вы думаете. У вас, например, толкуют о том, что англичане привязаны к свободе, француз к равенству; но простой человек всегда привязан к равенству, а не к свободе, потому что свобода отвлеченнее равенства. Скажите простому человеку: «Ты свободен», и он станет в тупик; что он будет такой же, как его барин, — это он поймет, но сейчас спросит: «А имение-то как же? Пополам или все мне?» — и тут не теоретический коммунизм, которого он не понимает и никогда не поймет: ему нет дела до барина; тот может получить от царя (который, по мнению мужика, может все сделать) богатейшее вознаграждение; он ему завидовать не станет, ему нужно только обеспечить себя насчет ближайших земельных отношений».
Что стало следствием освобождения? Картина рисовалась безотрадная: «Зло опеки, зло крепостничества теперь уничтожилось; но надобно было иметь в виду другое зло, зло свободы, — когда человек, свободный от принуждения, станет работать меньше, чем сколько следует, предоставленный одному принуждению, идущему от стремления поддержать свое благосостояние. Но чтоб это стремление было сильно, надобно известное развитие… Вдруг удешевили водку, которая чрез это приобрела название скверной памяти в истории русского общества, название дешевки. Тяжело сказать: появление дешевки было принято простым народом гораздо с большею радостью, чем освобождение; интерес был ближе… Скоро послышались громкие жалобы на совершенное ослабление семейной дисциплины; все крестьянские общественные отправления, хозяйственные распоряжения, суд подчинились господствующему стремлению к пьянству; явилось взяточничество целым миром, продажа правды за ведро вина. В городах та же язва напала на рабочий класс».
Сюда следовало добавить «судорожную промышленную деятельность», горячку обогащения, дороговизну, «манию железнодорожную», безжалостную вырубку лесов… Упреки свои Соловьев адресовал верховной власти, именно она в конечном итоге повинна в том, что не состоялся идеал правового государства, и в России «права никакого, кроме права сильного, и это право основано на деньгах».
Преобразования шестидесятых годов не стали вровень с петровскими потому, что Александр II не ровня Петру I. В разладе виновато правительство с его недостатком «правительственной мудрости». Виноват Александр II, который обнаружил слабость, отсутствие личных качеств, необходимых реформатору, царю-преобразователю.
Памятливый историк и умный наблюдатель современной России выводил замечательные строки: «Крайности — дело легкое; легко было завинчивать при Николае, легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II; но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-e и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель.
Сумятица, шум, возня в обществе, нисколько не приготовленном к повороту на новую дорогу, жившем долгое время одними ожиданиями перемены, но не определившем своих желаний, в чем именно должна состоять перемена, причем в сфере, которой принадлежало руководство и которая упорно удерживала его в своих руках, — совершенная неспособность к руководству, совершенное непонимание самых первых вопросов: что, откуда и куда? Сильные энергиею, способностями, самостоятельностью люди были уничтожены системою Николая».
Не реакция, не пожелание контрреформ, а призыв к крепкой власти, необходимой и при реформах, — основная мысль Соловьева. Историка беспокоили ослабление государственного начала (нельзя же всерьез думать, что его укреплял бессовестный министр Толстой), смута, активность сил, казавшихся ему антигосударственными. Он резко порицал «смелость или дерзость, качества, которые в обществе благоустроенном ведут к виселице, но у нас, в описываемое время, могли повести только к выгодам».
Виноват слабый правитель, но виновато и общество, которое не умеет созидать, не привыкло к созиданию за десятилетия николаевской тюрьмы: «Первое проявление деятельности интеллигенции должно было состоять в ругательстве, отрицании, обличении, и все, что говорило и писало, бросилось взапуски обличать, отрицать, ругать; а где же созидание, что поставить вместо разрушенного? На это не было ответа, ибо некогда было подумать, некому было подумать, не было привычки думать, относиться критически к явлению, сказать самим себе и другим: «Куда же мы бежим, где цель движения, где остановка?» Для подобных вопросов требовались твердость, гражданское мужество; но на эти качества давным-давно спроса не было, их давно перестали поэтому предлагать, они вывелись; была мода — молчать и не думать, и все хотевшие жить по моде молчали и не думали; теперь пришла мода — кричать и отрицать, бранить все существующее, и желавшие жить по моде принялись кричать, бранить, отрицать существующее. В конце концов должны были прийти к одному решению: создать мы не умеем, нас этому не учили, а существующее скверно, и потому надобно разрушить сплошь все — вот наше дело, а там новое, лучшее, создастся само собою».
Выпад против радикалов, нигилистов, революционеров? Несомненно. Соловьев никогда не скрывал отрицательного отношения к революционным преобразованиям. В «Чтениях о Петре Великом» он афористично сказал: «Народы в своей истории не делают прыжков». Была и другая, нравственная причина неприятия революции, на которую когда-то указал Грановский, удачно сославшийся на слова великого Нибура: «Страшно вспомнить о революции, в которой сам принимал деятельное участие. Пойдешь на приступ с самыми благородными, на проломе останешься с мерзавцами. Не забывайте этого урока».
Сдвиг политических настроений Соловьева вправо? Отчасти. С большой долей скептицизма следует принимать соловьевское объяснение: «Раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором». «Перемена декораций» — смена императоров, но ведь и к Николаю I, и к Александру II историк относился сугубо критически. Поправев, он остался либералом, поборником буржуазного преобразования страны.
Но где сила, способная обеспечить это развитие? Политическая незрелость простого народа известна. Русское общество гордится пагубной привычкой к отрицанию. Нет партий, «которые бы выставили разные знамена, вступили в борьбу друг с другом и этою борьбою сдерживали друг друга, сохраняли равновесие и уясняли взгляд общества на известные вопросы». Нет необходимых правовому государству свобод. В канун крестьянской реформы Чичерин перечислил главные начала, нужные для благоденствия России: свобода совести, свобода от крепостного состояния, свобода общественного мнения, свобода книгопечатания, свобода преподавания, публичность всех правительственных действий, публичность и гласность судопроизводства. Всего семь. Сколько исполнилось? И другой вопрос: кому принадлежал почин дела? Правительству, хотя оно и показало свою слабость. Государственная школа права.
В дни петровского юбилея Чижов огорченно писал Ивану Аксакову, отказываясь от самых основ славянофильской политической теории: «Везде народ, общество и государство движут человечество путем истинно человеческих учреждений, у нас учреждения опережают наши человеческие требования. Давно ли мы перестали быть людоедами в образе крепостников, самыми распущенными развратниками в образе помещиков, истинными башибузуками и подлыми рабами в образе бесконтрольных судей, и не мы изменили наш безобразный образ и из себя вызвали сколько-нибудь гражданской свободы… — сами учреждения притянули нас, почти насильно к сколько-нибудь человеческому образу».
На первый план, таким образом, и у Соловьева, историка-западника, и у Чижова, славянофила-промышленника, выходила «самодержавная инициатива», хотя и сохранял свою прелесть давний призыв Чичерина: «Либерализм! Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в России. Это знамя, которое может соединить около себя людей всех сфер, всех сословий, всех направлений. Это слово, которое способно образовать могущественное общественное мнение, если мы только стряхнем с себя губящую нас лень и равнодушие к общему делу. Это слово, которое излечит глубоко проникнувшие язвы, которое изгонит из нас всю внутреннюю порчу, которое даст нам возможность наряду с другими народами и с обновленными силами идти по тому великому пути, которого залог лежит в высоких доблестях русского народа. В либерализме вся будущность России. Да столпятся же около этого знамени и правительство и народ с доверием друг к другу, с твердым намерением достигнуть предположенной цели».
Итак, снова и снова: либеральные меры и сильная власть.
Вопрос о форме государственного устройства представлялся Соловьеву второстепенным, его больше занимало содержание правительственной деятельности. При настоящих условиях неограниченная монархия единственная форма правления, возможная в России и понятная русскому народу. Конституция желанна, но она — дело отдаленного будущего. В абсолютистском государстве он ценил способность к быстрым созидательным действиям. Как при Петре Великом. Ясно, что историзм мышления сыграл с Сергеем Михайловичем недобрую шутку: творческие возможности российского абсолютизма были исчерпаны.
В сущности, Соловьев пришел к утопии, не меньшей, чем утопия Чернышевского. Только у одного она либеральная, у другого — социалистическая. Что ж, утопизм — характерная черта русской интеллигенции.
«Чтения о Петре Великом» подводили итог тридцатилетним размышлениям историка. Еще в далекие сороковые годы он твердо стал на сторону западников в их споре со славянофилами об исторической судьбе России, и едва ли не главным основанием сделанного выбора было несогласие со славянофильской оценкой Петра и его преобразований.
В чем существо тех расхождений, быть может, одних из самых глубоких в истории русской мысли? Знаменитый спор славянофилов и западников о Петре I — спор о революции, о насилии как средстве осуществления политических и общественных преобразований.
В 1832 году молодой Погодин написал о единодержавии Петра: «Во всей истории не было революции обширнее, продолжительнее, радикальнее». Через девять лет в статье «Петр Великий» он утверждал: «Нынешняя Россия, то есть Россия европейская, дипломатическая, политическая, военная, Россия коммерческая, мануфактурная, Россия, школьная, литературная, — есть произведение Петра Великого… Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года. — Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января.
Пора одеваться — наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он; шерсть настрижена с овец, которых развел он.
Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный.
Приносят газеты — Петр Великий их начал.
Вам нужно искупить разные вещи — все они, от шелкового шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам о Петре Великом: одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге.
За обедом, от соленых сельдей и картофелю, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут говорить вам о Петре Великом».
С уваровских позиций учитель Соловьева критиковал «новых судей» царя, которые спрашивают: «Не было ли б лучше, если бы прежняя Россия была предоставлена естественному своему течению или если б преобразование было произведено не так быстро, не с таким насилием?» Погодин выступал против славянофилов.
Неприятие насилия — не просто основа славянофильского либерализма. Здесь — ядро славянофильского миросозерцания. Нил Колюпанов верно сказал о Хомякове: «Он ненавидел насилие и произвол во всех его видах и никогда не мирился с ним, во имя государственных или национальных интересов».
В погодинском взгляде на Петра имелось противоречие, на которое тогда же указал Белинский: «Иные из писавших о Петре, впрочем, люди благонамеренные, впадают в странные противоречия, как будто влекомые по двум разным, противоположным направлениям: благоговея перед его именем и делами, они на одной странице весьма основательно говорят, что на что ни взглянем мы на себя и кругом себя — везде и во всем видим Петра, а на следующей странице утверждают, что европеизм — вздор, гибель для души и тела, что железные дороги ведут в ад, что Европа чахнет, умирает и что мы должны бежать от Европы чуть-чуть не в степи киргизские». Думая нарочитой туманностью суждений сжать нарождавшиеся западничество и славянофильство в тесных пределах уваровских предначертаний, Погодин в действительности невольно способствовал их становлению и четкому отмежеванию от официальной идеологии. Для Погодина и его единомышленников «революция Петра» — весомое доказательство необходимости самодержавия, которое было, есть и долгие годы будет главным, если не единственным источником прогресса в России. В «Историко-политических письмах» периода Крымской войны, когда неотвратимость перемен сделалась общепризнанной, Погодин вновь повторил: «Переворот государственный, революцию начинает у нас первый император… а консерватизм выражается народом». В России, стало быть, революция «снизу» невозможна.
Отвергнув политические выводы Погодина, критикуя его историческую концепцию, славянофилы и западники усвоили ее исходный тезис: современная Россия — «произведение Петра Великого». Отсюда шло и деление России на «древнюю» и «новую», и их противопоставление, и исследование роли народа в русской истории, с чего, собственно говоря, и начались споры сороковых годов, прекрасная ясность которых давно и невозвратно утрачена.
Государственная школа западников превратила погодинскую «зыбкость» русского народа в кавелинское «калужское тесто». Торжествовала мысль о всесилии государства, об оправдании любой «революции сверху», особенно если она имела либеральный, преобразовательный характер. Вопрос о том, что стоили преобразования народу, снимался. Кавелин пришел к утверждению: цель оправдывает средства. Разумеется, высокая, истинно государственная цель — личный произвол Николая I он не брал в расчет. В программной статье «Взгляд на юридический быт древней России» историк писал: «Оправдание эпохи реформ — в ее целях, средства дала, навязала ей сама Русь. Петр действовал как воспитатель, врач-хирург, которых не обвиняют за крутые и насильственные меры. Нельзя было иначе действовать; невозможное теперь, было тогда, по несчастию, необходимо, неизбежно». В насилии над народом виноват прежде всего народ, не народ даже, а «какая-то этнографическая протоплазма».
Разумеется, такой взгляд на народ был невозможен для Герцена, который в 1850 году указывал на невоплощенность иного пути исторического развития: «Россия могла быть спасена путем развития общинных учреждений или установлением самодержавной власти одного лица. События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой, но какой ценою? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара; Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни».
Одновременно Герцен отдал дань погодинскому взгляду на Петра. По его мнению, Петр I был «смелым революционером», «коронованным революционером», «до времени явившимся якобинцем» и «революционером-террористом», в императоре он находил «подлинное воплощение революционного начала, скрытого в русском народе», писал о «революции Петра», смысл которой видел в реформе, преобразовавшей и расколовшей Россию: по одну сторону остались крестьяне и мещане, «старая Россия, консервативная, общинная, традиционная»; новую Россию составили дворяне, чиновники и армия. В этой схеме кое-что шло от Погодина, хотя итог подводился принципиально иной. Если «деревня осталась в стороне от реформы», то грядет новая революция, «сверху» ли, «снизу» ли — остается гадать.
Противная сторона высказывалась иначе. Славянофилы были далеки от официальных восхвалений «революции Петра I», однако, вопреки укоренившемуся мнению, никогда не отрицали исторической неизбежности петровских реформ. В статье «О старом и новом» Хомяков писал: «Явился Петр и, по какому-то странному инстинкту души высокой, обняв одним взглядом все болезни Отечества, постигнув все прекрасное и святое значение слова «государство», он ударил по России, как страшная, но благодетельная гроза». Полемизируя с Белинским, Юрий Самарин в 1847 году спрашивал: «Кому приходило в голову признать случайным явление Петра Великого, его реформу и последующие события до 1812 года? Кто не признавал их исторически необходимыми? Нужно ли повторить еще раз объяснения, почти что поступившие в разряд общих мест? Кажется, незачем». Далее Самарин перечислял «нелепые мысли», которые «произвольно приписаны славянофилам» их противниками: «Реформа Петра убила в России народность и всякий дух жизни. Россия для своего спасения должна обратиться к нравам Кошихина или Гостомысла. Свойство смирения есть русское национальное начало. Любовь есть национальное начало… присущее славянским племенам».
Петровская эпоха находила свое, строго определенное, относительно небольшое место в изощренной историософии славянофилов, в их понимании хода всемирной истории и пути русского исторического развития. В петровских реформах славянофилы прежде всего не принимали насилия, подавления народа государством. В стихотворении «Петр» Константин Аксаков упрекал царя:
Во имя пользы и науки,
Добытой из страны чужой,
Не раз твои могучи руки
Багрились кровию родной.
В том же стихотворении автор обращался к Петру I:
…Гоня пороки русской жизни,
Ты жизнь безжалостно давил.
Мысль открыто полемичного стихотворения К. Аксакова многократно повторялась в исторических изысканиях славянофилов, в их публицистике и художественном творчестве. Насильственный характер петровских преобразований, насильственный разрыв с предшествующим ходом общественного развития, насильственное подражание Западной Европе подрывали, по мнению славянофилов, возможность особого пути исторического развития России. Петр I внес в ход русской истории элемент насилия, разобщил сословия и стал виновником сословной вражды, прежде русскому обществу неизвестной, — вот смысл славянофильской оценки петровских реформ.
Несомненно, что сложную проблему насилия в истории славянофилы понимали метафизически, в ее трактовке использовали прежде всего категории морально-этические. Вместе с тем они верно подмечали свойственную западникам апологетику государственности, недооценку ими роли народных масс в историческом развитии. Насильственный характер деятельности Петра I служил для них отправной точкой в критике современной им действительности, возвращение на особый путь исторического развития России они трактовали как отказ от привнесенного Петром I насилия, характерной для Западной Европы борьбы сословий, антагонизма «земли» и «государства», которые ведут к опасным революционным потрясениям. В строгом соответствии со своими либеральными убеждениями славянофилы критиковали изначальную противоречивость западнической концепции русского исторического развития, которая не только не отрицала, а, напротив, подразумевала неизбежность повторения в России событий, подобных западноевропейским революциям.
После выстрела Каракозова, в котором проявилось «зло нигилизма», Иван Аксаков писал престарелому Погодину: «По моему мнению, обер-нигилист — Петр Великий, а ближайший их родоначальник Николай Павлович. Теперь только всходят посеянные семена… История самый неумолимый кредитор: думаешь начать новое благоденственное житье, а она тут как раз со своими счетами».
Твердо стоя на почве государственной школы, Соловьев в ранних своих работах склонен был смягчать крайности исторических суждений западников и славянофилов. Изучая русскую историю, он подчеркивал преемственную связь двух ее половин, допетровской и послепетровской, что, конечно, противоречило взглядам Хомякова. Вместе с тем он усматривал связь «древней» и «новой» России в росте «народного самопознания» — тезис вполне славянофильский. В подходе к петровским преобразованиям компромисса быть не могло — и Соловьев решительно отверг мнение Константина Аксакова, который осуждал Петра, отклонившего Россию от «естественного хода развития».
В 1863–1867 годах ученый выпустил 13—18-й тома «Истории России», посвященные эпохе Петра I. Обобщив огромный материал, Соловьев создал наиболее полную в русской исторической литературе историю преобразований Петра I, его внутренней и внешней политики. Стержнем всех шести томов стала идея неизбежности, исторической закономерности реформ Петра Великого, которые понимались как революция. В четырнадцатом томе петровские реформы названы «нашей революцией в начале XVIII века», которая «была необходимым следствием всей предшествовавшей нашей истории». Подход —
не погодинский, не герценовский, не славянофильский. Петр, по Соловьеву, не стоял над народом, а шел вместе с ним: «Он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру. Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своею деятельностью известным потребностям народа в известное время».
Интересно его сопоставление реформ Петра I с Великой французской революцией: «Наша революция начала XVIII века уяснится чрез сравнение ее с политическою революцией), последовавшею во Франции в конце этого века. Как здесь, так и там болезни накоплялись вследствие застоя, односторонности, исключительности одного известного направления; новые начала не были переработаны народом на практической почве; необходимость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям; разумеется, следствием было страшное потрясение: во Франции слабое правительство не устояло и произошли известные печальные явления, которые до сих пор отзываются в стране; в России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства».
Основная идея, как видим, неизменна: сильная власть — спасение от потрясений, но эта власть должна стать во главе преобразовательного «революционного», движения.
Далее Соловьев словно бы прямо отвечает Ивану Аксакову, хотя писал он за два года до каракозовского покушения: «Французские историки считают себя вправе плакаться на такой ход дела у себя и с завистью посматривают на соседний остров, где фундамент здания складывался издавна, постепенно и прочно; но пусть же они плачутся на весь предшествовавший ход французской истории, которого революция была необходимым следствием; что не было сделано исподволь, постепенно, и потому легко и спокойно, то приходится делать потом вдруг, с болезненными напряжениями, которые мы называем революциями. И мы имеем право плакаться на нашу революцию, но опять с обязанностью плакаться также на всю предшествовавшую историю, которая привела к той революции, ибо условия здоровья не производят болезни».
Непредвзятый вывод из этого высказывания: Соловьев признавал историческую законность революционного пути общественного развития. Идея революции сопрягалась с идеей закономерности исторического процесса. В этом высшее достижение теоретической мысли ученого, которое совсем не случайно совпало во времени с коротким периодом социального оптимизма первых пореформенных лет, когда у историка сохранялись надежды на создание в России правового государства.
Правда, рассуждая о революции, Соловьев различал народную революцию и революцию «сверху». Иными словами, он противопоставлял революционному насилию масс насилие правящих верхов, которые, твердо проводя радикальные перемены, реформы, могут вывести государство из кризиса. Но могут — пример Людовика XVI — и ввергнуть страну в хаос. В конечном счете все решает личность, великая или жалкая, за которой идут народы. В России был Петр, и революционное движение, начатое «сверху», благополучно совершилось, не перейдя в «известные печальные явления». Могучая воля Петра устранила все опасности.
Налицо некоторое неустраненное противоречие: историк исходил из предпосылки о естественности и необратимости петровских преобразований, «народного дела», а пришел к упованию на мудрое и сильное правительство, на великую личность. Какова историческая роль народа? Что побуждает власть идти на реформы: народное недовольство, мнение просвещенного меньшинства, пример других государств? Где гарантии необратимости преобразований? На вопросы, которые неизбежно возникают при чтении петровских томов «Истории России», четкого ответа ученый не дает.
В «Чтениях о Петре Великом» Соловьев сохранил идею исторической обусловленности петровских реформ, выразил ее ясно и аргументированно. Но изменение общественно-политической ситуации в стране сказалось на его научных построениях, из которых изъята мысль о закономерности революционных переворотов. Дело Петра есть результат «органического» развития русского народа. Петр — «богатырь новой России», чьи преобразования дали русскому народу возможность перейти из одного возраста народной жизни, в котором господствовало чувство, в другой, период господства мысли и той великой силы, что зовется наукой. Подспудно Соловьев подчеркивал эволюционный характер этого перехода: «Необходимость движения на новый путь была сознана; обязанности при этом определились; народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился».
Петровскую Россию историк сравнивал с Западной Европой эпохи Возрождения и уже не упоминал о Великой французской революции. Главным стал тезис о естественном «органическом» ходе событий, итогом которого должна стать цивилизация страны: «Петр работник, Петр с мозольными руками — вот олицетворение всего русского народа в так называемую эпоху преобразования. Здесь не было только сближения с народами образованными, подражания им, учения у них; здесь не было только школы, книги — здесь была мастерская прежде всего, знание немедленно же прилагалось, надобно было усиленной работой, «пребыванием в работе» добыть народу хлеб насущный, предметы первой необходимости. Народы в своей истории не делают прыжков: тяжкая работа, на которую был осужден русский народ в продолжение стольких веков, борьба с азиатскими варварами при условиях самых неблагоприятных, борьба за народное существование, народную самостоятельность кончилась — и народ должен был естественно перейти к другой тяжелой работе, необходимой для приготовления к другой деятельности, деятельности среди народов с другим характером, для приготовления себе должного, почетного места между ними».
Соловьев не отказывается от прежних высказываний о «революции Петра», он просто снимает проблему насилия и уводит слушателей (и читателей) в дебри древних споров о России и Европе. Труд Петра — труд европеизации России, в которой заинтересован русский народ. Больше, чем прежде, Соловьев склонен возвеличивать Петра, чей гений проявился в умении поднять народ на дружную совместную работу. Петровская «палка» не забыта, но она не главное. В семидесятые годы для историка необычайно важна мысль о согласии, которого нет в современном обществе, но без которого Россия обречена на потрясения. Со страниц «Чтений о Петре» веет старым славянофильством.
Теория «органического» развития, уподобление народа «органическому телу» свидетельствовали о воздействии на ученого идей позитивизма, которые в исторической науке не были плодотворными. Два возраста народной жизни… Удобно, коль нет охоты говорить о «прыжках» (совсем забыт гегелевский «скачок»?), о революции, но что ждет народы на исходе «второго возраста»? Что станется с Европой? Что с Россией, которая — здесь Соловьев тверд — есть часть Европы?
В 1872 году ученый склонен подчеркивать необыкновенную силу русского народа, которая особенно проявилась при движении на Запад, при встрече с тамошними цивилизованными народами. Русский народ выдержал натиск европейской культуры: «В первую половину своей истории он долго вел борьбу с Азией, с ее хищными ордами, выдерживая их страшные натиски и заслоняя от них Западную Европу, долго боролся он с ними из-за куска черного хлеба. Вышедши победителем из этой борьбы, он смело ринулся на другую сторону, на Запад, и вызвал чародейные силы его цивилизации, чтобы и с ними помериться. Вызов был принят, и страшен был натиск этих чародейных сил; это уже не был материальный натиск татарских полчищ, это был натиск потяжелее, ибо это был натиск духовных сил, натиск нравственный, умственный».
Величие русского народа в том, что при самых неблагоприятных условиях он оставался народом христианским и благодаря петровским преобразованиям стал достойным членом европейской христианской цивилизации. «Чтения о Петре» историк завершил добрым пожеланием: «Да проходит же народ наш школу жизни, как Петр Великий проходил свою многотрудную школу, и народ наш долголетен будет на земле».
Но пожелание — не ответ. Давний читатель философских сочинений в последние годы жизни пытался соединить идею исторического прогресса с теорией «двух возрастов». Ничего не вышло.
О том, в каком направлении шла мысль старого ученого, воспитанного на философии истории Гегеля с ее движением абсолютного духа, рассказал его сын Владимир. В небольшой заметке «По поводу последних событий», которая была опубликована посмертно и стала как бы завещанием мыслителя, он писал: «Что современное человечество есть больной старик, и что всемирная история внутренне
кончилась — это была любимая мысль моего отца, и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: «Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы отыщешь? Те, островитяне, что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы. Или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту». А когда я, с увлечением читавший тогда Лассаля, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., то мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу как сейчас».
От себя Владимир Соловьев добавил: «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно».
Предчувствие мировой катастрофы, осмысляемой в образах Апокалипсиса, ожидаемое крушение европейской христианской цивилизации — трагический удел Владимира Соловьева.
Удел, доставшийся в наследие от отца, по его духовному завещанию?
Не знаю.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. М. СОЛОВЬЕВА
В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли. Вистории нашей науки и литературы немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева.
В. О. Ключевский
1820, 5 мая — В семье московского священника Михаила Васильевича и его жены Елены Ивановны родился сын Сергей.
1828 — Сергей записан в духовное уездное училище.
1830–1833 — Неоднократное, запойное чтение «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.
1833 — Сергей Соловьев принят в третий класс Первой московской гимназии.
1838 — Окончание гимназии с серебряной медалью и поступление на историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета.
1838–1842 — Слушание лекций М. Т. Каченовского, М. И. Погодина, Д. Л. Крюкова, С. П. Шевырева, Т. Н. Грановского, знакомство с Аполлоном Григорьевым и членами его студенческого кружка, чтение книги Эверса и начало разработки родовой теории.
1842 — Сдав выпускные экзамены в университете, Соловьев принимает предложение попечителя графа С. Г. Строганова ехать за границу в качестве домашнего учителя в семействе графа А. Г. Строганова.
1842, июль — 1844, сентябрь — Соловьев путешествует по Пруссии, германским землям, Австрийской империи, Бельгии и Франции, два зимних сезона живет в Париже, слушает лекции в Берлинском университете, в Сорбонне и Гейдельберге.
1843 — В журнале «Москвитянин» напечатана статья Соловьева «Парижский университет: Письмо из Праги от 23 июня 1843 года».
1845, январь — Сдача магистерских экзаменов.
1845, сентябрь — Начало преподавательской работы Соловьева в Московском университете.
1845, октябрь — Защита магистерской диссертации.
1845 — Сближение с Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным и другими молодыми профессорами-западниками.
1847, июнь — Защита докторской диссертации.
1847, октябрь — Соловьев утвержден экстраординарным профессором Московского университета.
1847 — Начало сотрудничества в журнале «Современник».
1848, 11 февраля — Свадьба Поликсены Владимировны Романовой и Сергея Михайловича Соловьева.
1848 — Начало сотрудничества в «Отечественных записках».
1849, 1 января — Рождение у П. В. и С. М. Соловьевых сына Всеволода.
1850, 18 января — Рождение дочери Веры, крестницы К. С. Аксакова.
1850, июль — Соловьев становится ординарным профессором Московского университета.
1851, февраль — март — Публичные лекции профессора Соловьева «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого».
1851, август — Выход в свет первого тома «Истории России с древнейших времен».
1853, 16 января — Родился четвертый ребенок Соловьевых, сын Владимир.
1855, январь — Речь «Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове» на столетнем юбилее Московского университета.
1855, ноябрь — Соловьев утвержден деканом историко-филологического факультета Московского университета.
1856 — В первом номере «Русского вестника» напечатана статья «Древняя Россия».
1857 — «Шлецер и антиисторическое направление».
1858 — «Исторические письма».
1859–1861 и 1862–1863 — Соловьев преподает русскую историю наследнику престола великому князю Николаю Александровичу.
1861, осень — Волнения студентов Московского университета.
1861, 30 октября — Смерть М. В. Соловьева.
1861–1862 — Соловьев — член правительственной комиссии по университетскому вопросу.
1862, 16 апреля — Рождение девятого ребенка Соловьевых, сына Михаила.
1863 — «История падения Польши».
1864, декабрь — Избрание членом-корреспондентом Академии наук.
1866, январь — март — Соловьев читает лекции по русской истории наследнику престола великому князю Александру Александровичу.
1866, декабрь — Речь «Исторические поминки по историке» на столетнем юбилее Н. М. Карамзина.
1866 — Начало сотрудничества в «Вестнике Европы».
1866–1868 — «Бунт» шести профессоров Московского университета.
1867, 20 марта — Рождение последнего, двенадцатого ребенка Соловьевых, дочери Поликсены.
1867 — Смерть Е. И. Соловьевой.
1868, май — Соловьев назначен инспектором классов Николаевского сиротского института.
1868 — «Прогресс и религия».
1868–1876 — «Наблюдения над историческою жизнью народов».
1869, июнь — Уход с должности декана.
1870, апрель — Соловьев назначен директором Оружейной палаты.
1870, осень — 25-летие служебной деятельности Соловьева в университете, он утвержден в звании заслуженного профессора.
1870, декабрь — Избранив ректором Московского университета.
1871–1872 — Работа по подготовке Политехнической выставки в Москве.
1872, февраль — май — Публичные чтения о Петре Великом.
1872, март — Избрание ординарным академиком Академии наук.
1872, май — июнь — Соловьев участвует в праздновании 200-летнего юбилея Петра I.
1875 — Издание двадцать пятого тома «Истории России с древнейших времен».
1875–1876 — Соловьев — член комиссии по пересмотру университетского устава.
1876, ноябрь — Торжества в университете по случаю 25-летия «Истории России».
1876 — «Восточный вопрос 50 лет назад».
1877, май — Увольнение согласно прошению от службы в университете.
1877 — «Император Александр Первый: Политика — Дипломатия». «Начала русской земли».
1878 — Избрание почетным членом Московского университета, чтение лекций на правах «стороннего преподавателя».
1879 — Соловьев избран председателем Общества истории и древностей российских.
1879, 21, 22 и 24 сентября — Продиктованы последние страницы двадцать девятого тома «Истории России с древнейших времен».
1879, 4 октября — Смерть С. М. Соловьева.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Сергей Михайлович Соловьев. Фото.

Вид дома на Остоженке в Москве, где родился С. М. Соловьев.
Современное фото.
Мемориальная доска на доме на Остоженке. Современное фото.

Москва. Москворецкий мост. Литография 1830-х гг.

Дом на Волхонке, где помещалась Первая московская гимназия. Современное фото.

Московский университет. С акварели Г. И. Барановского. 1848.

В аудитории университета.
Рисунок 1840-г гг. Неизвестный автор.

Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864).
Рисунок Ф. А. Бруни. 1846.

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885).
С акварели 1840-х гг.

Николай I (1798–1855).
Литография Майера по рис. Крюгера.

Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882).
Гравюра 1880-х гг.

Сергей Семенович Уваров (1786–1855).
С картины худ. Т. Дица.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856).
Рис. А. Вивьена. 1823.

Степан Петрович Шевырев (1806–1864).
Литография Н. Бахмана с фото А. Бергнера.

Вид Парижа. Литография первой половины XIX в.

Луи-Филипп (1773–1850).
Гравюра.

Франсуа Гизо (1787–1874).
Литография А. Делароша.
СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ

Алексей Стенанович Хомяков (1804–1860). Автопортрет. Масло.

Дмитрий Александрович Baлуев (1820–1845).
Копия карандашом с акварели Р К. Горбунова. 1839.

Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860).
Фочо А. Бергнера. 1850-е гг.
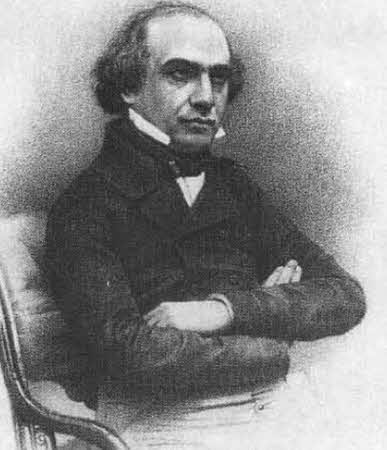
Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855).
С дагерротипа Даутендея. 1840-е гг.

Петр Николаевич Кудрявцев (1846–1858).
Гравюра с рис. Ф. Торопова.

Петр Григорьевич Редкин (1808–1891).
Литография 1840-х гг.

Профессор Соловьев читает лекцию.
Рисунок неизвестного автора. 1847.

Титульный лист магистерской диссертации С. М. Соловьева.
1845.

Дмитрий Павлович Голохвастов (1796–1849).
Неизвестный художник. Масло.

Заседание в Люксембургском дворце комиссии по труду в 1848-м.
С литографии.

Первая страница статьи С. М. Соловьева.

Платон Александрович Ширинский-Шахматов (1790–1853).
Литография К. Жуковского.

Авраам Сергеевич Норов (1795 180!)).
Литография А. Бореля с фото С. Л. Левицкого.

Никита Иванович Крылов (1807 1879).
Литография В. Бахмана с фото А. Бергнера.

Николай Васильевич Калачов (1819–1885)
Литография В. Бахмана с фото А. Бергнера.

Автограф речи С. М. Соловьева «Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове», произнесенной 12 января 1855 года.

Дом Пашкова.
Гравюра середины XIX в.

Здание Благородного собрания.
Литография Л. Гудона.
РУССКИЕ ИСТОРИКИ

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826).
Литография.

Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842).
С гравюры Г. Грачева.

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846).
Рис. неизвестного художника.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875).
Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова.

Николай Иванович Костомаров (1817–1885).
Литография Мюнстера.

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897).
Гравюра 1880-х гг.

Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873).
Литография Н. Бахмана с фото А. Бергнера.

Василии Осипович Ключевский (1841–1911).
Фото.

Журналы, где сотрудничал С. М. Соловьев.

Владимир Иванович Герье (1837–1919).
Фото.

Юрин Федорович Самарин (1819–1876).
Фото.

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903).
Фото.

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900).
Фото 1870-х гг.

Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–1924).
Фото.

Автограф докладной записки С. М. Соловьева о пересмотре университетского устава. 1863.

Александр II (1818–1881).
Гравюра Метцмахера. 1860.

Сергей Иванович Варшев (1808–1882).
Литография В. Нахмана с фото Л. Бергнера.

Михаил Никифорович Катков (1818–1887).
Литография В. Бахмана с фото А. Бергнера.

Борис Николаевич Чичерин (1828–1904). Фото.

Сергей Александрович Рачинский (1835–1902). Фото.

Федор Михайлович Дмитриев (1829–1894). Фото.

Михаил Николаевич Капустин (1828–1899).
Литография И. Бахмана с фото А. Бергнера.

Сергей Михайлович Соловьев.
Гравюра Л. А. Серякова по рис. П. Ф. Бореля.

Петр I (1672–1725).
Неизвестный художник XVIII в.

Чтение С. М. Соловьева о Петре Великом в нале Дворянского собрания в Москве. 1872.
Гравюра К. Вейермана с рис. Г. Вролинга.

200-летний юбилей со дня рождения Петра Великого в Петербурге 28 мая 1872 года. Перевозка Петровского ботика.

Автограф речи С. М. Соловьева, сказанной при открытии в Московском университете памятника М. В. Ломоносову 12 января 1877 года.
Могила С. М. Соловьева в Новодевичьем монастыре.
Современное фото.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Сочинения С. М. Соловьева
Отдельные тома основного труда Сергея Михайловича Соловьева «История России с древнейших времен» выходили с 1851 по 1893 год. Каждый том имел от одного до шести изданий. Трижды «История России с древнейших времен» печаталась полностью издательством «Общественная польза», Петербург, в 1893–1911 годах. Следующее полное издание «Истории России» было предпринято в Москве в 1959–1966 годах. В 1988 году начато 18-томное издание трудов Соловьева, куда, помимо «Истории России», должны быть включены некоторые другие его работы.
Кроме того, сочинения Соловьева вошли в книги:
Соловьев С. М. Сочинения. Спб., 1882.
Соловьев С. М. Собрание сочинений. Спб., 1901.
Соловьев С. М. Избранные труды. Записки, М., 1983.
С. М. Соловьев. Персональный указатель литературы. М., 1984.
Литература о С. М. Соловьеве
Аксаков К. С. Замечания на статью г. Соловьева «Шлецер и антиисторическое направление». Поли. собр. соч. М., 1889, т. 1.
Аксаков К. С. Несколько слов о русской истории, возбужденных «Историей» г. Соловьева: По поводу 1 тома. — Там же.
Безобразов П. В. С. М. Соловьев: Его жизнь и научнолитературная деятельность. Биографический очерк с портретом. Спб., 1894.
Бестужев-Рюмин К. Н. С. М. Соловьев: [Лекция, прочитанная в С.-Петербургском университете 3-го нояб. 1879 г.1 — В кн.:
Бестужев-Рюмин К. Н. Биографии и характеристики. Спб., 1882.
Герье В. И. Сергей Михайлович Соловьев. — Исторический вестник, 1880, т. 1, № 1.
Дмитриев С. С., Ковальченко И. Д. Историк Сергей Михайлович Соловьев, его жизнь, труды, научное наследство. — В кн.:
Соловьев С. М. Сочинения. М., 1988, т. 1.
Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980.
Ключевский В. О. Памяти С. М. Соловьева. Соч. М., 1959, т. 8.
Ключевский В. О. Сергей Михайлович Соловьев. Соч. М., 1959, т. 7.
Милюков П. Н. Юридическая школа в русской историографии: (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич). — Русская мысль, 1886, кн. 6.
Пресняков А. Е. С. М. Соловьев в его влиянии на развитие русской историографии: Речь на публичном заседании Союза архивных деятелей в память С. М. Соловьева 1 июля 1920 г. — В кн.: Вопросы историографии и источниковедения истории СССР: Сб. ст. М.—Л., 1963.
Пушкарев Л. Н. «Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьева как памятник исторической и общественно-политической мысли. — В кн.:
Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984.
Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941.
Цамутали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века.
Л., 1977.
Цимбаев Н. И. С. М. Соловьев и его научное наследие. — В кн.:
Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983.
Черепнин Л. В. С. М. Соловьев как историк. — В кн.:
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15-ти кн. М., 1959, кн. 1.
INFO
Цимбаев Н. И.
Ц 61 Сергей Соловьев. — М.: Мол. гвардия, 1990.— 366[2] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 709).
ISBN 5-235-01339-5
Ц 4702010201-170/078(02)—90 Без объявл.
ББК 63.3(2)51
ИВ № 6926
Цимбаев Николай Иванович
СЕРГЕИ СОЛОВЬЕВ
Заведующий редакцией С. Лыкошин
Редакторы Е. Бондарева, А. Никитин
Художественный редактор С. Курбатов
Технический редактор Н. Теплякова
Корректоры Т. Пескова, Н. Самойлова, Е. Дмитриева
Сдано в набор 01.12.89. Подписано в печать 16.05.90. А02794.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 19,32+1,68 вкл. Условн. кр. — отт. 24, 78. Учетно-изд. л. 22,7. Тираж 150 000 экз. (75 001–150 000 экз.). Цена 1 р. 80 к. Заказ 2772.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес НПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.
Примечания
1
Да остерегутся консулы
(лат.).
(обратно)
Оглавление
ГЛАВА I
В ДОМЕ НА ОСТОЖЕНКЕ
ГЛАВА II
СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГЛАВА III
В ЧУЖИХ КРАЯХ
ГЛАВА IV
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГЛАВА V
«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»
ГЛАВА VI
ДЕКАН И РЕКТОР
ГЛАВА VII
ЧТЕНИЯ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. М. СОЛОВЬЕВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
INFO
*** Примечания ***