Марек Краевский
Числа Харона
Куда мы не можем войти сами, добираемся с помощью математики. Создаем из нее транспортные средства и передвигаемся в жестоких мировых просторах.
Станислав Лем, «Фиаско»
Пролог
Осло 1988
Телеведущий Сверре Осланд пренебрежительно смотрел на своего неряшливого собеседника в вельветовом костюме и коротких носках. Он ничуть не был убежден, что сегодняшняя передача действительно, как горячо уверял шеф, чрезвычайно важна для его карьеры на телевидении. Втайне Сверре мечтал о циничных интервью для программы «Один на один», которую транслировали по воскресным утрам на недавно созданном частном канале «ТВ Норге», или анонсировании субботних передач на своем НРК1. Стоило несколько раз затянуться конопляным дымом, как Осланда начинали преследовать потрясающие картины его славы, низко налогооблагаемых швейцарских счетов и смуглых экзотичных женщин — страстных, развратных, которые с покорностью рабынь ожидали сексуального унижения. Он был нетерпелив и любые служебные распоряжения, выполнение которых не сулило доступа к скоростному лифту, готовому доставить его на вершину карьеры, воспринимал как неизбежное зло. Пренебрежительно фыркал, когда начальство поручало провести утреннюю телепередачу для дошкольников, с трудом сдерживал желание зевнуть во время дурацких журналистских расследований и не мог удержаться, чтобы не исправить ошибки в высказываниях пенсионеров, с которыми он обсуждал, например, рост цен. Как-то сделал это настолько демонстративно, злобно и агрессивно, что за свой поступок поплатился полугодовой ссылкой на региональное телевидение в Стафангер. Для Осланда был мучительный и поучительный урок. Отбыв наказание, он вернулся в Осло, поджав хвост, а на его рабочем столе с тех пор красовалась латинская пословицы в рамке: «Per aspera ad astra»
[1].
Вернувшись, он уже за несколько недель грустил за разговорами с детьми и пенсионерами. Отныне по вторникам ему поручали вести в прямом эфире беседы с учеными перед показами научно-популярных фильмов. Эти интервью уже не были скучными. Они были небезопасными. Это могло скомпрометировать и уничтожить его, хотя новый шеф с неискренней улыбкой уверял Сверре, что это уникальная возможность вернуть себе доброе имя после недавнего провала. Журналист чувствовал острое унижение и был вынужден благодарить и вежливо улыбаться, а потом тратить кучу времени на подготовку к скучной с каким-нибудь экономистом, биологом или философом, которых вместе с их научно-популярными фильмами невозможно было сравнить с детективным сериалом на втором государственном канале. Поэтому пришлось подавить раздражение, забыть про развратных рабынь и голливудскую славу и всматриваться в толстые стекла очков своих разгильдяев собеседников, которые отличались невероятно высоким мнением о собственных талантах. Осланд все чаще ошибался и все небрежнее готовился к разговорам, презирая труд дежурных репортеров, которые доставляли ему горы профессиональных материалов. В кулуарах начали поговаривать, что Сверре Осланду конец, и на его место уже нашелся молодой преемник, которого шеф недавно отыскал в каком-то гей-клубе.
Сейчас, когда он смотрел на своего собеседника, эти перешептывания превратились в мощную какофонию. На этот раз ученым оказался математик, который семь лет назад эмигрировал из Польши, работал в университете в Трондгайме и получил престижную премию Норвежского математического общества.
Если все предыдущие дискуссии были хорошо спланированными шефом ловушками, то нынешняя неуклонно предвещала Сверре нокаут. Во-первых, норвежский язык математика никак нельзя было назвать идеальным, однако тот ни за что не желал говорить на английском, утверждая, что отказ от использования языка гостеприимной страны, которая дала ему возможность семь лет вести достойную жизнь и сделать огромную научную карьеру, была бы страшной бестактностью относительно его благодетеля, норвежского правительства. Во-вторых, гость передачи оказался на удивление дерзким и о собственном решении говорить на норвежском заявил еще раньше, прибегая к простецким, даже грубиянским словам и стукнув кулаком об стол. В-третьих, математик происходил из страны и города, о которых Осланд не имел малейшего представления, а информация про Польшу и Вроцлав, которую принесли ему за несколько часов до эфира, оказалась настолько скупой и полной стереотипов, словно ее собрали среди фермеров, у которых поляки работали на плантациях клубники. В-четвертых, знание Сверре Осланда о математике ограничивались элементарной арифметикой, кроме того, к «королеве наук» он еще со школы питал глухую и непреодолимую ненависть. И, наконец, в-пятых, Осланд не успел посмотреть анонсированный фильм и знал о нем лишь то, что сюжет содержит детективную загадку. Стиснув зубы, он пытался расслабиться и обратился к своему первоначальному плану, чтобы избежать любых возможных неприятностей.
Решил сначала избавиться от речевых проблем и в самом начале задал польскому профессору сложный вопрос. Радостно усмехаясь, Сверре поинтересовался, не считает ли лауреат, что награждение норвежской премией ученого, который работает в норвежском университете, это проявление кумовства. Его собеседник, как Осланд и предполагал, не понял последнего, того наиважнейшего слова, и отвечал настолько туманно и непонятно, что журналист потерял терпение.
— Уважаемые дамы и господа! — гость программы неожиданно обратился к камере. — Я говорю по-норвежски, потому что хочу продемонстрировать уважение к моей новой родине, — математик забавно скривился и хлопнул себя ладонью по бедру, — но таких идиотских вопросов просто дольше не выдержу! Договоримся так, Сверре, — он ткнул в того пальцем с криво обрезанным ногтем, — дурацкие вопросы будешь задавать на английском, а умные — на норвежском.
— Тогда придется пригласить переводчика, который последовательно будет переводить с английского, — улыбнулся Осланд, — поскольку я математический невежда и буду задавать вам глупые вопросы.
— Ну, необязательно расспрашивать про математику.
— Вы наш гость, поэтому мы должны выполнять ваши просьбы. — Осланд удовлетворенно отметил свою первую маленькую победу. — Итак, мы не будем говорить про математику, хотя она является основой документального фильма, который сейчас будут смотреть наши уважаемые зрители. Поговорим про Польшу, вашу первую родину. И про вашу малую родину, город Вроцлав.
— Я родился не в Вроцлаве, — возразил математик. — Вы бы могли лучше подготовиться.
Осланд почувствовал, что жара от телевизионных юпитеров сделалась невыносимой. Он потел, как мышь. Через мгновение пот выступит на его загримированном лице, на светлом, изысканно скроенном пиджаке. «Да, — подумал он. — Это нокаут. Ассистенты подсунули мне неверную информацию про этого сукиного сына».
— А где? — спросил он спокойно.
— Я родился в прекрасном европейском городе, во Львове, — сказал математик и вытер вспотевший лоб.
Удар оказался метким. Точно в цель. Журналист тщетно силился вспомнить хоть что-то про какие-нибудь польские города. Однако в голове крутилась только полученная информация про Вроцлав и очень поверхностная — о польскую столицу, Варшаву. В его рейтинге Польша разве что на бал опережала Анголу, потому что там он мог назвать только один город, столицу Луанду, и еще на два балла Патагонию, потому что Сверре не вспоминал названия ни одного патагонского города, если они вообще существовали. Сейчас надо было скрыть собственную неосведомленность, шуткой или какой-то шутовской выходкой замаскировать конфуз. Или притвориться, будто ты сдаешься, извиниться и подмигнуть зрителям, мол, видите, с каким напыщенным задавакой приходится иметь дело.
— Не всем телезрителям известен этот славный польский город, — Осланд выбрал второй вариант. — Но, может, вы нам что-то про него расскажете?
— Действительно, неизвестен! — воскликнул ученый. — Видимо, они даже не знают, что этот город больше не польский! Теперь это советский город, искалеченный, разрушенный и подавленный московским режимом, город, который выдрали у Польше 17 сентября 1939 года, город, из которого по войне выгнали поляков, то есть лишили его души! Можете себе такое представить? Это именно то, что шведы отобрали бы у норвежцев Осло, присоединили к Швеции и выгнали оттуда всех норвежских жителей! И я должен все это рассказывать? У нас достаточно времени? — спросил он, обращаясь к камерам и, увидев кивок остолбеневшего оператора, немедленно ответил сам себе: «Так! Конечно! Я расскажу вам сейчас о городе без души. Кто же еще это сделает, если не я?»
Осланд не верил собственным ушам и глазам. Его предсказание поражения оказалось необоснованным. Все зрители запомнят крикливого безумца и спокойного журналиста, который, как мог, защищался от дерзкого психа. Он облегченно вздохнул. Пот испарился так же быстро, как и появился. Сверре смотрел на своего собеседника, который вдруг показался ему даже симпатичным, а его костюм — тщательно отобранным. Фиолетовый шейный платок гармонировал с серым вельветовым костюмом, который, однако, был слишком теплым для лето и еще и требовал глажки. На запястье поблескивали дорогие часы, на пальце блестело массивное кольцо, видимо, из белого золота. «Как я мог подумать, что он неряха, — думал Осланд. — Да он почти денди! А этот его взрыв и речь, которую он произнес практически без ошибок, лишат меня всех проблем, и не придется задавать ему никаких вопросов! А если кто-то и упрекнет меня пассивностью, я скажу: попробуй-ка сам перебить такого ненормального!»
Профессор дернул свой шейный платок. Немного ее отпустил, не прекращая при этом говорить. Его фразы становились все изысканнее, даже рискованными, так, словно его языковая ловкость и образность высказывания росли вместе с эмоциями.
— Предвоенный Львов был столицей европейской математики! — воскликнул профессор, а потом внезапно успокоился и продолжил почти шепотом, но это был сценический шепот, который привлек внимание Осланда, оператора и зрителей не меньше, чем крик. — Понимаю, что скажу сейчас нечто очень необычное, но я все-таки это сделаю… Если бы я не родился во Львове, то не оказался бы здесь и не получил бы этой премии, которую сравнивают с Нобелевской для математиков. Не годы обучения во Вроцлаве среди руин, не четкие доказательства в области теории чисел, которые я совершал уже как ученый в вроцлавском общежитии, в духоте, окруженный тараканами, что вылезали из раковины, даже не стерильные года в Норвегии сделали меня математика. Я стал им благодаря своему львовскому происхождению. Вот почему я так бурно отреагировал, когда вы сказали, будто я родом из Вроцлава…
«Плохо, — подумал Осланд, — этот тип становится кротким, почти извиняющимся. Теряет свою агрессивную суть. Надо его немного разозлить, чтобы сохранить наши роли: культурный журналист против разъяренного напыщенного задаваки».
— Насколько мне известно, — он воспользовался паузой, что ее сделал профессор, — источником генов являются родители, а не место рождения.
—
Genius loci[2], конечно, никак не связанный с генетикой, — смиренно сказал математик, — разве что этимологически. Однако остается неким образом закодированным в каждой мозговой клетке, создавая необъяснимые до сих пор цепи информации.
— Трудно это представить, — Осланд немедленно обошел эту тему, — что дух места является математическим и что львовяне жили математикой, которая проникла, если можно так выразиться, в их кровь…
— Ба! — прервал его профессор. — Люди жили математикой и умирали за нее. То было дело жизни и смерти. Она могла оживить и нанести смертельный удар. Словно тот вирус, который убивает, но другим разом становится вакциной…
— Если уважаемые зрители желают узнать больше про смертоносную львовскую математику, — на этот раз Осланд вмешался, потому что на огромных студийных часах увидел, что время на разговор исчерпано, — то приглашаю вас посмотреть очень интересный документальный фильм, который называется «Числа Харона».
Погасли фонари камер. В студии воцарилась тишина. Один из операторов камеры показал Осланду поднятый большой палец. Остальные поздравляли его с победой. Сверре закрыл глаза и сразу забыл про город, которому вырвали польское сердце, про математику и сложную судьбу Восточной Европы, которую воспринимал как огромный славянский конгломерат под протекторатом России. Когда в студию зашел шеф, чтобы поздравить его и одарить слюнявым поцелуем Иуды, Осланд мысленно был на южных островах, окруженный темнокожими рабынями.
Число ведьмы
(…) я (…) потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения!
Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»[3]
І
Ему было жутко неудобно в тесном углу на грязном чердаке. Он дрожал, когда пауки щекотали своими лапками его голые икры, едва слышно ругался, когда вода, которая капала с крыши, стекала за шиворот, дрожал от отвращения, когда у него над головой разгуливали голубиные паразиты, гадкие плоские блохи, способные покусать до крови. Сначала он прижигал их зажигалкой, однако и это развлечение быстро ему надоело.
Он озяб, съежившись в неестественной позе уже много часов. Прийти сюда пришлось рано утром, когда жильцы еще спали. А потом он стал ждать. Сомнительным разнообразием бесконечных часов были разве что глупые разговоры двух учеников украинской школы «Народный дом», которые сбежали с уроков и сейчас курили в своем безопасном укрытии. Потом их вытурила дородная служанка, которая, развесив выстиранное белье, тут же удовлетворила бородатого постояльца, который прибежал за ней, предварительно расстегнув ширинку. Ни неотесанные курильщики, ни лычаковский Ромео, который обнимал на опрокинутой лохани свою Джульетту, не заметили, как он спрятался в темном углу за старой ванной, подставленной, чтобы туда во время дождя стекала вода с дырявой крыши.
А потом не было никаких развлечений. Он шипел от боли в затекших ногах и одновременно радовался, что скоро схватит-таки старуху. Да, она придет сюда вовремя, ее толстые, как у слона, ноги преодолеют выщербленные ступени, а сама бабка, запыхавшись, постучит в дверь так, как они и договорились заранее. А потом удалится боковыми дверями в грязную и вонючую голубятню. Наверное, не сморщит от отвращения нос, ведь ее тело — это настоящий рассадник паразитов, а грязь аж отслаивается со складок давно немытой кожи! Пожалуй, захлопает косыми глазками и оглянется с глуповатой улыбкой. Осмотрится, а потом закинет голову назад. И тогда он воплотит свой план.
Ждал.
Постепенно разжигал собственное возбуждение.
И дождался. Около пяти вечера на лестнице послышались шаги. Сопение стихало, когда ее подкованные железом ботинки стучали по ступеням, шумело, когда она останавливалась между этажами, чтобы набрать воздуха в астматические бронхи.
Осталось несколько ступенек.
Стиснув зубы от отвращения, он вошел сквозь металлическую дверцу в помещение, покрытое несколькосантиметровым слоем голубиного помета. Птицы на жердях неспокойно шелохнулись, однако не убегали в сторону открытого окна. Эти жирные твари не боялись людей и знали их привычки. Сначала слетались тучей на двор расположенной поблизости фабрики рыбьего жира и купальных солей «Гален», и там во время обеденного перерыва позволяли рабочим и служащим подкармливать себя хлебными крошками. Затем заполняли небольшой стадион за женской учительской семинарией на улице Сакраменток, где в течение большого перерыва садились ученицам на плечи, мельтешили под ногами, а потом, сытые и сонные, возвращались в свою голубятню.
Этот закоулок раньше принадлежал владельцу дома. Он соединялся с общим чердаком маленькими дверями, однако имел отдельный выход на лестницу. Если бы не вонь и помет, это был бы идеальный закоулок для тайных свиданий. Незнакомец хорошо знал это место. И все запланировал.
Потер заболевшие икры и колени, прислушался к хриплому дыханию старухи. Подошел к двери и припал к ним ухом. Отодвинул засов и открыл.
Вопреки его ожиданиям, она и словом не отозвалась. Стояла посередине голубятни и смотрела на него. С одной из жердей над головой старухи взлетел голубь и вспорхнул к зарешеченному окошку. Она испугалась и резко подняла голову. Открыла морщинистую шею. Этого он и ждал.
Закинул на нее петлю и припал к спине женщины. Она отчаянно старалась сохранить равновесие и освободиться, но он кружил вместе с ней. Старуха хрипела, сжимая пальцы на шершавой петле, а с ее посиневшего языка капала пена.
Мужчина отпустил женщину так же внезапно, как и набросился на нее. Сначала она упала на колени, а потом растянулась на покрытом голубиным пометом полу. Рычала, как сука, схватившись за шею. На мгновение спряталась от его взгляда в облаке пыли и птичьего пуха.
Кинулся на нее. Коленями прижал руки. Возбужденный, встал над побагровевшим лицом старухи. В руке сжимал пятидюймовый кровельный гвоздь. Второй рукой дернул ее за уложенное узлом жирные волосы.
Лязг ножниц был последним услышанным ей звуком.
Последним ощущением был укол гвоздя в язык.
Последнее, что она увидела, был молоток, подымающийся над ее сморщенным лицом.
II
Эдвард Попельский сидел в задрипанном кабаке Бомбаха на улице Бернштайна и раздумывал, как унять дрожь правой ноги. Его нижняя конечность начала вертикально подергиваться, как только он сел за стол какие-то четверть часа назад. Именно тогда он почувствовал, что каблук его стоптанного ботинка скользнул на заплеванном полу. Встав на цыпочки, Попельский сильно отклонился назад и осмотрел обувь. К счастью, он лишь наступил на вареную картофелину, что упала с чьей-то тарелки. Вытер подошву об пол, избавляясь от клейкой массы. Теперь каблук был чистый. Поцарапанный, стоптанный, но чистый. Точь-в-точь такой, как у героев вестернов, он требовал замены подметки, отчаянно умолял, чтобы его починили, однако аж блестел от гуталина.
Хуже было то, что ухода требовала не только подошва, но и передняя часть ботинка. Носок чуть отставал от подметки, образуя щель, из которой Попельский перочинным ножиком ежедневно выковыривал песок. «Мой ботинок напоминает обнищавшего аристократа, — думал Эдвард, — а сам я убогий педант, нищий денди. Последняя фраза, конечно, оксюморон, поэтому с точки зрения логики никого не касается. Вывод однозначный: я никто».
Попельского охватила волна ярости, а нога начала нервно вибрировать. «Можно отнести ботинки к сапожнику, — думал он, потирая покрасневшую от гнева лысину, — но ни один мастер не починит их в течение одного дня. Любой скажет: «Да уважаемый пан, и крейцеров нет, да люди и худшие сапоги мне тут отдают, и кризис, приходите, милый пан, самое раннее послезавтра, так мешти
[4] будут, как новые». Вот, что я услышу от любого сапожника, — мысленно повторял Попельский, — и как тут быть? Я буду сидеть под вынужденным домашним арестом аж два дня, потому что это моя единственная пара обуви!» И он стукнул кулаком по столу, а его нога бешено заплясала между столешницей и полом.
— Ах, пан кумисар что-то нынче не тово, — заметил молодой чахоточник, о чьей принадлежности к корпорации официантов свидетельствовала уничтоженная молью бабочка, перекинутое через плечо грязное полотенце и бутылка водки «Чистая монопольная» в руке. — Может, еще один шнапсик для настроения?
Нога Попельского продолжала дергаться.
— Решил посмеяться надо мной, а, щенок? — прошипел он официанту. — Еще раз обратишься ко мне «кумисар», то зубы пересчитаешь! Каждый ребенок в Жовковском предместье знает, что я больше в полиции не работаю!
— Прошу прощения уважаемого пана, — юноша оскалил мелкие почерневшие зубы и красные десны. — Я тут где-то с неделю и не знаю, но те вот там вар'яти
[5], — кивнул он головой на бармена, — говорят, что тот галантный пан — то кумисар, ну, так я вам сказал «пан кумисар».
Гость успокоился и показал пальцем на опустевшие рюмку и тарелку. Когда первую наполнили водкой, а вторую — капустой со шкварками, заплатил, добавив пять грошей на чай. Ему никогда не приходило в голову, что комплимент «галантный» может доставить удовольствие. Но чувство радости быстро прошло, потому что Попельский осознавал, что его элегантным его могут считать разве что батяры, продажные девки или новоиспеченные официанты, которые до недавнего времени мыли кружки в придорожных кафешках. Никто из высшего общества не охарактеризовал бы его так. Достаточно лишь взглянуть на его пристяжной воротничок, вытертый жесткой щетиной, на потрепанные манжеты, от которых десятилетняя дочь бывшего «кумисара» отрезала нитки, на ботинки, которые хотя и были почищены и нагуталинены, но все же не могли скрыть глубоких заломов в коже.
Почти два года назад он просчитался, был слишком самоуверенным, поверил в будущее, хотя все было очень и очень сомнительным. Именно тогда его новый начальник, подинспектор Иероним Коцовский, резко высказался: «Следственный отдел — это не частный особняк комиссара Попельского, куда он может приходить, когда ему вздумается, и начинать работу после обеда, постоянно опаздывать и презирать начальство». Попельский тогда иронично усмехнулся и ответил, что прибыли венской страховой компании «Универсал» стремительно растут. В ней более тридцати лет назад его отец, инженер Паулин Попельский, застраховал свою жизнь, а через несколько лет трагически погиб. И так своевольный подчиненный не требует начальственной ласки, зато пан подинспектор не обойдется без его, Попельского, услуг, потому что не в состоянии проводить сложнее расследование, чем дело о краже лошадей. Через два месяца он проклинал свой длинный язык и эту ссору, в которой чуть не дошло до драки, в результате чего его уволили. Вскоре Эдвард Попельский возненавидел свою гордость, потому что «Универсал» обанкротилась во время мирового экономического кризиса, и ему пришлось вернуться к тому, чем он занимался до работы в полиции. Стиснув зубы, бывший комиссар решил подождать, пока пройдут три года с момента увольнения и он сможет открыть частное детективное бюро. А пока что давал уроки, однако заработанного таким образом не хватало на содержание служанки и большого помещения возле Иезуитского сада, не говоря уже об обеспечении потребностей семьи: дочери Риты и кузины Леокадии Тхоржницкой, которая заменила девочке умершую мать.
Когда Коцовский во время той беседы показал ему на дверь, крича, что в полиции нет места для эпилептиков и слепцов, которые могут работать только ночью или в темных очках, Попельский потянул подинспектора так сильно, что чуть не оторвал ему обшлага пиджака, сказав, что
epilepsia photogenica[6], от которой он страдает и которая ему ничуть не помешала одержать немало успехов в расследованиях в течение почти десяти лет работы, это ничто в сравнении с
syphilis mentalis[7], который разрушил мозг начальника. Потом он часто проклинал свою резкую реакцию в кабинете Коцовского, например, когда не мог заплатить служанке Ганне, и эта преданная женщина согласилась служить в них, не получая денег, имея в качестве единственной отплаты чувство принадлежности к семье и привязанность к маленькой Рите. Проклинал свою несдержанность, когда в их комфортабельной квартире на улице Крашевского толпились ученики, а ему и Леокадии приходилось вдалбливать в их тупые башки французский, латынь, греческий и математику.
Выпил полрюмки водки и ковырялся в капусте, ища шкварок и кусочков поджаренной колбасы. За столиком рядом расселись две женщины, накрашенные и шумные. Он пристально разглядывал их, оценивал их тела, а они даже не отводили взгляда. Вспомнил первое сближение с актрисой Стефанией Горгович, своей будущей женой. Это произошло за занавесом венского театра, и тогда он мгновенно понял, почему французы называют оргазм «маленькой смертью». Потом были их супружеские ночи, и каждой из них он рождался и умирал. Вспоминал и годы покупного разврата после смерти жены: ночные путешествия в салон-вагоне в Краков в обществе одной или двух первоклассных куртизанок. Чувствовал прикосновение их шелкового белья и аромат дорогих духов; вспоминал их скользкие языки, изогнутые тела, затуманенные кокаином глаза, снова видел, как они скакали на нем и приглушенно вскрикивали, когда он был уже слишком требовательным. «Все кончилось, — думал Попельский, — теперь мне остаются разве что такие, как эти две девки за столиком неподалеку, теперь не приходится выбирать между «стройной блондинкой» или «пышнотелой брюнеткой». Сейчас альтернатива такая: или толстуха, или сухоребрая кляча».
Выбрал второй вариант. Подсел к женщинам и худощавой прошептал на ухо, сколько способен заплатить, а когда та сговорчиво подмигнула покрытыми тушью ресницами, встал и двинулся к бару. Там щелкнул пальцами чахоточному официанту и сделал условное движение рукой. Парень хоть и был новенький, но кивнул, показывая, что понял жест Попельского и хорошо знает о назначении комнатки за баром. По дороге туда Эдвард взял у него ключ, поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату разврата.
Помещение оказалось тесным, единственное окно с матовым оконным стеклом выходило в зал. Раньше здесь была контора владельца, сейчас вместо письменного стола и полок для документов внутри стояла железная кровать, ширма и большое трюмо. Попельский сел, отпустил галстук и закурил сигарету, последнюю из предназначенных на сегодня. Женщина вошла, улыбнулась и сказала что-то, чего ее погруженный в собственные размышления клиент даже не расслышал. Но не попросил повторить, лишь улыбнулся в ответ и продолжал молча всматриваться в собственное отражение в зеркале. Оттуда на него смотрел крепко сложенный, абсолютно лысый мужчина лет сорока с лишним. Попельский разглядывал свою некогда черную, а теперь поседевшую бородку, потертый котелок и кольцо с символическим изображением лабиринта.
Женщина зашла за ширму, повесила на нее платье, платок и шляпку, потом налила в миску воды, сняла трусы, подобрала комбинацию и присела на корточки. В щели между полом и ширмой виднелись ее ноги в заштопанных чулках. Послышался звук воды, которая стекала в миску.
Попельский не чувствовал ни малейшего возбуждения. Со времени последней встречи с проституткой месяц назад он не имел женщины, однако Приап не подавал никаких признаков жизни. «Мне не хватает десяти лет до платоновского предела старости, — думал Эдвард, — а я почти полностью равнодушен к женским прелестям. Равнодушный, вялый, ничего не стоит».
Женщина вышла из-за ширмы и приблизилась к нему.
— Вы еще не разделись? — широко улыбнулась. — А чего ждете? Сделать тебе «цёмчика», сладенький? — она стала перед клиентом на колени и высоко задрала комбинацию. Широко развела ему ноги. — Расстегнуть? — спросила.
Он внимательно посмотрел на проститутку. В свете керосиновой лампы заметил ее лоно. Ему показалось, что волосы на нем мокрые и слиплись от чего-то. Попельского затошнило.
Поднялся и кинул девушке двадцать грошей.
— Иди себе. Это тебе за хлопоты!
— А то гаман їден! — орала проститутка, выходя из комнаты. — А то бурмило затилепаний! Перше хоче, а тоді ни можи!
[8]
Винтовая лестница вела в главный зал. Ему придется пройти через всю кафешку, смотреть на насмешливо улыбающиеся рожи, косые глаза, иронические взгляды, полные сочувствия и утешения от его поражения. Должен выслушать гимн этой похабной забегаловки, который хриплым голосом выводил аккордеонист:
У Бомбаха файна вяра,
жери прецлі, паль циґара.
Хто тримаї з нами штами,
тому ліпше, як у мами.
Попельский понимал, что потаскуха сейчас всем расскажет про его мужское бессилие. Ни одна проститутка больше с ним не пойдет, ни один официант не назовет его «галантным паном». В Бомбаховом кафе он стал отныне
persona non grata[9]. Еще несколько таких вечеров, и его будут выбрасывать из каждой львовской мордовни.
Поплелся по улице Бернштайна и дошел до Городоцкой. Так же преодолел Браеровскую и сел на скамейке в Иезуитском саду. Тупо смотрел в окна своей квартиры и напрасно шарил по карманам, ища сигареты. Хорошо, что хоть нога больше не дергается. Вот и только.
III
Аспирант Вильгельм Заремба обмахивался котелком, заслоняя лицо большим клетчатым носовым платком, который полностью пропитался запахом его кармана и отдавал табаком и мятными леденцами «Алоэ». Заремба любил эту смесь запахов и часто вдыхал ее, чтобы вспомнить счастливые мгновения детства, когда малыш Вилюсь возвращался, потный, со двора домой, а отец, уважаемый почтальон из Станиславова, вытирал ему лобика носовым платком, который так же пахнул мятой и табаком.
Сейчас он закрывалась платком не потому, что хотел вернуться в детские воспоминания. Он делал это, чтобы не задохнуться от смрада, царившего в покрытой пометом и перьями голубятне.
Но источником вони было не птичье дерьмо, а огромное, опухшее тело старой женщины. Оно занимало половину помещения, поэтому Зарембе и постерунковому
[10] по фамилии Соха с IV комиссариата приходилось лавировать между жердями для голубей, словно балетмейстерам, чтобы не наступить на раскинутые руки и ноги покойницы.
Однако бойкому Вильгельму Зарембе далеко было до грации танцора. Сначала он хотел добраться на чердак сквозь низенькие дверцы, потерял равновесие и наступил на руку трупа. Вздрогнул, увидев опухшее плечо. А искаженное лицо убитой вызвало у него приступ тошноты: участок голой кожи на голове, глазницы, залитые голубиным пометом.
Преодолев тошноту, Заремба проглотил слюну, закрыл нос и рот носовым платком, а потом навалился плечом на дверцу, что отделяла голубятню от чердака. Через мгновение он облегченно вдыхал запах выстиранного и накрахмаленного белья. Среди развешанного постельного белья стояли постерунковый Соха и низенький мужчина, который трясся с похмелья. Увидев Зарембу, Соха откозырял и начал вслух читать свои заметки.
— «Сегодня присутствующий тут гражданин, — Соха ткнул пальцем в любителя голубей и медленно прочитал фамилию, — Соливода Тадеуш, который выращивает здесь голубей, пятидесяти трех лет, римско-католического вероисповедания, помощник каменщика, проживает в сутерини
[11] по улице Скшинского, 6 во Львове, нашел на чердаке указанного дома по той же улице Скшинского, 6 труп женщины… Последний раз был здесь неделю назад». Вот только я и успел записать, пан аспирант.
Соха замолчал, смущенный ничтожностью собственных усилий. Соливода своей бледностью мог бы соперничать с найденным трупом.
— А теперь, пан постерунковый, записывайте продолжение допроса, который я проведу сам, — Заремба вдохнул запах мыла, а потом внезапно сменил тон и рявкнул на помощника каменщика: — Вы так редко сюда приходите, Соливода, к своим засранцам?! Раз в неделю? Черт побери! Голубей выращиваете, а не заботитесь о них? Вокруг вонь и говно! Штраф хотите заплатить?! Кто вам предоставил это помещение под голубятню?
— Владелец дома, пан инженер Шлема Гастгальтер, — пробубнил испуганный Соливода. — Я тут очень часто навещаю, пан начальник, но в последнее время то троха того, — и человечек хлопнул ребром ладони себя по шее и попытался улыбнуться, но его лицо вновь сделалось ужасным, потому что в глазах аспиранта не виднелось малейшего понимания его красноречивого жеста.
— Вы что, снимаете это помещение? — строго допытывался полицейский. — Сколько платите? У вас есть на это средства? А фискальная служба об этом знает?
— Да я за бесплатно, пан начальник, — Соливода топтался на месте. — Пан Гастгальтер экономит, тут даже сторожа нет. Что-то зреперувати
[12], уголь сбросить — тоже это все я. Під хайром!
[13] А за это он мне разрешил тут птичек держать.
И голубятник, и постерунковый Соха выглядели обеспокоенными. Быстрый допрос действительно изрядно напугал первого, зато второго рассердил, потому что Соха не успевал записывать. Слюнил огрызок карандаша и царапал им по листикам блокнота. Заремба махнул рукой, отвернулся от них и вышел с чердака на лестницу.
Поскольку было утро, здесь собралось несколько жильцов, преимущественно служащих и пенсионеров. Люди шумели и толпились поблизости, однако не осмеливались подняться на последние ступеньки, туда, где стоял еще один дежурный постерунковый из IV комиссариата, некий Янишевский, загораживая собой доступ к месту преступления. Несколько любопытных рабочих расположенной поблизости Городской типографии, одетых в фартуки, тоже торчали на балконах-галерейках, нависших над крошечным двориком, и старались заглянуть на чердак сквозь оконное стекло.
— А это что за шум?! — разъяренный Заремба гаркнул к людям на лестнице. — А ну, тихо мне быть, по одному заходить наверх для опознания покойницы. — И, увидев нерешительность на лицах, громко проговорил, подчеркивая каждое слово: — Смотреть, знал ли кто убитую женщину! У кого жолудок
[14] слабый, тот пусть не заходит! Понятно?
Люди кивали головами, а Заремба глянул на постерункового Янишевского.
— Впускайте их по одному, пан постерунковый. Могут стоять на пороге, дальше не заходить, чтобы ничего не затоптать. Если кто-то закашляется и захочет блевать, сразу такого за чуб и на лестницу! Чтобы мне никто голубятни не заблевал! Ну, чего так вытаращились? Не хотите туда заходить? Я вас понимаю, — Заремба позволил себе едва заметно усмехнуться. — Я тоже никогда не видел такой гадости. Но так надо. Женщина не имела при себе паспорта, похожа на запущенную пьяницу. Какой-то ее хахаль заявит о пропаже, когда протверезится и увидит, что кобеты
[15] не хватает. Но это может долго продолжаться… А мы должны опознать ее как можно скорее, понимаете? Ну, за работу, пан постерунковый!
И он вернулся на чердак. Там, среди простыней, продолжали стоять Соха и голубятник Соливода. Оба глянули на Зарембу, и в их глазах было один и то же вопрос.
— Домой, Соливода! — распорядился аспирант, подождал, пока мужичонка торопливо выполнит приказ и уберется, кланяясь, а потом обратился к Сохе: — А вас, пан постерунковый, я попрошу осмотреть чердак, крышу и все двери. Мы должны ответить себе на вопрос: если преступник здесь не жил, то каким образом пробрался на чердак и в голубятню? Только ничего не трогайте!
Соха приставил лестницу к отверстию в крыше и начал осторожно подниматься. «Одни бельбасы
[16] в том IV комиссариате», — подумал Заремба, глядя на его дородную фигуру, однако сразу застеснялся. Уныло хлопнул себя по собственному, тоже немалому, животу. «Я здесь других называю бельбасами, однако сейчас этакий тщедушный батяр невесть как узнал меня на улице и заорал «спухляк
[17] пулицай!». Послышались шаги в коридоре, приглушенные разговоры и скрип досок в углу возле двух дверей: одних на чердак, других в голубятню. Началось опознание покойницы.
Подошел к третьей двери, между чердаком и голубятней, присел возле нее на корточки и заглянул в щель. Следил за лицами людей, которые становились на пороге и с отвращением смотрели на изуродованное тело. Из этих его наблюдений, которые он делал с большой неохотой по приказу начальника Следственного отдела подинспектора Иеронима Коцовского, ничего не вытекало. Заремба не замечал никаких признаков радости или болезненного интереса, что якобы должны были выражать преступники, которые, как утверждал доктор Иван Пидгирный, часто возвращаются на место совершения убийства. Этот один из самых выдающихся судебных медиков и знатоков психологии преступников познакомился с этой новейшей гипотезой на многочисленных курсах в Варшаве и сумел убедить в ее правильности нового начальника. Обремененный избытком обязанностей, Заремба считал, что последний сделал бы лучше, если бы, вместо того чтобы слушать Пидгирного, взял на работу нового следователя. Но Коцовский поступил совсем по-другому, нежели думал Заремба. Он не только не подал воеводскому коменданту заявление с просьбой новой ставки, но наоборот, после первого же скандала уволил лучшего работника — комиссара Эдварда Попельского.
«У Эдзя, — подумал Заремба, — действительно слишком длинный язык, это еще в гимназии было заметно, хотя следует сказать, что он нападал только в случае необходимости и умел стерпеть немало, например, постоянные унижения от учителя биологии. Однако во время ссоры с Коцовским он кинул все на одну чашу — и проиграл. На черта было так прямо высказывать этому высокомерному болвану, что он о нем думает, раздражать шефа своими профессорскими манерами и изысканной элегантностью, без умолку сыпать латинскими и греческими сентенциями и работать по ночам без его на то согласия. Напрасно он объяснял свои необычные часы работы эпилепсией, потому что, честно говоря, в связи с любыми предписаниями ее было достаточно, чтобы раз и навсегда уволить Попельского из полиции. А теперь Эдзя выкинули со службы, завалили работой Кацнельсона и Грабского, а его самого принудили пользоваться помощью этих двух толстяков из IV комиссариата, и ко всему — хотя психолог из него никакой! — наблюдать за вероятными преступниками, которые якобы должны вернуться на место убийства.
— И где этот знаменитый психолог Пидгирный? — громко спросил себя Заремба, который в щель двери заметил, как покраснело от отвращения лицо какого-то ремесленника. — Какого черта он не сидит возле этой засранной двери и не дышит смрадом? Давно уже должен был бы прийти! Я же ему два часа назад сообщил, коновалу этакому!
— Пан аспирант, я проверил все двери и выходы на крышу, — Соха неожиданно появился у него за спиной. — Если он не проживал в этом доме и не имел ключа…
— Подождите-ка! — Заремба присматривался к работнику в сорочке из грубого полотна, который последним осмелился взглянуть на покойницу. — Продолжайте, постерунковый. Ну, говорите!
— У него должны были быть ключи от чердака, или же он воспользовался отмычкой, — продолжал Соха. — Через крышу он залезть не мог, разве что по веревочной лестнице… Окружающие дома выше этого… Тут только два этажа. Дверь на чердак закрывают на цепь и замок со стороны лестницы, — постерунковый кивнул на массивную железяку на двери. — Никаких признаков взлома… А если это сделано отмычкой, то он недурной мастер… Может, подделал ключ…
— А так? — Заремба показал пальцем на низенькую дверь с чердака в голубятню. — Перелез в соседнее помещение, а? Эта дверца закрывается?
— Какие?
— Да эти же маленькие! — Заремба снова ткнул на вход в голубятню.
— Нет, — ответил постерунковый. — Они всегда открыты, так говорит этот Паливода…
— Соливода, — поправил его аспирант.
— Конечно, их никогда не закрывают.
— А вторая дверь из голубятни, та, что ведет на лестницу?
— Она закрывается на засов изнутри. Может, он залез в голубятню раньше. И ждал старуху…
— Никто бы не выдержал в голубятне от вони, — Заремба перевел дыхание. — Убийца мог ждать и затаиться только на чердаке…
— Например, там, — Соха кивнул на ванну, наполовину заполненную дождевой водой.
— Вы правы. Следовательно, он мог заранее договориться со старухой, или же она сюда регулярно зачем-то приходила, и злоумышленник решил здесь спрятаться. Тогда кто-то из жителей должен был ее узнать.
— Докладываю, что никто не узнал покойницы! — рявкнул постерунковый Янишевский, который уже долго стоял на пороге и прислушивался к разговору.
— Я ее узнал, — отозвался знакомый Зарембе голос. Доктор Иван Пидгирный незаметно вошел в голубятню, и его голова появилась в проеме дверцы на чердак. — Я знаю, кто она. Может, я и не великий психолог, как вы только что заметили, пан Заремба, может, я и коновал, однако… — медик вылез из небольшого отверстия и выпрямился перед полицейским, — однако сифилитиков в этом городе я знал раньше всех.
IV
Над Иезуитским садом наступали вечерние сумерки, которые стирали четкие контуры предметов. Покрытые белым цветом кусты совсем сливались бы с белыми студенческими фуражками, если бы не сигаретный дым, который окружал последние. Цилиндры двух старых евреев, которые играли в шахматы на скамье возле статуи, символизирующей живительные силы природы, казались бы незаметными на черном фоне могучего дуба, если бы не пламя газового фонаря, что вдруг засияло, вспыхивая от спички седого фонарщика. Двое молоденьких девушек, которые, видимо, ждали своих кавалеров внизу улицы Крашевского, непременно привлекли бы внимание Попельского, когда бы тот был, как всегда, в хорошей форме и имел неплохое настроение.
Однако его чувственность куда-то делась, что вчера подтвердила шлюха в забегаловке, а настроение было препаскудное, и не только по этому поводу. Эдвард курил плохую сигарету и всматривался в худую фигуру, что исчезала за кофейней, убранной в народном стиле. Это был гимназист Генек Андрусин, чей отец-токарь остатками тяжело заработанных грошей поддерживал собственную надежду на то, что его потомок продолжит учиться в IV классической гимназии им. Длугоша. Генек дважды оставался на второй год из-за латыни, поэтому Попельскому досталось нелегкое, и даже, как оказалось после нескольких частных уроков, невыполнимая задача: подтянуть парня по латыни так, чтобы тот мог перевести отрывки из Цезаря, Непота и Федра, и перейти в пятый класс. После каждого занятия с Генеком ротовая полость учителя превращалась в сахару, а мозг — в застывшую Антарктиду. Небольшая сумма оказывалась в кошельке Леокадии, а Эдвард доставал перо и бумагу, чтобы наконец написать письмо Генековому отцу и отказаться от уроков, назвав свои попытки втолковать латынь в тупую башку «продолжением агонии». Однако он до сих пор этого не сделал. Неизвестно в который раз пересчитывал деньги, которые можно заработать на восьми уроках на протяжении месяца, и вместо бумаги протягивал руку за сигаретой, а потом
выходил на балкон, прислушиваясь к детскому голосу Риты, которая играла с Ганной в комнатке служанки, и к монотонному спряжению французских неправильных глаголов, которое доносилось из комнаты кузины.
Потушив окурок, он глубоко перевел дыхание. За несколько минут приедет очередной ученик, сын директора городской финансовой управы, некий Болек Шандровский. Этого пятнадцатилетнего подростка он настолько выдрессировал, что тот мог без проблем решать тригонометрические уравнения. Учитель этому несказанно радовался, потому что теперь мог с чистой совестью перейти к своим любимым темам — квадратному трехчлену с его великолепными параболами и четкими формулами Вийета. А потом, после всех уроков, они с дочкой и кузиной поужинают дерунами, он немного передремлет и около десяти вечера устроится в кабинете при уютном свете лампы, откроет комедии Плавта и будет готовиться к лекции, которую проведет по просьбе студенческого филологического кружка. Кстати, за это обещают очень приличный гонорар.
Увидев Болека Шандровского, который бежал вниз по улице вдоль парка, Попельский вернулся в комнату и закрыл балконную дверь. Прислушался к радостному дочкиному смеху, поправил пиджак, проверил, не закончилось чернила в его «уотермане» и сел к столу. Через мгновение раздался звонок в дверь, и Ганна открыла ученику. За ее спиной пряталась Рита, которой непременно хотелось рассмешить отца. Девочка скашивала глаза, делала смешные гримасы и, приложив к вискам большие пальцы, быстро взмахивала ладошками. Потом многозначительно зажала пальцами нос.
Удивленный последним жестом, Попельский улыбнулся ребенку, закрыл дверь и кивнул Шандровскому, чтобы тот показал ему тетрадки с домашним заданием. Мыслями он был далеко отсюда, думал об ужине с семьей и анализ Плавтовых стихов, потому что именно этому искусству он должен был научить будущих филологов на заседании студенческого кружка. Не удивительно, что Эдвард не услышал Болековых слов.
— Повторите, пожалуйста, — попросил Попельский.
Шандровский подступил ближе и резко выдохнул воздух из легких. Зловонный вздох вырвался из его рта, словно ядовитое облако. «Гормональная буря в сочетании с испорченными зубами, — мелькнуло в голове побледневшего от отвращения Попельского, — кариесом, вызванным непрерывным посасыванием леденцов и конфет, плюс запахом гноя в зубных каналах».
— Я не принес, пан учитель, — Болек переступил с ноги на ногу. — Не сделал.
— Почему? — Эдвард отодвинулся в кресле аж под окно.
— Не знал, как, — ответил Шандровский. — В конце концов, у меня не было времени. Я поздно возвращаюсь со спортивных тренировок. У нас скоро матч с третьим классом.
Запах достиг ноздрей Попельского несмотря на большое расстояние, хотя Эдвард думал, что оно его спасет. Учитель представил себе, как во время урока должен наклониться над Болеком и проверить написанные им выражения. Тогда к зловонному дыханию добавится запах грязного спортсмена — немытые ноги, потные подмышки, слипшиеся волосы. Воображение Попельского вызвало спазм желудка, рот наполнился слюной.
Он быстро встал, распахнул окно и выглянул во двор. Запах смолы, пыли и помоев показались ему прекрасным ароматом по сравнению с миазмами, которые выделял ученик. Попельский глубоко вдохнул воздух и обернулся к парню.
— Выйдите отсюда и больше никогда не приходите в таком состоянии! — медленно проговорил он, чтобы как можно замедлить выдох.
— В каком таком состоянии? — нагло спросил Шандровский.
— После тренировок.
— Почему это? — парень повысил голос.
— Потому что от тебя немилосердно воняет! Как от сточной канавы!
Ученик спрятал тетради и посмотрел на Попельского долгим взглядом. Тот не сразу понял, что означает поведение Шандровского. За этим могли прятаться покорность или гнев.
— Я тоже сыт вами по завязку. И видом вашей лысой балды!
После этой длинной фразы Попельский едва не упал в обморок от вони.
— Вон!!! — рявкнул он.
Ученик сплюнул на ковер и быстро выбежал из квартиры. Попельский не задерживал его. Во-первых, результат погони за спортсменом мог быть жалким, во-вторых, если бы он догнал Шандровского, то должен был бы снова с ним общаться. А этого он стремился избежать. Попельский даже радовался, что больше не будет иметь дела с Болеком, зато может встать у окна и насладиться ароматами нагретого солнцем двора.
В кабинет прибежала Рита.
— Папочка, а почему ученик так быстро от вас вышел?
— Потому что оказался неготовым к уроку, моя маленькая, и я накричал на него, видишь? Ты должна всегда старательно учиться, иначе учитель наорет на тебя в школе.
Попельский схватил дочь в объятия и крепко прижал к себе. С нежностью вдыхал запах дешевого шампуня, которым дочка часто мыла голову, наслаждался ее чистым дыханием.
— Пойдем теперь к Залевскому по прянички, дорогая?
— Ты не успеешь, Эдвард, — Леокадия стояла на пороге и кивнула головой ученице, с которой как раз закончила заниматься французским. — Кроме того, этих лакомств мы себе уже не можем позволить.
Отец и дочь посмотрели на Леокадию. Оценивали ее стройную и ловкую фигуру, удлиненное лицо, безупречный макияж и ровненько подстриженные волосы на затылке. Каждый обратил внимание на другое: отец на кузинины чулки, которые Ганна принесла сегодня из «мастерской художественной штопки», и окрашенные алым лаком ногти; девочка — на сжатые тетины губы, которые только что запретили ей пойти с папой в любимую кондитерскую.
— А почему это мы не успеем, Лёдзю? — спросил Эдвард, преисполненный дурных предчувствий.
— Потому что через сорок минут, — Леокадия взглянула сначала на часы, а потом в блокнот, с которым не расставалась, — приходит последний ученик, Артур Батлер. И ты должен переводить с ним Ксенофонта.
Попельский стиснул зубы так сильно, что аж мышцы задергались под кожей. Вытащил из кармана злотый, старательно осмотрел монету и снова спрятал. Потом взял дочку за руку и вышел в прихожую, молча обходя Леокадию и не глядя ей в глаза. Девочка весело подпрыгивала, схватившись за отцовскую ладонь.
— Оденься, малышка! — сказал Эдвард. — Пойдем купим «юрашков»!
Леокадия молча смотрела на кузена.
Записная книжка словно приросла к ее бессильно опущенной руке. В ней виднелись четко записанные часы уроков и таблица с итогом ежедневных расходов.
— Ты уже выгнал нынче одного ученика, — отозвалась Леокадия по-немецки, чтобы не поняла Рита. — И не примешь второго. Мы потеряли целых пять злотых.
— Я верну тебе вдвое больше, — ответил Попельский на том же языке, вытирая пыль с ботинок мягкой тряпкой и избегая взгляда кузины.
Она очень хорошо знала все его пустые обещания и на протяжении последних двух лет наслушалась их немало. Леокадия много ожидала от Эдварда, но он не менялся вот уже десять лет. Разве что к худшему. Весь мир катился неизвестно куда. Сбережения таяли, пострадавшие от кризиса люди выбрасывались из окон отеля «Жорж», как вот недавно какой-то волынский землевладелец, а маленькая Рита все сильнее ненавидела тетю. И только зеленые глаза Эдварда постоянно излучали упрямство.
— Что мне сообщить Артуру Батлеру, когда он придет? — тихо спросила Леокадия.
— Дорогая моя, пожалуйста, всем нашим ученикам скажи только одно, — медленно произнес Эдвард, решительно вглядываясь в ее большие глаза, — чтобы они пользовались мылом и зубным порошком.
V
Начальнику Следственного отдела Иерониму Коцовскому доверенный сыщик давно уже доложил, что подчиненные называют его Подарком столицы. Свое прозвище Коцовский воспринял с удивительным спокойствием, понимая, что во Львове он человек чужой, к тому же из Варшавы, а потому не может рассчитывать на слишком теплый прием. Львовяне отличались непонятной ему галицкой, почти столичной самовлюбленностью, однако, к счастью, относились к чужакам не с ожесточенной ненавистью, а с неким снисходительным пониманием. Это проявлялось не в пренебрежении или агрессии, а скорее в том, что каждого «нельвовского парня» они принимали высокомерно, постоянно объясняя при этом: «А у нас во Львове…».
Если Коцовский мог сделать вид, что не замечает львовского патриотизма, то никак не мог согласиться, чтобы он повлиял на его профессиональные обязанности. А именно это и произошло, когда он впервые появился на новом рабочем месте. Только ступив на порог бывшей австрийской жандармерии, подинспектор встретил своего первого доносчика. К новому начальнику подошел некий работник, покорно поклонился и прошептал на ухо, что будущие подчиненные надеялись увидеть на этой должности не его, а кого-то из них. Потом Коцовский услышал фамилию соперника и сразу возненавидел его.
Человека с этой фамилией не было среди тех, кто сейчас наполнял кабинет начальника ароматным дымом хорошего табака. Присутствующие как раз выслушали, как аспирант Вильгельм Заремба своим громким голосом прочитал рапорт с места преступления, и смотрели на серый конверт с надписью «Многоуважаемому пану начальнику Иерониму Коцовскому», который подинспектор демонстративно положил посреди стола.
— Ладно, спасибо пану аспиранту Зарембе, — адресат письма почесал ладонь. — Прежде чем мы откроем этот конверт, — сменил он тему разговора и подвинул конверт по столу, при этом многозначительно взглянув на Ивана Пидгирного, — мы попросим пана доктора поделиться своими важными наблюдениями.
— Что ж, господа, — отозвался Пидгирный, которого нисколько не поразила вежливость начальника, — начнем с идентификации погибшей. Убитую звали Люба Байдикова, возраст — шестьдесят лет, вероисповедание римско-католическое, жила на Левандовке по улице Шевченко. Я знал ее лично, поскольку она была моей пациенткой, когда я практиковал как врач-венеролог. Итак, Люба Байдикова занималась гаданием, и вспоминаю, что виновником своей болезни назвала одного из клиентов. Я все это хорошо помню, ведь не каждый день к тебе обращается пациентка-гадалка. Пани Байдикова гадала по картам, видела будущее в стеклянном шаре, а самое интересное то, что она составляла даже гороскопы…
Медик остановился, чтобы закурить сигарету, и уставился в начальницкий диплом, который свидетельствовал, что его владелец занял первое место в стрелковом конкурсе для высших чиновников полиции, который состоялся в Сарнах ровно год назад.
— А почему вы сказали, что ее астрологическая деятельность — это самое интересное? — спросил аспирант Валериан Грабский, полицейский, который походил на аккуратного, честного и находчивого чиновника. — Гадалка — это гадалка, какая разница, она гадает по картам или на кофейной гуще… Почему астрология — это что-то необычное?
— Вы немного ошибаетесь, пан аспирант, — вмешался старший сержант Герман Кацнельсон, чей острый язык и изысканность напоминали Коцовскому ненавистного ему человека. — Работа астролога заключается прежде всего в выполнении сложных вычислений. Чтобы этим заниматься, мало стеклянного шара, черного кота на подоконнике и нескольких рюмок, выпитых для красноречия.
— Вы правы, — кивнул Пидгирный. — Люба Байдикова составляла сложные гороскопы…
— Так, может, в конверте лежит гороскоп? — Кацнельсон не удержался и взглянул на стол.
— Где ваша терпеливость, сержант, — казалось, что Коцовский вот-вот хлопнет подчиненного по рукам. — Сейчас мы познакомимся с его содержимым.
— Отвечаю на вопрос аспиранта Грабского, — продолжал Пидгирный. — Как я уже сказал, астрологическая деятельность убитой действительно была очень интересной, потому что у нас такое ассоциируется с чем-то… как бы это выразиться… с изысканностью, респектабельностью. Астрологи живут и принимают клиентов в хороших районах, их кабинеты украшают произведения искусства, книги…
— Разное случается, — рассмеялся Заремба. — Помните, господа, дело некоего профессора Марини? Он оказался мошенником, самым обыкновенным гебесом
[18], который занимался прорицанием в сарае. Посмотрим, может, в конверте тоже дела каких прорицателей… А может, самой убитой…
— Не отвлекайтесь! — прикрикнул на него Коцовский. — И выслушайте доктора Пидгирного. Напоминаю, если кто не знает: наше совещание — это инструктаж в деле следствия, а не болтовня или воспоминания о вашем славном прошлом! И чего это вас так интересует содержимое конверта? Вы мне напоминаете мальчишек в кабаре!
— Люба Байдик, — доктор поставил ударение на последний слог фамилии, — не была ни изысканной, ни респектабельной особой. Это была грязная, запущенная и больная женщина. Кроме астмы и диабета, как показало мое вскрытие, она страдала от двух еще более опасных болезней. Первая — цирроз печени. Этот орган был у нее увеличенный, твердый и усеян узелками, типичный
cirrhosis hepatis, от которого страдают алкоголики. Ей оставалось жить не больше, чем два-три года, если бы не разные постсифилитичные изменения в органах… Именно так, господа, — медик, казалось, наслаждался удивленными взглядами полицейских, — у нашей гадалки была последняя стадия люэса. Во время первого и единственного визита ко мне я прописал ей «Сальварсан». Больше она ко мне не приходила. Может, ей казалось, что она вылечила сифилис? А он, тем временем, пожирал ее изнутри… Вот и все, что касается опознания и болезней. А теперь относительно обстоятельств гибели… На нее напали сзади. Об этом свидетельствуют обширные травмированные участки спереди шеи. Именно там я заметил большую и глубокую борозду, след от чего-то длинного, узкого и жесткого, возможно, веревки. Однако смерть наступила не от удушения, нет! Петля неумолимо давила ее, поэтому она, вероятно, на мгновение потеряла сознание, и этим преступник воспользовался вот для чего. — Пидгирный открыл свою элегантную папку из тисненой кожи и вытащил оттуда пинцетом пятидюймовый гвоздь. — Он открыл ей рот и просунул гвоздь вдоль неба, чтобы примериться к соответствующему месту, а затем сильным ударом вогнал его. Острие сразу вошло в спинной мозг. Это вызвало мгновенную смерть. Вот и все, что я собирался вам сказать.
— А какой вывод можно сделать об убийце на основании анализов следов на месте преступления? — Коцовский подошел к окну, распахнул его, и в задымленное помещение ворвался свежий воздух вместе с криками детей, которые столпились вокруг ручейка, что вытекал из фонтанчика неподалеку стен костела.
— Он может быть кровельщиком, — вмешался Заремба. — Это типичный гвоздь для кровельных…
— Скорее, врачом, — отметил Кацнельсон. — Обыкновенный бандюга забил бы ей гвоздь прямо в голову. А этот точно знал, где расположен спинной мозг. Кому из вас это известно?
— Правильно! — Пидгирный одобрительно взглянул на Кацнельсона. — Убийца, может, и не медик, но наверняка разбирается в анатомии человека. Гвоздь, забитый в лоб, повлечет смерть примерно в половине случаев, однако воткнутый в спинной мозг — всегда и мгновенно. А такие гвозди, — здесь он сочувственно взглянул на Зарембу, — можно купить в любой жестяном магазине, и покупатель никак не должен принадлежать к кровельщицкому цеху.
Медик замолчал и погрузился в размышления.
— Еще одна деталь, доктор! Наиважнейшая! — напомнил ему Коцовский.
— Наиважнейшая и ужасная, — подхватил Пидгирный. — У погибшей были срезаны волосы над лбом. Этот лоскут голой кожи образует, так сказать, неправильный параллелограмм. Преступник может быть извращенцем, который срезает женские волосы и возбуждается от этого. А теперь остальные мои выводы. Жертва и убийца почти наверняка были знакомы. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, Люба Байдикова не жила в доме, где ее нашли убитой, и никто ее там не знал… Чтобы она там делала, если бы не договорилась с кем-то? А условиться о встрече на вонючем чердаке она могла только с тем, кто сильно ей заплатил, или с кем-то, кого она не имела оснований бояться, ergo, каким-то своим знакомым. Во-вторых, в ее состоянии такое путешествие на другой конец города и подъем по лестнице на чердак были страшно мучительными. Итак, у нее была веская причина, чтобы подняться в ту голубятню. Думаю, что преступник чем-то ее принудил, возможно пообещал что-то, и наверняка договорился с ней заранее. Это второй аргумент в пользу того, что он ее знал. Если убийца сидел на чердаке за ванной и ждал жертву, что, по моему мнению, справедливо предположил в своем рапорте пан Заремба, то мы можем сказать, что он терпеливый и тщательный, что он знал об этом чердаке и его соединение с голубятней раньше; и что он подделал ключ или воспользовался хорошо изготовленной отмычкой. Это может быть взломщик или слесарь… Вы разочарованы, пан начальник, — Пидгирный взглянул на Коцовского, — что мне так мало о нем известно? Но это совсем не мало, — ответил он на мысленный упрек, хотя начальник показывал жестами, что он ничуть не разочарован. — Мне обидно. Я лишь психолог и патологоанатом, а не волшебник. И я не в состоянии определить национальность преступника на основании брошенного им окурка, который полицейские из IV комиссариата нашли за ванной.
— К счастью, нам не придется беспокоиться из-за его национальности, — Коцовский удобно устроился в своем кресле и отхлебнул чая из стакана. — Мы знаем, что он не поляк.
Воцарилась тишина. Начальник дотянулся до таинственного конверта. Пинцетом Пидгирного вытащил оттуда какой-то листок и положил его на стол. На бумаге видел ряд еврейских букв
[19], явно вырезанных из какой-то иудейской газеты. Гуммиарабик вытек из-под нескольких вырезанных квадратиков и застыл на краях.
דםדרבןעיאויבאפםמותלבןשחרלאכויהולאחלי
— Я получил этот конверт сегодня утром. Он адресован мне. Кто-то бросил его в наш ящик анонимных заявлений. Никаких отпечатков пальцев. Тридцать шесть еврейских букв, приклеенных одна за другой, без каких-либо пробелов в одной строке. Словно одно слово из тридцати шести букв. Господин Кацнельсон, вы можете это нам перевести?
— То, что у меня причудливая фамилия, — рассерженно сказал, даже не взглянув на вырезку, Кацнельсон, — не означает, что я должен знать еврейский язык. Возможно, у меня и есть какие-то иудейские предки, как и у многих поляков! А мое злосчастное имя Герман, как вам известно, пан начальник, является немецким, а не иудейским!
— Конечно, — поддержал его Заремба. — Лица, которые имеют более или менее определенное еврейское происхождение, отнюдь не должны знать древнееврейский. Зато всем нам очень хорошо известен поляк, который здесь до недавнего времени работал… Он прекрасно владеет древними языками, в том числе и библейским еврейским…
— Даже не вспоминайте про Попельского, этого пьяницу и дегенерата! — воскликнул Коцовский.
— А вообще, я не понимаю, — упрямо продолжал Заремба, — что общего имеет это длинное слово с Любой Байдиковой.
— Кроме письма в конверте было еще вот это, — Коцовский облегченно перевел разговор на другую тему.
Снова сделалось тихо, начальник успокоился и таинственно улыбнулся; его явно развлекала роль иллюзиониста, который вытаскивает кролика из цилиндра. Он снова протянул руку к конверту и достал оттуда клок жирных волос.
— Может, вы что-то скажете нам об этом, доктор, — Коцовский глянул на Пидгирного и раскаленным кончиком сигареты описал круг над этой странной вещью.
— У меня нет никаких сомнений, — медик поднялся и посмотрел на присутствующих, — что это волосы убитой Люби Байдиковой, которые у нее срезали над лбом.
Наступила тишина, которую прервал Заремба.
— Среди нас кого-то не хватает, — сказал он. — Некого дегенерата. Один дегенерат убил, значит, это дело как раз для другого дегенерата.
VI
Последний раз Эдвард Попельский стоял за университетской кафедрой в 1907 году. Тогда ему как раз исполнился двадцать один, и молодой студент был полон научного энтузиазма, увлечения теорией Кантора и мечтаний о своем победном вторжении в мир математической бесконечности. Двадцать три года назад в Вене был жаркий апрельский день. Попельский хорошо его запомнил, потому что именно тогда у него проявились симптомы страшной болезни, до сих пор как будто спящей и затаившейся. Именно в тот день он попросил профессора Франца Мертенса, чтобы тот позволил ему публично продемонстрировать определенные сомнения, которые касались доказательства Кенигом закона взаимности Гаусса. Над этим доказательством Попельский просидел неделю, и ему показалось, что он нашел в нем слабое место. Он уже собирался показать преподавателю и коллегам с математического семинара Венского университета критичный пункт, в котором одна формула вроде бы очевидным образом вытекает из другой, когда почувствовал резкое головокружение, и совершенно забыл, в чем же заключается слабость Кениговых выводов. В течение нескольких минут Попельский тупо всматривался в доску, потом его тело сотрясли легкие судороги, и он покинул кафедру с ужасной пустотой в голове. Профессор Мертенс проводил его удивленным взглядом, а коллеги были полны иронии. Через неделю, когда Попельский разыгрывал шахматную партию в парке Пратер, с ним впервые со времен детства случился эпилептический приступ. Головокружение во время математического семинара и приступ в парке были вызваны, как объяснил на следующий день уважаемый и известный венский медик, доктор Самуэль Монд, одной и той же причиной: солнечными лучами, рассеянными кронами и ветвями деревьев. «Это повлекло
epilepsiam photogenicam», — поставил диагноз доктор Монд, наказав пациенту избегать любого мигания света, особенно дневного. То есть Попельскому пришлось каждый день носить темные очки и перейти на вечерне-ночной образ жизни. Вот почему молодой Эдвард Попельский вынужден был отказаться от учебы на математическом факультете, поскольку занятия там проходили утром, когда солнце щедро заливало своими лучами большую аудиторию, окна которой выходили на восток, и выбрать другой факультет и другие лекции, которые проводились бы по вечерам. Такие занятия предлагал лишь университетский филологический семинар, и вскоре несчастному эпилептику пришлось из математика превратиться в студента-классика. Профессор Франц Мертенс, который происходил из Великопольши, утешал его по-польски, подчеркивая, что от математики недалеко до греческой и латинской метрики, после чего подарил ему свою докторскую диссертацию под названием «
We functione potentiali duarum ellipsoidum homogenearum»
[20], написанную, естественно, на латыни. Слова профессора запечалились Попельскому в память и, став филологом, посвятил себя исключительно исторической грамматике и архаичной латинской метрике, защитив в 1914 году диссертацию на эту тему. Однако он не забыл про «королеву наук», поскольку именно частные уроки по математике и латыни давали ему заработок, пока он не начал работать в полиции, и впоследствии, то есть с конца войны до 1921 года, и через семь лет, когда Коцовский с треском выкинул его из Следственного отдела.
Сейчас, когда после венского головокружения миновали двадцать три года, Попельский стоял на месте преподавателя на кафедре классической филологии Львовского университета имени Яна-Казимира и приводил в порядок свои заметки перед лекцией. Чтобы не допустить ужасной мысли о возможности повторения венских событий, он старался сосредоточиться исключительно на своих научных размышлениях. Чтобы лучше сконцентрироваться, Эдвард закрыл глаза и вдыхал весенние ароматы, которые вливались в открытое окно, и как будто с расстояния прислушался к вступлению, который произносил худой паныч в пенсне, руководитель студенческого филологического кружка. После вежливых слов благодарности за организационную поддержку в адрес отсутствующего ныне председателя преподавательской экзаменационной комиссии, профессора Константина Хилинского, студент перешел к теме.
— На статью пана доктора Попельского, — запинаясь, читал свои заметки оратор, — под названием «
Versuch einer quasi-matematischen Analyse des plautiniscken Sprachverses»
[21] я наткнулся совершенно случайно в «Отчетах Перемышльской Императорско-королевской гимназии» за 1914 год, поскольку именно в этом году пан доктор работал в этом учебном заведении как суплент
[22]. Эту публикацию я прочитал не без трудностей, однако с огромным интересом, поскольку она имеет прекрасное практическое применение и облегчает анализ Плавтовых стихов, который для некоторых моих коллег является ахиллесовой пятой, но вовсе не потому, что наши преподаватели этому плохо учат. — Здесь студент робко взглянул на профессора Ежи Клапковского, который сидел в кожаном кресле перед слушателями. — Конечно нет! Просто это чрезвычайно трудная задача для тех, кто не изучал Плавта и Теренция в гимназии. А сейчас, к сожалению, этих авторов больше нет в программе. Однако я не все понял из немецкого текста пана доктора… Вот почему наш кружок пригласил его, чтобы уважаемый докладчик смог разъяснить нам самые сложные места. Пожалуйста, пан доктор, вам слово.
Попельский поднялся и посмотрел сначала в окно, а затем на слушателей. Ничто не напоминало ему про Венский математический семинар. Слишком много различий, чтобы следствие могло быть таким же. За окном простирался не двор Венского университета, а цветущий Иезуитский сад. Его львовская аудитория наполовину состояла из женщин, тогда как двадцать три года назад перед ним сидели исключительно мужчины. Сейчас была вечерняя пора, а от эпилептического приступа он защищался тем, что регулярно принимал лекарства и носил темные очки. Нет, на этот раз его выступление будет выглядеть совсем по-другому!
Попельский не волновался, разве что ему чуть мешали собственные очки, которые делали невозможным внимательное наблюдение за реакцией слушателей, потому что он привык так делать, когда вел многочисленные допросы в полиции. Очки были оптическим фильтром, сквозь который он замечал только лица людей в двух первых рядах и еще улыбку профессора Клапковского, потому что тот сидел прямо перед ним.
Докладчик воспринял эту улыбку ученого как поощрение и уверенно начал лекцию. Через несколько секунд остатки беспокойства напрочь испарились. Попельский выложил на доске восемь видов ямбичных синерез
[23], а потом свел их количество до трех. С радостью отметил вздох облегчения, которое прокатилось по аудитории. Эдвард знал, что люди очень радостно воспринимают любое упрощение и то, что именно на простоте базируется изысканность любой формулы — математической или лингвистической. Такой же была реакция слушателей, когда он упростил разнообразные метрические законы, продемонстрировав, что большинство из них опирается на одну и ту же акцентуационную причину. А потом начал то, что любил больше всего: ровным каллиграфическим почерком рассекал латинские стихи и выделял из них интонационные части. От этого упорного труда, в который он полностью углубился, его оторвал шорох, покашливание и стук. Попельский обернулся и заметил, что несколько мест в аудитории уже пустые. Удивленно глянул на руководителя кружка, но тот потупил голову и не сводил глаз с профессора Клапковского.
— Ну, что же, — профессор кашлянул и встал. — Если организатору не хватает мужества, то я скажу. Уважаемый докладчик вышел за рамки отведенного ему времени… Можно вас просить перейти к выводам?
— Действительно, — Попельский взглянул на свои швейцарские часы фирмы «Шаффгаузен», — я должен был закончить полчаса назад… Простите… Собственно говоря, никаких выводов у меня нет. Я мог бы продолжить метрический анализ, однако что касается теории, то ничего больше сказать не могу. Спасибо за внимание, думаю, можно перейти к обсуждению. Пан профессор? — и он глянул в сторону Клапковского.
— Да, — ученый улыбался. — Должен сказать, что я очень удивился, когда филологический кружок пригласил меня на этот доклад. Но прослушав его, я больше не удивляюсь, — Клапковский перевел дыхание. — Я возмущен!
В аудитории воцарилась тишина. Профессор переводил взгляд с одних студентов на других, а те уставились в свои заметки. Продолжал улыбаться. Однако сейчас Попельский был почти уверен, что поступил опрометчиво, приняв перед лекцией эту улыбку за признак доброжелательности. «Меня опять ждут, — думал он, — жестокие и непредсказуемые события. Видимо, такова моя судьба. Тогда, в Вене, это тоже произошло в апреле, и сейчас апрель, и я здесь и там потерплю поражение. Кто это сказал, будто апрель — жесточайший месяц?»
— Несмотря на то что докладчик является бывшим работником полиции, это выступление было не только, так сказать, экзотикой, — продолжал профессор, — с точки зрения методики он невероятно вреден!
Попельский украдкой вытер лоб.
— Мы не услышали ничего, подчеркиваю, ничего, — глаза Клапковского, казалось, метали молнии, — что в течение последних ста лет, со времен Карла Лахманна, является вершиной филологических исследований! Здесь не прозвучало никакой критики текста! Пан докладчик даже не указал, каким изданием он пользовался!
Попельский крепче надвинул на нос темные очки и вытер потную лысину. Из окна подул весенний ветерок, принесший аромат сирени, которая цвела в Иезуитском саду. Теперь он вспомнил фразу, которая не давала ему покоя, преследуя словами о жестокости апреля. Это было начало «Бесплодной земли» Элиота.
— А тем временем, — ученый протянул руку к книге, которая лежала перед ним, — по крайней мере четыре рассматриваемые Вами Плавтовы стиха, отчетливо отличаются от, так сказать, канонических версий. Вы о них даже не вспомнили. Такая фундаментальная методологическая ошибка дисквалифицирует ваш доклад! Это так, словно, — здесь я позволю себе воспользоваться примером из точных наук, которые так любит пан Попельский, — на уроке химии наливать воду в пробирку, не проверив, что в ней, щелочь или кислота! Единственное, что вы можете сделать после этой бестолковой лекции, — Клапковский строго посмотрел на студентов, — это порвать свои конспекты и выбросить в мусорку! Так, как это делаю я!
«Самый жестокий месяц — это апрель», — вспомнил докладчик, глядя, как профессор рвет листы и внимательно наблюдает, кто из студентов поступит так же.
Так сделали все. Медленно, неохотно, они рвали конспекты, подходили к мусорке, что стояла рядом с кафедрой, и бросали туда четкие математические выражения Попельского, результат его поисков бессонными ночами, никому не нужные знаки и формулы. А потом выходили из аудитории, понурив головы. Профессор Клапковский покинул помещение, вежливо поклонившись докладчику.
Попельский вытер доску, а потом со злостью отряхнул рукав пиджака от меловой пыли. Сложил свои бумаги в элегантную папку из страусовый кожи и двинулся к дверям. И вдруг остановился. На последней парте лежали исписанные листы, их никто не порвал, наоборот, они были аккуратно сложены, а возле них лежали ладони с длинными, тонкими пальцами и покрашенными красным лаком ногтями. Сумерки, которые наступили в неосвещенной аудитории и темные очки позволяли Попельскому разглядеть разве что хрупкие белые руки, украшенные маленьким перстеньком, полные красные губы и бледное лицо, обрамленное черными волосами. Эдвард снял очки и затаил дыхание.
— Панна Шперлинг? — спросил он единственную особу, которая осталась в аудитории и вопреки приказу профессора не порвала конспекта.
Молодая женщина улыбнулась и кивнула.
— Доброго вечера, пан учитель, — тихо заговорила она. — Я не разбираюсь в латыни, я пришла сюда к вам…
Попельский посмотрел на ее записи, сделанные красивым круглым почерком. Почувствовал дрожь в теле. Однако это не было признаком приближения эпилептического приступа. В Попельском шелохнулась надежда, которую у зрелого мужчины вызывает молодая женщина.
«Апрель жесточайший месяц, гонит
Фиалки из мертвой земли, тянет
Память к желанью, женит
Дряблые корни с весенним дождем»
[24],
— вспомнил Попельский строки из Элиота.
VII
Из всех многообещающих частей тела Ренаты Шперлинг наибольшее восхищение у Попельского всегда вызывал рот — и тогда, когда девять лет назад он готовил молоденькую гимназистку к выпускному экзамену по математике, и сейчас, когда она смущенно сидела в его кабинете, стискивая пальцы на ремне дешевенькой кожаной сумки. И хотя тогда ее губы были бледными, а сейчас подчеркнуты красной помадой, они и раньше, и теперь так же дрожали, складываясь буквой «о», когда тихонько произносили слова благодарности «за посвященное ценное время». Ее огромные зеленые глаза не изменились, под ними всегда лежали легкие тени, словно Рената чуть устала. И еще одно не изменилось, а именно пренебрежительное отношение кузины Эдварда к любой молодой женщине, которая его посещала. Такую реакцию Леокадии Попельский объяснял себе примитивно и наивно. «Лёдзина неприязнь, — думал этот «знаток женской души», — вызвана ощущением угрозы. Когда на моей орбите оказывается другая женщина, дорогая кузина ужасно боится, чтобы не лишиться своего привилегированного положения в доме. Вот и все!»
Узнав в университетской аудитории, что у Ренаты к нему неотложная и важная просьба, Попельский, учитывая предсказуемое поведение Леокадии, начал уговаривать девушку рассказать ему об этом в какой-нибудь ближайшем кафе.
Однако эту идею она отвергла, как и предложение вечерней прогулки в Иезуитском саду. Рената отказалась, мотивируя свое решение тем, что незамужней женщине не подобает показываться с мужчиной в такой поздний час, поэтому, мол, она все расскажет ему в университетском коридоре. Эдвард неохотно согласился. Однако его уступка была напрасной, потому что из здания их решительно и невежливо выгнал сторож, который просто-таки издевался над просьбой, а потом угрозой Попельского.
Nolentes volentes[25] им пришлось пройти метров сто и направиться в квартиру Попельского на улице Крашевского, где Ренату Шперлинг ждал холодный как сталь взгляд кузины Леокадии.
Однако эти неприятности встретили ее лишь в начале посещения, поскольку Эдвард позаботился, чтобы ограничить до минимума контакты панны Шперлинг со своими дамами, и пригласил Ренату в кабинет, где уже через мгновение она сидела за чашкой чая, сникла и обеспокоена.
Попельский любил такую растерянность у молодых женщин, поддерживая в них чувство неуверенности своим упрямым молчанием. Словно старый котище, он наслаждался беспомощными попытками прервать неловкую тишину, которую нарушали разве что выкрики уличного торговца за окном. Словно строгий экзаменатор, который не наталкивает на ответ, Эдвард не облегчал начала разговора и жадно созерцал трепетание ресниц, дрожание хрупких ладоней, румянец, что покрывал нежные щеки. Был готов и к флирту, и к эротическому нападению.
— Не знаю, с чего начать, — девушка уставилась в начищенные ботиночки.
— Лучшее из того, что не имеет отношения к теме разговора, — Попельский выдвинул из пиджака манжеты сорочки, чтобы девушка заметила золотые запонки. — Зачем вы записывали на моей лекции, ведь вы
expressis verbis[26] дали мне понять, что совсем не разбираетесь в этих проблемах?
— Не знаю, пан профессор, — ответила она, робко поднимая глаза. — Возможно, у меня осталась такая привычка с тех пор, как вы были моим учителем, а я записывала каждое ваше слово?
— Не называйте меня больше «паном профессором», — попросил он, улыбаясь. — Сегодня состоялась моя последняя лекция…
Глаза панны Шперлинг потемнели от гнева.
— Он такой подлый, тот ученый, который так на вас напал! — воскликнула она, вскочив со стула. — Он ничуть не был прав. Я в этом не разбираюсь, но так шептались студенты, что сидели возле меня… Он нарочно вас сбил с панталыку и унизил…
— Вы просто очаровательны в своем праведном гневе, — Попельский пытался держать чашку так, чтобы хорошо было видно его кольцо-печатка с мотивом лабиринта, выгравированном на черном ониксе, — однако еще не родился тот, кому удалось бы меня унизить! Кроме того, дорогая панна Шперлинг, эта мелкая неприятность, которую я сейчас получил от профессора Клапковского, уже забылась благодаря вашему присутствию и нашей встречи. Даже если бы мой доклад почтили овацией, ваше появление на нем все равно было бы для меня самой большой радостью…
Девушка едва улыбнулась.
— Очень прошу вас, пан профессор, — девушка смотрела ему прямо в глаза, — не обращайтесь ко мне по фамилии. Она мне не нравится, к тому же ее неудобно произносить. Лучше просто «Рената»…
— Меткое языковое замечание, — Попельский заговорил ласковым и чуть назидательным тоном. — Два согласных рядом — это действительно немного слишком. Но я согласен говорить вам «Рената», если вы больше не будете называть меня профессором, потому что я им не являюсь…
Воцарилась неловкая тишина, которой Попельский снова наслаждался.
— Я пришла к вам, — панна Шперлинг покраснела, — потому что вы единственный человек, который может мне помочь. Я заплачу за это. У меня есть деньги, отложенные на черный час… Попрошу вас, чтобы вы провели для меня расследование…
Попельский закурил сигарету, встал и подошел к окну. Захлопнул его. «Вот вам и метаморфоза, — подумал он, — панна Шперлинг из робкого девочки превращается в уверенную даму, что имеет наглость нанимать меня, как первого попавшегося извозчика! Как носильщика на вокзале!» А он так перед ней выкаблучивался! Какой же он смешной! Лысый, с отвисшим подбородком… Ему сорок четыре года и он столько пережил: ужасную смерть родителей, многочисленные приступы эпилепсии, войну и смерть жены после родов. Свою совесть он заливал ведрами водки, предавался разврату и дважды лечился от гонореи. А сейчас, в расцвете мужской силы, превратился в слугу, которого просто нанимают! Как лакея или водоноса! Как же низко он оказался: доктора Эдварда Попельского отовсюду выгоняют — из полиции его выкинул тупой начальник, а с университетского коридора — самый обыкновенный сторож! Доктор Эдвард Попельский готов танцевать ради кокетства этой куколки и несколько ее монет!
Doctor philosophiae[27] — к вашим услугам!
— …как частный детектив, — разъяренный, он едва слышал, что она говорит. — Я хочу, чтобы вы расследовали исчезновение моей хозяйки, пожилой дамы…
— Никакой я не частный детектив, — Попельский порывисто отвернулся от окна. — Я не тот, за кого вы меня принимаете. Я больше не преподаватель, не полицейский, а отныне — не реформатор латинской метрики. Меня нельзя найти. Я никто. Вы говорите с воздухом. Застоявшимся, затхлым и душным. Прощайте!
Рената Шперлинг подошла к Попельскому и умоляюще схватила его за руку.
— Не знаю, чем я вас обидела, пан профессор, — прошептала она, — но прошу меня выслушать! Только вы можете помочь! Мне угрожает большое несчастье! Бесчестье!
Попельский резко вырвал у нее свою руку, снова сел за стол и кивнул девушке на стул. Чувствовал, как пылает его лицо и лысина. Включил маленький вентилятор. По гладкой коже стекал за воротник соленый ручеек.
— Пожалуйста, — сухо молвил Попельский. — Скажите наконец, зачем вы ко мне пришли. Но говорите как можно короче, потому что меня ждет ужин.
Девушка робко села на краешек стула.
— Я живу в поместье в Стратине, это Рогатинский уезд, — быстро заговорила она. — Веду бухгалтерию поместья графини и графа Бекерских. Владелица имения — пожилая пани, графиня Анна Бекерская, а наследником является ее сын, граф, инженер Юзеф Бекерский. Две недели назад моя хозяйка исчезла, а граф заявил, что она уехала на воды за границу. Но это неправда, граф лжет! Я знаю это наверняка! Моя пани мне доверяла, и я непременно знала бы про ее планы. А она ничего не сказала об этой поездке… Кроме того, граф бурно реагирует, то есть, собственно говоря, грубо оскорбляет меня, когда я пытаюсь расспросить его о матери… Он жестоко избил шпицрутеном старого слугу Станислава, когда тот выразил сомнение относительно отъезда графини… Хотел его даже уволить, но за него вступилась жена… То есть жена Станислава, пани Саломея, ибо граф холост… Итак, пани Саломея… Она была няней графа, и ей удалось выпросить прощение для своего мужа…
— И вы хотите, чтобы я нашел вроде пропавшую графиню Анну Бекерскую, которая выехала на какой-то курорт за границей, потому что вам кажется, что это ложь, — Попельский перевел дыхание, как это недавно сделал профессор Клапковский перед решающим нападением на него, докладчика-неудачника, неважного преподавателя, осмелившегося ступить на запретную территорию науки. — Панна Рената, перед тем как озвучить мне ваш необычный заказ, да, очень необычный, потому что я должен разыскивать мать вопреки желанию сына, следовательно, перед тем как высказать свою просьбу, вы устраиваете мне настоящий театр, хватаете за руку, чуть не плачете, рассказываете, что вас могут обесчестить… Почему вы хотите, чтобы графиню так быстро разыскали, еще и готовы за это заплатить? О каком бесчестье вообще идет речь?
— Об обычном, об унижении, которое женщине может нанести мужчина, — голос Ренаты задрожал. — Сейчас незамужней бухгалтерше чрезвычайно трудно найти работу, к тому же мне некому помочь. Граф Бекерский об этом прекрасно знает и постоянно докучает непристойными предложениями, угрожая, что уволит. Он давно так себя ведет, называет «жидюгою» и «старой девой», публично выдвигает различные предположения, почему я, по его мнению, не вышла замуж. До сих пор за меня заступалась графиня. Сейчас, когда ее нет, я оказалась без защиты… Это очень важное дело, от этого зависит мое достоинство! Вот почему я пришла к вам… Приехала вчера, взяла отпуск, которого граф не хотел мне давать… Кричал, что я еду во Львов, чтобы предаваться разврату… Это больной человек, он придумывает такие вещи, что я и произнести не решусь… Я не могла вас найти, вы больше не жили там, куда я когда приходила на уроки, а сторож ничего не знает… Собиралась уже отправиться обратно, была просто в отчаянии… Но меня спас случай! Я прохожу мимо университета, и что же вижу? Афишу и объявление о вашем докладе! Однако сейчас вы не хотите мне помочь! Умоляю вас, пан профессор! У меня немного денег, как для такого джентльмена, но я соберу больше…
Рената расплакалась. Попельский смотрел на ее хрупкие плечи, которые вздрагивали от рыданий, и боролся с чувством сострадания
и сочувствия. Вентилятор на столе вращался быстро. Эдвард словно чувствовал его пропеллер у себя в груди.
— Эдвард, — кузина Леокадия стояла на пороге кабинета. — Я стучала, но ты, видимо, не слышал, — сказала она по-немецки, как всегда, когда хотела скрыть что-то от Риты. — Что ж… ничего удивительного, — взглянула на Ренату, потом снова на кузена. — Мы ждем тебя с ужином. Долго еще будет сидеть у тебя эта твоя приятельница?
Попельский встал, одернул пиджак, поправил галстук и задумался над ответом.
— Не помешаю вам больше своим присутствием, — сказала по-немецки Рената Шперлинг. — Я как раз собиралась уходить. До свидания! И приятного аппетита!
Девушка быстро вышла. Ее каблуки застучали в прихожей, а потом на лестнице. Попельский вошел в столовую, прошел накрытый стол и выбежал на балкон.
Девять лет назад он так же стоял на балконе своей бывшей квартиры на улице Дзялинских и смотрел на свою ученицу. Тогда ей было восемнадцать, сейчас двадцать семь, тогда на балконе лежал букетик стокроток, которые тайком подкинула ему Реня Шперлинг, выпускница немецкоязычной гимназии Юзефы Гольдблатт-Камерлинг.
Попельский вернулся с балкона и сел к столу. Служанка Ганна подошла к нему с супницей, полной молочной рисовой каши. Он попросил положить ему немножко риса и, улыбаясь, посмотрел на своих дам. Решение было принято.
— Дорогая Лёдзя, когда у меня будет свободный от уроков день?
— Через неделю, в ближайшую пятницу, 18 апреля, — кузина помнила его расписание. — Но напоминаю, это будет Страстная пятница.
— Пожалуйста, проверь железнодорожное сообщение до Рогатина, а потом попроси Ганну купить мне билет на Страстную пятницу и обратный на Страстную субботу.
— А тебе не кажется, что эти дни ты должен провести с семьей? — спросила по-немецки Леокадия. — Праздники важнее, чем посещение какой-то кокетки!
Однако Попельский прислушался не к словам кузины, а к цокоту каблуков на тротуаре.
VIII
Слушателями последнего доклада Попельского не были только филологи. Кроме красивой бухгалтерши Ренаты Шперлинг, лекцию Эдварда слушал его друг, аспирант Вильгельм Заремба. На заседании он, как и молодая пани, оказался совершенно случайно. Поздним пополуднем Заремба шел по университетскому коридору, и вдруг его внимание привлекло объявление с хорошо знакомой фамилией. Аспирант глянул на часы и понял, что лекция Попельского началась несколько минут назад, а до встречи в стенах Alma Mater, на которую собирался, оставалось пятнадцать минут. Чтобы скоротать время, Заремба тихонько вошел в аудиторию и пристроился на последней скамье, не привлекая ничьего внимания. В последнее время он нередко видел Попельского, однако в роли докладчика встречал его впервые.
Эдвард записывал на доске какие-то преобразования формул. Через минуту оказалось, что это лишь псевдоматематическая символика, и касается она филологической проблематики, а точнее — стихов некоего римского поэта по имени Плавт, о котором Заремба не имел ни малейшего понятия. В гимназии они, конечно, анализировали греческие и латинские гекзаметры и даже лирику Горация, но эти задачи обычно выполнял его товарищ по парте, который сейчас стоял за кафедрой и хорошо поставленным голосом объяснял какие-то формулы и упрощения.
Так вот, войдя в аудиторию, Заремба просто отключился и не слушал Попельского, однако это не означало, что он о нем не думал. Несмотря на то что прошли почти два года, с тех пор как Эдварда уволили из полиции, Вильгельм постоянно раздумывал, как смягчить то суровое наказание, которое упало на его друга. Заремба остро чувствовал не только отсутствие давнего товарища, но и полицейского коллеги. Кроме того, он беспокоился об Эдзё и предчувствовал зловещие последствия лишения его профессиональных обязанностей. Ему казалось, что Попельский начнет пьянствовать, станет эротоманом и постепенно разуверится во всем и превратится в опустившегося бродягу. Но сейчас он пришел к выводу, что эти предсказания были несправедливыми: вместо оборванного бродяги за кафедрой стоял подчеркнуто элегантный мужчина, вместо обескураженного циника — энергичный преподаватель. Заремба обрадовался, что Эдзё дает себе совет после потери работы и, облегченно вздохнув, вышел из аудитории.
Направился к северному крылу университетского здания, где в своем кабинете его ждал всемирно известный лингвист, профессор Ежи Курилович.
Заремба громко постучал и услышал такое же громкое «входите». Профессор встал, поздоровался и записал фамилию прибывшего на каком-то клочке бумаги, кивнул головой и показал на кресло для посетителей, стоявшее у стола, загроможденного картонными папками с тесемками. Эти папки занимали почти все полки, лежали на книгах и торчали отовсюду. Они были покрыты слоем пыли, из-под которой виднелись причудливые отметки, которые не вызвали у Зарембы никаких ассоциаций. И это ужасно раздражало полицейского, болезненно напоминая ему, что он полный невежда, чтобы приходить к профессору Куриловичу и выслушивать его экспертные выводы. Единственного пригодного для этого человека из полиции уволили, и сейчас это лицо находится в другом крыле здания, демонстрируя свое новое призвание.
— Я перевел этот текст, — отозвался профессор Курилович, помолчав минутку. — Он написан на библейском еврейском. Поскольку, как вам известно, пан аспирант, еврейский текст читается справа налево, свой перевод я записал вертикально. Посмотрите, — он сорвал клеенчатую завесу, которая закрывала доску. — Здесь все написано!
Заремба посмотрел на две колонки значков, захлопал глазами и закашлялся от меловой пыли. Достал блокнот, чтобы переписать увиденное. Мысленно выругался и послюнил карандаш. Он не знал еврейских букв и понятия не имел, как начать их переписывать — с причудливого колпака или изогнутой ножки? Это было известно другому человеку, который находился совсем недалеко отсюда и четко и громко анализировала ямбы и анапесты.
Профессор Курилович сосредоточенно вглядывался в окно, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти облик замечательного дома Рогатина. Такое поведение не было чем-то необычным. Знаменитый лингвист всегда смотрел в окно, прежде чем сделать какие-то важные выводы. Казалось, что хорошо знакомая картина помогала ему правильно сформулировать мысли.
— Не трудитесь, — сказал языковед, увидев беспомощные каракули в записной книжке Зарембы. — Все это переписал от руки мой ассистент, доктор Слушкевич. Пришлось ему немного повозиться, к тому же он не понял диакритик гласных и согласных, поскольку является прежде всего санскритологом, а не гебраистом. Надеюсь, его усилия оценят! А вот и письменная экспертиза! Да не читайте ее сейчас! В ней то же самое, что и там, — почти воскликнул он, кинув в сторону доски. — Смотрите туда, я дважды не буду объяснять.
Заремба облегченно вздохнул. Он ужасно обрадовался, что ему не придется ничего переписывать, поэтому не обиделся даже на сердитый тон ученого. Излишне широкий пиджак, коротковатые брюки другого цвета, лысая, небольшая голова, пенсне на глубоко посаженных глазах и длинный, как у Пиноккио, нос Куриловича — все это вызвало в Зарембы добродушную улыбку. Он взглянул на доску, где виднелось:
דםדרבןעיאויבאפםמותלבןשחרלאכויהולאחלי
דם кровь
דרבן острие
עי руина
אויב враг
אפס конец
מות смерть
לבן для сына
שחר утренней зарницы
לאכויה не [является] пятном
ולאחלי и не [является] злом
— Это еврейский язык, — профессор кружил вокруг доски в тесном кабинете, поднимая ноги высоко, словно аист, — который принадлежит к группе семитских языков. На этом же языке много веков назад написан Ветхий Завет. Точного времени не указываю, потому что разные книги Библии возникали в разные эпохи, например, так называемые исторические книги… Ну, ладно, — он быстро взглянул на Зарембу. — Не будем здесь играть в преподавателя, перейдем к теме! Итак, еврейский язык как живой до недавнего времени использовался исключительно в иудаистичной литургии и звучал в синагогах, однако лет тридцать назад наблюдается его возрождение в сионистичном прародителе. Он должен стать языком будущего иудейского государства! Но я опять утомляю вас разговорами, которые не имеют ничего общего с экспертизой… Итак, ваш текст записан в библейском стиле, однако в таком виде в Ветхом Завете он не встречается. Отдельные фразы, слова — да, но в целом это не цитаты из Библии. Я проверил это благодаря конкордансу
[28] Библии. А вы знаете, что это такое?
— Нет, — буркнул Заремба, который уже изрядно терял терпение. — Но я и не должен этого знать. Мне достаточную факта, что этот текст не происходит из Библии. В конце концов, это мало чем поможет следствию…
— Помогло бы больше, если бы вы рассказали мне подробнее о расследовании, которое ведут господа полиция. В свою очередь, — профессор закурил сигарету, не угощая Зарембу, — вы заметили, что сейчас я бессознательно принял странную аппозиционную коллокацию
[29] «господа полиция»?
— Ну, что же… — Заремба вспомнил категорический запрет рассказывать о деталях следствия. — Мы лишь просим перевести, а уже используем это сами…
— Следует добавить, что эта надпись может происходить из другого источника. Говоря «еврейский язык», мы имеем в виду прежде всего Ветхий Завет. Но нельзя забывать, что на этом языке в древности существовала богатая раввиническая литература, например, мидраши
[30]. Или ваши слова являются цитатой из этой литературы? Не знаю. Определение их происхождения превышает мою компетенцию.
— А кто мог бы мне в этом помочь?
— Раввин Пинхас Шацкер, пан. Это блестящий знаток послебиблейской литературы. И все конкордансы он держит в памяти, но… Вы же все равно не знаете, что оно такое…
— Итак, — Заремба сделал вид, будто не услышал последних слов профессора, и заглянул в свои заметки, — эта надпись явно не из Библии… Но может происходить из позднейших иудейских памятников, и я проверю это у пана Шацкера… Если он будет отрицать такую возможность, и окажется, что эта надпись не является никакой библейской цитатой, а сделана она на еврейском, которым пользуется лишь Ветхий Завет или сионисты, остается одно-единственное предположение: эти слова написал сионист, не так ли, пан профессор?
— Я так не считаю, сионисты используют разговорный еврейский, а здесь мы явно имеем дело с литературным текстом. — Курилович взял со стола длинную линейку и указал два еврейских слова. — Видите вот это, пан Заремба? Эту дательную фразу «для сына утренней зарницы»?
— Да.
— «Сын утренней зарницы» — это перифраза эдакого библейского, мифологического персонажа. Тот, кто написал «сын утренней зарницы», явно имел в виду именно это существо. Итак, он определенно пользовался библейской лексикой, хотя, как я уже сказал, это не канонический текст. Кто просто имитировал язык Ветхого Завета.
— А что это за мифологический персонаж?
— Очень зловещий, — профессор потушил сигарету и серьезно взглянул на своего собеседника. — «Сын утренней зарницы» передается греческим словом
heosphoros, то есть «тот, что несет зарницу». Сейчас вы поймете, если я скажу, как это передается на латыни.
Lucifer, пан, именно так, обычный латинский
Nominalkompositum[31] с характерной интерморфемою
— i-. А кто такой Люцифер, вам, конечно, известно. Попробуйте подставить его вместо «сына утренней зарницы».
— «Кровь, острие, руина, враг, конец, смерть, — перевел дыхание Заремба, — для дьявола не пятно и не зло».
Выйдя из кабинета профессора, полицейский сел на лестнице неподалеку кафедры классической филологии и начал лихорадочно записывать заметки в блокноте. Голова у него шла кругом после специфических объяснений Куриловича. Он знал, кто мог бы ему помочь разобраться в них. Однако этот человек нашел свое новое призвание и решал за дверью аудитории сложные лингвистические задачи.
IX
В Страстную пятницу Эдвард Попельский ехал поездом Львов-Станиславов. Сидел в вагоне третьего класса напротив неопрятного студента, который увлеченно читал какой-то приключенческий роман. Рядом с погруженным в книгу юнцом расположилась мощная, краснощекая селянка с плетеной корзиной на коленях. Взгляд Попельского странствовал от одного до другого соседа. Эдвард пытался нашествием ассоциаций заглушить внутренний голос, который с самого утра критиковал его начинания. Поэтому Попельский сосредоточился на студенте и его чтиве. «Интересно, этот Марчинский, — думал он, разглядев фамилию автора и едва заметное название главы «… на фоне войны в Марокко», — это именно тот, с которым я познакомился на Персенковце во время обороны Львова?»
Но воспоминания не приглушили того внутреннего голоса, который сейчас упрекал: «Ты, старый дурак, болван такой-сякой, ты даже хорошо не знаешь, куда едешь, не говоря о том, что просьба смазливой Рени может быть самой обычной прихотью и вообще уже не иметь для нее никакого значения!» Он отвел взгляд от книги Марчинского и взглянул на селянские вкусности, что виднелись из-под вышитого рушника в плетеной корзинке: колбасу, копченую грудинку и кровянку.
Почувствовал голод, но не настолько чувствительный, чтобы это могло утишить разгневанный голос, который постоянно упрекал: «Почему ты не сообщил ей, что решил взяться за это дело? А может, она уехала? У тебя что, много денег, чтобы растрачивать их на весенние путешествия по Львовщине?!»
В вагон вошел кондуктор и прокомпостировал билеты. Селянка сказала по-украински, спрашивая, далеко ли еще до Ходорова. Попельский обрадовался, услышав, что они прибывают туда через четверть часа. Именно в этом городке у него была пересадка до Пукова. Несмотря на украинку с корзиной, полной пасхальных блюд, Эдвард погрузился в размышления: неужели в этом году римско-католическая Пасха приходится на то же воскресенье, что и греко-католическая Пасха? Раскрыл блокнот, силясь припомнить себе алгоритм, благодаря которому можно было вычислить дату Пасхи по юлианскому календарю.
Но даже это не успокоило невидимого критика. «Ты влюбился в хорошенькую иудейку? — насмехался голос. — И чем собираешься ее завоевать? Чем хочешь покорить? Кружкой пива, которой угостишь Ренату, оставив перед тем в ломбарде свои запонки? Глянь на себя, на кого ты похож, полинявший сатир! Посмотри на свои потрескавшиеся ботинки, на потрепанные манжеты, вытертые рукава пиджака!»
Поезд миновал село Отинию, озерцо за ним и медленно въехал в Ходоров. Попельский вежливо попрощался со студентом, пропустил вперед украинскую селянку и сквозь темные очки начал разглядывать сонное местечко. Такой типичный пейзаж был ему хорошо знаком: маленькие, кособокие хатки, пожарное депо, барочный костелик и маковка церкви, облака пыли, жиды в ермолках и лапсердаках, собаки, которые слонялись по хатам и становились передними лапами на низкие подоконники.
Давно знакомый пейзаж тоже не утишил внутреннего критика: «Ну, и что ты будешь делать два часа до отъезда поезда до Пукова? Будешь волочиться по грязным пыльным улочкам или, может, пойдешь в кафешку и вытряхнешь несколько грошей на чай и засохшую булку?!»
Поезд затормозил, Попельский выпрыгнул из него вместе с несколькими пассажирами и оказался на перроне, вымощенном неровными плитами. Закурил сигарету.
«Ну, и что ты теперь будешь делать?» — не унимался глумитель.
— Я знаю, что сделаю, ты, тварь! — тихо сказал Попельский своему внутреннему собеседнику и радостно усмехнулся.
Под информационным табло посреди перрона стояла стройная, ловкая женщина с черными блестящими волосами.
Как раз ее собирался сегодня посетить Попельский. «Ну, и чего ты ждешь, ловелас? — докучал назойливый враг. — Что она упадет тебе в объятья?! Да она тебя сейчас прогонит: «Вон отсюда!» — вот, что ты услышишь!»
Рената Шперлинг тоже заметила Попельского и побледнела. Поставила саквояж на грязный перрон.
— Возвращайтесь во Львов! Вы мне больше не нужны! — воскликнула она.
Внутренний голос удовлетворенно захихикал, но Попельский не обратил на него внимания.
Он никогда не отличался особой решительностью в завоевании женщин. Его напрягали флирт, ухаживания, многозначительные фразы, целование ручек, любовные листики и букетики. Аналитический ум Попельского не терпел бесконечных размышлений о том, что какой-нибудь жест, слово, улыбка или что-то подобное обещают незабываемую ночь. Не понимал также некоторых своих товарищей, которые ухаживали за женщинами просто из-за спортивного интереса, сравнивая себя с охотниками, что из-за переизбытка адреналина стремятся затащить свою добычу в постель. Поэтому Эдвард отдавал предпочтение быстрым победам или платной любви. Первое с годами случалось все реже, второе, из-за отсутствия денег, становилось все менее эстетичным. Отсутствие интереса со стороны женщин немедленно его разохочивало. Попельский не был типом упрямого покорителя женских сердец.
Разве что этой женщиной была Рената Шперлинг.
Эдвард сразу же забыл о ее неприветливости и о надоедливом внутреннем голосе, вместо этого он сыпал остротами и постепенно преодолевал холодность Ренаты, пока та не согласилась выпить с ним чаю в ближайшем ресторанчике.
Они были единственными клиентами в чистеньком, скромном заведении, где им принесли жиденький чай и глюден, то есть миндальный пирог с фруктами.
— Скажите-ка мне, панна Рената, — Попельскому наконец надоело непрестанно шутить и он перешел к делу, — почему вы больше не хотите, чтобы я занимался вашей просьбой?
— Простите мое поведение на вокзале, — девушка поднесла стакан ко рту и не смотрела на Попельского. — Я посмела накричать на вас! Мне так стыдно…
— Ничего, — усмехнулся тот. — На такого бродягу, как я, стоит временами наорать. Потому что еще загоржусь, чего доброго…
— Я отдам вам деньги за дорогу, — Рената не улыбнулась в ответ. — Пожалуйста, возвращайтесь во Львов…
— Поеду, если узнаю, почему вы решили отказаться от моих услуг…
Он замолчал и смотрел на Ренату, пока та не отвела глаз от пепельницы и не взглянула на него.
— Вы пробудили во мне много надежд, — повторил Попельский, улыбаясь. — Неужели вы думаете, что теперь я скажу: ну что ж, бывайте? Э нет, я так легко не сдаюсь!
— Это уже неважно, потому что я бросила работу в Стратине, — тихо сказала Рената, робко поглядывая на официантку, которая, видимо, была владелицей ресторана и сейчас явно прислушивалась к разговору.
— Так куда вы сейчас едете? Не в Стратин?
— Я была во Львове, чтобы найти совместно с кем-то комнату. Долго не могла ничего подобрать. Я почти никого там не знаю, мои гимназические подруги повыходили замуж, и мне неудобно их беспокоить… А теперь еду до Стратина за своими вещами.
— Тем более я не брошу этого дела, — Попельский забыл про маску ловеласа и сжал кулаки. — Это моя вина! Я отказался, а граф, видимо, снова к вам приставал, и вы вынуждены были уехать из Стратина! Вот так! Хорошо же я вам услужил! Не нужны мне никакие деньги! — он повысил голос. — Никакие! О нет, дорогая Рената, я так легко не сдаюсь! Отыщу графиню, и она снова возьмет вас на работу!
— Умоляю, говорите тише, — прошептала Рената и робко коснулась его ладони. — Я знаю, что вы со всем справитесь! Вы очень мужественный! И
пес Hercules contra plures!
[32] Граф Бекерский, — она шептала так тихо, что Попельский с удовольствием перегнулся через стол, приблизив ухо к ее полным губам, — граф Бекерский — это садист и дегенерат, окруженный головорезами, какими-то подозрительными россиянами, которые по его приказу совершат худшую подлость! Я верну вам деньги за дорогу!
— Неужели вы думаете, что я испугаюсь каких большевиков? — Попельский оперся на спинку стула и пренебрежительно усмехнулся.
Он знал, что его широкая, выпяченная вперед грудь всегда нравилась женщинам. Немало дам прижалось к ней, а одна когда-то неистово била его кулаками, желая, чтобы у него заболело там, где она так любила засыпать.
— Дорогая панна Реня, — коснулся ее руки, — вы были маленькой девочкой, когда я сражался с русскими на большевистской войне. Вы еще подол распашонки запихивали в хорошенький ротик, когда я бил кацапские квадратные морды! Знаете, что по-русски значит «морда кирпича просит»? Так говорят про отвратительную рожу, которую невтерпеж подпортить кирпичом… Знаешь, сколько раз я такое делал? — Он поднес Ренатину ладонь к своим губам. — Что же, иди, детка, потому что на поезд до Пукова опоздаем…
Пропуская ее в дверях и жадно глядя на Ренатины икры и бедра, он снова услышал издевательский голос своего внутреннего собеседника: «Жаль, что ты не рассказал ей, что сделали с тобой большевики в доме священника в Мозыре!»
X
На станции в Пукове Ренату Шперлинг ждал крепко сложенный, высокий старик с двумя свежими шрамами на лице. Эти раны и форма лакея, украшенная подковой с мальтийским крестом, сразу объяснили Попельскому: перед ним стоит изуродованный графом Бекерским камердинер Станислав, что о нем, как о человеке достойном доверия, когда-то рассказывала Рената в Львове. Эдвард кивнул слуге. Тот представился, и Попельский, кроме известного ему ранее имени, услышал также фамилию.
— Вьонцек.
Камердинер торжественным жестом указал на бричку, которая стояла посреди запыленной дороги. Рената легко запрыгнула внутрь, а Попельский тяжело упал на сиденье. Двинулись. Когда ехали вдоль зеленых полей, Рената коротко рассказала Вьонцеку про задачи Попельского. Возле села Пуков, удаленного от станции на какие-то полтора километра, камердинер остановил бричку и предложил следующее:
— Прошу вельможного пана, — несмотря на кроткие слова, голос слуги был полон достоинства, — чтобы вы сейчас слезли и к дворцу прибыли через несколько часов. Лучше всего в пять. Удобнее всего это сделать таким образом: найти велосипед у владельца лавки, к которой мы приближаемся, и приехать к дворцу на велосипеде. Если не будет владельца, вам дадут велосипед у мельницы Чаплинского или у кузнеца Свериды. Это совсем близко отсюда, там, — он указал на дома за несколько десятков метров. — Но одолжите его уже сейчас, как можно быстрее, потому что сейчас селяне рано уйдут из дома, чтобы пускать скорлупы на Рахманскую Пасху. А затем направятся к церкви. Итак, сейчас вы поищите велосипед, подождете до пяти, приедете ко дворцу, уладите дела с графом, а потом вернетесь в Пуков под эту лавку. А я уже здесь буду ждать с госпожой Ренатой и поедем вместе на станцию.
Они остановились у деревянного дома, на котором виднелась вывеска, написанная на украинском. «Согласие», — прочитал Попельский. Он вышел из брички, поцеловал Ренате руку и крепко пожал костлявую руку Вьонцека, приятно удивив этим старика, закурил сигарету и подождал, пока оба поедут. Потом обеспокоенно обыскал все карманы. Нашел там только обратный билет на поезд Пуков-Ходоров-Львов, визитку несуществующей адвокатской канцелярии, где он якобы работал, и пять грошей. И разозлился. Не желая компрометировать себя в глазах Ренаты из-за нехватки денег, он не решился попросить камердинера, чтобы тот подвез его как можно ближе к поместью Бекерских!
— Однако, — молвил он себе. — Ты все промотал на чай и пирожные в ходоровской кафешке, так теперь придется
per pedes!
[33] За пять грошей никто здесь не наймет тебе велосипеда, старый дурак!
Он даже не пытался убедиться, насколько точны были его предсказания, и пошел по селу, направляясь в ту сторону, где в облаке пыли исчезли камердинер Станислав Вьонцек и Рената.
Небо дышало почти летней жарой. Пыль покрывала ботинки Попельский, его легкие впитывали пыль, а сорочка и внутренняя лента шляпы пропитались потом. Под темными очками собирались капельки влаги. Попельский отпустил галстук, забросил на плечо пиджак и пошел дальше, не обращая внимания на заинтересованные взгляды женщин за заборами и равнодушные — детей в длинных распашонках возле домов. Отвечал по-украински «взаимно!» на приветствие «Веселой Пасхи!» и «До Стратина» на вопрос «Куда идете, пан?» мужчин в вышиванках. Отгонял надоедливых мух и присматривался к здоровенным кудлатым собакам, которые громко брехали на длинных цепях.
Миновав последние дома Пукова, услышал скрип телеги. Заслонив глаза от солнца, остановился с надеждой, что возница едет дальше окрестных полей.
Он не ошибся. На возу расположилась многочисленная семья. Возница, назвавшись Винцентием Соником, охотно пригласил путника к себе и начал расспрашивать о том же, что и пуковские селяне. Частный детектив решил воспользоваться случаем и рассказал про поиски графини и поинтересовался, известно ли ему что-нибудь о ее исчезновении. Но тот отрицательно покачал головой.
Добрались до села Добринов, что между Пуковом и Стратином. Там Соники собирались провести праздники у родни. Попельский решил попрощаться с ними, но оказалось, что это непросто. Добриновские кровники возницы хотели угостить львовского пана и узнать, что привело его в такую даль. Закончилось тем, что Попельский рассказал о цели своего приезда, но, не услышав ничего об исчезновении графини, вежливо поблагодарил за гостеприимство и отправился дальше пешком.
По дороге его догнал возом Винцентий Соник с несколькими родичами. Они решили, что не годится ему идти, да и отвезли аж до Стратина. Там Соник попрощался со своим пассажиром, одарив пасхальным пирогом, который здесь звали «марцинком». Детектив хотел отблагодарить двумя последними сигаретами, но Соник отказался.
— Те городские сигареты мне горло дерут, — селянин усмехнулся, хлопнул батогом и махнул Попельскому рукой.
Тот огляделся вокруг. Поискал взглядом колодец, возле которого можно было бы утолить жажду и немного привести в порядок запыленную одежду. Колодца не заметил, зато увидел темный поток с ровным берегом, поросшим травой и деревьями, что явно делил село на две части. Над потоком кое-где стояли небольшими группками люди. «Передохну, — решил Попельский, — а потом спрошу, как добраться до имения графа».
Подошел к селянам, поздравил с Пасхой, узнал, как дойти до дворца, а затем упал на свежую и мягкую траву, сняв перед этим пиджак и брюки, чтобы не испачкать травой. До пяти оставалось еще два часа.
Он сидел в одном нижнем белье и сорочке, ел вкусный пироги раздумывал, как лучше повести разговор с чрезмерно импульсивным графом. Просчитав различные последствия своих действий, Попельский уже в который раз сегодня пришел к выводу, что слишком поторопился с этим делом.
Чтобы довести его до желаемого завершения, нужно было приехать с достаточной суммой денег, пожить где-то поблизости несколько дней, расспросить разных людей, которые могли видеть пропавшую графиню, кого-то запугать, других подкупить. А вместо этого он выдает себя за чиновника из адвокатской канцелярии, не имеет при себе ни гроша и суется прямо в логово хищника, к какому-то уроду и садисту, где графу опричники могут его просто бросить в навоз, отодравши перед этим батогами. И все из-за того, что хочет показать хорошенькой панночке, какой он герой, Геракл, что может соперничать
contra plures!
[34]
Попельский отдался этим невеселым размышлениям, закрыв глаза и прислушиваясь к возгласам селян, которые бросали в воды скорлупу яиц. По народным поверьям, на сороковой день после Пасхи они должны добраться до рахманского края, где на Рахманскую Пасху снова превратятся в яйца, которыми будут питаться жители этой мифической земли. Украинский язык, вопреки полученным лингвистическим знанием, вдруг начал ассоциироваться у него с русским. И в этот миг Попельский заснул и вместо берега над потоком Студеным под Стратином оказался над Припятью в Мозыре. Вместо четких украинских слов послышалась мягкая, словно раззявленная «бескостная речь», как называл ее Томас Манн, и Попельский увидел себя одиннадцать лет назад, во время войны. Одетый в сутану и шапочку ксендза, Эдвард стоял среди пьяных большевиков. Он, поручик 9 Пехотной дивизии, целовал им руки, а они стягивали сапоги и приказывали целовать себе ноги. Попельский содрогнулся от унижения. Тогда один из советов бьет печатью его лысую голову. На покрасневшей коже отпечатываются слова «Римско-католический приход в Мозыре». На земле лежит зарезанный ксендз, в чью сутану по приказу командира большевиков пришлось переодеться Попельскому. Пьяный главарь по фамилии Щуков держит за волосы маленькую глухонемую девочку, которая служила у ксендза. Поднимает ей ночную сорочку и хватает малышку за промежность. «Давай, поляк! — орет он. — Ты теперь римский священник! Целуй руки и ноги русским товарищам, а нет, так я буду ебать эту красавицу».
Попельский проснулся и открыл глаза. Над ним кто-то стоял. Мозырские воспоминания прекратились, но русская речь осталась. Отчетливо услышал: «Это наш молодец!» И тогда ему на голову опустился первый удар.
Попельский прикрыл лысину и инстинктивно откатился по траве. Но все было напрасно. Он остановился возле какого-то дерева. Погрузил пальцы в мягкую землю и попытался встать. Но не успел. Дерево оказалось ногой в высоком военном сапоге. Носок нацелился ему в лоб. Попельский потерял равновесие и тяжело упал на ягодицы. Он мог бы хорошо видеть нападавших, если бы не кровь, которая заливала ему глаза. Видел только владельца военного сапога. Им был мужчина лет сорока, одетый в бриджи и костюм спортивного покроя, подпоясанный ремнем. Густые, жесткие черные волосы нависали над лбом, из-под которого смотрели глаза, настолько крошечные, что казались вдавленными в череп. Мужчина поднял руку и остановил остальных нападавших, которых Попельский не видел, но чувствовал их присутствие за спиной.
— Здесь все мое, — нападавший сделал круг рукой и обернулся вокруг собственной оси, — и все здесь — мои рабы. Собственность графа Юзефа Бекерского с герба Ястшембец (
Ястржембецих?). И все мне докладывают. Про все, что здесь творится, кто новый сюда прибыл и зачем. Это моя земля. А ты сюда вломился без приглашения. Вылеживаешься на берегу, как дачник, в одном нижнем белье и сбиваешь с панталыку благочестивых селян.
— Никого я не сбиваю с панталыку, — краем глаза Попельский увидел еще троих мужчин, что стояли за ним. — Вчера забрал белье от прачки.
— В самих обосранных кальсонах, — граф поправил прядь волос, что ощетинилась у него ему над лбом. — Буду стегать тебя нагайкой до тех пор, пока ты не обосрешься. Истечешь говном от боли.
Глянул над головой Попельского, подавая знак своим опричникам. Эдвард вдруг оказался внизу. Бицепсы, которыми он совсем недавно поигрывал перед Ренатой, прижимали к земле твердые колени противников. Прижавшись щекой к земле, заметил, что ему на руки уселись двое людей в папахах.
Третий, одетый так же, как и его товарищи, запихнул голову Попельского между своими коленями, стискивая тому уши, словно в тисках, оперся обеими руками на его затылок и вогнул ее в мягкую траву.
Попельский больше ничего не видел, не мог пошевелиться, во рту ощущал жирные комья чернозема.
И тогда почувствовал второй удар.
Граф Бекерский стегнул нагайкой так сильно, что сорочка Попельского треснула на спине. Следующие удары были очень точно отмерены, попадали все время в одно и то же место. Граф скалился в усы, заметив, как полоса, сперва слегка покрасневшая, под новыми ударами вспухает на глазах, а вдоль нее виднеется мясо, испещренное струйками густой крови. Через минуту сорочка была порвана, а спина катавшегося Эдварда покрыта глубокими бороздами.
Бекерский бросил нагайку, вытер лоб белым носовым платком с кружевной каймой, запихнул руки в карманы брюк и вытащил их, сжимая что-то в ладонях. Тогда громко загоготал и разжал сжатые кулаки. Соль покрыла растерзанное мясо белым слоем.
Попельский вжался в землю. И вдруг давление колен на уши ослабло.
— Никогда никого не спрашивай о моей матери! — услышал он тихие слова Бекерского. — Никогда не приезжай в мое поместье!
Ну, Сашенька, давай-ка сюда колючую проволоку!
Уши Попельского снова оказались в тисках. Он не понял слов «колючая проволока», но их немедленно поняло его испытывающее боль сознание. Это стало для него идиомой, которая значила «бесконечные страдания».
Бекерский кинул на фиолетово-красную вспухшую спину Попельского густую сетку из колючей проволоки.
Россияне продолжали кровавое дело. Прыгали по неподвижному телу, прижимая сетку к растравленным ранам и рассыпая вокруг горсти соли. Солнце жарило, испуганные селяне все теснее толпились на берегу Студеного, а палачи пинали ногами лежащего.
Граф Бекерский неподвижно стоял рядом и наслаждался страданиями своей жертвы. Тогда носком ботинка раздвинул ему ноги.
—
Хватит! — он прекратил этот танец. —
Посмотрим, ребята, обосрался он или нет… Нет… И что нам теперь делать?
Он стал над Попельским, широко расставив ноги, а затем расстегнул ширинку.
— Видишь, какой у меня полный пузырь? — спросил граф, направляя струю на голову истязаемого.
Попельский очнулся и дернулся назад. Выгнулся дугой и перевел дыхание. Это было необходимо не для того, чтобы выжить, а чтобы завыть. Должен выть. Иначе бы умер. Бекерский вдавил его лицом в землю.
— Постоянно какие-то твари приезжают сюда и расспрашивают про мою мать! — тихо цедил он. — А я так поступлю с каждым, вот как сейчас с тобой. Возвращайся во Львова к своему дружку! Слышишь, нишпорко?
Застегнул ширинку.
Один из россиян поднял ногой голову Попельского. Тело детектива легонько вздрагивало.
—
Смотри, граф! — отозвался россиянин Бекерскому. —
Эта морда кирпича просит!
Размахнулся и со всей силы нацелил носком в нос Попельского.
XI
Угол улицы Пильникарской и Старого Рынка был для раввина Пинхаса Шацкера желанным местом проживания, поскольку неким непостижимым образом идеально соответствовал личности и научным интересам настоящего ученого мужа. С углового балкона квартиры он видел место своего духовного служения — ближайшую синагогу, а также церковь св. Иоанна Крестителя. Именно этому еврейскому пророку раввин посвятил несколько статей в немецких востоковедческое изданиях. Всего за пять минут можно было дойти до архиепископского дворца, где он посещал своего друга, секретаря архиепископа Твардовского, ксендза Тадеуша Мазура. Эта дружба официально объяснялась общими научными исследованиями, а неофициально — страстью к ксендзовым наливкам. Оба изрядно любили их смаковать, споря при этом о палестинской ономастике или возможности ассимиляции еврейского меньшинства в Польше, поскольку раввин Шацкер был горячим сторонником этого явления.
Эти взгляды раввина решительно разделял также аспирант Герман Кацнельсон, который сидел в его кабинете, наблюдая, как слегка затуманенные глаза Шацкера пристально рассматривают через лупу еврейский текст, которым убийца Любы Байдиковой объяснил свою кровавую расправу.
— «Кровь, острие, руина, враг, конец, смерть для сына утренней зарницы не является позором и не является злом». Профессор Курилович перевел верно, — Шацкер положил лист, — и мне нечего добавить. Хотя, по моему мнению — очень вероятно, что эта надпись не происходит ни из одного известного мне еврейского произведения, написанного после Торы.
— Если это не парафраз и не цитата, — Кацнельсон явно хвастался научной лексикой, — возможно, тот, кого мы разыскиваем, просто это выдумал. Насколько он должен владеть языком, чтобы ему такое удалось? И можно ли на основании надписи установить, что его автор учился в какой-то еврейской школе?
— Это очень простое предложение, пан аспирант, — едва усмехнулся раввин. — Его мог написать каждый, кто хоть немного изучал древнееврейский. Конечно, он должен знать алфавит и уметь пользоваться словарем. По моему мнению, человек с заурядными способностями написал бы такое, проучившись два месяца. Классический древнееврейский преподают, конечно, в хедерах и ешивах, но кроме того, на разных курсах. Во Львове сионисты из «Бенаї Берітг Леополіс» проводят минимум два курса библейского еврейского. Представьте, что в Германии этот язык преподают даже в гимназиях, причем охотнее всего учатся будущие пасторы. Но такое возможно в цивилизованной стране, а не в Польше… У нас до сих пор господствуют предрассудки… Я сам знаю некого ксендза…
— Наинтереснейшие слова тут, — Кацнельсон решил не слушать политических размышлений и не терял надежд на какое-то указание, — это «сын утренней зарницы». Надпись, добавлю, сделал человек, совершивший преступление. Этот убийца может сам себя называть «сыном утренней зарницы», то есть сатаной. Как бы вы это прокомментировали?
— Если мы согласимся с тем, что речь идет о сатане, — Шацкер поднялся и стоя листал старое, оправленное в кожу, издание еврейской Библии, что лежало на массивной подставке, — то, очевидно, имеем дело с христианской традицией. Потому что именно в ней один ассирийский или нововавилонский царь, которого Исайя в четырнадцатой главе насмешливо назвал «бен шахар», то есть «сын утренней зарницы» или «утренняя зарница», отождествляется с сатаной. Наш пророк высмеивал этого царя, говоря: «Как упал ты с небес, о сын утренней зарницы, ясная заря, ты разбился о землю, погромщик народов!» Того же царя христианские интерпретаторы Тертуллиан и Ориген признали сатаной, сброшенным с небес в преисподнюю, то есть ад, а латинские толкователи назвали его «Люцифером», тем, что несет свет. Итак, если в вашей надписи действительно идет речь о Люцифере, я осмелюсь предположить, что его сделал христианин.
— Спасибо, — Кацнельсои поднялся со стула. — Мы найдем этого Люцифера или секту его сторонников…
* * *
— Секту поклонников дьявола? Во Львове? — комиссар Фрацишек Пирожек разразился смехом.
Бывший полицейский, который работал в Воеводском управлении, которое львовяне продолжали называть «наместничеством», в секретном Отделе общественной безопасности, хохотал, постукивая мундштуком об мраморную столешницу.
— Чего это ты, Вилюсь, прицепился к тем сатанистам, да еще и сразу по праздникам? Масонов могу тебе показать множество, но чтобы сатанистов?
Заремба разделил вилкой шварцвальдский торт и отправил в рот большой кусок. Но это не подсластило ему горьких мыслей.
Крепкий кофе и тминная водка,
spécialité de la maison[35] кафе «Театральная», тоже не помогли.
— Может, мы доберемся до сатанистов через масонов? — Заремба сам не верил в свои слова.
— Ой, Вилюсь, тебе лишь бы шутить, — Пирожек машинально просматривал фото из фильма «Красота жизни», которые добавляли в меню. — Ты ужасно поддаешься на церковную пропаганду, мол, масоны — прислужники сатаны. Тогда как на самом деле это группа солидных бизнесменов, аристократов, у которых, возможно, не все в порядке с головой, потому что они до сих пор не выросли из детских штанишек и играют в тайных бандитов…
— Но я слыхал, будто их ритуалы похожи на сатанистские…
— Их ритуалы вызывают смех у них самих, уверяю тебя. Знаешь, что они делают во время своих обрядов перед началом заседания ложи? Преимущественно спят. Наш информатор, известный хирург, рассказывал мне, что он очень любит эти ритуалы, потому что они дают ему возможность подремать после операций в больнице…
Заремба допил кофе и поднялся, оставляя, вопреки своей страсти к сладкому, недоеденный кусок торта. В желудке чувствовал неприятную тяжесть. Протянул руку Пирожеку и надел котелок.
— Спасибо тебе, Франек, — произнес он, глотая слюну, — что ты согласился неофициально поговорить со мной и обошлось без служебных формальностей. Чем меньше людей знает об этом деле, тем лучше…
— Послушай, Вилюсь, — Пирожек стал серьезнее, — я тебе кое-что скажу напоследок. Я не утверждаю, что у нас нет сатанистов. Но даже когда они есть, то конспирируются так, что наши информаторы не имеют никаких шансов к ним приблизиться, а не то, чтобы присутствовать на их обрядах. Расскажу тебе, что я услышал в Варшаве на курсах в Специальном отделе. Два года назад одна молодая проститутка, почти ребенок, сошла с ума. В минуты, когда к ней возвращался рассудок, девушка утверждала, что ее заставляли разные ужасы, например, кушать вареных младенцев… Она указала на дом некоего полковника, где все якобы происходило. Возникли определенные подозрения, слуги подтверждали, что у жены офицера стоял в спальне перевернутый крест, что по ночам в гостиной пели на латыни… Как ты догадываешься, следствие быстренько закрыло дело уважаемого полковника, а его самого вскоре отправили в какую-то дипломатическую миссию. Это единственное известное мне дело о сатанистах в Польше…
— А не знаешь, кто вел это варшавское следствие?
— Знаю, но тебе не скажу, — виновато улыбнулся Пирожек. — Мне еще нужно дотянуть до пенсии… Обидно, но сейчас тебе остается узнавать все только официальным путем…
— Я бы сказал, что этот путь никуда не приведет, — ответил Заремба.
Выйдя из кофейни, аспирант постоял на улице Скарбковской, задумчиво разглядывая людей, стоявших в очереди к кассе кинотеатра «Лев», который находился в том же доме, что и «Театральная».
Он не мог понять, почему занимается этим делом настолько, что посвящает ей свое внерабочее время. В это время он должен быть дома и потреблять на ужин свои любимые нельсонские зразы, а не бродить по кофейням, напихивая живот пирожными и хлебая кофе, о котором крупнейшие медицинские светила говорят, что он вреден. «Уже и живот разболелся, — думал он, — и нет аппетита ужинать с семьей. Почему я не могу понять, что это дело такое же, как и любое другое, и над ним надо работать не больше, чем восемь часов в сутки, а если оно зайдет в тупик, то на мне это не отразится, максимум Грабовский прочитает нотацию Коцовскому?! И несмотря на все это, оно меня так беспокоит. Какого черта?!»
Решил, что ответ на этот вопрос будет легче найти после рюмки охлажденной водки.
Направился в сторону Большого театра, убеждая себя, что это повысит ему аппетит и хорошо повлияет на едва ощутимую тошноту, которую он чувствовал. Кроме того, жена все равно его будет ругать, потому что он уже опоздал на семейный ужин по крайней мере на полчаса.
Возле площади Голуховских Заремба зашел в кафе Гутмана. Это был такой же дрянной кабак, как и расположенная
поблизости забегаловка Бомбаха, воспетая львовскими батярами. Облокотился на стойку и заказал сотку водки, кусок черного хлеба со шкварками и соленый огурец. Получив заказанное, он обернулся к посетителям, что заполняли зал. За шаткими столиками сидели нищие студенты, мелкие коммивояжеры, извозчики и карманные воришки. Первые спорили о политике над стаканами некрепкого чая, остальные пили пиво или улаживали свои темные дела. Один мужчина, что стоял в противоположном углу зала, резко выделялся среди других. Он не принадлежал ни к одной из этих групп: ни с кем не разговаривал, ничего не пил и, вместо того чтобы сидеть, стоял, не обращая внимания на заигрывания густо накрашенной проститутки. Он тупо смотрел на жестяную вывеску с рекламой о том, что «Окоцимское мартовское пиво имеет несравненный вкус и помогает вернуть силы и здоровье». Все обходили его издалека, даже навязчивые обычно официанты не трогали странного клиента, настолько жуткое впечатление производили его вспухший нос и синяки на лице, которые он тщетно пытался скрыть за темными очками с треснувшими стеклами.
В отличие от других, Заремба не только не обошел его, а наоборот, угрюмо двинулся к нему, неся в руках две пятидесятки водки и тарелочку с неприхотливой закуской. Чем ближе он подходил, тем сильнее его сдерживала какая-то сила. Этот человек, некогда такой элегантный, выглядел сейчас, как последний бродяга: покрытые царапинами щеки, грязные ногти, словно руками тот вымешивал сечку для скота, и глуповатая усмешка, которая напоминала Зарембе известного львовского вар’ята
[36], который во время концертов в парке всегда становился рядом с капельмейстером и дирижировал оркестром. Из уст этого мужчины две недели назад слетали сложные научные термины, а сейчас — вульгарные проклятия. Тогда он обращался к студентам, а сейчас отборной бранью облагал дешевую проститутку.
Заремба вернулся к бару, выпил обе рюмки и мгновенно отыскал ответ на свой вопрос. Он был такой: я отдаю все свои силы делу Любы Байдиковой, потому что хочу быть таким, как Эдзё Попельский, который этому следствию посвятил бы себя полностью. Хочу быть таким, как Попельский.
Глядя на руины того, кто был его другом, он понимал, что этот ответ перестал быть правдой.
Заремба надел котелок и с тяжелым, словно набитым камнями, животом вышел из кабака, толкнув в дверях красивую черноволосую женщину.
Дома его ждали упреки жены и холодные нельсонские зразы, которые он съел быстро, несмотря на спазмы в желудке, а затем внезапно выблевал. Содрогаясь от приступов рвоты, он в минуты облегчения видел израненное лицо Попельского и себя самого — Иуду, который даже не подошел к избитому и психически искалеченному другу. Блевал всем, что успел ныне употребить, но угрызений совести извергнуть из себя не удалось.
XII
Когда Рената Шперлинг заходила в кафе, ее толкнул какой-то человек в котелке. Она уже хотела возмутиться, но этот невежа так быстро пошел в сторону Большого театра, что все равно не услышал бы ее замечания. Девушка взглянула на вывеску кабака и, убедившись, что владельцем кафе был И. Гутман, вошла внутрь.
Появление одинокой женщины вызвало у присутствующих разную реакцию. Какой-то студент подкрутил усы и поправил галстук, другой пригладил послюненною ладонью жирные волосы, кружки пива в руках мелких торговцев зависли по пути ко рту, а шлюхи, заподозрив конкуренцию, уставились на прибывшую злобными взглядами. В кафе как раз начались танцы, и аккордеонист заиграл бодрую песню:
За рогатки для забави вибравси я раз
Шоб приємно і бурхливо там провести час.
Я найперши при буфеті випив раз і два,
Аж тут панни коло мене як над водов мла.
Несколько завсегдатаев двинулись к Ренате с намерением пригласить ее, но она обошла любителей танца и уверенным шагом направилась к мужчине, который явно не желал с ней танцевать, а наоборот, пытался спрятаться от девушки за завесой, что закрывала дверь в нужник.
Она прекрасно понимала его поведение. Он не хотел ее видеть, ее, свидетеля своего унижения. Быть покоренным в глазах женщины, бывшей ученицы, а сейчас адресата его ухаживаний, перед которой он демонстрировал собственную силу и непоколебимость — это для настоящего мужчины невероятный позор, полный отчаяния.
Все это Рената заметила в его глазах больше недели назад, когда разыскала Попельского на берегу Студеного. Ехала бричкой, лошадьми правил лакей Станислав Вьонцек, и вдруг услышала вой и увидела группу людей, окруживших большой бесформенный мешок на окровавленной простыне, которая служила крестьянам носилками для раненого Эдварда Попельского. Когда перепуганная Рената подошла к нему, тот быстро стиснул зубы и зажмурил веки, но не очень крепко, потому что из-под них заструились слезы. Тело Попельского сотрясла судорога, и он потерял сознание.
Селяне отнесли изувеченного до брички и отдали Ренате узелок с костюмом, который нашли на дереве неподалеку. Станислав Вьонцек хлестал лошадей так, что когда через час они остановились возле рогатинской больницы Сестер милосердия, с измученных животных падали клочья пены. Заведующий отделением, доктор Базилий Гиларевич, лично осмотрел пациента и позвонил во Львов перепуганной Леокадии, сообщив о серьезном избиении ее кузена. Перелом носа и синяки оказались неугрожающими. Многочисленные раны на спине промыли и продезинфицировали. Наконец вкололи противостолбнячную сыворотку.
Через восемь часов, почти под утро, в Рогатине появилась Леокадия Тхоржницкая, отругала Ренату и едва не выгнала ее из палаты, приговаривая «убирайтесь в Палестину», а затем заняла место возле кровати кузена. Девушка тихо стала в головах.
Попельский очнулся, и ему сделали укол морфия. Лежа ничком, он взглянул на Ренату снизу вверх. В его налитых кровью глазах она заметила стыд. Попельский даже не шелохнулся, когда девушка с плачем попрощалась.
Кроме неудачной попытки спрятаться, он и сейчас не отреагировал на приближение Ренаты, которая протискивалась сквозь толпу возбужденных гуляк. Стоял неподвижно, вглядываясь в жестяную рекламу пива.
Девушка подошла почти вплотную.
— Как вы себя чувствуете, пан профессор? Уже лучше?
— Хорошо, — он продолжал избегать ее взглядом.
— Давайте поговорим не среди этого шума, — Рената осмотрелась и остановила официанта, который обходил клиентов с кружками пива на подносе. — Пан старший, у вас здесь есть отдельные кабинеты?
— Есть, — буркнул официант. — Но то ґранд
[37] коштуї.
— Ну, тогда покажите, где это!
— Но минутку, пануньцю, я только тем-вон кіндрам
[38] с Клепарова бровару занесу!
Официант расставил кружки перед батярами с лихо повязанными шейными платками, а потом направился к кабинету, где, как знал Попельский, состоятельные посетители отмечали именины или забавлялись с барышнями.
Получив от Ренаты злотый за снятое убогое помещение, где стояли два дырявых канапе, а на стенах висели дешевые олеографии, кельнер поклонился и, нисколько не удивившись, что гости ничего не заказывают, многозначительно улыбнулся Попельскому, причмокнул и пообещал прийти лишь тогда, когда его вызовут специальным звонком.
— Как вы здесь оказались? — скривился Попельский, которому любое малейшее движение мышц лица напоминал про переломанный нос.
— Да уж не благодаря вашей кузине, — Ренатины глаза злобно сверкнули. — Она не желает со мной разговаривать. Во всем обвиняет меня. Да и справедливо, — Эдвард заметил, что Рената вот-вот заплачет, — но я на нее не сержусь… Мне все рассказал сторож из вашего дома. Что вы не выдерживаете дома, где все вас жалеют… Что ходите только в те рестораны, где есть телефон, потому что он может понадобиться… Что в этих кафешках знают, как звонить вам домой… Что когда-то вы бывали у Бомбаха, но в последнее время появляетесь только у Гутмана возле площади Голуховских. Вот, что он мне сказал…
Попельский мысленно проклинал глупую потребность рассказывать сторожу про свои привычки. Он делал так, потому что этого ожидала Леокадия, которая требовала, чтобы в кафе был телефон, потому что вдруг у Эдварда случится эпилептический приступ. Сейчас Попельский предпочел пропасть. Молчал, но больше не избегал взглядом Ренаты.
— Садитесь, пожалуйста, пан профессор, — сказала его бывшая ученица. — Не стоит опираться спиной на канапе, потому что я знаю, что вам больно… Вы можете сесть на краешек стула, вот как я…
Попельский так и сделал. Глянул на ее округлые бедра, на которых натянулось платье. «Теперь все наоборот, — думал он, — женщина за меня платит, женщина мне приказывает, где садиться и что делать… Все задом наперед. Что мне делать, чтобы привыкнуть к такому положению вещей?»
— Вам до сих пор делают уколы морфия? — спросила Рената, а когда он утвердительно кивнул, расстроилась. — Жаль. Я могла бы заказать водки, чтобы вы немного расслабились. Но сейчас, видимо, нельзя…
Попельский продолжал молчать. Мысленно выдвигал невероятные догадки и предположения. «Эта женщина хочет меня споить, а тогда добиться своего. Безжалостная. Она диктует условия, уверена в себе и знает, чего хочет. Была свидетелем моего унижения, и ей известно, что я слаб как ребенок. Она может мной крутить, как хочет. Женщины выбирают и заполучают мужчин. Все теперь наоборот».
— Мне ужасно жаль, что вас так изувечили и заставили смириться… — Рената смотрела ему прямо в глаза.
Kynopis, псоокая, вспомнил он греческий эпитет для бесстыдной кокетки. Смотрит в глаза, как сука. Она завоевывает мужчин, а не они ее! Что ж, пусть так! Наоборот.
À rebours![39]
Попельский сдвинулся со стула и встал перед Ренатой колени. Это ее так поразило, что она не успела подняться. Обе руки запихнул ей под платье. Почувствовал под ладонями мышцы стройных икр. Ногти скользнули по натянутым чулкам, подушечки погладили голое тело над подвязкой.
И вдруг лицо его запылало от сильной пощечины, а самого Попельского резко оттолкнули, так, что он ударился спиной об стол и вскрикнул от боли.
— Как вы смеете! — воскликнула Рената. — Это отвратительно! Безобразие!
— Так что, я хуже Бекерского?! — яростно рявкнул Попельский.
Рената стремительно выбежала из
séparé.
В кафе стихли разговоры, умолкла музыка. Попельский стоял в дверях кабинета и видел, как разнервничавшаяся Рената Шперлинг разговаривала с каким-то возницей в цилиндре.
— Едем на Задвужанскую! Знаете, где это?
— Да я на Задвужанскую не одного завез, панунцю, — отвечал тот. — Я весь Лембрик
[40] в лепетині
[41] держу!
Рената застучала каблуками на лестнице. Все завсегдатаи смотрели теперь на Попельского. А с ними и пан Игнаций Гутман, хозяин.
— Хулиганишь, Лыссый! Уйдешь сам, — спросил он, указывая на могучего бармена и его неряшливого помощника, — или эти люди морду тебе морду и вышвырнут вон?
Раньше Попельский расквасил бы морду наглецу, а его людей спустил бы с лестницы в погреб.
Но теперь все было наоборот.
Поднял руки в знак покорности и быстро вышел из забегаловки.
XIII
Морфий с алкоголем образует зловещую, ба, даже смертельную смесь. Попельский прекрасно об этом знал и, выйдя из кофейни Гутмана, пренебрег всеми предостережениями и лекарственными запретами, которые касались этого обезболивающего средства, которое он сейчас регулярно получал. Попельский осознавал, что алкоголь усилит действие наркотика и что, выпив несколько рюмок, он впадет в наркотическое состояние, ему приснятся причудливые вещи. Но он этим не смущался, а может, наоборот, хотел подавить в себе все чувства, окутавшие его в тот вечер, а особенно — избавиться от ненависти к самому себе.
Избегая удивленных взглядов прохожих, которые прогуливались по улице Легионов, он прокрался по боковым улочкам, пустым в эту пору пассажем Феллеров и пассажем Гаусмана, и через четверть часа добрался до ресторана «Реклама» на улице Шайнохи. Чувствовал дикую, неистовую радость, спускаясь по крутым ступеням в зал. «Никто не будет знать, что я здесь, — он потирал руки от радости, — никто не будет смотреть на меня сочувственно, можно здесь напиться или наколоться до смерти».
Морфий очень быстро вступил в реакцию с алкоголем. Выпив сотку, Попельский покачивался во все стороны, пытался положить локти на стол, который вдруг предстал перед ним в каком-то ярком ореоле. Пытался остановить взгляд на чем-то, что вернуло бы ему чувство равновесия, но все предметы качались и выгибались. Закрыл глаза, сполз под стол, стянув на себя скатерть с селедкой, которую ему принесли к четвертине водки.
Приходил в себя дважды. Первый раз, на несколько минут, когда официанты выкинули его во двор харчевни, и он грохнулся спиной о ящик с кухонными отбросами, во второй раз — когда колотил кулаками в дверь Воеводской комендатуры, требуя, чтобы его впустили на работу и принесли материалы какому-то важному делу, которое он якобы вел. Между этими двумя проблесками сознания зияла черная дыра, так же, как и между третьим и четвертым.
Когда Попельский очнулся в третий раз, он одновременно проснулся. Открыл глаза и посмотрел на часы. Было утро. Глянул вверх, и на грязной стене разглядел похабный рисунок с изображением того, что древние индусы называли поглощением плода манго. Ниже увидел надпись, выцарапанную на штукатурке: «Позволяю это делать только прекрасным кобітам». Кроме рисунка, стены покрывали сердца, пронзенные стрелой, брань, угрозы, признания в любви и даже молитва.
Попельский дышал ртом, пыль набивалась ему в горло и оседала на небе. Раны на спине пульсировали невыносимой болью, Эдвард чувствовал себя так, словно кто-то накинул ему на плечи сорочку Деяниры, а в нос напихал горящей ваты. В ноздри ударил смрад тряпки, что висела на дужке ведра, а в глаза бросился надпись: «Лыссый, ты сукин сыну, уже не живешь, как выйду из фурдигарні
[42], то тебя убью. Тоньо».
Он уже понял, где оказался. Это написал несколько лет назад в арестантской камере VI комиссариата некий Антоний Пьонткевич, Тоньо, которого Попельский кинул в тюрьму за нападение с ножом в руках. Это был опасный бандит, что любил щеголять кастетом и ножом, а ко всему еще и заядлый батяр, который не боялся угрожать комиссару полиции.
Эта настенное творчество сейчас расплывалось в глазах Попельского, из которых хлынули слезы. Плакал, не осознавая своих рыданий, нервы расшатались из-за исполосованной кнутом спины, сломанного носа, которым он неосторожно ударился о нары.
Услышав скрежет двери камеры, он стиснул пальцы на краю нар и зубами впился в их деревянную доску.
— Что-то с ним не того было, пан аспирант, — послышался знакомый голос. — Да накиряный не был, но на ногах не держался. И я его с Горком взял, да и лахи под пахи и тут занес. А пан кумисар немного кашлял и до путні
[43] наблевал… А потом спал как ребенок…
— А вы то ведро помыли, пан Кочур? — прозвучал вопрос Вильгельма Зарембы.
— Да определенно, — в голосе охранника Валентия Кочура слышалась легкая обида. — Чтобы ему ничего по ночам не воняло…
В камере застучали ботинки. Попельский припал лицом к твердым доскам. Спина пульсировала, слезы струились, а зубы впивались в дерево.
— Спасибо вам, пан Кочур, теперь я с ним поговорю, а вы уже идите себе домой. Ваша служба закончилась час назад.
— До свидания, пан аспирант.
— До свидания, пан постерунковый.
Все стихло. Нары заскрипели под весом Зарембы.
— Здорово, Эдзё, — отозвался аспирант. — Я вижу, что ты уже не спишь. Давай лапу и не смотри. Уколю тебе морфий. Не бойся, я хорошо это делаю. Сейчас у тебя перестанет болеть.
— Спасибо вам, пан Кочур, теперь я с ним поговорю, а вы уже идите себе домой. Ваша служба закончилась час назад.
Заремба оторвал руку товарища от нар и ловко вонзил иглу в вену, которая заметно пульсировала под кожей предплечья. Через минуту Попельский забыл про боль спины и носа.
— Знаешь, вчера ты стучал в дверь комендатуры и велел дежурному принести документы какого-то важного дела, которое ты вроде бы проводишь…
— Действительно, что-то такое припоминаю, — невнятно буркнул Попельский.
— Ты хотел вести дело? Ну, брат, ты его имеешь! — Заремба бросил на нары картонную папку. — Дело чрезвычайно важное. Убийство гадалки Любы Байдиковой.
Попельский подскочил на нарах, потом уселся с папочкой в руках. Сосредоточенный и серьезный, он производил впечатление человека, которого на мгновение отвлекли от служебных обязанностей. Эдвард читал, будто сидел у себя в кабинете, а не проснулся в арестантской камере, жестоко избитый, а сейчас — больной и чуть ли не смертельно отравленный.
— Кто тебя так избил, Эдзё? — Вильгельм вынул из портфеля термос и налил кофе в крышечку. — Вот, пей! Кому же ты все расскажешь, как не мне?
— Ответ ты знаешь… Я уже тебе рассказывал, когда ты ко мне приходил… — Попельский продолжал читать.
— Ты мог лгать не потому, что у тебя болело, а скорее из-за того, что кузина не отходила от твоей кровати. Что ты был пьян и попал под экипаж в Рогатине? Вот, что ты говорил… Но я в это не верю. Держи, выпей немного, а потом рассказывай правду. Я хочу ее знать не как полицейский, а как твой друг…
— Граф Бекерский с тремя москалями, — больной отхлебнул кофе и отложил бумаги. — Это случилось в Стратине… И запомни, Вилек, я их сам привлеку к ответственности… Сам, понимаешь? Я могу тебе доверять?
— Не сам, а со мной, — Заремба прикурил две сигареты и одну из них сунул в рот Попельскому. — Вскоре мы будем знать про этого графа все, что только возможно. А теперь
ad rem[44], Эдзё. Отныне ты работаешь экспертом полиции в деле убийства Любы Байдиковой. На твои услуги уже есть соглашение, а на нем — подпись Коцовского.
— Шутишь? — Попельский возмущенно выплюнул сигарету, хотя едва успел затянуться. — Ты что, смеешься надо мной?
— Смотри сюда! — Заремба протянул ему другую папку.
Это было персональное дело Эдварда Попельского.
— Как случилось, что Коцовский согласился? — Свежеиспеченный эксперт смотрел на соглашение, подписанное начальником Следственного отдела, и не верил собственным глазам. — Да этот же гад готов утопить меня в ложке воды!
— Пришлось, — с важностью сказал Заремба. — Сегодня на рассвете произошло еще одно убийство… Похоже на предыдущее, именно для лингвиста и полицейского. Убили молодую женщину. А в ящике для анонимных писем опять имеем еврейский текст. Знаешь кого-то, кто кроме тебя мог бы этим заняться? Комендант Грабовский тоже не знал никого, поэтому по моему скромному совету отдал Коцовскому соответствующий приказ.
— Где нашли тело?
— На Задвужанской.
Число блудницы
Нет никакого сомнения, что главные шаги в математике происходили лишь тогда, когда одаренный математически ум интенсивно и надолго сосредоточился над проблемой поиска соответствующей формы в хаосе информации, которую несут отдельные примеры.
Линн Артур Стен, «Математика сегодня»
І
Обычному прохожему, который следовал по широкому тротуару величественной улицы Леона Сапеги, понадобилось бы по крайней мере четверть часа, чтобы добраться из комендатуры на Лонцкого на улицу Задвужанскую. Попельский преодолел этот путь за восемь минут. К счастью для светочувствительного эпилептика, который вчера где-то потерял свои темные очки, солнца сейчас не было; однако даже если бы оно опасно сияло, он все равно этим бы не проникался, потому что сейчас его ничто не интересовало.
Одет был в брюки, на которых отразились следы подошв и пятна от гнилых помидоров с помойки, и в старый френч Зарембы, который милосердно прикрывал измятую сорочку и пиджак с надорванным рукавом. Но состояние одежды тоже его больше не интересовало. Так же, как перебитый нос и боль в спине, которая пульсировала вдоль позвоночника, несмотря на укол морфия. Его разум не занимался ничем, что не было связано с Ренатой Шперлинг, которая вчера в кафе Гутмана наняла извозчика на улицу Задвужанскую.
— Слушай-ка, Эдзё, — отдыхивался Заремба, едва поспевая за товарищем, — я понимаю, что эта сделка с Коцовским для тебя не слишком хороша, потому что зарплату ты получишь только после окончания дела. Я знаю, но могу одолжить тебе немного денег… Лучше всего будет, если ты пойдешь к сыну Любы Байдиковой, потому что он не доверяет полиции и наймет тебя как частного детектива. Он очень богат и хорошо тебе заплатит! Да подожди, к ясной холере! Ну что за сумасшедший!
Последние слова Заремба произнес уже с заметным раздражением, останавливаясь на полпути возле парикмахерской Костиновича. Там перевел дыхание, закурил сигарету и отправился за Попельским, что уже затерялся где-то между студентами политехники, которые шли к своей
Alma Mater.
Попельский как раз повернул на Задвужанскую. Он уже миновал один переулок и, не дойдя до Грюнвальдской, увидел большую толпу. Люди толпились в простенке между домами под номерами 17 и 19, что вел на двор, где стояли мусорки. Но зайти туда было невозможно, потому что у них неподвижно стояли трое полицейских. Со стороны Грюнвальдской вход перекрывала массивная стена с железными воротцами, возле которых стоял лишь один страж закона. Попельский попытался забежать во двор прямо с Задвужанской. Его остановил полицейский в мундире с арабской шестеркой на воротнике, окаймленном двумя серебряными галунами.
— Куда?! — рявкнул он. — Сюда нельзя! Вон отсюда!
— Я пришел опознать тело, — Попельский оперся ладонями на колени и выдал из себя свист отравленных никотином легких.
— Вон, говорю, отсюда! — полицейский терял терпение.
— Постерунковый Генрик Ковальский из шестого комиссариата! — прохрипел наконец Попельский. — Мы давно знаем друг друга! Посмотрите на меня и на мою лысину!
Постерунковый Ковальский разинул рот от удивления. Потом молча указал Попельскому на ворота, откуда как раз выходил доктор Пидгирный.
— За помойкой во дворе, — сказал судебный медик с безграничным удивлением в глазах.
Попельский кивнул ему и побежал на двор. За помойкой стоял фургон кафедры судебной медицины. Попельский оттолкнул двух крепких санитаров и упал на колени у ног жертвы, вдавленных в щель между помойкой и стеной дома номер 19. Стянул простыню. Увидел узкую ступню с накрашенными ногтями, бедро, обтянутое чулком, и упругую грудь молодой женщины. Оперся о стену и закрыл глаза. Но это не помогло. Перед глазами продолжали маячить веревка, которая обвивала ступни, шею и руки, прикушенный язык, синяя полоса, заметная из-под грубого мохнатого каната, многочисленные веснушки, которые покрывали все тело, и рыжие кудри, которые рассыпались, выстилая землю возле мусорки.
II
Прежде чем Попельский приступил к своим обязанностям полицейского эксперта, минули несколько дней, нужных ему, чтобы произвести изменения в предыдущей жизни.
Прежде всего должен навести хотя бы относительный порядок с собственным здоровьем, прежде всего залечить раны на спине так, чтобы жить без морфия и двигаться без особой боли. Доктор Бурачинский, который ежедневно делал ему перевязки, удивлялся и радовался, потому что заживление происходило очень быстро. Через тринадцать дней после зверского избиения доктор заменил бинты, которые до сих пор опоясывали все туловище больного, на полотняные квадраты, которые менялись через день и приклеивались пластырем к плечам и ягодицам. И хотя сломанный нос, откуда врач уже вытащил тампоны, резко болел, если к нему случайно прикоснуться, Попельский чувствовал, что выздоравливает.
Чтобы позитивные изменения происходили быстрее, Эдварду не хватало крупной суммы денег, чтобы залатать домашний бюджет, уменьшенный лечением, пьянками, поездкой в Стратин и, прежде всего, отказом от частных уроков. Надежды на улучшение финансов Попельский связывал с совету Зарембы предложить свои услуги детектива сыну Любы Байдиковой. В конце концов, это было единственное возможное сейчас занятие, потому что следствие по делу убитой рыжеволосой женщины остановилось из-за двух причин: во-первых, в течение последних дней никто не обратился с заявлением об исчезновении; во-вторых, и профессор Курилович, и раввин Шацкер медлили с переводом полученного Коцовским еврейского текста, по-разному это объясняя.
Итак, Попельскому не оставалось ничего другого, как податься улицей Собинского, где на углу стояла вилла с стиле модерн инженера-нефтяника Николая Байдика.
Частный детектив
in spe[45] договорился по телефону о визите и появился там в первое воскресенье мая, ровно в десять утра.
Инженер Байдик провел последние пятнадцать лет на месторождениях нефти в Техасе, и в течение этого времени ему пришлось иметь дела с разными причудливыми людьми: искателями сокровищ и золота, наемными убийцами, индейскими вождями и неграми, которые играли на различных музыкальных инструментах, поэтому лицо Попельского со сломанным носом, покрытое желтоватыми и темными синяками, затененное полями большой шляпы и украшенное черными очками, не произвело на него никакого впечатления. Инженер, который много времени проработал на строительстве нефтепроводов, одевался небрежно, и понятие элегантности явно было ему чуждо, поэтому он даже не заметил, что костюм его гостя выглядит, словно тот только что вышел от портного.
Сидя у него в кабинете, Попельский вспоминал информацию из медицинского рапорта о вскрытии тела Любы Байдиковой и пришел к выводу, что небрежная одежда и заброшенный дом, по-видимому, являются характерной родовой чертой, несмотря на то что мать и сына разделяла финансовая пропасть. Новенький «Ситроен», стоявший возле дома, покрывал птичий помет. Вилла, живописно расположенная между старыми деревьями и цветущими кустами, внутри была душной и грязной. Здесь явно не было прислуги, потому что везде высились груды старой обуви, одежды и посуды. Попельский справедливо предположил, что этот дом, где в одиночестве жил вдовец, оживает лишь ночью, когда слышен писк крыс, а вместо ковров полы выстилают стаи тараканов. На пане был запятнанный халат, брюки с потрепанными штанинами, откуда торчали нитки, и ботинки, которые давно отчаянно требовали гуталина. На письменном столе громоздились чертежи и математические вычисления.
Из-за перелома носа Попельскому приходилось дышать ртом, и это показалось ему не самым худшим выходом, потому что таким образом он не чувствовал вони давно непроветриваемого помещения. Он как раз закончил рекламировать собственную, только что зарегистрированную детективную канцелярию, уверяя Байдика, что у него остались друзья в полиции, которые могут помочь в получении различной информации, а потом положил перед хозяином свежеотпечатанную визитку с надписью «Э. Попельский, частные расследования». Инженер задумчиво перебирал в пальцах толстую веревку, которая лежала на краю стола. Молча смотрел на своего посетителя, продолжая завязывать сложные морские узлы.
— Итак, вы ознакомились с рапортами и хорошо ориентируетесь в деле… Буду с вами откровенным, пан Попельский, — буркнул наконец инженер, и его собеседник невольно отпрянул, потому что указательный палец Байдика оказался у заросшей волосами ноздри. — Вы не вызываете доверия своим видом. Досталось недавно по башке, эге ж?
— Такое в моей работе иногда случается, — сказал новоиспеченный детектив, не моргнув глазом. — Вам интересно, как выглядят башки моих нападающих?
— Я вас найму, — едва улыбнулся Байдик. — А знаете, почему? Вовсе не потому, что верю, будто вы способны нокаутировать, как настоящий боксер.
— Что же, я охотно узнаю, — Попельский заметил, как инженер одной ногой стаскивает ботинок с другой, а потом шевелит большим пальцем, что выглядывает сквозь дырку в носке.
— Потому что в Америке я кое-чему научился… Тот, кто работает самостоятельно, может быть в сто раз лучше, чем фирма, где он до сих пор работал, потому что его задача — создать конкуренцию… То есть вы как частный детектив можете быть лучше, чем полиция, — Байдик подвинул по столешнице пять банкнот по сто злотых, а потом постучал по ним пальцем.
— Да, — Попельский брезгливо спрятал сверток в карман, вспомнив, где только что был этот палец, — но сперва мне нужно кое-что узнать. Должен вас расспросить о личных делах. Потому что все это может быть важным для следствия.
— Это я хотел вам кое-что рассказать, — Байдик закурил сигару. — Но не спешите… Сначала спрашивайте! Но только о том, чего вы не узнали из материалов дела, потому что у меня нет времени. Сейчас по радио будет концерт на заказ, а я люблю хорошие песни…
— Как часто вы виделись с матерью?
— Четыре раза в год. Каждые три месяца я платил ей тысячу злотых, чтобы ей не приходилось заниматься этой своей хиромантией, но она все равно продолжала это делать.
— Она приходила к вам за деньгами?
— Боже упаси, еще не хватало, чтобы она мне дом завоняла! Я сам ездил к ней на Церковную и лично вручал ей деньги. Кроме того, она почти не выходила из дома. Потому что была слишком толстая и больная.
Попельский оглядывался по кабинету и еле удержался, чтобы не прокомментировать слова о грязь матери. Инженер Байдик, казалось, потерял терпение, потому снял под столом второй ботинок и начал нервно топать ногами по полу, поднимая легкие облачка пыли.
— Пан, — задиристо отозвался он, — я еще пожалею, что вас нанял. Вы спрашиваете то же самое, что и фараоны. Может, поинтересуетесь, где она прятала деньги и были ли у нее враги! Слушайте, об этом уже спрашивали, а у меня нет времени на такие разговоры! Не заставляйте меня пожалеть о потраченных деньгах, пан!
Это уже было слишком. Попельский поднялся, оперся кулаками на стол и взглянул Байдику прямо в глаза. Увидел налитые кровью белки, плохо выбритые щеки и пучки седых волос, торчащие из ушных раковин. Это было поистине неслыханное нахальство.
— Ты, толстяк, надень туфли, — прошипел он, — потому что твои ноги воняют! Ну что, оригинально? Другие полицейские тоже такое говорили?
Вытащил деньги и бросил их на стол. Потом отвернулся и пошел к выходу. Нажал на защелку.
— Мои ноги могут вонять, — услышал он и отдернул руку от липкой защелки. — Зато деньги не воняют. Хочешь заработать больше? Тогда послушай, что я не рассказал полиции! Нет? Убирайся прочь!
Детектив мысленно увидел улыбающееся лицо Леокадии, которой он вручает букет роз и деньги на уплату долгов и на прожитье. Представил Риту, которая с аппетитом уплетает марципаны у Залевского, а потом Вильгельма Зарембу, что удивленно принимает от него свою ссуду, сто злотых, которые он, Попельский, потратил на новую одежду. Потом для разнообразия представил, как он в очередной раз пересчитывает мелочь в кафе, прежде чем заказать чай, смиренно извиняется перед учениками за временный перерыв в занятиях и продолжает вдалбливать в их тупые головы математику и латынь.
— Карты здесь раздаю я, — Байдик оперся локтями на письменный стол, а его тяжелый взгляд уперся в лицо Попельского невыносимым бременем. — Я вас нанял, я здесь шеф, я руковожу всем этим делом. Я начальник частного следственного отдела. Вы делаете все, что я вам прикажу, потом выбрасываете это из своей башки, а деньги, которые вы презираете, возвращаются к вам в десятикратном размере. Пять тысяч, Попельский! Столько, сколько стоит новенький «Ситроен», столько, сколько получает в месяц генерал Рыдз-Смиглий. Хочешь стать хоть на месяц генералом, Попельский?
— У нас с ним похожие прически и одинаковые имена, — ответил детектив, не сдвинувшись с места.
— Моя мать согласилась бы вскарабкаться на это чертов чердак ради одного-единственного человека, — Байдик тщательно потушил сигару в пепельнице, высыпая на стол несколько окурков и кучку пепла. — Ради него старуха залезла бы под землю и переплыла реку Полтву. Это какой-то убогий математик. Она говорила про него «мой бедолага». Когда-то моя мать пришла к нему, чтобы заказать ему формулу, которая бы облегчила ей поиски параметров для гороскопа, а он вместо вознаграждения вытаскивал у нее информацию про ее клиентов. Мать рассказывала ему о них абсолютно все. На основании гороскопов, которые она ему поставляла, этот мужчина математически описывал их жизнь. Мне о нем известно лишь то, что живет он на Задвужанской.
Попельский оцепенел, а потом дрожащими руками закурил сигарету. Задвужанская. Улица преступлений, улица измены. Улица убитой рыжеволосой и улица вероломной Ренаты. Улица любовника, что любит таких чудовищ, как Люба Байдикова. Эдвард машинально выдохнул дым сквозь ноздри сломанного носа и тихо ахнул от боли.
— Почему ваша мать ради него была готова на все? — спросил детектив.
— Почему Потому что он был ее дупцинґером
[46], понятно?
— Кем? — Попельский не верил собственным ушам.
— Любасом, — засопел Байдик. — Тем, кто регулярно скользил по ее говнам. Мне это известно не от нее, а от ее соседей. Старуха мне бы точно этого не сказала или что-то бы придумала. Врала, как по нотам…
— И поэтому вы не рассказали об этом полиции? — Попельский вздрогнул, услышав эти ужасные слова. — Потому что вам стыдно? И из-за этого вы наняли частного детектива, чье молчание можно купить? Я правильно вас понял?
— Нет, — Байдик встал из-за стола. — Не поэтому. Полиция пошла бы по моим указаниям, схватила этого мужчину и посадила его в «Бригидки». Вот что было бы. А ты приведешь его мне. Темной ночью привезешь в мой сад. Я с ним поговорю, а потом отдам его тебе. Живого, но немного измученного. Не бойся, я его не убью. Просто поговорю. Спрошу, что такого плохого сделала ему моя старуха, что он ее укокошил. Вот почему я ничего не рассказал полиции. Что ты на это скажешь?
Попельский подошел к столу. Среди листов, исписанных математическими расчетами, лежали пятьсот злотых. Детектив протянул к ним руку.
— С каких это пор, пан инженер, обращаются на «ты» к генералу войска Польского?
III
Попельский вышел из виллы Байдика и какое-то мгновение оглядывался по улице. Он давно не бывал в этих окрестностях, и прошло немного времени, прежде чем Эдвард вспомнил о существовании прохода между заборами усадеб. Несколько минут он быстро шел напрямик, а потом добрался до женской школы на углу Яблоновских и Валашской, откуда до трамвайной остановки было два шага. Сразу углядел трамвай номер 11, который отъезжал от Стрыйского парка и, опрометчиво забыв про болезненный нос, наддал ходу. Вскочил в вагон, тяжело отдуваясь.
Но он не проникался ни носом, ни тем, что пот прилепил его повязку к спине. Не обращал внимания на выкрики детей в форме ближайшего воспитательного заведения, которые заполнили вагон, ибо в сопровождении двух учителей ехали, видимо, на вокзал, а оттуда на воскресную маевку. Попельский думал только о математике, который жил на Задвужанской. Эта улица была одной из самых длинных в городе и насчитывала примерно по сто номеров с каждой стороны. Предположение, что он живет неподалеку от места, где нашли тело рыжеволосой, было мало вероятным, поскольку убийца продемонстрировал незаурядную смекалку, сопровождая свой поступок еврейской надписью. Кроме того, возникали и другие препятствия. Человек, которого искалеченная называла «бедолагой», мог быть чьим-то жильцом, а тот, кто сдавал ему квартиру, не зарегистрировал его, чтобы не платить налога. К тому же, в регистрационных книгах указывают исполняемую профессию, а не образование, а любовник Любы Байдиковой отнюдь не должен был работать математиком. Он мог быть коммивояжером, который ради развлечения время от времени освежает в памяти тригонометрические уравнения. В конце концов, его можно было бы разыскать с помощью ищеек Зарембы, но тогда пришлось бы рассказать другу про новый след в деле. А этого Попельский хотел избежать, поскольку распространение полученной информации означало, что полиция перехватит расследование, а Эдвард сам лишит себя «генеральского» вознаграждения. А просить Зарембу никому об этом не рассказывать было опасно для самого Вильгельма и могло означать конец его полицейской карьеры в случае, если бы кто-то из информаторов оказался непорядочным и донес Коцовскому. Кроме этого, Попельский чувствовал, что, платя огромную сумму за розыск материного любовника, Байдик имеет относительно того какие-то подлые намерения, возможно, он захочет отомстить математику, убить и закопать в саду? Тогда задание Попельского стало бы опасным для него самого, ибо означало бы соучастие в убийстве. Все это выглядело плохо. Ему позарез нужен был помощник!
Он тяжело вздохнул и решил обдумать патовую ситуацию завтра. А сейчас хотелось насладиться хорошим заработком.
Попельский вышел возле электростанции и направился домой. По дороге с ностальгией взглянул на окна своего бывшего кабинета в доме Воеводской комендатуры на углу Леона Сапеги, а потом быстро сбежал вдоль парка, окружавшего цитадель, в сторону почты. В цветочном магазине «Флора» купил букет красных роз для Леокадии, в кондитерской на Сикстуской — шоколад с орехами для Риты и леденцы для служанки Ганны.
Через пять минут он уже одаривал своих дам. Сдержанная Леокадия приняла цветы и конверт с деньгами с ласковой улыбкой и олимпийским спокойствием, зато Рита, увидев шоколад, подпрыгивала и орала, как маленькая дикарка. Попельский сменил пиджак на домашнюю вишневую куртку, удобно уселся в затемненной гостиной возле больших часов, закурил сигарету и смотрел, как кузина ставит цветы в хрустальную вазу, которую еще несколько минут назад собиралась отнести в ломбард. Подбежала дочь и подставила вымазанные шоколадом губки.
«Suum cuique, — подумал он, — каждому даю свое, то, что ему действительно принадлежит: Леокадии — уважение и привязанность, Рите — отцовскую любовь».
Он был уставший, сонный и удовлетворенный. Закрыл глаза. С балкона, из-за плотной портьеры, долетало легкое дуновение. Слышалось шуршание карт — это Леокадия раскладывала пасьянс, шуршание карандаша на листе бристоля — это Рита рисовала дома, дворцы, горы и реки. Все сидели в одной комнате. Всем было хорошо. Все получили то, чего желали.
Из состояния полудремы его вырвал телефонный звонок. Попельский вопросительно взглянул на служанку Ганну, которая стояла в дверях гостиной с трубкой в руке.
— Так я пойду до Гершоса за телятиной на шницели, — отозвалась Ганна, положила трубку на столик и вышла из квартиры.
Попельский подбежал к телефону, чуть раздраженный на служанку, которая не сказала ему, кто звонит, а ко всему еще и подвергает его насмешке, рассказывая при посторонних про домашние дела.
— Ага, вот ты где, Эдзё, — послышался веселый голос Зарембы. — Разве же хорошо в воскресенье ходить к жидовскому потрошителю? Разве не знаешь прибаутки «свой к своему»?
— Дай покой, Вилек, — Попельский усмехнулся. — «Свой к своему» будет сегодня вечером. Я хочу вернуть тебе одолженную сотню. Может, сегодня в «Лувре»? Я давно там не был.
— А-а-а, видишь, — голос Зарембы поважнел. — Я именно об этом деле… То есть не из-за сотни, а насчет встречи. Потому что я звоню по поручению Коцовского. Получили перевод новой еврейской надписи. Она какая-то странная, и там прямо говорится об убийстве…
— В девять в «Лувре»?
— Конечно!
Попельский вернулся в комнату и снова сел в кресло. И вдруг почувствовал, что за время его отсутствия настроение в гостиной изменился. Правда, Леокадия продолжала раскладывать пасьянс, но делала это как-то демонстративно, а Рита отчаянно раскрашивала бумагу. «Неужели поссорились?» — подумал он немного раздраженно.
— И как же ты помчался к телефону! — отозвалась по-немецки Леокадия. — Тут разочарование, горькое разочарование, не так ли, Эдвард?
— Не понимаю, о чем ты.
— Ну ведь это же была не она, — кузина даже не взглянула на него. — Это пан Заремба, а не твоя сладкая жидовочка…
Рита когда-то уже слышала из тетиных уст это немецкое слово, поэтому знала, о ком идет речь. Сжала губки и пристально взглянула на отца. Обе женщины его жизни ненавидели ту, которая даже не успела в ней появиться. Возможно, она и хотела присмотреться к ней, как знать, или не искала там места для себя! А он набросился на нее, как на дешевую шлёндру! Нагло засовывал лапы под ее платье! Коснувшись голого тела над чулком, дрожал, распаленный желанием! Стремился отплатить ей за то, что видела его унижение Бекерским! Овладеть ею силой, изнасиловать, выдирать волосы, когда она будет стоять на коленях перед ним! Вот о чем он мечтал. А взамен — жгучая пощечина и жгучий стыд. Получил, что ему принадлежало, справедливый урок пренебрежения, но она не дождалась никаких извинений, ни словца.
«Suum cuique», — думал старый, побитый сатир.
Не продолжая дискуссии с Леокадией, Попельский раздавил окурок и вышел в прихожую. Старательно закрыл дверь в гостиную и сел у аппарата. Взял телефонный справочник, отыскал в нем то, что было нужно, и набрал номер. Был напряженный, хотя знал, что все равно не услышит в трубке Ренатиного голоса.
— Стратин, имение графа Юзефа Бекерского, — раздалось оттуда.
— Добрый день, — произнес он чуть дрожащим голосом. — Это камердинер, пан Станислав Вьонцек?
— Да, это я.
— Говорит Эдвард Попельский. Это вы меня увезли…
— Чем могу помочь?
— Я хотел бы поговорить с панной Шперлинг.
— Она здесь уже не работает.
В трубке наступила тишина. Попельский услышал лязг, затем какой-то шорох, разговор, даже музыку. Но сигнала прекращения связи не было. Ждал. Чувствовал, как у него все чешется, словно невидимые насекомые облепили тело и залезают во все отверстия в голове. Он хорошо знал это ощущение. Лютое, обжигающее нетерпение.
— Панна Шперлинг сейчас во Львове, — в трубке послышался треск и приглушенный голос Вьонцека. — Она живет у панны Марианны Столецкой, адрес…
— Задвужанская, какой номер? — нетерпеливо перебил Попельский.
— Никакая не Задвужанская, улица Линде, 3, — старый камердинер попрощался, добавив: — Желаю скорейшего выздоровления.
Попельский положил трубку. Вены пульсировали у него на шее. Она живет в другом месте, на Линде, а тогда поехала в другое место! На Задвужанскую! К любасу, к
любовнику, чтобы под него лечь, как сука! Оперся на спинку стула. Не чувствовал боли в спине, его жег взгляд Леокадии, не видел Ганны, которая, весело напевая, вернулась с телятиной на шницели, перед глазами маячила стройная фигура кузины.
«Ах, какое разочарование, — говорили черные глаза Леокадии. — Какое горькое разочарование!»
Прижался спиной к стулу. Теперь боль сделалась ощутимой, Попельский чуть в обморок не упал.
«Меит mihi, так мне и надо, — подумал. — Каждому по заслугам».
IV
Ресторан «Лувр» находился на углу Костюшко и 3 Мая, в прекрасном каменном доме Рогатина. Отсюда было близко и до дома Попельского, и к улице Хорунщизни, где жил Вильгельм Заремба. Именно из-за расположения друзья охотнее всего встречались здесь, это повелось с тех пор, когда Попельскому еще не приходилось так экономить. Теперь давние времена возвращались.
Сидели за боковым столиком, который Попельский заказал заранее по телефону, и ели горячие фаршированные яйца, покрытые хрустящей корочкой. Запивали чистой водкой «Смирнофф».
Вокруг царил полумрак, поэтому Попельский смог снять очки. Им надо было много рассказать друг другу. Заремба хотел рассказать о предыдущий ход следствия, а Попельский собирался попросить друга о деликатной и сложной услуге, о которой он так много думал сегодня, во время послеобеденной прогулки с Ритой на Высоком Замке.
— Знаешь что, Эдзё? — Заремба налил себе в стакан газированной воды. — Я начну, потому что у тебя, как ты сам говорил, ко меня долгий разговор.
— Так будет лучше, — Попельский отведал фарш, в котором чувствовался вкус петрушки, укропа, грибов и жира, на котором подрумянивали яйца.
— Вчера вечером Виктор Желязный заявил нам о пропаже одной из своих дзюнь
[47] — Заремба насадил на вилку последнее яйцо. — И узнал мертвую. Лия Кох, двадцать три года, иудейка, всегда подлавливала фраеров на Сапеги…
— Люксусова дзюня. Ее нашли почти на рабочем месте…
— Действительно, недалеко. Вот результаты вскрытия, — Заремба вытащил из папки рапорт. — Опережу твой вопрос. Она не имела венерических заболеваний. Итак, преступник не является принципиальным убийцей сифилитичек…
— Назовем его Гебраистом, — Попельский разлив остатки водки из маленького графинчика и поднял его кверху так, чтобы это заметил официант, — ибо только еврейский язык связывает эти убийства, кроме пола жертв. Что еще известно про Лию Кох?
— Родилась на Весовой в бедной многодетной семье мелкого торговца. Через пятнадцать лет впервые появилась в нашей хронике, — Заремба выбивал на картонной папочке какой-то ритм. — 2 марта 1922 года ее арестовали на конспиративной коммунистической квартире, где она занималась подрывной деятельностью…
— Какой? — озадачился Попельский. — Потаскуха Желязного была коммунисткой?
— Подрывной, подрывной, ты верно расслышал, — Заремба засмеялся. — Она там за ширмой принимала товарищей. Представь себе, один печатает листовки, а второй трахает. Во время допроса сказала, цитирую: «Таким образом я сделала приятное пяти большевикам».
— Слишком изысканная фраза, как для несовершеннолетней хвойды.
— Тогда она получила санитарную книжку, о роде занятий осведомили родителей и Израильский воспитательный дом, где она коротко жила. О ней там были не лучшего мнения: была наглая, непокорная и оскорбляла других воспитанниц. У нас про Лию Кох ничего не слышно было четыре года. Потом она снова вынырнула в связи с жалобой. Некая Стефания Корчинская, которая жила возле Подзамче, пожаловалась на соседа, столяра Антония Фрилиха. Мол, из его окна по ночам доносились любовные стоны, которые мешали жителям спать. Полицейский с Бальоновой пошел туда и застал в квартире Фрилиха девятнадцатилетнюю Лию Кох. Он ее строго предупредил, а Фрилиху пришлось оплатить штраф, так все эти стоны прекратились.
— Любовные стоны? — задумчиво повторил Попельский.
Возле столика появился официант с новым двухсотграммовым графинчиком водки и раковым супом и пирожками из заварного теста. Расставил тарелки перед мужчинами и подал им накрахмаленные салфетки. Пока они их повязывали на шеи, налил из супницы половником розовый бульон, а потом, зачерпнув сметаны, забелил его.
— Сперва поедим, — предложил Попельский, — еще залью бульоном экспертизу.
— Приятного аппетита! — пожелал официант, оставляя их одних.
Попельский откусил горячий пирожок, и рот наполнился мягким телячьим мозгом. Ложка бульона придала этому сочетанию солоноватый привкус. Закрыл глаза. В течение двух последних лет он не ел ничего похожего.
Заремба налил по рюмке.
— Твое здоровье, Эдзё! Выздоравливай побыстрее!
— Спасибо, брат!
Выпив рюмку, Эдвард проглотил последний пирожок, а Заремба выпил немного газированной воды.
— Ну, ты читай эту экспертизу, а мне нужно к пану Эдзё, — Вильгельм поднялся и направился к бару.
Этому одному-единственному человеку Попельский прощал оборот, который в Львове означал «пойти в туалет». Вытащил экспертизы профессора Куриловича и раввина Шацкера. Оба одинаково перевели еврейскую надпись, полученную полицией после убийства Лии Кох.
שמשחבאשיחאדםאלהרוגויהיחגלחךדיהולויתן
Перевод был таким:
שמשחבא солнце спряталось
שיחאדם [был] плач человеческий
אלהרוג бог замученный
ויהיחג и праздник наступил
לחךדיה для нёба стервятника
ולויתן и левиафана
Оба эксперта обратили внимание на последнее слово в этой надписи: לויתן,
лвйфн, а после добавления гласных
левиафан, «змей», которое было позже искаженно и в христианской и иудейской традиции начало означать какое-то чудище, откуда недалеко до значения «сатана». Поэтому в обеих еврейских надписях, полученных после первого и второго убийства — сделали вывод ученые — присутствуют какие-то названия дьявола. На этом комментарий раввина Шацкера заканчивался, зато профессор Ежи Курилович добавил, что для написания второго сообщения нужны лучшие знания еврейского, чем в первом случае, где текст составлял обычный набор слов из словаря.
Вернулся Заремба. К их столику уже легким шагом приближался официант с подносом. Перед Попельским появилась тарелка с языками в сером соусе и пюре из зеленого горошка и картофеля, а перед Вильгельмом — клопс с гречневой кашей в венчике из свеклы. Официант налил гостям по рюмке и вопросительно посмотрел на второй опустевший графинчик. Оба утвердительно кивнули. Кельнер пошел к бару, а друзья чокнулись и выпили.
Охлажденная водка мягко поплыла по пищеводу Попельского, а ее жгучий вкус мгновенно растворился среди ароматов маринованного языка. Слегка запахло пряностями и лимоном. Два года подряд Эдвард не ел такого ужина. Сегодня хотел им насладиться, потому что плохие времена могли вернуться. Ныне после обеда во время прогулки с Ритой, стоя на холме Люблинской унии и глядя на любимый город, он принял важное и непростое решение, которое должно помочь ему раз и навсегда покончить с финансовыми проблемами.
— Послушай, Вилек, — начал Попельский, — у меня к тебе серьезное дело.
— Наверное, хочешь спросить про сатанистские секты, — Заремба зыркнул из-за тарелки. — Во Львове таких нет…
— Нет, я про другое…
— Про комментарии этих ученых мужей?
— Нет, ими я займусь ночью, — Попельский насадил на вилку последний кусок языка и выложил на нем пирамидку из горохово-картофельного пюре. — Посижу немного над этим, потому что у меня возникла одна мысль… Но я не об этом…
— Ну, тогда скажи, брат, что это за важное дело.
— Сейчас расскажу, но не перебивай меня, потому что я здесь с тобой с ума сойду, — Эдвард улыбнулся, но вдруг поважнел и налил водки в рюмки. — Я прошу тебя пересказать кое-что Грабовскому. Не извещая об этом Коцовского. Если откажешься, я не обижусь.
— А ты осознаешь, чего от меня требуешь? — Заремба проглотил последний кусок и закурил сигарету. — Чтобы я говорил с воеводским комендантом минуя своего непосредственного начальника!
— Буду с тобой откровенным, — Попельский чокнулся своей рюмкой об Зарембину и проглотил водку, резко запрокинув голову назад. — Как частный детектив я получил от инженера Байдика, сына убитой гадалки, очень выгодный заказ. Хорошие деньги и, к тому же, важный след, который инженер скрыл от полиции, боясь опозорить память матери. Байдик рассказал мне об этом при условии, что я передам убийцу ему. Но я так не поступлю. Нарушу обещание и отдам преступника полиции. Откажусь от огромного вознаграждения. Но я сделаю это лишь тогда, если Грабовский снова возьмет меня на работу. Я хочу, чтобы ты сказал ему такое: «Пан комендант, частный детектив Попельский имеет след, по которому непременно отыщет Гебраиста. Он может сделать это сам, а может сотрудничать с полицией. В первом случае приведет закованного в наручники Гебраиста в редакцию «Нового века» и заявит, что сам поймал серийного убийцу. Во втором он тихонько передаст преступника полиции, а Вы восстановите Попельского на работе». Вот и все, о чем тебя прошу. Ты можешь отказаться, а я не рассержусь. Но пока не получу согласия старика, буду вынужден действовать сам, и мое расследование будет очень медленным…
— И будут новые жертвы. Ты понимаешь, какую берешь на себя ответственность?
— Да.
— А знаешь, какую ответственность возлагаешь на меня?! — рявкнул разъяренный Заремба.
— Я действительно не упрекну тебя, Вилек, — Попельский вылил в рюмки остатки водки из третьего графинчика, — если ты обо всем расскажешь Коцовскому и переложишь это бремя на него. Но эта тварь меня ненавидит и ничего старику не скажет. А Гебраист продолжит убивать и отправлять новые безумные записки.
— Завтра у старика именины, — Заремба успокоился. — В холле комендатуры будет угощение. Рюмка водки, кусок холодца, пирожные и чай на десерт, как всегда. Тогда с ним можно поговорить, а он выслушает просьбу.
— Почему завтра? Ведь именины Чеслава в июне!
— Он чтит только свое второе имя. А именины Паулина приходятся на сегодня, поэтому официальное угощение будет завтра.
— Действительно, это же именины моего отца, — Попельский поднял рюмку. — Спасибо тебе, Вилюсь! Ну, выпьем и закажем последний графинчик, потому что официант еще подумает, что мы какие-то фруні
[48], а не крутые парни из Станиславова!
Через полчаса оба вышли из ресторана. В их желудках хлюпало по четыре сотки водки. Однако это количество больше повлияло на Зарембу, чем на Попельского, поэтому Эдвард заявил, что проводит коллегу домой, но непременно через улицу Линде.
Добравшись туда, Попельский остановился у дома номер 3. Окна современного дома с небольшими балконами были приоткрыты. Не надо было ни к чему прислушаться. Из распахнутого окна на втором этаже доносились женские вопли и стоны.
— Ого, так там кто-то фест шпіцует! — засмеялся Заремба.
Однако его другу было отнюдь не смешно.
V
Той ночью Попельский не анализировал еврейских надписей, несмотря на обещание Зарембе. Вернувшись домой, Эдвард уснул крепким пьяным сном, перечеркнув все свои планы на расследование и нарушив обусловленный эпилепсией ежедневный ритм, когда он засыпал на рассвете, а работал днем и ночью.
Проснувшись в шесть утра, он сразу с нежностью подумал про кузину и служанку. Причиной такого прилива благодарности был хрустальный кувшин, наполненный газированной водой, в которой плавали кружочки лимона и листья мяты. Наверняка его поставила Ганна по просьбе заботливой Леокадии.
Приник ртом к кувшину и выпил почти половину. Потер пальцами лоб. Похмелье напоминало о себе разве что легким давлением в черепе, привкусом никотина во рту и ощущением недосыпа в глазах.
Встал, на пижаму надел домашнюю куртку и направился в ванную, поздоровавшись по дороге с Ганной, которая вернулась с базара и, напевая псалмы, готовила на кухне завтрак. Осторожно побрившись и почистив зубы, он легонько похлопал себя по щекам увлажненными одеколоном ладонями, намазал потом лицо кремом и вернулся в свою комнату, где служанка приклеила ему пластырем к спине новую повязку. Надел свежевыстиранную белую сорочку и новый, светло-серый костюм в узенькую полоску. Однотонный галстук цвета красного вина хорошо подходил к остальному гардеробу.
Зашел в Ритину комнату и посмотрел на спящую дочь. Девочка лежала в ореоле черных кудрей, зарумянившись от сна и обнимая куклу в гуцульской одежде. Его переполнила такая нежность, что он не удержался и поцеловал дочь в затылок возле ушка. Почувствовал тепло сонного тела и запах крахмала, что исходит от чистой постели. Рита открыла глаза и улыбнулась папе.
— Просыпайся, сплюшка, — прошептал тот. — Папа отведет тебя сейчас в школу.
И вышел из комнаты дочки, пропуская туда служанку, которая повторяла свою вечную поговорку: «А я лентяюшку за ушко, вставай, лентяюшка-смердюшка».
Сел в гостиной со «Словом польским» и высоким стаканом лимонно-мятной газированной воды. Сигареты не закурил, чтобы не раздражать Леокадии, которая очень гневалась на него за курение натощак.
Он уже успел прочитать статью об аресте Махатмы Ганди и, — и это его очень заинтересовало — о первом бейсбольном матче, который сыграли в Америке ночью при искусственном освещении, когда Рита, одетая в синее форменное платьице с матросским воротничком, села в столовой и позвала к столу. Позавтракали вдвоем, потому что Леокадия еще спала.
На столе появилась тарелка с любимой Ритиной кашей по-краковски, то есть запеканкой с изюмом и миндалем в малиновом сиропе. Посреди стола Ганна поставила корзинку с булками и прикрытую тарелку с сардельками. Отец и дочь съели все это с огромным аппетитом, а очередность блюд была в семье обычной: сначала сладкое, потом питательное.
Через несколько минут они поднимались по улице Крашевского вдоль Иезуитского сада. Рита крепко держалась за отцовскую руку и, как всегда, расспрашивала его о значении странного символа на кольце. Попельский нес ее ранец и шутил, приговаривая, что этот магический знак — предостережение для непослушных девочек. В то утро он был такой счастливый, что ему даже в голову не пришло, что он ужасно рискует, вот уже второй день подряд обрекая себя на действие солнечных лучей. Носить темные очки, как утверждали медики, надо было время от времени, а не постоянно. Он об этом даже не подумал, так же, как и о следствии, о тайной миссии Зарембы, даже о Ренате Шперлинг.
Но все эти проблемы вернулись, как только он провел дочь к женской школе св. Марии Магдалины. Поцеловав ребенка, отец отдал ей рюкзак и котомку с пряничками-юрашками, которые утром купила для нее Ганна.
Возвращаясь, он переходил улицу Сапеги в неположенном месте, и его чуть не сбил лимузин, на заднем сиденье которого расселся воеводский комендант, инспектор Чеслав-Паулин Грабовский. В одной руке держал сигарету, а в другой — большой букет красных гвоздик. Проводил Попельского строгим взглядом и даже что-то заметил шоферу.
Чтобы избежать неприятностей, Попельский быстренько перебежал на другую сторону, останавливаясь возле костела Марии Магдалины. Авария, которую он только что едва не вызвал, затмила хорошее настроение. Но этот случай активизировал его деятельность. Лимузин начальника напомнил ему о следствии и о том, что он запустил анализ еврейских надписей. Цветы в руке инспектора подсказали, что есть вещи поважнее, чем следствие.
Извиниться перед Ренатой! «Даром, что ночью на улице Линде ее порол какой-то молодой жиголо, — горько подумал он, — я все равно должен извиниться за свое недостойное поведение у Гутмана».
У пани Боднар в начале улицы Сапеги Попельский купил букет красных роз и помчался с ним вниз по улице Коперника, быстро, но аккуратно, следя, чтобы не попасть светло-коричневым ботинком в какую-то выбоинку на тротуаре. Через минуту он уже стоял под домом, откуда вчера доносились любовные стоны.
— А панна Марианна Столецкая в какой квартире живет? — спросил у сторожа.
Тот перестал подметать тротуар и недоверчиво взглянул на покрытого царапинами и синяками незнакомца.
— Долго не поживет, если будет так таскаться, — отозвался он наконец. — Но сейчас она живет в третьей.
Попельскому словно ошпарило. Слова сторожа о нескромном поведении жилицы из третьей квартиры натолкнули его на мысль, что вопли и крики, которые он слышал прошлой ночью, могла выдавать не Рената Шперлинг, а ее подруга, та панна Столецкая! Так, он несправедливо обвинял свою бывшую ученицу! Усмехнулся, и, вознаградив двадцатью грошами мрачного сторожа, чем сразу снискал его благосклонность и улучшил настроение старика, бегом поднялся по лестнице, весело насвистывая.
Но переменчивость настроения этим утром его не оставляла. Между этажами почувствовал, что ему не хватило воздуха. Легкие замерли, будто скованные льдом. «Если ее подруга тут вчера занималась развратом, — думал он, — то где же была в это время Рената? У какого-то любаса! А может, здесь вместе с этой Столецкой занимались
ménage à trois!»
[49]
Тяжело дыша, он остановился под дверью квартиры номер 3. Постучал в зеленое стекло, обрамленное с трех сторон металлическими отдельными колосками.
— Ты что, к черту, влюбился? — произнес он в себя, отдуваясь. — Что плохого в
ménage à trois? Разве то, что тебя там вчера не было!
Последний вопрос и недвусмысленный ответ услышала Рената Шперлинг, которая стояла в дверях дома, явно озадачена и обеспокоена.
— Доброго дня, панна Рената, — отозвался он, протягивая ей букет роз. — Простите мое поведение у Гутмана. Я был пьян, имел лихорадку, кроме того… меня ничто не оправдывает… Разве только то сумасшествие, которое меня охватило…
Рената стояла перед ним, опустив руки вдоль узких бедер. На ней было светлое платье, украшенное спереди черными ромбами. Шею и талию девушки украшали большие серые банты. Она не отозвалась и не взглянула на своего гостя. Но и не захлопнула перед носом дверь, явно давая ему какую-то надежду.
— Пожалуйста, примите эти цветы, и тогда я спокойно уйду, — Попельский пытался использовать свой шанс и сразу выбрал смиренный тон. — Печальный — да, в отчаянии — да, но спокойный. Меня охватит мертвый, безнадежный покой. И это лучше, чем то безумие, которое окутывает меня, когда я вас вижу…
— Все хорошо, панна? — поинтересовался сторож, который стоял между этажами, прислушиваясь к каждому слову.
— Да, пан Дудек, все в порядке, — из-за Ренатиного плеча выглянула высокая стройная блондинка. — Да заходите же! — нетерпеливо бросила она Попельскому. — Потому что двери открыты, и мухи летят.
Эдвард не знал, кого благодарить: любопытного сторожа или достаточно бесцеремонную девицу, которая, как он догадывался, и была Марианной Столецкой. Не успел, однако, поблагодарить девушку, потому что та, цокая пантофлями, вышла на балкон.
— Прошу в нашу комнату, — произнесла Рената.
Попельский оказался в маленькой комнатке, окна которой выходили на улицу, где вчера он слышал звуки эротического экстаза. В помещении стояли две железные кровати, две ширмы и миска на латунной резной подставке. За ширмами на стене были вешалки с платьями, блузками и юбками. «Не хватает разве что бюстгальтеров и чулок, так было бы, как в борделе, — подумал Попельский. — За этими ширмами они, видимо, моются. А потом сдвигают вместе кровати и занимаются
ménage à trois».
Оперся спиной на стену. Резкая боль, которую он сам себе причинил, помогла отбросить эту никчемную, но в то же время возбуждающую мысль. Оба стояли, поскольку единственным местом, где они могли бы сесть, была кровать. Попельский аж вспыхнул от самой мысли о такой фамильярности.
— Так вы примете цветы от меня?
— Да, — Рената взяла букет и положила его на столике между кроватями. — Я не злопамятна. Но пожалуйста, не приходите сюда больше! Хозяйка квартиры, пани Зиморович, не позволяет нам принимать мужчин…
«Итак, вчера хозяйки не было, — подумал он. — А может, была? Тогда… Неужели вчера они между собой?!
Ménage à deux?»
[50]
— Мне надо с вами увидеться, — произнес он хриплым голосом. — Это очень, очень важно…
— А вы дерзкий! — панна Шперлинг соблазнительно улыбнулась. — Сначала просите об одной услуге, прощении, и сразу же о другой…
— Не лишайте меня надежды! — попросил он своим мягким, ласковым басом.
— Надежды на что? — посерьезнела Рената. — Не слишком ли много вы себе позволяете, любезный пан?
— На то, чтобы стать лучшим, — к этому вопросу Попельский был готов. — Благодаря вам. После последней нашей встречи я чувствовал себя подлецом. Как человек, тяжелобольной морально. Сейчас вы меня отчасти вылечили, а я стараюсь быть совершенно здоровым! И самые эффективные лекарства в ваших прекрасных руках!
— Какие же это чудотворные лекарства?
— Вы согласитесь принять мое приглашение в «Лувр»? Это первоклассный ресторан, недалеко от вашего дома, каких-то пять минут отсюда, — быстро говорил он. — Поужинаем, поговорим, а потом я провожу вас домой. Неужели я прошу слишком много?
— Сама не знаю, — засомневалась Рената.
— Это значит «да»? Вы согласны?
— Угадайте!
— Тогда я за вами приду!
— Нет, не надо, чтобы вас увидела пани Зиморович!
— Сегодня в восемь в «Лувре»?
— Я уже вам сказала: угадайте! А сейчас идите уже!
— Люблю загадки и хорошо разрешаю головоломки, — Попельский поднес к губам узкую ладонь, которая поначалу сопротивлялась, а потом сделалась податливой. — Я уверен, что отгадал! «Лувр». До свидания в Париже сегодня вечером, панна Рената!
Сбежал по лестнице легко, как юноша. Возле открытых ворот сидел сторож и дремал на майском солнышке. Когда Попельский остановился возле него, Дудек проснулся.
— Закурите? — Попельский протянул ему портсигар с любимыми «Египетскими».
Тот вытащил две сигареты, одну сунул в рот, вторую заложил за ухо.
— Для брата в армии, пан Дудек? — спросил Попельский, удовлетворенно затягиваясь.
— Ая, что-то паренек фест раскурился!
— Скажите-ка мне кое-что, пан Дудек, — Эдвард вытащил из кошелька очередные двадцать грошей. — Вчера в одиннадцать вечера пани Зиморович была дома или нет?
— Не было ее, — сторож протянул руку к деньгам. — Уехала на дачу в Брюховичи, а нынче вернется!
— А обе панны были? — Попельский оказался проворнее и монеты сторожу не отдал.
— А то чего вы такой скорый! — Дудек жадно смотрел на деньги. — Такие большие траты!
— Это все мне и так слишком дорого обходится, — Попельский спрятал монету в карман и двинулся по залитой солнцем улице.
— Подождите! Но ведь же вы быстрый! — сторож подбежал к Эдварду и прошептал ему на ухо: «Чернявой біні
[51] не было, а у панны Столецкой то целую ночь инженер был».
— Какой инженер? — в Попельском проснулся полицейский. — Вы его знаете?
— Да я ґанц
[52] забыл, как он зовется!
— А это вам не напомнит? — в выхоленных пальцах Попельского блеснули двадцать грошей.
— Тот цванциґер
[53] мне напрочь все напомнил, — Дудек спрятал монету. — Инженер граф Бекерский. Имеет большое имение, но где, это я ни знаю.
Попельским овладела такая ненависть, что он увидел, как владелец имения в Стратине лежит в крови и блевотине возле дома. Протянул сторожу руку. Лучше, чтобы он был на его стороне, когда с Бекерским — рано или поздно — произойдет что-то плохое в этом доме на Линде. А потом он больше об этом не думал. Все его внимание поглотили картины
ménage à deux — с ним и Ренатой в главных ролях.
Когда вернулся домой, его настроение уже в который раз за это утра изменилось. Леокадия сообщила, что звонили от секретаря самого воеводского коменданта. Инспектор Чеслав-Паулин Грабовский желал встретиться с Попельским сегодня в шесть у себя в кабинете.
VI
До назначенного Попельскому воеводским комендантом часа оставалось еще немало времени. Почти весь день. Двухчасового сна было бы достаточно, чтобы переспать самое яркое полуденное солнце и восстановить силы, подорванные вчерашним пьянством. Как раз столько времени было нужно, чтобы отдохнуть после непредсказуемых и изменчивых утренних событий, которые терзали его чувства.
Попельский заслонил шторы в кабинете, на голову натянул вышитую повязку для глаз и залез под одеяло. Закрыл глаза и начал ждать момента, когда мысли перестанут беспорядочное движение в голове и превратятся в ряд картин — нежных, спокойных и сонных. Если они не возникали, вызвал их сам: перед его глазами простирались широкие украинские степи, великие реки. Эти видения были последней отчаянной попыткой призвать к себе Морфея. Потом приходил или сон, или сухая, полная дребезжащих звуков, ненавистная бессонница.
Сейчас мысли отказывались повиноваться, Попельский не мог представлять рек и просторов зеленой Украины. Вместо этого в воспаленной памяти всплывали то нежный овал лица Ренаты Шперлинг, с ее большими зелеными глазами, то сжатые губы и грубое лицо инспектора Чеслава-Паулина Грабовского. И одна, и вторая картина вызвали сильное волнение, хотя и очень разного характера. И то и другое вызывало угрызения совести. Рената предостерегала:
«Festina lente!»
[54], комендант орал: «Я должен взять вас снова на работу, а вы приходите и ничего не знаете о надписи Гебраиста!»
Попельский резко откинул одеяло, поднялся и тяжело уселся за письменным столом. Зажег лампу, проверил, шторы плотно ли закрывают окно, а потом принялся за работу. Разложил на столе листы с еврейскими надписями и долго на них смотрел. Потом раскрыл еврейский библейский конкорданс и выписал все места в Ветхом Завете с использованными в обоих текстах словами. Из своего большого книжного шкафа, украшенного фигурами жнецов, вытащил экземпляры Библии на четырех языках — польском, еврейском, греческом и латыни.
Ему казалось, что фразы убийцы случайные, безграмотные, примитивные и вообще нелепые. Чувствовал, что они лишь имитируют глубокий оккультный смысл. Поэтому решил рассмотреть их в других контекстах, понять с точки зрения этимологии. Своим «уотерманом» переписывал четырьмя языками библейские места на маленькие карточки, там подчеркивал слова, которые использовались в сообщениях убийцы, и пытался добраться до их первоначального значения. Потом сравнивал эти значения в четырех языковых версиях, чувствуя все сильнейшее возбуждение. Его увлекала не столько какая-то непонятная цель труда, сколько сам процесс. Нравился даже собственный четкий почерк, радовали подчеркивания красными чернилами смысловых различий, скрип пера на бумаге и даже запах открытого книжного шкафа. Попельский не заметил, как миновал полдень, едва отреагировал на возвращение из школы Риты и дочкин поцелуй в отцовскую щеку, почти не почувствовал вкуса обеда, который ему подали в кабинет. Лишь около трех он выдохся. Бессильно оперся на кресло, ноги вытянул перед собой и с растущим недовольством взглянул на свои заметки. «Да, — думал он, — именно этим я собираюсь сейчас впечатлить инспектора Грабовского. Научным анализом. Скажу ему, что еврейское слово «утренняя зарница» родственное со словом «очаровать»! Вот старик обрадуется! Вот уже меня похвалит! Он только взглянет и сладко протянет: «Замечательная научный доклад, пан! Вам бы профессором в университете быть, но там, как я слышал, не слишком хотят вас видеть». Взглянет на список своих работников и добавит: «А у нас, если я не ошибаюсь, нет ни одной профессорской ставки».
Попельский встал, закурил сигарету и сбросил со лба повязку для глаз. Надо было переключиться на что-то другое, чтобы отогнать вид сердитого коменданта Грабовского.
На самой нижней книжной полке стояли годовые подшивки журнала «
Deutsche Schachzeitung», который он когда-то выписывал. Вытащил первый попавшийся и начал листать. В рубрике «Интересное» наткнулся на рассказ об шифровании информации с помощью ходов шахматного коня. Итак, некая очень богатая и несчастливо влюбленная панна посылала своему бедному любовнику якобы лишенные содержания письма. Адресат, у которого родители любимой отобрали всякую надежду на женитьбу, знал, что исходной точкой является буква в правом верхнем уголке листа. Продвигаясь от той буквы ходами коня, он прочитывал тайные послания и признания. Отец барышни, пылкий любитель шахмат, однажды расшифровал эти письма и пришел к выводу, что его дочь отмечается незаурядным умом и не могла ошибиться в выборе будущего мужа. Он согласился на брак, и эта история закончилась хэппи-эндом.
Читая это сообщение, Попельский вдруг задумался. Бред глупых предложений, которые писала шахматистка, было лишь мнимым, а истинный смысл скрывался за кодом, известным только влюбленной паре. А может, с идиотскими надписями Гебраиста тоже что-то кроется? Может, их следует читать, прыгая по буквам, из которых они состоят? А вдруг что-то означает каждая третья еврейская буква. А если каждая четвертая? Но через сколько букв надо перепрыгнуть? Без этой информации можно играть до конца жизни, — подумал он, — особенно, если прыжок является переменным! Может, сначала нужно перепрыгнуть две буквы, а затем пять? А что, если числа прыжка образуют некую систему?
Встал и начал кружить по комнате с сигаретой в зубах. Если и первая, и вторая надпись зашифрована на одинаковых началах, то он должен отыскать в них что-то общее. Сел над картами и перечитал польский перевод обоих посланий.
Кровь, острие, руина, враг, конец, смерть для сына утренней зарницы (Люцифера) не является пятном и не является злом.
Солнце спряталось, [был] плач человеческий, бог замученный и наступил праздник для нёба стервятника и левиафана.
Конечно, общим в обеих надписях был мотив дьявола — названного один раз сыном утренней зарницы, то есть Люцифером, а второй раз — Левиафаном. Это может быть след! Ведь в христианской традиции числом сатаны является 666! Возможно, надо отсчитывать каждую шестую букву? А может, прыгать шестьдесят шесть или даже шестьсот шестьдесят шесть раз?
Попельский начал проверять простейшее предположение. Из первого еврейского текста он выписал каждую шестую букву:
דםדרבןעיאויבאפסמותלבןשחרלאכויהולאחלי
↓
ןבתרהי
То же самое сделал и со второй:
שמשחבאשיחאדםאלהרוגויהיחגלחךדיהולויתן
↓
אםגגהן
получая два слова из шести букв, ןבתרהי и אםגגהן. Лихорадочно бросился к еврейско-немецкому словарю Гезениуса и к грамматике того же самого автора. И не нашел там ни одного слова и ни одной формы, которая бы соответствовала гипотетическим выражениям, которые складывались из этих букв.
Попельский обхватил руками голову и потер виски. Его внимание привлекла определенная последовательность. Если после каждой обозначенной буквы поставить черту, отделилось бы по шесть содержательных слов или фраз. Он быстро записал это и получил два буквенных квадрата. Каждый из них образовывался шестью буквами.

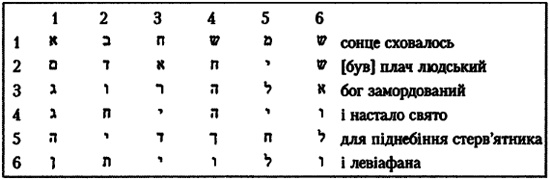
Подошел к окну, слегка приподнял штору и открыл форточку, в которую сразу начал выходить застоявшийся в комнате дым. Через мгновение в голове у него прояснилось. «Квадраты, которые складываются из букв, — думал он, — это не что иное, как магические квадраты». Сразу припомнил себе самый известный из них: латинский магический квадрат, буквы которого, если прочесть их горизонтально и вертикально, образовывали одинаковые слова, из которых состояло бессмысленное предложение «Сеятель Арепо с трудом держит колеса».

Он уже начал выписывать буквы из обоих еврейских квадратов и располагать их вертикально, когда в комнату вошла Леокадия.
— Уже пять, Эдвард, — улыбнулась она, — а ты все решаешь шарады. Ты говорил, что должен пойти в университет за какой-то книгой, а потом у тебя важная встреча… Не думаю, что комендант Грабовский поверит в оправдание: «Я опоздал, пан инспектор, потому что меня захватила некая головоломка».
Леокадия ошибалась. Начальника львовской полиции охватило ныне черное отчаяние, и Грабовский готов был пойти на огромные уступки и поверить в самые невероятные оправдания, если бы благодаря этому дело убийств Любы Байдиковой и Лии Кох сдвинулось с места.
VII
Начальник львовской полиции, инспектор Чеслав-Паулин Грабовский, смотрел на Эдварда Попельского неприветливым взглядом.
День именин начался для начальника Воеводской комендатуры полиции вроде бы прекрасно, ибо к нему с поздравлениями позвонил сам главный комендант.
— Ну, и напоследок — пожелания относительно твоих непосредственных обязанностей, — полковник Януш Ягрим-Малешевский завершил длинную тираду с перечнем всех благ. — Желаю тебе, брат, чтобы ты быстро схватил этого бандита, о котором пишут во всех львовских газетах…
— Благодарю тебя от всего сердца за дружеские слова, — сказал Грабовский своему шефу. — И за последние пожелания, которые вот-вот сбудутся…
— Вот и прекрасно, потому что нам в Варшаве кажется, что эта тварь, которая убивает женщин и присылает жидовские листики, водит всех за нос. У нас тут есть информация, что пресса готовится к очередным нападкам. Ты же знаешь, что это может быть неприятно…
— Из Варшавы не все так хорошо видно, — Грабовский побледнел. — Ты ждешь подробного рапорта?
— Жду, старый друг, — Ягрим-Малешевский говорил медленно и четко, — что ты приятно проведешь сегодня свои именины. А послезавтра, когда ты хорошо передохнешь, то пришлешь мне подробный рапорт и вероятный запрос на эксперта в еврейских делах. У нас тут таких немало…
— Весьма тебе благодарен, но это лишнее. У нас тут их тоже достаточно.
— Прекрасно. Что ж, успехов и еще раз — всего наилучшего по случаю именин!
Во время торжеств в зале комендатуры Грабовский был в дрянном настроении. Он рассеянно слушал речи и пожелания руководителей отделов, инспекционного офицера и начальников комиссариатов. Когда они закончились, встал с деланной улыбкой, чуть запинаясь, поблагодарил за теплые слова, а потом сошел с возвышения с рюмкой водки в руке, чтобы чокнуться со всеми полицейскими, что работали под его руководством. Во время этого ежегодного ритуала он обменивался несколькими словами с каждым, пытался даже шутить, но его отсутствующий взгляд и хмурое лицо сводили на нет натянутые остроты.
И вдруг лицо Грабовского прояснилось и на нем появилась широкая, искренняя улыбка. Это случилось тогда, когда он чокался рюмками с аспирантом Вильгельмом Зарембой и из уст подчиненного услышал такие слова:
— Пан комендант, возможно, вы согласитесь принять и выслушать уволенного со службы комиссара Эдварда Попельского? Он знает, как разрешить дело Байдиковой и Кох.
Грабовский во второй раз чокнулся с Зарембой, улыбнулся и продолжил обходить присутствующих, принимая поздравления. Однако никакие слова не доставили ему такого удовольствия, как просьба аспиранта. Каждый, кто желал бы коменданту быстро поймать какого-то преступника, натолкнулся бы на его гнев, потому что эти слова он воспринимал как намек на беспомощность полиции. Все подчиненные Грабовского это осознавали и как огня избегали разговоров о недавних убийствах гадалки и проститутки. Сегодня, кроме непосредственного начальника, полковника Ягрим-Малешевского, об этом деле заговорил лишь Заремба, но это было не праздное пожелание, а конструктивное, важное предложение.
Инспектор завершил свой именинный обход, выпил рюмку и закусил, а потом поклонился присутствующим и все разошлись. Сам он сел в кабинете, попросил секретаршу не соединять его ни с кем в течение четверти часа, разве что будут звонить от воеводы или архиепископа, а потом задумался над словами Зарембы.
Возможно, раньше он воспринял бы их как наглость, беспардонное нарушение субординации, потому что Заремба не уведомил об этом своего непосредственного начальника, Коцовского. В другой раз, может, и так, но не сейчас. Ему прекрасно были известны отношения, царившие в Следственном отделе, и он знал, что служебный путь в этом случае оказался бы тупиком: Коцовский был заклятым врагом Попельского и исключил бы любое участие последнего в расследовании. Сам Грабовский высоко ценил Лыссого, однако не колебался ни минуты и уволил его после скандала с начальником. Комендант был сторонником решительных действий и продемонстрировал это совсем недавно, подавляя беспорядки в украинских селах, поэтому чуть ли не тяжким преступлением считал любое проявление несубординации относительно начальства и про такого наглеца не желал больше никогда слышать. Сегодняшний утренний звонок и легкий намек со стороны полковника Ягрим-Малешевского пошатнули взгляды Грабовского на подобные проступки. Слова шефа про очередные нападки прессы полностью их изменили. Грабовский прекрасно припоминал ситуацию многолетней давности, когда он в Ковеле дал интервью журналу «Кресы». Его высказывание про «бандитизм, характерный для местного населения», искаженное репортером, вызвало в сейме бурю. Тогда фракция депутатов-коммунистов требовала привлечь его к ответственности. Правда, «Кресы» впоследствии разместили опровержение, однако ненависть Грабовского к прессе не уменьшилась.
Он принял решение. Прежде чем раздался звонок с поздравлениями от архиепископа Твардовского, именинник отдал секретарше распоряжение вызвать Попельского к шести.
Минуту назад именно пробило этот час, и Попельский сидел перед ним. Со своей избитой рожей, в новом, идеально скроенном костюме, он напоминал альфонса или гангстера из Чикаго. Возможно, такая подозрительная внешность раньше и вызвала бы недовольство инспектора. Но не сегодня. Тем более, не после утреннего звонка главного коменданта.
— У меня немного времени, — Грабовский хотел было добавить «пан комиссар», но эти слова никак не подходили к мужчине с лицом в синяках и царапинах, да еще и в цивильной одежде. — Итак, к делу!
— У меня есть информация, которая поможет схватить Гебраиста, — Попельский знал, что Заремба уже сообщил прозвище преступника в Следственном отделе.
— Тогда передайте ее подинспектору Коцовскому, — комендант встал из-со стола и одернул мундир. — Мне известно, что вы с ним сотрудничаете как эксперт по древним языкам. Если предоставленная информация действительно ускорит расследование, мы оценим вашу преданную гражданскую позицию. Что-то еще?
Попельский тоже поднялся.
— Прошу дать мне шанс на исправление, — он ожидал раздражения начальника. — Хочу очистить себя в глазах руководства и получить шанс вернуться в полицию.
— Сегодня я узнал, что вы знаете, как схватить Гебраиста, — Грабовский сел, — и поэтому вас вызвал. Зато я тут слышу о каком-то очищении. На это у меня времени нет, пан!
— Все это взаимосвязано, — Попельский перевел дыхание. — Информация, которая ведет к преступнику, является тайной. Я получил ее как частный детектив, могу воспользоваться ею сам, разыскать Гебраиста, а полицию уведомить лишь на конечном этапе моего следствия, чтобы затем совместно схватить убийцу. А могу сотрудничать с полицией теперь. Я не знаю, что мне делать… Если бы вы дали мне хоть какую-то надежду на возвращение…
— Вон! — рявкнул Грабовский. — Что ты себе позволяешь, ты, пьяница?! Шантажировать меня?! Вон отсюда!
Попельский поднялся и вышел. Комендант упал в кресло и усмехнулся. Возможно, раньше он выбросил бы наглого просителя и забыл о его предложении. Но не сейчас. Не после звонка Ягрим-Малешевского. Он уже сыграл роль разъяренного начальника. Теперь настало время действовать. Поднял трубку.
— Панна Ядзя, — молвил он к секретарше, — наберите мне, пожалуйста, домашний номер Коцовского.
Cito![55] Но сначала остановите возле выхода Попельского!
Телефон отозвался через миг.
— Вернитесь в кабинет, — сказал Грабовский в трубку. — Сейчас поговорите с моего аппарата с подинспектором Коцовским. Я лично буду контролировать это следствие! Быстренько поднимайтесь наверх, потому что у меня банкет в «Венской»!
— Примите наилучшие пожелания по случаю именин, — послышался хрипловатый голос Попельского. — Сейчас приду!
Впервые за сегодняшний день слова приветствия показались Грабовскому действительно приятными.
VIII
Несмотря на будний день, в половине восьмого в «Лувре» уже не было свободных столиков. В конце концов, такое продолжалось уже три года, с тех пор как ресторан получил нового владельца, лишился старого названия «
Renaissance» и получил современное, «парижское». Попельский отыскал место лишь благодаря официанту, который хорошо помнил щедрые чаевые, полученные от лысого благодетеля. Находчивый работник прекрасно знал, что некий преподаватель гимназии как раз заканчивает ужинать за боковым столиком и имеет привычку выходить из ресторана, едва проглотив последний кусок. Поэтому он посадил Попельского за служебный столик и уже через мгновение вел его, без умолку повторяя на все стороны «целую ручки», в только что освобожденную преподавателем ложу, освещенную лампой, которая стояла посреди стола.
Попельский глянул в зеркало на свой смокинг и старательно повязанную белую бабочку, потом удовлетворенно осмотрел занятый столик и вручил официанту двадцать грошей за то, что тот подыскал ему такой романтический уголок, идеальный для свидания с Ренатой Шперлинг.
Однако вдруг ему пришлось довольствоваться обществом сердитого и вспотевшему Зарембы, который ввалился в ложу.
— Пан старший, — Попельский позвал официанта, и тот немедленно появился. — Пожалуйста, графин чистой водки Бачевского и какие-нибудь закуски.
— Колбаска, яички, какой-нибудь бифштексик? — спросил официант.
— Несите все, но вместо колбаски ветчину, такую, знаете, жирненькую, как раз под водочку, — Попельский радостно поздоровался с Зарембой. — Выпей, брат, я угощаю, старик сейчас согласился на мое предложение, вскоре снова будем коллегами.
— Да это мне известно, — буркнул Заремба. — Вместо того чтобы сидеть дома с моей Владзей или вырядиться, как вот ты, натянуть смокинг и идти на танцы, я по приказу Коцовского уже полтора часа, как обзваниваю сотрудников из всех
комиссариатов, чтобы они проверили твой след на Задвужанской. Не мог старик подождать до завтра? Я себе сижу дома, ужинаю, а тут звонит Коцовский и орет, что все должно быть
cito! Ведь завтра мне тоже придется туда идти!
— А я вместе с тобой. Но все это завтра. А сейчас выпьем, — Попельский разлил принесенную официантом водку, — за твое хорошее настроение и за наше дело на Задвужанской! За погибель Гебраиста!
Выпили. Ароматная жирненькая розовая ветчина исчезла во рту Попельского. Заремба ограничился тем, что понюхал хлебную корочку.
— Ну, и что? — Эдвард закурил сигарету. — Они уже отправились на Задвужанскую расспрашивать про математика, который знает еврейский?
— Получили такой приказ и пошли, — Заремба удобно устроился на стуле. — А я могу, наконец, вернуться к своей Владзе. Налей-ка мне еще одну! Вижу, ты в «Лувре» как у себя дома. Именно так высказалась Лёдзя, когда я спросил ее, где ты.
Попельский выполнил просьбу друга, а потом взглянул на часы. Было за четверть восемь.
— Ты меня искал? — спросил он, поднимая рюмку.
— Да.
Выпили и выдохнули. Яйцо в майонезе оказалось на вилке Попельского. Заремба на этот раз потянулся к ветчине.
— Чтобы рассказать мне об акции на Задвужанской?
— И чего ты так допытываешься? — Заремба улыбнулся, впервые за весь вечер. — Это что, допрос? Смотришь ежесекундно на часы, без умолку сыплешь вопросами… Неужели это значит «давай, старый Вильгельм, ступай отсюда, ибо у меня здесь небольшое
rendes-vous», как справедливо предполагает Лёдзя?
— Действительно, мое поведение означает именно это, за исключением одного: «ступай отсюда». Хочешь, так сиди. Познакомишься с красивой панной!
— Прежде чем я ее увижу, — Заремба обеспокоенно оглянулся и заговорил тише, — расскажу тебе, что узнал про некоего графа Юзефа Бекерского.
— Говори, — Попельский напрягся.
— На него существует хорошая картотека…
— У нас?
— Нет, в Воеводскому управлении, в Отделе общественной безопасности. Мой коллега Франьо Пирожек рассказал мне, что там, в тех делах…
— Ну, давай, продолжай, Вилек!
— Он происходит из православной и обрусевшей люблинской шляхты, — Вильгельм говорил медленно и неторопливо, словно цитируя слова Пирожека. — После войны, во время которой ему пришлось воевать в царской армии, граф купил захудалое имение Коморницких в Стратине. Несмотря на то что он называет себя графом и имеет аристократические претензии, в поместье появляются лишь лица неопределенного происхождения. Окружил себя русскими, бывшими товарищами по оружию. В тех окрестностях поговаривают про попойки, которые он с ними устраивает. Когда-то на него поступила жалоба в отделение в Рогатине. Некто Василий Терещенко заявил, что тот соблазнил и изнасиловал его дочь. Но через некоторое время забрал эту жалобу…
— Потому что, видимо, вельможный пан граф заплатил ему или запугал, — задумчиво молвил Попельский. — Он считает себя средневековым сеньором, которому принадлежит право
primae noctis…
[56]
— Слушай дальше, — Заремба огляделся по залу, ища взглядом женщину, которую ждал его друг. — Наш граф — завзятый националистический деятель, антисемит и ярый русофил. С недавних пор проявляет завидную политическую активность, говорят, будто он собирается стать кандидатом в сейм и ищет себе сообщников. Вот и все. Больше грехов не припомню. Пойду домой, приголублю Владзю.
— Спасибо, — Попельский быстро зафиксировал в памяти услышанное. — Очень тебе благодарен, мой дорогой.
— Ого, какой ты сейчас учтивый, какой вежливый! А я ничего особенного для тебя не сделал! — Заремба поднялся с места и протянул другу большую, мягкую ладонь. — Но ты такой добрый, видимо, из-за той панны! А ее нет! Не расстраивайся, брат. Она тебя испытывает. Видимо, думает: «Если любит — подождет!»
Рената опоздала более чем на четверть часа, хотя с улицы Линде до «Лувра» было не больше, чем пять минут неспешного хода.
IX
Увидев Ренату Шперлинг, Попельский тотчас же простил ее опоздание на двадцать минут. Она выглядела потрясающе. На ней было платье до колен с подолом «зубчиками» и квадратным вышитым вырезом. Между грудями вилась нитка кораллов. Когда Эдвард вскочил, чтобы поздороваться с ней, то подумал, что радостно, хоть на минутку, превратился бы в ее ожерелье, которое так доверчиво лежало между мягких бугорков.
Он смотрел на нее робко и вел себя неуклюже, как испуганный гимназист в кабаре. Попельский давно не встречался с женщиной, завоевывать которую следовало медленно и терпеливо. Давно не испытывал таких невыразимых чувств и восхищения.
Его настрой передался и Ренате. Девушка не могла решить, какое выбрать блюдо, а позже, когда заказ принесли, была смущена его изысканным видом. Молчала, неуверенно накалывая на вилку кусочки жаренной на вертеле пулярки с перловой кашей и спаржей, и едва пригубливала рюмочку с водкой. Эдвард заказал рябчиков с брусникой и тщательно следил, чтобы не перебрать с выпивкой. Это постоянное пересчитывание рюмок сердило его и раздражало.
Говорил преимущественно Попельский, причем ему казалось, что он должен сыпать блестящими шутками и комплиментами. Первые ему ну никак не удавались. От вторых он, наконец, тоже отказался, поняв, что настроение у Ренаты не лучшее. Опрометчивым и слишком настойчивым флиртом он мог обидеть ее. Оставалось или пригласить Ренату на танец, или вести приятную дружескую беседу, которая бы вызывала у девушки доверие и затмила ужасные впечатления от встречи у Гутмана. Поскольку его танцевальные способности были более чем скромными, он выбрал разговор.
— Расскажите мне, пожалуйста, — улыбнулся он, вращая на пальце кольцо, — что вы делали все эти годы, когда мы не виделись?
— После окончания гимназии я выехала в Краков, к родным, — было заметно, что эта тема не вызывает у молодой женщины особого оживления. — Там окончила торговые курсы. А потом уже только работала — то здесь, то там… Бухгалтером. Последнее место работы было у Бекерского.
Услышав эту фамилию, Попельский немедленно потерял остатки хорошего настроения. Он даже понятия не имел, о чем они будут разговаривать. Поэтому он угрюмо молчал и курил сигарету. Не знал, что делать с руками, когда она закончится. Может, выпить? Графин с охлажденной водкой соблазнял его схватить и опрокинуть ее, но это была дьявольская ловушка, которая могла грозить потерей контроля.
— Можно пригласить вас потанцевать? — спросил он наконец в отчаянии.
— Да, через минутку, — ответила Рената. — Я только приведу себя в порядок.
Вскоре она вернулась из уборной и выжидающе взглянула на него. Попельский поднялся и резво двинулся на танцплощадку со своей молодой спутницей. К счастью, заиграли венский вальс, ритм которого он чувствовал, пожалуй, лучше всего.
Поддерживал рукой чуть отклоненную назад Ренату и, вальсируя по залу, воспоминаниями возвращался в счастливые годы обучения в Вене, где он как раз в вальсе получил женщину своей жизни, Стефанию, которой через несколько лет, уже во Львове, надел кольцо на безымянный палец. Эти звуки венского вальса звучали у него в голове, когда через год он сидел у ее смертного ложа, которое одновременно было местом рождения Риты.
Такие мысли сопровождали его во время танца и позднее, когда они вернулись к столу. Постепенно Попельский рассказал Ренате историю своей жизни: говорил про обучение в сердце императорско-королевской империи, про игру в шахматы и карты на деньги в венских кофейнях, благодаря чему он мог жить роскошно, про войну и русский плен в далеком Нижнем Новгороде, про увлечение математикой и классическими языками. Рассказывал и про Стефанию, про Леокадию, о которой весь город судачил, будто она живет с ним на веру, про любимую Риту. Упоминание о дочери неожиданно вызвало у него слезы, будто он не видел своего ребенка несколько лет.
Ему казалось, что Рената не скучает, выслушивая его биографию. И в то же время Эдвард был свято убежден, что это не вскружит ей головы настолько, чтобы ее можно было соблазнить. В конце концов, он избавился от этих стремлений. Рассказывал о своей жизни, чтобы избежать неудобного молчания, которая все время наступало в начале их встречи. Сохранял свойственный зрелым мужчинам покой, для которых удовольствием является проведенный в обществе красивой, молодой женщины вечер.
— Вы об одном не сказали, — заметила Рената, когда он замолчал. — О своей работе в полиции. Вам она нравилась?
— Продолжает нравиться, — Попельский улыбнулся. — С недавних пор я выполняю квазиполицейскую работу. И это почувствовали даже мой нос и спина.
— Простите, — Рената покраснела. — Мне не следовало об этом говорить. Все это из-за меня…
Попельский осознал, что никогда не добьется ее благосклонности, если он постоянно будет вызывать у нее чувство вины. Обругал себя мысленно за глупые слова и лихорадочно думал, как все это превратить в шутку. К сожалению, он не мог вспомнить ни одного анекдота,
bon mot[57] или каламбура.
— Я не могу повлиять на ваше будущее, — вырвалось вдруг у Попельского, — и вы тоже бессильны соперничать с собственной и моей судьбой. Все беспомощны перед лицом фатума, который всегда сильнее нас. Однако я терпеливо буду ждать, пока вы взглянете на меня, — он обошел вокруг стола и поклонился ей, протянув руку.
— Потанцуем, — улыбнулась она задумчиво. — И тогда я пойду!
Следующим танцем был фокстрот, который Попельский ненавидел. Он ежесекундно ошибался, забавно отклонялся назад, засмотревшись в разрисованную фресками потолок, и даже не взглянул на свою партнершу, чтобы не увидеть, ненароком, насмешки в ее глазах. Когда музыка умолкла, он облегченно вздохнул, провел Ренату к столику и кивнул официанту, чтобы тот принес счет.
Вышли молча. Бывшее застенчивость словно растаяла в свежем воздухе. Тишина больше не казалась неудобной, она напоминала легкую задумчивость друзей, когда каждый думает о своих делах, спокойно оглядываясь вокруг.
Так и Попельский рассматривал сейчас замечательные дома на Сикстуской, а Рената смотрела под ноги, чтобы не зацепиться туфельками на неровном тротуаре.
Остановились перед домом на Линде.
Попельский снова наклонился над узкой Ренатиной ладонью. Приник губами к гладкой коже и мелким косточкам ее руки.
— Спасибо вам за приятный вечер, — молодая женщина улыбнулась и заговорила очень тихо, робко поглядывая на темные окна дома. — Мне удалось отдохнуть от моих ежедневных хлопот. От подруги по комнате, девушки непредсказуемой и немного эгоистичной, от моей хозяйки, которая все время бегает в костел, а нас упрекает зажженным светом… А вы хоть немного отвлеклись этим вечером от проблем?
— Я мечтаю о том, — проговорил он четко, пристально глядя ей в глаза, — чтобы благодаря вам таких вечеров у меня было больше. Все ваши неурядицы стали моими. Я здесь для того, чтобы их преодолеть!
— Вы песчинка, которой играет ветер моей судьбы, — несколько мелодраматично ответила Рената и, встав на цыпочки и опершись рукой ему на плечо, поцеловала Попельского в щеку.
Попельский стоял и смотрел, как она заходит в дом. Не мог понять, щека у него пылает от недавних ударов или от поцелуя девушки, не был уверен, что музыка, которую слышит, это не бред слегка опьяневшего разума, или, может, это все львовские ангелы поют «
Magnificat»?
X
Когда Эдвард Попельский вернулся домой, ему продолжало слышаться ангельское пение. Он поздоровался с печальной и молчаливой Леокадией, поцеловав ее в щеку, смокинг и бабочку сменил на домашнюю куртку и шейный платок, а потом с сигаретой в зубах сел у письменного стола. Снова открыл заметки, словари и даже немецкую книжку про магические квадраты, одолженную перед встречей с Грабовским на кафедре классической филологии, которую Эдвард с недавних пор предпочитал обходить десятой дорогой. Алкоголь уже успел испариться у него из головы, так же, как счастье, вызванное Ренатиним поцелуем. Последнее событие не только не вызвала любовного помрачения, а наоборот, стало толчком к действиям. Он осознал, что только напряженная работа поможет расшифровать сообщение Гебраиста, а это вернет ему хорошо оплачиваемую должность в полиции, что в свою очередь позволит встать на ноги и добиться расположения красивой женщины, которой сейчас нужны поддержка и опека. Он принялся изучать немецкую книжку. Львовские ангелы теперь распевали уже не
Deum magnificum[58], a
quadratum magicum[59].
Леокадия стояла на пороге и наблюдала за кузеном, который погрузился в работу настолько, что даже не заметил, когда она вошла.
— Я стучала, но ты, кажется, не услышал, — сказала Леокадия, когда он наконец взглянул на нее чуть раздраженным взглядом. — Ты не посидишь со мной в гостиной? Я раскладываю пасьянс, но он никогда не получается в одиночестве.
— Это какой-то парадоксальный пасьянс, — Эдвард улыбнулся кузине. — Ведь это игра для одиноких. Разве здесь нужны какие-то флюиды другого человека?
— Да, присутствие другого лица необходимо, — подтвердила Леокадия. — Я хорошо знаю эту игру. Ну, возьми свою книгу и посидим вместе! Тогда пасьянс сложится!
— Не могу, Лёдзю, — его взгляд снова направился к книге, содержание которой он внимательно изучал. — У меня очень важное дело…
— А что ты делаешь? — она заглянула ему через плечо. — Это магические квадраты? — спросила Леокадия, заметив латинский квадрат «
Sator Arepo».
— Да, — Эдвард положил в книгу закладку и внимательно посмотрел на кузину. — Тебе что-то известно о них?
— Особенно много я знаю об одном из них, — она слегка улыбнулась. — Но расскажу только тогда, когда придешь в гостиную.
— Мне жаль, — Эдварда охватило раздражение, — но есть срочная работа, не могу побыть с тобой.
Леокадия бессильно села в кресле у письменного стола и несколько минут разглядывала упорядоченный кабинет кузена: заметки, разложенные веером на столе, карточки, сложенные ровной стопочкой, две чернильницы — одна с синими, другая с красными чернилами, книгу на подставке, словари, расставленные от наименьшего до наибольшего, массивный книжный четырехдверный шкаф и две гравюры над ним. Одна изображала смерть Сократа, другая происходила из какого-то математического произведения и на ней был шар, вписанный в цилиндр. Глянула в раздраженные зеленоватые глаза Эдварда. Привстала, и ее стройная фигура напомнила Попельскому знак вопроса. Подошла к тщательно застланной кровати и нервным движением откинула одеяло.
— Я знала, что так будет, — сухо сказала она. — Что если поднять твое одеяло, то простыня окажется натянутой так, что от нее отскочит монета. Все прекрасно организовано, все продумано до мелочей, все натянуто, как твоя простыня. — Попельский смотрел на нее с растущим удивлением. — Я разбираюсь в магических квадратах, — буркнула она. — А лучше всего в одном из них. Это числовой квадрат. Он заметен на гравюре Дюрера. Сложи числа в каждом столбце, сложи числа в каждой строке и сложи числа по диагоналям. Получится всегда 34. — Попельский быстро записал это на карточке. — А теперь отгадай мою загадку, — Леокадия зловеще повысила голос. — Тебе известно, как называется эта гравюра? Проверь, и узнаешь обо мне кое-что, ты, эгоист!
Она быстро вышла из кабинета кузена. Эдвард облегченно вздохнул и начал нервно листать книгу. Через несколько минут хлопнул себя по лбу, порывисто вскочил и побежал в гостиную. Там никого не было. На столе лежали разбросанные карты. Пасьянс не сложился.
Попельский постучал в дверь спальни Леокадии. Тишина. Нажал на ручку, но та не поддалась. Двери были заперты. Вернулся в свой кабинет и сел около стола. Смотрел на одну из страниц развернутой книги. На ней была изображена гравюра Дюрера с магическим квадратом. Под ней была подпись «Меланхолия».
XI
На следующее утро в шесть часов служанка Попельского, Ганна Пулторанос, начала напевать псалмы. Это был ежедневный ритуал, который Леокадия насилу терпела, а ее кузен, наоборот, безоговорочно воспринимал как одно из важных свидетельств неизменности окружающего мира. Эдвард часто слышал их сквозь сон и таким образом выучил наизусть все изысканные сравнения в адрес Богородицы. Кроме того, он был убежден, что мелодичное напевание Ганны хорошо влияет на его сон.
Этим утром предположение Попельского подтвердилось. Ганна неожиданно прекратила петь, и Эдвард немедленно проснулся. Он открыл глаза и прислушался. Где-то далеко, со стороны входной двери, доносился чей-то тихий голос, узнать который мешало разгневанное ворчание и сопение Ганны. «Видимо, какой-то бродяга», — подумал Попельский, поворачиваясь на другой бок. Но дискуссия у дверей началась задолго, с нищим Ганна расправилась бы как обычно — коротко и решительно. Тем временем служанка повышала голос и резко объясняла что-то непрошеному бродяге. Попельский уловил несколько раз повторенную фразу: «Хозяин спит». Встал с кровати и открыл дверь своего кабинета.
— Пожалуйста, разбудите его, — донесся голос.
— Он всегда спит до полудня, — рассерженно прошипела Ганна.
— Уверяю вас, что услышав, что это я, он немедленно проснется, вот видите, он уже не спит.
В дверях стояла Рената Шперлинг и смотрела на Попельского с легкой улыбкой. У ее ног стоял большой фанерный чемоданчик.
— Да, — тихо отозвался Попельский. — Я приму эту пани. Пожалуйста, Ганна, проведите ее в гостиную, принесите кофе, а я сейчас приду. И ради Бога, — он немного повысил голос, — Ганна, не орите так, потому что весь дом проснется!
Сердитый сам на себя за то, что так строго отчитал верную служанку, Попельский скинул ночную сорочку и повязку для глаз, которая, видимо, так рассмешила Ренату. Надел майку и домашние штаны, а сверху одел длинную домашнюю куртку, перепоясался ремнем и направился в гостиную. На его любимом месте возле часов сидела Рената. От ее веселья не осталось и следа.
— Что случилось? — Эдвард сел в кресле напротив и начал тщетно искать сигареты.
— Пани Зиморович выкинула меня вон из квартиры, — в глазах девушки блеснули слезы. — Сказала, что я привожу к себе мужчин…
— Она видела меня вчера вечером возле дома?
— Да.
— И стала обвинять вас в том, что вы меня поцеловали, да?
— Да, — Рената потупилась. — Сказала, что я последняя развратница, которая живет за деньги богатых бандитов…
— Это я бандит? — Попельский улыбнулся, принимая от Ганны поднос с кофейником и чашечками.
— Хуже, — прошептала Рената. — Она решила, что вы мой опекун и используете меня…
— То есть сутенер, — досказал Попельский.
Рената замолчала и сидела, не поднимая глаз. Была без макияжа, но кожу все равно имела гладкую и светлую, словно фарфор. Не обула туфельки на высоких каблуках, благодаря которым ноги кажутся стройнее, но ноги тем не менее были безупречными. На ней была простое скромное платьице, но Попельский чувствовал себя так, словно перед ним сидела царица гарема в подвязках и кружевном белье.
— Я помогу вам, панна Рената, — серьезно сказал Попельский. — Поселю вас у своего знакомого на Клепаровской. Вы сможете там жить до тех пор, пока не подыщите себе что-то подходящее…
Рената замерла, но не отозвалась ни словом. Однако мысли бурлили в ее голове, о чем свидетельствовали нервные движения пальцев. Они бегали ее коленями, будто выполняя какие-то сложные импровизации на пианино. Вдруг они сплелись, а девушка оцепенела, словно парализованная.
— Спасибо, я действительно пришла к вам за помощью, но этого предложения не приму, — сказала она, помолчав. — Это не годится. Одинокая женщина не может поселиться у мужчины. Негоже…
— Дорогая панна Рената, — пояснил он ласково и выразительно, будто к ним снова вернулись роли учителя и ученицы, — на Клепарове все гоже. Это во-первых. Во-вторых, мой знакомый не посягнет на вашу девственность по старой, как мир, причине: он любит красивых юношей, которые, в конце концов, часто у него бывают. Когда-то из-за этой своей слабости он чуть не поплатился жизнью. Какой уличник раскроил ему голову подсвечником, а потом обокрал. Через несколько дней я поймал этого ворюгу вместе с его трофеями. Балетмейстер Шанявский, потому что именно так зовут моего знакомого, в огромном долгу передо мной, поэтому он с радостью нам послужит. Это главное объяснение, почему вы у него будете в полной безопасности. Ни одна женщина не является для этого пана объектом эротических мечтаний, тем более та, которая находится под моей опекой.
Рената нервно почесала шею, на которой расцвели розовые пятна.
— Я очень благодарна вам, пан профессор, за все, что вы для меня сделали, — она взглянула на него с натянутой, бледной улыбкой.
— Пошли, — Попельский поднялся с кресла. — Подкрепитесь кофе, а я тем временем оденусь.
Вышел из гостиной несколько обеспокоенный Ренатиним взглядом. Он готов был поклясться, что она смотрела на заметные из-под домашней куртки густые и темные волосы на его груди. Отбросив эту мысль как нереальные мечты немолодого мужчины, начал одеваться. Это не заняло много времени, поскольку по старой привычке он вечером всегда, перед тем как лечь спать, готовил себе костюм на следующий день. Все лежало на отдельном стуле: от носков до шляпы, все подобрано в тон, ботинки того же цвета, что и ремень, галстук гармонировала с пиджаком.
Поэтому он очень быстро выбрал новый, светлый костюм и через минуту уже был на углу Иезуитского сада с тяжелым чемоданом у ног. Рядом стояла немного испуганная Рената. Попельский осмотрелся вокруг за извозчиком, не зная, что на его затылке покоится полный сострадания и гнева взгляд Леокадии, которая давно уже не спала и сквозь приоткрытые двери спальни прислушалась к их разговору.
Наконец появился экипаж. Извозчик, услышав адрес, воспетый в батярских песнях, несколько обеспокоенно взглянул на небритого и поцарапанного мужчину и его красивую спутницу. Стегнул коня и двинулся вдоль университета в сторону улицы Браеровской, чтобы ей добраться до Яновской.
Этих двоих, которые так отличались возрастом, извозчик, как и пани Зиморович, принял бы за проститутку и ее сутенера, если бы не скромное платье женщины и отсутствие макияжа на бледном лице. Чтобы узнать, кем были его утренние пассажиры, возница замедлил ход и навострил уши.
— Должен вам кое о чем рассказать, панна Рената, — ласково отозвался мужчина. — Пожалуйста, не пугайтесь того, что я вам сейчас скажу…
Женщина судорожно перевела дыхание, а розовые пятна на ее шее, которые уже, казалось, исчезли, сейчас побагровели.
— Интересно, что вы можете мне сообщить за пять минут до поселения меня у своего друга, — она рассерженно дернулась. — Может, то, что мне придется вас отблагодарить, а? Может, вы вернетесь к вашим бывшим залетам, как это уже было в той ужасной кафешке, а?
Попельский сидел неподвижно. Хотел погладить Ренатину ладонь, но испугался, что она может воспринять этот жест за нескромный.
Однако его спутница вскоре успокоилась. Грустно взглянула на Эдварда.
— Простите, пан профессор, мне столько пришлось пережить, я такая разбитая!
Извозчик был настолько ошеломлен званием, которым его пассажирка одарила своего спутника, что слишком поздно повернул на Яновскую и зацепил дышлом за фонарный столб, едва не опрокинув экипаж. Он никогда бы не сказал, что этот коренастый лысый сутенер со сломанным носом похож на профессора!
— Ничего, я вас понимаю, — отозвался мужчина прокуренным басом. — Но я бы солгал, сказав, что ваши подозрения вызывают у меня какую-то боль или презрение… Однако вернемся
ad rem. У балетмейстера не перепугайтесь… Чего? Что же, сейчас я вам скажу, потому что мы уже приехали. Ну, это здесь, пан извозчик! Остановитесь!
Поскольку возница ужасно хотел узнать, что могло перепугать его пассажирку, он остановился очень неохотно. Экипаж стоял на углу Яновской и Клепаровской у кабака, о котором весь Львов пел песенки.
Попельский рассчитался, схватил чемодан, протянул руку Ренате и провел ее к дому, где на третьем этаже находилось помещение Юлиуша Шанявского.
Между этажами Попельский остановился. Хотел рассказать Ренате правду о назначении квартиры именно сейчас, прошептать ей это на ухо в темноте и вблизи, чтобы хоть на мгновение почувствовать тепло ее тела, ее дыхание на своих губах. Чувствовал себя, словно сатир, который украдкой касается гладкой женской кожи или тростью поднимает подол девичьих платьев.
— Пан Шанявский, — шептал он, наслаждаясь ее близостью, — в этой квартире устраивает себе свидания. Она и служит ему исключительно для этого. Поэтому прошу вас не пугаться, если случайно увидите не совсем одетого мужчину!
— Благодарю за предостережение, — Рената стиснула зубы. — Как-то придется это стерпеть.
Попельский не мог продолжать стоять так близко от Ренаты, чтобы не вызвать у нее подозрения, будто он собирается воплотить свои низменные планы, как это было в кафе Гутмана. Остановился перед дверью и выстукал на них «Марш Радецкого».
Балетмейстер открыл дверь не сразу. Был одет в белый пикейный халат с большим треугольным вырезом, который обнажал его торс почти до пупка. На шее позвякивали три золотых медальона.
— Слуга покорный, пан комиссар, — отозвался Шанявский, поклонился до пояса, меланхолически улыбнулся и пошел вглубь квартиры. Из одной комнаты долетал громкий храп и запах духов. Балетмейстер собирался исчезнуть среди этих ароматов, но Попельский остановил его.
— У меня исключительная ситуация, маэстро, — сказал он. — Эта пани поживет несколько дней в маленькой комнате с окнами на улицу. И пожалуйста, не подвергайте ее на встрече с наклюкавшимися мужчинами!
—
Servus tuus, domine Eduarde[60], — Шанявский склонился почти до земли, а его медальоны тихонько звякнули. — Пани будет тут безопасно, как у мамы! А что случилось с вашим благородным лицом, пан комиссар?
— Не понравилось кому-то.
— О, мне хорошо известно эта позорное отсутствие вкуса, — Шанявский коснулся ямки на своей голове.
Попельский поднял шляпу, но этому жесту было далеко до изысканности, которой его только что одарил маэстро. Двинулся вперед, вошел в упомянутую комнату, поставил чемоданчик на пол и пригласил Ренату внутрь. Девушка оказалась в узком помещении, меблированном лишь кроватью, столиком и ширмой. Рената села, опершись локтями на колени и закрыв лицо ладонями.
— Сейчас я принесу вам поесть, — Попельский вытер вспотевший лоб. — Вы же не завтракали. За несколько минут откроют ближайший шинок.
Рената не ответила.
— Будете яичницу? Видимо, у них ничего лучшего нет. У маэстро явно найдется икра и шампанское, но это действительно негоже, чтобы я рылся в его каморке…
Рената не отзывалась.
Попельский мысленно проклинал тирана в своих штанах, который толкал его к этой женщине. Он не мог ему противиться. Тяжело сел рядом с Ренатой и обнял ее. Давно не испытывал такого напряжения. Губами коснулся ее тонкой ключицы. Ожидал жгучей пощечины. Вместо этого ее ладонь погладила его затылок. Приап полностью завладел Попельским.
Пуговицы отскакивали от стен, когда Рената Шперлинг разрывала на нем сорочку. Ее нисколько не смутил голый мужской торс, наоборот, они припала щекой и губами к его широкой груди. Не стеснялась дневного света. Не отводила взгляда, высвобождая свои груди из бюстгальтера и быстренько скручивая на бедрах подвязки. Через несколько минут Эдвард Попельский понял, что смутить Ренату Шперлинг не так уж и легко.
XII
Ни одно из эротических воспоминаний, которых немало собралось в жизни сорокачетырехлетнего Попельского, не могло сравниться с опытом этого утра. Если бы он захотел выразить это на языке математики, то сказал бы, сильно упрощая, что его жизнь внезапно изменилось, — из какой-то периодической функции, синусоиды с небольшой амплитудой, она превратилась в быстро растущую экспоненциальную функцию. Что вместо пребывания среди малозаметных колебаний его жизнь вдруг достигла какого-то максимума, о котором он до сих пор понятия не имел.
Однако, когда любовники начали скидывать с себя одежду, Попельский совсем забыл про математику. Быстрое, прерывистое дыхание, вкус тела Ренаты Шперлинг не позволили ему анализировать резкие движения, которые могли сравниваться с противоположными векторами, ни сосредоточиться на системе координат ее бедер и своего туловища. А когда они наконец нашли эти неведомые места, до сих пор так тщательно скрытые под одеждой, Попельский забыл о существовании всего мира, который он снова открывал благодаря прикосновениям.
До сих пор в постели повелителем был он. Мог себе это позволить, поскольку она не была супружеским ложем, где не обходятся без определенных компромиссов, а гостиничным номером или салон-вагоном, где он овладевал такими женщинами, которым не должен был подчиняться, зато они делали все, за что он им платил. В первые минуты его потрясла нетерпеливость и самостоятельность партнерши, которая, ища большей чувственности, жадно бросалась на него, притягивала или отталкивала и хрипло приказывала, выкладывая их соединенные тела во все новые положения под переменными углами. Это была гимнастика Эрота, телесные комбинации, выполнять которые она его принуждала. Это она распоряжалась. Эта женщина, которая совсем недавно сидела перед ним в скромном платье, потупив глазки и сжав колени, превратилась в эротического диктатора. Он не сопротивлялся. Стремился к этой диктатуре.
Вдруг Рената, лежа на нем, прикрыла его лицо своими волосами и прошептала на ухо странную просьбу, обещая «экстаз». Он послушался. Подвинулся на краешек кровати так, что голова и плечи оказались вне его. Расслабил мышцы шеи и головой почти касался пола. Кровь прилила к мозгу, он видел все вверх ногами, а Рената сверху налегала все быстрее и сильнее. В какой-то момент он напряг мускулы, поднял немного голову и налитыми кровью глазами посмотрел на женщину на фоне окна. Солнце ласкало ее тело. Его луч прошел под Ренатиною мышкой, через миг сверкнул в волосах, и сразу — на изгибе бедра. Солнечные блики пронизывали ее тело каждую секунду, как фотографическая вспышка. Послышался шум ветра. Это ангел наслаждения и демон эпилепсии одновременно взмахнули своими крыльями. В теле Попельского произошел двойной взрыв.
Никогда до сих пор он не испытал ничего похожего.
XIII
Проснулся возле кровати на шершавом коврике. Кто-то прикрыл его коцем
[61]. Посмотрел на часы. Был полдень. Значит, он проспал около пяти часов. Попельский порывисто встал, сбрасывая коц на пол. Ренаты в комнате не было. Эдвард сорвал скомканную постель с кровати и испуганно взглянул на простыню. Облегченно вздохнул. Она оказалась чистой. Во время приступа кишки и почки не вытолкнули своего содержимого. Не в этот раз.
Болезнь обычно вызывала у него видения. В отличие от опорожнения, видение было и сегодня. Заснув после приступа, он видел себя самого, сидящего на стуле в комнате, заполненной таблицами с математическими формулами. Сквозняк шевелил портьерой на двери. Она хлопала все быстрее, наконец сорвалась и вспорхнула, словно летучий ковер из персидских сказок. Раздался грохот. В дверях стояла высокая мужская фигура в котелке. Это был он сам. В своем эпилептическом видении Попельский на стуле смотрел на Попельского у дверей. Впервые он столкнулся с раздвоением личности. Когда-то Эдвард читал о состоянии раздвоения как симптоме тяжелого психического заболевания.
Но эти сонные грезы встревожили его лишь на мгновение. Сейчас мысли были заняты другим. Попельский молниеносно собрался. Не хотел, чтобы Рената видела его неодетым. Состояние подъема и эротического наслаждения обусловливают снисходительное отношение к различным телесным изъянам, но когда экстатические ощущения проходят, недостатки видятся во всем.
Попельский не хотел замечать в Ренатиних глазах разочарование его немолодой кожей, морщинами, складками и жиром, который неравномерно отложился в разных местах. Боялся, что она будет огорчена. Представил себе, каким отвращением и страхом пронзило ее, когда в момент наивысшего наслаждения его сотряс эпилептический спазм, вызванный мигающим светом и не преодоленный вовремя таблетками, которые он забыл принять, озабоченный неожиданными утренними событиями. Завязывая узел галстука, он услышал в прихожей тихие, легкие шаги, которые приближались. Через несколько секунд в дверь робко постучали.
— Заходи! — крикнул Попельский и радостно улыбнулся.
В приоткрытых дверях появилась голова молодого мужчины с пейсами над ушами и в ермолке.
— Я очень извиняюсь, — отозвался молодой еврей, — но я услышал, что вы больше не спите…
— Где дама, которая была здесь со мной? — перебил его Попельский.
— Не знаю, я еще спал, — юноша потупился. — Было очень рано… У меня тут для вас ключи и еще одна вещь…
— Маэстро дома?
— Юлиуш… То есть… пан Шанявский пошел на репетицию… И я тоже иду… Поэтому… Мне нужно вам кое-что сказать…
Попельский тяжело сел на постели.
Юноша начал что-то говорить, но его высокий голос не долетал до ушей детектива. Он слышал только скрип кровати, стоны и вздохи Ренаты, которые неожиданно превратились в вскрик, полный отвращения и испуга. Попельский видел не молодого еврея, а закрытые глаза девушки, которые открываются и с отвращением видят, что любовник деревенеет, выплевывает пену и вздрагивает под ней, извергая из себя зловонные газы. Рената убегает, а сам он барахтается на кровати, будто чучело, которое терзает болезнь, которую в древности называли «священной». И вдруг успокоился. В голове зазвучал ласковый Ренатин голос. «Ты не противен мне, — говорила она. — Я же прикрыла тебя одеялом, чтобы ты не замерз, а потом вышла позавтракать, потому что была голодна». Парень продолжал что-то говорить, протягивая листочек с какими-то непонятными заметками и заглушая голос девушки.
— Кто вы?! — рявкнул в него Попельский. — Кто вы, к черту, такой?!
— Ицхак Яффо, — еврей начал запинаться. — Я, я… ничего плохого не сделал. Я просто переночевал у пана Юлиуша… Мне уже нужно идти…
— Подожди! — Попельский успокоился. — Повтори еще раз. Это что, записка? Я задумался и ничего не помню из того, что ты мне тут говорил.
— Это для вас, — Яффо взглянул на листок. — Сюда звонил какой-то пан Заремба. Просил позвонить к нему вечером по номеру 32–41. Вот и все.
Попельский взял листочек и внимательно взглянул на него. Он был испещрен еврейскими буквами. Эдвард не заметил там ни одного номера, записанного арабскими цифрами. Понял, что Яффо записал номер телефона другим способом.
Мысленно Попельский вернулся к своей молодости. Вспомнил лекцию профессора Пауля Кречмера. Этот знаменитый венский эллинист и языковед доказывал, что числа — это что-то глубоко укорененное в сознании, и человек может менять языки, в совершенстве ими владеть, быть многоязычным, но всегда будет считать своим родным языком. Глянул на Яффо. Конечно, его родной язык — идиш, который использует еврейское письмо. А в нем не употребляют арабских цифр, а для их записи пользуются буквами! Ни один человек, который ежедневно общается на идиш, не напишет «32–41», а воспользуется буквами
ламед (30) +
бет (2) и
мем (40) +
алеф (1)! Юноша записал телефонный номер по-еврейски, то есть буквами этого языка! Сделал это невольно, бессознательно, чтобы записать как можно быстрее.
— Что-то тут не так, — буркнул Попельский, показывая на начало записки. — Я знаю еврейское письмо, и номер 32–41 должен быть записан как ламед-бет-мем-алеф. Но тут есть еще какой-то номер… Очень длинный… Что тут еще, кроме ламед-бет-мем-алеф?
— Никакой это не номер, а фамилия Заремба. Если бы это был номер, то составил бы… Подождите, сейчас посчитаю… Но потом я действительно должен буду уйти… Я очень спешу…
Яффо написал на листике в столбик, сначала по-польски, фамилию Заремба, рядом то же самое на идиш, а потом записал у каждой еврейской буквы и ее числовое значение.
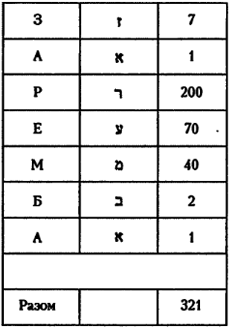
— Гематрия
[62] фамилии «Заремба» составляет 321, если добавить 7 + 1 + 200 + 70 + 40 + 2 + 1. До свидания…
— Сейчас, сейчас, подожди-ка, — Попельский задумался. — Гематрия — это, насколько я помню, числовое значение слов, так? Еврейские буквы какой-либо фамилии имеют числовое значение, поэтому, если их обозначить числами и добавить одно к другому… Сможешь быстро сосчитать? Я тебе назову слово, а ты мне посчитаешь его гематрию! За работу!
— Я могу это сделать, но давайте, в другой раз… — Яффо нервно посмотрел на часы.
Попельский долго молча смотрел на своего собеседника. Вытер ладонью вспотевший лоб, и ему сделалось обидно, что сейчас придется унизить этого парня. Но выхода не было. Уловив след, Попельский уже не интересовался окружающим миром, блекли симпатии и антипатии, исчезали хорошие манеры и привычки. Оставалось следствие — грубое, конкретное и неумолимое.
— Послушай меня, шмайгелес, гомик пейсатый, — Попельский перевел дыхание. — Выслушай меня внимательно. Ты уйдешь тогда, когда я тебе позволю, понял? Разве что хочешь, чтобы я пошел к твоим и рассказал им, что Ицхак Яффо — содомит…
В глазах юноши блеснули слезы.
— Тогда садись мне тут и считай, быстро! Сперва имя «Люба Байдик», а потом «Лия Кох». Какова их гематрия?
— В зависимости от того, как записать эти имена: на идиш или библейским еврейским, — Яффо немного успокоился и сел на кровати рядом с Попельским.
— Библейским еврейским.
— Да, но есть еще одна проблема. В конце имени Люба или Лия может быть «е», которое не произносится… А оно тоже может иметь свое значение… Не знаю, как вам это объяснить… Кроме того, некоторые гласные передаются как «вав» или «йод»…
— Мне известно, что такое немое «е», — Попельский приветливо улыбнулся. — Сделай по-другому, чем в случае с фамилией Заремба, то есть пиши еврейским, а не на идиш. И не бери во внимание немое «е» и любые гласные! Преступник пользуется исключительно согласными, и ты тоже так сделай! — приказал он, словно не заметив удивления парня, когда тот услышал слово «преступник». — Ну, парень, считай, и я отпущу тебя в синагогу!
Еврей посчитал и показал результат Попельскому.

— В обоих случаях гематрия составляет 68, — проговорил он наконец. — Пожалуйста, отпустите меня!
— Иди уже! — проворчал Попельский. — Спасибо…
Парень медленно подошел к двери, а потом обернулся к Попельскому.
— Вы мне угрожали, — медленно проговорил он, — а я прикрыл вас коцем, чтобы вы не замерзли.
Попельский протянул ему руку на прощание и оперся на стену. Не услышал его жалобы, не заметил даже, что юноша положил ключи на пол и быстро вышел из комнаты, не пожав протянутой руки. Эдвард думал сейчас не о нем и даже не о Ренате Шперлинг, которая отправилась куда-то почти пять часов назад и до сих пор не вернулась. Перед глазами плясали еврейские буквы, магические квадраты и математические матрицы. Взял ручку, восстановил по памяти надписи Гебраиста, расписал их соответствующим образом, а затем начал выполнять различные арифметические действия. Потом вышел в прихожую, взял оттуда телефонный справочник и долго его листал. Через два часа торопливо оделся и вышел. Через четыре часа вернулся домой. Едва поздоровавшись с Леокадией и Ритой, схватил трубку. Позвонил в квартиру Шанявского. Там никого не было. Тогда набрал номер, записанный Ицхаком Яффо.
В трубке услышал голос Зарембы и поздоровался с коллегой.
— Мы разыскивали математика по всей улице, — сообщил Вилек. — Нашли учителей математики и физики. У обоих — неоспоримое алиби. Пшик. Убийцы не найдено.
— Но у нас есть его следующая жертва, — молвил Попельский. — Вероятная жертва.
Число мудреца
Сосчитайте трупы — духа я сосчитал.
Циприян Камиль Норвид, «Глаза». Притча
І
Воеводская полицейская комендатура имела в своем распоряжении во Львове несколько небольших помещений, расположенных в важных, стратегических точках города, чаще всего в центре какого-то участка или возле главной улицы. Владельцы домов не только не относились с подозрением к жильцам этих квартир, наоборот, они вызвали у них доверие. Чаще всего это были почтенные господа, что работали на солидных государственных должностях. Все они были холостые, а это гарантировало, что остальные постояльцев не будет страдать от детского визга, кухонных ароматов. Их аккуратное темное одеяние не позволяло даже предположений о пьянстве или аморальном поведении. Ни один домовладелец не сомневался, что справка с места работы такого жильца в наместничестве или Польском телеграфном агентстве является подлинной. Никому и в голову не пришло бы, что немедленное подключение телефонной линии в вчера буквально снятом помещении свидетельствует о том, что его жилец — полицейский агент. Все скорее были склонны думать, что это необходимость для ответственного чиновника или служащего, которого когда-либо может вызвать начальство и поручить выполнение важных задач. Такие новые жильцы, доверенные лица из различных полицейских учреждений, не жаловались на маскарад, в котором вынуждены были участвовать, поскольку их
incognito щедро оплачивалось. Точнее говоря, вознаграждение составляло половину оплаты за квартиру. Зато они должны были немедленно и без всяких оговорок исчезнуть на неопределенное время, оставляя свое жилище в распоряжении полиции. Таким образом эти помещения превращались на конспиративные квартиры, где проводились тайные операции.
Монтер, пан Стефан Покшивка, который работал в Техническом отделе Воеводской комендатуры, получив вчера пополудни соответствующий приказ, покинул свою квартиру на улице Грюнвальдской, 4. Он сделал это немедленно, с чувством хорошо выполненного долга по распоряжению начальника следственного отдела.
— Прежде чем освободить для нас квартиру, — тон Коцовского был категоричен, — вы должны принести туда школьную доску и мел! Одолжите у какой-нибудь школы! Если возникнут проблемы, пусть директор школы позвонит в мой секретариат, и там подтвердят, что вы из полиции.
Покшивка принес в квартиру огромную доску и кучу мела, которые он
после долгих объяснений, что и предполагал Коцовский, одолжил в близлежащей гимназии, дав расписку о получении. Потом вышел со своего дома, полагая, что доска будет служить для демонстрации определенного плана полицейских действий, направленных (в чем он был свято убежден) против коммунистов и разных заговорщиков.
Пан Покшивка глубоко ошибался, доска не изменила своего назначения. Она продолжала использоваться с учебной целью. Сейчас на ней были начертаны разные квадраты, заполненные числами или еврейскими буквами.
Эдвард Попельский как раз вывел последнюю букву, извинился перед присутствующими, вышел в прихожую, тщательно помыл руки и отряхнул рукав пиджака от меловой пыли, а затем повернулся и внимательно посмотрел на четырех своих слушателей.
— Спасибо вам за терпение, господа. Все нужное я уже записал на доске, и теперь ничто не будет отвлекать нашего внимания.
Он выпрямился и потянулся. Коцовский, Заремба, Кацнельсон и Грабский напряженно всматривались в него, словно прилежные студенты. Но он не боялся их возможных замечаний. Был уверен, что больше не потерпит неудачи как преподаватель, что много лет назад было вызвано эпилепсией, а совсем недавно, в университете Яна-Казимира — злобностью профессора Клапковского. На этот раз никто не подорвет его анализа. И вовсе не потому, что слушатели не знакомы с математикой или еврейским. Его выводы будут понятны каждому, кто мыслит логически. Поскольку они безупречны, холодны и красивы. Как хрусталь. Как математика.
— Тема нашей лекции, — посмотрел он на присутствующих, — это, конечно, расшифровка еврейских надписей, которые кто-то, вероятнее всего, убийца, направил пану начальнику Коцовскому. Это два сообщения, в каждом по тридцать шесть букв. Первое, что бросилось мне в глаза, — это удивительная симметрия обеих надписей. Посмотрите, пожалуйста. — Указка направилась к двум первым квадратам. — Без разрывов и переносов слов и одну, и вторую надпись можно записать в виде квадрата. Сторону каждого квадрата образуют шесть еврейских букв, и, как таблица, он состоит из строк и столбцов. Каждая переведенная строка имеет смысл.


А теперь вернемся на мгновение от еврейского языка к обычной математике. В ней существует понятие матриц. Это прямоугольники, которые состоят из чисел. Посмотрим, — указка направилась к следующим квадратам, заполненным числами, — это простая матрица, состоящая из трех строк и трех столбцов.

Если бы мы хотели точно обозначить место отдельных чисел в этой матрице, то как это сделать? Проще всего сказать, что число 35 расположено в первой строке и втором столбце, число 78 — во второй строке и первом столбце, а число 2 — в третьей строке и третьем столбце. Поэтому, указывая строку и столбец, именно в этой последовательности, сначала строку, а затем столбец, мы можем установить место каждого числа в матрице, то есть подать его координаты. Это можно сделать еще быстрее, если обозначить числами строки и столбцы матрицы.

И тогда, подавая сначала номер строки, а затем столбика, мы получаем координаты: числа 35 — (1,2), числа 78 — (2,1), числа 13 — (3, 2), числа 27 — (1, 3) и так далее.
Он глянул на присутствующих. Жужжание жирной мухи, которая ударялась о стекло внутри абажура лампы, эхом разносилось в комнате. В пепельнице догорали две сигареты, что прекрасно свидетельствовало о слушателях, которые, сосредоточившись на словах Попельского, забыли даже про свою страсть.
— А теперь зададим себе важный вопрос, — Попельский с удовольствием прислушивался к собственным словам. — Зачем я рассказываю вам о матрице? Что общего имеют еврейские буквы с числами? Ответ будет очень простой: каждая еврейская буква является эквивалентом какого числа. Например, буква
алеф — это число 1,
ламед — 30,
реш означает 200 и так далее. Посмотрим на таблицу, которая продемонстрирует нам значение каждой еврейской буквы:

— А теперь подставим, — продолжал Эдвард, постукивая указкой по доске, — в записках убийцы, превращенных в матрицы, числа вместо букв: 1 вместо
алеф, 2 вместо
бет и так до конца. Таким образом получим

в случае Люби Байдик, и

в случае Лии Кох.
— Когда сегодня под воздействием определенного импульса, — тут Попельский подумал об еврейского любовника Юлиуша Шанявского, — я расписал их и взглянул на результат, то сразу заметил, что некоторые числа в этих матрицах имеют особое значение. Числа с особым значением я выделил в записях цветом. В чем заключается их особенность? В том, что каждое из них равно произведению своих координат, — он внимательно посмотрел на сосредоточенных полицейских, справедливо подозревая, что они не помнят со школы значение этого термина. — Произведение, как вам известно, это результат умножения. Итак, сначала проанализируем матрицу Люби Байдик. Пойдем постепенно, демонстрируя все отмеченные числа матрицы Байдик в виде произведений координат:
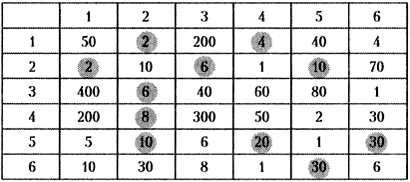
• 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (1, 4), а 1 х 4 = 4,
• 2 имеет координаты (2, 1), а 2 х 1 = 2,
• 6 имеет координаты (2, 3), а 2 х 3 = 6,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (6, 5), 6 х 5 = 30.
Подчеркиваю: координаты всех обозначенных чисел, помноженные друг на друга, дадут нам обозначенное число! То же самое видим и в случае матрицы Лии Кох. Взгляните:
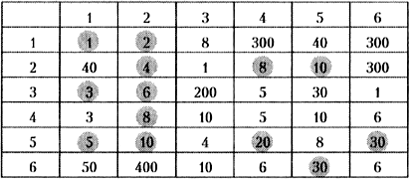
• 1 имеет координаты (1, 1), а 1 х 1 = 1,
• 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (2, 2), а 2 х 2 = 4,
• 8 имеет координаты (2, 4), а 2 х 4 = 8,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 3 имеет координаты (3, 1), а 3 х 1 = С,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 5 имеет координаты (5, 1), а 5 х 1 = 5,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (b, 5), 6 х 5 = 30.
Я предположил, что убийца-математик (а то, что он математик, известно от Николая Байдика, сына убитой гадалки) что-то зашифровал в этих особых числах. Я их выписал и получил в случае Люби Байдик одиннадцать чисел: 2, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 30, четыре из которых (2, 6, 10, 30) повторяются, а в случае Лии Кох число тринадцать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 30, 30, и три из них (8, 10, 30) повторяются. Это какое-то закодированное сообщение. Я добавлял эти числа, отнимал и даже интегрировал. И что? Ничего. Тогда я подумал, что лучше попросить какого шифровальщика проанализировать их. Но сначала я выполнил обратное действие и все эти числа в матрицах снова заменил еврейскими буквами, и тогда посмотрел, какие буквы являются особыми. В случае Люби Байдик я получил:

а в случае Лии Кох:

Или эти буквы что-то означают? Как их расставить, чтобы это имело смысл? — Попельский вытер пот со лба, ибо заметил, что его слушатели начинают немного терять терпение. — Представьте себе, господа, набор букв «епежуеси». Сколько пришлось бы думать знатоку польского языка, чтобы составить из них предложение «У Ежи е[сть] пес». А я знаю еврейский неплохо, но гораздо хуже, чем греческий, а про латынь, немецкий или родной польский я вообще молчу. Единственное, что умею, — это перевести библейский текст со словарем и грамматикой! Итак, я не смог бы справиться с содержательным расположением обозначенных букв. Это настоящий ребус для знатока еврейского! Где такого взять? Мне сразу пришло на ум одно имя… Имя человека, с которым я сыграл не одну шахматную партию в клубе «Фойе», и с кем не раз и не два дискутировал на лингвистические темы. Выдающийся шахматист и шарадист… Вы поняли, кого я имею в виду?
— Да, — буркнул Герман Кацнельсон. — Старый, мудрый еврей…
— Именно так, господа, — Попельский повторял эти слова, словно в трансе, — раввин Пинхас Шацкер не только знаток еврейского, он мастерски решает головоломки. Я не ошибся… Мой давний шахматный соперник в течение часа составил из этих одиннадцати букв [בבװײללדחכ] из матрицы Люби Байдик такие слова:

[Лб=Л(ю)б(а), Бйдк=Б(а)йд(и)к, болезнь, гвоздь]
Ученый гебраист расшифровал имя и фамилию жертвы и орудие преступления, которым была убита.
— А «болезнь»? — спросил Заремба.
— Об этом чуть позже, — Попельский перевел дыхание. — Ненамного больше времени понадобилось Шацкеру, чтобы раскодировать фамилию жертвы и орудие убийства, расположив соответственно буквы [אײללחחבדגוהכ] из матрицы Лии Кох. Вот, что получилось у раввина:

[Лй=Л(и)й(а), Кх=К(о)х, похабство, рука, веревка]
Снова имеем имя и фамилию и орудие убийства. Как вы помните, Лию Кох задушили веревкой, привязанной к ее запястьям. Веревка была привязана так хитро, что чем сильнее дергалась жертва, тем прочнее затягивалась петля на ее шее. Итак, орудие убийства — это не что иное, как «веревка» и «рука». В обоих случаях имеем фамилии и орудие убийства. Остается объяснить слова «болезнь» в матрице Байдик и «похабство» в матрице Кох.
Невнимательность слушателей мгновенно исчезла. Присутствующие уставились на Попельского так пристально, что если бы у них были телекинетические способности, то определенно втиснули его в картину, что висела за его спиной, на которой Иосиф и Мария перевозили маленького Иисусика в лодке через озеро.
— По моему мнению, эти слова объясняют причину убийства одной и другой женщины. Гадалка погибла, потому что имела венерическую болезнь, шлюха — потому что была наглая и высокомерная. Да, господа, наш преступник не только гебраист и математик, он еще и моралист, исправляет мир, устраняя лиц с определенными моральными пороками, людей больных и высокомерных…
— Одна из них была сифилитичкой, — Коцовский смял в пепельнице сигарету, которая превратилась в кучку пепла, — другая — самонадеянной, тупой проституткой. Если бы мы знали черты следующей жертвы! — Он с отчаянием взглянул на потолок. — Может, она развратна, или несправедлива или лжива… Какой у нее недостаток? К сожалению, несмотря на блестящий анализ пана Попельского, нам это неизвестно, и мы не узнаем ничего, пока не появится очередной труп, а с ним новое письмо. Тогда и найдем особые точки следующей матрицы, которые являются произведением координат… А труп будет где-то гнить…
— Тем более, что оба учителя математики, которых мы нашли на Задвужанской, — Грабский подхватил слова начальника и взглянул на потолок, — это фальшивый след. У них бесспорное алиби…
— Как вы их искали? — поинтересовался Попельский.
— Опросили всех взрослых мужчин, которые живут на этой улице, — пояснил Заремба. — Сначала отделили людей с образованием от невежественных. Тогда приходили к первым и осматривали помещение в поисках математических книг или заметок. Нашли двух господ. Оба — учителя в общеобразовательных школах. Оба имели алиби, которое мы проверили. Нет причин их подозревать…
— Если бы мы знали следующую матрицу, — громко размышлял Коцовский, не обращая внимания на выводы своего подчиненного, — мы могли бы защитить человека, чье имя зашифровано этими еврейскими буквами…
— Нет, — перебил его Попельский, — сначала мы выставили бы его как приманку…
— Вы что, сдурели? — Коцовский встал из-за стола и хлопнул по нему кулаками. — Вы что, шутите? Что это за методы? Какую приманку? Мы полиция, а не бандиты, которые готовы рисковать жизнью порядочных граждан! Напоминаю: вы только эксперт, правда, хороший эксперт, но от полицейской работы держитесь подальше!
— Пан начальник, — зашипел Попельский, — я еще не закончил говорить. Мне известно, как найти следующую жертву.
II
— Вы все сказали, дорогой пан? — спросил Коцовский.
Вопрос был лишним, потому что все указывало на то, что десятиминутное объяснение завершено — докладчик тяжко отдышался, оставив под доской указку, а потом закатал рукава сорочки и сел у стола.
— Да, я закончил.
Попельский соврал. Он не сказал всего. Терпеливо ждал минуты, когда можно будет продемонстрировать самый важный аргумент, подсказанный сейчас раввином Шацкером. Спокойно ожидал момента, когда разъяренный начальник наконец накричится и выкинет из себя всю ярость, о которой свидетельствовало то обращение «дорогой пан», когда четко скажет, что его предположение — это сумасшедший бред, а потом посмотрит на подчиненных победным взглядом, ожидая одобрения. И тогда он, Попельский, нанесет последний удар, издевательски рассмеется шефу в лицо, а потом вприпрыжку, как юный герой, помчится в дом Шанявского, где его ожидает молодая любовница с алебастровой кожей и набухшими грудями. И тогда воспроизведет триумф над Коцовским в любовной пантомиме, наслаждаясь упругостью своих мышц и податливостью женского тела. А потом уснет крепким сном победителя на гладком белом животе любимой.
— Дорогой пан, я догадываюсь, что эта надпись, о которой вы еще ничего не сказали, — Коцовский кивнул на доску, — показывает, что мы получим число 68, когда посчитаем все еврейские согласные в фамилиях жертв.

Кроме того, вы утверждаете, что убийца выбирает свои жертвы, руководствуясь этим числом в их фамилиях и неким изъяном характера, например: неряшливостью, болезнью и так далее. Если соглашаться с вашей экспертизой,
pardon, скорее экспертизой раввина Шацкера…
— Простите, пан начальник, — вмешался Кацнельсон, — матрицы и координаты значащих букв открыл комиссар Попельский, а не раввин…
— О да, действительно, прошу прощения, — начальник склонился перед Попельским в шутовском поклоне, а потом гневно посмотрел на молодого аспиранта. — Напоминаю вам, что пан эксперт уже было лишен полицейского звания!
Наступила тишина. Муха вылетела в открытое окно. Безобидные взгляды лебедей, которые окружали Иисуса на олеографии, показались Попельскому издевательскими. Грабский сплел ладони на большом животе и делал мельницы большими пальцами. Заремба прищурил глаза, Кацнельсон жадно затянулся сигаретой и кружил вокруг доски, внимательно присматриваясь к магическим квадратам, а Коцовский записывал что-то в тетради.
— Посмотрите, дорогой пан эксперт, — начальник пододвинул Попельскому под нос какую-то запись. — Видите? Я выписал тут наши фамилии, и оказывается, что одна из них состоит из семи букв — Заремба, одна из девяти — Грабский, две из десяти — Коцовский и Кацнельсон и одна дольше одиннадцати — Попельский.
Представим, например, что двоих из нас, к примеру, меня и аспиранта Кацнельсона, замучает один и тот же убийца! И тогда какой-то умник, блестящий эксперт, сделает вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв. Прекрасно! — он хлопнул в ладоши. — Разыщите всех львовян с фамилиями из десяти букв! Бросьте, уважаемые полицейские, все ваши дела, садитесь в архивах и записывайте эти фамилии, а когда выпишете их тысячи, то просите коллег из других воеводств, чтобы они вам помогли, а потом совместными усилиями защищайте эту толпу, или же, как советует наш уважаемый эксперт, выставьте их всех как приманку! Этого вы требуете, а, умник? Чтобы полиция была аморальной и рисковала жизнью невинных людей! Э, нет!
— Не такой это уж и Сизифов труд, — Попельский не мог избавиться от снисходительного тона. — Во-первых, таких людей немного. Гематрия большинства имен и фамилий превышает 100, и уж тем более 68, это я сейчас проверил по телефонному справочнику! Обратите внимание, что имена и фамилии обеих убитых женщин короткие и содержат общие буквы! Во-вторых, я мог бы с вами согласиться, если бы, например, в фамилиях Коцовский и Кацнельсон было что-то закодированное, какая-то важная информация, которая касалась бы пана начальника и пана аспиранта…
— А разве это не так? — Коцовский ликовал. — Подчеркиваю — случайно! Моя фамилия содержит слово «коц», а фамилия вашего бывшего коллеги — «сон». А потом окажется, что кто-то из моих предков, к примеру, делал коци, а любимое занятие пана Кацнельсона — как раз спать! Вот вам и готов вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв, которые делают коци или любят долго спать! Пан, пан, — Коцовский насмешливо улыбнулся, — ваши экспертизы не стоят и гроша!
Все, кроме Попельского, понурились.
— Матрицы тоже ничего не стоят? — спросил вдруг Кацнельсон.
— Ну, матрицы, может, и нет, — буркнул слегка смущенный начальник. — Но эта гематрия — это уже слишком! Скажите-ка лучше, что мы и до сих пор не знаем, как искать следующую жертву Гебраиста!
— А что бы вы сказали, пан начальник, — отозвался Попельский, — если бы в фамилиях Коцовский и Кацнельсон была закодирована какая-то настоящая информация? Та, что соответствует действительности!
— Например что? — разразился смехом Коцовский. — Например то, что пан Кацнельсон — поляк иудейского вероисповедания?
— Простите! — не удержался Кацнельсон. — Я евангелистско-реформаторской веры!
— Именно так, дорогой пан начальник, — спокойно продолжал Попельский. — Если бы выяснилось, что согласные в фамилии Кацнельсон образуют слово «протестант» на языке кечуа. Что тогда? Вы так же весело смеялись или, может, пришли бы к выводу, что в этом есть что-то стоящее? Ну же, скажите мне! — последнее предложение он произнес уже приподнятым голосом.
Коцовский прикусил губу и глубоко задумался. Все подчиненные смотрели ему прямо в глаза.
— Мне пришлось бы признать, что это чудо, — медленно проговорил тот, — но я отнюдь не уверен, принял бы я таких серьезных средств, чтобы объяснить этот случай… Кроме того, — оживился он, — между случайной, вероятно, гематрией 68 в фамилиях жертв и вашим причудливым примером есть существенная разница!
Наступила тишина. Попельский несколько раз крутанул на пальце кольцо. Этот жест Зарембе показался магическим, потому что Вильгельм не знал, что перстень в мыслях друга превратился в кастет, которым он сейчас отправит Коцовского в нокаут.
— Гематрия 68 неслучайна, — Эдвард подошел к доске и взял мел. — Господа, первую жертву, перефразируя библейский язык, можно назвать пророчицей, вторую — блудницей. — Попельский записал на доске оба слова. — Это были их профессии. Гадалка и проститутка. На еврейском, соответственно,
нбй'х и
звнх. — Он дописал около польских слов их соответствия נביאה и זונה. — Если мы посчитаем значение этих еврейских букв, догадываетесь, пан начальник, сколько получится?
— 68? — тихо спросил Коцовский.
— Именно так, гематрии обоих слов составляют 68, — Попельский отряхнул ладони от мела. — Итак, преступник убил двух женщин, чьи имена и профессии имеют гематрию 68. Почему? Этого я не ведаю. Но знаю одно: я должен идти в бюро регистрации населения и пересмотреть фамилии всех жителей нашего города. Сразу же отброшу среди них те, чья гематрия больше, чем 100. А их огромное количество… А потом сочту значение всех согласных в тех фамилиях, которые останутся. Если у меня получится 68, я проверю профессию этого человека и тогда позвоню к раввину Шацкеру. Спрошу у него, как это слово перевести на еврейский. Если сочту буквы в еврейском аналоге профессии и получу гематрию 68, — он грохнул кулаком о доску, — буду иметь новую жертву! У вас будут еще какие-то замечания, начальник?
— Не замечание, а распоряжение, — надменный тон Коцовского контрастировал с его неуверенным взглядом. — Идите завтра в мой секретариат. С самого утра! Панна Зося выпишет вам полномочия в Бюро регистраций населения! К работе!
III
Пан Вацлав Круль, ночной портье, который работал в отделе V-a Городской управы королевского столичного города Львова, что на улице Рутовского, как раз готовился, как всегда, поужинать в своей служебной комнатке, как услышал резкий звон колокольчика у входной двери. Круль посмотрел на часы, понял, что сейчас девять вечера, и решил, что в это время здесь не должно быть ни одного посетителя. Может, ему послышалось? Старик запихнул указательные пальцы в ушные раковины и пошевелил ими. Надлежало быть чутким и прочистить ушные каналы на случай, если бы звук повторился. Оно никогда ничего неизвестно, может, это какой-то пьяница звонит ради развлечения, а может, руководитель администрации бюро хочет проверить бдительность своего персонала? Прислушался. Тишина. Облегченно вздохнул. Видимо, все-таки послышалось. Принялся за свое любимое занятие, которым всегда начинал дежурство, то есть взялся маленьким ножиком с бакелитовой ручкой чистить яблоко, когда звонок зазвонил во второй раз. У портье Вацлава Круля не было больше никаких сомнений, что звонят у парадной двери.
Старик поправил мундир и ремень на животе, крепче надвинул фуражку и, побрякивая ключами, похромал к входу. Распахнул маленькое зарешеченное окошко и на фоне кафедрального собора увидел коренастого мужчину с кровоподтеками на лице, который молча протянул ему какой-то документ.
Круль дважды перечитал его. То было полномочие, подписанное начальником следственного отдела Воеводской комендатуры полиции. Предъявитель этого письма мог в любое время пользоваться архивом бюро регистраций, а кроме того, требовать помощи у всех работников указанного учреждения. Это был пропуск, которого Вацлав Круль никогда не видел в течение семи лет работы в этом месте. Но самым весомым аргументом было лицо пришельца, которое портье вдруг вспомнил.
— Добрый вечер, пан Попельский, — он распахнул перед Эдвардом дверь. — Простите, что так вот по фамилии, но не знаю звания…
— Добрый вечер, — ответил поздний посетитель и кривовато улыбнулся. — А, это вы, пан Круль! Это вы теперь тут работаете? Сколько же это лет прошло?
— Да уже будет семь, — Круль закрывал дверь за Попельским. — Вы только начали работать в следственном отделе, когда я ногу сломал. Лежал на Пиаров, пока не срослось… Криво и косо, но все-таки… А потом тут должность получил. Хорошая! Государственная! Ну, чем могу помочь, пан… Не знаю звания…
— Пан Круль, мне сорок четыре года, — усмехнулся Попельский. — И я до сих пор рядовой… Обращайтесь ко мне «рядовой Попельский»!
— Как это? — в глазах портье было безграничное удивление.
— Мне нужен список лиц, которые пользовались адресными книгами на протяжении последних десяти лет, — Эдвард вытащил сигарету. — Поможете мне, или лучше позвонить кому-то из работников архива…
— Можете и сами посмотреть в архиве… — Круль не мог прийти в себя от неожиданного вечернего визита и странных слов Попельского. — Дайте мне полномочие, а я скопирую для шефа. У нас все тіпес-топес
[63], пан…
— Рядовой, — Попельский закурил сигарету.
Круль недоверчиво взглянул на собеседника и повел его в архив. Через мгновение Попельский уже просматривал каталог. Отыскал в нем сначала список выдач, который, согласно аннотации на каталожной карточке, должен был находиться в кабинете архивариусов, в застекленном шкафу номер VIII. Направившись туда, Эдвард действительно нашел там папку. На ней виднелась каллиграфическая надпись: «Реестр выдач адресных книг».
Попельский вытащил блокнот и свой «уотерман», снял пиджак и сел за столом, который принадлежал, как сообщил ему Круль, пану Лопушняку. Детектив воспользовался не только рабочим местом, но и служебной одеждой, которая висела рядом на гвозде. На плечи накинул тесноватый халат, на руки натянул нарукавники, а на голову надвинул козырек. Защитив себя таким образом от пыли и резкого света, он щелкнул выключателем лампы с абажуром в форме тюльпана и начал тщательно просматривать реестр выдач адресных книг. Этот труд так его поглотил, что Попельский даже забыл о том, что произошло с ним в доме Шанявского, куда он радостно помчался, как только завершилось совещание на Грюнвальдской.
Он сразу понял, что в реестре не указано работников архива, которые, как прочитал Попельский в правилах, только заполняли формуляры, а те раз в месяц выбрасывали в макулатуру. Итак, список состоял исключительно из лиц вне учреждения. Их было двести пятьдесят. Выписывание фамилий заняло в Попельского более двух часов.
Первым шагом в отборе этих людей, как решил Эдвард, должно было стать их проживание на Задвужанской. Поэтому он направился в главное помещение архива, где разыскал адрес каждого из двухсот пятидесяти получателей. Около двух ночи он тяжело сел в кресле и, вопреки запрету, закурил сигарету. Мрачно уставился в список. Только возле одного имени, Антоний Билык, значилось: «З., 62, кв. 7». А рядом виднелось «†1927», то есть этот человек умер в 1927 году.
Нет более Антония Билыка, жителя Задвужанской, который просматривал когда-то адресные книги. Больше нет.
* * *
— Нет у меня больше панны Шперлинг, — сказал балетмейстер Шанявский. — В пять приехала экипажем и забрала все свои вещи.
— А просила, может, что-то передать?
— Она ничего не сказала.
* * *
Раздавил окурок. Так, он всего лишь рядовой. Овидий был прав, любовник и рядовой похожи друг на друга. Первый умирает от тоски на страже у дверей своей любимой, второй охраняет лагерь. Оба готовы отправиться на край света, чтобы получить то, чего хотят. «А я вижу еще одно сходство, — думал Попельский, — между солдатом и любовником. Первый, видя смерть товарищей по оружию, теряет веру в отечество; влюбленный, испытывая ощущение смерти, перестает верить в любовь. Но я же после смерти Стефании немного во что верю, и в любви я далеко не новобранец — какое разочарование меня не придавит, я не заплачу и не буду разводиться над своим несчастьем, напьюсь сейчас водки и возьму какую-то шлёндру в путешествие салон-вагоном до Кракова. А завтра утром протру заспанные глаза, приоткрою склеенные губы и приложу лед к больным вискам. И лишь криво усмехнусь своему отражению в зеркале, когда буду бриться. Я опытный солдат. Ничто меня не разочарует».
Вопреки своим заверениям, Эдвард поднял трубку и уже в который раз набрал номер Шанявского.
— Добрый вечер, — сказал, услышав протяжное заспанное «алло-о-о».
— Не вернулась, — загудел вдали голос маэстро.
Попельский положил трубку.
Следующие пять часов он просидел над регистрационной книгой 1880 года. Сверяя постоянно фамилии с таблицей гематрий, он сразу отвергал те, что содержали буквы «н», «с», «п», «р», «ш» и «т», зато выписывал те, что состояли из оставшихся букв и буквосочетаний. Тогда подсчитывал их гематрии. В шесть часов ему хотелось все бросить. Еще через два Попельский понял, что пересмотрел едва половину фамилий только с одного года. Если он хочет дойти до текущего года, быстренько посчитал в уме, ему придется просидеть здесь сто дней.
Когда первые сотрудники пришли в архив, то застали в комнате незнакомого человека. Их это нисколько не удивило, потому что про ночного посетителя им сообщил портье. Набрякшие веки детектива были закрыты, а покрытое синяками лицо покоилось на развернутой регистрационной книге за 1880 год. Спокойный, глубокий вздох легонько шевелил страницы. Рука с массивным кольцом лежала на снятой с рычага телефонной трубке, откуда доносились тихие однообразные сигналы. Пальцы второй руки сжимали изысканную дорогую ручку, перо которой касалось открытого блокнота.
Младший архивариус Юзеф Лопушняк подошел к своему столу, занятому спящим Попельский. Заглянул в блокнот. Среди еврейских букв и колонок цифр виднелись слова. «Хая Лейбах, гематрия 68, зарегистрирована в книге за 1880 год, позже уже нет. Что с ней случилось? Жива?»
Лопушняк, которому Круль сообщил про обязанность всячески помогать детективу, решил это сделать, не разбудив посетителя. Кроме того, его письменный стол был занят пришельцем, поэтому работник оказался без своего рабочего места. Он переписал заметку и через час уже знал ответ на вопрос Попельского. Он удивил его самого. Лопушняк помчался к пресс-архиву. Пересмотрел несколько газетных подшивок и удивился еще больше.
IV
Служащий Юзеф Лопушняк работал в бюро регистрации населения более двух лет и с самого начала действовал на нервы начальнику, пану Владиславу Соммеру. Причина заключалась отнюдь не в игнорировании поручений начальства, а наоборот, в их немедленном и безупречном исполнении. Такое трудолюбие заслуживало похвалы, если бы, справившись с задачей, Лопушняк занимался тем, чем остальные его коллеги, то есть читал газеты или дискутировал о политике. Но ему это быстро надоедало, поэтому он покидал общество и начинал шарить по архиву. Результатом его поисков всегда было то, что Лопушняк находил какие-то недостатки, которые требовали устранения, или пробелы, что надо было заполнить. В первый же месяц он заметил, что до сих пор каталог производился спустя рукава. Аккуратный служащий решил это изменить и выполнил обещание. Через год напряженного труда каталог стал образцовым — Лопушняк оборудовал его системой отсылок к различным подкаталогам, в которые добавил копии карточек.
Господина Соммера так порадовала аккуратность нового работника, что он решил позаботиться о премии для него. И тогда случилось нечто неожиданное, а шеф долго проклинал свою доброту и заботу о неоперившихся подчиненных. Ибо руководитель отдела V-a магистрата, пан Росинкевич, кисло заметил, что если новый работник отыскал такие нарушения, то до сих пор дела в архиве велись невесть как. И что он, Росинкевич, отныне категорически требует, чтобы в годовых отчетах подавался перечень новых усовершенствований и улучшений. Услышав такое, пан Соммер заставил остальных работников выполнять дополнительные обязанности, в результате чего молодого архивариуса все немедленно возненавидели. Его окружало двойное пренебрежение: не только шефа, которому приходилось контролировать все сверхурочные задания, но и коллег, которым пришлось оставить газеты, спорт и политику и упорядочивать старые акты и записи. Аккуратного Лопушняка эта атмосфера в отделе отнюдь не смутила, поскольку теперь он пользовался поддержкой начальника и мог смело ожидать перемен к лучшему в своей карьере. Кроме того, его страсть к порядку была настолько пылкой, что архивариус не обращал малейшего внимания на препятствия, которые могли бы ему помешать в классификации, исправлении и улучшении существующей системы. Поэтому не удивительно, что, увидев вопрос, записанный в блокноте Попельского, и убедившись, что за временную утрату рабочего места он не сможет в тот день эффективно работать, Лопушняк решил облегчить задачу полицейскому, измученному ночными поисками. К тому же, его разохотило скрытое желание участия в запутанном следствии, о котором служащий, страстный любитель детективных романов, которому, несмотря на желание, не суждено было стать юристом, мечтал с детства.
Увидев теперь недоверие и удивление, которые звучали в вопросах Попельского, который уже совсем очухался от сна, Лопушняк ощутил немалую гордость. Это было ему лучшей наградой.
— Хая Лейбах, иудейской веры, дочь Майера, владельца кабака, и Ройзи, родилась в 1860 году в Коломые, — запинаясь, читал Лопушняк, чуть смущенный пристальным взглядом Попельского и полумраком, что царил в подвале, куда, заметив резкое утреннее солнце и чрезмерный интерес остальных работников архива, затащил его детектив. — В 1882 году ее удочерила семья Адама и Валерии Литовских из Львова. Названный отец был сапожником и вскоре умер. С тех пор Хая Лейбах звалась Ганна Литовская.
— Очень странным мне кажется удочерение двадцатидвухлетней женщины! — изумленно молвил Попельский.
— О, в наших книгах есть еще причудливее дела. Это удочерение является, я бы сказал, абсолютно типичным, поскольку касалось особы иудейской веры, которая, вероятнее всего, хотела официально изменить национальность. Ее приемные родители наделили девушку польским именем и фамилией, римско-католическим вероисповеданием, а сами, видимо, получили за это кругленькую сумму. Возраст Хаи Лейбах полностью освобождал их от обязанности заботиться о ней.
— Скажите, а в адресных книгах есть какие-то сведения о жизни Ганны Литовской?
— Конечно, — Лопушняк аж засиял. — На основании наших книг и благодаря различным подкаталогам можно создавать детальные жизнеописания львовян. Итак, Анна Литовская с 1882 до 1885 года жила на Кульпарковской. В графе «профессия» указано: «актриса». К сожалению, мне неизвестно, в каком театре она выступала. Маленькие театральные коллективы и странствующие труппы, к большому сожалению, пренебрегли распоряжением австрийских властей, которые касались ведения личных дел своих членов. В отчетах крупных театров фамилия Литовская не появляется вообще, нет и ни одной подобной… — Лопушняк перевел дыхание, собираясь сообщить важную информацию. — В 1885 году Ганна Литовская выходит замуж во Львове. Ее мужем стал граф Антоний Бекерский, российский подданный, владелец имения в Едлянце возле Люблина. Семья Бекерских поселилась во Львове на улице Сикстуской. В 1888 году у них родился единственный сын, Юзеф-Мария Бекерский. Через два года они вернулись в Едлянец…
— Повторите, что вы сказали! Это невероятно! — Попельский схватился за голову.
— То, что они жили во Львове? — архивариус взглянул на детектива и пожал плечами. — Нет тут ничего невероятного. Императорско-королевский закон от 1798 года, известный под латинским названием «
De matrimonium cum embus extraneis contraete»
[64] позволяет так называемый
Dulgung, то есть проживание иностранца, который…
— Повторите! — Попельский вскочил с места и потянул Лопушняка за хилые плечи. — Как зовется их сын?
— Юзеф-Мария Бекерский. Родился в 1888 году, ныне владелец имения в Стратине, Рогатинский уезд.
V
Запряженная в экипаж лошадь нехотя цокала копытами по мостовой улице Сикстуской. Полдень, когда львовская жара делалась невыносимой, еще не наступил, но удушье уже легло на город, и с уставшей животины клочьями падала пена. Пассажир экипажа вел себя не так, как большинство львовян: вместо того чтобы охладиться во время езды струей воздуха, приказал немного опустить козырек, а вместо того чтобы наслаждаться ранним летом, надел такие темные очки, что, по мнению извозчика, мог видеть не дальше кончика собственного носа.
И несмотря на то что сквозь свои черные очки Попельский видел вполне хорошо, он не собирался любоваться величественным зданием почтамта, которую экипаж как раз проезжал. Наоборот, решил сосредоточиться исключительно на собственных мыслях и, не желая после последнего злосчастного приступа эпилепсии рисковать и нарываться на случайные блики, полностью опустил козырек коляски. Не мог позволить себе отвлекаться на посторонние вещи, теперь, когда чувствовал вкус мести, когда приветствовал миг справедливости. Мысли Попельского были такие же мрачные, как тьма внутри экипажа. Они превращались в тяжелые и полные ненависти предложения, которые по намерениям Эдварда должны были появиться в прессе и уничтожить его врага.
Уважаемые Читатели, — Попельский старался строить как можно чувствительнее фразы, — Вам, конечно, известна поговорка «со страстью неофита». Она означает страсть, с которой новообращенный член какого-нибудь братства или секты уничтожает своих бывших единомышленников. Попробуем распространить эту поговорку на внерелигиозную сферу. Тогда это будут пылкие убеждения преследователя, который нападает на людей, которые раньше были его ближними. Как и любой фанатизм, такие действия неофита должны вызвать наше презрение. Они мало изысканны, а в хорошо воспитанных кругах такое поведение считается comme il faut[65]. Невероятно отвратительным является новообращенный, который перечеркивает память о собственном происхождении и гнобит земляков. Германизированный или русифицированный поляк, который преследует во время оккупации одноплеменцев, является уродом. А как оценить антисемитизм денационализированного выкреста по отношению к иудеям? Ответ прост: это такая же подлость.
Попельский вытащил блокнот и, несмотря на покачивание и подпрыгивание экипажа, которые Эдвард чувствовал на своей незажившей спине, записывал меткие фразы.
Самым отвратительным аспектом антисемитизма еврея, — торопливо писал Попельский, — является использование этих взглядов в политике. Антисемитизм является предубеждением, достойным порицания, но еврейский антисемитизм — это просто что-то невероятное! Поэтому не может не вызвать презрения у любого мыслящего гражданина Польши граф Юзеф Бекерский, который создал себе политический щит из русофилии и антисемитизма, и на плечах националистов стремится попасть в сенат, а в каждом собеседнике видит жида, хотя сам является им. Да, да, Уважаемые Читатели, мать графа, Анна Бекерская, de domo[66] Литовская, на самом деле звалась Хая Лейбах! Я пишу это не для того, чтобы издеваться над пожилой пани или, Боже упаси, унижать, нет! Пишу только о позоре для ума и вырождении духа, черты, присущие ее сыну-неофиту! Он не мог кичиться своим происхождением, не рассказывать о нем в своих кругах, поскольку это было бы серьезным препятствием для его положения, что, в конце концов, обидно в наше демократическое время! Но он не должен нападать на своих братьев. Это действительно отвратительно!
Попельский закрыл блокнот и глубоко задумался, как лучше использовать информацию, полученную с помощью архивариуса, пана Юзефа Лопушняка. Конечно, можно было бы уничтожить Бекерского благодаря либеральной и даже националистической прессе, потому что граф, очевидно, и здесь нажил себе врагов, для которых его письмо будет просто подарком. Но может ли он, Попельский, так поступить? «Кем я стану? — думал Эдвард. — Обычным доносчиком, мелким подлюгой, который, спрятавшись в тайнике, стреляет из рогатки, а потом хохочет от удовольствия, потому что набил кому-то шишку! Человек чести так не поступит! Но разве псевдограф Бекерский был человеком чести, когда напал на меня врасплох с ордой своих российских собак, а затем поиздевался и унизил?! И с другой стороны — неужели с тварью надо вести себя недостойно лишь потому, что он чудовище?! Неужели даже самый гадкий соперник не заслуживает уважения хотя бы потому, что это право каждого человека?»
Не решив этой этической проблемы, Попельский вышел из экипажа возле Иезуитского сада и вбежал в квартиру. Служанка Ганна открыла ему и многозначительно кивнула на дверь кабинета. Из кухни донесся запах кофе и дрожжевого пирога, в ванной бурлила вода. Эти приятные звуки и ароматы не усыпили чуткости Попельского. Глаза Ганны говорили: «В кабинете вас ждет кто-то чужой».
Эдвард распахнул дверь так резко, что портье Вацлав Круль, который сидел за его письменным столом, аж подпрыгнул. Однако мгновенно успокоился и чуть искоса глянул на хозяина кабинета. Гость явно аж кипел от возмущения. Его упрямый, наглый взгляд и оскаленные в гримасе зубы с серебряными коронками, не предвещали ничего хорошего.
— Добрый день, пан Круль, — сказал Попельский. — Разве это хорошо, так занимать место хозяина за письменным столом? Кресло для моих посетителей вон! — И он показал рукой на большое кресло, обитое зеленым плюшем.
Ночной портье не отозвался ни словом. Попельский напряг мышцы так, что это движение болезненно отозвался в спине. «Этот человек явно имеет дурные намерения, а у меня все болит. Способен ли я с ним справиться? Где мой пистолет? Или ночной портье имеет достаточно сил, чтобы убить? Разве работник архива может убить? Забить гвоздем старую вонючую гадалку и задушить жидовскую шлендру?»
И вдруг Попельский понял ошибку, которую сделал, придя в архив. Теперь надо было непременно это исправить. Должен был получить от Круля ответ на вопрос, которое не давал ему покоя с утра.
— Пожалуйста, сидите за моим столом, — начал он спокойным голосом, усаживаясь в кресле. — Вы мой гость, а гости должны сидеть на почетном месте. Может, выпьете кофе или лимонада…
— Я не ваш гость, — в глазах Круля погасли зловещие огоньки. — Пришел, чтобы вас збештати
[67].
— Почему? — чтобы скрыть смущение, Попельский протянул старику портсигар, но тот отрицательно покачал головой.
— Я человек простой, — Круль положил на стол полномочие Попельского. — Я вам поверил на фест. А вы меня збайдурили!
[68] Полчаса назад звонит телефон, и пан Соммер мине говорит про ваш правдивый документ, который рыхтиг
[69] принес какой-то пулицай. А это, — он подвинул столом лист бумаги, — фальшивка. А вы больше ни пулицай. А я поверил. Меня могут за путаницу с работы выкинуть! Семь лет проработал! Из-за вас!
Попельский мысленно проклинал свою рассеянность, которую мог назвать, скорее, слепым математическим инстинктом. Именно он приводил к тому, что его разум мгновенно реагировал, только наткнувшись на графический или звуковой элемент любого числа. Даже если Попельский думал о том, что его больше всего восхищало, то есть о любимых античных авторах или прелестях женского тела, стоило увидеть на вывеске или услышать какое-то числительное, и Эдвард немедленно невольно сосредоточивался на нем. Теперь это было количество лет, которые Круль проработал в магистрате. При этом Попельский полностью забыл, что хотел спросить того про определенную важную вещь. Так или сяк, портье надо было чем-то задобрить.
— Простите, пан Круль, — Попельский склонил голову, — и уверяю, что никто вас не уволит с работы. Это моя вина, я вас обманул, но вы не виноваты в том, что не заметили подделки. Ведь раньше вы ничего похожего не видели! Зато знали, кто я такой. Вот и поверили мне. Именно так я все объясню вашему начальнику, пану Соммеру. Еще сейчас. Поэтому не переживайте, пан Круль. Выпьете кофе или лимонада? Может, сигаретку?
— А откуда я знаю, что это ни голодные кавалки?!
[70] — портье резко поднялся. — Я свое самолюбие имею. Я ни обманщик, как вы.
И тогда Попельский вспомнил, о чем хотел узнать с самого утра от своего собеседника.
— Вы можете дать мне пощечину, пан Круль, и таким образом меня наказать! — Попельский вскочил и оперся ладонями о стол. — Ну, смелей, бейте в морду! Не бойтесь! Но прежде чем вы это сделаете, скажите мне кое-что. Это может быть неоценимым для моего следствия. Я сотрудничаю с полицией в качестве консультанта! — Озадаченный портье посмотрел на заклеенную пластырем щеку своего собеседника, которую тот ему подставлял, а потом тяжело сел и протянул руку к портсигару. — Когда я пришел в архив, то прежде всего должен у вас кое-что спросить, — из ноздрей Попельского вырвались два снопа дыма. — Я понял это сегодня утром, когда вас уже не было. Я веду определенное расследование. Должен узнать, регистрационные книги просматривал какой-то математик или нет. Искал, как дурак, кого-то вне архива, кто брал бы книги из вашего отдела… Потратил всю ночь на бесплодные поиски. Мне и в голову не пришло вполне очевидное предположение, что между чиновниками есть тот, кто мог бы одалживать книги тайком, без формуляра! А даже если бы он и заполнил формуляр, то их все равно выбрасывают в макулатуру! Работник архива, пан Круль, который знает математику! Скажите мне, есть ли у вас такой?
— Ну, да наверняка, — портье прищурился от дыма. — Был такой. Пан Леон Буйко. Он моей Казе, дочери, значит, уроки давал. Малая никак до арифметики голову ни имела…
— А он очень нищий? Семью имеет? Приходится подрабатывать уроками? — спросил Попельский, вспомнив себе эпитет «бедняга», которым Байдикова окрестила своего любовника.
— Ну, да беден он был потому, как уволился… Никто ни знал, чего он так сделал…
— Он одинок?
— Да, холостяк.
— Жид?
— А где там… Вы когда слышали, чтобы мехідрис
[71] назывался Буйко? То наш… Поляк, значит…
— И самое важное, — Попельский перевел дыхание. — Где он живет?
— А на Садовницкой.
— На Садовницкой, говорите, на Садовницкой… — вена на шее Попельского начала пульсировать.
Такое случалось всегда, когда он чувствовал приближение разгадки, через мгновение в его размышлениях произойдет перелом, и все станет понятным и четким.
— Где это? — прохрипел он.
— Простите, что невольно подслушала, — из гостиной послышался голос Леокадии. — С недавних пор Садовницкая официально зовется Задвужанская.
Попельский влетел в гостиную, как вихрь. Леокадия, одетая в домашнее платье, пересматривала «Модную пани». Эдвард схватил ее в объятия, поднял вверх и закружил с кузиной на руках. Ее порозовевшее после ванны лицо пахло кремом. Целуя Леокадию в обе щеки, Попельский уловил легкий аромат талька.
— Спасибо тебе, дорогая Лёдзю! Мне очень помогли твои знания львовской топографии!
Слегка помрачневший Вацлав Круль стоял на пороге гостиной, готовый уйти, и пренебрежительно смотрел на пару, которая обнималась. Леокадия весело смеялась. «Оно и не удивительно, что весь Львов говорит о них, будто они живут на веру», — подумал ночной портье.
— А может, мне бы тоже полагалось «спасибо»? — нехотя буркнул он и ушел, не попрощавшись.
VI
Эдварда Попельского разбудило веселое щебетание Ренаты. «Видимо, говорит по телефону с какой-то подружкой, — подумал он в полудреме, — видимо, той яркой блондинкой, с которой она жила. Видимо, договариваются о
ménage à trois. А кто в главной роли? Я сам! Это сумасшествие, когда тебя чествуют две женщины!»
Почувствовал сильное возбуждение, а через мгновение — такое же сильное отвращение к самому себе. Лежал в собственной постели, а в щебете, которое доносилось из прихожей, узнал голос родного ребенка.
Приподнялся на локтях и огляделся по кабинету. Взгляд попутешествовал по корешкам книг за стеклянными дверцами огромного книжного шкафа. Это вернуло его к действительности. Сонные любовные грезы исчезли. Энциклопедии Брокгауза и Оргельбранда были, как гимн в честь человеческого разума. Солидные, оправленные в темные переплета тома «
Thesaurus Linguae Latinae» рассказывали ему о бессмертии духовного мира, куда он попал, перешагнув порог станиславовской классической гимназии. О самой важной в настоящее время задаче напоминали небольшие подшивки «
Deutsche Schachzeitung»: на их корешках переплетчик вытеснил шахматную доску, что походила на магические квадраты. Так мысль о горячей
ménage à trois исчезла под воздействием дуновения холодного ума. Аполлон победил Диониса.
Попельский встал с кровати. Тонкая шелковая пижама была мокрой от пота. Влажной глазной повязкой вытер голову, раздвинул шторы и открыл окно. И в комнате стало прохладнее, а изменение заключалось разве в том, что в помещение ворвался запах переполненной помойки, раскаленного на солнце толя, вперемешку с ароматом акации, которая расцвела на дворе.
Попельский выпил стакан холодной мяты, накинул на плечи халат и вышел в прихожую. Прижал Риту, которая прыгала и кружилась, как юла. Дыхание малышки пахло леденцами. Эдвард поцеловал Леокадию в щеку, вдохнув ее теплые ванильные духи. Потом чмокнул в руку служанку Ганну Пулторанос, от которой исходил запах пирога и крахмала.
Таким поведением он хотел приглушить беспокойство, которое мучило его с самого пробуждения, когда голос своего ребенка он перепутал с голосом Ренаты Шперлинг.
— Идиот, — сказал он себе в ванной, скребя бритвой колючую щетину, — сейчас ты пойдешь к подозреваемому, на чью вину указывают аж три вещи. Любу Байдикову убил ее любовник, математик, который живет на Задвужанской и которого она называла «мой бедолага». Им может быть Леон Буйко. Далее? он работал в отделе регистрации населения и мог там беспрепятственно просматривать книги в поисках лиц с гематрией 68. Ты семимильными шагами приближаешься к убийце! Сосредоточься на этом! Не думай про акробатические трюки еврейской шлендры, которая превратила тебя в постели в покорную марионетку!
Последние слова взволновали его так сильно, что он нажал пальцем на опухоль на лице. Боль просверлил щеку и десну.
«Так мне и надо!» — подумал Попельский. Сел на краешке ванны, тяжело дыша. Готов был убить каждого, кто назвал бы Ренату Шперлинг «жидовской шлендрой».
Попельский позавтракал без аппетита, потом старательно оделся. Выбрал новый костюм и кремовую сорочку, которую любой поклонник традиционных белых сорочек и целлулоидных воротничков, что следовало носить независимо от погоды и времени года, считал бы невероятно экстравагантной. Расстегнул две верхние пуговицы и воротник сорочки выложил поверх пиджака. Не озабочивался тем, что в вырезе виднелись взъерошенные волосы на груди. Может, оно и вправду выглядело нескромно, возможно, как говорила Леокадия, это было признаком парижских сутенеров и прочих мошенников, но ничто не заставило бы его выйти на львовскую жару с шеей, стиснутой узлом галстука. Кроме того, он не был уверен, не придется ли применить к Леону Буйко силу, в этом случае любая неудобная одежда могла стать лишней помехой. Из ящика письменного стола вытащил браунинг, который тяжело лег во внутренний карман его пиджака.
Выходя из квартиры, подошел к телефонному столику. Поднял трубку и прислушался к протяжному сигналу.
— Телефон исправен, — отозвалась из гостиной Леокадия. — Уверяю тебя, она не звонила. Такие, как она, никогда не звонят. А если им звонит какой-то влюбленный дурак, то болтают ногами, хохочут от радости и подмигивают подружкам: вот так умора!
— Спасибо за интересную информацию, — Попельский делано улыбнулся. — Только сделай одолжение и объясни мне, кто здесь кому звонит, потому что я ничего не пойму. Но сделай это позже, потому что сейчас у меня нет времени выслушивать твои догадки…
Вышел, тихо закрыв дверь. И только на лестнице вместе с громким «Курва его мать!» вылил свой гнев на желчную кузину.
Было четыре пополудни. Над городом разливалась жара. Возле почтамта Попельский взял экипаж. Повозка медленно двигалась по улице Коперника в Воеводскую комендатуру. Там Эдвард приказал вознице подождать, вышел и через несколько минут снова сидел под опущенным козырьком. Разодрал конверт, который взял на проходной, и прочитал информацию, о которой вчера вечером попросил, позвонив Юзефу Лопушняку:
Леон Буйко, улица Задвужанская, 25, кв. 14.
Приказал ехать по улицам Потоцкого и На Байках, а затем остановиться на Задвужанской метров за сто от дома под номером 25. Это было здание, отделенное от улицы железным забором и зелеными кустами. Перед ним росли два высоких дерева, которые затеняли окна на первом и втором этаже. На травнике гладкая служанка в льняной сорочке без рукавов развешивала на веревке выстиранное белье, показывая небритые подмышки. Попельский мгновение присматривался к ней и слушал куплет, который надтреснутым от избытка алкоголя и табака баритоном напевал какой-то жилец первого этажа.
Сюп, Манюсю, музична гра,
Танцюї батярів тьма.
Расплатился с возницей, быстрым шагом преодолел расстояние, отделяющее его от ворот, и оказался в приятной прохладе старого здания. Перед ним бежала лестница, слева застекленные двери вели на двор, окруженный кирпичной неоштукатуренной стеной. Все подробно осмотрел. Потом поднялся наверх. Квартира номер 14 была на последнем этаже. Добравшись туда, Попельский несколько минут постоял, опираясь на перила и тяжело дыша. Придется еще раз спуститься вниз, чтобы проверить, что Буйко не выскользнет в окно, случайно взглянув в глазок и испугавшись.
Быстренько сбежал по лестнице на двор и глянул вверх. С облегчением понял, что из окон последнего этажа можно выйти на крышу. Во время этих смотрин его тронула недоверчивая служанка, спрашивая: «А то ду кого?» Эдвард сбыл ее неприветливым ворчанием и снова поднялся к двери Буйко. Снял пиджак и шляпу, однако это не слишком его охладило. Он был весь мокрый. Новая сорочка пропитался влагой, пот стекал под повязкой на спине. Попельский стиснул зубы и подошел к двери. Эдвард не баловался соблюдением полицейских норм. Согласно них он не должен был сам заходить в жилище подозреваемого.
Попельский больше не был и вместе с тем до сих пор не стал полицейским. Нажал щеколду, а когда дверь не подалась, громко постучал.
Открыл невысокий, грузный мужчина в потертом халате, который, казалось, был его единственной верхней одеждой, если не считать носков с гуцульским узором. Бегло взглянув на худые икры подозреваемого, обрюзгшие щеки и немалое брюхо, Попельский понял, что не потребуется браунинга, чтобы применить силу и обуздать вероятное сопротивление Леона Буйко, если перед ним действительно был он.
— Добрый день, — вежливо поздоровался Эдвард. — Я имею удовольствие разговаривать с паном Леоном Буйко?
— Удовольствие или, наоборот, неприятность, — фыркнул мужчина в халате и нервно подтянул носок, — вы сможете почувствовать только во время разговора или же после него…
Подбор слов свидетельствовал о том, что жилец четырнадцатой квартиры был человеком образованным. Попельский почувствовал сильное раздражение. Раны на спине пекли, сломанный нос набрякал, втягивая пыль и горячий воздух квартиры. Мысленно послал к черту изысканные манеры. Не имел времени на учтивые разговоры и извинения. Резко уперся ладонью в грудь собеседника. Под пальцами ощутил влажную потную кожу. Толкнул так сильно, что мужчина потерял равновесие и распростерся на полу. Попельский быстро закрыл дверь изнутри, а ключ спрятал в карман.
— Караул! — заорал застигнутый врасплох человек, подметая полами халата пол.
— Цыц! — зашипел Попельский. — Не буду больше, если будешь тихо.
Жилец открыл рот, чтобы снова закричать. И тогда почувствовал дуновение воздуха. Что-то выросло у него на подбородке, а солоноватый вкус во рту и болезненное подергивание свидетельствовали о том, что он, видимо, прикусил себе язык.
Третьего удара Попельский не нанес. Только схватил лежащего за шиворот, протащил тело метра два полом, словно мешок, и бросил под окном. Полы халата раскрылись и оттуда выглянуло толстое колено, покрытое рыжеватыми волосами. Попельский протянул руку к занавеске и брезгливо вытер ей ладонь.
— Меня зовут Эдвард Попельский? А вас?
— Леон Буйко, — мужчина произносил слова медленно, разбрызгивая вокруг слюну и кровь.
— Образование?
— Доктор философии и математики.
— Какой университет?
— В России, Казанский, — Буйко сел на полу и приложил ладонь к горящей щеке.
— Какова тема докторской диссертации?
— Все равно ничего не поймешь, ты подлец! — уже увереннее ответил математик.
Попельский старательно повесил пиджак на спинке стула, а шляпу положил на стол, проверив сперва, что там чисто.
За зелеными стеклами книжного шкафа виднелись корешки книг. Открыл дверцу и взглянул на них, то были дешевенькие издания польской и зарубежной классики. Генрик Сенкевич, Болеслав Прус, Виктор Гюго, Анатоль Франс. Из научных изданий были разве что российский атлас анатомии человека и двухтомная энциклопедия Брокгауза. Ни одной математической работы, ни Библии.
Закрыл шкаф и занялся письменным столом. Открыл его и выдвинул верхний ящик. Там была обычная пресса: «Слово польское», «Волна», «Утренняя газета», а также журналы «Львовские музыкальные и литературные новости», «Рассвет», «Верный Львов». Внимательно их просмотрел.
И вдруг лицо его вспыхнуло. Между газетных страниц выглядывали маленькие карточки с какими-то математическими вычислениями и формулами.
Напряг мышцы. Надо обуздать эйфорию, утишить горны победы, которые взывали: все верно, перед тобой тот, кого ты искал! Этот мужчина спрятал исчисления среди газет, чтобы они не бросались в глаза во время беглого обыска! Что тебе еще нужно? Разве он не похож на извращенца, который трахает сифилитических баб? Давай! Приведи его к Грабовскому на веревку, а потом вернись в свой кабинет в полиции, к настоящей жизни! Или, может, ты хочешь убедиться? Хочешь отыскать еврейские надписи и магические квадраты?
Попельский вытер лоб, нахмурил брови и грозно взглянул на Буйко.
— Я тебя кое о чем спрашивал!
— Обобщение одной теоремы Егорова, — Буйко неверно понял его взгляд и прикрылся халатом, словно то был панцирь, способный защитить от ударов, которые вот-вот должны были посыпаться на его тело. — Это тема моей диссертации.
— Она касалась конвергенции функций?
— Вы математик? — спросил удивленный Буйко.
— В моей голове одни только числа и трупы, — сказал Попельский. — Я больше чем математик. Я полицейский.
Огляделся по квартире. Она была довольно просторной, содержалась в чистоте и порядке. Очевидно выполняла функции кухни и кабинета. О первом свидетельствовали раковина, примус, доска для резки хлеба на столе и буфет, о втором — письменный стол и книжный шкаф. Два окна выходили во двор, одно на травник и деревья перед домом. Двери, закрытые несколько потрепанной портьерой, явно вели в другую комнату. И эти двери Попельского встревожили.
Поманил Буйко пальцем и, когда тот тяжело поднялся и подошел, крепко схватил его за плечо и толкнул за портьеру. Запутавшись в тяжелой ткани, Буйко несколько секунд пробыл за порогом помещения, но его никто не ударил. Никто не ждал, притаившись, пока портьера распрямится, чтобы напасть на чужака. Скорее всего, в комнате за занавеской никого не было. Попельский медленно приподнял портьеру.
Остановился в полуметре от двери и взглядом изучал небольшую спальню, в которой были массивный и очень высокий шкаф, рядом стоял стул, а посередине — железная кровать. Из шкафа, почти из-под потолка, угрюмо смотрел гипсовый Сократ. Попельский снова схватил Буйко за воротник и в этот раз пихнул вперед головой в комнату, а потом быстро потянул назад. Так его учили два года назад на полицейских курсах в Сарнах. Ничего не произошло, никто не затаился, прижавшись к стене возле двери.
— Войдите в спальню и сядьте на стуле.
Буйко сделал, что ему приказали, а Попельский начал обыск комнаты. Заглянул под кровать. Только фанерный чемодан. Открыл его и увидел грязное белье. В шкафу просмотрел какую-то весьма потертую и заштопанную одежду. Пересмотрел содержимое полок, перекладывая с места на место сорочки, которые несколько лет назад стоили отнюдь не дешево. На манжете одной из них даже была вышита монограмма «Л. Б.», что делали только в первоклассных магазинах. Под сорочкой что-то зашелестело. Попельский засунул туда руку и вытащил большую книгу. Открыл ее и перебежал взглядом изогнутые еврейские буквы. Это была еврейская Библия. В ней торчал конверт. Попельский нащупал скользкую поверхность и вырезанные зубчиками края фотобумаги. Вынул фотографии.
Прежде чем рассмотреть горы сала, отвислые груди и толстые ягодицы на снимке, глянул на Буйко. Тот скорчился, почти положив голову на колени, и, покачиваясь на стуле, уставился в пол. На его лысине, окруженной жиденькими кудряшками, сверкали капли. Особенно обильно скапливались вокруг большой мохнатой родинки, похожей на черный остров на лысом черепе. Очертания напомнили Попельскому итальянский сапог. Детектив перевел взгляд на фотографии и долго их изучал.
— И не стыдно вам, пан Буйко, хранить в Библии порнографические снимки? — поскреб ногтем одну из фотографий, на которой, усевшись на канапе, сидела Люба Байдикова и кокетливо поглядывала в объектив из-под маленькой шляпки. Ее толстые, как у слона, ноги были широко раскинуты, а жирные груди спускались вдоль тела.
На шкафу что-то зашуршало. Попельский поднял голову, но наткнулся лишь на презрительный взгляд гипсового Сократа.
— Мыши здесь у вас шныряют, а, Буйко? — поднял руку, приказывая подняться. — А теперь назад в кухню! Там поговорим!
Его аж распирало от эйфории. Громко играли победные трубы. Он пытался утишить их, потому что эти звуки казались ему не только приятными, но в то же время унизительными и издевательскими.
Такое всегда случалось с ним перед эпилептическим приступом. Эйфория и эпилепсия. Неразлучные сестры — одна проясняет ум, вторая ввергает в бездну.
Буйко сел в кухне на стуле, как и приказал Попельский. Детектив отодвинул в сторону тяжелую пишущую машинку и положил рядом с ней Библию. Затем залез в ящик и снова пролистал бумаги, спрятанные среди газет. На них виднелись математические расчеты и формулы, которые касались последовательностей и теории чисел. Несколько минут он сидел у стола молча и просматривал еврейский Ветхий Завет. Страницу за страницей. Много слов было подчеркнуто, на полях громоздились столбцы и подсчет чисел, приписываемых буквам. Это были гематричные вычисления.
Трубы играли и замолкали. Попельский поднял книгу и вытряхнул из нее три листа с выписанными на них еврейскими словами, одно за одним. Они образовывали квадраты, длина стороны которых могла исчисляться буквами. Один квадрат касался Люби Байдиковой, другой — Лии Кох, а третий — Хаи Лейбах. Детектив усмехнулся и взглянул на Буйко.
— У меня есть алиби, — спокойно сказал математик.
— Я опровергну любое ваше алиби, — Попельский закурил сигарету и посмотрел на портьеру на дверях спальни, которая вдруг заволновалась от сквозняка.
— Этого алиби вы наверняка не опровергнете. Стыд вам не позволит.
Все громче звук назойливо вибрировал в ушах Попельского. Может, это действительно предвещает приступ? Несколько дней назад, после приступа эпилепсии в квартире Шанявского и памятного утра с Ренатой, он видел то же, что и сейчас. Да, та самая картина: он сидит на стуле в комнате, заполненной карточками с математическими вычислениями. От сквозняка колышется портьера на дверях. Трепещет все быстрее, пока не поднимается и летит, словно персидский ковер. Раздается грохот. На самом деле вся эта сцена выглядела сейчас так же. Но в видении за портьерой был высокий мужчина в котелке. В этом причудливом сне Попельский смотрел на Попельского. Сейчас, в действительности, он видел Ренату Шперлинг. Стояла в дверях и отряхивала скромное платьице от комков гипса, которые остались от разбитого Сократа.
— Она — мое алиби, — сказал Буйко. — Ты же не упрячешь свою возлюбленную в тюрьму за соучастие?
Наступила тишина. Триумфальные трубы умолкли.
VII
Попельский поднялся и посмотрел Ренате прямо в глаза. Ему стало интересно, что увидит в них: расстройство, беспокойство, а может, обольстительное притворство, притворную притягательность. Но в них ничего не было, только слезы. Рената потупилась.
Снова сел на стул. Весь вспотел, но не из-за жары или резких движений, которые выполнял недавно, когда таскал Буйко по полу и обыскивал его квартиру. Пот после физических усилий или высокой температуры теплый, а его заливала холодная волна. Попельского словно сковало льдом.
— Что вы имеете в виду, Буйко, — спросил он, поворачиваясь боком к Ренате, — говоря об алиби и соучастии? Соучастие в чем, пан?
Буйко широко улыбнулся. Кожа на его лице и голове натянулась и порозовела вокруг пятна на лысине.
— Я не убивал этих женщин, а просто предсказал их смерть. Она закодирована в магических квадратах, которые вы, видимо, расшифровали, потому как иначе попали бы ко мне? Вы математик! Кому же еще было бы известно что-либо про когерентные функции? Но… вернемся к делу. Если я предсказал смерть этих женщин, то разве не мог предугадать, что меня заподозрят в убийстве? Поэтому я позаботился об алиби, которое мне обеспечивает панна Шперлинг. Если бы вы хотели это опровергнуть, пришлось бы доказать, что панна Шперлинг лжет. А если вы это докажете, ее обвинят в соучастии. Вы же не хотите, чтобы панну Шперлинг таскали по судам. Простые логические выводы, не так ли,
mon cher? Кроме того, вы не допустите, чтобы вашу любовницу
in publico[72] провозгласили барышней легкого поведения, которая прячется на шкафу, опасаясь, что ее заметят?
— О чем это он? — Попельский даже не взглянул на женщину, которая продолжала стоять в дверях. — Какое же это алиби, панна Шперлинг?
— Я все время была вместе с Леоном Буйко, — четко пролепетала Рената, вперив взгляд в пол, — весь день 10 апреля и в ночь с 10 на 11 апреля, а также день и ночь с 30 апреля на 1 мая.
Это были даты совершения обоих преступлений. Попельский чувствовал, что его челюсти и до сих пор как будто скованы льдом. Дрожал от холодного пота. Руки дрожали, а каблуки туфель выстукивали бешеный ритм на досках пола. Он понимал, что через мгновение Буйко позлорадствует над его гневом. Будет насмехаться над ним мысленно. Будет смеяться над ревнивым и преданным любовником, которому он, Буйко, наставил рога.
Попельскому пришла в голову единственная возможность достойно выйти из этой ситуации. Существовал простой, радикальный и ужасный метод, чтобы доказать Ренате, кто здесь настоящий победитель. Способ продемонстрировать животное превосходство одного самца над другим. Достаточно обозначить свою территорию мочой и забрызгать ею соперника. Подошел к Буйко, нацелился в него из браунинга и заглянул глубоко в глаза.
— На пол!
Когда математик сел на пол и тяжело скрестил по-турецки толстые ноги, Попельский стал на стуле над соперником и расстегнул ширинку.
— Смотри, что я с ним сейчас сделаю, — обратился к Ренате. — Это мой раб, мой пес!
Но ничего он не сделал. Ему стало плохо. Посапывая, как астматик, Попельский медленно слез со стула и сел на него. Буйко хохотал, Рената Шперлинг смотрела на Попельского. Долго, серьезно и безжалостно.
— Я влюбилась в вас, — тихо молвила она, — уже давно, еще гимназисткой. Мечтала о ваших сильных руках, ваших губах. Писала к вам письма, а потом тайком их сжигала. Ночью украдкой выходила из дома, чтобы постоять под вашими окнами. Я не могла вызвать в вас чувство, не знала, как это сделать. Вы были недостижимым польским профессором, а я — сиротой, худой, нервной еврейской старшеклассницей… Я была так одинока в этом проклятом городе, учительницы меня унижали, подруги по гимназии ненавидели…
— А теперь ты уже научилась альковным премудростям, а? — Попельский горько усмехнулся. — Уже знаешь, что сделать, чтобы мужчина в тебя влюбился? Это нетрудно. Когда такая куколка, как вот ты, затрепещет ресницами, мужчины уже через мгновение мечтают лишь об одном: чтобы стать твоей подвязкой.
— Я расскажу вам про свои последние недели в Стратине, — Рената словно не слышала этих слов. — Граф Бекерский часами стучал в дверь моей комнаты. А потом, зная, что я испуганно смотрю в замочную скважину от ключа, удовлетворял себя, стонал и спускал на мои двери. Встречая меня в коридоре, мгновенно вытаскивал свои причиндалы и пытался всунуть мне в ладонь. В тот день, когда пропала его мать, графиня Бекерская, сбросил штаны, схватил меня за волосы и заставил встать на колени. Но опозорить меня не позволил камердинер Станислав. Он оттолкнул графа, а я убежала. Тогда российские бандиты связали Станислава, а граф располосовал ему лицо шпицрутеном. В тот же день лесник с Пукова тайно отвез меня на мотоцикле до Рогатина. До Львова я добралась на поезде. Там поселилась у Марианны Столецкой на улице Линде. Я дружила с ней еще с тех пор, как она пребывала в Стратине как компаньонка госпожи графини. Во Львове я отыскала вас в университете, пришла на лекцию и умоляла, чтобы вы нашли графиню. Но вы отказались. Через неделю я решила вернуться в Стратин за своими вещами. От Станислава, с которым мы часто общались по телефону, я знала, что ничего плохого со мной в тот день не случится… У графа проходили двухдневные политические собрания членов Национальной партии, на которых его должны были выдвинуть кандидатом в депутаты сейма от львовского округа. Поэтому я сделала так, как планировала. По дороге в Стратин встретила вас на вокзале в Ходорове. А потом над рекой случилось то, что случилось… Так я жила. Среди боли и позора…
— Это невероятно, ха-ха! — Буйко демонстративно расхохотался. — То вы ею над этой рекой овладели?
— Я вернулась во Львов, на Линде, — спокойно продолжала Рената. — А там однажды появился граф Бекерский. Марианна Столецкая издавна была его содержанкой. Он навещал ее, когда пани не было. Я не знала об этом, пока не увидела его в нашей квартире. Даже ближайшие подруги скрывают друг от друга грязные тайны… Итак, Бекерский пришел, был очень любезен, предлагал мне финансовую помощь. Я испугалась, убежала и разыскивала вас. Только вы могли мне помочь… Нашла вас в этой ужасной забегаловке, кажется у Гутмана, так? Мы пошли к
séparé, где мой любимый учитель, пан профессор Попельский, превратился в ненавистного преследователя, графа Бекерского. Мой благородный джентльмен бросился на меня и запихнул лапы под платье. Что мне оставалось делать? Пришлось поехать на Задвужанскую, — она кивнула на Буйко, — к этой твари…
— Ну-ну, не преувеличивай, дорогая, — математик ощерился в улыбке. — Не так уж и плохо тебе тут было…
— У меня никогда не было ничего общего с ним, поверьте, он сам испугался, когда я, чтобы защитить себя, сказала ему, что нахожусь под вашей опекой, — Рената нисколько не повысила голоса. — Я познакомилась с ним раньше, в тот день, когда исчезла графиня Бекерская. Он разговаривал с графом, меня тоже расспрашивал про нее. Оставил визитку, чтобы я позвонила ему, если что-то узнаю. Эта визитка все время была в моей сумке… Визитка с адресом… Я вытащила ее в кафе Гутмана… Тогда это был единственный известный мне в городе адрес… Я могла прийти только сюда…
— Видите, что может наделать глупая визитка? — Буйко весело хохотал, полы халата раскрылись, и он хлопал себя по синеватым бедрам. — Вот и пришла запуганная девочка, — издевался он. — В отчаянии, но все-таки соблазнительная…
— Эта извращенная тварь, — Рената продолжала всматриваться в Эдварда, — сказала, что разрешит мне переночевать при одном условии: если загипнотизирует меня, и я подтвержу его алиби. Я согласилась. Гипноз не подействовал.
— Ты спала как убитая! — воскликнул Буйко.
— Я провела у него на канапе одну-единственную бессонную ночь, а утром вернулась к Марианне Столецкой. Бекерский как раз вышел по каким-то делам. Тогда пришли вы с цветами и извинениями. А дальше вам все известно. Романтический вечер, потом прекрасное утро в квартире этого чудака Шанявского, а затем я, напуганная приступом вашей болезни, снова сбежала к этой твари… Куда мне было пойти? К Марианне, которая была любовницей графа? К вам? Больше я никого не знала… О моей дружбе с гимназическими подругами, — она издевательски засмеялась, — я уже вам рассказывала, в конце концов, они повыходили замуж… Мне нужно было где-то остановиться, все обдумать… Я боялась вас, вашей болезни, боялась всего света… И снова сюда пришла. Он пообещал, что больше меня не тронет. Даже был ко мне добр. Просил еще одно алиби. Теперь вы все знаете… — Она быстро подошла к Попельскому и поцеловала его в губы. — Не отталкивай меня, Эдвард, — прошептала. — Я сделаю для тебя все, что хочешь! Можешь меня взять даже здесь, в спальне! Я принадлежу тебе, Эдвард! Я откажусь от этого алиби, но не надо сейчас об этом! Не хочу сейчас думать, хочу только тебя… Одарю тебя кое-чем…
Она встала на колени и всматривалась в него. Ее зеленые глаза потемнели.
— Вчера утром ты уже меня чем-то одарила, — отозвался наконец Попельский. — Твой щедрый дар — это сифилис от Любы Байдиковой
via Леон Буйко.
Рената Шперлинг приподнялась, а потом еле вытащила из спальни тяжелый чемодан. Через мгновение на лестнице застучали каблуки ее туфель.
VIII
Попельский почувствовал, что пот перестал стекать у него по спине. Снял сорочку, засунул руку под мокрую повязку и носовым платком вытер, несмотря на боль, твердые струпья и раны, которые еще не зажили. Подошел к крану и налил себе воды. Затем закурил сигарету и несколько минут всматривался в своего противника.
— Ее больше нет, Буйко. Исчезло ваше алиби, неизвестно где…
— Еще вернется, уверяю вас, — математик снова завернулся в халат. — Они всегда возвращаются.
— Не вернется и не будет никакого алиби, — Попельский сел за стол. — А тут остались вы, с этими магическими квадратами, — постучал по карточкам пальцем, — которые я назвал бы немного по-другому. На языке закона это доказательства совершения вами преступления, Буйко. Вы убили Любу Байдикову и Лию Кох, и я вас за это арестую. И посажу в тюрьму, а там закину в самую темную камеру, где кишит от тараканов. И знаете, что я тогда сделаю? Я оставлю вас там надолго и вообще не буду вами заниматься!
— А что вы в это время будете делать? — Буйко продолжал улыбаться. — Когда я буду устраивать тараканьи бега?
— Я разыщу твое алиби, — Попельский удовлетворенно затянулся сигаретой. — Найду Ренату Шперлинг и поговорю с ней. Нескольких минут мне вполне хватит. А она опровергнет эту свою дурацкую считалку, — Попельский передразнил девушку тонким голосом, — мол, «такого-то и такого-то числа я была с паном Леоном Буйко
et cetera». А если мне недостаточно будет нескольких минут, чтобы убедить Ренату Шперлинг, я посвящу этому несколько дней, возможно, недель или месяцев… Но в конце концов твое алиби лопнет.
— Очень уж ты упрямый! — математик с какой-то зловещей усмешкой тоже перешел на «ты».
— Это неподходящий эпитет, Буйко, — Попельский несколько раз крутанул на пальце кольцо. — Очень неподходящий. А знаешь, какое слово будет самым точным? Греческое
triops. Оно переводится «тот, что имеет третий глаз». Это я. Я не разбрасываюсь по сторонам, иду только туда, куда смотрит мое полицейское око. А оно говорит: «Убил математик? Он перед тобой! Замучил извращенец? Извращенец перед тобой! Преступник посылал магические квадраты, в которых зашифровал информацию об убитых женщин? В ящике письменного стола математика найдены именно эти квадраты! Чего же тебе не хватает? Ничего!» — Эдвард перевел дыхание после своего монолога. — Что ж, одевайся, Буйко, и не пытайся мне тут фортели выкидывать! Помни, я все время наблюдаю за тобой своим третьим глазом.
— Ты веришь этой шлюхе, что я извращенец? — мужчина сидел неподвижно. — Веришь, что у нее со мной ничего не было? Хочешь, чтобы я доказал тебе, что извивалась подо мной, как сучка? Скажу тебе, что она больше всего любит в постели, и тогда сам поймешь, вру ли я или говорю правду! Она любит, когда ей впихают…
Попельский поднялся и схватил Буйко за жиденькие кудри, которые росли вдоль его лба. Дернул математиком так сильно, что едва не поднял его в воздухе, притянул к письменному столу, а затем грохнул лицом о гладкую поверхность.
Между пальцами остались отдельные выдранные волосы. Подошел к раковине и вымыл руки под краном, а Буйко продолжал лежать лицом на столе и тихо стонал, схватившись обеими руками за голову. Ручеек крови из его разбитого носа приближался к листам и раскрытой Библии.
Попельский отодвинул книгу, а три магические квадрата положил в конверт, найденный в ящике. Сделал это осторожно, чтобы не затереть отпечатков пальцев преступника. Затем надел сорочку на израненную спину.
— Пошли! — сказал, застегивая пуговицы. — Лучше надень брюки и штанины заправь в носки. Неприятно, когда тараканы и пауки щекочут лапками голую кожу.
— Точно такие же магические квадраты Лии Кох и Люби Байдиковой есть еще у кое-кого, не только у меня, — Буйко вздохнул, втягивая кровь, что капала из носа. — Он тоже математик. Вот настоящий извращенец! Я учился с ним вместе в Казани…
* * *
— Что-то я вас не припомню, — буркнул граф Юзеф Бекерский. — Но, может, вы ходили только на некоторые лекции?
— Я посещал все, — Буйко положил ногу на ногу, — и помню вас очень хорошо. Например, вы один из немногих не пользовались бумагой при подсчетах.
В гостиной дворца в Стратине царил полумрак, в котором очертания предметов становились нечеткими. Рожки люстр с изысканными украшениями и завитушками, что висели между окнами, сливались в одинаковые эллипсы, кожаные кресла походили на огромные глыбы, а лица предков, изображенных на портретах, напоминали бледные пятна.
Бекерский отпил немного вина из бокала, а потом встал и оперся на плечи двух бородатых мужчин в мундирах царской армии.
— Ты говоришь, что я вру, бродяга? — зашипел он.
— Помню также, — не получив никакого угощения, Буйко не знал, куда руки девать, — что вы были жестоким, вас ненавидели все казанские шлюхи. Интересно мне, известно ли это вашим друзьям из Национальной партии.
— Тебя зато любили, — усмехнулся Бекерский. — Помнишь, как на последнем курсе нас учили драться врукопашную и другим премудростям? Мне тогда рассказывали, что ты украл кнут из конюшни, а потом просил некую владелицу борделя хлестать себя им по спине. Погулял ты тогда, ой, погулял! Любил ты это дело, голубчик. Саша! Дай-ка шампанского для моего товарища из университета! Выпьем, а потом должен с тобой попрощаться, соловей! У меня куча работы.
— Дайте мне пятнадцать минут, — Буйко слегка вздрогнул, когда из шампанского вылетела пробка. — Тем более, что я собирался предложить уважаемому коллеге то, от чего вы почувствуете себя богом…
— Я часто чувствую себя богом, особенно тогда, когда собираю с моих подданных дань натурой, — Бекерский подставил бокал под струю шипучей жидкости. — Я как будто сеньор, которому принадлежит
ius primae noctis[73]. Этой божественности мне вполне достаточно… А теперь давай короче о своем предложении, миленький, твое время пройдет, когда опустеет бутылка.
— Помните профессора Асланова? — Буйко поставил бокал на стол. — Того то ли таджика, то ли узбека?
— Да. Он преподавал архитектуру и элементарную теорию чисел. Говорили, что он сошел с ума…
— Он также занимался бесконечностями Кантора… Да, кое-кто считал его сумасшедшим, потому что он скрывал, что принадлежит к имяславцам
[74]. Переписывался с Иваном Паниным…
— С кем?
— С Иваном Паниным, — Буйко прикурил сигарету от длинной спички, которую ему услужливо протянул один из россиян. — Тем, что нашел в еврейском тексте Библии кучу потрясающих числовых конвергенций…
— Да, уже припоминаю, — Бекерский упрямо смотрел на собеседника из-под прищуренных век. — Он вел гематричные исчисления и вроде бы отыскал формулу, согласно которой создана Библию…
— Во время моего первого визита к профессору Асланову, — Буйко встал и начал кружить по гостиной под пристальными взглядами графских опричников, — знаете, я про этот ознакомительный визит, когда каждый студент должен побывать дома у профессора факультета…
— Эти посещения были невероятно скучными…
— Мой визит к Асланову таким не был. Когда он узнал, что я глубоко верующий человек, то ввел меня в мир чисел и еврейских букв… На следующий день я записался на лекции древнееврейского языка к востоковеду доктору Басовому. В течение двух лет я изучал еврейский, а с Аслановым мы встречались у него дома, где занимались гематриями… Читали Библию и вели подсчеты. Я не верил в тайные коды, но не мог оторваться от этих вычислений, в конце концов, совпадения меня поражали… Все это выглядело настолько невероятно, что мы начали даже искать обобщения и создавать формулы… Позднее профессор Асланов действительно оказался в психушке, а я…
— Меня твоя жизнь не интересует, — надменно перебил его Бекерский. — В чем заключается твое предложение? Ответь одним коротким предложением, потому что я спешу!
— Мне нужны ваши деньги.
— Зачем?
— Чтобы создать вычислительную машину.
— Что она будет считать?
— Еврейские буквы в Библии.
— Каким будет результат этих вычислений?
— Результатом станут магические квадраты, которые…
Бекерский набросился на своего гостя и ударил его ребром ладони по шее. Буйко сполз с кресла и начал хрипеть. Не мог дышать. Изо рта лился ручеек слюны.
— Одним простым коротким предложением, ты, собака! — заорал Бекерский. — Без каких-либо придаточных! Без всяких «которые»!
Расселся на диване и широко раскинул ноги, обутые в сапоги для езды верхом. Его прихвостни стояли рядом с тоскливыми лицами. Буйко кашлял и со свистом втягивал воздух.
— Зачем тебе эти магические квадраты? Быстро говори, потому что я спешу!
— В них есть код к числам Харона! — простонал Буйко.
* * *
— К чему? — спросил Попельский.
— Это я их так назвал, — Буйко заговорил почти шепотом, и Попельский едва его понимал. — Давать названия новым вещам — это привилегия изобретателя. Помните из мифологии, каким образом Орфей обманул Харона?
— Конечно. Орфей так прекрасно играл на лире, что перевозчик душ остолбенел и пропустил его к Аиду, хотя пришелец был живым человеком. Он даже не взял с него традиционного обола за перевоз… Но какое отношение это имеет к числам? Какие еще числа? — детектив явно заинтересовался. — Ведь Харона сбила с толку музыка, а не число.
— Пан, а чем пифагорейцы считали музыку?
— Вы правы, — Попельский на мгновение забыл, что говорит с подозреваемым, и втянулся в научную дискуссию. — Действительно, числами можно описать музыкальные интервалы. Тональность зависит от числа. Тональность, следовательно, и музыка, по Пифагору является просто числом.
— Именно так, дорогой пан, — перевел дыхание Буйко. — Она является числом. Искусно, тонко и безупречно совмещенные Орфеем числа на некоторое время лишили Харона власти над душами. Стали пропуском, который позволил смертному музыканту и поэту проникнуть в мир, доступный только богам. Числа на мгновение уничтожили мощь богов, перехитрили смерть. А в моем понимании они стали пропуском к информации, которой владеет только Бог, то есть я способен установить день чьей-то смерти. Коротко говоря, это стало возможным благодаря открытой мной последовательности чисел, которую я назвал последовательностью Харона.
— А откуда вы взяли эту последовательность? — Попельский продолжал обращаться к собеседнику на «вы».
— Отсюда, — математик хлопнул ладонью по открытой Библии. — Я очень долго и тщательно изучал эту книгу.
Детектив огляделся по квартире. Опрятное, педантично упорядоченное. У раковины тарелки составлены от наименьшей к наибольшей, в шкафу так же ровно сложенные сорочки. Пол на кухне вычищен песком до белого. И посреди этой почти стерильности — потный толстяк в старом халате, клетчатых носках и с волосами на висках, которые торчат, как рожки. В головах сумасбродов царит невероятная педантичность, — вспомнил Попельский слова доктора Пидгирного, — но мы до сих пор не можем ее понять.
— Вам передалось безумие Асланова и Панина? — тихо спросил он.
— Вы что-нибудь слышали о понятии «шумных чисел»?
— Где-то я слышал о таком, — Попельский задумался. — Они каким-то образом определяются через собственное десятичное развитие?
— Да, — подтвердил Буйко. — В десятичном развитии такого числа содержится любая конечная последовательность чисел. Числа идут одно за другим, каждое после каждого, поток чисел. А если под них подставить буквы, что тогда? Тогда мы получим поток букв, все возможные комбинации! Они могут образовывать осмысленные предложения, а те — содержательные тексты! Думаете, это невероятно? Конечно, это напоминает обезьяну, которая, стуча по клавишам пишущей машинки, постепенно напечатала бы «Энеиду» Но тут речь не идет о вероятности, а о сути вещей. Так вот, если эти последовательности представить в виде букв, то
de facto там скрыт любой возможный текст, можно отыскать смысл любой написанной и ненаписанной до сих пор книги. Но самое важное то, что в них история каждого отдельно взятой человеческой жизни. О существовании таких чисел, и даже о том, что каждое число в определенном смысле является шумным, известно было уже давно. Но это практически ничего не дает, ибо мы не можем найти такого числа, записать его в виде букв и отыскать нужную последовательность. Казалось бы, в этом хаосе нет и не может быть никакого порядка. А я его нашел, я открыл числа Харона… Отыскал начало последовательности…
— В магических квадратах?
— Да, именно в них. Невероятно трудно найти магические квадраты. На полосках бумаги надо выписывать из разных книг библейские строки с одинаковым количеством букв. Тогда подвигать эти полоски друг под другом и искать матрицу. И так без конца… Мне пришлось покинуть работу в регистрационном бюро, потому что не оставалось времени на изучение гематрий. В течение трех лет я нашел лишь три магических квадрата. Только три, понимаете? Тут нужна вычислительная машина и по крайней
мере двое математиков, которые бы мне помогали.
* * *
— Ты шутишь? — Бекерский потирал ладонь после удара. — Двадцать тысяч на машину и двое людей со стабильной зарплатой в течение двух лет? На машину, которая будет считать еврейские буквы и образовывать из них квадраты?
— Да, — Буйко протянул руку к бутылке с шампанским, но графский охранник легонько хлопнул его по ладони со словами: «
Больше нельзя!»
— Ты нашел только двух человек, про чьи жизнь и смерть узнал благодаря их магическим квадратам, так?! — Бекерский изучал заметки Буйко. — В обоих гематрия 68. Это может быть обычное стечение обстоятельств! И я должен потратить кучу денег, поверив в эту, возможно, случайность? На основании двух единичных фактов поверить в существование общего правила? — Граф Бекерский встал. Достал из кармана часы, открыл золотой корпус и вслушивался в звонкие, легкие удары. — Отвечу вам словами наиславнейшего писателя человечества, Федора Достоевского, — молвил он. — «Извините, милостивый государь, но мы таким не занимаемся». Саша, — обратился к одному из своих опричников и сделал характерный жест, который означал «вон!».
— Я соврал, на самом деле я нашел в Библии еще два магических квадрата! — быстро вскрикнул Буйко. — Я пошел за гематрией 68. Один касается меня самого, а другой… Другой касается тебя! Имя женщины — Хая Лейбах! Знаешь такую? Нет, не знаешь! Теперь оно звучит «графиня Ганна Бекерская»! Как думаешь, этот квадрат заинтересует твоих друзей из Национальной партии? Им известно, что тот, кого они выдвигают кандидатом в депутаты, жид, потому что его мать — жидовка?
Бекерский что-то быстро проговорил по-русски. Его прихвостни схватили Буйко под руки и двинулись по коридору. Носки башмаков математика стирались о каменные плиты. По дворцу раздался крик, который впоследствии отзвучал в стенах маленького коридорчика, а ботинки громыхали по ступеням в погреб. В темноте зажегся свет. Опричники графа запихнули руки и ноги Буйко в два обруча, соединенные между собой цепью. Изо рта у несчастного математика торчал кляп. Буйко копошился на полу, как перевернутый жук. Не мог подняться. Бряцал кандалами, а на кляпе появилась кровавая пена.
Граф Бекерский подошел к нему и расстегнул ширинку. Один из россиян вытащил кляп изо рта Буйко и сжал математику нос. Лежащий открыл рот, и граф мгновенно наполнил его. Разбойник отпрянул. Боялся, что Бекерский забрызгает мочой и его.
* * *
— Он держал меня в погребе несколько дней. Тем временем обыскал мою квартиру и присвоил себе исследования! — Буйко схватился за виски. — Мне пришлось их потом воспроизводить! Я мог бы его убить, но не сделаю этого. Зато выдам его вам! У него в кабинете найдете магические квадраты. Это доказательства убийства обеих женщин. Бекерского ждет виселица. Мои исследования вернутся ко мне, а вы продолжите работу в полиции. Разве что захотите работать со мной…
Буйко взял сигарету и жадно закурил. Жадно глотал дым. Его глаза словно затуманились.
— Кто убил Любу Байдикову и Лию Кох? — спросил Попельский. — Вы или граф?
— Так вот что вас беспокоит! — засмеялся Буйко. — Разве это важно, пан комиссар? Арестуйте графа Бекерского! Получите доказательства преступления и убийцу, разве нет,
mon chér?
Попельский поднялся и выбил сигарету изо рта Буйко.
— А почему бы мне тебя не арестовать, а? У тебя тоже найдены доказательства преступления?
— Арестуешь Бекерского, а мне дашь святой покой. Зато я тебя вдвойне отблагодарю. Научу тебя кодированию чисел Харона, потому что ты до сих пор не знаешь, как это делать, почему я выбрал еврейскую Библию, а не латинскую, почему ищу квадраты со стороной из шести единиц, а не, к примеру, из восьми! Большинство тайн тебе неизвестны, а я тебе их открою только тогда, когда Бекерский будет висеть на виселице.
— А если меня не интересуют числа Харона?
— У тебя аналитический ум, — лицо Буйко прояснело. — Посуди сам. Ситуация (
а): Бекерского осуждают за убийство, ситуация (
b): осуждают меня. В случае (
а) тебе достается слава и награда, и ты возвращаешься к работе в полиции. В случае (
b) происходит то же самое. Итак, (
а) = (
b). Однако ситуация (
а) имеет свои преимущества, потому что связана с чем-то дополнительным, назовем его (
c): тебя посвятят в теорию, которая может, хотя и не обязательно, изменить твою жизнь. В случае (
b) этого не будет. Выбирай сам, что лучше: (
а)
+ (
с) или только (
b), если известно, что (
а) = (
b). Имеешь еще какие-то вопросы?
Попельский подошел к окну и выглянул. На травнике какой-то франт в фуражке и расстегнутом жилете опирался на скамейку и пел городскую балладу о драке в кабаке Цимермана. Его восторженно слушала девушка, в которой Попельский узнал прачку. Еще один мужчина растянулся на коце и наливал пиво в стаканы. Трава была густая и сочная, такая же, как на берегах потока в поместье графа.
Попельский обернулся к Буйко и широко усмехнулся.
— Вы правы, пан доктор, — кротко сказал он. — Ситуация (
а) имеет два преимущества: я возвращаюсь в полицию и открываю самую важную тайну человечества — секрет чисел Харона, то есть тайну смерти. Есть еще два преимущества ситуации (
а), поэтому в вашей неравенстве
а + с > b я добавлю
d и
e, поэтому получаем
a + c + d + e > b. Объясняю:
d — это месть.
— Какая месть? За что? — вытаращился Буйко.
— Расскажу тебе об этом ненавистным для меня языком — русским.
— Пожалуйста, я знаю русский.
—
Ну-ка, ребята, посмотрим, обосрался он или нет. Эта морда кирпича просит!
— «Ну-ка, ребята, посмотрим, обосрался он или нет, — тихо переводил Буйко. — Эта рожа просит кирпича». Ничего не понимаю…
— Ты и
е не поймешь, а
е — это пять тысяч злотых.
Попельский произнес это очень медленно. Зато следующие его движения сопровождались огромной спешкой. Когда через пять минут Эдвард выходил из квартиры Буйко, тот висел в своей спальне. С кляпом во рту и прикованный наручниками к люстре.
IX
Над Львовом стояла душная беззвездная ночь. Люди открывали окна и глубоко вдыхали воздух. На тесно застроенных улицах они втягивали в легкие гнилостный запах подвалов и жар раскаленных за день стен. В рот и уголки глаз лезла крошечная мошка, на влажные от пота шеи садились кусачие комары, из щелей в полу вылезали уховертки. Мужчины расстегивали мокрые сорочки, женщины бесстыдно подворачивали подолы платьев, дети слонялись по кухне в поисках воды или компота. На балконах комком лежала постель, распахнутые окна закрывали мокрые простыни, а на дворах за свалками, высунув языки, прятались от палящих лучей грустные бездомные собаки. Жители вилл вдыхали июньские ароматы садов, сидели на крыльцах с веерами и стаканами хлебного кваса, а засыпали в прохладе летних домиков с окнами, затянутыми сеткой от насекомых.
Именно такой одноэтажный дом находился возле виллы инженера Николая Байдика. Однако внутри не было прохладно, а на глухо закрытых окнах вместо сетки от комаров были толстые решетки.
Владелец, известный богач, скупец и затворник, приказал свозить сюда со своей фабрики бочки с отработанным маслом, загрязненным парафином. Он не знал, как использовать никому не нужные отходы, но мысль, чтобы их вылить, вызывала у него решительное сопротивление.
Сейчас он впервые нашел для них применение. Этой ночью, на захламленном бочечками импровизированном складе, Байдик именно его обдумывал. Его могучие мышцы, которые распирали рваную майку, сейчас неподвижно лежали на поцарапанном столе ножом. Глаза всматривались в тело с туго связанными вдоль туловища руками, которое свисало с потолка. Оно легонько покачивалось, иногда вращалось вокруг собственной оси, а волосатый канат пронзительно скрипел. Прежде чем заткнуть Буйко рот кляпом, Байдик внимательно его выслушал. Узнал все, что хотел, о романе матери с нищим математиком. Тот, вымазанный с головы до пят легковоспламеняющимся маслом, смотрел на спички, лежавшие на столе, и рассказывал очень охотно. О том, как однажды пришел к Любе Байдиковой, чтобы получить информацию про Лию Кох. Проститутка призналась ему, что часто пользуется услугами гадалки и даже имеет составленный ею гороскоп. Буйко соврал, будто Кох — его родственница, он, мол, беспокоится за нее и поэтому просит назвать дату ее смерти. Предлагал деньги и говорил про свои математические открытия, которые можно использовать для гадания. Люба Байдикова вовсе не разгневалась на посетителя. Имела хорошее настроение, видимо, из-за цветов, которые Буйко принес, чтобы снискать ее благосклонность. Да, ей давно уже никто не дарил цветов. Сначала она немного препиралась с ним, а потом пристально взглянула на Буйко, ее большие глаза потемнели, и Байдикова рассказала ему все, что узнала из гороскопа Лии Кох. Смотрела на него, чуть улыбаясь. Буйко понял, что теперь она готова ради него на все. Не обязательно с ней даже спать, достаточно было приласкать.
Инженер Байдик всматривался в голову математика, которая свисала над бочкой масла, и думал про материны чувства. Вспомнил одно из ее немногочисленных писем, адресованных неловкой рукой и отправленных в Техас. «Я познакомилась с очень приятным мужчиной, чуть моложе меня». Байдик припоминал ее слова и со спокойствием присматривался к макушке Буйко. К большому, поросшему волосами пяту, которое напоминало итальянский сапог. «Я называю его моей Мышкой», — писала мать.
Глянул на ноги Буйко, привязанные под потолком, и размышлял над словами, услышанными до того, как он заткнул математику рот кляпом.
— За что вы меня мучаете? Потому я забил эту молодую жидовку? Это была ваша любовница? Нет, вижу, что нет… За то, что я убил вашу мать… Ну, что ж… Она знала, что скоро умрет. Просила, чтобы я избавил ее от страданий. Гвоздь, забитый в спинной мозг, убивает мгновенно, а я знал, как добраться ее спинного мозга. Я немного разбираюсь в анатомии… Я убил из любви. Попросил прийти на чердак… «Там тебя будет ждать сюрприз», — убеждал я… А там ее ждала милосердная смерть… Кто же еще мог безопасно перевезти ее на другой берег, чем я — тот, кого она больше всего любила?
«Зря он это сказал, — думал Байдик, уткнувшись в глаза Буйка. — Зря сказал, что моя мать больше любила какого-то бродягу, чем родного сына».
В этих ненавистных словах ему ощущались ночные стоны матери и сопение очередных «дядей». Услышал собственный плач, когда он просыпался ночью и забирался на ее постель, откуда мать сбрасывала его пинком.
Тяжело дыша, Байдик взобрался на стол, который угрожающе затрещал и качнулся под его весом. Дотянулся по канату, распутал узел и начал медленно опускать груз. Голова Буйко приближалась к поверхности масла. Повешенный горящими глазами смотрел на инженера, на его ноги, покрытые грязью, что уже въелась в кожу, на голый живот, который вылезал над ремнем брюк, седую щетину на щеках, заскорузлые пальцы, которые ритмично отпускали канат.
«Так выглядит Харон», — подумал Буйко и погрузился в темные воды Стикса.
X
Попельский отодвинул шахматную доску, на которой в течение часа анализировал редкую ныне итальянскую партию. Приоткрыл окно. Утро был прохладное и свежее. Сквозь дверь кабинета Эдвард слышал, как Ганна по его просьбе напускает воду в ванну и заводит свои ежедневные псалмы, сначала тихо и как бы пристыжено, но впоследствии в полный голос, вызывая этим у Леокадии приступ мигрени.
План, который он разработал в квартире Буйко, был очень рискованный, как комбинационная игра, использованная им в последней партии с самим собой. Разум подсказывал ему отдать подозреваемого убийцу полиции, однако честь и данная клятва подсказывали, что преступника следует отвезти Байдику. И с этим связана была нешуточная опасность, потому что если Коцовский разоблачит его интриги, Попельский навсегда попрощается с полицейской работой, не говоря уже о том, что его ждет судебный процесс и приговор за препятствование деятельности органов защиты общественного порядка. Однако были здесь и свои преимущества: Эдвард сдержал бы слово, данное инженеру, спас свою честь и заработал бы таким образом солидное «генеральское» вознаграждение. «Итак, у меня есть убийца, и я возвращаюсь в полицию! Даже если Буйко не подтвердит своей вины на полицейском допросе и будет настаивать на собственной невиновности вопреки доказательствам, однако «дело Гебраиста», то бишь «дело магических квадратов», станет моим успехом. Вина Буйко уж слишком очевидна: он знал обе жертвы, с обеими имел интимные отношения, держал дома порнографические снимки и сам смахивает на извращенца. А прежде составлял магические квадраты, своеобразные некрологи своих жертв! Чего тут еще желать? Разве что убедительного мотива… Но это дело суда, а не мое. Я свою задачу выполнил: поймал подозреваемого. И меня не интересует, признает ли суд его сумасшедшим, который мучает, чтобы подтвердить вымышленные и не совсем понятные теории, или сознательным убийцей, который хладнокровно запланировал свои преступления. Речь идет о том, чтобы не выпустить его на волю! Какая мне разница, сколько лет он проведет в тюрьме, если его осудят? Завтра для меня зазвучат трубы победы, — восторженно думал Попельский, — завтра, когда я пожму руку коменданту Грабовскому, а он мне вручит полицейский жетон. А потом будут проходить дни, месяцы, возможно, годы, пока не наступит подходящий момент для неожиданных ночных посещений графа Юзефа Бекерского».
Попельский вошел в ванную, сбросил на пол легкий шелковый халат и взглянул на собственное отражение в зеркале. Сломанный нос делал его похожим на боксера. Обернулся к светильнику боком и удовлетворенно отметил, что живот стал плоским. Тогда с помощью небольшого зеркальца осмотрел свою спину, покрытую иссиня-розовыми выпуклыми шрамами. Края ран от ржавых колючек проволоки напоминали причудливую татуировку. Залез в ванную, сел на корточки и открыл кран душа.
В прихожей зазвонил телефон, и Ганна прервала пение. Попельский закрыл кран. В дверь легонько постучали.
— Тут есть очень важное, — прошептала Ганна в отверстие для ключа. — Звонит пан Байдик. Он, определенные, немного пьяный… Я ему ответила…
— Я уже выхожу! — крикнул в ответ Попельский. — Положите трубку на столик! Слышите, Ганна? На столик, не на рычаг!
Натянул халат и вышел в прихожую, оставляя за собой мокрые следы. Испуганная Ганна недоверчиво взглянула на хозяина.
— То-о-от, как там его, холера, тот Бу-у-уйко… Сдох как пес, — послышалось в трубке лепетание инженера Байдика. — Не зна-а-аю, как это ста-а-а-алося…
— Он признался в преступлении?
— Да-а-а, убил и одну, и вторую… А затем говорил, что во всем виноваты журнали-и-и-сты-ы-ы…
— В чем именно?
— Как это, черт побери, в чем? — заорал Байдик, прекратив растягивать слоги. — В их смерти…
— Объясни это понятнее!
Раздался длинный сигнал. Попельский кинул трубку на рычаги.
— Ну, видите, что это какой накиряный лахабунда!
[75] — гордо заявила Ганна. — Боже мой! А вы тут так мне наследили!
«Соучастие!» — прошипел в голове Попельского какой-то демон. Он виновен в соучастии, потому что отдал жертву убийце. Это карается многими годами заключения. Оперся на стену и закрыл глаза. Все ускользало из-под контроля. Придется отдать на суд другого убийцу. Надо спасаться!
Поднял трубку. Соединился с Байдиком и произнес одно-единственное предложение:
— Вы удвоите «генеральское» вознаграждение.
— До-о-обре, шефунцю. Десять тысяч, — сказал инженер.
— А потом еще больше. Гораздо больше, понял? Спасение от виселицы дорого стоит.
— Сколько хо-о-очешь…
— Я скоро приеду. Не выходи никуда из дома.
Попельский тщательно побрился и еще старательнее собрался. Надел светло-пепельные брюки и бежевые ботинки на пуговках. Перламутрово-серый галстук завязал свободным узлом под воротником белой сорочки. На плечи накинул льняной пиджак, на голову надел белую итальянскую шляпу.
— Куда это ты, так вырядился? — Леокадия с чашечкой ароматного кофе прошла мимо кузена в гостиную. — Таки позвонила эта твоя хорошенькая Ренатка?
— У меня встреча, — сказал Эдвард. — Однако не с Ренатой Шперлинг… А с лицом гораздо менее привлекательным, а ко всему еще и таким, которое пренебрегает гигиеной. А сейчас мне надо напечатать на машинке письмо… Ты же знаешь, как я люблю стук клавиш, — и он улыбнулся.
Леокадия пристально глянула в свою чашку. Кузина была слишком воспитана, чтобы демонстрировать свое стеснения. Она знала Попельского с детства и понимала, что он часто врет, чтобы ее разозлить. Придумывает невероятные истории, чтобы ее обмануть, а потом еще и насмехается.
Вскинула на него глаза. В зеленых глазах Эдварда глазах не было и признака веселья или насмешки. Они были такие, как всегда. Спокойные, непроницаемые и чуть мутные от бессонницы.
Леокадия поняла, что на этот раз кузен ее не обманул. Она не ошиблась. Попельского действительно ждал тяжелый день.
XI
Граф Юзеф Бекерский внезапно проснулся. Перевел дыхание и втянул в легкие нагретый воздух, который пах сеном и навозом. Овин пронизывали пряди солнца, в которых плясали пылинки. Эти светлые полосы всегда у него ассоциировались с лучами от кинопроектора.
Такие ассоциации направили его мысли к срамным кинофильмам, которые он просматривал в зале, устроенном в подвале, и которые его больше всего волновали. Затаскивал туда молодых, в телесах крестьянок, таких, как эта, что громко храпит возле него, и приказывал повторять за распутницами на экране. Ему нравилось видеть испуг в больших, туповатых глазах местных девушек, когда он клал им руки на плечи, заставляя становиться на колени. Кидая монеты в их залитые слезами лица, пытался зафиксировать мгновение, когда испуг уступает место жадности и притворной страсти. Позже доплачивал девушкам за другие вещи, которых бесполезно было искать в порнографических фильмах. Больше всего его волновали последние минуты, когда крестьянки выходили из погреба, часто спотыкаясь и захлебываясь от слез, крови и слюны. Если бы он приказал им вернуться, то немедленно вернулись бы и сделали все, что он потребовал. Но это все равно не утолило бы его страсти. Она была такой ненасытной, что экстаза можно было ожидать только среди смертельных корчей.
Оперся на локоть. Обнажил шею и ноги девушки, которая захрипела во сне. Конечно, если бы ему вчера достало отваги, девка лежала бы сейчас тихо и не храпела у него под боком. Фиолетовые полосы на ее шее, которые появились вчера под его пальцами, сейчас были бы уже черные. Толстое сало, в которое ночью впивались его остро подпиленные ногти, не вздрагивало бы, словно студень, а давно уже остыло.
Медленно помассажировал себе промежность. «Когда наступит этот миг, — думал он, — одна из этих сук умостится на мне удобно, а когда начнет прыгать и визжать, мой русский прихвостень одним махом отсечет ей голову. А она, как курица, зайдется в конвульсиях, давая мне запрещенное наслаждение».
Натянул штаны и пренебрежительным движением швырнул купюру между большими грудями спящей женщины. Отряхивая с сорочки стебли, мысленно хохотал, представляя себе другую ситуацию, когда эта свинья проснется, перевернется на бок, а деньги упадут в сено. Как забавно она зароется в копны, выпятив большой зад!
Оделся и покинул сарай через задние ворота, выходившие прямо в ржаное поле. Двинулся по меже в сторону густого березняка, за которым виднелся его чудесный дворец. Припекало утреннее солнце. Потянулся так сильно, аж кости хрустнули.
Был счастлив и полон чувства власти. Его деньги превращают этих вроде бы свободных селян в тупых идиотов, а их жен — на течных сучек. Да, его власть огромна, однако он будет иметь еще большую!
Увидев несколько автомобилей возле дворца, он еще больше утвердился в своих убеждениях. Это приехали гости, его друзья из Национальной партии, которых он пригласил на политическую конференцию! Правда, немного рановато. Ничего, будут иметь больше времени для дебатов, на которых выдвинут кандидата в сейм, возможно, ему удастся убедить всех, что его кандидатура лучшая. Он им представит соответствующие аргументы, и после сегодняшнего, последнего уже политического митинга в Стратине, сделает первый шаг к власти: на первом месте в списке националистов, кандидатов в сейм от Львовского воеводства, появится его графское имя!
Поправил и разгладил помятый льняной костюм. Зачесал волосы и с восхищением посмотрел на дворец, который белел в утренних лучах. Две зубчатые башни делали его похожим на средневековую крепость. Все в нем и вокруг было такое же, как он сам — мужественное, грубое и суровое: зеленые глыбы живых изгородей, прямоугольные окна, парадные двери, украшенные геометрическим орнаментом, квадратная площадка для автомобилей, выложенная гранитными плитами. На одной из башен вращался на ветру флюгер со стрелой, на второй куранты часов начали сухой, короткий металлический отсчет.
Услышав количество ударов, Бекерский удивился. После ночи попойки он потерял чувство времени. Глянул на автомобили, стоявшие возле дворца. Это не могли быть его друзья из Национальной партии. Никто из них не прибыл бы на пять часов раньше. Никто не орал бы так громко и не бросался к стратинскому помещику. Ни один не таскал бы тяжелых предметов, которые ежесекундно сверкали белой вспышкой.
— Пан граф, как вы прокомментируете, — орал какой-то чахоточный в распахнутой сорочке, — последние сообщения прессы?
— Ваша политическая карьера в Национальной партии, — чахоточника крепкими ручищами отпихнул невысокий коренастый брюнет, — обречена на поражение?
— А по какой причине? — выдохнул граф Бекерский, внезапно окруженный стаей журналистов, ошеломленный и ослепленный яркими вспышками.
— «Мнимый граф на самом деле еврей, рожденный матерью-еврейкой, — громко читал блондин с донжуанскими усиками а ля Дуглас Фербенкс. — Настоящее имя графини Анны Бекерской — Хая Лейбах, утверждает пан Леон Буйко, бывший служащий львовского регистрационного бюро, который изучил все тамошние дела. Лишь в возрасте двадцати двух лет ее удочерила польское семья. Как это повлияет на политическую карьеру ее сына, члена антисемитской Национальной партии, который собирается выдвинуть свою кандидатуру в сейм? Или расовые предубеждения лишат его такой возможности? Ведь он полуеврей! Или это будет означать для членов его партии «только полуеврей» или «аж полуеврей»? На все вопросы, которые касаются наших политических взглядов, мы будем отвечать в следующих номерах газеты. Читайте «Новый век»!»
Граф растолкал журналистов и побежал к дворцу. Они догоняли его, продолжая выкрикивать те же вопросы.
Бекерский вбежал в дом и заперся изнутри. Оперся на двери. Каждой клеткой тела ощущал удары кулаков и ног журналистов, которые отчаянно стучали в запертые двери. У него разболелась голова. Особенно возле уха, точнее под ушной раковиной, где набрякала какая-то опухоль, связанная, видимо, со слюнными железами, потому что во рту скапливалась горькая слюна.
Граф уже раньше чувствовал боль и неприятную горечь. Впервые это произошло несколько недель назад, когда мать рассказала ему о тайне своего происхождения. В губах запеклось, как только он набросился на старуху с кулаками, выплевывая на мать избыток слюны, выделявшейся возбужденными от ярости железами. Такое же ощущение преследовало его, когда запихивал свою мать в экипаж, чтобы отвезти ее в отдаленный домик лесника, где графиня должна была оставаться вплоть до выборов. Не могла же она колоть глаза участникам политических митингов своей семитской внешностью, которая после этого признания стала для Бекерского слишком очевидной. Была словно проклятие, написанное на ее некогда благородном лице.
Закусил нижнюю губу, почувствовал солоноватый вкус крови. Вдруг все перестало у него болеть. Сделался холодный, будто окаменел.
Откинул намокшие волосы с ледяного лба. Его движения были уверенными и быстрыми. Должен подумать и решить эту неприятную и неожиданную проблему. В том, что все удастся уладить, он даже не сомневался. Надо только подготовить официальное опровержение и прочесть сперва этим щелкоперам, а затем политическим товарищам во время сегодняшнего митинга, до которого остается несколько часов.
Распорядился, чтобы слуги вынесли журналистам домашнего хлебного кваса и передали его просьбу оставаться возле дворца, где они вскоре услышат его заявление. Направился в кабинет, накинул на помятую одежду домашнюю куртку и сел над листом бумаги. Однако ничего не приходило на ум. Граф беспомощно оглядывался по комнате. Усмотрел стопку бумаги для писем, украшенный гербом Бекерских. Первая страница была исписана мелким почерком камердинера. По приказу хозяина Станислав записал все телефонные звонки с восьми вечера, то есть с момента, когда Бекерский направился к амбару. На листе было записано четыре звонка, все с подробным описанием: от кого, когда, по какому делу.
— Пан доктор Зигмунт Копичинский звонил заявить, — Бекерский читал вслух сообщение от председателя львовской фракции Национальной партии, — что в связи с известными обстоятельствами отзывает свое участие в митинге и прекращает любые контакты с вельможным паном графом вплоть до выяснения этого дела. Пан доктор Копичинский с огорчением сообщает также, что все участники завтрашнего митинга приняли такое же решение, о чем каждый в отдельности заявил пану Копичинскому, поручив проинформировать адресата об отсутствии всех и каждого в отдельности.
— Пан Антоний Воронович, — теперь он читал сообщение от своего давнего приятеля, — интересуется, информация о еврейском происхождении госпожи графини является ли вероятной. Если так, то уверяет, что готов всячески помочь пану графу.
— Пан доктор Самуэль Гершталь, — медленно прочитал он сложную фамилию, — адвокат по делам получения наследств, уведомляет, что рад вести дело, если окажется, что госпожа Анна Бекерская, она же Хая Лейбах, случайно является наследницей имущества семьи Лейбах, последний представитель которой, п. Хайнрих Лейбах, умер в Вене в прошлом году, не оставив потомков.
Бекерский грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнула старинная песочница. Не слышал ничего, кроме шума в ушах. Вытер пот со лба и прочитал последнюю запись об утреннем звонке. Пересмотрел его снова и почувствовал резкую боль за ухом. Слюна бешенства наполнила ему рот. Вытащил браунинг из ящика и поднялся. Не сводил глаз с листа.
Простите, ясновельможный пан, за то, что пишу эти пренебрежительные слова, но человек, который звонил, велела записать именно так:
Как поживаешь? Может, так же, как я недавно в твоем погребе? Это я написал письмо о жидовке Лейбах и направил его в «Новый век». Но у тебя есть шанс избежать компрометации, если профинансируешь мои исследования. Тогда я тебя прощу, напишу опровержение и уничтожу материалы из бюро регистрации. Буду ждать тебя только сегодня вечером. Приходи без российских прихвостней. Улица Задвужанская, 25, кв. 14. Только сегодня даю тебе единственную и последнюю возможность.
Еще раз прошу прощения, милостивый пан, но звонивший четко приказал мне обращаться к Вам на «ты». Сказал, что он Ваш университетский товарищ.
P. S. Этот человек представился как доктор Леон Буйко.
Граф Юзеф Бекерский спрятал пистолет в карман пиджака, скинул свою куртку и вышел из дворца боковыми дверями. Из прокушенной губы сочилась кровь, но боли он не чувствовал.
XII
Ботинки графа скользили на огрызках и картофельном мундире, пораскиданному на лестнице. Подъезд дома на Задвужанской, 25 заполнил пара из кастрюль, в которых готовились картофель и цветная капуста. Запахи били из растворенных настежь дверей квартир, ибо только таким образом можно было хоть немного спастись от жары. И мусор, и вонь капусты были, однако, мелкими неприятностями, на которые Бекерский вообще не обращал внимания. Он быстро поднимался вверх, удовлетворенно отмечая, что его одеревеневшие за время многочасовой поездки автомобилем мышцы снова становятся упругими.
В кармане пиджака чувствовал тяжесть пистолета. Это был приятная и бодрящая тяжесть, которая гарантировала исполнение ожиданий. Граф похлопал оружие сквозь ткань брюк. «Буйко, — думал он, преодолевая последние ступеньки, — напишет письменное опровержение, когда я приставлю ему пистолет к виску, и будет отрицать свои лживые обвинения. А завтра, получив другие, реальные аргументы, выступит со мной на пресс-конференции с заявлением о том, что все якобы найденное им о еврейском происхождении госпожи графини было ложью, обычной сфабрикованной фальшивкой, потому что таким образом он хотел выкинуть глупую шутку своему бывшему сокурснику».
Добрался до двери на последнем этаже. Вытащил пистолет и постучал рукояткой по косяку. Послышался шорох. Дверь открылась, на пороге стоял Эдвард Попельский в одном нижнем белье.
— Простите меня, пан граф, мою необычную одежду, — улыбнулся он приветливо, — но это из-за страшной жары на чердаке.
Бекерского часто удивляли не какие-то очевидные вещи, а самые обычные мелочи. Когда мать недавно рассказала ему, что она еврейка, граф в первую минуту не придал веса ее словам, зато сосредоточился на отстегнутой пряжке материнского левого ботинка. Невероятно удивленный, спрашивал сам себя не о том, почему только сейчас ему открывают мрачную семейную тайну, а почему мать до сих пор не избавилась от этих давно уже немодных ботинок с пряжками.
Так и сейчас его нисколько не удивило присутствие Попельского. Поразило другое. После первой встречи с ним Бекерский считал его за педантичного и опрятного джентльмена, настоящего денди! А не за неряху, который в одних кальсонах стоит на пороге вонючей комнатушки и сам, видимо, изрядно попахивает. Но интуиция подвела Бекерского. Смрад, который он только что ощутил, не шел ни от детектива, ни из квартиры, его источник находился у графа за спиной.
Обернулся.
Поздно.
На спину ему упало крепкое тело. Рот и нос заткнули чьи-то липкие ладони. Граф сам не ведал, от чего потерял сознание: от удара головой об пол или от вони нападающего. Очнулся через полчаса. Обстоятельства этого пробуждения ничуть не напоминали утреннего. Не было лучей солнца, что пробивались сквозь щели в сарае, зато глаза слепил резкий свет настольной лампы, направленной прямо ему в лицо. Вдыхал запах не сена, а кислую вонь помойки во дворе. Рядом не было молодой женщины, в чьих глазах Бекерский видел купленную за деньги преданность, зато сидел крепко сложенный лысый мужчина, который всматривался в него так приветливо, словно бык в красную тряпку во время корриды.
В помещении чувствовался странный химический запах, откуда-то знакомый графу. Хотел встать, но не смог. Дернулся изо всех сил. Веревка врезалась ему в запястья.
— Мне бы очень хотелось еще поболтать с вами, пан граф…
Тщательно одетый в летний костюм и шляпу, Попельский сидел в странной позе, опираясь подбородком на ладони, а ими — на спинку стула.
— Я давно мечтал спросить вас, что чувствует тот, кто унижает другого человека, — взял сигарету и сунул ее в рот, но не прикурил. — Ой, нет, нет! — легонько хлопнул себя по руке. — Не кури сейчас, Эдвард, потому что это будет иметь трагические последствия для этого дома!
Бекерский недоверчиво смотрел на Попельского, который внезапно начал говорить сам себе.
— Жаль, что у нас нет времени на философские разговоры, — детектив поднялся и подошел к портьере, которая легонько колыхнулась от сквозняка. — Мы еще будем иметь возможность поговорить о унижении, вине и наказании… Сделаем это тогда, когда я навещу вас в тюрьме, в камере, где вы будете находиться в окружении голытьбы, которая ненавидит аристократов. Я приду к вам и спрошу: что чувствует человек, которого ежедневно унижают? Ежедневно стирать носки сокамерникам, выдавливать им прыщи на яйцах и подтирать волосатые задницы…
— Ты, паршивая собака! — Бекерский яростно дернулся, но веревка не поддалась. — Мой один-единственный звонок разрушит твою карьеру…
— Адвокат будет защищать тебя, — невозмутимо продолжал Попельский, — ссылаясь на преступление в состоянии аффекта. И суд ему поверит, разве что я докажу перед трибуналом, что ты совершил умышленное убийство… Однако на самом деле суд не имеет значения… Я твой судья, и мне известно, что ты хладнокровно убил Леона Буйко. Чтобы получить власть над людьми, так же, как имел ее надо мной, на берегу этого чудесного потока в твоем поместье…
— Что ты выдумываешь, падлюка! Я никого не убил! А Буйко был у меня! Рассказывал про числа Харона! Хотел, чтобы я заинтересовался его теорией, и просил у меня денег!
— Важно, чтобы суд поверил, что ты убил Леона Буйко.
— Ты сумасшедший!
— Смотри!
За откинутой портьерой граф увидел ужасную картину. Посреди комнаты, рядом с железной кроватью, стояло большое ведро, над которым висел человек. Темная поверхность словно перерезала шею мужчины, погруженного с головой в посудину.
Попельский вернулся к входной двери и прислушался. Потом схватился за мохнатую веревку, которая на затылке Бекерского образовывала что-то похожее на ошейник, и потянул графа по полу в комнату, где висел труп. Как можно осторожнее сунул руки Бекерского в ведро, а потом отпустил его, и граф распростерся на полу. Теперь он понял происхождение странного химического запаха в помещении.
Попельский прислушивался к шуму на лестнице. Осмотрел комнату, а потом рванул сорочку на груди. Пуговицы запрыгали по полу. Бросился к дверям и распахнул их настежь. Тогда ударился лбом о притолоку, и кровь из раскроенной брови потекла ему на щеку.
Голоса на лестнице сделались более громкими. Топали тяжелые ботинки, трещали под тяжелыми ручищами перила, перевели дух уничтоженные куревом легкие. Вдруг квартира зарябила от синих полицейских мундиров. Постерунковыми руководил лысоватый господин. Все остановились на пороге спальни Буйко и смотрели на графа Юзефа Бекерского, который лежал возле ведра с измазанными смазкой руками.
— Я успел, Вилек, — обратился Попельский к лысоватому, утирая ладонью кровь с лица, — схватить его и связать! Но Буйко спасти уже не удалось…
XIII
Штайнбах, Людвика: Свидетель обвинения на скамье подсудимых. Дело графа Бекерского // Криза, Игнаций (ред.): Встать, суд идет! Избранные судебные репортажи межвоенного двадцатилетия, Варшава: «Читатель», 1974, с. 182–189.
Это было одно из самых удивительных дел, которые я встречала, в течение времени, когда вела репортажи из Львовского окружного суда. Огромный интерес прессы привел к тому, что этот процесс стал самым громким и самым знаменитым в Польше начала 30-ых. Однако его быстро затмило знаменитое дело Риты Горгоновой. Вот dramatis personae[76]: 42-летний граф Юзеф Бекерский, землевладелец имения в Стратине (Рогатинский уезд, Станиславовское воеводство) и 44-летний доктор Эдвард Попельский, бывший полицейский, во время процесса — частный детектив.
А это факты.
17 июня 1930 года царила невероятная жара. Вечер не принес ощутимой прохлады. Аспирант Вильгельм Заремба из Следственного отдела Воеводской комендатуры полиции, утомленный послеобеденным дежурством, ужинал в семейном кругу, как вдруг раздался телефонный звонок. Бывший товарищ аспиранта из Следственного отдела, частный детектив Эдвард Попельский, заявил, что по адресу улица Задвужанская, 25 нашел тело некоего доктора Леона Буйко, математика и изобретателя. Все указывало на то, что Буйко был убит.
Вильгельм Заремба по телефону отдает приказ двум дежурным полицейским из VI комиссариата, чтобы те немедленно явились по указанному адресу. Сам садится в автомобиль и прибывает на место преступления вместе с постерунковыми. Вошли в квартиру, в которой детектив Попельский находился уже полчаса. Тот показал им ужасную картину. В спальне стоит ведро, наполненное горючим веществом, а в нем головой вниз удерживается подвешенное у потолка человеческое тело. Возле ведра лежит связанный граф Юзеф Бекерский. Его руки и одежда измазаны горючим. Попельский заявляет полицейским, что тайком вошел в дом и застал в нем графа и утопленника. Утверждает, что связал предполагаемого виновника, а потом позвонил Зарембе из ближайшей телефонной будки и вернулся к квартиры Буйко, где ждал появления блюстителей закона.
Через час жертва оказалась на секционном столе в морге. Там детектив Попельский официально подтвердил личность умершего. Им оказался математик и изобретатель, доктор Леон Буйко, с которым Попельский разговаривал несколько дней назад в связи с неким расследованием. Детектив работал для полиции как эксперт в области филологии и древних языков. Попельский подозревал Буйко в двойном убийстве гадалки Любы Байдиковой и проститутки Лии Кох.
Вскрытие, проведенное известным в стране судебным медиком, доктором Иваном Пидгирным, подтвердило, что смерть Буйко наступила в результате того, что он «утонул в отработанном масле. Установление часа гибели оказалось невозможным из-за стремительного разложения тела. Putrefactio fulminans[77] был вызван слишком высокой температурой в непроветриваемой и плотно закрытой мансарде, расположенной непосредственно под жестяной, раскаленной от летнего солнца крышей».
Допрос графа Бекерского после задержания быстро обнаружил мотив убийства, совершение которого подозреваемый решительно отрицал. Этим мотивом могла быть месть Леону Буйко за разглашение семейной тайны, что могло неблагоприятно сказаться на политической карьере допрашиваемого Бекерского. Днем ранее, 16 июля 1930 года, в вечернем приложении к львовской бульварной газете «Новый век» появилась статья Владислава Матуша, где вышеназванный журналист, ссылаясь на письмо, полученное от Леона Буйко, заявляет, что мать графа Юзефа Бекерского на самом деле является еврейкой и звалась когда-то Хая Лейбах. Следственный судья Станислав Хцюк прилагает упомянутую статью к делу как доказательство существования мотива, после чего отдает приказ арестовать Юзефа Бекерского, обвинив его в убийстве Леона Буйко из-за мести.
Читатели могут быть удивлены и спросить: «Разве это какой-то необычный мотив?» Конечно, следует с огорчением признать, что варварские антисемитские взгляды существуют в нашей общественной жизни, но настолько ли они распространены, чтобы человека, названного евреем или полуевреем, это настолько взбесило, чтобы он убил своего обличителя? Обычный человек на такое не способен, — вот, что я отвечу на предполагаемые вопросы Читателей. — Обычный человек может оказаться совершенно равнодушным к такому происхождению. Зато политическому деятелю, который собирался выдвигать свою кандидатуру в сейм по списку Национальной партии (а граф Юзеф Бекерский именно это и планировал!), его неожиданное еврейское происхождение могло до основания разрушить карьеру!
Ниже приведу два существенных факта из биографии, которые проливают свет на взгляды Бекерского. Их, не колеблясь, можно назвать проявлениями крайнего шовинизма и животного антисемитизма. В 1907 году на литературном кружке польских студентов Казанского университета граф прочитал доклад, в котором доказывал, что любые стремления поляков к независимости — это выдумки евреев и масонов. Заранее обречены на поражение, они будто имели целью спровоцировать империю к применению против поляков террора и жестоких репрессий. Главным принципом польской политики, — убеждал докладчик, — должна стать ликвидация еврейского влияния, отказ от борьбы за независимость и священный вечный союз с Россией на правах широкой автономии. Первое условие, — советовал Бекерский, — можно воплотить, изолировав всех евреев, которые являются царскими подданными, в специальных лагерях или на выделенных для этого территориях.
Доклад был опубликован в XVIII номере журнала «Казанский литературный вестник».
Собственный антисемитизм Бекерский жесточайшее доказал не только словом, но и делом. В марте 1915 года он, как царский офицер, руководил еврейским погромом в Любачеве, во время которого произошли невероятно отталкивающие события, а именно групповое изнасилование двух еврейских женщин и четырех девочек. За этот поступок его согласно приговору полевого суда, который заседал под руководством командира III армии генерала Радка Димитриева, перевели в штрафной гарнизон на Кавказе.
Но вернемся к процессу. Он начался 25 мая 1931 года, почти через год после ареста обвиняемого. Такая отсрочка объяснялось тяжелой болезнью сердца Юзефа Бекерского, что сделало невозможным его пребывание в следственной тюрьме. Вместо этого подозреваемый находился (конечно, под полицейским надзором) в комфортабельном помещении в частной клинике доктора Кароля Исаковича.
Процесс начался с принятия присяги всеми присяжными, потом слово взял прокурор Влодзимеж Шумило, который кратко представил обвинения. После этого за дело взялся адвокат Вацлав Бехтольд-Сморавинский. Он полностью сосредоточился на отрицании показаний главного свидетеля, Эдварда Попельского. Славный защитник произнес одну из самых блестящих речей, которые мне пришлось слышать. Она опиралась на парадокс, которым не побрезговали бы даже Демосфен или Цицерон. «Ваша честь, мой клиент, — ораторствовал он, вглядываясь в судью честными глазами, — карьерист, который собственную мать спрятал от окружения, чтобы ее еврейское происхождение не разрушило его планов и стремлений. Это человек, исковерканный войной, как многие из тех, кто на каждый день встречался со смертью. Его никак нельзя назвать кристально-чистым, нет! Но это не он убил Леона Буйко, а дело, которое рассматривает наш независимый суд, касается именно этой смерти. Мой славный коллега, прокурор Шумило, постарается представить моего клиента предателем и дегенератом. Но его здесь судят не за измену или нарушение общественного порядка! Предметом рассмотрения независимого суда и скамьи присяжных является убийство Леона Буйко! Утверждаю со всей ответственностью, что мой клиент этого убийства не совершил, его в преступление коварно и безжалостно впутали!»
Гениальность стратегии меценаса[78] Бехтольда-Сморавинского удостоверяют три предпосылки, скрытые в этой короткой речи. Защитник прекраснознал, что молодой, но очень напористый и упрямый прокурор Влодзимеж Шумило добавил к делу переведенную с русского статью обвиняемого, в которой обсуждалось стремление Польши к независимости, и пожелает очернить Бекерского перед судьей, бывшим легионером Пилсудского, Антонием Книпа. Адвокат заранее ослабил такую возможность, заметив, что дело не касается измены. Он также ни словом не упомянул об отношении обвиняемого к селянам, точнее, селянкам, поскольку знал, что жители Стратина и Пукова — это преимущественно украинцы, которые плохо владеют польским языком и ни за что не согласятся свидетельствовать перед судом, хотя бы их горячо поощрял к этому прокурор Шумило, в конце концов, сам украинец. Бехтольд-Сморавинский очень прозрачно намекал, что прокурор может враждебно относиться к обвиняемому националисту, который презирал украинских селян. Сам адвокат свои политические взгляды подчеркивал, нацепив на лацкан пиджака значок Польской социалистической партии, который должен был свидетельствовать, что его владелец служит исключительно Фемиде и лишен политических антипатий, которые социалист мог бы питать к клиенту-националисту.
Защитник выдвинул следующий тезис о том, что именно Эдвард Попельский впутал Бекерского в это дело, поскольку имел очевидный мотив, который лучше всего характеризует римское определение is fecit, cui prodest[79]. Так вот благодаря тому, что убийца Леона Буйко был схвачен в III Персональном отделе Главной комендатуры государственной полиции в Варшаве, началась официальная процедура аннулирования решения об увольнении Попельского с работы и о восстановлении его в следственном отделе. Частный детектив, чьи доходы весьма нерегулярны, мог очень и очень зависеть от того, чтобы схватить какого-нибудь козла отпущения и вернуться на хорошо оплачиваемую государственную должность.
Адвокат предположил также, что Попельский собирался возложить всю вину на Бекерского, поскольку стремился вернуться на работу в полиции. Развитие событий могло быть таким:
• Попельский, который получил филологическое и математическая образование, проводит по заказу полиции лингвистическое расследование. Во время следствия наталкивается на след Леона Буйко. Подозревает его в упомянутом уже двойном убийстве. Допрашивает его один раз, а второй раз собирается сделать это 17 июня.
• В этот же день он приходит к Буйко второй раз и находит его погруженным в ведро с маслом.
• Вскоре после того к Буйко приезжает из Стратина Юзеф Бекерский, чтобы выяснить (точнее уладить благодаря финансовой поддержке) дело разоблачения происхождения своей матери.
• Попельский связывает Бекерского, погружает его руки в масло, а затем звонит в полицию.
— Почему такой уважаемый гражданин, — адвокат многозначительно поднял указательный палец к потолку, — каким является Эдвард Попельский, человек чести, чего мы, общество, требуем от сотрудников полиции, поэтому спрашиваю, почему такой уважаемый человек, как он, хотел обвинить невиновного? Я понимаю, что ваша честь и уважаемые присяжные могут сомневаться относительно принципа is fecit, cui prodest. Но существует и другая причина! Итак, Эдвард Попельский ненавидел обвиняемого так, как только можно ненавидеть, поскольку тот был его соперником в борьбе за благосклонность некой молодой пани, к тому же Бекерский его жестоко избил и унизил!
Тут пан меценас превратился в актера. Хорошо поставленным голосом он вызвал трех свидетелей-россиян, друзей и подчиненных обвиняемого. Повторил вызов еще дважды, а когда никто не появился, Бехтольд-Сморавинский хлопнул себя ладонью по лбу, делая вид, что только сейчас вспомнил о получении официального письма в этом деле от начальника отдела политической безопасности Общественного воеводского управления, пана Францишека Пирожека. Прочитал его медленно, чтобы все хорошо запомнили. Письмо содержало информацию о том, что вышеупомянутые россияне, personae non gratae без права пребывания, были в конце 1930 года депортированы из Польши. Адвокат Бехтольд-Сморавинский пообещал вернуться к этой «архибыстрой» депортации россиян, после чего вызвал свидетелей, доктора Базилия Гиларевича из больницы Сестер милосердия в Рогатине и доктора Титуса Бурачинского из львовской больницы св. Винцента Поля. Оба врача подтвердили, что тяжело избитый Эдвард Попельский был в мае прошлого года их пациентом. На радость адвокату, доктор Бурачинский заметил, что раны были нанесены «таким зверским способом, что это свидетельствовало об наибольшей жестокости». Защитник поблагодарил медиков и передал обоих врачей в распоряжение прокурора, который отказался их опрашивать.
Тогда в зале начали появляться разномастные более и менее подозрительные субъекты, какие-то мелкие преступники, официанты, владельцы кабаков, которые единогласно утверждали, будто «кумисар Попельский очень скорый до драки», приводя многочисленные примеры, когда тот пренебрег их словом или делом. Прокурор остро комментировал слова каждого такого свидетеля, высмеивал все противоречия в признаниях и подчеркивал услужливость, с которой эти подозрительные субчики отвечали на вопросы адвоката. Его оппонент отреагировал утверждением, что показания этих людей четко показывают истинную натуру Эдвард Попельского, которая является «жестокой, мстительной и непредсказуемой». Тогда прокурор Шумило запротестовал, возможно, мало убедительно и демагогически заявив: «То, что адвокат опирается на признания людей, среди которых есть отбросы общества, свидетельствует о слабости защиты».
Раздраженный судья обратил внимание адвоката, мол, тот берет на себя роль обвинителя третьего лица, что является недопустимым по причине отсутствия указанного лица, то есть неоднократно упомянутого и обвиняемого в разных бесчинствах пана Эдварда Попельского. На это адвокат, улыбаясь, ответил, что удовлетворяет просьбу суда, вызывая свидетеля доктора Эдварда Попельского.
XIV
Штайнбах, Людвика: Свидетель обвинения на скамье подсудимых. Дело графа Бекерского // Криза, Игнаций (ред.): Встать, суд идет! Избранные судебные репортажи межвоенного двадцатилетия, Варшава: «Читатель», 1974, с. 189–195.
Эдвард Попельский был статным, хорошо сложенным мужчиной. Изысканно одетый, он благоухал дорогим одеколоном. Этот известный на весь Львов нарушитель морали производил немалое впечатление на многочисленных дам, присутствующих в зале суда. Вдоль его лысого, гладко выбритого черепа торчали остро законченные уши, что придавало лицу какое-то демоническое выражение. Перебитый нос, две складки кожи на широком затылке, мощные плечи и некая брутальность, заметная в его зеленых глазах, контрастировали с ухоженными ладонями и тщательным подбором слов, даже красноречием! Этот доктор классической филологии, получив образование в Вене, вместо карьеры ученого избрал полицейскую, вместо анализировать Цицерона или Лукреция — изучал темные перипетии преступления.
После присяги свидетель оказался под шквалом вопросов защитника, однако они не произвели на бывшего полицейского, привыкшего к коварным допросам, ни малейшего впечатления.
— Когда вы познакомились с обвиняемым?
— 18 апреля.
— Где?
— В его поместье в Стратине.
— Что вы там делали?
— Собирался на просьбу некой дамы, чью фамилию называть не буду, спросить графа Бекерского, что случилось с его матерью, Анной Бекерской.
— Эта просьба было заказом анонимной пани частному детективу?
— Тогда я еще не был частным детективом.
— Но несмотря на это вы приняли заказ?
— Это вы, пан меценас, называете заказом просьбу упомянутой дамы.
— Вы потребовали вознаграждения за исполнение этой просьбы? А если так, то справились ли вы с ней?
— Нет, я сделал это бесплатно как частное лицо, а не детектив, которым с точки зрения закона тогда не был.
— Если бы в то время я обратился к вам с этой просьбой, вы бы ее тоже выполнили?
— Нет.
— А почему, позвольте спросить?
— Потому что я выполняю просьбы только моих знакомых, а вы, пан меценас, к превеликому сожалению, к ним не принадлежите.
— Назовите, пожалуйста, фамилию этой пани.
— Я отказываюсь это сделать.
Адвокат обратился к судье с просьбой, чтобы свидетель назвал имя пани, поскольку, как утверждал пан меценас, она является чрезвычайно важным в этом деле лицом. Судья Книпа выполнил просьбу защиты.
— Рената Шперлинг, — ответил Попельский.
— Да, — подтвердил Бехтольд-Сморавинский. — Рената Шперлинг, двадцать семь лет, бухгалтер в имении Бекерских. Дама необычайной красоты. Откуда вы ее знаете?
— Девять лет назад я готовил ее к выпускным экзаменам в гимназии. Давал ей частные уроки математики.
— В чем заключалось заказ… pardon, просьба этой пани?
— Она просила, чтобы я разыскал графиню Анну Бекерскую, которая, по словам Ренаты Шперлинг, неожиданно исчезла.
— Поддерживали ли вы или продолжаете поддерживать интимные отношения с панною Ренатой Шперлинг?
— Не желаю нанести ущерб чести незамужней дамы, поэтому не отвечу на этот вопрос.
Такое достойное джентльмена поведение Попельского вызвало вздохи и громкие комментарии присутствующих в зале дам, что явно не понравилось судьи Книпе. Строгий iudex нахмурился и сделал собравшимся замечание, чтобы они вели себя серьезно, как это подобает в суде.
Адвокат сохранял спокойствие, однако я, многолетний репортер на судебных процессах, заметила, как он на мгновение закрыл глаза, что могло свидетельствовать о неуверенности или желании сосредоточиться перед тем, как нанести точный удар.
— Ваша честь, уважаемые присяжные, я не буду настаивать, чтобы джентльмен признавался в деликатном деле, позвольте лишь заметить, что Рената Шперлинг бесследно исчезла. Поэтому я не могу попросить ее свидетельствовать перед судом. Кроме того, замечу, что, отказываясь ответить на мой вопрос, пан Попельский определенным образом подтвердил, что с панной Шперлинг его связывали близкие отношения. Если бы это было не так, он ответил бы просто: «Нет, у меня с этой дамой ничего не было», — и таким образом не нанес бы репутации и чести упомянутой пани никакого вреда…
— Прошу свидетеля ответить на этот вопрос! — судья Книпа строго взглянул на Попельского, поскольку выводы красноречивого меценаса ему явно надоели. — Вы поддерживали или продолжаете поддерживать с госпожой Ренатой Шперлинг интимные отношения?
— Я любил ее, — спокойно ответил детектив, — а она меня бросила. Не знаю, где она находится сейчас.
Дамы в зале заволновались, отовсюду слышался театральное шепот и взрывы нервного смеха. На этот раз судья никого не успокаивал. Бехтольд-Сморавинский победно взглянул на собравшихся.
— А свидетелю известно, что обвиняемый Юзеф Бекерский ухаживал за ней?
— Да.
— Панна Шперлинг рассказывала вам об этом?
— Да.
— Итак, влюбившись в панну Шперлинг, вы могли считать графа Бекерского соперником?
— Нет.
— Почему?
— Потому что панна Шперлинг его ненавидела. Невозможно считать соперником мужчину, которого ненавидит любимая женщина.
На этот раз Бехтольд-Сморавинский не настаивал на дальнейших объяснениях. Он явно увлекся и двинулся в наступление. Спросил, как именно выглядела первая встреча свидетеля с обвиняемым. Узнав, что тогда Попельский был грубо избит Бекерским и его российскими прихвостнями, адвокат серьезно и внимательно посмотрел на Эдварда.
— Унизил ли он вас каким-то другим образом? — спросил пан меценас.
— Нет.
— А теперь я задам вам очень сложный вопрос. Он будет неприятным для такого мужчины, как вы, который не привык подчиняться другим, то есть для натуры независимой, властной и решительной. Именно о таких чертах свидетельствует, ваша честь, увольнение свидетеля из полиции за нарушение служебной дисциплины. Но вернемся ad rem. Вопрос, который я сейчас задам, — адвокат взглянул на присутствующих в зале, — может шокировать посторонних лиц, особенно дам, поэтому заранее прошу прощения. Так вот, спрашиваю у свидетеля, — новый сочувственный взгляд в сторону Попельского, — избив, обвиняемый помочился ли на вас?
По залу прокатился ропот, а потом наступила гробовая тишина. Присутствующие внимательно всматривались в Попельского.
— Нет, ничего такого не было.
Адвокат повторил замысловатые словесные выкрутасы, уверяя, что осознает, какое это мучительное унижение для любого мужчины. Кроме того, он понимает, в каком свете такой позорный поступок показывает его клиента. Однако, работая non sordidi lucri causa, sed ut veritas magis propagetur[80], он настойчиво просит признаться, что свидетель стал объектом ужасного надругательства. Попельский второй раз категорически отрицал. Для завсегдатаев судебных залов (в том числе и для особы, что пишет эти слова) было очевидным, что стратегия адвоката заключается в формировании убеждения, будто униженный Попельский мог подстроить то, что произошло в доме Буйко, так, чтобы это бросило подозрение на его обидчика и таким образом отомстить.
— Итак, уважаемые присяжные, — сделал вывод пан меценас, — свидетель отрицает факт, который могли бы подтвердить российские товарищи обвиняемого. Однако они, по странному стечению обстоятельств, были очень быстро депортированы. Отмечу, что такая процедура обычно длится по меньшей мере полгода. На этот раз важные свидетели обвинения были выдворены из страны за три месяца! Сообщаю суду, ваша честь, также информацию личного характера, которая четко демонстрирует, что дружеские связи Эдварда Попельского помогли провести процедуру депортации чрезвычайно быстро! В ответе на мой запрос указано, что приказ о выдворении отдал начальник Политического подразделения Отдела общественной безопасности Воеводского управления, бывший комиссар полиции, пан Францишек Пирожек, друг Вильгельма Зарембы, гимназического товарища Эдварда Попельского! Кроме того, в этом деле исчезает еще один важный для защиты свидетель, панна Рената Шперлинг. Эта пани составляла объект любовного соперничества между обвиняемым и свидетелем. Что может быть более естественным для влюбленного мужчины, чем с помощью Фемиды избавиться от ненавистного противника, известного насильника, которому чрезвычайно легко приписать любое преступление, тем более политически мотивированное убийство Буйко, который разрушил этому сопернику карьеру?
Потом адвокат благодаря ловко поставленным вопросом заставил свидетеля, несмотря на заметное сопротивление последнего, признаться в том, что, лишившись работы в полиции, он бедствовал. Обращал внимание на неудачные попытки улучшить собственное существование чтением лекций в университете. Обрисовав послеполицейскую жизнь Попельского в самых черных тонах, он снова спросил свидетеля, правда ли, что, поймав убийцу Буйка, тот получил бы возможность вернуться на работу в полицию.
— Это неправда.
— Разве у вас не было об этом устной договоренности с самим воеводским комендантом?
Удар, казалось, был меткий, потому Попельский чуть побледнел. Но быстро взял себя в руки.
— О возвращении в полицию можно было бы говорить, если бы я помог решить дело убийства Любы Байдиковой и Лии Кох. Немало указывает на то, что Леон Буйко убил их обоих. В этом я убедился в результате самостоятельного расследования, которое сначала вел more linguistico et mathematico[81], a позже полицейскими методами. Я дошел до убийцы, однако мне не удалось добиться у него признания во время первой встречи. Во второй раз я посетил уже покойника. У меня есть доказательства того, что убийцей обеих женщин был Леон Буйко. Если бы это подтвердилось во время следствия и Буйко попал на скамью подсудимых, я действительно вернулся бы на работу в полиции. Зато разоблачение виновника убийства Леона Буйко ничего бы не изменило, поскольку меня нанимали в связи с другим делом. Подчеркиваю, что меня до сих пор не восстановили на работе в полиции, поскольку нынешний процесс не завершился. Итак, дело Бекерского ни на что существенно не повлияло.
— Но дело Бекерского связано с делом Буйко, разве нет?
— Действительно, они тесно связаны между собой, однако для моего возвращения в полицию разоблачение убийцы Буйко не имеет ни малейшего значения.
— Вы же не будете отрицать, что убийство Буйко вам помогло. Ведь Буйко не признался ни в убийстве Байдиковой, ни Кох, поэтому теперь вы можете всю вину возложить на покойника, у которого нет возможности защитить себя. Таким образом, убийство Буйко облегчило вам жизнь, не так ли, пан Попельский? — Детектив сидел, задумавшись. — Вы не ответили на мой вопрос!
— Действительно, со смертью Буйко исчезла необходимость в определенных процессуальных действиях…
— То есть это облегчило вам жизнь?
— В этом смысле да.
Бехтольд-Сморавинский облегченно вздохнул и громко обратил внимание присутствующих на три мотива, которыми мог руководствоваться Попельский.
— Месть за поругание, — ораторствовал он, устремив на Попельского холеный палец, — о чем этот честолюбивый человек предпочитает промолчать, желание избавиться от соперника и сделать карьеру — вот, ваша честь, три мотива пана Попельского, которых ему достаточно, чтобы обвинить моего клиента! Неужели этого мало?
— А где подтверждение моих махинаций, которые якобы могли облегчить мне жизнь? — не оставался в долгу свидетель, которому судья сделал за это строгое замечание.
Адвокат не сдавался. Приведя доказательства того, что несколько лет назад, находясь на полицейских занятиях для офицеров, Попельский окончил курс быстрой машинописи, пан меценас предположил, что письмо в «Новый век» подготовил не Буйко, а детектив. Об этом могло свидетельствовать о том, что письмо с уведомлением о еврейском происхождении графини было написано без ошибок, тогда как Буйко свои работы печатал ужасно небрежно и много слов зачеркивал буквой «X».
Попельский решительно отрицал, что писал такое или подобное письмо. Тогда адвокат прочитал письменную экспертизу языковеда из университета Яна-Казимира. Профессор Ежи Курилович, который выступал в роли эксперта, а во время суда находился на стипендии французского правительства в Париже, указал на незначительные стилистические различия между текстом письма и научными трудами Буйко. На это свидетель отреагировал смехом, заявив, что разностилевые тексты пишут, конечно, по-разному.
Несколько смущенный этим решительным ответом, адвокат закончил допрос, и, учитывая позднее время, судья Книпа объявил об окончании слушаний. Это решение имело заметное психологическое воздействие на присяжных и изрядно помогло адвокату, поскольку измученные невероятной для майского Львова жарой, все с радостью реагировали на окончание слушаний, и это чувство облегчения подсознательно будет ассоциироваться у них с меткими фразами меценаса Бехтольда-Сморавинского, которые им из-за этого будут казаться внушительными. Удачный трюк, ничего не скажешь.
Однако оказалось, что прокурор обладал аргументами не менее существенными, хотя количество свидетелей с его стороны было значительно скромнее, точнее говоря, их было всего двое. Первым вызвали камердинера из Стратина, пана Станислава Вьонцека.
XV
Станислав Вьонцек занял место на скамье свидетелей. Он держался очень прямо. Пальцы правой руки сжимали лацкан светлого пиджака. Этот жест был исполнен достоинства, контрастируя с поведением многих до сих пор допрашиваемых свидетелей, которые беспокойно ворошили пальцами, сплетали их, чтобы сразу же расплести, растягивали, вызывая характерный треск суставов, или нервно постукивали пальцами по столу.
Вьонцек владел руками, не позволяя, чтобы неконтролируемые движения выразили его слабость или беспомощность. Одна из них неподвижно лежала на столе, второй он держался за лацкан пиджака почти наполеоновским жестом.
— Пожалуйста, представьтесь, укажите ваш возраст и образование, — ободряюще улыбнулся свидетелю прокурор Шумило.
— Станислав Вьонцек, пятьдесят три года, четыре класса классической гимназии и два — слесарной практики.
В осанке камердинера чувствовалась какая-то военная выправка. Спокойствие у него сочеталось с лаконичностью и исчерпаемостью ответов, без всяких лишних подробностей, например о местонахождении гимназии.
— Спасибо, а сейчас расскажите нам о событиях пятницы 17 июня 1930 года, которые произошли в стратинском дворце.
— В тот день около девяти утра к дворцу подъехали три автомобиля из Львова. Журналисты хотели немедленно услышать от пана графа комментарии относительно неслыханной новости, которая была опубликована накануне в «Новом веке». Там было сказано, что пани графиня является еврейкой по происхождению.
— Им это удалось?
— Нет.
— Обвиняемый как-то принял журналистов?
— Господин граф пришел во дворец около десяти…
— Откуда?
— Не знаю.
— Итак, обвиняемый появился в дворце около десяти утра. Что было дальше?
— Придя во дворец, пан граф увидел толпу журналистов, которые, углядев моего хозяина, начали наперебой выкрикивать вопросы о его матери-еврейке. Граф выглядел озадаченным и явно не понимал, о чем идет речь. Тогда один из присутствующих прочитал ему статью из «Нового века», где речь шла о Леоне Буйко, который передал эту информацию в газеты. Господин граф, услышав такое dictum, не продолжил разговора с журналистами, а оставил их у дворца, сам вошел в дом и направился в свой кабинет. Там пан граф ознакомился с моими записями о вечерних телефонных звонках. Потом распорядился, чтобы я вынес журналистам хлебного кваса, после чего вышел боковой дверью, сел в машину, припаркованную за дворцом, и поехал.
— Ваша честь, уважаемые присяжные, — прокурор отвернулся от Вьонцека и вытащил из папки большой лист бумаги. — Только что упомянутые записи приложены мной к делу, у меня в руках копия. На листах записаны несколько телефонных разговоров, которые являются для обвиняемого неприятными реакциями на информацию о матери-еврейке. Хотел бы только обратить ваше внимание на то, что здесь содержится также шантаж со стороны покойного Леона Буйко. Упомянутый Буйко позвонил накануне обвиняемому и из-за его отсутствия приказал свидетелю записать следующее. Цитирую самое важное: «Это я написал письмо о жидовке Лейбах и направил в «Новый век». Но у тебя есть шанс избежать компрометации, если профинансируешь мои исследования. Тогда я тебя прощу, напишу опровержение и уничтожу материалы из регистрационного отдела. Буду ждать тебя только сегодня вечером. Приходи без российских прихвостней. Улица Задвужанская, 25, кв. 14. Только сегодня даю тебе единственную и последнюю возможность». Конец цитаты. Дальше продолжение записи Станислава Вьонцека. Цитирую: «P. S. Этот человек представился как доктор Леон Буйко». Конец цитаты. То есть, — прокурор обратился к свидетелю, — обвиняемый прочитал эти слова и тайно вышел из дома, не так ли?
— Именно так.
Прокурор Шумило замолчал и несколько раз прошелся перед скамьей для свидетелей. Было заметно, что он анализирует какую-то логическую связь и собирается задать решающий вопрос. Его молчание держало присутствующих в напряжении.
Вьонцек стоял неподвижно и с достоинством, однако духота в зале, казалось, донимала и его. Четыре шрама на его лице налились кровью и отчетливо выделялись на фоне бледных щек.
— Обвиняемый распорядился угостить журналистов хлебным квасом, — Шумило заговорил, когда присяжные начали нервно ерзать на стульях, — перед тем, как прочитал сообщение, или потом?
— После того.
— Итак, прочитанное не слишком его поразило, как вы думаете?
— Не знаю, не понимаю вашего вопроса, пан прокурор, — Вьонцек впервые отпустил лацкан пиджака и положил правую руку рядом с левой.
— Ибо, если бы это его поразило, он, видимо, не подумал бы о такой мелочи, как напиток для журналистов, которых он мог воспринимать как врагов, правда? Если бы он был возмущен сообщением, точнее говоря, шантажом Буйко, то немедленно выбежал из дома, несмотря на то что кому-то хочется пить, или нет! Что вы на это скажете?
— Я с вами согласен, — ответил Вьонцек.
— Итак, если предположить, что граф Бекерский виновен в убийстве, — прокурор обратился к присяжным, — можно было бы сказать, что он вышел с намерением его совершить, будучи абсолютно хладнокровным. С полным спокойствием поехал во Львов, чтобы убить Буйко, не забыв сперва угостить журналистов хлебным квасом. Уважаемые присяжные, это спокойствие может свидетельствовать лишь об одном — умышленном планировании убийства!
Шумило сел, показывая этим, что закончил допрос свидетеля.
— Veto! — воскликнул меценас Бехтольд-Сморавинский. — Этот вывод a posteriori логически несостоятелен. Мой знаменитый коллега делает вывод на основании того, что должно быть лишь конечным выводом! Ведь это замкнутый круг!
— Отклоняю, — судья Книпа перевел дыхание. — Обвинитель только пытается воссоздать обстоятельства, при которых могло быть совершено преступление. Теперь свидетель в вашем распоряжении.
Адвокат подошел к Станиславу Вьонцеку и заглянул ему глубоко в глаза.
— Не могли бы вы сказать, откуда эти шрамы на вашем лице?
— Моя законная жена когда-то поцарапала меня во время супружеской ссоры.
Смущенный этим вопросом, камердинер немного забеспокоился. Потерял свою военную выправку и лаконичность высказывания, добавив лишние слова «законная» и «супружеской».
— Вы можете сказать, чего касалась эта ссора?
— Это семейная тайна.
— Ну, ладно, — адвокат Бехтольд-Сморавинский усмехнулся. — Простите, я не стану вмешиваться в супружескую жизнь свидетеля из-за какого-то там рядового любопытства. Спрашиваю лишь ради успеха нашего дела. Должен сообщить свидетелю, что я владею письменной экспертизой судебного врача, одного из лучших специалистов в своей области, доктора Ивана Пидгирного, который, вспомните, с вашего согласия осмотрел раны во время допроса в полиции. Так вот, доктор Пидгирный считает, что эти раны выглядят как следы от ударов узким острым предметом, например шпицрутеном. Как вы можете объяснить слова доктора?
— Ногти моей жены длинные и острые.
— Вам когда-нибудь приходилось видеть шпицрутен обвиняемого?
— Да.
— Вы видели, как он бил им других?
— Да.
— Он бил им своих слуг?
— Да.
— Кого, например?
— Кухарчука, горничную, конюха…
— А вас он никогда не бил?
— Нет.
— Ваша честь, — адвокат демонстративно отвернулся от допрашиваемого и театральным жестом поправил тогу, — я предполагаю, что признание свидетеля, который стремится поквитаться за изуродованное шпицрутеном лицо, являются весьма сомнительными. Мотива мести свидетель не желает подтвердить, руководствуясь личным достоинством, столь заметным в его поведении и осанке.
После того как адвокат заявил, что не имеет больше вопросов, Станислав Вьонцек сошел с подиума и сел на своем месте в зале. На отвороте его пиджака виднелась пятно от вспотевшей ладони.
XVI
Камердинер Станислав Вьонцек родился в Козове в Бережанском уезде в зажиточной крестьянской семье. Его отец, Казимир Вьонцек, был одним из немногих грамотных в своем окружении, а его главным чтением была Библия. Он знал ее наизусть и постоянно прививал своим многочисленным детям библейскую мораль.
Обучение премудростям Священного писания происходило каждое воскресенье после службы Божьей и начиналось с того, что ребята хором декламировали десять заповедей. Особое значение отец придавал заповеди «Почитай отца и мать свою», а также «Не свидетельствуй ложно против ближнего своего». Казимир Вьонцек считал, что остальные заповеди касается более зрелого возраста и не должны интересовать его потомков. Однако эти две отец подробно обсуждал, иллюстрируя их примерами из повседневной жизни Козова и окрестностей.
Старый Вьонцек был бы, видимо, добрым катехитом, если бы не чрезмерная педантичность. Он требовал от детей безошибочного цитирования Библии, а в случае каких-либо искажений немедленно хватался за кожаный ремень, «дисциплину». Делал он это слишком часто, а ошибки в приведенных цитатах с жестоким преувеличением называл «ложью». Из-за такого отцовского поведения у маленького Стася и его братьев и сестер выработался следующий ассоциативный процесс: я солгал, следовательно страдаю от ремня.
Эта упоминание про боль от отцовской «дисциплины» в последнее время преследовала Станислава Вьонцека постоянно. Так было и сейчас, когда он смотрел на вызванного прокурором Эдварда Попельского. Слушал его ответы, однако не обращал на них внимания, более того, они вообще не доносились до его ушей, в которых звучал отцовский крик: «Ты солгал, что пан граф сначала прочитал твои заметки, а потом приказал хлебным квасом угостить уставших пришельцев, все было наоборот, сперва напоил жаждущих, а потом читал. Ты солгал, потому будешь страдать теперь!»
Тем временем Попельский начал четко и подробно характеризовать обвиняемого.
Штайнбах, Людвика: Свидетель обвинения на скамье подсудимых. Дело графа Бекерского // Криза, Игнаций (ред.): Встать, суд идет! Избранные судебные репортажи межвоенного двадцатилетия, Варшава: «Читатель», 1974, с. 197–203.
Эдвард Попельский и на этот раз выглядел так же элегантно и уверенно, как раньше. На его лице не было никаких следов волнения или отчаяния, которые могли бы возникнуть у свидетеля, который сам почти превратился в обвиняемого и которого в зале суда официально обвинили в ложных признаниях и впутывании в убийство невинного человека. Он прекрасно держался. Скала, не человек. Настроение Попельского объяснялось также тем, что его допрашивал благосклонный к нему прокурор, который больше слушал, чем задавал вопросы.
А слушать действительно было что. Давно мне не приходилось слышать такой сжатой и вместе с тем подробной психологической характеристики. Я бы с удовольствием прочитала полицейские рапорты Эдварда Попельского. Если они такие же мастерские с литературной точки зрения, как и его высказывания, можно смело утверждать, что он должен быть не детективом или филологом, а писателем.
Попельский представил очень подробный портрет графа Юзефа Бекерского, который обрисовал ему покойный ныне Леон Буйко. Обвиняемый в рассказе свидетеля предстал перед нашими глазами, словно живой. Мы увидели человека, полного противоречий, в чьей душе математика и инженерия соревновались с чрезвычайной религиозностью. Однако она не была слепой или экзальтированной, а наоборот, направленной, так сказать, математически. Во время учебы в Казани Бекерский столкнулся с русской религиозной сектой имяславцев, среди которых преобладали как раз математики! Это были известные московские профессора — не знаю, где они были известны, я о таких в жизни не слышала! — такие, как Егоров или Лузин. Сторонники этой секты, к которой Бекерский присоединился уже в начале пребывания в России, считали, будто «Бог является своим именем», что для математиков понятно и объясняется теорией порядковых чисел. Увлекшись имяславием, Бекерский начал изучать еврейский язык, поскольку его интересовали контексты, в которых принимали священное имя ЙГВГ, которое одни произносят «Яхве», а другие — «Иегова». Невероятно, но этот матерый антисемит изучал еврейский! Однако мрак человеческой души, если воспользоваться библейской метафорой, еще более непроницаемый, чем тьма египетская.
После этого рассказа о Бекерском детектив охарактеризовал покойного Леона Буйко, который вместе с обвиняемым в течение трех семестров изучал в Казани математику, прежде чем граф перевелся на технический факультет. Буйко совершил огромное математическое открытие: разработал теорию так называемых чисел Харона, в которых «записана любая конечная последовательность». Поскольку тексты, устные или письменные, являются конечной последовательностью букв, в числах Харона закодировано каждую из них. Поскольку жизнь любого человека является текстом, то в числах Харона закодирована жизнь от рождения до смерти. До сих пор ключ к этому бесконечному шифру, который охватывает всех людей, которые жили когда-то или будут жить на земле, был неизвестен. Буйко считал, что отыскал этот ключ в еврейском тексте Ветхого Завета. Сопоставляя различные фразы и вырванные из контекста слова, создавал магические квадраты (ради Бога, не спрашивайте меня, что это такое!), которые (здесь Попельский тоже оказался беспомощным) неизвестно как использовал для расшифровки текста о человеческой жизни, записанного в числах Харона. Пусть там как, Буйко полностью посвятил себя исследованию Библии. Случайно установил интересное числовое совпадение, которое касалось двух женщин, с которыми он имел интимные отношения. Речь идет о гадалке Любе Байдиковой и проститутке Лии Кох. Добавив числа, соответствующие буквам их имен (не спрашивайте меня, каким это образом буквы могут иметь числовое значение!), получил сумму 68. Добавив буквы-числа еврейских соответствий их профессий (слова «пророчица» и «блудница» тоже имеют в еврейском какие-то числа), также получил 68. Он решил, что это знак. Продолжая работать в регистрационном бюро, он тайком начал искать в книгах таких людей. Случайно наткнулся на информацию о еврейском происхождении матери своего бывшего университетского товарища, а ныне богатого землевладельца и ярого националиста Юзефа Бекерского.
И тут произошло объединение двух сюжетов — про Буйко и Бекерского. Открывая свое повествование, Попельский с заметным сожалением сообщил, что тайну чисел Харона Буйко забрал в могилу, и потому все, что он, Попельский, сейчас скажет, будет носить чисто гипотетический характер. Итак, неизвестно, что узнал Буйко о Любе Байдиковой и Лии Кох, но, вероятно, в числах Харона он увидел дату и обстоятельства их смерти. С этой информацией он направился к Бекерскому, чтобы попросить у него денег на дальнейшие исследования. Ему нужна была вычислительная машина и постоянные работники, гебраисты и математики, которые бы образовывали из библейских фраз магические квадраты. А такие специалисты, конечно, даром не будут работать.
Граф ему отказал. Тогда Буйко попытался шантажировать его обнародованием информации про мать-еврейку. Граф снова отказался дать ему денег, а потом жестоко избил. Магические квадраты, которые Буйко показывал Бекерскому, остались в руках графа. Тот начал их внимательно изучать, потому что заинтересовался загадкой чисел Харона.
Тем временем Буйко, лишившись надежды на средства, необходимые для дальнейших исследований, решил воплотить свой преступный план. Убив Любу Байдикову и Лию Кох, он направил магические квадраты в полицию как своеобразные некрологи. Зачем? Потому что хотел похвастаться своим открытием! Буйко рассчитывал, что кто-то расшифрует его послание и присоединится к нему, чтобы совместно вести поиски! Надеялся на эксцентричного богача, который согласился бы профинансировать исследования. Сперва прислал еврейские квадраты в оккультную и бульварную прессы с просьбой опубликовать, объясняя, что они содержат зашифрованные пророчества. Однако пресса на это не отреагировала. Поэтому он начал убивать, надеясь, что какой-то недобросовестный полицейский продаст магические квадраты журналистам, и вскоре его тайные послания станут общеизвестными. Но просчитался. В полиции не нашлось охочих до грязных денег желтой прессы, а магические квадраты расшифровал не состоятельный финансист, который стремится к власти над человеческой жизнью и смертью, а Попельский. Благодаря поискам в бюро регистрации населения, он дошел до Буйко. Математик, желая избежать смертной казни, уже во время первой встречи льстил детективу, восхваляя его математический талант, а потом предложил совместные исследования своего грандиозного открытия.
— Я не боялся, что подозреваемый сбежит, — продолжал Попельский. — Убогий причудливый человечек, обшарпанный злыдень с кустиками волос, которые торчат над ушами, стал бы везде заметным. Тем временем Буйко понял, что у него земля горит под ногами, и в тот же день направил в «Новый век» письмо, в котором рассказал о еврейском происхождении графини Бекерской. Потом позвонил к ее сыну, собираясь требовать денег за опровержение своей информации. Его слова записал камердинер Бекерского, пан Станислав Вьонцек. На следующий день граф, вернувшись из очередной эротической эскапады, которые он часто устраивал себе в окрестных селах, наткнулся на журналистов, которые расспрашивали его про мать-еврейку. Прочитав записи камердинера, он узнал, кто раскрыл тайну его жизни, обнародование которой закрывало ему путь к политической карьере. Поэтому он тайком выбрался из дворца и уехал во Львов. После его отъезда камердинер Вьонцек немедленно позвонил мне, опасаясь, что жизни Буйко грозит опасность, поскольку графу стало известен источник информации о происхождении матери. К сожалению, я был не дома и узнал о звонке только вечером. Тогда я стремглав помчался к Буйко и нашел там замученного хозяина и измазанного смазкой Бекерского. Вот как все было. Quod erat demonstrandum[82].
— Врешь, ты, тварь! — завизжал Бекерский. — Ты все подстроил! Я ссал на тебя, как конь, так ты теперь решил отомстить!
Публика заволновалась, судья крикнул на обвиняемого, а Попельский сел, сочувственно вздохнув. После его объяснений все стало на свои места. Железной логики этой речи не смог возразить даже адвокат Бекерского. Его выступление было неуверенным и нечетким. Поинтересовавшись некоторыми подробностями знакомства Попельского со Станиславом Вьонцеком, Бехтольд-Сморавинский поставил неубедительно риторический вопрос.
— Моего клиента обвиняют в убийстве Леона Буйко, — говорил он, вытирая лоб носовым платком. — Неужели вас, ваша честь, и уважаемых присяжных не удивляет то, что руки моего клиента были замазаны маслом? Разве это не слишком очевидное доказательство? Очень странно, что на остальной его одежде не было следов смазки! Ведь, чтобы продвигать ведро под головой висельника, а потом опускать его так, чтобы голова погрузилась в жидкость, можно сильно разбрызгать содержимое и испачкать им одежду! Тем временем у моего клиента были замазаны только руки, которые мог насильно погрузить в ведро кто-то другой! Коллега, — обратился он к прокурору Шумило, — это доказательство как бы почерпнуто из бульварного детективного романчика!
— У нас есть и другое доказательство, — возразил прокурор. — Создание его оказалось бы не под силу читателю бульварных детективов.
— Какое именно?
— Третий магический квадрат, — Шумило вытащил из папки лист, на котором виднелась матрица со стороной из шести букв, — найденный в кабинете графа Бекерского во время обыска через два дня после ареста. Это доказательство преступления является безоговорочным. Прошу свидетеля, пана Эдварда Попельского, объяснить нам квадрат.
* * *
Станислав Вьонцек смотрел на Попельского, но не понимал ничего из его объяснений.
Не слышал спокойного, хорошо поставленного голоса детектива, потому что в ушах продолжали звучать отцовские слова: «Ты солгал, поэтому страдай теперь!» «Никакими страданиями я не смогу, — думал он, — искупить свой грех перед графом».
Вдруг он побледнел и сжал кулаки. Вспомнил свою ошибку, совершенную несколько месяцев назад. На следующий день после ареста хозяина Попельский привез ему именно этот магический квадрат, приказав положить лист графу в ящик. Камердинер обратил внимание, что детектив выглядел сонным, бледным и уставшим. «Вы бы тоже имели такой вид, как если бы всю ночь создавали еврейские квадраты», — сказал Попельский. Станиславу показалось совершенно невероятным, чтобы граф, отъявленный антисемит, держал у себя в столе какие-то записки на еврейском. Его удивление было настолько велико, что камердинер подбросил листик в хозяйский стол голыми руками, совершенно забыв про четкую установку надеть для этого перчатки. Теперь он смотрел на магический квадрат и представлял на нем отпечатки своих пальцев.
Попельский завершил объяснения и вернул листик прокурору. Тот положил его в папку, где он навсегда исчез среди других документов. Ни один дактилотехник не снимет с него отпечатков пальцев.
Вьонцек разжал кулаки. Возле большого пальца несколько секунд подергивалась мышца. Никто этого не заметил. Никто не смотрел на Вьонцека. Бог его спас.
XVII
Попельский взглянул на присутствующих спокойным взглядом. Сегодня он в четвертый раз в жизни выступает перед почтенной аудиторией. Его первой математической лекции в Венском университете помешало болезненное головокружение, вторая попытка выступить перед студентами в университете Яна-Казимира оказалась неудачной из-за злобности профессора, третья, перед коллегами и Коцовским, наталкивала на поиски преступника, четвертая, в зале суда — он был уверен — станет его триумфом.
Сторож принес школьную доску, к которой Попельский кнопками прицепил два больших листа с магическими квадратами Любы Байдиковой и Лии Кох. Заметив замешательство судьи и присяжных, которые онемели от вида чисел и еврейских букв, Попельский на мгновение потерял уверенность и заговорил чуть дрожащим голосом. Однако его бас подействовал на слушателей успокаивающе, и благодаря этому Эдвард быстро овладел собой. Сначала пояснил, что такое магические квадраты, тогда нацепил третий лист, на котором виднелись пустые квадраты и еврейские буквы с соответствующими числовыми значениями. Затем в пустые места квадратов вписал числа, которые соответствовали буквам, а потом объяснил, что некоторые числа в квадратах — особые, поскольку является произведением своих координат. Тогда эти числа снова заменил буквами и расположил в соответствующем порядке.
— Уважаемые дамы и господа, взгляните сюда, — Попельский обращался к собравшимся, как настоящий профессор, — из выделенных букв мы образовали имя и фамилию каждой из жертв, а также две причины их смерти. Одна из них — это орудия преступления,
corpus delicti (гвоздь, веревка, рука), вторая — из-за которой жертва была убита (болезнь, похабство). Кроме того, гематрия имени и фамилии в обоих случаях
составляет 68, так же как гематрия еврейских названий занятий, выполняемых этими женщинами. Пожалуйста, вот итог сказанному, — Попельский прицепил на доске еще один лист.

[Л(ю)б(а) Б(а)йд(и)к 30+2+2+10+4+20=68
ибй'х гадалка 50+2+10+1+5=68
хлй причина убийства — болезнь
вв орудие убийства — гвоздь
Л(и)й(а) К(о)х 30+10+20+8=68
звих блудница 7+6+50+5=68
г'вг причина убийства — высокомерие
хбл, йд задушена веревкой, соединенной с рукой (орудие убийства — веревка+рука)]
Перевел дыхание, заметив понимание и заинтересованность в глазах присяжных и судьи. Набрал в легкие нагретый воздух зала и перешел к самому главному.
— После смерти Леона Буйко полиция нашла в кабинете Юзефа Бекерского вот этот третий магический квадрат. В нем закодированы имя и фамилия убитого, причина смерти и орудие, которым она причинена. Прежде всего я продемонстрирую вам необработанную, первоначальную версию, — оратор снял с доски все листы и прицепил новый.

[тут я спрятался
словно в помещении
и уста мои вскрикнули
а искра
горящая сбежала
будто фимиам]
Теперь запишем эту чушь в виде чисел, приписывая их каждой еврейской букве, и получаем квадрат, в котором выделяем числа, которые являются произведением координат.

Теперь перенесем выделенное число на соответствующую букву и получаем одиннадцать значимых букв.

Выписываем эти буквы отдельно:
אבהבוגדכילל,
а затем располагаем их в соответствующем порядке

['бдх г'л лв бйк
бездна, Аид сосуд для масла Лев Буйко]
Мы получили имя, фамилию, орудия преступления (сосуд для масла, то есть воспламеняющегося смазки) и главную причину — подземный мир, Аид, в который убитый стремился спускаться беспрепятственно, как Харон. И напоследок добавим, что гематрия имени и фамилии замученного и гематрия его занятия «мудрец», хкм (חכם) в обоих случаях составляет ровно 68.

Итак, как вы видите, третий магический квадрат из шестибуквенных сторон был создан так же, как и два предыдущих. Нет никаких сомнений, что два первые обработал убийца. Третий магический квадрат найден у Юзефа Бекерского. Кто его создал? Буйко, потому что он же утверждал в разговоре с Бекерским, что имеет квадрат, который касается его самого. Бекерский нашел его у Буйко, обыскав квартиру после того, как заключил математика в своем погребе. И тогда ему вспомнилось безупречное преступление. Он решил свалить вину на убийцу, который замучил и Любу Байдикову, и Лию Кох. Достаточно самому избавиться от Буйко, убийцы обеих женщин, таким образом, как это описано в магическом квадрате, и отправить этот квадрат в полицию. Там были бы убеждены, что виновник преступления — одно и то же лицо. И тогда — ищи ветра в поле, можно до конца света разыскивать какого-то еврея или гебраиста. Так или сяк, третий магический квадрат — это признак убийцы. Убил тот, у кого он найден. У Бекерского?
Ergo — он убийца!
Quod erat demonstrandum.
Грянули аплодисменты. Попельский отошел от доски. Судья стучал молотком по столу, чтобы успокоить публику. Шум перекрыл сильный женский голос. Почтенная пожилая дама, которая сидела в первом ряду, порывисто встала и взглянула на Попельского полным ненависти взглядом.
— Ты, падлюка! — воскликнула она. — Имя указано неправильно! Убитого звали Леон, а не Лев, и здесь получается совершенно другая гематрия!
В зале сделалось тихо, только где-то слышался шепот: «Это графиня Бекерская!»
Попельский радостно усмехнулся.
— Действительно, я настолько благодарен вам, пани графиня, что вы указали на эту неточность, прощу даже то, как вы ко мне обратились. Сейчас я все вам переведу. Во время обучения в России, в Казани, Леона Буйко называли русифицированным именем «Лев», что часто случалось. Так же в университетских документах в Казани сказано «Иосиф Бекерский», а не Юзеф Бекерский. Итак, в представленном мною магическом квадрате оказалось имя Лев, а не Леон!
Детектив двинулся к скамье. И вдруг краем глаза заметил, что графиня махнула ему рукой в черной перчатке. Несмотря на то что она изначально присутствовала на процессе сына, Попельский заметил ее только сейчас, когда женщина заговорила. Подошел к ней и почтительно поклонился.
— Неделю назад в Стратине Рената Шперлинг родила твоего байстрюка! Выброшу проститутку в хлев вместе со щенком! Хочешь увидеть, как он ползает по навозу, словно червь?
После своей четвертой в жизни лекции Попельский не почувствовал даже малейшего удовольствия.
XVIII
Попельский мчался на новеньком полицейском «шевроле», одолженном Вильгельмом Зарембой. Пыль с запыленных дорог за Рогатином вздымалась и оседала на фарах. В их свете танцевали насекомые, пробегали собаки и горели глаза лесных зверей.
Одет был в лучший летний костюм, в котором в тот день выступал на процессе. На сиденье рядом лежал букет красных роз и папка со всеми магическими квадратами и статьями и заметками Буйко. Там же лежал толстый конверт с деньгами. Дым от сигареты заполнил салон автомобиля и быстро устремился в ночь узкими прядями.
Едучи со скоростью семьдесят километров в час, Попельский прищуривал глаза от дыма и выстукивал на руле какой-то неизвестный ему самому ритм. Это был признак неимоверной радости. Попельский чувствовал, что он любит весь мир. «Не всегда удается, — объяснял он себе собственное настроение, — в один день избежать топора палача и узнать, что ты стал отцом». Правда, радость могла в обоих случаях оказаться преждевременной. Новый адвокат Бекерского, варшавская звезда, уже подал апелляцию на полученные графом двадцать лет заключения. Неизвестно, не доищется ли он вины Попельского и не отправит его за решетку. Ведь это настоящее чудо, что Бехтольд-Сморавинский не узнал о внезапном отъезде Байдика в Америку! Но чего там! Даже если бы он о нем узнал, разве имеет значение очередное стечение обстоятельств наряду с поразительной логикой матриц? Все это глупость! Можно не переживать. Байдик давно уже в своем Техасе, а Вьонцек будет молчать. Во-первых, он дал ложные показания, во-вторых, его угрызения совести утишили доллары Байдика. Инженер позаботился и о Попельском. Отныне можно было не думать о деньгах и создать новую семью. Судьба дарит ему новую жизнь с любимой женщиной! Он полон сил, ему хватает ума и денег, и он наконец увековечит себя в потомках, которых родит ему молодая мать!
Эта мысль обеспокоила его, и Попельский вздрогнул. Он не знал, как отреагирует на его признание Рената Шперлинг. Ее чувства к нему, если вообще было, могло давно уже исчезнуть. Кроме того, во время их последней встречи, много месяцев назад, он так грубо ее унизил! «Почему я не пытался ее отыскать? Ведь я же понимал, что она вернулась к своей хозяйке, графине Бекерской, которая, разъяренная процессом, называет ее теперь «проституткой»! Примет Рената его извинения вместе с признанием? Бедная женщина, которая сама воспитывает их ребенка, может сделать это из любви, а может и из-за расчета. Но даже если она и согласится, Бог с ними, с ее мотивами, она будет обречена на постоянный позор, ежедневную враждебность, семейное проклятие, воплощенное в полных ненависти взглядах Риты и холодной, ироничной ярости Леокадии. Неужели их пренебрежение будет касаться крошечного малыша, который спит возле своей матери в какой-то конюшне? А может, оно калечное, может, больное, потому что почему графиня назвала его «червем»?
Эти грустные мысли сопровождали его при въезде в Пуков. Сбавил скорость. Над темными избами на бешеном ветру шумели перед грозой дерева. За забором раздался собачий лай. Миновал сонное село. Вдалеке шумел поток Студеный, на берегу которого Попельский когда потерпел такое надругательство. Все сомнения, которые преследовали его во время путешествия, он считал подходящим наказанием. И отнюдь не за то, что он посадил за решетку невиновного человека, нет! — тут Эдвард не испытывал ни малейших угрызений совести. Он спас себя, кроме того, считал, что двадцать лет заключения — это отнюдь не много для выродка, насильника и погромщика. Гнетущие мысли были скорее наказанием за самоуверенность и спесь, которые Попельский чувствовал во время судебного слушания. Остановил авто возле дворца в Стратине и вдруг понял, что все его четыре лекции, во время которых он с восхищением вслушивался в собственные изысканные фразы, наслаждался низким, бархатным тембром своего голоса, были действительно минутами невероятной заносчивости, проявлением проклятой
hybris, за которую теперь его наказывали боги.
Постучал в ворота дворца. Открыла заспанная, закутанная в халат служанка, которая на вопрос про Ренату Шперлинг показала Попельскому маленький хозяйственный домик, углубившийся в сад, который, видимо, служил складом для садовых инструментов. Эдвард направился туда по траве, покрытой вечерней росой. В одной руке держал папку с деньгами и материалами Буйко, во второй — букет роз.
Постучал. Затем еще раз. Дверь открылась.
На пороге стояла Рената Шперлинг в ночной сорочке. Ее волосы немного смялись от подушки, под глазами темнели круги от бессонницы. За спиной молодой женщины, в свете керосиновой лампы, Попельский увидел чисто убранную комнату, где стояла детская кроватка.
Протянул ей букет цветов. Рената пристально взглянула на Эдварда. Он сбросил шляпу и встал на колени на пороге. На его голове блестели капли пота.
— Будь мне женой, — попросил тихо.
Ветрюган дернул кроной старой липы, зашумел возле домика, хлопнул створкой открытого окна. Раздался стук от удара об ставни. Из комнаты послышался скрипучий, какой-то словно жестяной, плач младенца.
— У меня сын или дочь? — спросил Попельский.
— Я люблю тебя, — прошептала Рената, будто не услышав этот вопрос. — И вышла бы за тебя замуж, но ты сейчас откажешься от признания.
— Почему?
— Мы никогда не будем мужем и женой!
— Говори! Почему?!
— Взгляни на моего ребенка!
Попельский поднялся с колен и прошел в комнату. Положил цветы и папочку на столе. Затем наклонился над кроваткой и почувствовал ледяной пот на шее. Рената была права. Никогда им не быть мужем и женой.
На головке ребенка разлилась большая мохнатая черная родинка. Если хорошо присмотреться, можно было заметить в ней очертания итальянского сапога.
Попельский быстро выбежал из дома и направился к автомобилю. Садясь за руль, слышал, как по крыше застучали теплые, тяжелые капли ливня.
XIX
Паныч!
Ваш отец, граф Антоний Бекерский, был ко мне добр. Я служил у него с тех пор, как вернулся в родное село Козово и начал работать в слесарной мастерской. Однажды он вызвал меня отремонтировать дверь в гостиной. За хорошо выполненную работу взял меня во дворец, где я дослужился до камердинера. Старый граф обсуждал со мной все, что я успевал прочесть в библиотеке дворца, относился ко мне, как к ровне. Пересекаясь в коридоре, он первым здоровался с молокососом, крестьянским сыном! Как-то попросил меня поклясться на распятии, что я никогда Вас не покину. Он хорошо знал Ваши недостатки и склонность к насилию, которые проявились уже в детстве. Я пообещал, что всегда буду Вас защищать. Не забывал про свое обещание, когда Вы насиловали селянок, а я тайком платил их семьям возмещение, или когда сам бежал через поля от собак, которыми Вы меня травили. Не нарушил его, когда Вы пороли меня шпицрутеном и когда преследовали панну Ренату, заставляя ее целовать свои обнаженные гениталии. Я был Вам верен. Но однажды сломал обет, потому что всегда любил Ренату. Итак, нарушив святой принцип гостеприимства, с которым меня приняли во дворец, я могу теперь лишь покинуть Стратин, чтобы спасти остатки чести и не смотреть в глаза пани графини. Предпочел бы застрелиться, но мне не хватает мужества!
Прощайте, Паныч!
Попельский сложил письмо и вопросительно взглянул на воеводского коменданта, инспектора Чеслава-Паулина Грабовского. Тот задумчиво постукивал пальцами по массивному письменному столу и смотрел на застекленные дверцы книжного шкафа, заслоненные изнутри светлыми занавесками.
— Это письмо было найдено во время обыска камеры Юзефа Бекерского, — отозвался наконец комендант. — Вся Польша интересовалась его громким процессом. А вы, пан комиссар, выступили на нем в качестве главного свидетеля обвинения. Прочитав это письмо, любой поймет, что другой свидетель, Станислав Вьонцек, дал ложные показания. Какой-нибудь дотошный адвокат, который захочет огласки, может снова разворошить все это дело, и это бросит на вас подозрение… Если один свидетель солгал, то это может сделать и другой, то есть вы… Кто убедил Вьонцека свидетельствовать ложно? Может, пан Попельский? — спросит какой-нибудь щелкопер и напишет об этом в газетах! Вас обвинят! Да! Мрачное подозрение… Которое падет и на всю полицию… Что вы на это скажете, пан комиссар?
— Я опровергну все обвинения, пан комендант, и прессы, и суда, — коротко и по-военному ответил Попельский, а потом медленно добавил: — Даже повторный процесс…
— Новый процесс никому не нужен, — Грабовский бросил карандаш, и тот покатился по блестящей поверхности стола и остановился возле стойки для писем. — В частности представителю пенитенциарных служб, начальнику тюрьмы, пану Арнольду Пясецкому… Никому не нравится, когда у него вешается в камере заключенный…
— Минуточку, — Попельский потер глаза. — Я что-то не понял… Кто повесился в камере? Вьонцек? Он сам пишет, что ему не хватает мужества…
Грабовский внимательно посмотрел на Эдварда, но лицо комиссара осталось непроницаемым.
— Сегодня утром в камере повесился Бекерский. У него нашли письмо от Вьонцека, — сказав это, комендант встал и начал прохаживаться по кабинету, заложив руки за спиной. — Может, вы объясните мне это самоубийство? Может, ему кто-то помог? Тот, кого он унизил? Руками других заключенных, а?
— Никто не любит высокомерных аристократов, — буркнул Попельский.
— Молчать! — рявкнул Грабовский и забегал вокруг стола.
Через две минуты остановился и схватил письмо Вьонцека, щелкнул зажигалкой и смотрел, как бумага в пепельнице превращается в серый пепел.
— Новое расследование никому не нужно.
— Самое важное, что мы наверняка посадили виновника. И он получил заслуженную кару, — усмехнулся Попельский.
Комендант строго глянул на своего подчиненного и молча указал ему на дверь.
Эпилог
Осло 1988
Камеры двинулись. Телеведущий Сверре Осланд смотрел на своего собеседника с растущей неприязнью. Ему не хватило слов, не хватило вопросов, однако отнюдь не потому, что он считал только что увиденный фильм слишком интересным, а историю захватывающей, потому что это было совсем не так. В голове была полная пустота, Сверре не знал, чем заполнить последние секунды программы. Не ведал, о чем спросить гостя, чтобы поразить зрителей метким словцом, ошеломить учеными выводами, развлечь каламбуром или остротой. Он проклинал помощников, которые должны были ему подробно рассказать про фильм, а вместо этого подсунули избитую информацию про Польшу и поляков. Камеры гудели. Нужно было что-то говорить. Нельзя работать телеведущим, если не можешь вовремя добиться слова.
— Вам понравился фильм, пан профессор?
— Неплохой, — ответил математик и сжал губы.
— Видимо, он вас изрядно поразил, — улыбнулся Осланд. — Вы молчите, а нам всегда трудно отважиться на какие-то слова, когда мы выходим из кинотеатра после фильма, который нам особенно понравился.
— Возможно, — профессор почесал ногу.
Снова несколько секунд тишины.
Осланд взглянул на часы. Кажется, пришло время задать последний вопрос.
— Скажите, а теорию чисел Харона, — Сверре заранее радовался, предвкушая пространный ответ ученого, — удалось потом развить, или она так и осталась очередной неразгаданной гипотезой?
Профессор начал смеяться. Широко разинул рот, чтобы перевести дыхание. По щекам стекали слезы. Он хлопал себя по коленям, на которых натянулись старые вельветовые брюки. Сорвал с шеи фиолетовый платок и заходился хохотом.
— Да это же настоящий скандал! — гаркнул он вдруг. — Ты приглашаешь меня в студию по случаю получения мной королевской премии Абеля и даже не интересуешься, за что мне ее вручили! Уважаемые дамы и господа, — глянул он прямо в камеру, — я получил эту премию за исследование так называемых шумных чисел, известных как числа Харона. Теперь могу прочитать любую информацию о любом человеке, помещенную в этом потоке букв. Я могу погружаться в него, вылавливая человеческие жизни. Несколько формул и преобразований, несколько минут работы компьютера, и я знаю, когда этот человек будет страдать и когда умрет. Я властитель человеческих судеб!
Он поднялся и вытер платком лысину. Фиолетовый шелк зашелестел на черной волосатой родинке, очертания которой напомнили Осланду итальянский сапог.
— Спасибо вам, профессор Шперлинг! — прошептал он побледневшими губами.
Закончено во Вроцлаве
15 июля 2010 года в 14:53
Указатель львовских улиц и площадей
Улицы:
ул. Бальоновая — ул. Гайдамацкая
ул. Бернштайна — ул. Ш. Шолом-Алейхема
ул. Браеровская — ул. Б. Лепкого
ул. Валашская — ул. Валашская
ул. Весовая — ул. Весовая
ул. Городоцкая — ул. Городоцкая
ул. Грюнвальдская — ул. Грюнвальдская
ул. Дзялинских — ул. И. Тобилевича
ул. Задвужанская — ул. В. Антоновича
ул. Клепаровская — ул. Клепаровская
ул. Коперника — ул. М. Коперника
ул. Костюшко — ул. Т. Костюшко
ул. Крашевского — ул. С. Крушельницкой
ул. Кульпарковская — ул. Кульпарковская
ул. Легионов — просп. Свободы (нечетная сторона)
ул. Линде — ул. Ф. Листа
ул. Лонцкого — ул. К. Брюллова
ул. На Байках — ул. Киевская
ул. Персенковка — ул. Красовская (частично), ул. Курильская (частично)
ул. Пиаров — ул. М. Некрасова
ул. Пильникарская — ул. Пильникарская
ул. Потоцкого — ул. Генерала Чупринки
ул. Рутовского — ул. Театральная
ул. Садовницкая — ул. В. Антоновича
ул. Сакраменток — ул. М. Туган-Барановского
ул. Сапеги — ул. С. Бандеры
ул. Сикстуская — ул. П. Дорошенко
ул. Скарбковская — ул. Леси Украинки
ул. Скшинского — ул. Г. Витвера
ул. Собинского — ул. И. Слепого
ул. 3 Мая — ул. Сечевых Стрельцов
ул. Хорунщизни — ул. П. Чайковского, часть ул. Дж. Дудаева
ул. Церковная — ул. В. Кравченко
ул. Шайнохи — ул. Банковская
ул. Шевченко — ул. Днепровская
ул. Яблоновских — ул. Ш. Руставели
ул. Яновская — ул. Шевченко
Площади:
пл. Голуховских — пл. Торговая
пл. Старый Рынок — пл. Старый Рынок
Благодарности
В этом романе было бы гораздо больше ошибок, если бы их не исправили известные эксперты:
• в математике — доктор Петр Бородулин-Надзея из Института математики Вроцлавского университета;
• в области судебной медицины — доктор Ежи Кавецкий из Медицинской академии им. Пястов Шленских во Вроцлаве;
• в области истории польской полиции — доктор наук Роберт Литвинский из Института истории университета им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине.
В романе было бы больше фактических, логических и нарративных ошибок, если бы на них еще до печати не указали
(omissis titulis): Лешек Дунганский, Витольд Горват, Збигнев Коверчик, Госцивит Малиновский, Кшиштоф Морга, Пшемыслав Щурек и Марцин Вронский.
Моим Консультантам и первым Читателям спасибо за их усилия. Во всех вероятных ошибках виноват исключительно я сам.
Примечания
1
Через тернии к звездам (
лат.).
(обратно)
2
Дух места (
лат.).
(обратно)
3
Достоевский Ф. Братья Карамазовы: роман. Часть третья, книга одиннадцатая, глава IX.
— Примеч. перевод.
(обратно)
4
Мешти (
львов.) — ботинки.
(обратно)
5
Вар'ят (
гал.) — сумасшедший.
— Примеч. перевод. (аналогичное примечание № 36)
(обратно)
6
Рефлекторная зрительная эпилепсия (
лат.).
(обратно)
7
Умственный сифилис (
лат.).
(обратно)
8
А то кошель один! А то медведь неотесанный! Сначала хочет, а потом не может! (
жарг.)
— Примеч. перевод.
(обратно)
9
Нежелательное лицо (
лат.).
(обратно)
10
Полицейский, жандарм при несении своей службы, на вахте.
— Примеч. перевод.
(обратно)
11
Сутерина (
львов. жаргон.) — жилой подвал, полуподвал.
— Примеч. перевод.
(обратно)
12
Зреперувати (
львов.) — отремонтировать.
(обратно)
13
Под хайром! (
львов. жаргон.) — Слово чести!
(обратно)
14
Жолудок (
львов.) — желудок.
(обратно)
15
Кобета (
львов.) — женщина.
(обратно)
16
Бельбас (
львов. жаргон.) — толстяк.
(обратно)
17
Спухляк (
львов. жаргон.) — толстяк.
(обратно)
18
Гебес (
львов. жаргон.) — дурак, болван.
(обратно)
19
Гебрайська мова (
укр.) — еврейская речь, иврит (
здесь и далее в контексте).
— Примеч. перевод.
(обратно)
20
О потенциальной функции двух гомогеничных эллипсоид (
лат.).
(обратно)
21
Попытка квазиматематического анализа повествовательной поэзии Плавта (
нем.).
(обратно)
22
Внештатный преподаватель.
(обратно)
23
Синереза (
греч. συναίρεσις — соединение, сжатие) — в античной метрике слияние двух кратких слогов в один долгий.
— Примеч. перевод.
(обратно)
24
Элиот T. С. Бесплодная земля (пер. А. Сергеева).
(обратно)
25
Волей-неволей (
лат.).
(обратно)
26
Четко (
лат.).
(обратно)
27
Доктор философских наук (
лат.).
(обратно)
28
Алфавитный перечень слов или понятий с указанием их смысла и контекста.
— Примеч. перевод.
(обратно)
29
Словосочетание, имеющее признаки синтаксически и семантически целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого (например,
ставить условия — выбор глагола
ставить определяется традицией и зависит от существительного
условия, при слове
предложение будет другой глагол —
вносить).
— Примеч. перевод.
(обратно)
30
Мидраш (
евр. מִדְרָשִׁים) — сборник, посвящённый толкованию текстов Священного Писания. Классические мидраши, созданные в эпоху Мишны и Талму, в которых упоминаются те же, что и в этих коллекциях, мудрецы или их современники. Большое количество мидрашей было заключено и в средние века. Жанр комментариев Мидраши отличается специфической конструкцией текста, которая сочетает в себе интерпретацию упражнений, морально-этических учений и агадических историй.
— Примеч. перевод.
(обратно)
31
Номинальный состав (
лат.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
32
Даже Геракл не одолеет многих (
лат.).
(обратно)
33
Пешком (
лат.).
(обратно)
34
Против большинства (
лат.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
35
Фирменное блюдо (
фр.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
36
Вар'ят (
гал.) — сумасшедший.
(обратно)
37
Гранд (
львов. жаргон.) — много.
(обратно)
38
Киндер (
львов. жаргон.) — вор в законе.
(обратно)
39
Наоборот (
фр.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
40
Лембрик (
львов. жаргон.) — Львов.
(обратно)
41
Лепетина (
львов. жаргон.) — голова.
(обратно)
42
Фурдигарня (
львов. жаргон.) — тюрьма.
(обратно)
43
Путня (
львов.) — ведро.
(обратно)
44
К делу (
лат.).
(обратно)
45
В надежде (
лат.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
46
Дупцинґер (
львов. жаргон.) — любовник.
(обратно)
47
Дзюня (
львов. жаргон.) — проститутка.
(обратно)
48
Фрунь (
львов. жаргон.) — спесивец, задавака.
(обратно)
49
Секс втроем (
франц.).
(обратно)
50
Секс вдвоем (
франц.).
(обратно)
51
Биня (
львов. жаргон.) — девушка.
(обратно)
52
Ганц (
львов. жаргон.) — совсем.
(обратно)
53
Цванциґер (
львов. жаргон.) — двадцать грошей.
(обратно)
54
Спеши медленно! (
лат.)
(обратно)
55
Срочно (
лат.).
(обратно)
56
Первой ночи (
лат.).
(обратно)
57
Меткое словцо (
франц.).
(обратно)
58
Великого Господа (
лат.).
(обратно)
59
Магический квадрат (
лат.).
(обратно)
60
Твой слуга, господин Эдуард (
лат.).
(обратно)
61
Одеяло, покрывало? Далее обыгрывается, см. по тексту.
— Примеч. перевод.
(обратно)
62
Принятое в еврейской традиции толкование скрытого смысла слова из Священного Писания через числовое значение составляющих его букв.
— Примеч. перевод.
(обратно)
63
На высшем уровне (
львов.).
(обратно)
64
«О браках с иностранцами» (
лат.).
(обратно)
65
Как следует, как надо (
франц.).
(обратно)
66
Девичья фамилия (
лат.).
(обратно)
67
Збештати (
львов.) — обругать.
(обратно)
68
Збайдурити (
львов.) — обмануть.
(обратно)
69
Рыхтиг (
львов. жаргон.) — наверняка, в аккурат.
(обратно)
70
Голодные кусочки (
львов.) — ложь.
(обратно)
71
Мехідрис (
львов. жаргон.) — еврей.
(обратно)
72
Прилюдно (
лат.).
(обратно)
73
Право первой ночи (
лат.).
— Примеч. перевод.
(обратно)
74
Имясла́вие (имябо́жничество, имябо́жие, также называемое ономатодоксия) — религиозное догматическое и мистическое движение, получившее распространение в начале XX века среди православных русских монахов на святой горе Афон. Главным богословским положением сторонников имяславия являлось учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах». В этом смысле сторонники имяславия употребляли фразу: «Имя Бога есть Сам Бог» («но Бог не есть имя»), которая и стала наиболее известным кратким выражением имяславия. Признанным лидером движения был иеросхимонах Антоний (Булатович). В 1913 году учение имяславцев было осуждено как еретическое Святейшим правительствующим синодом, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за споров вокруг этого учения, была подавлена с использованием российской вооружённой силы.
— Примеч. перевод.
(обратно)
75
Накиряный лахабунда (
львов. жаргон.) — пьяный бродяга.
(обратно)
76
Герои драмы (
лат.).
(обратно)
77
Молниеносный гнилостный процесс (
лат.).
(обратно)
78
Меценас (
гал.) — адвокат.
(обратно)
79
Тот сделал, кому это выгодно (
лат.).
(обратно)
80
Не ради грязной выгоды, а ради распространения справедливости (
лат.).
(обратно)
81
Лингвистическим и математическим способом (
лат.).
(обратно)
82
Что и требовалось доказать (
лат.).
(обратно)
Оглавление
Пролог
Число ведьмы
І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Число блудницы
І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Число мудреца
І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Эпилог
Указатель львовских улиц и площадей
Благодарности
*** Примечания ***


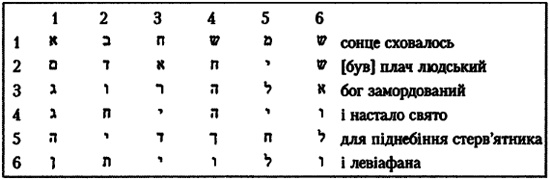 Подошел к окну, слегка приподнял штору и открыл форточку, в которую сразу начал выходить застоявшийся в комнате дым. Через мгновение в голове у него прояснилось. «Квадраты, которые складываются из букв, — думал он, — это не что иное, как магические квадраты». Сразу припомнил себе самый известный из них: латинский магический квадрат, буквы которого, если прочесть их горизонтально и вертикально, образовывали одинаковые слова, из которых состояло бессмысленное предложение «Сеятель Арепо с трудом держит колеса».
Подошел к окну, слегка приподнял штору и открыл форточку, в которую сразу начал выходить застоявшийся в комнате дым. Через мгновение в голове у него прояснилось. «Квадраты, которые складываются из букв, — думал он, — это не что иное, как магические квадраты». Сразу припомнил себе самый известный из них: латинский магический квадрат, буквы которого, если прочесть их горизонтально и вертикально, образовывали одинаковые слова, из которых состояло бессмысленное предложение «Сеятель Арепо с трудом держит колеса».
 Он уже начал выписывать буквы из обоих еврейских квадратов и располагать их вертикально, когда в комнату вошла Леокадия.
— Уже пять, Эдвард, — улыбнулась она, — а ты все решаешь шарады. Ты говорил, что должен пойти в университет за какой-то книгой, а потом у тебя важная встреча… Не думаю, что комендант Грабовский поверит в оправдание: «Я опоздал, пан инспектор, потому что меня захватила некая головоломка».
Леокадия ошибалась. Начальника львовской полиции охватило ныне черное отчаяние, и Грабовский готов был пойти на огромные уступки и поверить в самые невероятные оправдания, если бы благодаря этому дело убийств Любы Байдиковой и Лии Кох сдвинулось с места.
Он уже начал выписывать буквы из обоих еврейских квадратов и располагать их вертикально, когда в комнату вошла Леокадия.
— Уже пять, Эдвард, — улыбнулась она, — а ты все решаешь шарады. Ты говорил, что должен пойти в университет за какой-то книгой, а потом у тебя важная встреча… Не думаю, что комендант Грабовский поверит в оправдание: «Я опоздал, пан инспектор, потому что меня захватила некая головоломка».
Леокадия ошибалась. Начальника львовской полиции охватило ныне черное отчаяние, и Грабовский готов был пойти на огромные уступки и поверить в самые невероятные оправдания, если бы благодаря этому дело убийств Любы Байдиковой и Лии Кох сдвинулось с места.
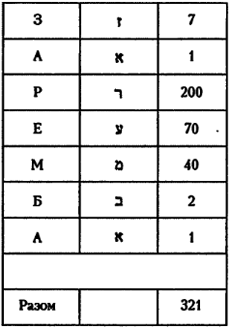 — Гематрия[62] фамилии «Заремба» составляет 321, если добавить 7 + 1 + 200 + 70 + 40 + 2 + 1. До свидания…
— Сейчас, сейчас, подожди-ка, — Попельский задумался. — Гематрия — это, насколько я помню, числовое значение слов, так? Еврейские буквы какой-либо фамилии имеют числовое значение, поэтому, если их обозначить числами и добавить одно к другому… Сможешь быстро сосчитать? Я тебе назову слово, а ты мне посчитаешь его гематрию! За работу!
— Я могу это сделать, но давайте, в другой раз… — Яффо нервно посмотрел на часы.
Попельский долго молча смотрел на своего собеседника. Вытер ладонью вспотевший лоб, и ему сделалось обидно, что сейчас придется унизить этого парня. Но выхода не было. Уловив след, Попельский уже не интересовался окружающим миром, блекли симпатии и антипатии, исчезали хорошие манеры и привычки. Оставалось следствие — грубое, конкретное и неумолимое.
— Послушай меня, шмайгелес, гомик пейсатый, — Попельский перевел дыхание. — Выслушай меня внимательно. Ты уйдешь тогда, когда я тебе позволю, понял? Разве что хочешь, чтобы я пошел к твоим и рассказал им, что Ицхак Яффо — содомит…
В глазах юноши блеснули слезы.
— Тогда садись мне тут и считай, быстро! Сперва имя «Люба Байдик», а потом «Лия Кох». Какова их гематрия?
— В зависимости от того, как записать эти имена: на идиш или библейским еврейским, — Яффо немного успокоился и сел на кровати рядом с Попельским.
— Библейским еврейским.
— Да, но есть еще одна проблема. В конце имени Люба или Лия может быть «е», которое не произносится… А оно тоже может иметь свое значение… Не знаю, как вам это объяснить… Кроме того, некоторые гласные передаются как «вав» или «йод»…
— Мне известно, что такое немое «е», — Попельский приветливо улыбнулся. — Сделай по-другому, чем в случае с фамилией Заремба, то есть пиши еврейским, а не на идиш. И не бери во внимание немое «е» и любые гласные! Преступник пользуется исключительно согласными, и ты тоже так сделай! — приказал он, словно не заметив удивления парня, когда тот услышал слово «преступник». — Ну, парень, считай, и я отпущу тебя в синагогу!
Еврей посчитал и показал результат Попельскому.
— Гематрия[62] фамилии «Заремба» составляет 321, если добавить 7 + 1 + 200 + 70 + 40 + 2 + 1. До свидания…
— Сейчас, сейчас, подожди-ка, — Попельский задумался. — Гематрия — это, насколько я помню, числовое значение слов, так? Еврейские буквы какой-либо фамилии имеют числовое значение, поэтому, если их обозначить числами и добавить одно к другому… Сможешь быстро сосчитать? Я тебе назову слово, а ты мне посчитаешь его гематрию! За работу!
— Я могу это сделать, но давайте, в другой раз… — Яффо нервно посмотрел на часы.
Попельский долго молча смотрел на своего собеседника. Вытер ладонью вспотевший лоб, и ему сделалось обидно, что сейчас придется унизить этого парня. Но выхода не было. Уловив след, Попельский уже не интересовался окружающим миром, блекли симпатии и антипатии, исчезали хорошие манеры и привычки. Оставалось следствие — грубое, конкретное и неумолимое.
— Послушай меня, шмайгелес, гомик пейсатый, — Попельский перевел дыхание. — Выслушай меня внимательно. Ты уйдешь тогда, когда я тебе позволю, понял? Разве что хочешь, чтобы я пошел к твоим и рассказал им, что Ицхак Яффо — содомит…
В глазах юноши блеснули слезы.
— Тогда садись мне тут и считай, быстро! Сперва имя «Люба Байдик», а потом «Лия Кох». Какова их гематрия?
— В зависимости от того, как записать эти имена: на идиш или библейским еврейским, — Яффо немного успокоился и сел на кровати рядом с Попельским.
— Библейским еврейским.
— Да, но есть еще одна проблема. В конце имени Люба или Лия может быть «е», которое не произносится… А оно тоже может иметь свое значение… Не знаю, как вам это объяснить… Кроме того, некоторые гласные передаются как «вав» или «йод»…
— Мне известно, что такое немое «е», — Попельский приветливо улыбнулся. — Сделай по-другому, чем в случае с фамилией Заремба, то есть пиши еврейским, а не на идиш. И не бери во внимание немое «е» и любые гласные! Преступник пользуется исключительно согласными, и ты тоже так сделай! — приказал он, словно не заметив удивления парня, когда тот услышал слово «преступник». — Ну, парень, считай, и я отпущу тебя в синагогу!
Еврей посчитал и показал результат Попельскому.
 — В обоих случаях гематрия составляет 68, — проговорил он наконец. — Пожалуйста, отпустите меня!
— Иди уже! — проворчал Попельский. — Спасибо…
Парень медленно подошел к двери, а потом обернулся к Попельскому.
— Вы мне угрожали, — медленно проговорил он, — а я прикрыл вас коцем, чтобы вы не замерзли.
Попельский протянул ему руку на прощание и оперся на стену. Не услышал его жалобы, не заметил даже, что юноша положил ключи на пол и быстро вышел из комнаты, не пожав протянутой руки. Эдвард думал сейчас не о нем и даже не о Ренате Шперлинг, которая отправилась куда-то почти пять часов назад и до сих пор не вернулась. Перед глазами плясали еврейские буквы, магические квадраты и математические матрицы. Взял ручку, восстановил по памяти надписи Гебраиста, расписал их соответствующим образом, а затем начал выполнять различные арифметические действия. Потом вышел в прихожую, взял оттуда телефонный справочник и долго его листал. Через два часа торопливо оделся и вышел. Через четыре часа вернулся домой. Едва поздоровавшись с Леокадией и Ритой, схватил трубку. Позвонил в квартиру Шанявского. Там никого не было. Тогда набрал номер, записанный Ицхаком Яффо.
В трубке услышал голос Зарембы и поздоровался с коллегой.
— Мы разыскивали математика по всей улице, — сообщил Вилек. — Нашли учителей математики и физики. У обоих — неоспоримое алиби. Пшик. Убийцы не найдено.
— Но у нас есть его следующая жертва, — молвил Попельский. — Вероятная жертва.
— В обоих случаях гематрия составляет 68, — проговорил он наконец. — Пожалуйста, отпустите меня!
— Иди уже! — проворчал Попельский. — Спасибо…
Парень медленно подошел к двери, а потом обернулся к Попельскому.
— Вы мне угрожали, — медленно проговорил он, — а я прикрыл вас коцем, чтобы вы не замерзли.
Попельский протянул ему руку на прощание и оперся на стену. Не услышал его жалобы, не заметил даже, что юноша положил ключи на пол и быстро вышел из комнаты, не пожав протянутой руки. Эдвард думал сейчас не о нем и даже не о Ренате Шперлинг, которая отправилась куда-то почти пять часов назад и до сих пор не вернулась. Перед глазами плясали еврейские буквы, магические квадраты и математические матрицы. Взял ручку, восстановил по памяти надписи Гебраиста, расписал их соответствующим образом, а затем начал выполнять различные арифметические действия. Потом вышел в прихожую, взял оттуда телефонный справочник и долго его листал. Через два часа торопливо оделся и вышел. Через четыре часа вернулся домой. Едва поздоровавшись с Леокадией и Ритой, схватил трубку. Позвонил в квартиру Шанявского. Там никого не было. Тогда набрал номер, записанный Ицхаком Яффо.
В трубке услышал голос Зарембы и поздоровался с коллегой.
— Мы разыскивали математика по всей улице, — сообщил Вилек. — Нашли учителей математики и физики. У обоих — неоспоримое алиби. Пшик. Убийцы не найдено.
— Но у нас есть его следующая жертва, — молвил Попельский. — Вероятная жертва.

 А теперь вернемся на мгновение от еврейского языка к обычной математике. В ней существует понятие матриц. Это прямоугольники, которые состоят из чисел. Посмотрим, — указка направилась к следующим квадратам, заполненным числами, — это простая матрица, состоящая из трех строк и трех столбцов.
А теперь вернемся на мгновение от еврейского языка к обычной математике. В ней существует понятие матриц. Это прямоугольники, которые состоят из чисел. Посмотрим, — указка направилась к следующим квадратам, заполненным числами, — это простая матрица, состоящая из трех строк и трех столбцов.
 Если бы мы хотели точно обозначить место отдельных чисел в этой матрице, то как это сделать? Проще всего сказать, что число 35 расположено в первой строке и втором столбце, число 78 — во второй строке и первом столбце, а число 2 — в третьей строке и третьем столбце. Поэтому, указывая строку и столбец, именно в этой последовательности, сначала строку, а затем столбец, мы можем установить место каждого числа в матрице, то есть подать его координаты. Это можно сделать еще быстрее, если обозначить числами строки и столбцы матрицы.
Если бы мы хотели точно обозначить место отдельных чисел в этой матрице, то как это сделать? Проще всего сказать, что число 35 расположено в первой строке и втором столбце, число 78 — во второй строке и первом столбце, а число 2 — в третьей строке и третьем столбце. Поэтому, указывая строку и столбец, именно в этой последовательности, сначала строку, а затем столбец, мы можем установить место каждого числа в матрице, то есть подать его координаты. Это можно сделать еще быстрее, если обозначить числами строки и столбцы матрицы.
 И тогда, подавая сначала номер строки, а затем столбика, мы получаем координаты: числа 35 — (1,2), числа 78 — (2,1), числа 13 — (3, 2), числа 27 — (1, 3) и так далее.
Он глянул на присутствующих. Жужжание жирной мухи, которая ударялась о стекло внутри абажура лампы, эхом разносилось в комнате. В пепельнице догорали две сигареты, что прекрасно свидетельствовало о слушателях, которые, сосредоточившись на словах Попельского, забыли даже про свою страсть.
— А теперь зададим себе важный вопрос, — Попельский с удовольствием прислушивался к собственным словам. — Зачем я рассказываю вам о матрице? Что общего имеют еврейские буквы с числами? Ответ будет очень простой: каждая еврейская буква является эквивалентом какого числа. Например, буква алеф — это число 1, ламед — 30, реш означает 200 и так далее. Посмотрим на таблицу, которая продемонстрирует нам значение каждой еврейской буквы:
И тогда, подавая сначала номер строки, а затем столбика, мы получаем координаты: числа 35 — (1,2), числа 78 — (2,1), числа 13 — (3, 2), числа 27 — (1, 3) и так далее.
Он глянул на присутствующих. Жужжание жирной мухи, которая ударялась о стекло внутри абажура лампы, эхом разносилось в комнате. В пепельнице догорали две сигареты, что прекрасно свидетельствовало о слушателях, которые, сосредоточившись на словах Попельского, забыли даже про свою страсть.
— А теперь зададим себе важный вопрос, — Попельский с удовольствием прислушивался к собственным словам. — Зачем я рассказываю вам о матрице? Что общего имеют еврейские буквы с числами? Ответ будет очень простой: каждая еврейская буква является эквивалентом какого числа. Например, буква алеф — это число 1, ламед — 30, реш означает 200 и так далее. Посмотрим на таблицу, которая продемонстрирует нам значение каждой еврейской буквы:
 — А теперь подставим, — продолжал Эдвард, постукивая указкой по доске, — в записках убийцы, превращенных в матрицы, числа вместо букв: 1 вместо алеф, 2 вместо бет и так до конца. Таким образом получим
— А теперь подставим, — продолжал Эдвард, постукивая указкой по доске, — в записках убийцы, превращенных в матрицы, числа вместо букв: 1 вместо алеф, 2 вместо бет и так до конца. Таким образом получим
 в случае Люби Байдик, и
в случае Люби Байдик, и
 в случае Лии Кох.
— Когда сегодня под воздействием определенного импульса, — тут Попельский подумал об еврейского любовника Юлиуша Шанявского, — я расписал их и взглянул на результат, то сразу заметил, что некоторые числа в этих матрицах имеют особое значение. Числа с особым значением я выделил в записях цветом. В чем заключается их особенность? В том, что каждое из них равно произведению своих координат, — он внимательно посмотрел на сосредоточенных полицейских, справедливо подозревая, что они не помнят со школы значение этого термина. — Произведение, как вам известно, это результат умножения. Итак, сначала проанализируем матрицу Люби Байдик. Пойдем постепенно, демонстрируя все отмеченные числа матрицы Байдик в виде произведений координат:
в случае Лии Кох.
— Когда сегодня под воздействием определенного импульса, — тут Попельский подумал об еврейского любовника Юлиуша Шанявского, — я расписал их и взглянул на результат, то сразу заметил, что некоторые числа в этих матрицах имеют особое значение. Числа с особым значением я выделил в записях цветом. В чем заключается их особенность? В том, что каждое из них равно произведению своих координат, — он внимательно посмотрел на сосредоточенных полицейских, справедливо подозревая, что они не помнят со школы значение этого термина. — Произведение, как вам известно, это результат умножения. Итак, сначала проанализируем матрицу Люби Байдик. Пойдем постепенно, демонстрируя все отмеченные числа матрицы Байдик в виде произведений координат:
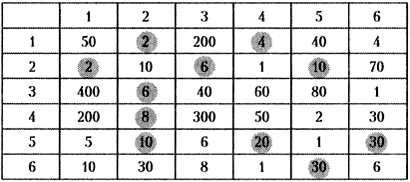 • 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (1, 4), а 1 х 4 = 4,
• 2 имеет координаты (2, 1), а 2 х 1 = 2,
• 6 имеет координаты (2, 3), а 2 х 3 = 6,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (6, 5), 6 х 5 = 30.
Подчеркиваю: координаты всех обозначенных чисел, помноженные друг на друга, дадут нам обозначенное число! То же самое видим и в случае матрицы Лии Кох. Взгляните:
• 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (1, 4), а 1 х 4 = 4,
• 2 имеет координаты (2, 1), а 2 х 1 = 2,
• 6 имеет координаты (2, 3), а 2 х 3 = 6,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (6, 5), 6 х 5 = 30.
Подчеркиваю: координаты всех обозначенных чисел, помноженные друг на друга, дадут нам обозначенное число! То же самое видим и в случае матрицы Лии Кох. Взгляните:
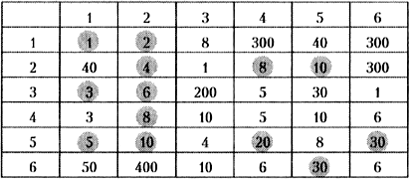 • 1 имеет координаты (1, 1), а 1 х 1 = 1,
• 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (2, 2), а 2 х 2 = 4,
• 8 имеет координаты (2, 4), а 2 х 4 = 8,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 3 имеет координаты (3, 1), а 3 х 1 = С,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 5 имеет координаты (5, 1), а 5 х 1 = 5,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (b, 5), 6 х 5 = 30.
Я предположил, что убийца-математик (а то, что он математик, известно от Николая Байдика, сына убитой гадалки) что-то зашифровал в этих особых числах. Я их выписал и получил в случае Люби Байдик одиннадцать чисел: 2, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 30, четыре из которых (2, 6, 10, 30) повторяются, а в случае Лии Кох число тринадцать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 30, 30, и три из них (8, 10, 30) повторяются. Это какое-то закодированное сообщение. Я добавлял эти числа, отнимал и даже интегрировал. И что? Ничего. Тогда я подумал, что лучше попросить какого шифровальщика проанализировать их. Но сначала я выполнил обратное действие и все эти числа в матрицах снова заменил еврейскими буквами, и тогда посмотрел, какие буквы являются особыми. В случае Люби Байдик я получил:
• 1 имеет координаты (1, 1), а 1 х 1 = 1,
• 2 имеет координаты (1, 2), а 1 х 2 = 2,
• 4 имеет координаты (2, 2), а 2 х 2 = 4,
• 8 имеет координаты (2, 4), а 2 х 4 = 8,
• 10 имеет координаты (2, 5), а 2 х 5 = 10,
• 3 имеет координаты (3, 1), а 3 х 1 = С,
• 6 имеет координаты (3, 2), а 3 х 2 = 6,
• 8 имеет координаты (4, 2), а 4 х 2 = 8,
• 5 имеет координаты (5, 1), а 5 х 1 = 5,
• 10 имеет координаты (5, 2), а 5 х 2 = 10,
• 20 имеет координаты (5, 4), 5 х 4 = 20,
• 30 имеет координаты (5, 6), а 5 х 6 = 30,
• 30 имеет координаты (b, 5), 6 х 5 = 30.
Я предположил, что убийца-математик (а то, что он математик, известно от Николая Байдика, сына убитой гадалки) что-то зашифровал в этих особых числах. Я их выписал и получил в случае Люби Байдик одиннадцать чисел: 2, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 30, четыре из которых (2, 6, 10, 30) повторяются, а в случае Лии Кох число тринадцать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 10, 20, 30, 30, и три из них (8, 10, 30) повторяются. Это какое-то закодированное сообщение. Я добавлял эти числа, отнимал и даже интегрировал. И что? Ничего. Тогда я подумал, что лучше попросить какого шифровальщика проанализировать их. Но сначала я выполнил обратное действие и все эти числа в матрицах снова заменил еврейскими буквами, и тогда посмотрел, какие буквы являются особыми. В случае Люби Байдик я получил:
 а в случае Лии Кох:
а в случае Лии Кох:
 Или эти буквы что-то означают? Как их расставить, чтобы это имело смысл? — Попельский вытер пот со лба, ибо заметил, что его слушатели начинают немного терять терпение. — Представьте себе, господа, набор букв «епежуеси». Сколько пришлось бы думать знатоку польского языка, чтобы составить из них предложение «У Ежи е[сть] пес». А я знаю еврейский неплохо, но гораздо хуже, чем греческий, а про латынь, немецкий или родной польский я вообще молчу. Единственное, что умею, — это перевести библейский текст со словарем и грамматикой! Итак, я не смог бы справиться с содержательным расположением обозначенных букв. Это настоящий ребус для знатока еврейского! Где такого взять? Мне сразу пришло на ум одно имя… Имя человека, с которым я сыграл не одну шахматную партию в клубе «Фойе», и с кем не раз и не два дискутировал на лингвистические темы. Выдающийся шахматист и шарадист… Вы поняли, кого я имею в виду?
— Да, — буркнул Герман Кацнельсон. — Старый, мудрый еврей…
— Именно так, господа, — Попельский повторял эти слова, словно в трансе, — раввин Пинхас Шацкер не только знаток еврейского, он мастерски решает головоломки. Я не ошибся… Мой давний шахматный соперник в течение часа составил из этих одиннадцати букв [בבװײללדחכ] из матрицы Люби Байдик такие слова:
Или эти буквы что-то означают? Как их расставить, чтобы это имело смысл? — Попельский вытер пот со лба, ибо заметил, что его слушатели начинают немного терять терпение. — Представьте себе, господа, набор букв «епежуеси». Сколько пришлось бы думать знатоку польского языка, чтобы составить из них предложение «У Ежи е[сть] пес». А я знаю еврейский неплохо, но гораздо хуже, чем греческий, а про латынь, немецкий или родной польский я вообще молчу. Единственное, что умею, — это перевести библейский текст со словарем и грамматикой! Итак, я не смог бы справиться с содержательным расположением обозначенных букв. Это настоящий ребус для знатока еврейского! Где такого взять? Мне сразу пришло на ум одно имя… Имя человека, с которым я сыграл не одну шахматную партию в клубе «Фойе», и с кем не раз и не два дискутировал на лингвистические темы. Выдающийся шахматист и шарадист… Вы поняли, кого я имею в виду?
— Да, — буркнул Герман Кацнельсон. — Старый, мудрый еврей…
— Именно так, господа, — Попельский повторял эти слова, словно в трансе, — раввин Пинхас Шацкер не только знаток еврейского, он мастерски решает головоломки. Я не ошибся… Мой давний шахматный соперник в течение часа составил из этих одиннадцати букв [בבװײללדחכ] из матрицы Люби Байдик такие слова:


 Кроме того, вы утверждаете, что убийца выбирает свои жертвы, руководствуясь этим числом в их фамилиях и неким изъяном характера, например: неряшливостью, болезнью и так далее. Если соглашаться с вашей экспертизой, pardon, скорее экспертизой раввина Шацкера…
— Простите, пан начальник, — вмешался Кацнельсон, — матрицы и координаты значащих букв открыл комиссар Попельский, а не раввин…
— О да, действительно, прошу прощения, — начальник склонился перед Попельским в шутовском поклоне, а потом гневно посмотрел на молодого аспиранта. — Напоминаю вам, что пан эксперт уже было лишен полицейского звания!
Наступила тишина. Муха вылетела в открытое окно. Безобидные взгляды лебедей, которые окружали Иисуса на олеографии, показались Попельскому издевательскими. Грабский сплел ладони на большом животе и делал мельницы большими пальцами. Заремба прищурил глаза, Кацнельсон жадно затянулся сигаретой и кружил вокруг доски, внимательно присматриваясь к магическим квадратам, а Коцовский записывал что-то в тетради.
— Посмотрите, дорогой пан эксперт, — начальник пододвинул Попельскому под нос какую-то запись. — Видите? Я выписал тут наши фамилии, и оказывается, что одна из них состоит из семи букв — Заремба, одна из девяти — Грабский, две из десяти — Коцовский и Кацнельсон и одна дольше одиннадцати — Попельский.
Представим, например, что двоих из нас, к примеру, меня и аспиранта Кацнельсона, замучает один и тот же убийца! И тогда какой-то умник, блестящий эксперт, сделает вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв. Прекрасно! — он хлопнул в ладоши. — Разыщите всех львовян с фамилиями из десяти букв! Бросьте, уважаемые полицейские, все ваши дела, садитесь в архивах и записывайте эти фамилии, а когда выпишете их тысячи, то просите коллег из других воеводств, чтобы они вам помогли, а потом совместными усилиями защищайте эту толпу, или же, как советует наш уважаемый эксперт, выставьте их всех как приманку! Этого вы требуете, а, умник? Чтобы полиция была аморальной и рисковала жизнью невинных людей! Э, нет!
— Не такой это уж и Сизифов труд, — Попельский не мог избавиться от снисходительного тона. — Во-первых, таких людей немного. Гематрия большинства имен и фамилий превышает 100, и уж тем более 68, это я сейчас проверил по телефонному справочнику! Обратите внимание, что имена и фамилии обеих убитых женщин короткие и содержат общие буквы! Во-вторых, я мог бы с вами согласиться, если бы, например, в фамилиях Коцовский и Кацнельсон было что-то закодированное, какая-то важная информация, которая касалась бы пана начальника и пана аспиранта…
— А разве это не так? — Коцовский ликовал. — Подчеркиваю — случайно! Моя фамилия содержит слово «коц», а фамилия вашего бывшего коллеги — «сон». А потом окажется, что кто-то из моих предков, к примеру, делал коци, а любимое занятие пана Кацнельсона — как раз спать! Вот вам и готов вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв, которые делают коци или любят долго спать! Пан, пан, — Коцовский насмешливо улыбнулся, — ваши экспертизы не стоят и гроша!
Все, кроме Попельского, понурились.
— Матрицы тоже ничего не стоят? — спросил вдруг Кацнельсон.
— Ну, матрицы, может, и нет, — буркнул слегка смущенный начальник. — Но эта гематрия — это уже слишком! Скажите-ка лучше, что мы и до сих пор не знаем, как искать следующую жертву Гебраиста!
— А что бы вы сказали, пан начальник, — отозвался Попельский, — если бы в фамилиях Коцовский и Кацнельсон была закодирована какая-то настоящая информация? Та, что соответствует действительности!
— Например что? — разразился смехом Коцовский. — Например то, что пан Кацнельсон — поляк иудейского вероисповедания?
— Простите! — не удержался Кацнельсон. — Я евангелистско-реформаторской веры!
— Именно так, дорогой пан начальник, — спокойно продолжал Попельский. — Если бы выяснилось, что согласные в фамилии Кацнельсон образуют слово «протестант» на языке кечуа. Что тогда? Вы так же весело смеялись или, может, пришли бы к выводу, что в этом есть что-то стоящее? Ну же, скажите мне! — последнее предложение он произнес уже приподнятым голосом.
Коцовский прикусил губу и глубоко задумался. Все подчиненные смотрели ему прямо в глаза.
— Мне пришлось бы признать, что это чудо, — медленно проговорил тот, — но я отнюдь не уверен, принял бы я таких серьезных средств, чтобы объяснить этот случай… Кроме того, — оживился он, — между случайной, вероятно, гематрией 68 в фамилиях жертв и вашим причудливым примером есть существенная разница!
Наступила тишина. Попельский несколько раз крутанул на пальце кольцо. Этот жест Зарембе показался магическим, потому что Вильгельм не знал, что перстень в мыслях друга превратился в кастет, которым он сейчас отправит Коцовского в нокаут.
— Гематрия 68 неслучайна, — Эдвард подошел к доске и взял мел. — Господа, первую жертву, перефразируя библейский язык, можно назвать пророчицей, вторую — блудницей. — Попельский записал на доске оба слова. — Это были их профессии. Гадалка и проститутка. На еврейском, соответственно, нбй'х и звнх. — Он дописал около польских слов их соответствия נביאה и זונה. — Если мы посчитаем значение этих еврейских букв, догадываетесь, пан начальник, сколько получится?
— 68? — тихо спросил Коцовский.
— Именно так, гематрии обоих слов составляют 68, — Попельский отряхнул ладони от мела. — Итак, преступник убил двух женщин, чьи имена и профессии имеют гематрию 68. Почему? Этого я не ведаю. Но знаю одно: я должен идти в бюро регистрации населения и пересмотреть фамилии всех жителей нашего города. Сразу же отброшу среди них те, чья гематрия больше, чем 100. А их огромное количество… А потом сочту значение всех согласных в тех фамилиях, которые останутся. Если у меня получится 68, я проверю профессию этого человека и тогда позвоню к раввину Шацкеру. Спрошу у него, как это слово перевести на еврейский. Если сочту буквы в еврейском аналоге профессии и получу гематрию 68, — он грохнул кулаком о доску, — буду иметь новую жертву! У вас будут еще какие-то замечания, начальник?
— Не замечание, а распоряжение, — надменный тон Коцовского контрастировал с его неуверенным взглядом. — Идите завтра в мой секретариат. С самого утра! Панна Зося выпишет вам полномочия в Бюро регистраций населения! К работе!
Кроме того, вы утверждаете, что убийца выбирает свои жертвы, руководствуясь этим числом в их фамилиях и неким изъяном характера, например: неряшливостью, болезнью и так далее. Если соглашаться с вашей экспертизой, pardon, скорее экспертизой раввина Шацкера…
— Простите, пан начальник, — вмешался Кацнельсон, — матрицы и координаты значащих букв открыл комиссар Попельский, а не раввин…
— О да, действительно, прошу прощения, — начальник склонился перед Попельским в шутовском поклоне, а потом гневно посмотрел на молодого аспиранта. — Напоминаю вам, что пан эксперт уже было лишен полицейского звания!
Наступила тишина. Муха вылетела в открытое окно. Безобидные взгляды лебедей, которые окружали Иисуса на олеографии, показались Попельскому издевательскими. Грабский сплел ладони на большом животе и делал мельницы большими пальцами. Заремба прищурил глаза, Кацнельсон жадно затянулся сигаретой и кружил вокруг доски, внимательно присматриваясь к магическим квадратам, а Коцовский записывал что-то в тетради.
— Посмотрите, дорогой пан эксперт, — начальник пододвинул Попельскому под нос какую-то запись. — Видите? Я выписал тут наши фамилии, и оказывается, что одна из них состоит из семи букв — Заремба, одна из девяти — Грабский, две из десяти — Коцовский и Кацнельсон и одна дольше одиннадцати — Попельский.
Представим, например, что двоих из нас, к примеру, меня и аспиранта Кацнельсона, замучает один и тот же убийца! И тогда какой-то умник, блестящий эксперт, сделает вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв. Прекрасно! — он хлопнул в ладоши. — Разыщите всех львовян с фамилиями из десяти букв! Бросьте, уважаемые полицейские, все ваши дела, садитесь в архивах и записывайте эти фамилии, а когда выпишете их тысячи, то просите коллег из других воеводств, чтобы они вам помогли, а потом совместными усилиями защищайте эту толпу, или же, как советует наш уважаемый эксперт, выставьте их всех как приманку! Этого вы требуете, а, умник? Чтобы полиция была аморальной и рисковала жизнью невинных людей! Э, нет!
— Не такой это уж и Сизифов труд, — Попельский не мог избавиться от снисходительного тона. — Во-первых, таких людей немного. Гематрия большинства имен и фамилий превышает 100, и уж тем более 68, это я сейчас проверил по телефонному справочнику! Обратите внимание, что имена и фамилии обеих убитых женщин короткие и содержат общие буквы! Во-вторых, я мог бы с вами согласиться, если бы, например, в фамилиях Коцовский и Кацнельсон было что-то закодированное, какая-то важная информация, которая касалась бы пана начальника и пана аспиранта…
— А разве это не так? — Коцовский ликовал. — Подчеркиваю — случайно! Моя фамилия содержит слово «коц», а фамилия вашего бывшего коллеги — «сон». А потом окажется, что кто-то из моих предков, к примеру, делал коци, а любимое занятие пана Кацнельсона — как раз спать! Вот вам и готов вывод: преступник убивает людей, чьи фамилии состоят из десяти букв, которые делают коци или любят долго спать! Пан, пан, — Коцовский насмешливо улыбнулся, — ваши экспертизы не стоят и гроша!
Все, кроме Попельского, понурились.
— Матрицы тоже ничего не стоят? — спросил вдруг Кацнельсон.
— Ну, матрицы, может, и нет, — буркнул слегка смущенный начальник. — Но эта гематрия — это уже слишком! Скажите-ка лучше, что мы и до сих пор не знаем, как искать следующую жертву Гебраиста!
— А что бы вы сказали, пан начальник, — отозвался Попельский, — если бы в фамилиях Коцовский и Кацнельсон была закодирована какая-то настоящая информация? Та, что соответствует действительности!
— Например что? — разразился смехом Коцовский. — Например то, что пан Кацнельсон — поляк иудейского вероисповедания?
— Простите! — не удержался Кацнельсон. — Я евангелистско-реформаторской веры!
— Именно так, дорогой пан начальник, — спокойно продолжал Попельский. — Если бы выяснилось, что согласные в фамилии Кацнельсон образуют слово «протестант» на языке кечуа. Что тогда? Вы так же весело смеялись или, может, пришли бы к выводу, что в этом есть что-то стоящее? Ну же, скажите мне! — последнее предложение он произнес уже приподнятым голосом.
Коцовский прикусил губу и глубоко задумался. Все подчиненные смотрели ему прямо в глаза.
— Мне пришлось бы признать, что это чудо, — медленно проговорил тот, — но я отнюдь не уверен, принял бы я таких серьезных средств, чтобы объяснить этот случай… Кроме того, — оживился он, — между случайной, вероятно, гематрией 68 в фамилиях жертв и вашим причудливым примером есть существенная разница!
Наступила тишина. Попельский несколько раз крутанул на пальце кольцо. Этот жест Зарембе показался магическим, потому что Вильгельм не знал, что перстень в мыслях друга превратился в кастет, которым он сейчас отправит Коцовского в нокаут.
— Гематрия 68 неслучайна, — Эдвард подошел к доске и взял мел. — Господа, первую жертву, перефразируя библейский язык, можно назвать пророчицей, вторую — блудницей. — Попельский записал на доске оба слова. — Это были их профессии. Гадалка и проститутка. На еврейском, соответственно, нбй'х и звнх. — Он дописал около польских слов их соответствия נביאה и זונה. — Если мы посчитаем значение этих еврейских букв, догадываетесь, пан начальник, сколько получится?
— 68? — тихо спросил Коцовский.
— Именно так, гематрии обоих слов составляют 68, — Попельский отряхнул ладони от мела. — Итак, преступник убил двух женщин, чьи имена и профессии имеют гематрию 68. Почему? Этого я не ведаю. Но знаю одно: я должен идти в бюро регистрации населения и пересмотреть фамилии всех жителей нашего города. Сразу же отброшу среди них те, чья гематрия больше, чем 100. А их огромное количество… А потом сочту значение всех согласных в тех фамилиях, которые останутся. Если у меня получится 68, я проверю профессию этого человека и тогда позвоню к раввину Шацкеру. Спрошу у него, как это слово перевести на еврейский. Если сочту буквы в еврейском аналоге профессии и получу гематрию 68, — он грохнул кулаком о доску, — буду иметь новую жертву! У вас будут еще какие-то замечания, начальник?
— Не замечание, а распоряжение, — надменный тон Коцовского контрастировал с его неуверенным взглядом. — Идите завтра в мой секретариат. С самого утра! Панна Зося выпишет вам полномочия в Бюро регистраций населения! К работе!


 Теперь перенесем выделенное число на соответствующую букву и получаем одиннадцать значимых букв.
Теперь перенесем выделенное число на соответствующую букву и получаем одиннадцать значимых букв.
 Выписываем эти буквы отдельно:
Выписываем эти буквы отдельно:

 Итак, как вы видите, третий магический квадрат из шестибуквенных сторон был создан так же, как и два предыдущих. Нет никаких сомнений, что два первые обработал убийца. Третий магический квадрат найден у Юзефа Бекерского. Кто его создал? Буйко, потому что он же утверждал в разговоре с Бекерским, что имеет квадрат, который касается его самого. Бекерский нашел его у Буйко, обыскав квартиру после того, как заключил математика в своем погребе. И тогда ему вспомнилось безупречное преступление. Он решил свалить вину на убийцу, который замучил и Любу Байдикову, и Лию Кох. Достаточно самому избавиться от Буйко, убийцы обеих женщин, таким образом, как это описано в магическом квадрате, и отправить этот квадрат в полицию. Там были бы убеждены, что виновник преступления — одно и то же лицо. И тогда — ищи ветра в поле, можно до конца света разыскивать какого-то еврея или гебраиста. Так или сяк, третий магический квадрат — это признак убийцы. Убил тот, у кого он найден. У Бекерского? Ergo — он убийца! Quod erat demonstrandum.
Грянули аплодисменты. Попельский отошел от доски. Судья стучал молотком по столу, чтобы успокоить публику. Шум перекрыл сильный женский голос. Почтенная пожилая дама, которая сидела в первом ряду, порывисто встала и взглянула на Попельского полным ненависти взглядом.
— Ты, падлюка! — воскликнула она. — Имя указано неправильно! Убитого звали Леон, а не Лев, и здесь получается совершенно другая гематрия!
В зале сделалось тихо, только где-то слышался шепот: «Это графиня Бекерская!»
Попельский радостно усмехнулся.
— Действительно, я настолько благодарен вам, пани графиня, что вы указали на эту неточность, прощу даже то, как вы ко мне обратились. Сейчас я все вам переведу. Во время обучения в России, в Казани, Леона Буйко называли русифицированным именем «Лев», что часто случалось. Так же в университетских документах в Казани сказано «Иосиф Бекерский», а не Юзеф Бекерский. Итак, в представленном мною магическом квадрате оказалось имя Лев, а не Леон!
Детектив двинулся к скамье. И вдруг краем глаза заметил, что графиня махнула ему рукой в черной перчатке. Несмотря на то что она изначально присутствовала на процессе сына, Попельский заметил ее только сейчас, когда женщина заговорила. Подошел к ней и почтительно поклонился.
— Неделю назад в Стратине Рената Шперлинг родила твоего байстрюка! Выброшу проститутку в хлев вместе со щенком! Хочешь увидеть, как он ползает по навозу, словно червь?
После своей четвертой в жизни лекции Попельский не почувствовал даже малейшего удовольствия.
Итак, как вы видите, третий магический квадрат из шестибуквенных сторон был создан так же, как и два предыдущих. Нет никаких сомнений, что два первые обработал убийца. Третий магический квадрат найден у Юзефа Бекерского. Кто его создал? Буйко, потому что он же утверждал в разговоре с Бекерским, что имеет квадрат, который касается его самого. Бекерский нашел его у Буйко, обыскав квартиру после того, как заключил математика в своем погребе. И тогда ему вспомнилось безупречное преступление. Он решил свалить вину на убийцу, который замучил и Любу Байдикову, и Лию Кох. Достаточно самому избавиться от Буйко, убийцы обеих женщин, таким образом, как это описано в магическом квадрате, и отправить этот квадрат в полицию. Там были бы убеждены, что виновник преступления — одно и то же лицо. И тогда — ищи ветра в поле, можно до конца света разыскивать какого-то еврея или гебраиста. Так или сяк, третий магический квадрат — это признак убийцы. Убил тот, у кого он найден. У Бекерского? Ergo — он убийца! Quod erat demonstrandum.
Грянули аплодисменты. Попельский отошел от доски. Судья стучал молотком по столу, чтобы успокоить публику. Шум перекрыл сильный женский голос. Почтенная пожилая дама, которая сидела в первом ряду, порывисто встала и взглянула на Попельского полным ненависти взглядом.
— Ты, падлюка! — воскликнула она. — Имя указано неправильно! Убитого звали Леон, а не Лев, и здесь получается совершенно другая гематрия!
В зале сделалось тихо, только где-то слышался шепот: «Это графиня Бекерская!»
Попельский радостно усмехнулся.
— Действительно, я настолько благодарен вам, пани графиня, что вы указали на эту неточность, прощу даже то, как вы ко мне обратились. Сейчас я все вам переведу. Во время обучения в России, в Казани, Леона Буйко называли русифицированным именем «Лев», что часто случалось. Так же в университетских документах в Казани сказано «Иосиф Бекерский», а не Юзеф Бекерский. Итак, в представленном мною магическом квадрате оказалось имя Лев, а не Леон!
Детектив двинулся к скамье. И вдруг краем глаза заметил, что графиня махнула ему рукой в черной перчатке. Несмотря на то что она изначально присутствовала на процессе сына, Попельский заметил ее только сейчас, когда женщина заговорила. Подошел к ней и почтительно поклонился.
— Неделю назад в Стратине Рената Шперлинг родила твоего байстрюка! Выброшу проститутку в хлев вместе со щенком! Хочешь увидеть, как он ползает по навозу, словно червь?
После своей четвертой в жизни лекции Попельский не почувствовал даже малейшего удовольствия.