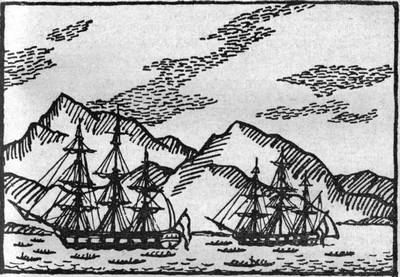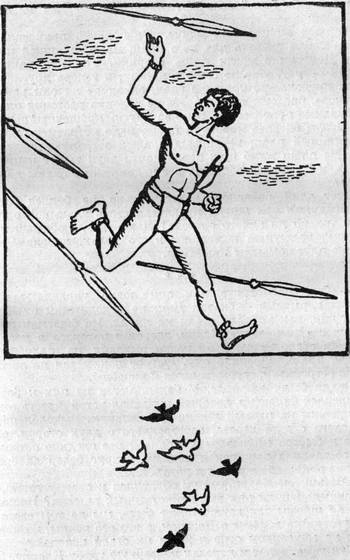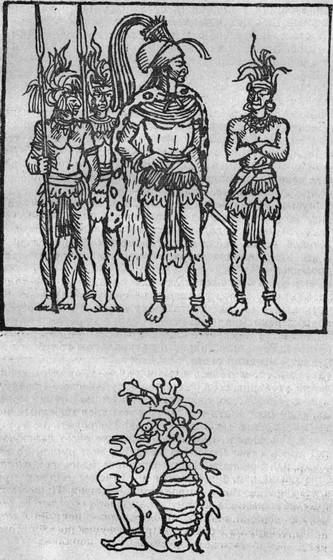Рудольф Итс
КАМЕНЬ СОЛНЦА. Рассказы этнографа
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Старик отложил самодельный рубанок, которым тесал доски для лодки, и взял предложенную папиросу. Не спеша он размял ее длинными пальцами жилистой руки и, прежде чем закурить, сказал:
— Ты бы поторопился, парень, а то дождь пойдет и, может, большая волна будет. Видишь, над Людским камнем туман-морг поднимается?
Я всматривался вдаль и видел лишь ровную, как стол, вершину горы. Снеговая шапка ее блестела в лучах незаходящего солнца.
Заполярное озеро, на берегу которого мы вели беседу, было спокойно. Прямо перед нами остров, а вон там, за небольшой, в двенадцать километров, излучиной, северный берег. В низине среди березняка и лиственниц стоят четыре островерхих чума из жердей, крытых берестой. В них летом живут кеты — охотники и рыбаки, сородичи моего собеседника, древний и очень малочисленный народ Сибири. На сотни километров вдоль Енисея и его притоков раскинулись редкие кетские селения и колхозы. Всего кетов тысяча двести человек.
Бесписьменный народ, кеты не имеют древних летописей. Деяния их предков затерялись в веках прошлого, история их загадочна, и происхождение этого народа уже более столетия для ученых неразрешимая проблема.
Пока старик раскуривал папиросу, я думал, о чем его лучше спросить: о приметах, по которым он узнает наступление ненастья, или же о странном названии горы? Было три часа ночи. В полярный день ночью, когда спадет июльская жара и легкий ветерок разгонит мириады комаров, начинается трудовая жизнь.
— Откуда такое название у горы?
Старик повернулся ко мне.
— Это эвенки так назвали. Ведь здесь их места. О Людском камне я тебе ничего сказать не могу. Спроси других. А вот ты слышал о тэлло?
Старик усмехнулся и опять сидел такой же, как всегда — нарочито безразличный. Я слышал о тэлло — сказочном чудовище здешних мест. Все говорили о нем, как о реальном существе. Порой казалось, что это правда, и неловко было возражать, а рассказчик ждал ответа. Скажи, что это сказка, — обидишь, докажи, что это вымысел, — не можешь. Слишком мало знаешь о тэлло! Я ответил:
— Однажды говорили, но ссылались на тебя, старик.
Старик пользовался непререкаемым авторитетом в поселке, и мои слова принял как должное.
– Я тэлло не видел, врать не буду, но его видел мой старинный друг эвенок. — Тут старик назвал фамилию человека, которого мы встречали в нашей поездке. — Ты, наверное, уже знаешь, парень, что тэлло не рыба, а живет в воде, у него из головы два огромных зуба торчат. Когда мороз ударит, замерзнет вода, то торчат зубы эти надо льдом. Тэлло зимует в воде. Однажды, этак зим двадцать пять назад, пошел эвенок в лес сушняку нарубить. Веревку взял, топор взял, идет. Вышел к озеру. На озере наст крепкий, без лыж, без оленя идти можно. Привязал он оленей на берегу, чтобы они следом не пошли, а сам прямки на тот берег, сушняк посмотреть. Шел, шел да как провалится под лед. Летит как будто в яму и вдруг о что-то мягкое ударился. Вверху маленькое отверстие, небо видно, а как туда выбраться, не знает. Посмотрел, куда упал, и видит: лежит он на черной спине тэлло. Страшно стало. Боится эвенок пошелохнуться, но тэлло спит и не чует ничего. Видит, впереди сажени через две торчат из головы зубы. Два зуба. Огромные...
Старик развязал кисет, набил трубку, а сам смотрит на меня исподлобья. Каков, мол, его рассказ? Я слушаю внимательно и думаю: «Вот тебе и живой Змей-Горыныч».
Старик серьезен, сдается, он не раз это рассказывал и больше всего боится недоверчивой улыбки. Поправив рукой длинные, прямые, с густой сединой волосы, старик продолжал:
— Думал эвенок, как теперь живым остаться, и придумал. Тихо пополз он к голове тэлло. Поползет маленько, остановится — спит тэлло, не чует. Вот и дополз. В руках у эвенка были веревка и топор, с которыми он по дрова пошел. Взял он веревку, привязал крепко за один зуб, другой конец на руку накрутил. Поднял топор да как ударит тэлло между зубов. Проснулось оно, вскочило и, сокрушая лед, вихрем вылетело наружу. Зуб, к которому был привязан конец веревки, сломался, и эвенок далеко улетел от толчка. В руке у него остался топор и веревка с куском зуба. Тэлло раскидало лед на озере, вода появилась, и оно исчезло в глубине. Эвенок очнулся на берегу, сел на оленей и скорей домой. В то время я возле его чума аргиш — оленью стоянку — делал. Видал, какой он приехал, и все от него слыхал.
Старик немного помолчал и потом добавил:
— Ну, что ты скажешь об этом, парень, есть тэлло или как?
Он смотрел мне прямо в глаза, и я понял, что лукавить нельзя, но вместо ответа мне на память вдруг отчетливо пришла фраза из ученых трудов антропологов: "Физическим обликом кеты отличаются от своих древних монголоидных соседей и больше всего напоминают североамериканских индейцев". Сидящий передо мной высокого роста, сухопарый, с длинным лицом и орлиным носом старик, попыхивавший трубкой, напоминал именно индейца. Недоставало только головного убора из перьев и томагавка. Сходство было особенно правдоподобным, когда старик пел старинные народные песни. Голос то взлетал легкой птицей вверх, то стелился по земле глухими раскатами. В пении было все — и сила духа, и страх, и жалоба, и надежда, и радость. Прочь уходило обычное, оставались далекие небеса, горы, необозримый простор тайги и пламя гигантского костра, вздымающегося к солнцу. Я слышал, как он пел...
Я посмотрел на старика. Он ждал ответа, а я думал о найденном сходстве и невольно улыбнулся.
— И ты не веришь, смеешься!
Старик резко встал и направился в свой дом. Я ничего не успел сказать и растерялся, не зная, как поступить дальше. Вдруг подул резкий ветер, по небу поползли тучи, предсказание старика стало сбываться. Надо было спешить, ведь я должен был перегнать для рыбаков лодку, которую изготовил этот девяностолетний старик. Я был уверен, что он обиделся.
Дверь дома распахнулась. Хозяин вышел и, подойдя вплотную ко мне, протянул старинную кетскую ложку. Она была не обычная, не деревянная, а костяная. Старик сунул мне ее в руку и сердито сказал:
— Торопись, парень, уже ветер пал.
Он легонько подтолкнул меня к лодке, я собрался было отчалить от берега, как вспомнил про ложку, которую крепко сжимал в руке.
— Зачем ты мне отдал ее?
Я подошел к старику, он усмехнулся и проговорил:
— Ты ведь не веришь в тэлло. Я, когда услышал слова эвенка, тоже не поверил, я смеялся над ним. Когда я покидал его стойбище, он подошел ко мне и протянул толстый круглый кусок кости, но такой кости я никогда не видел. «Ты не веришь мне, — сказал эвенок, — вот возьми — это кусок зуба тэлло». Долгими зимними ночами, когда только и остается, что слушать да рассказывать сказки, я делал из того куска ложку. Ты не веришь в тэлло, возьми ее себе, такой кости нет ни у сохатого, ни у оленя, ни у медведя. Это тэлло. Возьми ее и торопись.
Старик повернулся и собрался было уходить, но когда я, внимательно рассмотрев подарок, вскрикнул, он остановился.
— Ведь это же клык мамонта, старик. Это мамонт!
— Называй его как хочешь, по-нашему это тэлло.
Старик зашагал по тропинке к дому, а я оттолкнул лодку и налег на весла.
Небо чернело, вот-вот разразится гроза, а мне было весело. Положив весла, подгоняемый попутным ветром, я разглядывал ложку. Не правда ли, смешно? Сколько за последние годы умных людей на основе одних лишь досужих размышлений и вымыслов будорожат неискушенных поисками загадочных существ. У меня в руках обработанная кость, но ведь никто не примет всерьез призыв отправиться на Енисей искать живых мамонтов. Смешно и немного обидно, что мудрый старик верит в реальность тэлло.
Через несколько месяцев я встретил эвенка, он показал мне место, где нашел клык мамонта, и, смеясь, рассказал, как выдумал всю историю, повторив сказку, слышанную еще от деда.
* * *
Напротив Адмиралтейства, на другом берегу Невы, стоит большое трехэтажное здание. Фасадом оно обращено к реке. В центре его башни, над куполом, сверкает золотом переплетение из шести широких обручей — орбит планет. Внутри обручей золотой глобус. Это старинная модель планетарной системы — армилярная сфера.
В круглом зале третьего этажа и в башне находится мемориальный музей Михаила Васильевича Ломоносова. В остальной части здания и в пристройке к правому крылу расположен Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Академии наук СССР. Здесь же размещены кабинеты Ленинградского отделения Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР.
В просторных и светлых залах — шкафы и витрины. Уже в вестибюле музея мы попадаем в мир далеких стран, где жили и живут народы иных культур, иного быта.
Музей хранит единственную в мире коллекцию головных уборов американских алеутов и одежду из замши индейцев племени атабаски; в витринах размещено редкое собрание предметов, созданных руками вымерших или уничтоженных индейцев Южной Америки — огнеземельцев и ботокуда, древних африканских народов азанде и мангбетту, изделия из бронзы и кости сожженного колонизаторами африканского города Бенина. Во втором этаже мы попадаем в мир загадочного «говорящего дерева» — «ронго-ронго», памятников письменности острова Пасхи; видим творения человека с Гавайских островов и из долины Хуанхэ, с берегов Ганга и из солнечной Индонезии. Перед нами раскрывается жизнь всех обитаемых континентов Земли.
Русские ученые, путешественники, друзья нашей страны два с половиной века пополняли богатства музея, и он по праву считается сейчас одним из самых крупных этнографических собраний мира.
Не только ленинградцы, но и многие приезжие называют музей Кунсткамерой. Это название, которое в переводе с немецкого означает «Палата редкостей», дал Петр Первый коллекциям диковинных вещей из царства природы и человека, положившим начало шести академическим учреждениям нашей страны, в том числе и Музею антропологии и этнографии.
Петербургская Кунсткамера была всего на десять лет моложе города, заложенного на берегах Невы.
Однажды Петр Первый приехал на стрелку Преображенского (Васильевского) острова. На этом пустынном еще берегу внимание его привлекла сосна. Несколько толстых ветвей, причудливо переплетенных, вросли в ствол, изогнулись и образовали деревянные полукольца.
— О! Дерево-монстр, дерево-чудище! — воскликнул Петр и добавил: — Так быть на сем месте новой Кунсткамере.
Отпиленный ствол сосны с полукольцом, сохраненный в память об этом событии, и по сей день можно видеть в музее. Он стоит на приметном месте в галерее первого этажа, где хранятся самые первые коллекции.
История соснового ствола мне была известна, но с тех пор, как там, на Енисее, я сначала услышал рассказ, а затем стал обладателем ложки из бивня мамонта, мной овладела мысль: нельзя ли заставить вещи заговорить о себе, нельзя ли открыть новое, еще не изведанное среди столь привычных собраний музея? Многие годы мои товарищи воссоздают историю далеких народов по этим музейным экспонатам. Древние стены Кунсткамеры хранят коллекции, которые сегодня являются безмолвными свидетелями культуры уничтоженных или порабощенных прежде, в эпоху кровавой истории утверждения капитализма, народов.
Я вновь прохожу по залам, всматриваюсь в шкафы и витрины, и молчаливая вещь обрастает сюжетом, становится стержнем удивительного рассказа о ее мастере и о народе, среди которого он жил и творил.
Из прошлого приходят люди, события становятся явью, появляются неведомые страны. В стенах Кунсткамеры незримо присутствует немного непонятный и таинственный мир. Стоит отправиться по книжным полкам, архивам и летописям в путешествие с единственной целью и надеждой найти и открыть его.
САНИ ИЗ ЛЕДЯНОГО ДОМА

Терентий Шадрин оперся на пику и сделал еще шаг по рыхлому, не успевшему растаять снегу. Вот он и на вершине сопки Шивелуч.
Короткая камчатская весна шла следом. Даже ночами больше не было наста. Весна спешила снести снежные бугры и открыть солнцу замороженную землю. Шадрин торопился. Опасно человеку весной оказаться одному в тайге, вдали от жилья. За несколько часов плотная корка снежной равнины превратится в рыхлый ноздреватый серый покров, под метровой толщей которого скрываются потоки стремящихся на волю весенних ручьев. Ни идти, ни ползти человек не может, кричи не кричи — никто не отзовется в почуявшей весну тайге.
Терентий знал это и торопился к вершине сопки. Здесь по проталинам можно легко идти дальше.
Наконец он вступил на сухую прошлогоднюю траву. Положив ружье, пику, снял малахай и полушубок. Дышалось легко, радостно. Расходились угрюмые морщинки в углах рта. Ему не терпелось идти дальше, но он подавлял это желание. На память приходило прошлое, оставшееся на той, пройденной уже дороге, которую сейчас пересекали веселые ручьи.
Терентий сел, закурил. Прежде чем идти дальше, он должен собраться с мыслями, — когда он спустится по другую сторону сопки, для него начнется новая жизнь. Он пытался представить будущее, но в памяти вставали картины прошлого.
Ему еще нет и тридцати, а сколько пережито? Скажи Терентию, что уже 1711 год, он бы очень удивился. Неужели так давно он покинул родину? И там, наверное, сейчас весна. Какая она, родина? Терентий не помнил. Он редко вспоминал о своей Архангельщине. Да и стоило ли?! Родители померли разом, когда ему не было и девяти лет. Два года бедовал он у соседей, а затем хозяин послал его на прииск. Не по годам рослого мальчишку ставили на тяжелую работу. Плетка подрядчика часто прохаживалась по его спине, а он только упрямо сжимал губы. Может быть, суждено ему было погибнуть на руднике, но в тринадцать лет он бежал. Долго скитался по губернии, затем добрался до Приуралья, перебивался случайным хлебом, летом ночевал в поле или в лесу, зимой перебрался к одному сердобольному корчмарю.
Однажды, отламывая полкраюхи хлеба своему приемышу, старый корчмарь проворчал:
— Пристал бы, что ли, к казакам. В беглых долго не проживешь, а на Камчатке, слышь, всем вольная будет.
Терентий посмотрел на старика, задумался и сказал:
— Дядь, а что это за Камчатка, что там казаки делать должны?
— Камчатка — это новая царева область. Она за Сибирью, а казаки известно что делают: у тамошних народов ясак собирают, это дань, значит. Берут ее для царевой казны шкурами зверей разных.
Старик пододвинул Терентию жбан кваса, вздохнул и продолжал:
— Ты бы, Тереша, подался в казаки, все таки царева служба, одежду дадут, пить-есть что будет. А земли там, сказывают, не хуже наших. Бунтуют тамошние народы, не хотят ясак платить, вот и нужны царю казаки. А бунтуют они зря! Коль царев человек, то царю платить должен. Я плачу полтинами, крестьянин хлебом, ну, а те — шкурками. Так что иди в казаки, Терентий.
За окном выла вьюга, Терентий долго не спал. Он-то знал, какова служба у царя да у барина. Опостылело только прятаться от людей.
Вскоре Терентий простился с корчмарем и ушел с казацкой партией на Камчатку.
Два народа жили тогда на Камчатке: коряки и иттельмены, или камчадалы, как называли их казаки. Селились они по долинам рек, особенно много жилищ было по реке Камчатке. Казаки же обитали в Большерецком, Нижне-Камчатском и Верхне-Камчатском острогах. По нескольку раз в год атаман отправлял казаков по стойбищам исконных обитателей собирать ясак. Не раз замечал Терентий, что для царевой казны атаман оставлял едва ли треть собранного, и роптал на атаманово лихоимство.
Чем дольше нес Терентий цареву службу, тем чаще ссорился с сотоварищами, которые присваивали себе большую долю ясака. А когда приходилось чуть ли не пятый раз кряду заходить в одно и то же жилище коряка, ему становилось совестно. Если никого из дружков не было близко, он переступал с ноги на ногу и, не глядя в лицо испуганным хозяевам, уходил прочь. Чем же были казаки лучше разбойников, которых он встречал во время скитаний по своей губернии? Скоро Терентий перессорился со всем острогом и ушел на охрану монастыря...
Терентий долго курил, сидя на теплой и влажной земле сопки. Подобно легким облакам, бегущим по небу и не закрывающим солнца, в памяти проходили картины труднозабываемого прошлого. Захотелось лечь и смотреть на далекое небо. Терентий поднял голову, но, застонав, схватился за шею: широкий синеватый шрам шел чуть выше воротника сорочки. Терентий поморщился:
— Проклятые колодки...
Колодки, обыкновенные деревянные колодки, которые надевают на преступников.
Все началось с того дня, как попы приказали ему быть при крещении тойона — старейшины камчадальского рода. Терентий давно заметил, что попы, как и атаманы, охочи до наживы и в свой черед тоже собирают с населения ясак.
Терентий с двумя казаками и батюшкой прибыл в стойбище на реку Еловку, что течет за сопкой Шивелуч. Как будто все было готово к обряду, а батюшка не начинал и суетился, что-то толкуя толмачу. Рядом с толмачом стоял спокойный невысокий тойон Тигель. День был летний, пасмурный, надо было скорей проводить обряд, а то мог ударить дождь. Терентий услышал, что поп говорит о каких-то шкурках, о плате за крещение, и кровь хлынула ему в лицо. Он быстро подошел к попу и оттащил его в сторону.
— Батюшка, святой обряд надобно проводить без корысти, — сказал Терентий.
Поп зло посмотрел на казака, но, увидя гневное лицо Терентия, растерялся. Тигель все понял и слегка улыбнулся. Может быть, первый раз на Камчатке за обряд крещения поп не получил ничего.
А через несколько дней по доносу попа Терентия схватили, увезли в острог, надели колодки. Он знал, что на Камчатке разбирать вину не будут, а просто повесят. Но, видно, суждено было ему умереть своей смертью. Когда за стенами сарая раздалась стрельба, послышались крики и распахнулась дверь — он понял, что казацкая вольница снова взбунтовалась против атамана. Бунтовщики сняли со всех осужденных колодки, и Терентий оказался на свободе.
Еще в ожидании казни он подвел черту всему, чем жил раньше, и, получив свободу, решил навсегда покинуть острог и цареву службу. Он, как это сделали многие до него, пошел к камчадалам. Стоит только спуститься с сопки — и он в стойбище тойона Тигеля. Терентий приподнялся и задумчиво произнес вслух:
— Один выход — идти к камчадалам...
Через несколько часов перед ним раскинулась обширная равнина. Пусть сейчас, ранней весной, она выглядела сумрачной, но он помнил ее такой, какой она была летом.
Река Еловка, которая текла меж двух самых больших рек полуострова, Тигили и Камчатки, здесь делала крутой поворот и перекатывалась через пороги. Русло реки раздваивалось, огибая островок. По берегам рос ольховник и березняк. На островке и в пойме травы за короткое лето вырастали густыми и сочными, выше человеческого роста. Много съедобных кореньев собирали камчадалы по берегам рек. Кореньями пополняли запасы на долгую зиму. Летом, когда косяки рыб шли на нерест вдоль Еловки, обычный улов бывал столь богатым, что его хватало надолго и он сполна вознаграждал за перенесенные тяготы зимой.
Терентий смотрел с сопки на равнину, видел ее богатства и уже представлял себе, как будет жить с сородичами Тигеля. Он посеет хлеб, заведет скот, а зимой будет бить соболя, куницу, а то и медведя.
Он посмотрел вдаль и увидел пар, поднимающийся над Озерными горячими ключами. Камчадалы считают эти ключи жилищами духов. В зимний день над ними клубится пар. Если кто близко подойдет к ним, на того падет гнев богов. Но Терентий не боится камчадальских духов и обязательно искупается в этих ключах.
С беспокойными думами начал он спускаться в долину.

* * *
Первое лето и зиму Терентий Шадрин прожил с семьей Тигеля. Больше всего он подружился с его братом. Хороший и смелый охотник, брат Тигеля с детским восхищением следил за всем, что делал на берегах Еловки русский. Многое казалось необычным... Терентий вместе с братом Тигеля ходил к Озерным ключам. Он выкупался в обжигающей воде и, когда вылез наружу, нигде не нашел своего спутника. Брат Тигеля с перепуганным лицом бежал сообщить роду о гибели русского.
Духи не тронули Терентия. Он вернулся в стойбище невредимым, и камчадалы, считая его могущественным человеком, охотно стали учиться обращению с огнестрельным оружием, помогали сеять хлеб и сажать репу. И первым помощником среди своих сородичей всегда был брат Тигеля.
Он помог Терентию на второй год, после его прихода к Тигелю, поставить избу и баню. Они стали большими друзьями, но однажды чуть было крепко не повздорили.
Решив навсегда осесть в этих краях, Терентий женился. У него родился сын. Скоро молодой отец пожалел, что на береговых пастбищах Еловки нет молочного скота. Правда, в острогах скот можно приобрести, но за двух коров надоотдать сорок соболей или одну чернобурую лису. Терентий проводил недели на охоте у сопки. Однако удачи не было. Брату Тигеля повезло больше. Когда они повстречались в лесу, тот показал Терентию свою добычу — пять соболей и пепельно-черную лисицу.
Напрасно Терентий несколько дней уговаривал своего друга отдать лису, тот смеялся и предлагал взять соболей, а сам любовно разглядывал редкую шкурку. Терентий обиделся и два дня не разговаривал с удачливым охотником.
Как-то вечером тайон зашел к казаку и рассказал о камчадальском обычае. Рассказывал как будто к слову, случайно, а сам улыбался:
— Человек не может не идти в гости, когда его зовут. Не придешь — обидишь, смертельного врага наживешь. С тех пор как я свет увидел, у нас так было: хозяин зовет в гости, не хочет, чтобы его жадным считали, топит жарко, кормит гостя сытно. Ест гость, потом обливается, а хозяин знай ему еду подает да огонь подкладывает. Не может гость есть, пить больше, не может в такой жаре сидеть и сказать ничего не может. Скажет «жарко» — обидит хозяина, откажется есть — опять обидит. Вот гость мучается и просит пощады, обещает хозяину выкуп дать, тот его и отпускает. Так деды и отцы наши делали, и мы так делаем. Если в гости зовут — идти надо, не идти нельзя.
Тойон ушел, а Терентий побежал дрова рубить да печь в бане топить. Жена наварила рыбы, съедобные коренья сараны приготовила. Позвал Терентий Тигелева брата в гости.
Гостю показалось, что в бане не жарко. Плеснул Терентий воду на раскаленные камни, сам вышел в предбанник. Гость сидит в жаре и пару, от обильной пищи мучается, но терпит, Терентий знай подносит ему рыбу, сарану да воду льет на камни. Взмолился охотник, попросил пощады и согласился отдать лису хозяину.
Из Верхне-Камчатского острога привел Терентий корову и бычка. Дружба их с братом Тигеля еще крепче стала. Если кто, желая подшутить, спрашивал охотника, как, мол, он погостил у русского, тот вскидывал голову и весело отвечал:
— Э! Никогда у нас так не угощают, как у руса!
Почти двадцать лет Терентий прожил на земле рода Тигеля. Последние три года сильнее стали бесчинствовать атаманы. Косились некоторые камчадальские тойоны на
Терентия и других казаков, покинувших острог, как будто они виноваты в лиходействах царевых слуг.
Бывало, Терентий вместе с камчадальскими парнями ружьями разгонял казачьи отряды. И все же что-то камчадалы скрывали от него. Терентий чувствовал это по тем настороженным взглядам, которые бросали на него приезжавшие к Тигелю гости из других родов, по тому, как упорно отмалчивался на все вопросы его друг — брат Тигеля.
Приближалась весна 1731 года. В стойбищах было голодно. Прошедшую зиму приходили казаки за ясаком, и где не собрали его, взяли сушеную рыбу, зерно.
Снова появились у Тигеля таинственные гости от соседнего еловского тойона Федора Харчина. Богаче других тойонов был Харчин, много сородичей работало на него. Думал он быть повелителем всех родов, но другие тойоны и казаки мешали ему. Посланцы Харчина, подбивавшего людей против казаков, сторонились Терентия, а он, не понимая в чем дело, решил сам разузнать все у соседей и с утра запряг собак в сани.
Сани Терентия только затейливым русским орнаментом на копыльях и кузове отличались от обычных камчадальских саней. Они имели те же три главные части: полозья наподобие лыж с крутым загибом, две пары копыльев и кузов. Копылья, вырезанные из березовых корней, напоминали пологие дуги, кузов — корзину с высоким передком и задком. Верхний загиб полозьев был украшен продольными и поперечными темно-коричневыми и желтыми нерпичьими ремнями. Подобное плетение создавало шашечный орнамент. Такому плетению Терентия научил брат Тигеля, помогавший мастерить сани. Сбруя саней была обшита бархатом и украшена цветной вышивкой.
Ромашки с зелеными листьями, примостившиеся на кузове, и смешные петушки на копыльях Терентий нанес яркими красками, и сразу обычные камчадальские сани стали непохожими на другие. Еще издали заметив их, камчадалы непременно говорили: «Вот едут сани Терентия».
Под стать саням был и оштол — тормозная палка с изогнутым наконечником. Обычно оштолы имели железный набалдашник, а набалдашник Терентия был оправлен в железо с серебряной инкрустацией и увешан колокольчиками. Этот оштол подарил казаку Тигель. Колокольчики были приделаны и к средней части палки. Когда Терентий
резко тормозил и с помощью оштола поворачивал сани, колокольчики переливчато звенели.
Только Терентий отъехал, как в землянку Тигеля прибежали сообщить об этом. Время было тревожное, и Тигель пошел в дом к Терентию.
— Куда поехал хозяин? — обратился он к жене казака.
Та ничего не знала. Тигель подумал и спросил снова:
— Как запрягали собак?
— Веером, одна к другой, — ответила жена Терентия.
— Он поехал не на охоту, — решил Тигель и вышел из дому.
На собаках охотились недалеко, где не было холмов и крутых подъемов. Запрягали их цугом — ведущий шел первым, а четыре других попарно за ним. Когда ехали в холмистые места, то запрягали веером. Собаки сами выбирали по склону путь, и ездок, помогая им, мог надеяться достичь вершины холма.
«Терентий покинул род и уехал к холмам, где жили другие русские. Скоро об этом будут знать все, что же я скажу гостю от Федора Харчина?» — думал Тигель, возвращаясь к своей землянке. Ведь только что он убеждал посланца, что Терентий, так же как и камчадалы, ненавидит атаманов и вместе с ними пойдет по призыву Харчина. Как быть сейчас? Тойон намеренно замедлил шаги, оглянулся на уходящий к холмам след широких полозьев саней Терентия и старался вспомнить все, что передавал гость от Харчина.
Царский приказчик — управитель Камчатки — в конце июля отправляется на боте «Гавриил» в Охотск. С ним уйдут многие казаки, на Камчатке их останется не более шести десятков. Уход «Гавриила» будет сигналом. Камчадалы род за родом на лодках пойдут к истоку реки Камчатки и, как бот отчалит, нападут на остроги. Тойон Харчин звал камчадалов на бой со всеми русскими.
«Смел Федор Харчин, — думал Тигель, — смел, но молод. Зря не доверяет он казакам, ушедшим из острогов. Не знает он их жизни. Вместе с ними надобно идти на атаманов».
Тигель верил Терентию и решил ждать его возвращения.
Через три дня Терентий вернулся. Он молчал, молчали и его соседи. Все ждали развязки.
20 июля 1731 года бот «Гавриил» дождался ветра и вышел в море. Камчадалы, поднятые Федором Харчиным, устремились вверх по реке Камчатке. Вместе с родом Тигеля, вместе с камчадалами пошел и Терентий.
Нижне-Камчатский острог пал и стал центром восстания. Федор Харчин объявил себя управителем Камчатки и приказал всем тойонам с воинами съезжаться к нему. Он задумал большой поход на север.
Еще не успели гонцы с приказом нового управителя покинуть острог, как под его стенами оказались казаки с «Гавриила». Застигнутый бурей в море, бот вернулся к Камчатке.
Федор Харчин поднялся на стену острога и крикнул казакам:
— Зачем вы пришли? Здесь, на Камчатке, я управитель. Я сам буду собирать ясак, вы, казаки, уходите!
В ответ прогремел оружейный залп.
Федору важно было выждать, когда подойдет подкрепление. Того же ждали казаки, пославшие гонца на бот за пушками. Пушки прибыли раньше, и началась осада. Казаки расстреливали ядрами камчадалов, вооруженных только пиками и ружьями. Было ясно, что защитники долго не выдержат.
Накануне осады, ночью, Терентий с двумя своими русскими товарищами пробрался в осажденный острог и теперь находился перед пороховым складом.
Языки пламени охватили все строения острога, огонь подползал к складу. Харчин вместе с уцелевшими в этом аду воинами сражался за каждый дом. Терентий, воспользовавшись небольшой передышкой в бою, вбежал в дом и через мгновение выскочил оттуда, держа что-то в руках.
— Ну, управитель, теперь все кончено, беги. — Перед Федором стоял Терентий и протягивал ему женское платье. — Беги, Федор, к Тигелю на Еловку. Надень это и ступай в пролом.
В пролом, образованный в стене разорвавшимся ядром, выбегали плененные камчадалами жены казаков. Харчин удивленно смотрел на Терентия.
— Беги сейчас же, я подожгу склад.
Федор взглянул на поле битвы и, накинув женское платье, побежал к пролому.
Только успел Федор скрыться в проломе, как сильный грохот сотряс землю, и крепость со всем бывшим в ней богатством превратилась в пепел.
На поле битвы Терентия подобрала камчадальская семья. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Взрывом порохового склада ему опалило лицо, выжгло брови, страшные волдыри покрыли тело. В те минуты, когда возвращалось сознание, Терентий видел склонившееся над ним красивое лицо камчадальской девочки. И вновь наступало забытье. Очнулся он через неделю.
Начиналась зима. Терентий поправился. Прощаясь с хозяевами, он никак не думал, что скоро возвратится обратно.
Своего родного места Терентий не узнал. Вместо стойбища Тигеля — одни головешки. Дома, в котором он жил, тоже не было. Стояла одинокая банька, из трубы которой шел дым. Кругом ни души. Шатаясь, Терентий подошел к бане, потянул дверь. Крик радости вырвался из груди. Перед ним стояли жена и сын.
Тигель со своим родом бежал в верховье Еловки, а когда исход восстания стал очевидным, он убил детей, жен и покончил с собой, не желая попасть живым в руки казаков. Брат Тигеля погиб вместе с Харчиным. Казаки сожгли стойбище рода, сожгли и дом Терентия, но семью его не тронули. Никто из камчадалов не сказал, что Терентий был на их стороне.
Обжитое место стало пустынным и мрачным.
Терентий погрузил оставшиеся пожитки на свои знаменитые сани, посадил жену, сел сам. Сын встал на лыжи, и они направились в стойбище, где вылечили Терентия.
* * *
Прошло еще восемь лет. Терентий вновь отстроился. Сын вырос, стал красивым двадцатилетним юношей. Его широкоскулое лицо говорило о монгольской крови матери, от отца он унаследовал высокий рост и физическую силу. Выросла и та девочка, которая помогала ухаживать за раненым Терентием.
Дети росли вместе и были неразлучны. По камчадальскому обычаю родители не вмешиваются в дела молодых, но оба — Терентий и отец девочки — хотели, чтобы дружба детей стала прочной. Они обрадовались, когда сын
Терентия — Семен — ушел в дом к будущему тестю, чтобы, как это принято, некоторое время отработать в семье невесты и получить согласие ее семьи на брак. После этого Семен со своей невестой Дуней должны были месяц прожить в доме Терентия, и наконец у родителей Дуни отпраздновали свадьбу.
В ночь накануне свадьбы вблизи стойбища появились казачьи отряды. Они не остановились у дома Терентия, а проехали дальше, к дому тойона.
С тойоном этого рода у Терентия сложились плохие отношения. Причиной тому были знаменитые сани.
В первые же дни, когда Терентий приехал на новое место, тойон предложил ему полуземлянку в обмен на сани. Терентий отказался. Тойон не на шутку разобиделся и перестал бывать у Терентия. Терентий тоже не заходил к нему. Шли годы. Казалось, тойон перестал интересоваться санями, но когда Терентий проезжал на них, тойон провожал его недружелюбным взглядом.
Прибывший казачий отряд заночевал у тойона.
Утром Семен вместе с отцом, матерью и Дуней поехали на санях к дому тестя, на другую сторону реки. Их встречала толпа гостей. Женщины пели то веселые, то грустные песни. Выступивший вперед шаман произнес заклинание, поворожил над головой сухой рыбы и отдал ее старухе, стоявшей рядом. Друзья и родственники Терентия, смеясь, подбежали к молодой. Они надели на нее хоньбу — длинную теплую одежду вроде халата, а поверх еще четыре меховых куртки — кухлянки. Дуня шагу не могла ступить без посторонней помощи. Ее подхватили, усадили в нарту, и все поехали вдоль берега к полуземлянке.
Из жилища встречать Дуню вышел ее младший двоюродный брат. Он помог ей слезть с саней и повел ее по холму полуземлянки к входному отверстию. Старуха с рыбьей головой в руках обогнала их и первой сошла по лестнице. Она положила голову рыбы на пол. Подбежавшие парни и девушки обвязали молодую ремнями и спустили вниз. Становясь на пол, Дуня с силой наступила на рыбью голову. Затем все спускались по лестнице и старались также наступить на эту голову. Когда гости собрались внутри жилища, старуха подскочила к рыбьей голове и, что-то шепча, яростно затопала по ней, а потом подняла ее и бросила в костер.
Рыбья голова, кухлянки, которые сняли только внутри жилья, спуск молодой на ремнях — все это, по поверьям камчадалов, должно было предохранить невесту от злых духов и обеспечить счастье будущей семье.
Обряд закончился. В костер подбросили веток, он разгорелся. Полуземлянка стала быстро нагреваться. Гости рассаживались поудобнее, чтобы приступить к свадебному пиршеству. По традиции в этот день угощение в доме тестя готовил молодой муж.
В самый разгар веселья громкий лай собак нарушил пир. По лестнице спускался казачий сотник. Следом за ним шел тойон и казаки. Было ясно, что пришли они не на свадьбу. Хозяин поднялся и подошел к сотнику:
— Я исправно плачу ясак, тойон подтвердит. У нас свадьба. Садись, гостем будешь.
Сотник окинул глазами всех сидящих и остановил свой взгляд на изуродованном шрамами лице Терентия.
— Я пришел за ним, он изменник и должен умереть!
— Нет! Он мой гость, он здесь мой гость!
Сотник положил руку на шашку, а казаки обступили споривших. Терентий смело подошел к ним:
— Ты пришел за мной? Но в чем моя вина?
Терентий и не предполагал, что тойон донес на него.
— Дело давнее, но ты-то, Шадрин, знаешь! Пришел царский указ: в каждом селении казнить одного русского и двух камчадалов, виновных в большом бунте. Из русских ты больше всех повинен.
Терентий горько усмехнулся:
— Что же, сотник, когда вешали друга Федора Харчина после всех, он сказал: «Жаль, что мне придется висеть последним!» Я готов, но уйдем отсюда, не мешай людям в их маленькой радости.
Терентий направился к лестнице. В эту минуту угрюмо молчавший Семен остановил его:
— Стой, отец, я сейчас!
Занесенный с ловкостью истого охотника нож выпал из руки Семена, перехваченный сильной рукой отца. Сотник, перепугавшись, отскочил от Терентия, схватился за шашку, но, видя, что опасность миновала, успокоился.
— Ты не спеши Терентий! Управитель приказал передать, ежели твой сын со своей женой отправятся добровольно в столицу, тебе будет дарована жизнь.
Еще в 1700 году казачий атаман Атласов сделал попытку вывезти с Камчатки в столицу одного местного жителя. Камчадал не перенес перемены климата, трудного и долгого пути и умер. Через девять лет новая попытка окончилась также трагически. В 1722 году царский двор прислал предписание послать несколько камчадалов в Москву, но никто из них не доехал до места. О всех попытках этих знали в камчадальских стойбищах и пуще смерти боялись такой поездки. Сейчас, весной 1739 года, Иркутская канцелярия решила снова повторить попытку, не удавшуюся прежним правителям. Управителю Камчатки было дано приказание отобрать молодые камчадальские пары и отправить их в Петербург.
Услышав слова сотника, Терентий побледнел:
— Слушай, сотник, я довольно уже пожил. Моя жизнь немного стоит, чтобы за нее отдавать две молодые жизни. Пойдем отсюда!
Семен горячо перебил отца:
— Нет, отец! Постой! Нас ведь не казнить будут, нас просто повезут в столицу.
Сотник кивнул, но Терентий хмуро проговорил:
— Сын, ты не знаешь, что такое этот путь. Никто еще из жителей Камчатки не доезжал даже до Томска.
— Но ведь в моих жилах течет твоя кровь!
— В твоих — моя, а в жилах твоей Дуни?
Семен умолк и взглянул на сетчатую перегородку, где сидели женщины. Он ждал. Его тесть, думая о чем-то своем, ни к кому не обращаясь, быстро заговорил по-камчадальски. За перегородкой кто-то всхлипнул, затем плач утих и голос Дуни произнес короткую фразу. Сотник ничего не понял. Терентий ласково, но горько улыбнулся, Семен радостно смотрел на отца.
— Дуня сказала: «Я поеду со своим мужем!»
* * *
В декабре 1739 года, на десятом году царствования вздорной и жестокой императрицы Анны Иоанновны, в Петербурге наступили сильные морозы, каких давно не бывало. Нева и ее притоки были прочно скованы льдом.
В такую стужу прибавилось хлопот у любимца императрицы временщика Бирона. В числе прочих занятий он должен был увеселять свою благодетельницу. С его легкой руки русский двор был наполнен шутами и шутихами, которыми нередко становились дворяне, навлекшие неудовольствие Бирона или «повелительницы всея Руси».
В один из дней декабря Бирон вошел в приемную, где его ожидали приближенные. Изобразив на своем лице страдание, Бирон воскликнул:
— Я несчастнейший человек! Здесь в России множество людей не столь помышляют о заслугах моих, сколь питают ко мне ненависть и неблагодарность. Я же верою служу России и матушке нашей императрице и не щажу живота своего на их благо. Однако вот уже несколько дней матушка-императрица ничем не развлекается, а я не могу примыслить способа развеять грусть на ее челе. Кто в моих помыслах мне поможет?
Картинно всплеснув руками, Бирон направился к выходу, но тут вкрадчивый голос одного из приближенных остановил его:
— Мне сообщили, что перед Голштинским замком искусные мастера изо льда соорудили двух львов в два раза больше натуральной величины. Что если, пользуясь стужей, соорудить на Неве против крепости Петра и Павла ледяной дом, сделать ледяные пушки и устроить празднество на потеху и радость матушки-государыни?
Бирон подозвал к себе говорившего, что-то шепнул ему и быстро пошел в покои императрицы.
На другой день во дворце знали о новой затее Бирона, и к концу дня было составлено два императорских указа.
В первом приказывалось в самое короткое время соорудить на Неве между дворцом и Адмиралтейством Ледяной дом в несколько комнат, всю обстановку в которых сделать изо льда.
Во втором — Кунсткамере — было приказано сделать зарисовки и эскизы с предметов и костюмов разных народов России, чьи коллекции были собраны в музее, и передать в ведение церемониймейстера двора различные костюмы, музыкальные инструменты, орудия и утварь, главным образом сибирских народов.
27 декабря вышел третий указ. Губернаторам всех национальных окраин России предписывалось к 6 февраля 1740 года доставить в Петербург по одной паре от всех нерусских национальностей в их «туземной одежде, на туземном транспорте» для придворного маскарада — «шествия народов России», которое должно быть в день «потешной свадьбы».
Пусть кто-то другой предложил устроить Ледяной дом, но справить «потешную свадьбу» шута князя Голицына и шутихи Бужениновой придумал сам Бирон. «Новобрачные» отправятся на ночь в этот дом, а по пути их будут сопровождать молодые пары разных народов России, и пусть тогда иностранцы видят, как богат и велик двор Анны Иоанновны, — так решили во дворце императрицы, готовясь к необычной потехе.
Из Москвы и Подмосковья, из всех предместий Петербурга сгоняли мастеров на строительство Ледяного дома. Во все концы империи самая спешная почта развозила указ о срочной отправке молодых пар.
Где-то около Урала Семена с Дуней повстречал курьер, везущий указ о «потешной свадьбе», и провожатые, узнав в чем дело, заторопились.
В конце концов сани почтовой тройки подъехали к Москве. Закутавшись в тулупы, в них сидели Семен и Дуня — двое камчадалов, вынесших долгий и тяжелый путь. Двое других, ехавших с ними, были похоронены вскоре после Иркутска. В узлах сохранилась праздничная одежда Семена и его жены, да тут же поперек розвальней стояли знаменитые сани Терентия. Тойон, предавший гостя своих сородичей, так и не получил заветных саней.
Отдых в Москве был коротким. Кони понесли камчадалов на север, в Петербург. Приближался день, из-за которого со всех концов России сгоняли людей.
Зима все так же свирепствовала. К исходу третьего февраля Ледяной дом был сооружен.
Сложенный из ровных больших кусков прозрачного льда, стоял он на ледовой площадке Невы. Солнце отражалось в нем и играло на гранях стен.
Дом был длиной в семнадцать, шириной в пять и высотой в шесть метров. По фасаду в нишах стояли ледяные копии шести греческих богинь. Статуи меньшего размера стояли на крыше. Верхняя часть дома была выложена плитками льда, подкрашенного в зеленый цвет. Дом окружала ажурная ледяная изгородь, а за ней — причудливые деревья с тонкими хрустальными листьями. Над входом стояли две небольшие остроконечные башни с часами, механизм которых виднелся сквозь прозрачные стенки. Слева от дома в натуральную величину стоял ледяной слон с седоком, одетым в персидский костюм. Слон выбрасывал вверх струи воды, а крепостной, спрятанный внутри него, подражал крику животного. В доме все было сделано изо льда: кровать с балдахином, столы, стулья, посуда, стаканы, рюмки, зеркала, различные кушанья. Даже дрова и свечи были ледяные. Облитые нефтью, они горели ярким пламенем.
Ночью, когда вспыхивали огни внутри дома и когда поставленные у ворот два ледяных дельфина выбрасывали огненные фонтаны зажженной нефти, все сооружение производило фантастическое впечатление. Было удивительно и необычно, что шесть трехфунтовых ледяных пушек и две ледяные мортиры стреляют настоящими ядрами. Море огня и света пробивалось сквозь ледяные стены.
И никто не задумывался, сколько труда вложили в это неповторимое и бессмысленное сооружение талантливые руки русских мастеровых. Это они заставили стрелять ледяные пушки, ходить часы, играть всеми красками глыбы льда.
Когда Семен увидел этот дом, он спросил:
— Зачем это? Солнце весны растопит лед, и все пропадет. Зачем?
6 февраля около трехсот гостей съехались к дому церемониймейстера двора князя Волынского. Отсюда начиналось шествие потешного поезда «новобрачных». Шута я
шутиху посадили в железной клетке на слона. Слон выступал впереди. За ним на санях, запряженных оленями, собаками, быками, козлами, свиньями, и верхом на верблюдах попарно ехали калмыки, башкиры, остяки, якуты, камчадалы, финны, ряженые дворцовые шуты и шутихи.
Семен с Дуней ехали на своих санях, запряженных собаками. Они проезжали мимо дворца. Императрица, опершись на руку Бирона, вместе со всеми заливалась смехом.
Поезд от дворца направился по главным улицам мимо особняков знати и прибыл на манеж Бирона. После пиршества и танцев все поехали к Ледяному дому. Шута и шутиху, под пушечную пальбу, отвели в спальню и оставили на ночь, поставив часовых, чтобы не сбежали.
Великая потеха закончилась. Семен и Дуня смогли отдохнуть на людской стороне дворца. На другой день их переодели в русские платья, так как придворные забрали себе «на память» не только те костюмы, сани, утварь и упряжь, которые привезли с собой посланцы разных окраин, но и то, что было взято в Кунсткамере, вернув музею лишь небольшую часть его коллекций. Кто-то взял и знаменитые сани Терентия — камчадальские сани с русским орнаментом на кузове и копыльях.
Семен и Дуня не долго были в числе дворцовых слуг. Вскоре после смерти Анны Иоанновны и свержения Бирона они уехали на родину. Семена взяли помощником переводчика Второй камчатской экспедиции Петербургской академии наук.
И вот Семен и Дуня снова дома. Все так же стоит дом Шадриных на самом краю стойбища, но уже много дней не горит в нем очаг. Похоронив жену, Терентий не дождался сына.
Отец Дуни положил руку на плечо Семена:
— Твой отец был очень хорошим человеком, хорошим русским человеком. Он любил сопку Шивелуч и Еловку. Мы увезли его туда и похоронили по-русски. На самой вершине поставили крест. Он был хороший, он ждал тебя, он знал, что ты вернешься. Ты его и наш сын, ты тоже будешь хорошим.
Больше он ничего не мог сказать и только беспрерывно раскуривал трубку.
На вершине Шивелуч ветер зимой наметал снега, а летом шевелил травы на одинокой могиле того русского, который жил вместе с камчадалами и любил этот народ. На долгие века завещал он будущей освобожденной России эту дружбу.
* * *
У саней, прибывших с Камчатки, было много владельцев. В семидесятых годах XVIII века во главе Петербургской академии наук стояла княгиня Дашкова. От нее в Кунсткамеру вместе с другими предметами поступили в дар старинные камчадальские сани с мотивами русского орнамента на копыльях и кузове. Тогда в специальной книге было записано, что это сани из Ледяного дома...
КАМЕНЬ СОЛНЦА

Почти пятьсот лет тому назад у подножия дымящегося вулкана Попокатепетль собрались тысячи людей, присланные правителями всех подвластных ацтекам земель: двадцатитонную каменную громаду по дамбам озера Тескоко нужно было доставить в ацтекскую столицу, город Теночтитлан, возвышавшуюся на острове. Камень Солнца водрузили на постаменте перед главным храмом как символ величия ацтекского государства, в котором жреческая каста обладала огромной политической силой и могла соперничать в своем могуществе с властью царей.
Идеально круглый диск диаметром в четыре метра символизировал ацтекскую Вселенную. В центре диска — рельефное изображение великого бога Солнца — Тонатиу. Тонатиу воплощал уже наступившую эпоху «четырех землетрясений». Вокруг изображения бога Солнца четыре квадрата с пиктографическими знаками — рисуночным письмом, с которого начиналась самая древняя письменность, — соответствующими уже пройденной, по представлениям ацтеков, истории мира.
Точная копия Камня Солнца — дар мексиканских ученых Ленинграду — с 1945 года занимает всю стену южноамериканского зала музея.
Всякий раз, когда я смотрю на Камень Солнца, я вижу не только мастерски исполненные узоры и пиктограммы, — в памяти встают дела и образы, пришедшие в легенды и историю.
...Чем выше к темно-синему небу устремлялась широкая горная тропа, тем труднее было обходить сбегающие на нее ручьи из камня и снежные языки. Гора Попокатепетль, покрытая ледником, выбрасывающая время от времени вулканическую лаву и камни, нависала над тропой. Юноша по имени Койельшауки, что означало «Человек, звенящий нефритовыми колокольчиками», второй раз в этом году отправился в ту сторону, где ночь скрывает солнце.
Он шел в город Теночтитлан — столицу теночков, горделиво именовавших себя людьми из страны Астлана — ацтеками. На этот раз он шел один. А тогда он был вместе с воинами, друзьями и братьями, вместе с могучим предводителем Тамалли.
В тот дождливый летний месяц Рождения цветов он был в боевых рядах тлашкаланцев, шедших на битву с теночками, отнявшими у тлашкаланцев право жить своими обычаями, своей верой. Тогда, всего лишь десять месяцев назад, Койельшауки шел вместе с другими на запад, и шел другой дорогой, дорогой, лежащей у Кукурузной горы — Шилотепетль.
Три дня прошло, как юноша покинул Тлашкалу, свой родной дом. Три дня назад его окликнула служанка и сообщила, что Мокель — несчастная супруга предводителя — родила сына. Весть эта пробудила память. Койельшауки вновь пережил день битвы, день, когда тлашкаланцы лишились своего вождя.
Войско тлашкаланцев заночевало тогда на берегу небольшой реки. Утро начиналось дождем, и дозорные не заметили врага, подошедшего под покровом серой дождливой завесы к спящему лагерю. Солнце разорвало тучи, полыхнуло лучами на влажную землю, подняло спящих, но враг был уже рядом, и посвист стрел огласил речную долину, смешавшись с криками раненых воинов и встревоженных птиц. Для тлашкаланцев бой был проигран. Койельшауки, которого Тамалли оставил в арьергардном дозоре, видел лишь конец сражения. Пятьдесят или семьдесят теночков окружили могучего Тамалли. В руках предводителя была зажата боевая дубинка. Он яростно размахивал ею, нанося удары, сокрушая врагов. Восемь теночкских воинов убил в этой схватке Тамалли и свыше двадцати ранил, прежде чем врагам удалось свалить его и связать. Тлашкаланец был взят в плен. Тлашкаланцы проиграли битву, и, когда Койельшауки вернулся домой, ему было стыдно перед людьми. Но никто не упрекал его за поражение Тлашкалы у Кукурузной горы. Разве можно было в чем-либо обвинять человека, звенящего нефритовыми колокольчиками, который честно нес дозор в арьергарде? Никто не обвинял юношу, но сам он не находил себе места и очень обрадовался опасному поручению Мокель.
Мокель, как жрица, способная проникать в тайны богов, не верила, что Тамалли погиб в плену. Она знала о жестокости жрецов Теночтитлана, об их власти над теночкским правителем Монтесумой, о тысячах пленных, принесенных в жертву богу Солнца — Тонатиу. И все же Мокель надеялась, что Тамалли еще жив. Она подозвала к себе юношу и сказала:
— Койельшауки, мой повелитель в плену. Я говорила с вождями и жрецами. Они благословляют твою дорогу. Проникни в город теночков, скажи моему повелителю, что у него родился сын. Скажи ему об этом и помоги, чем сможешь помочь!
Старый и мудрый Текат проводил юношу в дорогу. Он посмотрел на звезды и напутствовал его:
— Торопись, наступает немонтеми — пять несчастливых дней, которыми кончается ацтекский век.
И Койельшауки торопился. Ужасный смысл предупреждения Теката дошел до сознания не сразу. Немонтеми — пять несчастливых дней, которыми заканчивается пятидесятидвухлетний цикл — ацтекский век. Пятьдесят третий год — первый год Нового века, Нового цикла. В эти дни теночки гасили огонь в домашних очагах, ломали и крушили обстановку своих жилищ. Гасли огни и в храмах. В ночь, которой кончался пятый несчастливый день, детям не разрешали спать. Они бродили до рассвета из угла в угол, чтобы злые силы не превратили их в крыс. Все пять несчастливых дней, как перед катастрофой, над погрузившимися в темноту теночкскими поселениями стоял плач... Проходили немонтеми, и наступал торжественный праздник Нового огня. Во время этого праздника в жертву приносили пленных, захваченных в последних войнах.
Если Тамалли еще жив, то после немонтеми ничто не может спасти его. Юноша прибавил шаг. Мысль о том, что он сам может оказаться жертвой в праздник Нового огня, не беспокоила его.
Густые сумерки застигли Койельшауки на середине перевала. От ледника потянуло холодом. Плотнее задернув полы короткой холщовой накидки, путник остановился и внимательно посмотрел на звездное небо. Взгляд пробежал по звездным россыпям в поисках Венеры. От нее ведут ацтеки отсчет своего пятидесятидвухлетнего цикла. Сколько же еще дней в запасе? Дней не оставалось! С завтрашнего утра начинались немонтеми.
Койельшауки поправил единственное свое оружие — острый обсидиановый кинжал, прикрепленный к поясу набедренной повязки, и устремился вниз по перевалу к долине Анахуак.
Чем ниже по склону уходила тропа, тем ближе был сосновый лес, ночные обитатели которого тревожили душу гортанными криками, завываниями и хрипом. Юноша старался отогнать страх и вглядывался в темноту. Он различал отдельные группы ауэуэте — гигантского болотного кипариса, достигающего пятидесяти метров в высоту и пятнадцати метров в окружности. На рассвете сосновый лес остался позади — и показалось ровное поле, усеянное редкими колониями остролистных, утыканных шипами магей — местного вида агавы, из сока которой теночки делают дурманящий напиток пульке.
Болотный кипарис и агава означали, что Койельшауки вступил во владения теночков. Сойдя с тропы, юноша устроился под кипарисом и вскоре уснул.
Яркие лучи полуденного солнца и острое ощущение голода пробудили его. Первое, что увидел тлашкаланский воин, был орел, взлетевший над мощным кустом агавы со змеей, извивающейся в его когтях. Боги, несомненно, благословляли дорогу тлашкаланца в этой стране. Когда теночки пришли в долину Анахуак, они построили свой город на том месте, где увидели орла, сидящего на кактусе со змеей в когтях. Жрецы тогда решили, что орел со змеей в когтях — божественное предзнаменование могущества теночков.
То ли помог короткий отдых, то ли повторение легендарного знамения придало бодрости. Койельшауки подошел к агаве, сорвал мясистый лист, полакомился его мякотью и проглотил маисовую лепешку. Лепешки, уложенные в походной суме, были единственным, что он взял с собой из еды. Все остальное приходилось находить на этой чужой земле. Мякоть агавы утолила и голод и жажду. Тлашкаланец мог снова продолжать свой путь. Теперь он шел по земле врагов его племени.
На исходе пятого дня опасной дороги юноша увидел гладь озера и будто бы из воды вырастающие белые и красные дома столицы теночков, подвластные им города по краям озера и дамбы, которыми был соединен Теночтитлан с этими городами. Боги были на стороне посланца Мокель! Они помогли ему пройти незамеченным по чужой земле. Они помогут ему выполнить долг в дни немонтеми, когда не горят огни в ночи и теночки заняты проводами прожитого века.
Еще в родной Тлашкале мудрый Текат придирчиво подобрал одеяние юноши. Теперь Койельшауки мог убедиться, что он ничем не отличается от молодых теночкских воинов, спешащих по дамбам в столицу или на долбленках направляющихся к прибрежным плавучим садам "чинамп". С помощью таких садов, где растения корнями оплетали глинистую почву, жители Теночтитлана отвоевывали у озера новые участки для города.
Койельшауки лежал в укрытии недалеко от одной из дамб и внимательно наблюдал за проходившими по ней. Он не знал, где теночки держат пленных, он не знал, куда идти дальше. Единственное, что твердо знал юноша, — пройдут немонтеми, и его вождь Тамалли будет у огромной белой пирамиды, что возвышается над сорока теночкскими храмами в центре города. Но чем тогда сможет помочь ему Койельшауки? Каким бы опасным ни был пройденный путь, самое главное начиналось здесь, у начала искусственной дороги, идущей через озеро.
Юноша всматривался в лица людей, проходящих по дамбе. Может быть, он увидит пленных, может быть, придумает, как проникнуть в сердце ацтекской столицы...
Быстро наступившая ночь не озарилась ни единым огнем. Все светильники, огни во всех домах и храмах были погашены. Теночки шли по дамбе в полном мраке. Никто не обращал внимания на Койельшауки.
— Дорогу! — Властный окрик заставил юношу отскочить к краю дамбы. Мимо пробежал человек, острая тень пики в темноте выдавала в нем воина. За ним, тяжело дыша, бежали, сбившись в беспорядочную толпу, уставшие люди, а затем опять воины. Бежавший впереди не переставая кричал: «Дорогу!» «Пленные, — мелькнуло в голове. — Пленных гонят в город». Койельшауки быстро выбежал на середину дамбы и почти бесшумно побежал следом. Так и бежали они: впереди воин, потом сотня пленных, за ними воины и Койельшауки. Юноша старался сдерживать дыхание, но опасения были напрасны: любой шум тонул в грузном топоте пленных и воинов, в их прерывистых вздохах и криках. Койельшауки боялся отстать и бежал, почти наступая на пятки теночкского воина.
Однообразный шум вдруг сменился неразборчивыми, но властными окриками; тлашкаланец задержал бег, пытаясь понять, что происходит там, в кромешной тьме. Ночь упрямо хранила тайну, а окрики становились глуше, топот пленных вдруг оборвался — и наступила тишина. Юноша рванулся вперед и уткнулся в каменную стену. Ощущая левой рукой ее кладку, он побежал направо. Стена не кончилась. Он повернул и, так же не отрывая руки от прохладных камней, побежал в обратную сторону. Казалось, стена уходила в бесконечность.
Приглушенные голоса заставили вспомнить об опасности. Юноша остановился и отошел от стены. Почувствовав легкое дуновение листьев, услышав шум фонтанных струй, он решительно двинулся в ночь. Невысокая изгородь ограждала внутренний двор какого-то жилища. Оставалось рискнуть и спрятаться в густых зарослях плодовых деревьев и кустов, которые должны были окружать фонтан. Ночь спрятала дорогу, выбора не было.
Больно впились в ладони иглы можжевельника. Бесшумно раздвигая его, юноша ползком проник в заросли.
Рассвет так же быстро сменил ночь, как вечер сменил день. Солнце не могло пробиться сквозь плотную завесу
туч, окутавших за последний час небо над Теночтитланом. Крупные капли дождя ударяли по оголенным рукам и ногам, скатывались по щекам. В серой дымке дождливого утра отчетливо выделялся силуэт большого дома, выложенного красным и белым камнем. Он стоял в глубине двора, который отгораживал его от широкой дороги, проходящей вдоль высокой храмовой стены. Где-то за полосой дождя скрылся проход, куда исчезли пленные и воины.
И хотя обитатели дома еще спали и никого не было видно на дороге, покидать убежище в можжевельнике было неразумно. За дорогой начиналась территория главного храма. Пока не начался праздник Нового огня, туда нельзя проникнуть. Еще ждать день и ночь. Еще ждать окончания немонтеми. Только тогда можно увидеть пленных, только тогда можно выполнить наказ Мокель и передать новость Тамалли. Передать Тамалли! Но жив ли он?
Сомнения, обостренные ночными страхами, закрадывались в душу Койельшауки. Он еще плотнее прижимался к сырой земле и закрывал глаза. Боялся ли он смерти? Нет, убеждал себя юноша. Не боялся. А что, если он пришел слишком поздно? При этой мысли густой комок перехватывал горло, задерживал дыхание. Со стороны дома донеслись голоса, и тут же заглохли в нарастающем, как водопад, шуме со стороны дороги.
Пленные вновь, как и в ночи, внезапно появились на дороге. Вновь впереди бежал воин с пикой, за ним быстро двигались пленные, кто в плаще, кто в накидке, кто просто в одном коротком переднике, но почти все с кровоточащими или успевшими зарубцеваться ранами на теле. Пленных охраняли сбоку и сзади теночки, вооруженные мечами и пиками.
Но что это? Койельшауки даже вздрогнул от неожиданности. Знакомый замысловатый узор на плаще высокорослого могучего воина. Руки связаны, голова гордо поднята к серому небу. Он не бежал, а шел быстрой походкой. У него был такой широкий шаг, что охраняющие его шесть ацтекских воинов не поспевали за ним, трусили рядом. Пленный не смотрел в сторону Койельшауки, но юноша уже узнал его.
— Тамалли-цин!
Крик, перекрывающий топот толпы, шум дождя, заставил пленного резко повернуть голову и остановиться.
Стражники заметались. Откуда-то появились новые ацтекские воины, они сгрудились у ограды внутреннего двора. Койельшауки хотел выскочить из кустов, но отекшие ноги не слушались его. Пленных погнали дальше. Их уже не было видно на дороге, когда храмовая стена эхом ответила: «Тамалли-цин!» Ацтеки тревожно озирались по сторонам. И где-то совсем вдали вновь повторился тот же зов: «Тамалли-цин!»
Когда юноша смог наконец пошевелиться, на дороге не было никого, кроме теночкских воинов, а во дворе дома суетились его обитатели. Либо выйти из укрытия и погибнуть в неравной схватке, либо переждать и выполнить слово, данное несчастной супруге Тамалли.
До вечера Койельшауки пролежал в кустах, внимательно следя за дорогой у храмовой стены. Когда начнется шествие за Новым огнем, он смешается с теночками и будет как тень ходить за ними всюду. Ни один обряд у ацтеков не обходится без человеческих жертв. Там, где будут жрецы, там будут толпы ацтекских воинов и простолюдинов, там будут и пленные!
День был на исходе. Солнце уже скрылось за горизонтом. Узкая полоска западного края неба догорала уходящим заревом. В это закатное время многотысячный город, живший предчувствием ужасного обряда затаенно и озабоченно, очнулся. Разноголосый гул и тысячеустая песня, похожая на плач, полетели к звездам. По дороге вдоль храмовой стены нескончаемым потоком шли жители ацтекской столицы. Они несли в руках специально приготовленную для факелов паклю. К толпам теночков присоединялись и обитатели дома, в саду которого укрывался Койельшауки. Юноша ошибся. Немонтеми прошли.
Скоро на холм Уишачтекатл начнет восхождение главный жрец, сопровождаемый свитой, с ними обязательно будет кто-нибудь из военнопленных. Они взойдут на холм, поднимутся на пирамиду, венчающую его. На пирамиде сооружены два деревянных храма. Главный жрец и его свита, одетая в платья ацтекских богов, будут пристально всматриваться в небо, ловя момент такого сочетания звезд и утренней звезды — Венеры, которое означает зарождение нового века. В этот миг из разверзнутой груди принесенного в жертву пленного вынут сердце и на его месте жрецы зажгут огонь. Факелы, подожженные от него, скороходы доставят во все храмы пятидесяти городов, окружающих озеро Тескоко. Пламя Нового огня передадут с вершины тем, кто стоит внизу. Вспыхнут тысячи факелов, и люди понесут их к потушенным очагам и светильникам.
Когда Койельшауки оказался за храмовой оградой, у подножия Холма звезд, торжественная процессия жрецов уже достигла его середины. В сумерках фигуры были едва различимы, и все же юноша не увидел никого в процессии, кто походил бы на Тамалли.
Ритуальная песня зазвучала громче. Последний отблеск заката погас на небе. Прошло несколько минут, и на вершине пирамиды вспыхнуло яркое пламя. Стоявшие у подножия в ярких одеяниях теночки, некоторые из них были в шкурах ягуаров, издали радостный вопль, который, не смолкая, перекатывался по рядам. Как птицы, вниз с холма полетели зажженные факелы, которые несли скороходы. Огонь вспыхивал внезапно, ослеплял собравшихся, озаряя ликующих ацтеков. Новый огонь пришел на землю Теночтитлана, наступил новый век.
Факелы освещали дома, светильники — дамбы. Всю ночь город не спал. Всюду праздновали и пировали. Смешавшись с группой своих сверстников, Койельшауки оказался на чьем-то богатом дворе. Здесь угощали всех и все говорили о завтрашнем празднике Нового огня. Воины готовили доспехи и оружие, ведь будет турнир и будет сражение с пленными. «Сражение?» — удивился Койельшауки.
Гостеприимный хозяин подозрительно посмотрел на него. Разве он не знает, что пленным дадут не настоящие мечи с острыми обсидиановыми вкладышами, а лишь деревянную основу — почти детскую игрушку, какую дают для тренировки молодым воинам?
Подозрительный взгляд, казалось, пытался проникнуть в мысли тлашкаланца, но веселье было в разгаре, и гости отвлекли хозяина. Когда же он вспомнил о юноше, задавшем странный вопрос, то нигде не смог найти его. Тот уже давно покинул двор и теперь направлялся к главному храму.
Сегодня ночью много теночков осталось на храмовой площади. Кто славил богов песней, кто устраивался на ночлег. Огонь бесчисленных алтарей и светильников озарял все вокруг. Неподалеку от подножия холма Койельшауки
увидел огромный камень, установленный на невысоком, но массивном постаменте. На камне — рельефный диск, в центре которого изображение бога Солнца Тонатиу. Вокруг ацтекские рисунки, означающие прошедшие периоды истории мира и дни месяца. Койельшауки не боялся теночкских богов и, обойдя Камень Солнца, прилег на траву у его подножия.
Койельшауки плохо помнил, что происходило на храмовой площади до полудня. В памяти его смешалось все: молчание жертв, у которых жрецы, вспарывая грудь, вырывали сердца; ликующие крики ненавистной толпы теночков; кровь от ран, которые наносили сами себе ацтеки в жутком экстазе. Тлашкаланец кое-что знал о страшных обрядах ацтеков, но то, что он увидел, перевернуло душу, заставило ожесточиться сердце.
Теперь он не боялся никого и ничего. Встав в рост, юноша вышел из тени Камня Солнца.
...Прямо на него шел Тамалли, высоко подняв голову, сжимая в левой руке небольшой щит, а в правой — деревянную основу меча. Восемь ацтекских воинов — четверо в шлемах наподобие орла, четверо в шкурах оцелотов с боевыми мечами и щитами, — сопровождали Тамалли. Тамалли шел к Камню Солнца. Прославленный тлашкаланский воин был выбран для сражения в честь Нового огня.
Койельшауки пал ниц перед Тамалли.
— Тамалли-цин! Супруга Мокель передает тебе, что твой род осчастливлен сыном!.. Я выполнил свой долг и сдержал свое слово. Скажи, что теперь мне сделать для тебя, Тамалли-цин?
Тамалли, пораженный неожиданным появлением сородича, остановился. Воины кланов орла и оцелота ничего не понимали. Наверное, так и должно быть в день праздника? И они застыли в ожидании. Тамалли пришел в себя первым; он поднял с земли Койельшауки и быстро сказал:
— Мой воин, ты смел, как были смелы отцы и деды наши. Боги помогли тебе принести эту весть, я благодарю их и твое мужество. Я полагаюсь на небеса, а ты остерегайся и уходи. Уходи от врагов. Я буду сейчас биться с ними так, как бились наши предки. Ты передай это сыну.
Тамалли отстранил юношу и решительно подошел к Камню. Он встал спиной к нему так, что его затылок касался лица Тонатиу. Ацтекские воины, не обращая внимания на Койельшауки, отошедшего к зрителям, рассевшиеся на корточках вокруг Камня, веревкой привязали тлашкаланского воина к Камню Солнца.
«Трусы, трусы!» — звенело в голове Койельшауки, который презирал ацтеков и за их обряд, и за все приготовления к «сражению», ни чем не отличавшемуся от жестокого убийства.
— Начали! — донеслось властное откуда-то сверху холма.
И восемь воинов, подняв острые мечи, пошли на Тамалли. Скованный в движениях путами, тлашкаланский воин ждал врагов, улыбаясь полученному известию и вышедшему из-за туч солнцу. Он ждал врагов спокойно, готовый к битве, как будто в руках у него был настоящий меч. Койельшауки подался вперед и почувствовал, что зрители притихли. Все замолкло в ожидании кровавого боя.
Койельшауки, как и тысячи собравшихся на храмовой площади, увидел чудо, свершенное богами и человеком Тлашкалы — Тамалли. Моделью боевого меча тлашкаланский воин нанес два сокрушительных удара, и к подножию Камня Солнца хлынула кровь двух воинов клана оцелота. И в этот миг площадь взорвалось неистовым криком зрителей:
— Позор! Снимите путы! Позор! Дайте тлашкаланцу настоящее оружие — и пусть будет настоящий бой! Позор!
Собравшиеся вскочили. Крики их достигли вершины холма. И вновь властный голос, тот же самый, который возвещал начало боя, слетел с высоты:
— Снять путы! Продолжайте бой, воины ацтеков, воины кланов орла и оцелота!
Тамалли, освобожденный от веревки, сделал выпад и, легко увернувшись от занесенного меча, вновь нанес удар. Воин клана орла остался лежать на подступах к Камню Солнца. Зрители неистовствовали, и нельзя было понять: то ли они порицали своих воинов, то ли восхищались доблестью врага. Пятеро оставшихся в живых перестроили свои ряды и вновь двинулись на Тамалли. Чей-то меч рассек ему щеку, но рана только придала силы — и еще двое остались лежать на земле. В столице ацтеков в праздник Нового огня совершалось нечто невиданное, невозможное. Воин мечом без обсидиановых вкладышей поражал восьмерых хорошо вооруженных бойцов! Об этом через много лет расскажут в легендах, и, возможно, никто не поверит, что так было на самом деле.
Наступил такой момент, когда лицом к лицу с Тамалли осталось двое противников. И тотчас, рассекая обезумевших зрителей, двадцать воинов клана орла бросились на помощь ацтекам. Двадцать два воина пытались одолеть Тамалли, а он, подхватив боевой меч врага, отражал их нападение. Толпа оцепенела. Такого не было, такого не могло быть. Ацтеки вели бесчестный бой. И когда Койельшауки рванулся вперед, чтобы помочь своему предводителю, десятки юношей устремились за ним. А толпа ревела, заглушая шум битвы:
— Позор! Свободу и жизнь! Жизнь! Жизнь!
— Жизнь! — скандировали зрители, а Койельшауки, его неожиданные помощники и сам Тамалли раскидывали воинов клана орла.
«Жизнь! — неслось над площадью, как призыв, как требование. — Жизнь!»
Громоподобный голос прозвучал с высоты пирамиды:
— Остановитесь, воины!
И все замерло. Воины опустили мечи: отступила от них толпа; опираясь на Камень Солнца, опустил свой меч Тамалли. Рядом с вождем, поддерживая его, стоял Койельшауки, готовый вновь броситься на врага.
— Великий Монтесума, — донесся голос с вышины, — дарует бесстрашному Тамалли жизнь и назначает его предводителем победоносного войска ацтеков! Слава великому Монтесуме!
«Слава! Слава!» — подхватила толпа, а воины клана орла преклонили колени перед новым предводителем. Площадь ликовала. Такого никогда не видели ацтеки, такого еще никогда не случалось.
Когда стихли радостные крики, обращенный к вершине холма голос Тамалли взлетел над людьми:
— Великий Монтесума! Пусть твоей мудростью гордится твой народ, но, встав во главе твоего войска, я пойду против своих, а жизнь, купленная предательством, не для меня! — И совсем тихо: — Койельшауки, ты хотел помочь мне? Дай свой кинжал!
Как завороженный юноша передал обсидиановый кинжал Тамалли. И вновь над толпой зазвучал голос тлашкаланского вождя.
Тамалли обратился к собравшимся:
— Я люблю свою землю, свой народ больше, чем свою жизнь!
Сильной рукой он ударил кинжалом в грудь и рухнул к подножию Камня Солнца...
Прошло полмесяца — десять дней. На одиннадцатый день — день обезьяны — в доме Мокель появился Койельшауки. Он молча прошел в дальний угол, где лежал крошечный сын Тамалли, и положил у его изголовья обсидиановый кинжал с застывшими каплями крови...

* * *
13 августа 1520 года конкистадоры Кортеса завершили кровавую бойню в столице ацтеков. Пять шестых Теночтитлана были разрушены и объяты пожаром. Город перестал существовать. Через десятилетия заросло, а затем и высохло озеро Тескоко. На его месте во времена испанского владычества возникло новое поселение, после войны мексиканского народа за независимость оно стало столицей Мексики — городом Мехико.
В 1941 году перед президентским дворцом в Мехико прокладывали новые трамвайные пути. Здесь-то рабочие и натолкнулись на Камень Солнца. Его извлекли из земли и поставили на почетное место в национальном музее, а точную его копию в знак восхищения подвигом ленинградцев в годы Великой Отечественной войны мексиканские ученые отправили в Ленинград.
В дни летних олимпийских игр в Мексике, наряду с символом из пяти колец, символом столицы олимпиады был Камень Солнца. Мексиканский народ отдавал дань предкам, которые населяли эту землю, жили, боролись и страдали на ней. Нет ни одной более или менее значительной книги по истории Мексики ацтекского периода, чтобы в ней не упоминалось о чудесной победе пленного тлашкаланца над воинами кланов орла и оцеолота.
В Ленинграде только копия Камня Солнца, но в ней все щербины и сколы подлинника, в ней — сохраненная память о подвиге, совершенном в 1507 году.
ПЛАЩ ИЗ ПТИЧЬИХ ПЕРЬЕВ
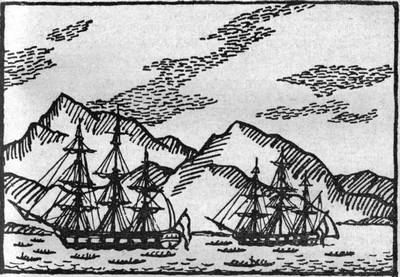
В конце декабря 1778 года корабли третьей кругосветной экспедиции Джемса Кука взяли курс от Австралии на северо-восток, имея намерение пройти Беринговым проливом и Ледовитым океаном в Европу. Экспедиция состояла из двух кораблей — «Резолюшн», которым командовал начальник экспедиции, уже знаменитый английский мореплаватель Кук, и «Дискавери», под командованием капитана Кларка. Длительная совместная работа и трудности морских переходов сблизили внешне и по темпераменту разных людей — Кука и Кларка. Кук отличался завидным здоровьем. Кларка часто мучили приступы лихорадки или простуды. Кук мог вспылить, быть резким, Кларк обычно оставался хладнокровным, что многие принимали за надменность. Кларк был не только капитаном «Дискавери», но и помощником Кука по экспедиции. Помощником капитана Кука на «Резолюшн» был Кинг — молодой и самолюбивый офицер, которого команда не любила и не уважала за спесь.
Оба корабля куковской экспедиции шли открытым океаном и приближались к точке с координатами 18° северной широты и 155° восточной долготы.
Ветер, налетавший порывами, ослабел. Еще немного, и оба больших судна, идущих под английским флагом, вынуждены будут задрейфовать.
— Капитан, капитан! — донеслось из наблюдательной бочки. — Разрази меня гром, я вижу землю.
Матрос кричал, вытянувшись во весь рост, и показывал руками на северо-северо-восток, прямо по курсу корабля.
— Тебе померещилось, Дик, здесь нет земли. Я не вижу ее!
— Капитан, вы не туда смотрите! — кричал сверху матрос.
Джемс Кук резко повернулся и, подняв подзорную трубу, посмотрел вперед.
— Земля, на самом деле земля, а на картах здесь пустой океан, — задумчиво произнес Кук и крикнул матросу: — Дик, высматривай бухту!
— Есть, сэр, — донеслось сверху.
Дик, ладно скроенный природой — рослый, с широченными плечами, добродушным открытым лицом, в каждую пору которого накрепко впились тропический загар и соленый ветер, — пользовался любовью экипажей обоих кораблей.
На экспедиционном судне «Дискавери» он появился еще во время второго кругосветного путешествия. Тогда Кук, обследовав Новую Землю, дрейфовал вблизи небольшого острова. Матросов послали на берег в поисках пресной воды. На безымянном острове они встретили Дика, который, путая английскую речь с полинезийской, толком ничего не мог объяснить в первые минуты. От радости он плакал, падал перед ними на колени, вскакивал, бросался обнимать каждого, бормоча при этом какие-то непонятные слова.
Дик был матросом на английском купеческом судне, которое совершало плаванье вокруг Африки в Китай. Однажды, когда корабль уже прошел зону Индонезийского архипелага, страшный ураган разломал снасти и отдал беспомощную посудину во власть Тихого океана. Корабль носило несколько суток, било о рифы и подводные скалы. Люди покидали судно, но многие, если не все, погибли. Сколько их осталось в живых — Дик не знал. Волны выбросили его на берег. Много дней и ночей провел он на острове, покрытом пышной растительностью, среди добрых островитян.
У матроса не было семьи, и он всей душой привязался к команде. Когда Кук забрал его на «Резолюшн», Дик искренне огорчился, но вскоре понял, что команды обоих кораблей — одно целое. Кук держал Дика при себе, ценя его морскую хватку и неплохое знание местных языков и обычаев — все-таки Дик провел среди островитян Тихого океана почти два года.
Хорошо вооруженные корабли медленно подходили к неведомой земле.
Восемь больших островов вытянулись в океане цепочкой с севера на юг. Перед путешественниками предстал самый южный и самый большой остров архипелага — Гавайи. Над ним возвышались снежные вершины вулканов Мауна-JIoa и Мауна-Кеа. Даже палящее солнце тропиков не может растопить их снеговые шапки. Чем ближе к подножию гор, тем гуще тропический лес. Пышная растительность ярким ковром покрывала восточные равнины. На западе, где дожди выпадали реже, ее было меньше.
Берега острова то крутые, то отлогие. Во многих местах буруны предупреждали о коралловых рифах. Только напротив небольшого селения удалось найти удобную гавань.
— Капитан! — донеслось сверху. — Я вижу бухту. Но окати меня волной, если я не вижу и людей, они прыгают в лодки, капитан. Если это не людоеды, я не прочь с ними встретиться. Они выглядят вполне прилично.
Корабли входили в гавань, и уже простым глазом можно было различить далекие строения и людей, появившихся на берегу.
— А они на самом деле красивы, эти люди. — Кук обратился к офицерам: — Господа! Мы открываем новую землю. Возможны любые неожиданности, прошу всех быть на своих местах.
Убрали паруса, и корабли, готовые к бою, стали на якоря. Уже много месяцев экспедиция Кука бороздит моря и океаны. Позади необитаемые берега и населенные страны, и всякий раз тревога охватывает команду, когда на горизонте встает неведомая земля. В такие минуты Кук старался сохранить хладнокровие. «Что теперь ждет меня на этой земле, — думал капитан, — что это за люди, что мне сулит встреча с ними?»
Вблизи можно было разобрать, что открытая земля — большой населенный остров, а слева от него сквозь легкую дымку марева полуденного зноя угадывались другие острова, уходящие на север.
Навстречу кораблям спешили на лодках обитатели острова.
* * *
В те времена жители восьми островов находились в постоянной вражде друг с другом. Соседи нападали на соседей, захватывали добычу, уводили в свои селения военнопленных и превращали их в рабов. Главными враждующими силами были остров Гавайи и остров Оаху, славившийся плодородием своих земель.
Каждый остров имел своего верховного правителя — владетеля всех земель, всех лесов и вод, омывающих обрывистые, с голыми скалами, и отлогие, с пышной растительностью, берега.
Самых богатых и знатных жителей острова называли алиями. Когда умирал правитель, каждый из алиев старался захватить власть и шел войной на своего соперника. Войны между островами, войны на своем острове — сколько они уносили жизней! Больше всех страдали свободные крестьяне, ремесленники и арендаторы. В случае поражения их предводителя они становились рабами, а что может быть ужаснее для человека, чем потеря свободы и права быть человеком? Сохранить жизнь раба или нет — это было во власти алиев.
Многим распоряжались, многим владели алии. Даже желтые попугайчики «оо» и красные попугаи «ииви», беспрестанно порхающие в густых сандаловых лесах, принадлежали им.
Островные государства имели свои неписаные законы, толковать которые могли только алии и жрецы. Сильная каста жрецов своим могуществом могла равняться с алиями. Она зорко охраняла свои интересы и интересы верховного правителя острова. Власть его была безгранична.
«Табу! Табу!» — священное и неприкосновенное. Табу — запрет. Табу на горы и леса, на пещеры и капища, где жрецы совершали таинство — жертвоприношения.
На наследника правителя тоже табу. Простого смертного, посмевшего взглянуть на наследника днем, умерщвляли мгновенно. На первую рыбу, пойманную в океане, было табу. Ее отправляли в дар правителю. На первые плоды с новых деревьев — табу, они шли на стол правителя. На длинные плащи мамо из перьев оо и ииви — тоже табу. Их мог носить только правитель. И никто из его ближайших помощников, даже самые знатные из алиев, не смели иметь длинный плащ, они носили накидку или короткий плащ — ахуула.
Никто не смел нарушить табу. Жрецы знали много легенд и страшных историй о нарушениях табу, пугали ими людей. Напевая эти легенды во время церемоний, жрецы день ото дня внушали соплеменникам повиновение правителям, богам и духам.
Но жил на острове один алий, который откровенно смеялся над бессмысленными табу и сочиненными жрецами легендами. Мужественный человек, сильный и знатный алий, богатство которого почти равнялось богатству самого правителя, внушал страх владыке острова.
Алия звали Камеамеа.
В двадцать лет Камеамеа стал во главе своей оханы — общины. Такого еще не бывало на острове. Все братья и сестры, их жены и мужья, дети и племянники подчинялись ему, а он один, только он один, отвечал перед государем — правителем. Владения Камеамеа больше моку — округа (на моки делится весь остров). Земли его оханы, разбросанные в пригорных и прибрежных районах, были удобны и плодородны. На полях, устроенных террасами по горным склонам, густо росли основные культуры острова — таро и ямс. В засушливое время года воды горных потоков, перекрытых шлюзами, раз в неделю орошали поля. Когда вода стояла на полях-террасах, те казались бассейнами, бортики которых выложены из камня.
Дома Камеамеа — обычные прямоугольные жилища из жердей и травы, с двускатной крышей, покрытой ветками и листьями. У Камеамеа было несколько домов: один для него самого, другой для женщин, третий для ремесленников и рабов. Один небольшой дом был для идолов. В нем хранилось очень старое деревянное изваяние великого бога Лоно. Главный жрец острова боялся покровительства этого бога Камеамеа и старался не замечать насмешки алия над табу.
Ремесленники и рабы Камеамеа были искусными мастерами. Они выделывали украшенные орнаментом посудины — калебасы из тыквы-горлянки, полировали зеркала из кусков вулканической лавы и делали для рабов-земледельцев простейшее орудие — заостренную палку, которой возделывали землю. Такие красивые колебасы и зеркала не умели делать даже рабы правителя.
Ремесленники и рабы Камеамеа сплели из крошечных перьев оо и ииви наряд алия — главы оханы — шлем с высоким гребнем и короткий плащ. Когда хозяин надевал наряд, его стройная фигура с гордо поднятой головой приобретала величественную осанку. На ярко-красном плаще симметрично расположились узоры из желтых перьев, похожие на лезвия старинных секир. Широкая желтая кайма украшала низ плаща, и легкая желтая опушка шла по гребню красного шлема.
Но не этим богатствам завидовал правитель, не они вызывали его ярость. Владыку приводило в бешенство то, что у Камеамеа птицеловов-охотников за редкими попугаями было больше, чем у него; что во время войны, когда алии должны были приходить со своим войском, Камеамеа выставлял самый большой отряд воинов; что до сих пор ненавистный алий, хотя он живет уже не менее сорока лунных лет, устраивает «испытание смертью», которое он, владыка, не может запретить или повторить. Сам верховный жрец благословляет этот обряд, и владыка острова вынужден присутствовать на нем.
Раз в год алии и свободные крестьяне из всех моку сходятся к отлогому берегу, усеянному мелкой галькой. Камеамеа идет вдоль берега, а несколько воинов бросают в него копья. Пружиня мускулистым телом, ловко отворачиваясь от летящего оружия, алий идет вперед, приседает, прыгает и ловит руками пущенные в него копья.
Все восхищаются смелостью и ловкостью алия, но никто не решается повторить это испытание. Никто! Слава о Камеамеа идет по островам, а правителю остается утешать себя одной мыслью: никогда Камеамеа не наденет плащ мамо...
Гордый алий думал иначе. Уже давно приказал он своим рабам сделать для него плащ мамо, длинный плащ табу. Делать его могли лишь старики. Тех, кто начинал плести основу, уже не было в живых, и теперь другие мастера продолжали труд, не зная, закончат ли они работу. К основе, представляющей сеть из волокна растения олона, необходимо привязывать одно за другим крошечные перышки. Чтобы сделать короткий плащ, надо потратить годы, а на длинный плащ верховных владык острова — десятилетия. На плащ мамо шли перья почти двух тысяч попугайчиков, и Камеамеа обложил все подчиненные оханы данью пером.
Этот алий, наверное, действительно не боялся богов, если задумал при жизни правителя стать владыкой острова, и только ли одного острова? Даже Коа, любимый племянник, надежный помощник в его делах, не знал, как далеко идут помыслы Камеамеа.
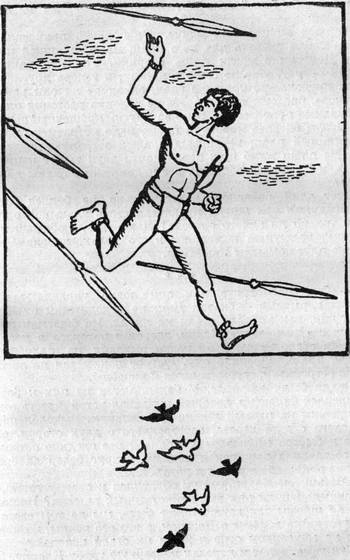
* * *
— Сэр, посмотрите, как они ловко управляются со своими корытами, — сказал Дик, не отходивший от Кука с тех пор, как корабли стали на якоря. На флагман перебрался с «Дискавери» Кларк, здоровье которого в последние дни стало хуже, и он редко выходил на палубу из каюты, предоставленной ему. Матрос показывал на легкие лодки островитян, стремившихся к кораблю.
Лодки были длинные. У большинства из них к борту прикреплен балансир, который придавал устойчивость этим неуклюжим на первый взгляд суденышкам. Выдолбленные из целого ствола дерева, заостренного с двух сторон, они легко и быстро скользили по волнам. Все одеяние островитян составляла неширокая повязка вокруг бедер да браслеты из ракушек на руках и ногах.
— Капитан Кларк, — Кук обратился к своему гостю, — не напоминают ли они вам воинственных римлян? Посмотрите на шлемы тех двух. Может быть, мы на том свете и нам уготована встреча с Цезарем, а это его воины, которых жгли на медленном огне и кожа их стала красной.
Кук усмехнулся и передал подзорную трубу Кларку. На носу двух лодок стояли рослые мужчины в высоких наподобие кирас легионеров красно-желтых шлемах и такого же цвета накидках на широких плечах. Подплывали они молча. Только вода всплескивала под ударами весел.
Кларк улыбнулся и передал трубу Кингу — помощнику Кука.
— Сэр, — отрывисто произнес Кинг, — вы не обратили внимания на топоры и дротики, которые сжимают безмолвные посланцы сатаны?
Кук поднес трубу к глазам. Да, он видит оружие. Спокойные, мужественные лица островитян не выражают ни страха, ни ненависти. Они спокойны, удивительно спокойны.
— Не беспокойтесь, сэр, — Дик повернулся к Кингу, — нам они не грозят преисподней. Пусть мне не встречать попутного ветра, если я не прав. Здешние туземцы, видно, миролюбивый народ, во всяком случае на нас они нападать не хотят, но они любопытны, дьявольски любопытны.
— Дик прав. — Кларк медленно пошел в каюту, а Кинг презрительно повел плечами. Он не мог понять, почему капитан Кук позволяет Дику при офицерах высказывать свои суждения. Конечно, он полезный матрос, он знает много языков, обучен лучше других, но все же... Флотилия
лодок разделилась и стала обходить корабль. Кинг резко повернулся к Куку:
— Не кажется ли вам, сэр, что это уж слишком. Туземцы обходят нас, а так как это не привидения, не стоит ли пугнуть их?
Кук не ответил, мозг лихорадочно работал: «Чего они хотят?» Матросы с затаенным страхом наблюдали, как лодки окружали корабль, — чего они хотят?
Было удивительно тихо, так тихо, что становилось жутко. Лодки не пытались пристать к борту. На расстоянии проходило безмолвное знакомство.
Вдруг одна лодка подошла к якорному канату, островитянин, удивленно качая головой, потрогал канат рукой и стал старательно его пилить каким-то инструментом. Канат не поддавался, островитянин потянул его и, отчаявшись понять, что это за штука, отплыл назад.
Кук нервно сжал подзорную трубу, так что побелели кончики пальцев. Кинг приблизился к капитану:
— Я считал бы уместным, сэр, дать команду зарядить пушки.
— Отдайте приказ. — Кук подошел к самому борту. Лодки теснее окружили корабль. Островитяне, показывая на Кука, громко закричали: «Лоно!» — И пали ниц.
Вот они поднялись, и теперь над океаном зазвучала какая-то удивительно мелодичная громкая песня, похожая не то на воинственный марш, не то на гимн.
— Окати меня волной, — старался перекричать певцов Дик, — если это не гимн в вашу честь, капитан! Мне знакомы некоторые слова, я слышал их на юге, у земли, где стоят каменные чудища. Это вам они кричали Лоно! Что вы хотите делать, капитан?
Но Кук не слышал матроса, он повернулся к Кингу и приказал бомбардирам открыть огонь, взяв прицел дальше лодок.
— Я только попугаю их, — решил Кук.
Раздался выстрел, дым на мгновение закрыл океан, остров и лодки.
— Сейчас разбегутся! — воскликнул Кинг и поднес подзорную трубу.
Через минуту он подал ее Куку.
— Посмотрите сами, сэр, я ничего не понимаю.
Лодки стояли на месте, а сидящие в них громко и радостно кричали уже знакомое короткое слово — Лоно!
Кук был недоволен собой. Нервы не выдержали! Он приказал разрядить орудия и быстро ушел в каюту.
К вечеру лодки возвратились к берегу, и Кук вызвал к себе всех офицеров.
— Господа, — Кук подошел к карте, лежавшей на столе, и ткнул пальцем в точку севернее Камчатки. — Мы идем сюда, к проливу Беринга. У нас мало времени, и мы не можем задерживаться здесь, у этих неизвестных островов, как бы благословенны они ни были. Нам предстоит трудный путь, мы можем больше нигде не встретить людей, пресной воды и пищи. Как бы ни было неудачно первое знакомство с островитянами, только здесь мы можем пополнить запасы пресной воды и провианта.
— На этих островах, сэр? — язвительно заметил Кинг.
— Да, на этих островах, сэр, которые так напугали вас. — Кук раздраженно посмотрел на своего помощника. — Именно здесь, господа, на этих островах. Черт возьми, они никак еще не названы. Я предлагаю назвать их Сандвичевыми островами, в честь сэра лорда адмиралтейства Британии Сандвича. Господа офицеры не возражают? — Кук посмотрел на собравшихся, те сосредоточенно разглядывали карту и кивком головы выразили свое согласие. — Итак, господа, завтра с утра приготовьте бусы, гребешки, иглы, кольца для обмена с туземцами. Если они не пришлют своих послов на борт, я сам с Диком и с кем-либо из вас, господа, сойду на берег.
* * *
Еще утром, заметив в открытом океане две быстро приближающиеся к острову точки, Камеамеа отправил Коа на берег, дал ему нескольких воинов и приказал разузнать о пришельцах.
Прошло много времени, солнце спешило к закату, а Коа не возвращался. Алий нервничал. Гавань была скрыта от дома Камеамеа горным склоном. Рабы, выстроившись цепочкой, передавали хозяину, что видно стоящему на гребне. Хозяин был недоволен. Получаемые сообщения не разъясняли, почему там кричали «Лоно!» и что это за громовый удар, раздавшийся из-за горы. «Неужели, — думал алий, — самому надо идти на берег? Нет!»
Камеамеа умел ждать.
На берегу в жилищах не гасли светильники, и до рассвета люди толковали о событиях прошедшего дня. Один Камеамеа ничего толком не знал. Он терпеливо ждал Коа.
Вздремнув на миг, Камеамеа очнулся от легкого шороха. Открыл глаза. В почтительной позе Коа стоял перед алием, а слова так и вертелись на кончике языка.
Камеамеа улыбнулся:
— Ты, видно, был и в доме правителя, и у верховного владыки духов? Рассказывай, я долго жду тебя.
— Да, повелитель, я был у толстого Торреобоя (тут Камеамеа усмехнулся: никто на острове так не называл вслух правителя, но в доме алия люди становились смелее) и великого владыки духов, я подходил к большим лодкам, которых раньше не встречал в океане, и видел на них людей с белой кожей, такой, какая была у великого Лоно. Они из толстого черного бревна пустили в океан огонь, и все наши люди кричали «Лоно!». О Лоно говорили у толстого Торреобоя и у верховного жреца. «Завтра день Лоно! Завтра Лоно вернется к нам. Он прибыл на двух больших лодках и с ним вся его семья — охана!» — так сказал великий владыка духов, а потом запел легенду, которую повелитель сам знает, легенду о Лоно. Я все сказал, повелитель, но я ничего не понимаю. Я видел на лодках людей с белой кожей, разве они боги?
Коа замолчал и выжидающе посмотрел на Камеамеа, а тот сидел с закрытыми глазами и думал. Он, конечно, знает легенду о Лоно, ее часто рассказывал отец.
Лоно был сильный и мужественный воин. Храбрый охотник и хороший рыболов. Он одним из первых поселился на этом острове. Его охана всего имела вдоволь. Повсюду почитали его, как вождя, и преклонялись перед ним, как перед божеством солнца. У него была белая кожа.
Однажды жена Лоно нарушила табу. Она выпила при нем сок кокосового ореха, а обычай запрещал женщине есть с мужчиной в одном доме. В гневе Лоно убил ее. Но после, мучимый раскаянием, предался глубокой скорби и лишился рассудка. Он хотел найти утешение в смерти, объехал все острова, вызывая желающих на борьбу и кулачный бой, но никто не мог одолеть его. Лоно был бессмертным. Тогда он покинул на лодке остров и сказал, что не вернется, пока не заслужит прощения богов.
С тех пор прошло много сотен лет. Каждый год в день, когда Лоно покинул остров, происходят кулачные бои. В этот же день устраивает испытание смертью Камеамеа.
Камеамеа знал, что Коа ждет ответа, и прямо посмотрел в глаза племяннику:
— Завтра день Лоно. Завтра эти люди или боги придут на берег. Ты, Коа, не боишься людей и не будешь страшиться богов, ты пойдешь к ним, все будешь видеть, все запоминать. Завтра четырнадцать воинов вызвались бросать в меня копья. Ты приведешь белокожих на берег. Если они боги, они поймут наш язык. Камеамеа будет ловить копья в честь бессмертного Лоно. Ты можешь сказать им. Ты не боишься, Коа?
— Нет, повелитель, я не боюсь!
Юноша покинул дом хозяина. Над Мауна-Лоа вставало солнце, и утро будило залив и селение Каракакуе.
Наступил день Лоно.
Коа вместе с двумя военачальниками и несколькими воинами направился в лодке навстречу богам. С затаенным чувством страха и любопытства они пристали к борту корабля. Все трое были одеты в праздничный наряд алиев. С корабля бросили веревочную лестницу, и Коа решительно полез по ней. Наверху, на палубе, он очутился лицом к лицу с белокожим богом и, склонившись ниц, пробормотал приветствия. Он был уверен, что бог поймет его язык. Ведь Лоно жил на этих островах.
— Дик, вы что-нибудь понимаете? — Кук обратился к своему любимцу.
— Что-то понимаю, сэр, мне сдается, разрази меня гром, простите, сэр, что он бормочет приветствие какому-то богу Лоно. Я попробую спросить его.
Дик быстро заговорил на наречии туземцев южных островов. Пока матрос переводил, Коа выпрямился и с любопытством смотрел на белокожего. "Он не понял нашего языка, а этот бородатый белокожий говорит так, как не говорят на наших островах, но его слова можно понять. Бог Лоно не понял своего языка, значит. . ." Коа испугался своей догадки и сказал:
— Владыка острова и мой повелитель просят белокожего прибыть на остров на праздник в его честь, в честь бога Лоно.
Дик с трудом понял слова островитянина, перевел их и добавил от себя:
— Сэр, насколько я понял, они вас приняли за бога и приглашают на праздник в вашу честь.
Офицеры, стоявшие вокруг, дружно рассмеялись, а капитан Кларк заметил:
— Что же, сэр, поскольку вы их бог, вам будет легче уладить все дела, и не стоит разуверять их.
Коа вслушивался в речь чужестранцев и ничего не мог понять, он подошел к борту и, прежде чем спуститься в лодку, еще раз сделал поклон белокожему и показал на остров. Островитянин приглашал Кука с собой.
Вскоре от корабля отошла лодка, на которой приехали послы, и отплыл бот капитана. Кук с Диком и двумя офицерами направились на берег. Лодка островитян перегоняла тяжелый бот, и Коа приходилось останавливать своих гребцов: к берегу надлежало пристать вместе.
А на берегу залива Каракакуе собирались толпы островитян, одетых в праздничные наряды в честь дня Лоно. Алии были в коротких плащах из перьев и в шлемах. На женщинах, кроме набедренных повязок, были накидки из тонкой тапы, приготовленные не как обычно — из простого древесного луба — а из его наиболее тонких и мягких волокон. У мужчин и женщин на руках и ногах были браслеты из кабаньих клыков, раковин, на шее — ожерелья из птичьих перьев.
Народу собралось много, и только возвышение, где обычно восседал владыка острова, пустовало. Правитель с верховным жрецом не пришли смотреть на «испытание смертью», они ждали встречи с живым Лоно.
Камеамеа подошел к краю берега, повернулся лицом к четырнадцати воинам, поднявшим копья. Он снял накидку, шлем и остался в одной набедренной повязке. Прозвучала сигнальная раковина — и испытание началось. Камеамеа прыгал в сторону от копья, летевшего прямо на него, или, изловчившись, хватал его руками. Смотревшие замирали от восхищения.
Вот уже пролетело двенадцать копий, осталось два, как над толпой пронеслось: «Лоно!» — и люди склонились к земле.
Камеамеа обернулся. Две лодки пристали к берегу. Из одной вышел Коа, из другой, широкой и короткой, человек с белым лицом, длинными волосами, в темной одежде. За ним выпрыгнули еще трое. Они производили странное впечатление. Алий хотел было, как и все, склониться к земле, но, поймав взгляд Коа, смело посмотрел на пришельцев. Они шли к нему.
— Повелитель, он не понял нашего языка, его имя Кук, он сказал, что никогда не видел такого храброго воина, как ты. — Коа спешил передать новость алию так, чтобы никто другой не слышал.
— «Кук, не Лоно! » — подумал Камеамеа и вслух добавил:
— На всех островах нет воина, который может поразить меня копьем, я поймаю копье! Так мог делать только Лоно.
Алий выразительно посмотрел на Кука, ожидая, какое впечатление произведут его слова, но белокожий смотрел по сторонам. «Да, он не понимает нашего языка». Воспользовавшись минутой, пока бородатый переводил его слова, Камеамеа шепнул племяннику:
— Никто не должен знать, что знаем мы. Позови белокожего ко мне на пир и не обращай внимания на поступки людей. Ты понял меня, Коа?
Юноша кивнул и передал приглашение Дику. Камеамеа впереди прибывших пошел в глубь острова. Все бывшие на берегу следовали за ними в отдалении, повторяя: «Лоно! Лоно!»...
Они пришли на широкую площадь маленького поселения. По знаку Камеамеа рабы расстелили циновки, принесли много разной зелени, пригнали свиней. Хозяин знаками объяснил, что это дар Куку. Толпа восхищенно кричала. Кук поблагодарил и сел на циновку. Жареная и вяленая рыба, острые кушанья, сок кокосовых орехов — все подавалось гостям, а на площадке происходили танцы в честь Лоно. Воинов, одетых в панцири, сплетенные из прутьев, сменяли грациозные женщины. Выстроившись по четыре в ряд, они в такт музыке плавно повторяли движения волн. Звучали флейты, били барабаны.
Поздно вечером Кук с офицерами вернулся на корабль, и только тогда Дик, вспоминая речи во время пиршества, сообразил, что гостили они не у владыки острова.
На следующий день, окруженный толпой, Кук пришел к верховному правителю острова Торреобоя. Коа был здесь, так как никто не мог лучше понимать язык, на котором говорил бородатый спутник белокожего. Правитель позволил своим подданным привозить на корабли продукты и просил Лоно (Кук уже привык к своему новому имени) во время посещения острова бывать только у него. Куку было совершенно все равно, и он согласился.
Неделю английская экспедиция получала свиней, овощи, кокосовые орехи в обмен на безделушки, но скоро Коа по распоряжению своего хозяина стал вести обмен только на железные и медные изделия.
Камеамеа имел четыре копья с железными наконечниками. Откуда они появились на острове, неизвестно, но он знал, что этот звенящий камень делает оружие прочным и смертоносным. Ему скоро понадобится много оружия.
В начале февраля 1779 года корабли приготовились к отплытию. Кук сошел на берег и вместе с Торреобоя прибыл в святилище великого жреца. Земля была устлана тканями и циновками. Возвышались горы ямса, таро и орехов. Немного поодаль сгрудилось стадо свиней, в тени лежали большие звенья бамбука, наполненные водой горных родников. Верховный владыка и верховный жрец отдавали эти богатства в дар людям Лоно, а самого Лоно просили не покидать остров.
Коа быстро передавал взволнованную речь жреца, так что Дик с трудом успевал переводить ее.
— Ты не понял, Дик, зачем я им нужен?
Матрос угрюмо замотал головой: до чего трудно понимать их речь.
Кук поднялся и сказал Дику:
— Скажи им, что я скоро вернусь на этот остров!
— Сэр, не надо этого делать, зачем вам возвращаться сюда?
— Передай, Дик. Нельзя обижать таких радушных хозяев. Может быть, нам все же придется вернуться, кто его знает.
Английские корабли подняли паруса и начали выходить из гавани. Толпа на берегу разразилась громким криком, похожим на плач. Лоно опять покидает свою страну!
Вслед за уходившими кораблями устремились лодки. С двух передали подарки от верховного жреца и Камеамеа.
Камеамеа так и не был на кораблях. Коа передавал ему все, что видел и слышал. Гордый алий ждал, когда чужестранцы уйдут. Они могут помешать в его борьбе с правителем, если окажут помощь Торреобоя, с которым завязали дружбу.
Теперь, когда он пожелал белокожим хорошей воды и ветра, наступал его час...
...Ночью разыгралась буря. Ветер рвал паруса, волны перекатывались через палубу. На третий день сильным порывом ветра на флагмане сломало грот-мачту. Надо было переждать бурю и починить оснастку. Кук отдал приказ вернуться в залив Каракакуе.
Никто из гавайцев не удивился возвращению кораблей. Одни считали, что сами небеса повелели Лоно не покидать своей страны. Другие видели разрушения, причиненные бурей, и понимали, что корабли вернулись для ремонта.
Как только океан затих, Камеамеа надел свой прекрасный короткий плащ из птичьих перьев и отправился на корабль. Он хотел сам посмотреть, надолго ли задержатся корабля.
Камеамеа подплывал в сопровождении десяти лодок. Каждой командовал один из приближенных алиев в праздничном наряде. Двое рабов держали над Камеамеа опахала кахили — длинные, украшенные резными узорами палки, на концах которых черные перья петуха и красные перья попугаев образовывали подобие цилиндра. Такие же кахили держали рабы и над предводителями других лодок.
На борт корабля поднялись только Камеамеа и Коа, сопровождавшие их остались в лодках. Навстречу знатному гостю вышел сам Кук.
Гавайский вождь что-то произнес, Коа хотел было повторить, но не увидел рядом с Куком бородатого и смущенно улыбнулся.
— Дика ко мне! — крикнул капитан.
Пока Дика искали, Камеамеа, чтобы рассеять смущение, спокойно снял шлем, короткий плащ и протянул их Куку. Английский капитан уже знал цену такому подарку и, отстегнув кортик, протянул его гавайцу. Камеамеа с достоинством принял ответный дар, вынул клинок, слегка согнул и, видимо, довольный прочностью оружия, сунул его в ножны.
В это время запыхавшийся Дик предстал перед капитаном.
— Где вы пропадали, Дик? Переведите нашему гостю, что я рад новой встрече с ним, спросите, что он хочет.
После того как Коа повторил ответ хозяина, Дик перевел.
— Сэр, этот вождь благодарит за добрые слова и просит разрешить посмотреть большую лодку, как он называет наш корабль. Если разрешите, я покажу ему, сэр.
— Хорошо, Дик, показывайте.
Камеамеа, Коа и Дик долго бродили по кораблю. Вождь заглядывал всюду, трогал пушки, ружья, смотрел, как чинят мачту. Кук предложил алию заночевать, и тот, подойдя к борту, что-то крикнул ожидавшим его в лодках. Лодочная флотилия ушла к берегу.
С рассветом все одиннадцать лодок качались на волнах у борта корабля, и Камеамеа с Коа покинули своих гостеприимных хозяев. Вождь разузнал, что большие лодки долго не задержатся, этого, видно, не хотел и сам Кук-Лоно. Алий возвращался на берег в одной набедренной повязке, крепко сжимая в руках подаренный кортик.
Подарок Кука вызвал у всех приближенных Торреобоя чувство восхищения и зависти. Особенно завидовал давний недруг Камеамеа алий Парея. Он был одним из первых, посетивших корабли, но ему не сделали такого подарка. Честолюбивый Парея послал на корабль своего раба. Раб должен был что-нибудь украсть. Оказавшись на борту «Дискавери», раб подкрался к камбузу, схватил большие железные щипцы, бросился с ними в воду и быстро достиг берега. Кинг, заменявший Кларка, больного лихорадкой и потому оставленного на флагмане, послал погоню. Дик, стоявший на борту корабля Кука, не понимал, что происходит на берегу.
— Капитан, разрешите мне съехать на берег, что-то неладное затеяли наши матросы, отсюда я ничего не могу понять.
Кук и сам был обеспокоен. Наутро корабли должны выходить в море, и любое происшествие было нежелательно. Он отпустил Дика, но тот не успел пристать к берегу, как с бота, быстро идущего навстречу, взволнованный матрос крикнул:
— Поворачивай обратно, Дик, эти туземцы чуть не убили нас!
В судовом журнале появилась запись:
«13 февраля 1779 года. Сегодня один туземец попытался украсть щипцы на камбузе «Дискавери». Посланная погоня столкнулась на берегу с возбужденной толпой островитян. Они вернули матросам щипцы, но не пожелали выдать похитителя. Матросы попытались силой овладеть им и бросились на толпу. Кто-то выстрелил, и тогда вооруженные туземцы подняли на них копья. Они не бросали их, а так с поднятыми копьями стали наступать на матросов. Матросы побежали, вскочили в бот и поехали к кораблям. Вдогонку им летел угрожающий гул толпы, — что кричали туземцы, неизвестно. Наверное, лучше всего скорее покидать этот остров».
Наступила ночь. На берегу было тревожно. Повсюду слышался плач. Перекликались взволнованные голоса женщин, они предупреждали воинов не начинать ссоры. От селения к селению полз слух, пущенный Парея, что белокожие хотят захватить гавайцев и на кораблях принести в жертву. Люди в ужасе склонялись перед деревянным изображением Лоно, умоляя пощадить их, защитить от живого бога.
С рассветом корабли готовились покинуть гавань. Боясь упустить случай, Парея приказал своему воину Нуа овладеть большим ботом, привязанным к якорной цепи «Резолюшн». Пользуясь ночной мглой, воин бесшумно подплыл к боту, отвязал его и угнал к берегу. Бот вытащили и спрятали в лесной чаще.
Пропажу обнаружили только к моменту отплытия. Вчерашняя стычка была у всех в памяти, и Кук вместе с Диком и с группой офицеров и матросов отправились на берег. Перед спуском в шлюпку Кук хотел было послать на «Дискавери» за Кингом, но передумал и зашел в каюту к Кларку.
— Обещайте мне, сэр, что не примените оружия, если даже со мной что-либо случится!
Кларк с готовностью кивнул.
Кук вышел на берег. Островитяне, завидя его, останавливались и склоняли головы. Дик спрашивал всех, но никто не знал, где бот. Разгневанный Кук вошел в дом правителя. Он решил так: отвезти правителя на корабль и держать заложником, пока не отыщут бот. Но Дика Кук попросил передать Торреобоя приглашение прибыть на корабль. Правитель с трудом понимал, что говорит Дик, Коа не было здесь.
Верховный правитель, не зная толком, что от него хочет Лоно, пошел за ним следом, сопровождаемый родными.
В толпе, которая следовала за правителем и богом, люди повторяли слух о жертвоприношениях на больших лодках белокожих.
Вот все подошли к лодкам и только тут сопровождающие поняли, что их правителя хотят увезти. Жена схватила за руку Торреобоя и заголосила. Раздались выкрики в толпе. Толпа быстро росла. Гавайцы окружали Кука, потрясая дротиками и пиками.
Даже живые боги не могут приносить в жертву верховного правителя — высшее табу!
Кук, теряя хладнокровие и не понимая, что происходит, крикнул Дику:
— Чего они галдят?
— Я ничего толком не могу разобрать, сэр. Жена вопит, что мы не можем везти правителя на корабль. Не лучше ли нам отступиться, сэр, они начинают угрожать.
— Дик, передай правителю, чтобы он следовал за мною и приказал своим уйти прочь. Я увезу его на корабль, чего бы мне это ни стоило!
Правитель отказался следовать дальше. Толпа не понимала, что говорит Кук, но чувствовала его недовольство и, решив поддержать своего владыку, гневно зарокотала. Гул толпы становился грознее. Воины переместились вперед, и в Кука, в Лоно, полетели камни. Дик, передавая ружье капитану, успел крикнуть:
— Теперь, сэр, поздно, теперь надо драться!
Матросы и офицеры завязали драку. Их оттеснили, смяли. Кук услышал не то предсмертный крик, не то стон своего любимца и сжал ружье. Он один остался среди разъяренной толпы. Еще можно спастись, если прорваться к лодкам... Кук смело пошел на толпу. Передние нерешительно отступили, но задние наседали, и кольцо сжималось. Кук поднял ружье и выстрелил. В воздухе просвистело копье. Кук зашатался, вскрикнул и упал. Он сделал попытку подняться и упал вновь.
Капитан английского флота Джемс Кук, названный богом Лоно, был мертв. Увидев поверженного бога, толпа в ужасе отпрянула. Смельчаки, слышавшие стон и видевшие кровь, бормотали, что белокожий не был богом. Им не дали договорить. Для большинства Кук — Лоно — бог, которого они убили.
Мгновение, и на берегу не осталось ни гавайцев, ни тела Кука. Быстро, как только они могли, гавайцы унесли тело в капище верховного жреца, чтобы там предать его погребению, как подобает божеству.
Когда с кораблей спустили лодки с вооруженными матросами, на берегу никого не было. Гнаться в глубь леса было бесполезно, и матросы вернулись на корабль. Все окончилось слишком быстро.
Корабли подняли флаг капитана Кларка и отошли из залива, взяв курс на главное селение острова.
Что хочет делать капитан Кларк? Разве он забыл обещание, данное Куку?
Корабли навели пушки на легкие строения и сделали несколько залпов. Селение запылало. Донеслись крики детей и женщин.
Кларк, сраженный очередным приступом лихорадки, с трудом различал команду, которую от его имени отдавал Кинг. Корабль дернулся, и гром выстрелов заставил капитана подняться. Цепляясь за косяк, он распахнул дверь и крикнул:
— Прекратить стрельбу! Кинга ко мне!
С кораблей, уходивших на север, еще долго можно было видеть зарево над островом.
В селениях, подожженных огнем пушек, никто не гасил пожаров, люди в страхе бежали к святилищу верховного жреца и неистово взывали к небесам.
Во дворе перед капищем сидели алии-управители, великий владыка острова и великий владыка духов. Люди, напуганные громом орудий, ждали от них решения. В отдалении стояли воины, опершись на пики. Такие сборы на островах бывали только перед большими сражениями. Владыка острова молчал. Верховный жрец встал:
— Мы свершили тяжкое преступление — убили великого бога Лоно. Небеса не простят нам, они жаждут отмщения, жаждут жертвы, великой жертвы человека. Так сказал я, которого вы называете владыкой духов!
Жрец медленно опустился на возвышение. Торреобоя молчал, молчали алии-управители. Молчали долго.
В круг собравшихся вышел Камеамеа. Таким его еще никогда не видели люди, глаза его блестели, наполненные гневом. Он медленно обвел присутствующих презрительным взором, алии отворачивали лица.
— Вы молчите! Слушайте, что я скажу... — Камеамеа лихорадочно подбирал слова, он знал, что наступил момент, великий момент, сейчас или никогда. — Великий владыка духов прав. Небеса жаждут мщения, они ждут жертвы, той жертвы, которую хотел совершить живой Лоно.
Камеамеа перевел дыхание, кинул взгляд назад. Его воины незаметно подошли ближе. Верховный жрец поторопил алия:
— Говори дальше, могущественный и храбрый из алиев, говори!
— Небеса ждут твоей жертвы, владыка острова, твоей смерти, Торреобоя! — Камеамеа резко повернулся к правителю и указал в его сторону рукой, сжимающей подаренный кортик.
Несколько секунд царило оцепенение, потом гул торжества и гнева прорвал тишину.
Первым опомнился правитель и с ловкостью, несвойственной его обрюзгшему телу, выхватил у стоящего воина копье и метнул его в Камеамеа.
— Ты умрешь прежде всего, собака!
Гордый алий легко поймал копье и хотел было направить его обратно, но верховный жрец стал между ними. Алии-управители вскочили, готовые броситься на человека, посмевшего посягнуть на высшее табу. Но только сейчас они заметили, что воины плотным полукольцом окружили своего вождя и рядом с ним встал самый меткий копьеметалыцик на островах — Коа. Толпа, пришедшая на собрание, безмолвствовала: шел спор между алиями — простые смертные должны молчать.
Верховный жрец приблизился к Камеамеа и тихо, сдерживая ярость, сказал:
— Уйди, могущественный алий, не оскверняй напрасно пролитой кровью святыни богов. Знай, боги не простят тебе твоих слов и даже мыслей.
— Я уйду, великий владыка духов, но не будет спокойствия на островах, пока не успокоится дух Лоно, пока не получит он предназначенной небом жертвы. Я уйду, но Торреобоя должен умереть, и я сделаю это!
Алий махнул рукой, и через строй его воинов прошел раб, неся новый длинный плащ мамо. Этого не ожидал даже Коа. Камеамеа скинул ахуула и надел плащ мамо.
Никто не шевельнулся, чтобы наказать богохульника, никто не поразил его копьем, все ждали кары богов.
Но боги молчали, и вновь прозвучал голос смелого алия: «Я уйду, но Торреобоя умрет, я сделаю это!»
Час Камеамеа пробил. Он начал междоусобную борьбу. Его войска от победы к победе шли по селениям острова, и скоро власть над Гавайями перешла в руки Камеамеа. Но планы его шли еще дальше. Он видел мощь чужеземцев, идущих по океану на больших лодках, видел их смертоносный огонь из железных палок и хотел противопоставить им единую силу всех островов, способную делать и такие лодки, и такое оружие. Камеамеа Первый, как он стал называть себя позже, начал большую войну за объединение. Он торопился, так как понимал, что корабли, покинувшие остров, могли вернуться. Дорога была уже известна.

* * *
В начале лета 1780 года корабли экспедиции Кука под командой Кларка взяли курс на Камчатку. Попытка пробиться сквозь льды у южного конца Берингова пролива окончилась неудачей. В трюмах осталось немного соленой свинины и ничтожное количество пресной воды. Появившаяся на горизонте земля вызвала радость. Но ее берега были неприветливы.
Река Авача прорезала стену скал и вливалась в Авачинскую губу — затейливую гавань-ковш. Губу от ветров укрывали сопки, они сходились у Петропавловских ворот и как будто замыкали бухту. Стенки ворот образовывали отвесные семьи утесов, вырастающие прямо из воды. На склонах сопок и на берегу бухты росли одинокие большие деревья, редкий кустарник и густая высокая трава.
На прибрежной полосе стояло восемь деревянных строений. В них размещалась пограничная стража — сорок казаков под командой сержанта. Это было юго-восточное побережье Камчатки, самой дальней точки континентальной части Русской империи.
Находившаяся на отшибе малонаселенная Петропавловская гавань впервые видела корабли под британским флагом.
По приказу капитана Кларка офицер с матросами на боте отъехал к берегу. Русские казаки, несшие охрану, ожидали нападения и приготовились к защите. Офицер поспешил знаками предупредить о своих намерениях.
В Большерецк к главному командиру Камчатки майору Бэму был послан нарочный с известием о прибытии двух хорошо вооруженных английских кораблей. Бэм решил вести переговоры.
Русская делегация прибыла на корабль. Англичане оказали ей самый сердечный прием и просили помощи продовольствием. Бэм приказал отправить 250 пудов ржаной муки и 20 голов рогатого скота.
Капитан Кларк не знал, чем отблагодарить русских за столь щедрый дар. Он пригласил Бэма на корабль, а когда командир Камчатки покидал его, прогремел двадцать один пушечный залп — салют наций. С корабля несли подарки английских мореплавателей — коллекцию гавайских предметов.
На прощальном обеде Кларк сказал:
— Я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность вашему превосходительству и всем русским за щедрую помощь! Я прошу принять от нас в подарок коллекцию, собранную на Сандвичевых островах, где трагически оборвалась жизнь капитана Кука. Вы понимаете, как нам дороги эти предметы, но мы передаем их вам в знак признательности за помощь его экспедиции!
Через всю Россию пропутешествовали плащ ахуула и шлем Камеамеа, найдя постоянное прибежище на стрелке Васильевского острова в Кунсткамере Петербургской академии наук.
* * *
Камеамеа добился свой цели. Он создал единое государство всех Гавайских островов. Гавайцы учились строить большие корабли, воины узнали огнестрельное оружие. Он стремился поднять национальную культуру своего народа и встать вровень со странами цивилизованного мира. Незаурядный человек, Камеамеа завещал своим преемникам вести борьбу за независимость государства.
С середины XIX века Соединенные Штаты Америки захватили острова. Пришельцы отняли земли, принадлежавшие исконным их обитателям, обрекли гавайцев на гибель от голода и болезней, от беспрерывного рабского труда на плантациях.
Когда корабли Кука подошли к островам, на них жило более трехсот тысяч человек. Сейчас осталось немногим более десяти тысяч гавайцев...
Теперь, как и прежде, если плыть из Австралии в западное полушарие, держа курс на север, то между Новым и Старым Светом корабль встретится с крайним северным архипелагом — Гавайскими островами. Но теперь Гавайи — пятидесятый штат США. Как и прежде, высятся снежные вершины Мауна-JIoa и Мауна-Кеа; как и прежде, можно услышать быструю певучую гавайскую речь, но только в музеях Бостона, Вашингтона, Гонолулу, Лондона и Ленинграда можно увидеть образцы самобытной культуры современников и потомков Камеамеа.
ВОЖДЬ И ВОИН ТЛИНКИТОВ

Снаряд пролетел со свистом, разорвался в воздухе, ударил в гранитный уступ берега шрапнелью, которая звонко застучала по камням. Через мгновение океан вновь ухнул залпом — и вечернее небо, поглотившее солнце, озарилось пламенем горящих домов. Из городка Ситха можно было увидеть не только очертания конуса величественной горы Эчком, пожар в индийском тлинкинтском селении, но и зловещий силуэт крейсера у входа в бухту. Тихий океан был спокоен, но залп бортовых орудий заставлял крейсер оседать и поднимать волну.
Не обращая внимания на разрывы и охваченные огнем жилища своих соплеменников, пожилой человек медленно спускался к гранитному берегу. В руке он сжимал старинный, точно витой, посох из большого моржового клыка, оканчивающийся наверху резной из кости фигуркой моржа. На плечи у него была наброшена накидка из козьей шерсти и кедрового волокна. Ее ткали много дней четыре рабыни, но узоры в виде вороньего глаза, птичьих голов и крыльев наносила сама Скету. Рабы только приготовили из коры и трав краску — черную, желтую, зеленую и светло-коричневую. Два месяца он не видел своей жены Скету, пока она делала узоры — символы его власти и верховенства в роде Ворона.
Шляпа, сплетенная из древесных корней, с высокой тульей и широкими полями была низко надвинута на лоб и скрывала верхнюю часть лица вождя рода. Вождь, которого знали чужеземцы, поселившиеся в Ситхе, и все окрестные роды двух фратрий — подразделений племени тлинкитов — фратрий Ворона и Волка, вышел на берег один, без рабов и телохранителей, без жены и детей. Котлан, так звали вождя, смотрел вдаль на океан и силуэт корабля. Казалось, глаза его в сумерках пытались различить флаг, поднятый на мачте.
Долго стоял Котлан на берегу. Прекратился обстрел его селения, затих пожар. Вождь все смотрел на исчезающий силуэт крейсера и напряженно думал о чем-то далеком. Он пытался объяснить самому себе, что привело его сейчас на берег, почему он шел и думал о Скету, о своей власти? Почему пытался различить цвета флага над кораблем?
Котлан стоял на берегу. Вождь тлинкитов вспоминал прошлое...
* * *
...Тлинкиты в конце XVIII века были могущественным племенем на побережье Аляски. На востоке гряда Скалистых гор служила естественной границей их земель и защищала от соседей с равнин, а на западе были только воды океана. Из-за Скалистых гор от племени атапасков, с севера от алеутов, с юга от племен цимшиан и хайда приходили в тлинкитские селения известия о грозных пришельцах, захватывавших земли индейцев, уничтожавших целые племена и народы.
Но пока здесь все было спокойно, и по-прежнему каждый тлинкитский род снаряжал мужчин для рыбной ловли, для охоты на китов, тюленей, моржей, птицу и зверя.
Океан и величественные кедровые леса по склонам гор давали богатую добычу рыбакам и охотникам, оснащенным лишь каменными и костяными орудиями. Женщины разделывали ее, запасали рыбий и тюлений жир, сушили и вялили лососей, выделывали шкуры и плели сети.
Тлинкиты жили еще родовым строем, но вожди родов и фратрий уже пользовались особыми привилегиями, имели рабов из военнопленных. Лучшие угодья, лучшие ножи и копья с наконечниками из самородной меди, лучшие одежды из шерсти и замши были у вождей и старейшин. Особо торжественными были похороны вождя. Тело его, облаченное в пышную одежду с символическими изображениями предков животных — тотемов, под протяжное пение всех сородичей сжигалось, а чтобы душе умершего было спокойней в потустороннем мире, на том же костре сжигали рабов.
Хвалясь своими богатствами перед соседними родами, сородичи умершего предавали огню людей и ценности, созданные людьми.
Рабство становилось необходимым для увеличения богатства рода и его правителей. Самые сильные мужчины бросали охоту и рыбную ловлю и уходили в далекие военные походы на огромных лодках, выдолбленных из целого ствола кедра и вмещающих до шестидесяти воинов. Тлинкитский воин был грозным противником соседних племен, ведь никто из них не имел таких массивных деревянных шлемов, изображавших голову зверя или мифического хищника с оскаленными зубами и широко раскрытыми глазами из перламутра, которые не могли пробить стрелы. Никто из соседей не имел пластинчатых панцирей, защищавших грудь и спину тлинкитского воина, деревянного забрала и острых боевых ножей с медными клинками.
Котлан помнил слова своей матери, что уже на ее памяти для захвата военнопленных и обращения их в рабов один тлинкитский род поднимался против другого, и с тех пор селения стали обносить валом и накатанными бревнами для защиты. Тлинкит пошел на тлинкита! Мать говорила, что это случилось после того, как на севере и юге от земли племени появились корабли белых пришельцев.
Котлан знал, что первые россияне, как называли себя иноземцы, пришедшие на острова алеутов, принесли смерть многим селениям, но те россияне, которые пришли затем на остров Кадьяк, которые создали у Ситхи свои поселения, уже не поднимали оружия против индейских племен, они просто торговали с кенайцами и тлинкитами. Тлинкитские вожди никогда не считали себя зависимыми от россиян и были, как всегда, сами хозяевами своих людей и своих угодий. Россияне на севере, а на памяти самого Котлана уже и американцы на юге вели торговлю с тлинкитами, скупая пушнину. Пришельцы давали за шкуры огнестрельное оружие, продукты, железо и другие товары. И тлинкит поднимался на тлинкита, чтобы своего соплеменника превратить в раба и заставить его быть добытчиком пушнины для торговли с пришельцами.
А еще Котлан навсегда сохранил в памяти день своего позора. Вождь рода Орлиных Когтей из фратрии Волка решил построить себе новый большой дом. По обычаю племени строить дом могли только люди другой фратрии. Вождь отправил посланцев ко всем своим соплеменникам. В селении рода Ворона из взрослых мужчин оставались только двое — Котлан и его дядя. Все были на охоте. Отказать в помощи дружественному роду было нельзя, и воины Ворона отправились строить дом.
Каменными топорами мужчины раскалывали толстые бревна на доски. Работа подвигалась медленно. Но вот уже на толстых, врытых в землю столбах, поддерживающих двускатную крышу и портал, искусно вырезаны изображения тотема рода Орлиных Когтей. В тот день, когда перед готовым домом был врыт высокий тотемный столб с резьбой, изображавшей орлиные и волчьи головы, птичьи крылья, лапы, воины хозяина в полном боевом облачении напали на строителей...
Тяжелораненый юноша стал рабом. В доме, построенном своими руками, он мог сидеть только у самого входа (на долю раба — самая черная работа и самое холодное место в доме). Жалкие лохмотья слегка прикрывали его обнаженное тело. С рабом не говорили, раба презирали и не замечали.
Гнев Котлан спрятал глубоко в сердце и выжидал. Он не ждал помощи от своих сородичей: если бы те могли, то давно бы выкупили его.
Котлан ненавидел своего нынешнего господина, заманившего его в ловушку. Не любили коварного, злого вождя и его сородичи, но не осмеливались восстать против него.
Только одна душа в этом доме была близка Котлану — юная рабыня из племени хайда. Звали ее Скету. Котлан любил наблюдать за ее работой, а она, поймав его взгляд, улыбалась...
Однажды в огромном доме вождя весь род собрался на поминки умершего родственника. Вдоль стен на двухъярусных нартах сидело человек сто мужчин и женщин, стариков и детей. В центре горел костер. Вождь был в накидке с узорами в виде орлиных когтей, на голове — деревянная шапка, изображающая волчью голову с раскрытой пастью. В таких же нарядах сидела его почетная свита. Рабы приготовили пищу. Первые куски бросили в костер, чтобы пламя донесло их запах и пепел до умершего. В это время за домом должен быть убит кто-нибудь из рабов или рабынь как жертва.
Когда начнутся танцы вокруг костра, под пение женщин рода, в ряды танцующих войдет человек, одетый в точно такой же костюм, какой был на умершем, — тогда все будут считать, что дух умершего доволен принесенной жертвой. В руках танцующих будут острые кинжалы с двойными лезвиями, которыми они ради забавы будут колоть и закалывать рабов, чтобы освятить поминки кровью. Человек в маске умершего пройдет круг вместе со всеми, а потом останется один у костра, чтобы продолжать танец. Все остальные сядут вокруг.
Котлан знал обычаи племени, и, когда Скету послали за водой, он незаметно вышел следом.
Скету торопливо бежала по тропинке к устью реки, впадающей в залив. Ветер будоражил воду, и бьющие в берег волны подгоняли ледяную громаду айсберга, оторвавшегося у края ледника, медленно ползущего с гор в океан.
Острые иглы хвои кололи голые ступни. Тропа оборвалась. По берегу, усыпанному галькой, бежать стало еще труднее. Прыгая по большим валунам, девушка подбежала к воде. Зябко перебирая ногами, вошла в реку и погрузила в волну посудину — широкий туесок, сплетенный из корней кедра.
Гигантская льдина, покачиваясь на волнах, тихо ползла к берегу. Свинцово-серые тучи, ветер, темная вода пролива и безмолвие всегда шумного беспокойного селения пугали Скету. Не переводя дыхания, она быстро побежала обратно по тропе. Вода выплескивалась из туеска, и холодные капли падали на разгоряченное тело.

Скету уже собиралась вбежать в дом, как кто-то высокий с оскаленной волчьей пастью встал перед ней. Девушка вздрогнула и остановилась. За дверью дома слышались песни и топот танцующих. Она ужаснулась — перед ней стоял человек, изображающий дух умершего, и острый кинжал был у него в руке. Неужели ее избрали жертвой в память хозяйского сородича? Туесок выпал из рук. Она уже видела занесенный кинжал, когда от бокового столба дома, украшенного наверху рыбиной с зубастой пастью и острыми плавниками, отделилась гибкая тень. Маска умершего осела под могучим ударом кулака, кинжал выпал на землю. Скету узнала в своем спасителе Котлана.
— Не возвращайся в дом, жди меня здесь! — прошептал юноша.
Стащив облачение с поверженного, он быстро надел его на себя и решительно рванул дверь.
Легкими шагами вошел Котлан в круг танцующих. Радостный возглас раздался на нарах — дух умершего доволен жертвой! Костер горел ярко, но в полумраке жилища огромные тени танцующих прыгали по стенкам. Дети жались от страха, тоскливые песни и волчье подвывание надрывали душу. Закончен еще круг танца. Теперь только один танцует у костра — это Котлан. За маской умершего никто не признает в нем раба. Крепко сжимая кинжал, он медленно приближается к вождю. Шаг, еще шаг. Клинок занесен, кажется он вот-вот опустится на раба, сидящего у ног правителя. Вождь, не успев уклониться от неожиданного удара, валится с нар. Человек в маске медленно уходит к дверям. Никто не двигается. Кто же будет гнаться за духом мертвого?..
Родной род принял беглецов, хотя и боялся мести людей из рода Орлиных Когтей. Котлан и Скету поселились в доме матери Котлана и первое время сами сторонились людей. Слишком большим позором было для человека его прошлое — жизнь раба. Смыть позор можно было только кровью за свой род или потлачем — большим угощением в честь сородичей и раздачей им в дар своего имущества.
Наверное, долго пришлось бы Скету собирать накидки, шляпы, рыбий жир, консервировать лососей и медвежье мясо для большого потлача, если бы однажды утром перед селением Ворона не появились воины Орлиных Когтей. Бросив оружие, они высоко подняли руки — это значило, что они пришли с миром к детям Ворона.
Вождь принял посланцев, и через четыре дня воины Ворона и Орлиных Когтей вышли вместе в поход против чужого племени, напавшего на тлинкитские селения. Предводителем тлинкитского отряда стал Котлан — оба рода признали его военным вождем.
Пока муж был в походе, Скету боялась перевернуть нечаянно посудины с водой, чтобы лодка, на которой ушли воины, не потерпела крушение в океане. Она боялась сделать неосторожный шаг и
поранить руку, чтобы враги не пролили кровь мужа.
Вернулись из похода только три воина. Лодка их была набита захваченной добычей, но только двое могли грести — третий лежал с оголенной грудью и тихо стонал. Третьим был Котлан. На нем не было боевых доспехов, их не было и в лодке. Через неделю Котлан очнулся и смог рассказать о битве.
Тлинкитские воины сражались храбро и одержали победу. Двадцать рабов-тлинкитов было освобождено из плена, и только трое воинов остались на поле битвы. Дети Ворона возвращались домой, когда на вершине холма их остановили стрелы врага, укрывшегося в засаде. Котлан успел дать сигнал, и его воины опустили наличники-забрала, плотнее надели деревянные резные шлемы, закрепили пластинчатые панцири. Грозным, все сокрушающим рядом двинулись на врага. Военные костюмы были тяжелы, и тлинкиты шли медленно. В лучах солнца блестели перламутровые глаза и зубы хищных зверей и тюленей на масках-шлемах. Стрелы ударялись в пластинки и отскакивали от них. До первой гряды камней осталось шагов двадцать. Котлан поднял руку с длинным боевым ножом и побежал навстречу неприятелю. Он не заметил, как сошлись воины. Вот он сам оказался лицом к лицу с человеком, поднявшим лук. В последнюю минуту он почувствовал сильный удар в грудь и упал.
Солнце высоко стояло на небе, когда Котлан открыл глаза и, приподнявшись, осмотрелся. Он был на вершине прибрежного холма, рядом с ним лежали его воины и его враги. Он попробовал сосчитать их. Двоих сородичей не было. Котлан поправил шлем и забрало, приподнялся. Было тихо, но он не верил тишине. Он медленно побрел к берегу. У самого входа в бухту стоял корабль. Люди на нем увидели его и стали спускать лодку. Котлан повернулся, хотел бежать, но упал.
Очнулся он уже в окружении двух своих воинов и иноземцев в невиданных прежде одеяниях. Одного из них, старшего, звали Ильей. Он снял с Котлана доспехи и перевязал рану.
Потом Котлан узнал, что появлению корабля он обязан жизнью. Враги, увидев большой парусник, разбежались, оставив своих убитых сородичей.
Забрав по праву трофеи с поля битвы, воины Котлана перенесли своего предводителя в лодку и направились домой. Прощаясь с «вождем» корабля, Котлан в знак благодарности отдал ему свой боевой костюм. Лодка с тремя воинами из племени тлинкитов и корабль под русским флагом разошлись в разные стороны.
И хотя у Котлана теперь не было своих боевых доспехов, никто в селении рода не осуждал его, никто не вспоминал ни о его прошлом, ни о прошлом Скету. Люди восхищались мужеством Котлана, старики приходили к нему за советом. И случилось само собой, что лучшую добычу охотники и рыбаки теперь приносили в дом Котлана.
Члены рода Ворона хотели видеть его своим вождем, и старый вождь решил не противиться этому и передать власть Котлану, тем более что тот приходился ему племянником, а значит, близкой родней. Скету понимала, что не обойтись без потлача, и, не ожидая окончательного выздоровления мужа, надолго уходила в лес за зверем и дичью. Она была достойна своего мужа.
И вот в доме матери Котлана запылал костер. Вдоль стен на нарах сидели родичи. В нарядных одеяниях, украшенных изображениями птиц и животных-предков, сидели гости. Перед Котланом и Скету лежало все их богатство: шкуры тюленей и моржей, накидки из шерсти и замши, туеса с рыбьим жиром и вороха сушеного мяса, а три медные пластины с вырезанной головой ворона как самая большая драгоценность были на самом видном месте. Кончились песни и танцы, начался сам потлач — раздача подарков сородичам по линии матери и отца. Котлан поднял три медные пластины и преподнес одну — матери, другую — шаману и третью — старому вождю. Крик радости огласил жилище, крик, похожий на крик ворона — предка рода. Люди гордились Котланом и его умом. Никто не был обижен на потлаче, все получили подарки, и Котлан был счастлив, оставшись без прежнего богатства. Таков закон племени — только тот, кто отказывается от богатства в пользу родни, признается достойным уважения и почтения. Такое признание дает ему право на высокое положение в роде и на возможность вновь вернуть богатства за счет того же рода.
* * *
Котлан стал вождем рода Ворона. С тех пор прошло больше двадцати лет. Он всегда старался быть справедливым. Никто из соседей не осмеливался нападать на его селения, никто из соседних вождей не мог уговорить его поднять род против русских, построивших свои дома в Ситхе и торгующих с тлинкитами.
Котлан редко вспоминал о своих боевых доспехах, отданных на далеком берегу русскому, он теперь носил одежду вождя, но сохранил память о помощи, данной ему белым-россиянином. С русскими у него были хорошие отношения, и он не мог понять, почему другие белые — американцы, приходящие с юга, подстрекали его род на войну с ними? Когда в Ситхе среди русских говорили о нападении тлинкитов на торговые лодки, Котлан был уверен, что этих тлинкитов уговорили на вражду другие белые — с юга.
И вот теперь Котлан не понимал, почему Ситху покинули русские купцы, а из казарм ушли солдаты? Почему вместо русских солдат пришли в городок американские солдаты, разграбившие торговые склады? Почему, когда его воины попытались защищать свои хижины, своих детей и заставили этих солдат покинуть город, в бухту вошли большие корабли? Они вскоре ушли, но один остался и начал стрелять по тлинкитским селениям. Что случилось на земле его племени?
Затихал пожар в селении, подожженном снарядами исчезнувшего в ночи крейсера. Котлан вспоминал разговоры своих и чужих людей. Люди говорили, что русские продали, а американцы купили эту землю, землю его племени, его рода. Мудрый вождь не понимал, как могли одни продать, а другие купить этот гранитный берег, бухты, горы, волны океана? В непроглядной тьме ночи нельзя было различить ни берега, ни океана. Когда в небе вспыхнули звезды, вождь Котлан вспомнил, какой флаг был на крейсере. Это был звездно-полосатый флаг американцев.
* * *
Известие о грабежах американских солдат в Ситхе после продажи в 1867 году Аляски Россией США — известие о жестоком и бессмысленном обстреле тлинкитских селений американским крейсером в отместку за «проявленное неповиновение» тлинкитов новым властям дошло до Петербурга довольно быстро. Пожалуй, во всей передовой разночинной России не было другого человека, в котором это сообщение отозвалось бы такой нестерпимой болью, как Илья Гаврилович Вознесенский. Выполняя задание Академии наук, он десять лет провел в экспедициях по Северной Америке, Камчатке и Чукотке. Однажды с борта «Елены» Вознесенский увидел жестокую стычку тлинкитов и, желая помочь раненым, настоял на том, чтобы корабль подошел к берегу. Вознесенский был искусным врачевателем и спас жизнь тлинкитскому военачальнику — будущему вождю тлинкитов, живших близ Ситхи.
Вознесенский спас жизнь Котлану и получил в награду его воинский костюм, который теперь является частью уникальной коллекции Кунсткамеры.
АМУЛЕТ ПОСЛА

Не правда ли, это случается не со многими. Лишь людям редкой «удачи» приходится читать некролог о собственной смерти.
Василий Васильевич Юнкер дважды побывал в Африке, прожил там в общей сложности десять лет, исследовал истоки Нила. Он разгадал многие географические загадки «черного» материка, но не причислял себя к удачливым людям.
Четыре года от него не было известий, друзья и родные успели похоронить и оплакать путешественника, «безжалостно умерщвленного дикими бушменами», как сообщала в большом некрологе одна из иностранных газет.
Закутанный в теплый плед, Юнкер сидел у окна и нервно листал старые издания, красочно расписывающие его «трагическую гибель». Перевернув последнюю страницу, он отшвырнул газеты и посмотрел в окно на петербургскую улицу. Шел мелкий весенний дождик. Юнкер зябко поежился. Голова начинала тихо и нудно гудеть. Румянец быстро сходил со щек. Лицо с пышными седыми бакенбардами и окладистой бородой покрылось восковой желтизной.
Всего два дня, как он снова в Петербурге. Речи, радостные восклицания близких и знакомых, теплые встречи, а его не покидает тоска. Неодолимо влечет к недавно покинутому континенту.
Юнкер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Сейчас снова начнется приступ лихорадки. Руки беспомощно повисли, но мозг продолжает работать.
Как во сне он видит небольшую возвышенность, свой экспедиционный лагерь. Далекая ружейная пальба привлекает его внимание. Он направляет подзорную трубу на горное африканское селение. Отдельные дымки слились в большое облако дыма, встающего над хижинами. Очень скоро огонь охватил все строения. Деревня была расположена на склоне ярусами, и огонь постепенно поднимался все выше и выше, дымной полосой отмечая путь грабителей и поджигателей — газве. Газве — некоторые кочевые арабские племена, шейхи которых, подкупленные английскими колонизаторами, послушно выполняли волю хозяев, нападая на многоязычное чернокожее население Африки, на своих соплеменников.
Видения приходят снова и снова. Тело уже бессильно, но разгоряченный мозг работает удивительно точно. Мысли бессвязны, память словно назло выхватывает из своих тайников только самое болезненное, жестоко отягощая страдания.
Дым. Слабый стелющийся дым. Небольшие деревья саванн, обугленные от пожара. Пепелище и выжженная трава на месте селения. Что это, неужели опять газве, опять та горная деревня? Нет! Вон хижины погорельцев, десятки голодных и измученных непосильной работой людей. Все, что осталось от цветущей области независимого племени азанде, племени вождя Мбио. Вождь Мбио...
Мозг делает лихорадочные усилия, но тщетно... Видение исчезает. Наступает долгое забытье...
Очнувшись, Василий Васильевич недоуменно огляделся вокруг, как бы спрашивая себя, как он сюда попал. Он вспомнил, что о чем-то очень важном думал перед приступом, и напряг память. Конечно, о Мбио, о несбывшейся мечте попасть в его независимую страну.
Он позвонил.
Вошел слуга.
— Воды и мою сумку, — слабым голосом попросил Юнкер.
Приняв хинин, он раскрыл холщовую экспедиционную сумку, долго рылся в ней и достал кусочек дерева. Короткий сучок, заостренный и обожженный с одного конца.
— Ты помнишь, что это такое? — спросил Юнкер слугу.
— Да, барин. Это амулет посла Мбио.
Да, это был амулет посла вождя Мбио, единственная вещь, которую Юнкер привез из Африки от независимых азанде. Желание попасть в независимую страну Мбио пришло не сразу. Когда он в 1871 году впервые высадился в африканском порту Александрия, то стремился проникнуть в глубь материка во имя одной цели — исследовать не известные еще географам водоразделы Нила и Конго.
В то время англичане и французы, захватив Египет и Судан, натравливая послушных шейхов и их приспешников на африканцев и одно африканское племя на другое, устремлялись к тропикам.
Чем дальше к югу шел Юнкер, тем чаще он видел, как пылали селения непокорных. Территория, по которой шел путь Юнкера, была тогда населена народами азанде и мангбетту и находилась под властью правительства Египта, но не все племена азанде подчинялись ей. Были вожди, которые находились на службе правительства, были племена, лишь формально признавшие его власть, но жившие по своим законам, и была лишь одна совершенно независимая область под самыми тропиками, у горы Бангези — область свободного племени вождя Мбио.
Желание побывать у Мбио все больше и больше овладевало путешественником, и однажды он сказал об этом своему проводнику, вождю племени азанде, Рингио, состоявшему на правительственной службе.
Рингио удивленно посмотрел на Юнкера.
— Господин хочет ехать к горе Бангези?
— Нет, Рингио, я хочу побывать в области вождя Мбио.
— Господин хочет ехать к горе Бангези? — вновь повторил Рингио и склонился над разостланной на столе картой.
— Видите, господин, это Бангези. Здесь, — Рингио показал на юг и на север от горы, — ничейная земля, никто из моего племени не решается ступить сюда, за ней область Мбио. Если господин хочет идти к Бангези, я пойду с ним.
Чем больше Юнкера пугали опасностями такого похода, тем настойчивее он хотел совершить его.
"К горе Бангези, в области азанде и мангбетту, к их культуре и их жизни, а может быть и к Мбио", — с такими мыслями Юнкер собирался в путь.
В назначенный день Рингио пришел с воинами. Это были настоящие азанде! Рослые, сильные, с причудливыми прическами и мужественными красивыми лицами. В руках воины сжимали копья и сплетенные из тростника щиты. К щиту каждого воина были привязаны один или два метательных ножа гангата. От центрального лезвия ножа отходили остро заточенные металлические клинки-отростки, напоминая лепестки раскрывающейся лилии. Бросишь такой нож — он вращается и уж каким-нибудь лепестком, но непременно поражает цель. Щиты изнутри и снаружи украшены черным рисунком, сделанным обугленным тростником. Рисунок изображал крест, а вокруг него квадраты.
У некоторых воинов, кроме набедренной повязки, на плечи были накинуты шкуры антилопы, дикой кошки или красивой обезьяны гвереца. На голову надета маленькая соломенная шляпа, украшенная петушиными перьями и прикрепленная к волосам костяной шпилькой.
Юнкер залюбовался их одеянием, их лицами. Воины были способны постоять за себя.
А каковы же непокоренные азанде?
Сопровождаемая воинами, экспедиция Юнкера направилась к югу. Через три дня, как говорил Рингио, она должна дойти до селения вождя Анзеа, а от него, после отдыха, через два дня можно достичь горы Бангези. Через два дня — это в обычное время, но сейчас, когда там идет постоянная война, путь мог быть слишком долгим.
Юнкер был близок к своей цели, к исполнению своего желания, когда понял, что у него нет времени для встречи с Мбио. Лихорадка мучила его постоянно, а дела торопили обратно в Петербург, и он стал готовиться к возвращению на родину. В обширной хижине, предоставленной белому господину вождем Анзеа, укладывали снаряжение экспедиции. Василий Васильевич, устроившись поудобнее, делал последние записи в дневнике. Вошел Рингио, остановился перед Юнкером, ожидая, когда тот обратит на него внимание. Юнкер поднял голову.
— Господин, к Анзеа пришли послы Мбио.
Он посмотрел на Рингио.
— Ты пригласил их ко мне?
— Нет, господин, — воскликнул Рингио, — они не придут! Мбио считает меня своим врагом.
— Я прошу пригласить этих людей. Скажи им, что я хочу их видеть, я обещаю им свою защиту, — настойчиво проговорил Юнкер.
— Им будет передано, господин!
Рингио вышел из хижины.
Послы приняли приглашение.
В назначенный день Юнкер собрал всех вождей и вожаков каравана. Достал из ящиков вещи, предназначенные в дар Мбио: спички, свечи, зеркала, ткани — все, что осталось к концу путешествия.
Послов пригласили в хижину. Их было шестеро. Они встали полукругом против хозяев. На их лицах ни тени робости, смущения или подобострастия. Все шесть как на подбор, рослые, молодые, с налитыми мускулами.
Рингио поднялся, чтобы переводить. Вперед вышел юноша с накинутой на плечи шкурой леопарда. Он был, видимо, старшим. Его открытое лицо с мягкими и правильными чертами было обезображено большим шрамом, идущим от широкой нижней губы к шее. Когда он заговорил, страстно и темпераментно, шрам больше не уродовал лицо, а только подчеркивал его мужественность.
Посол говорил о своих опасениях, с которыми шел он в этот дом. О том, как он молил духа, спрятанного в амулете, что висит у него на шее, защитить его. Независимые азанде знают, что белые нарочно сеют вражду между племенами, что белые хотят уничтожить их свободу с помощью вождей, продавшихся абу-туркам. Но вот послы пришли в дом белого, и страх прошел, они прониклись доверием к нему, белому человеку, и он, посланец Мбио, срывает, как ненужный теперь, свой амулет.
Посол рванул веревочку и отбросил в сторону небольшой кусок дерева, висевший на шее.
Юнкер поднял амулет, повертел его в руках и решил оставить на память. Не думал он тогда, что этот кусочек дерева будет единственной памятью о несбывшемся желании побывать у Мбио.
Посол кончил говорить, Юнкер пригласил его сесть и задал обязательные при таких церемониях вопросы о пути, каким шли послы, о здоровье их близких и родных.
По просьбе своего белого хозяина Рингио устроил угощение для всех пришедших. В больших деревянных чашах было подано кушанье, которое юноша со шрамом на лице делил ловко и грациозно поровну между своими людьми, накладывая варево на листья, заменявшие тарелки.
Окончив пир, люди Мбио запели песни, в которых славили могущество вождя независимых азанде. Юнкер еще раз пожалел, что он не может уйти вместе с послами Мбио в заманчивую страну его мечтаний. Но он твердо верил, что вернется. Передавая подарки для Мбио, Юнкер просил посла рассказать о его дружеских чувствах к вождю. Посол встал, приложил руку к сердцу и решительно сказал:
— Я — Гумба, клянусь, что Мбио узнает правду! Мой вождь будет знать, что белый господин, который пришел к вождю Анзеа с Рингио не враг, а друг азанде и Мбио. Мой вождь будет ждать белого в своей стране.
И вот через год Юнкер снова в Африке. Недели, месяцы, годы он ходит вблизи горы Бангези и не может попасть к Мбио. Дважды его послы пересекали ничейную землю, но вождь независимых азанде не принял их. Мбио не пускал его в свою страну. Но как же клятва посла? Как же обещание того юноши с рассеченной губой?
Чем сильнее было желание увидеть независимых азанде, тем меньше оставалось у Юнкера возможностей осуществить его. Правительственные войска Египта и враждебные племена готовились сокрушить независимую область. Когда в 1880 году они пересекли ничейную полосу, началась многомесячная война...
С первого дня высадки в африканском порту прошло десять лет. Настал 1881 год. Постаревший, но все такой же стройный Рингио однажды утром зашел к Юнкеру.
— Господин теперь может ехать в бывшую страну правителя Мбио. — Рингио горько усмехнулся и тихо добавил: — Его воины не выдержали. Вождь с сыновьями попал в плен и убит. Больше нет независимых азанде. Господин может ехать в страну Мбио, теперь его никто не задержит.
Обманутый в мечтах и надеждах, Юнкер ехал по пепелищу некогда цветущей области. Почему он не прибыл сюда раньше, почему не пустил его Мбио? Разоренная земля, уничтоженная свобода...
— Что же стало с тобой, юный Гумба — посланец гордого вождя? — повторял про себя Юнкер. — Почему ты не сдержал своей клятвы?»
* * *
Пять дней, как воины принесли в селение тело отца Гумбы. Пять дней и ночей Гумба скрывается в редких зарослях острой, как нож, травы на ничейной земле, чтобы отомстить врагам. Глаза устали от напряжения, рука занемела, постоянно сжимая гангата. Никого он не видит из своего селения, только мать приходит вечерами к реке, отделяющей ничейную полосу от области Мбио, и тихо свистит. Гумба переправляется на утлой лодке и торопливо берет еду. Он спешит обратно, потому что он боится пропустить врага. Ночью приходит тяжелый сон. Жаркие лучи утреннего солнца будят юношу, и все начинается сначала.
Он ждет врагов и не обращает внимания на слова матери, которая вот уже два вечера видит свежие следы леопарда на берегу. Ему ли, сыну своего отца, ставшему теперь одним из многих вождей независимой страны Великого вождя Мбио, бояться зверей.
Вдали гора Бангези, прямо перед ним почти плоская саванна с редким колючим кустарником. Тут трудно пройти незамеченным.
Здесь ничья земля, за ней страна Ндорумы, вождя азанде, продавшегося абу-туркам — правительственным чиновникам — и ставшего вечным врагом Мбио. Это люди Ндорумы убили отца Гумбы, и Гумба ждет их, он должен отомстить.
Редкие птицы пролетают здесь, как будто они тоже боятся этих неприглядных пустынных мест. А дома растут высокие пальмы, зеленеют травы. С тоской Гумба прислушался к птичьему пению. Откуда оно? Трель оборвалась. Послышался шорох сухой травы. Дождался. Они ползут. Ну, ближе, ближе, еще ближе... Все тело напрягается, сейчас он поднимется и бросит смертоносный нож. Гумба вскакивает. От неожиданности воин, ползший первым, приподнялся и со сдавленным стоном упал: острый клинок гангата вонзился в его грудь. Победным кличем Гумба оглашает наступившую тишину и быстро бежит к реке. Воины Ндорумы, бросив умирающего, бегут за юношей. Но куда им угнаться! Гумба бежит, как страус, высоко поднимая ноги, израненные травой. Бежит к реке. Погоня близко, но Гумба уже в лодке, он отталкивается шестом и быстро пересекает реку. И в тот момент, когда враги показываются у реки, выскакивает на противоположный берег. Сюда враги не поплывут: здесь страна Великого вождя Мбио.
Гумба стоит на берегу и смеется, смеется над врагом. Сколько их? Десять. Десять против одного. Гумба смеется и резко приседает. Сильно пущенный нож гангата пролетает над головой и застревает в дереве.
Отец отомщен, и Гумбе хочется петь победную песню этой реке, дереву, солнцу. Он смотрит на тот берег. Воины Ндорумы уже исчезли в кустах.
Вдруг треск сучков заставил его насторожиться, он оглянулся. В семи шагах от него блеснули зеленые глаза леопарда. Зверь приготовился к прыжку. Гумба потянулся к поясу, но его нож остался там, в груди врага. Он быстро перевел глаза на дерево, в стволе которого еще качается гангата врага. Успеет он или нет? Гумба присел и резко подпрыгнул. Раздался треск. Перелетая через сучья, зверь бросился на него. Юноша с силой дернул нож и в ту минуту, когда повернулся к неожиданному врагу, почувствовал острый удар лапы в подбородок. Рука с ножом с силой опустилась на голову леопарда, и оба скатились к воде.
Старый бинзе — главный прорицатель племени Мбио — три дня лечил травами и настоями раненого воина. Рана вскоре затянулась, и только багровый шрам остался на подбородке.
На четвертый день Гумба мог уйти к себе домой, но в это время загремел большой боевой барабан вождя. Маленькие барабаны местных вождей повторили удары, передавая сигналы по всей области о сборе большого совета у Мбио. Гумба от бинзе пошел на совет, куда уже спешили его воины.
Когда-то, уходя от войск белых, вождь Ндорума нашел прибежище у Мбио, но быстро покинул его. Мбио не прогонял ни Ндоруму, ни тех, кто пришли вслед за ним на землю его племени, спасаясь от войск абу-турков. Мбио не хотел дать Ндоруме своих воинов, он считал эту помощь тогда бесполезной, ему важно было защитить свою область от нападения тех же врагов.
Гневно укорял его Ндорума и на предложение Мбио остаться у него навсегда другом и помощником ответил отказом. Он покинул прибежище, уводя своих жен и горстку людей, оставшихся верными ему. Большая часть беженцев не ушла с ним. Ндорума покорился власти правительства Египта и затаил вечную злобу на своего южного соседа. Понимал ли он, что вражда двух племен на руку общим врагам азанде — тем белым и газве, которые хотят отнять у африканцев свободу, сделать людей рабами?
В день, когда ушел Ндорума, на собрании вождей в мбанге — большой хижине Мбио — раздавались голоса осуждения. С тех пор недовольные часто предлагали направить послов к обиженному вождю.
Главный прорицатель бинзе знал, что кое-кто из вождей не прочь встретиться с Ндорумой, установить с ним дружбу и прекратить кровопролитие на ничейной полосе. Вот и отец Гумбы, один из самых уважаемых вождей племени, пал жертвой затянувшейся вражды. А сколько еще падет воинов, кто знает? Тогда бинзе предложил собрать большой совет и совершить обряд куриного оракула — пусть он предскажет, следует или нет посылать послов.
Долго бинзе уговаривал Мбио дать сигнал для сбора совета. Вождь слушал прорицателя и, когда тот кончил, сказал:
— Послушай, бинзе, ты мудр, у меня нет от тебя тайн. Не я начал вражду, не я посылал своих воинов подкарауливать и убивать соплеменников. Ндорума не захотел дружбы и начал войну против своих сородичей. Он помогает абу-туркам, которые хотят уничтожить нашу свободу. Из всех азанде только мы свободны. Я Великий вождь, я должен думать о своих людях, а ты посмотри — вокруг абу-турки, белые и предавшие своих сородичей азанде. Я не знаю, откуда ждать удара, я давно хочу сам послать мудрых посланцев, пусть они разузнают, что делается у горы Бангези, зачем идет хитрый Рингио с белым? Кто он? Друг или враг? Вот о чем думаю я, а не о послах к Ндоруме. Мне очень нужно выиграть время, чтобы все знать. Ты мудр, бинзе. Пусть куриный оракул даст мне отсрочку. Если будет так, то пусть решают боги. Ты обещаешь мне, бинзе?
Прорицатель направился к выходу и, прежде чем покинуть жилище, сказал вождю:
— Я понял тебя, Мбио, пусть решают боги!
Мбанга — совет — проходил под широким двускатным соломенным навесом, покоящимся на боковых и центральных столбах, это помещение тоже называется мбанга. На мбанге присутствовали только мужчины.
Мбио восседал на маленькой круглой табуретке. Остальные вожди и воины, оставив свои копья и щиты у входа прислоненными к специальной изгороди, сидели на земляном полу на корточках или небольших квадратных циновках.
Гумба пришел одним из последних, сбросил с плеч шкуру леопарда и сел недалеко от вождя.
Когда все были в сборе, Мбио встал и, выступив вперед, начал речь. Он говорил о вражде, возникшей между племенами, о белых и абу-турках, стремящихся покорить азанде, о том, что некоторые вожди ищут примирения с Ндорумой. Говорил Мбио, и все слушали молча и внимательно.
— Я долго ждал, но мне надо было бы ждать еще. Нетерпение вождей и старейшин заставило меня сегодня собрать мбангу. Пусть сейчас все молчат. Пусть теперь боги решат наш спор!
Мбио сел на свое место. Воины отодвинулись друг от друга, образовав круг.
Под удары маленького барабана-тамтама, приплясывая, в круг вошел бинзе. На его шляпе красовался огромный султан из петушиных перьев; шея, пояс, грудь, щиколотки ног — все увешано целебными корнями, деревяшками, костями и ракушками, с шумом ударявшимися друг о друга.
Бинзе начал танец медленно, то и дело наклоняясь к земле, как бы прислушиваясь. Затем танец стал стремительным. Прорицатель быстро жестикулировал и прыгал. Резко остановившись, он напомнил вождям, что предстоит куриный оракул. Боги сами решат, посылать или нет послов. Если курица умрет, значит, не посылать, если будет жить, — боги дали свое согласие, и воины пойдут к Ндоруме.
Бинзе закружился снова. Когда он остановился, его помощник бросил на середину курицу, привязанную к палке.
Напряжение возрастало. Все понимали важность момента. Бинзе схватил бенге — приготовленную смесь ядовитой травы и, прежде чем вылить ее в рот жертвы, бросил испытующий взгляд на Мбио. Вождь сохранял спокойствие.
Бинзе раскрыл клюв, влил бенге и снова закрыл клюв. Курица продолжала биться на привязи!
Сторонники перемирия приподнялись со своих мест, а Гумба до боли прикусил губу. Он-то никак не хотел мира с Ндорумой. Бинзе, готовый пойти по селению с мертвой курицей и возвещать об исходе оракула, казалось, стоял в растерянности. А Мбио был спокоен.
Но что это? Курица встрепенулась, заметавшись, потащила было немного палку и упала замертво. Бинзе поднял ее.
Мбио чуть заметно улыбнулся и встал. Было ясно: раз курица не умерла мгновенно и не осталась жить, решение богов не было высказано. Вождь произнес:
— Боги не вынесли решения! Может быть, в этом виновато бенге?
— Да, бенге, — воскликнул бинзе, — у нас нет молодых побегов травы, которая растет на берегах Ассы и в землях Анзеа, и боги прогневались на нас.
— Слышали? — продолжал Мбио. — У нас нет травы для бенге. Пошлем двенадцать нош слонового клыка к Анзеа и получим у него траву с берегов реки, текущей по его земле. Что скажут вожди и воины?
Мбио снова сел. Теперь он слушал внимательно. Первым говорил Гумба, потом другие. Вожди и воины поддержали Мбио, и он получил нужную ему отсрочку.
Мбанга приняла решение направить послов к Анзеа. Предводителем послов выбрали Гумбу.
К Анзеа посланцы Мбио ходили часто. С этим племенем обычно велись торговые сделки, и люди Мбио могли без опаски приходить в селение. Но сейчас вождь и бинзе боялись за послов. По слухам, к Анзеа шел белый с Рингио. Именно они и их цели беспокоили независимого вождя азанде.
На утро после совета Мбио сам вышел проводить посланцев. Он подозвал к себе Гумбу.
— Вождь Гумба, к Анзеа идет белый с вождем Рингио. Ты должен все узнать о нем; если нужно, ты сам придешь к белому. Я знаю, ты не побоишься, но будь осторожен в пути. Я буду ждать твоего возвращения. А сейчас ступайте к бинзе, он ждет вас!
Гумба поклонился вождю, и послы направились к хижине прорицателя. Тот стоял перед входом в парадном облачении — таком, как на курином оракуле.
Воины остановились перед ним, положили на землю оружие и сели. Бинзе ударил в барабан, тихо запел, закружился в танце и, упав на колени, приник ухом к земле. Прорицатель встал и ушел в свое жилище. Воины поднялись.
— Вождь Гумба, подойди ко мне, — позвал бинзе, выходя из хижины. В руках у прорицателя были тонкие веревочки с привязанными деревянными амулетами.
Гумба подошел к нему. Бинзе встал на цыпочки и повесил на шею воина амулет — кусочек заостренного и обожженного на одном конце дерева.
— Храбрый Гумба, ты идешь с воинами в опасный путь. Я говорил с богами, они будут защищать тебя в дороге и при встречах. Они уничтожат врагов, как огонь уничтожает деревья. Береги этот амулет, в нем сила и помощь богов!
Бинзе повесил амулеты на шею воинам Гумбы.
По ничейной земле, с востока на запад, с предосторожностями, держа наготове ножи гангата и копья, вел отряд воинов и носильщиков Гумба.
Они пришли в страну Анзеа. Они отдали двенадцать нош слонового клыка и получили траву бенге. Воины торопили Гумбу домой, но он еще не хотел уходить.
Люди разное говорили о белом, пришедшем с Рингио, и Гумба решил расспросить Анзеа.
— Послушай, вождь Анзеа, люди говорят, что белый, которому ты дал приют и оказываешь гостеприимство, желает побывать в нашей стране. Скажи мне, правда это?
Анзеа посмотрел на молодого вождя и задумчиво проговорил:
— Люди говорят правду. Рингио говорил, что белый господин хотел побывать в стране Мбио, но с тех пор прошло много дней, и белый собирает свой караван. Куда он хочет идти, я не знаю. А почему ты, храбрый воин своего отца, сам не спросишь белого, он ведь принимает вождей азанде?
На самом деле, как просто узнать истину! Недаром Мбио говорил: «Если нужно, ты сам придешь к белому».

Конечно, он пойдет к нему. Гумба думал, что ответить, и молил духов защитить его при будущей встрече с белым.
— Ты знаешь, вождь Анзеа, что с белым Рингио — враг моего вождя. Я не могу сам идти к белому, если он не позовет меня. Посоветуй, что делать, ты старше и мудрее меня, Анзеа.
— Хорошо, вождь Гумба, я скажу Рингио, что ко мне пришли послы Мбио. Пусть он передаст своему белому хозяину, я думаю, что белый позовет вас, — сказал Анзеа.
Только пять верных воинов знали, почему медлит Гумба, почему он не идет домой, получив траву для бенге. Ночами, когда каждый думал, что другие спят, они осторожно трогали амулеты, они были уверены, что боги поддержат их, и страх перед неизвестностью проходил.
Белый захотел видеть послов Мбио, и пятеро воинов вместе с молодым вождем Гумбой пришли на встречу. Белый господин принял их как равный равного, как друг друга. И когда Гумба сорвал ненужный больше амулет, воины хвалили своего вождя. Гумба сделал правильно, боги сослужили свою службу. Воины слышали клятву и вслед за вождем повторяли ее про себя, они тоже клялись сказать Мбио, что белый — друг азанде.
С травой для бенге, с подарками для Мбио от белого, с радостными вестями шел в обратный путь отряд Гумбы. Идти было легко, оставив тяжелый груз слоновых клыков и томившие душу тревоги.
Вновь отряд шел по ничейной земле. Уже оставалось два дневных перехода, и они дома, на родной земле.
В ночь перед последним днем отряд разбил лагерь. Ничто не тревожило воинов и, кроме одного часового, все спали спокойным сном. Среди ночи Гумбу разбудил бодрствующий воин:
— Вождь, наш лагерь заметили люди Ндорумы, они лежат за тем небольшим холмом. — Говоривший показал на еле заметный в ночи бугорок.
Сон пропал, Гумба напряженно вслушивался, но ни единый шорох не нарушал тишины. Видно, враг ждал рассвета.
Утром воинственный крик огласил долину и внезапно смолк. Раздалась далекая пальба, и Гумба, еще ничего не видя, понял, что произошло более страшное и неожиданное, чем нападение воинов Ндорумы, — к его лагерю
приближались газве. Бежать было поздно. Проснувшиеся носильщики бросились врассыпную, но пули настигали их. Никто не нашел спасения.
Воины Гумбы сошлись около него. Что они могли сделать с копьями и щитами против ружей газве? Враг не хотел подходить вплотную, он залег и стал расстреливать горстку храбрецов. Пули пробивали тростниковые щиты, и воины падали у ног своего вождя. Оставшись один, Гумба с высоко поднятым копьем пошел на врагов. Он шел, а пули свистели вокруг. Сильный удар в грудь. Вождь зашатался и упал навзничь.
Забрав все, что вез караван, грабители поспешили восвояси.
К вечеру мать нашла тело сына. Она знала, куда он ушел, она ждала его и слышала ружейные выстрелы в саваннах. Кто отомстит за сына? Кто скажет ей, что эта круглая ранка на груди не сделана людьми того белого, к которому шел ее сын?
Ни мать, ни Мбио не узнают, что белый, который шел к Бангези с Рингио, — друг азанде, друг Мбио. Юный Гумба не сдержал клятвы, данной белому другу, и тот никогда не узнает, почему так случилось.
* * *
Прошли десятилетия. Началось пробуждение свободолюбивых сил черного континента, создание национальных государств. Прежняя независимая область Мбио стала частью республики Заир. Потомки азанде получили свободу. А в старинном доме на берегу Невы как память хранится кусочек дерева, внешне мало примечательный, под которым небольшая подпись:
— Амулет посла. Этот амулет носил посол вождя Мбио, пришедший к русскому путешественнику В. Юнкеру в 1871 году. Получив уверенность в хорошем приеме, посол отбросил амулет, как ненужную вещь. Его поднял В. Юнкер и привез в дар музею».
ЗЕМЛЯ УГАСШИХ КОСТРОВ

Письмо состояло из нескольких десятков небольших листов, мелко написанных по-испански. Находка письма среди коллекций, полученных от южно-американского музея еще в 1912 году, была событием. Хотя письмо ничего не добавило к опубликованным в свое время общим описаниям огнеземельцев, однако рассказывало такие подробности, которые вряд ли кто мог знать. Письмо не имело прямого обращения. Оно начиналось так:
«Есть события, о которых я не могу молчать. Сейчас пользуюсь случаем, чтобы сказать во весь голос о страшном зле, которое творится на многочисленных островах архипелага Терра дель Фуего. Мир должен знать об этом.
В 1882 году в лондонской газете
[1] я прочитал следующую заметку: «Наблюдается начало широкой колонизации самого большого из островов архипелага Терра дель Фуего. Кроме золота, найденного в долине Рио-Гранде, считается возможным развивать скотоводство не только на побережье залива Сан-Себастьян, но и во всей северной части острова. Этот план освоения острова может привлечь колонистов Старого Света, которым предоставляется широкое поле для проявления мужества и обогащения, поскольку другой стороной плана является необходимость истребить огнеземельцев. За убитого огнеземельца власти будут платить фунт стерлингов, и в четыре раза больше за его голову заплатит некое антропологическое общество в Англии!»
Я ужаснулся и еще раз перечитал заметку, не веря «своим глазам. Неужели, думал я, после известной всему миру и осужденной трагедии тасманийцев, когда английские завоеватели уничтожили все многочисленное население острова Тасмания, в наш век возможны такие циничные призывы к уничтожению целого народа. Я не поверил сообщению газеты и в резкой форме написал редактору, что он должен опубликовать опровержение. Прошло несколько недель, прежде чем я получил ответ. Редактор сообщал, что нет нужды опровергать события на Терра дель Фуего, так как это правда.
Вскоре я получил пересланные мне копии сообщений из Аргентины и Чили, подтверждающие самые страшные предположения. Я был молод и только что окончил медицинский факультет. Я писал статьи протеста во все газеты, но меня осмеивали и не печатали. Я делал все, чтобы попасть на Огненную Землю. Вскоре представился случай, и по предложению одного патера я выехал на Огненную Землю врачом христианской миссии.
Вот уже почти тридцать лет я живу здесь. Я стал свидетелем многих трагических событий, которые надорвали мне душу. Я обращаюсь с призывом спасти целый народ. Иногда мне кажется, что уже поздно, но я не теряю надежды. Я, как ни страшно в этом сознаться, не верю в божью милость. Бог не спасет огнеземельцев, которых уничтожают люди, их могут спасти только люди.
Не верьте тем, кто скажет, что жители Терра дель Фуего полуживотные. Нет, и еще раз нет! Они люди, такие же, как и мы, но со своей жизнью, своим бытом и культурой!
Природа не проявила к ним щедрости. Она оголила скалы, создала почву, непригодную для посевов, отняла у человека тепло солнечных лучей. Казалось, было сделано все, чтобы здесь погиб человек, но он выжил, и не только выжил. Вдали от цивилизованных путей, в борьбе с суровой природой человек был лишен стимулов к прогрессу, и он остался с примитивными орудиями. Но разве виноват в этом человек, и разве не достоин он восхищения в своем стремлении и упорстве наперекор всем стихиям.
Я прибыл на Огненную Землю. В мои обязанности входило оказывать медицинскую помощь как колонистам, так и огнеземельцам.
Бывая часто и подолгу во многих поселениях огнеземельцев, я наблюдал их жизнь, научился их языку и даже завел друзей.
На архипелаге тогда жило три племени: о́на населяли самый большой остров — Огненную Землю, алакалуф расселялись в западной части архипелага, на островах южной части жили ямана.
Еще в середине прошлого века во всех трех племенах было 12 тысяч человек, но уже к 1880 году их оставалось немногим более 8 тысяч. Сейчас, когда я пишу эти записки, идет десятый год нового столетия, с 1880 года прошло тридцать лет — меньше одного поколения, а огнеземельцев осталось менее двух тысяч. Никто не может поручиться за то, что смерть остановится в своей страшной жатве. «Что будет дальше с нами?» — совсем недавно задал мне вопрос мой друг из племени о́на, Куанип. Я ничего не мог ему ответить. Он в свои двадцать восемь лет видел все, что творилось вокруг, и я не мог лгать.
Его жизнь день за днем — картины печали и горя.
Расскажу все по порядку.
Из всех частей архипелага остров Огненная Земля самый привлекательный. В центральной части и на севере можно встретить ровные безлесные низменности с прекрасными пастбищами. Длинношерстные и длинноногие бурые гуанако, похожие на овец, паслись здесь. Охота на них давала средства к пропитанию. Но гуанако все же не так много, и каждый род о́на имел свою охотничью территорию. Охотиться на территории соседа было самым большим преступлением.
На острове Огненная Земля, в долине Рио-Гранде, населенной прежде о́на, и родился мой друг.
Если идти на юг или на запад, можно достичь большой воды, которая плещется, ударяясь о высеченные из черного гранита утесы, венчающие берега острова. Всюду видны покрытые скалами острова или просто скалы, выступающие из морской пучины. Постоянные ветры согнули кроны деревьев. Их ветви вытягивались по направлению ветра и такими оставались навсегда. Даже в безветренную погоду кажется, что дует сильный ураган. Смотришь на изуродованные кроны, и чудится скрип ветвей. Величественные ледники спускаются с горных кряжей, еще больше оттеняя своей белизной черный гранит скал. Редкая птица находит здесь себе приют. Ветер, и еще раз ветер — вот кто второй владыка островов после гор. От ветра кустарники переплелись в такие сложные клубки, что там, где они плотно облепили участок пологого берега, можно идти по ним, как по дороге из пружин.
Однажды, когда я задержался, возвращаясь от мыса Горн к миссии близ Пунта-Аренас, уже поздно вечером, наше судно сделало вынужденную остановку у одного из островов, защищенного скалами. Ночная мгла спустилась мгновенно. Только что солнце еще шло к закату — и вдруг мрак. Ветер усиливался, волны поднимались, и судно стало подбрасывать, как щепку. Хорошо стоять в надежной бухте и наблюдать бушующую стихию. Видишь, во что может превратиться только слегка волновавшаяся поверхность проливов, и понимаешь, почему, несмотря на открытие Магелланова пролива почти четыреста лет назад, редкий корабль рискнет воспользоваться им.
Ночь всегда поглощает тусклые краски и настраивает на торжественный лад. Я не видел серой растительности и угрюмого спокойствия скал, кругом был мрак, над которым только небо, унизанное вечными светляками. Я долго всматривался в него, оно было особенным здесь, на краю земли. Увидев два четких туманных пятна близ Млечного Пути на фоне южного неба, я вспомнил и названия звездных систем — Магеллановы облака. Они на самом деле похожи на легкие облака, повисшие в небе, сквозь которые проникает свет дальних звезд. Я опустил голову. Но что это такое?
Прямо передо мной на скале противоположного острова мерцал огонь, дальше еще один. Я взял бинокль и стал смотреть во все стороны. Огни и огни. Они были дрожащими, еле заметными на трех—четырех островах или вдоль самого берега, или на отлогих склонах невысоких гор. Один огонек стал двигаться, то пропадая, то вновь возникая у противоположного берега. Затем он остановился и замер. Я уже хотел обратиться к капитану за объяснением, как вспомнил о кострах, которые видел у она и у их южных соседей — ямана. Постоянные костры горели у входа в жилище огнеземельцев или в самом жилище, согревая их и зимой и летом, если можно говорить о лете в этих местах, где климат круглый год почти не меняется, оставаясь влажным и холодным.
Добыча огня для огнеземельцев не представляет трудности. Огонь добывали они не трением — высекали его; кремень и огниво повсюду встречаются в этих местах, а в качестве трута используется мох или пух птицы. И все же ни одна семья никогда не гасила костра, если останавливалась в каком-то месте хотя бы на один или несколько дней.
Такие костры, точнее дым от них, увидел Магеллан, подходя к земле. Тогда было больше жилищ у огнеземельцев, больше было их самих, больше горело костров, и казалось, дым и огонь рассыпались очагами по земле острова. Эту землю он назвал Землей Дымов, а позже ее переименовали в
Терра дель Фуего — Огненную Землю.
Блуждающему огню я тоже нашел объяснение.
Из всех скудных земных богатств Огненной Земли лучшее — пастбища с гуанако — достались племенам о́на; двум их соседям — алакалуф и ямана — природа оставила лишь океан. Его голубые поля стали основным источником их существования. О́на были охотниками за гуанако и собирателями кореньев, и колонисты нередко называли их «пешими индейцами». Алакалуф и ямана были охотниками на море. Они охотились на тюленей, выдр, ловили рыбу, собирали моллюсков, и пришельцы называли их «лодочными индейцами».
Это название более чем справедливо. Чтобы охотиться на море, надо иметь лодку. Орудия примитивные. Много не добудешь. Остров не перейдешь с одного конца до другого через скалы. Поэтому огнеземельцы, после ночного отдыха на земле, с раннего утра до позднего вечера бороздили океан вдоль скал в поисках того места на отлогом берегу, где в прилив вода выбрасывает на камни раковины моллюсков, а то вдруг и тушу кита.

Так проходили в поисках пищи на воде сутки, месяцы и годы, большая часть жизни.
Огонь вечно сопровождал охотников в их тяжелом пути. Он горел в центре лодки на специальном ложе, сделанном из земли и камней.
Для ямана лодка — самое большое богатство. Чтобы построить ее, надо потратить много труда, а в этих водах утлая ладья, сделанная из коры деревьев, могла служить самое большое полгода.
Лодки строили длиной 4-6 метров и около метра шириной. Для постройки такой лодки надо найти в лесах на горных склонах подходящие по величине деревья. Двое или трое мужчин снимали кору с дерева костяными скреблами, а чтобы она не переломилась, связывали ее ремнями. Если кора сломается, все надо начинать сначала. Приготавливали нужные куски коры, сшивали два, а то и три вместе. Какое надо иметь терпение и умение, чтобы так сшить лодку! Огнеземельцы брали вместо нитей китовый ус или тонкие прутья, вставляли их в проделанные костяным шилом отверстия. Нужно, чтобы отверстие было не больше толщины нити, и при старании это всегда получалось. Сшили куски коры — и лодка готова. Вся семья с детьми садилась в нее и начинала бороздить волны вдоль берегов.
Я смотрел в ту ночь на мерцающий огонь и страшился волн, которые могли опрокинуть ладью. Огонь замер. Наверное, все обошлось благополучно.
Тогда же я с некоторой симпатией подумал о колонистах. Они принесли с собой на эти острова железные орудия и показали огнеземельцам, как нужно делать долбленки — лодки, выдолбленные из ствола дерева, более прочные, чем их старинные лодки из коры. И это сделали колонисты — палачи тех же индейцев!
Однако я обещал быть последовательным.
Охотничья территория рода, в котором родился мой друг из племени о́на, проходила в двадцати — сорока километрах севернее левого берега Рио-Гранде. Жилище его семьи находилось тогда вблизи большого камня, стоявшего на восточной границе рода, западной границей были истоки реки. Сейчас здесь одна из ферм наследников колониста Джулио Поппера.
Мой друг Куанип родился в тот год, когда охота на гуанако была особенно успешной. Его отец, Нана — глава рода, после раздела шкур получил в свою долю шесть штук. Можно было сшить одежду на зиму и покрыть шкурами конусообразную хижину, где жила его семья вместе с семьей старшего брата отца. Гуанако давали все, необходимое племени. Мясо их шло в пищу. Шкуры, сшитые или просто наброшенные на одно плечо мехом наружу и подпоясанные, служили верхней одеждой. Из шкур шили меховые шапки в виде колпаков и кожаные сандалии. Две-три шкуры, сложенные вместе, зимой шли на покрытие хижины, которую летом от дождя покрывали листьями или ветвями.
Неугасимый очаг горел посредине хижины и разделял ее на две половины, предназначенные каждой семье. Мать Куанипа — вторая жена Нана, по возвращении домой с собранными кореньями часто уходила отдыхать к большому межевому камню, что стоял рядом с их хижиной. Он имел одну скошенную книзу сторону, так что получался навес от дождя.
Все кругом завидовали удаче Нана, у которого каменные наконечники стрел самые острые, из редкого для этих мест патагонского камня, а глаз меток и рука тверда. И место для жилища им выбрано удачно. По кругу росли четыре деревца, кроны их срезали, добавили несколько жердей — и получилось удобное жилище. Главным украшением в хижине был лук Нана.
Нана был смелый охотник, и, хотя он был молод, его уважали.
Мало семей жило в этой охотничьей местности. Но мальчики были здоровы и скоро могли стать юношами (их уже брали на охоту), девочки помогали матерям собирать хворост, съедобные коренья, выделывать шкуры. Все могло быть хорошо, но гуанако стало меньше и нередко суровый закон охотников нарушали пришельцы из других родов, охотившихся на чужих землях. Такая охота вела к вражде. Нана не хотел этих столкновений. Нужна ли война его народу, когда самым страшным врагом становился голод?
Что делать, если уйдут гуанако? Об этом говорили все охотники в начале сезона. «Надо объединяться, — думал Нана, — менять территории, идти на север, куда могли уйти гуанако, охотиться всем родом, если не двумя сразу, и делить поровну. Не разрешать охотиться в одиночку». Пожалуй, Нана был прав. Голод мог довести людей до отчаяния, и надо было что-то делать, чтобы спасти их. Постоянная тревога запала в его глубоких черных глазах.
Суровый и мужественный охотник, Нана был ласковым и мягким человеком. Последнее время он часто исполнял женскую работу за жену. Ведь она должна была скоро родить. У него еще не было сыновей, и он ждал сына. Жена уходила отдыхать к большому камню. Там у большого камня и родился сын Нана. Радостный отец посмотрел на малыша и воскликнул:
— Помните, люди, легенду о Куанипе, герое нашего народа? Его матерью была Красная гора, а отцом мыс Кааль. Когда он впервые пришел на землю, его спросили: «Кто ты? Кто породил тебя?» и он ответил: «Я сын камня!» — Нана улыбнулся. — Мой сын родился под большим камнем. Пусть он зовется Куанипом — сыном камня.
Когда Куанипу пошел шестой год, в доме с каждым днем все острее чувствовался голод. Отец ходил хмурым и, отправляясь со всеми мужчинами на охоту, пропадал неделями. Во всех хижинах женщины испуганно переговаривались. Ведь обойти всю территорию можно за два дня, но отсутствовать неделю? «А что если они начали охотиться на чужих землях?» — с ужасом думали оставшиеся дома и со страхом и нетерпением ждали возвращения охотников. Когда мужчины возвращались со скудной добычей, женщины внимательно прислушивались: нет ли погони? Но все было тихо. Проходило два-три дня. Кончались запасы, и мужчины уходили вновь.
В таком напряжении проходили месяцы, и хотя Куанип мало что понимал, общая тревога передавалась и ему. Он знал, что дома есть нечего, и бродил далеко от жилья в поисках съедобных растений. Затем мать сплела ему из трав силки. Он ставил их, надеясь поймать хотя бы какую-нибудь птицу.
Однажды двое охотников не вернулось вместе со всеми. Горе охватило все жилища. Люди ждали, что скажет Нана, и тот поведал обо всем.
Он и старшие охотники уже много дней замечали, что гуанако стало меньше в этих краях. Они решили пойти на север, к тем местам, с которых гуанако приходят на их территорию. Они шли несколько дней, но не обнаружили даже следов животных. На исходе пятого дня они увидели широкое пастбище. Вдали какие-то огромные квадратные хижины и пасущиеся в траве белые гуанако. Да, да, белые гуанако! Нана решил, что им померещилось. Но вот белые гуанако, переходя по траве, приблизились к ним. Нана огляделся. Уже больше десяти лет он не был в этой долине, где никто не имел права охотиться, за исключением особенных случаев, когда охотились мужчины всего племени. Он не узнал долины, и только деревья, камни и скалы напоминали ему, что он не ошибся. Один охотник не выдержал и выстрелил. Стрела сразила белого гуанако, остальные остановились и повернули назад. Тут только охотники увидели людей, совсем непохожих на она, в их руках были палки. Один наклонился над убитой гуанако, поднял стрелу и поднял свою палку. То же сделали другие. Раздался гром, и огонь вылетел из их рук. Охотник, стоявший в кустах рядом с Нана, упал. Его обжег огонь, шкура его накидки задымилась. Нана наклонился над ним, текла кровь. Ему стало жутко, но он не растерялся и спустил тетиву. Он убил человека с белым лицом и палкой.
— Я был прав. Это земля нашего племени. Никто не может охотиться на ней, если не охотится все племя. Они убежали к своим хижинам, но скоро появились снова, их было много. Они что-то кричали и выбрасывали в нас огонь. От нас ушел еще один. Мы побежали обратно, они сидели на каких-то высоких голых гуанако и мчались за нами. Наступила ночь, и мы вернулись. — Нана отдернул свою шкуру и вынул свернутую шкуру овцы. — Вот белая гуанако!
Все с каким-то ужасом смотрели то на шкуру, то на Нана. Им изредка попадались гуанако с белой шерстью, и тогда эта шерсть шла на шапку шамана. Но говорят, там белых гуанако много. Нана расправил шкуру и задумчиво произнес:
— Эти белые гуанако не похожи на наших, их пригнали люди, пришедшие на землю племени. Они выгнали с пастбища наших гуанако. Надо известить все роды.
Вероятно, уже тогда Нана ощутил особую тревогу. Гуанако, за которыми они охотились, исчезли с этих пастбищ, охотиться на белых гуанако — значит воевать с пришельцами, но у них огненные палки. Необходимо быть осторожным...
— Куанип! — позвал Нана сына, которого еще не видел с тех пор, как вернулся с охоты. Но никто не ответил.
Со своего места поднялась жена и с дрожью в голосе сказала, что Куанип с утра пошел проверять силки и не вернулся. Уже наступила ночь, и над Млечным Путем висели недвижные Магеллановы облака.
Примерно в то же время с фермы Джулио Поппера в миссию прискакал гонец. Хозяин фермы просил срочной медицинской помощи.
Я еще новичок в здешних местах, но уже многое слышал о Поппере. Он прибыл на остров более пяти лет назад. Откупив у аргентинского правительства обширные участки пастбищ, которые не принадлежали правительству, а были собственностью племени о́на, он завел овцеводческую ферму.
По слухам, доходившим в миссию, Поппер расширил свои владения, сгоняя огнеземельцев, уничтожая их, как «воров его стада» — так он объяснял властям. Он держал целый отряд карабинеров. За пять лет они успели не только разогнать, но и уничтожить многие стада гуанако, находившие приют зимой в долине.
Карабинеры постоянно сопровождали пастухов с отарами, имея приказ хозяина стрелять в каждого туземца без предупреждения.
Когда патер предложил мне поехать к нему, я быстро собрался, не думая тогда о слухах, помня лишь одно — что там больные.
Ферма находилась сравнительно близко от миссии. Через несколько часов я вместе с сопровождающим приехал на ферму. Угрюмое двухэтажное бревенчатое здание располагалось за высоким забором. От него отходили разные подсобные пристройки. В толстом заборе были прорезаны отверстия наподобие бойниц. Двор меня поразил сходством с военным лагерем. По нему расхаживали вооруженные люди, в противоположных углах горели костры, ружья стояли в козлах.
Сопровождающий провел меня наверх, в комнату, где я увидел человека, лежащего в постели. Грудь его была небрежно забинтована. Навстречу мне поднялся высокий с пышными усами черноволосый мужчина. Римский нос выдавал в нем итальянца, в то же время в нем чувствовалась какая-то примесь германских черт... Голосом, привыкшим отдавать команду, он произнес:
— Доктор, Джулио Поппер, будем знакомы! Мой брат ранен стрелой туземца. Прошло три дня, рана гноится. Мы беспокоимся, не отравлены ли стрелы?
Я не подал ему руки, кивнул головой и начал осмотр. Как я и думал, отравления не было, просто грязная тряпка, служившая бинтом, способствовала загноению раны. Окончив перевязку, я с усмешкой задал вопрос хозяину:
— Господин Поппер, почему у вас такая военная охрана?
Хозяин оживился.
— А как же, доктор! Мы живем, как на вулкане. Туземцы каждый день готовы напасть на нас. Вот и третьего дня. Мои люди пасли овец, а они открыли по ним стрельбу из луков. Недаром я дал приказ моим парням стрелять без предупреждения. Вы человек новый, но что ни говорите, а правительство правильно поступает, разрешая отстрел этих туземцев!
Да, я не ошибся, он так и употребил этот термин охотников «отстрел». Меня передернуло.
— А вы знаете, что у этого народа, кроме луков и стрел, которые они редко пускают в ход в битвах между собой, нет никакого другого оружия? Ни ямана, ни алакалуф не изобрели его. Им оно не нужно. У них есть только охотничьи предметы!
— Тем лучше! — Джулио обратился к брату: — Я тебе говорил, какие дикари эти туземцы! Тем лучше для нас.
Он самодовольно улыбнулся. Я тут же хотел сказать что-то резкое, но крик, донесшийся со двора, со стороны сарая, отвлек меня.
— Что это?
— Не волнуйтесь, доктор! Там умирает чернокожий от тифа!
Джулио встал, вероятно рассчитывая пригласить меня к столу, который накрывали в соседней комнате. Но я уже бежал по лестнице вниз. Моя обязанность лечить людей. К сожалению, я уже был не нужен. Этот крик был последним.
Наступила ночь, и мне пришлось остаться здесь. Я плохо спал. Мне не верилось, что индейцы напали сами. Они никогда этого не делали. Вероятно, они пошли охотиться. Что же им делать, если гуанако разогнаны, а есть нечего. Они убивали овец, думая, что это гуанако, не спрашивая у их хозяев, хорошо это или нет. Ведь никто не спросил индейцев, когда их земли продавали или отдавали колонистам.
Утром я встал с желанием высказать все, что я думал, хозяину фермы. Но мне пришлось сказать больше. Я вошел в комнату в момент разговора хозяина с братом.
— Доброе утро, доктор! Рассудите нас с братом, — сказал Джулио. — Он утверждает, что прежде чем человек, зараженный сыпным тифом, сможет заразить других, пройдет пять дней, а я говорю — неделя.
Ни о чем не догадываясь, я спросил:
— А в чем дело?
— Да очень просто, доктор! Мой брат тоже немного медик, он ветеринар. Нам в день его ранения пришла медицинская идея. — Джулио засмеялся. — А мои храбрые карабинеры осуществили ее. Они поскакали по направлению к Рио-Гранде, вблизи какого-то туземного селения поймали дикаренка лет шести. Помните, я говорил вам вчера о больном чернокожем? Так мой брат устроил заражение дикаренка тифом, и мы отпустили его. Он придет в свое селение, там его отец, мать, братья, сестры обрадуются: нашелся! А через неделю они трупы! И пуль не надо, и место освободилось.
— Ловко придумано, доктор? А? Но что с вами?
Вероятно, я побледнел, но не от слабости, а от гнева.
Хотелось выхватить кольт и размозжить ему голову. Но дальше что? Его подручные убьют меня. Здесь его власть, а кто спасет индейцев от тифа, если их еще можно спасти? Я стиснул кулаки и сказал почти шепотом:
— Я слушал вас и не мог понять, кто вы, господин Поппер? Я не мог понять, кто вы — маньяк или бандит? Вы и то и другое, но главное — вы подлец! Я сожалею, что не могу сейчас пустить пулю вам в лоб.
Вы думаете, что Поппер набросился на меня с кулаками? Отнюдь нет. Он, правда, чуть-чуть изменился в лице, но его рот скривила улыбка:
— Без сентиментальностей, доктор! Я не буду обижаться на ваши эпитеты, они не изменят меня. Я делаю свое дело, и церемониться здесь нечего! Для меня одна моя тонкорунная овца дороже всего полуживотного населения, которое живет еще на этом острове. Надеюсь, скоро их здесь не останется, и вы бессильны помешать нам. До скорой встречи!
Он поднялся и предупредительно открыл дверь передо мной. У выхода наши глаза встретились.
— Мы еще встретимся с вами, господин Поппер! — вызывающе бросил я и спустился вниз.
Моя лошадь стояла оседланной, я вскочил на нее и выехал за ворота фермы.
В какую сторону ушел зараженный мальчик, мне никто не сказал. Я знал только одно: что он из долины Рио-Гранде. Надо было спешить туда, ведь упущено четыре дня. И я спешил. В одних поселениях индейцы встречали меня приветливо, в других с опаской. Я заметил, что какие-то люди почти одновременно со мной уходили из одного селения в другое, что-то передавая. Позже я узнал, что они передавали предупреждение Нана. Но мальчика я нигде пока не встретил.
Прошла неделя-другая в поисках. Когда я наконец увидел впереди большой черный камень и около него островерхие хижины, меня удивила призрачная тишина в селении. Сердце сжалось. Вскоре я понял, что опоздал.
Здесь, в селении Нана, жило почти 30 человек; из них только один Нана казался здоровым. Это произошло потому, что он неделю ходил в поисках пищи и пришел домой уже тогда, когда вернувшийся сын метался в жару. Он не подходил к нему и стал ночь проводить в раздумье у камня. Куанип бредил, и страшное подозрение родилось в уме Нана: «Пришельцы послали смерть на селение!»
Погасли костры уже в четырех хижинах, остались еще три, и среди них одна его, где умирали жена, дочери и метался в агонии сын.
Да, Куанип оказался тем зараженным мальчиком, которого я искал.
По селению бегали голодные собаки. Они выли над трупами. Картина поистине ужасная.
Я сделал все, что мог. Не помню, сколько дней или недель, мотаясь между миссией и хижиной Нана, я боролся за жизнь Куанипа. Когда он стал поправляться, я смог отдохнуть. Почему поправился Куанип? До сих пор это для меня осталось загадкой.
Вскоре я уехал, строго-настрого наказав Нана сжечь не только трупы, согласно обычаям огнеземельцев, но и все вещи, принадлежавшие умершим.
Через неделю мне удалось вновь приехать к большому камню. Нана выполнил все как надо. Я заглянул в его хижину: она была пуста, но тлеющие головешки показывали, что хозяева только что ушли. Я проскакал вперед от камня по течению. Никого! Повернул лошадь назад, и скоро мне представилась незабываемая картина.
Огибая кусты, впереди по тропе шел Нана. Шкура, наброшенная на левое плечо, была длинной и доходила до щиколоток. Правое плечо и руки оголены. Левая рука придерживала оба конца шкуры и крепко сжимала знаменитый лук и стрелы. На нем белая меховая шапка и большие сандалии с белым верхом. Он шел не спеша. За ним шел Куанип, одетый, как и его отец, в шкуру, только наброшенную на оба плеча. Он обеими руками придерживал концы шкуры, но также сжимал в левой ручонке маленький лук и стрелы. Голова его была открыта, он шел босиком. Он еще, конечно, слаб после болезни, но раз его отец покинул прежнее жилье, значит, так было нужно. Я сошел с коня. Нана увидел меня и, не дожидаясь вопроса, сказал:
— Мы ушли за реку к большой воде, на юг. Мы будем стрелять только своих гуанако. Но пусть все знают, что эта земля наша! Я оставил хижину, и я могу вернуться!
Он снова зашагал вперед. Куанип посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. Они долго еще были видны, пока не скрылись в зарослях кустарника.
* * *
К западу от побережья залива Сан-Себастьян вдоль невысоких холмов пролегал один из оживленных путей передвижения одного рода она к другому. Здесь, в одной из лощин, они собирались на общеродовые праздники и чаще всего сооружали большие ритуальные хижины, в которых юноши проходили обряд посвящения. Под наблюдением старейшин и шаманов юноши посвящались в законы племени и рода, учились охотничьим приемам, состязаниям, слушали рассказы о легендарных героях. Когда юноша, исполнивший все требования обряда, покидал хижину, его считали уже взрослым.
Дорогой мимо этих холмов нередко пользовался и я в своих поездках по восточному побережью острова.
Уже стояла осень. Из многих селений юноши и их отцы шли по дороге к месту празднеств. Я обогнал отдельные группы и приближался к холму, называемому на языке она «Шорт», что означает «Дух белого камня». На холме на самом деле лежало несколько белых камней, которым поклонялись. Вдруг раздался залп. Дымок взвился над холмом. Идущие впереди с криком ужаса упали на землю. Моя лошадь вздыбилась. Пока я соображал, в чем дело, снова раздались выстрелы. «За что? — мелькнуло в голове. — Ведь здесь нет еще ферм, о́на не охотятся на овец — белых гуанако?» Я пришпорил коня и взлетел на холм, где была устроена засада. Мое появление ошеломило бандитов, притаившихся за камнями. Некоторые повскакали с мест, но начальник резко окликнул их удивительно знакомым голосом:
— Приготовились, пли!
— Стойте, Джулио Поппер! Вот мы и встретились! — успел выкрикнуть я, прежде чем прогремел новый выстрел.
— А, это вы, доктор? Проезжайте своей дорогой, не мешайте моим парням целиться!
Поппер подскочил ко мне и схватил лошадь под уздцы.
— Остановитесь, негодяй! В чем провинились эти люди? — крикнул я Джулио.
Он, как и в прошлый раз, скривил губы:
— Это не ваше дело, вы не помешаете мне! Убирайтесь к черту, пока у меня есть терпение!
— Поберегитесь, Поппер! — Я задыхался от гнева и вынул кольт. — Я не дам отпущения грехов. Или вы сейчас же со своей сворой покинете этот холм, или... — Я угрожающе поднял оружие.
— Доктор, я вам уже сказал: убирайтесь и не пугайте меня! Ну, ребята, пли!
Я выстрелил. Увидев только, как упал Джулио, я пришпорил коня и понесся с холма в долину. Пули, пущенные мне вслед, не достигли цели.
Прошло двенадцать лет, прежде чем я покинул застенки тюрьмы в Буэнос-Айресе и с помощью патера смог вернуться на Огненную Землю. Чего же я добился? Место Поппера занял другой. За двенадцать лет он и ему подобные успели сделать многое. Я проезжал по старым местам — вдоль берега залива, в долине реки — и не встречал островерхих хижин о́на. Говорили, что они еще есть где-то на юге.
Алакалуф и ямана вымирали от туберкулеза, который пришел на их острова вместе с одеждой из бумажной ткани, навязанной огнеземельцам миссионерами. Это платье никогда не просыхало, и индейцы ходили вечно простуженными.
Покончив с о́на, захватив их земли, колонисты стали проникать на острова, и вскоре там также загремели залпы. Близился последний, завершающий акт трагедии.
После новогодних торжеств, которыми в миссии отметили наступление нового, двадцатого века, я отправился в островной мир к ямана. Я стал собирать предметы культуры и быта огнеземельцев, чтобы в будущем спасти хотя бы память о них.
Когда я прибыл на один из южных островов, охота на выдру там уже окончилась и наступила пора поисков лежбищ тюленей или мест, богатых моллюсками.
Жилище у ямана временное. Ведь, на самом деле, нельзя рассчитывать на долгий и достаточный сбор раковин в одном месте или удачную рыбную ловлю. Более или менее продолжительными остановки делали только в районе гнездовья бакланов, которые ютились в крутых береговых скалах.
Бакланов ловили ночью. Индеец обвязывался тюленьими ремнями и, поддерживаемый товарищами, переходил с камня на камень, полз по утесу. Достигнув гнезда, он хватал птицу, прокусывал ей голову и затем собирал яйца. Такое предприятие можно осуществить только в сравнительно тихую погоду, в противном случае ветер помешал бы смельчаку. Во время подобных промысловых остановок ямана сооружали хижину, похожую на стог сена, покрывая остов, сделанный из жердей, шкурами тюленя. Шкуры были такие тяжелые, что ямана, отправляясь снова в путь по проливам, разделяли их на два-три куска и погружали на отдельные лодки.
Я прибыл на один остров, когда к нему от соседних островов устремились флотилии лодок. Это было необычно. В одном районе из-за скудных запасов пищи редко промышляло сразу две или три лодки, а тут устремлялось к острову несколько десятков.
Я поспешил туда, куда, огибая береговой выступ, спешили ямана. Правда, я шел берегом, и, чтобы обогнуть мыс, мне нужно было подняться вверх. С вершины я увидел всю флотилию лодок. Они сгрудились у берега, а охотники сошли на него и сейчас окружали какую-то огромную черную сигарообразную массу. На первый взгляд индейцев было больше двухсот человек.
Испытывая желание узнать, в чем дело, я стал спускаться, и чем ближе подходил, тем отчетливее мог разглядеть, что эта масса — кит, которого выбросило море на берег.
Ямана, как и другие племена, не делали запасов. Чтобы столь большое количество мяса и жира не испортилось и не пропало зря, семья, нашедшая тушу мертвого кита на берегу, извещала другие семьи. Собиралось человек двести; они проводили здесь несколько дней, пока не съедали все. Такие дни обильной пищи превращались в своеобразные праздники. Видно, и сейчас ямана собирались на свое пиршество.
Я приблизился к ним и в толпе мужчин, разделывающих тушу, обратил внимание на молодого человека, выделявшегося своим высоким ростом среди низкорослых ямана. Ноги его были хорошо развиты. У ямана в результате их длительного пребывания в лодке ноги остаются недоразвитыми и уродуют все тело; особенно это заметно у женщин, у которых от постоянной работы веслами хорошо развиты только руки и верхняя часть тела.
Молодой человек повернул ко мне свое лицо. Я громко вскрикнул: «Нана!» — так велико было мое изумление при виде знакомых черт, сохраненных памятью за двенадцать лет тюрьмы. Молодой человек, пристально глядя на меня, приблизился. Что-то вспоминая, он наморщил лоб и тихо сказал:
— Не произносите его имени, он ушел от нас.
— Но кто ты, кто родил тебя? — задал я ему обычный вопрос, который задают индейцы при встрече с незнакомцем.
— Я Куанип, сын камня, — ответил молодой человек, и улыбка, почти такая, как в детстве, когда я видел его последний раз, прошла по его лицу.
Встреча оказалась столь же неожиданна и радостна для меня, сколь и грустна. Спасаясь от преследований колонистов, он и его отец ушли на эти острова. Отец научил его делать лодки, ведь Нана был великим вождем. Когда Куанип остался один и стал взрослым, он женился на женщине ямана. Сделал свою лодку и уже несколько лет живет с этим народом, приютившим его. В память о прошлом у него остался только лук отца, но он его не пускал в дело. Тюлени неповоротливые животные, они не гуанако, и их незачем стрелять из луков. Узнав, что я собираюсь долго пробыть здесь, Куанип пригласил меня на охоту за тюленями, которая должна состояться после того, как они покончат с китом.
Потом я не раз видел, как охотятся на тюленей с лодки. Животное подманивали к ней похлопыванием весла, а ранив гарпуном, вытаскивали тушу на берег. Во время облавной охоты на берегу ямана незаметно подкрадывались к тюленям, отделяли часть животных от стада и затем глушили их дубинками или убивали копьями.
Тюлени, киты, дельфины, моллюски и крабы, морские ежи и звезды — источник питания племен ямана и алакалуф — водились в океане. Лодки бороздили океан вдоль берегов. Океан богат пищей, но чтобы ее достать, нужны люди. Где они?
Завезенные на острова европейцами болезни, истребление ямана и алакалуф вслед за о́на сокращало число тех, кого веками питал океан. С горечью Куанип говорил мне, что те ямана, которых я видел в первый день новой встречи у туши кита — это почти все население племени.
Что предпринять, чтобы спасти оставшихся в живых огнеземельцев? Я знаю, мой патер предложил создать зоны островов, куда не смел бы заходить европеец, оградив их колючей проволокой, предоставив ямана жить так, как они жили раньше. Но чем отличается такой заповедник от зверинца? Людей нельзя сажать в клетки зоосада, им надо помочь, дать им возможность сказать свое слово о самих себе, а они могут сказать его.
Я смотрю на сделанные их руками гарпуны и стрелы, лук Нана, подаренный мне Куанипом, плетеные корзины и силки, смотрю на чудные от природы витые раковины, служившие им сосудами, и меня поражает красота их.
Когда я видел, как индеец, вооруженный костяным гарпуном, на утлой лодчонке из коры подъезжал к массивной туше тюленя и бросал в него гарпун, меня восхищало это зрелище. Этот человек казался детенышем перед морским животным, но он побеждал, он был сильнее. В его руках были орудия, созданные человеком.
Трагедия Огненной Земли еще не закончилась. Я тридцать лет боролся и оказался бессилен остановить злую волю людей. Сейчас меня утешает только то, что предметы огнеземельцев, хранящиеся в музеях Буэнос-Айреса, Берлина, Лондона, Петербурга и некоторых других городов, сохранят память об этом народе и его культуре, о которых я написал только правду...»
* * *
Чуть посеревшая от времени изогнутая в лук ветвь, связанная тетивой из тюленьих сухожилий — таким хранится в музее лук племени о́на. Он лежит в витрине вместе с небольшой коллекцией, представляющей жизнь и быт обитателей Терра дель Фуего.
Время оставило на луке легкие трещины, точно морщины на лице человека. Очень хочется, чтобы все узнали правду о событиях, происходивших на Огненной Земле много лет назад. Нет, такого письма не было, но дела и люди, о которых здесь рассказано — были, были в письмах и книгах, отчетах и заметках исследователей страны, где давно погасли костры ее древних обитателей. Автор ничего не добавил от себя, а только свел воедино все факты тех лет. Ему казалось, что так он должен был и имел право сделать.
Коллекция Кунсткамеры сохраняет память об этом народе, который после завезенной в 1920 году эпидемии оспы начал исчезать с лица земли. Из многотысячного населения Огненной Земли осталось несколько человек. Они не любят вспоминать о кровавых годах прошлого, суровая жизнь приучила их к молчанию, но они ничего не забыли. Когда посмотришь в их полные глубокой печали глаза, кажется, что они спрашивают: «А знает ли мир о нас?»
САГА О ГАРПУНЕ

— Опять пучки костяных проколок! — досадливо произнес Михаил Николаевич, с трудом поднимаясь на край расчищенного могильника.
...Четырнадцать тысяч лет назад на остров, маленькой песчаной каплей расположившийся посередине огромного, как море, Онежского озера, лодки прибывали только в сумерках. Горели яркие факелы. Молчаливые люди племени щуки или окуня медленно выносили на берег колоды, грубо отесанные каменными топорами. В колодах лежали погибшие соплеменники. Далеко, особенно далеко по воде, разносилось заунывное пение — погребальный гимн храбрым воинам, мудрым старцам, покинувшим мир света и переселившимся теперь на Остров Мертвых.
Живые молча ворочали валуны, каменными ножами долбили песчаную землю, выбрасывая ее пригоршнями.
В неглубокую яму опускали колоду и аккуратно рядом с усопшим укладывали каменный нож, принадлежавший ему, крючки и гарпуны, прясла и грузила для сетей, стрелы, лук и... пучок каких-то костяных проколок.
Умершим женщинам клали бусы, костяные иглы и одну-две проколки из кости прямой формы, которые употребляли при шитье одежды, носили как украшение. Пучки костяных проколок изогнутой формы клали в могилы мужчин, в могилы воинов!
— Вы чем-то расстроены, Михаил Николаевич? — участливо спросил начальника экспедиции рослый практикант археологического отряда Костя Сергеев.
— Голубчик, — Михаил Николаевич так обращался ко всякому, невзирая на пол и возраст, — голубчик, вы знаете, зачем древним рыболовам нужны пучки проколок?
Костя выразительно пожал плечами.
— Я тоже не знаю. Глупо дожить до седин, копать сорок лет, шесть раз находить такие пучки и не знать их назначения. Глупо, но не смешно. Вы зря, голубчик, улыбаетесь, это не пустяк.
Михаил Николаевич совершенно не умел сердиться. Никто из участников экспедиции не мог припомнить случая, чтобы он повысил голос или насупил брови. Массивная фигура Михаила Николаевича, казалось, источала природную доброту. Отношения во время полевых археологических работ по традиции не были официальными. Костя примирительно заметил:
— Михаил Николаевич, да это на самом деле пустяк. Всем уже известно, что такие пучки соответствуют рыбацкой, простите, рыболовной культуре, а все остальное детали...
И тут Костя понял, что продолжать в том же духе опасно. Михаил Николаевич как-то ощетинился и громовым голосом перебил:
— Рыбацкая культура! Голубчик, да вы курица, а не археолог. Есть рыбачьи лодки, рыбацкая уха, а культура рыболовов. Пора бы знать. Ничего себе пустячок! Шестьдесят лет назад впервые нашли этот предмет. Шестьдесят лет не могут понять, что он значит, а вы — пустяк! Вам просто наплевать на суть, на истину. Наука требует от нас: скажите, как жили люди прежде, каков был их быт, какие вещи окружали их? Да вы понимаете, что говорите? — Михаил Николаевич вздохнул, и голос его стал обычным, немного задумчивым. — Мы собираемся лететь к звездам, не я, конечно, а другие, нести свои знания о своей планете. А так ли хорошо мы знаем ее? Может быть, пучки, которые кладут рядом с телом рыбака и воина, всего лишь неизвестная частность, но не пустяк!
Пристыжённый и немного обиженный за «курицу», Костя присел у края могильника.
Михаил Николаевич, продолжая мысль, громко сказал:
— Василию Федоровичу будет интересно узнать о нашей находке.
Костя поднял голову.
— Василий Федорович — чистый этнограф, разве ему интересны наши материалы?
— Интересны, голубчик. Он много лет собирает данные о рыболовстве в новокаменном веке, сопоставляет их с находками этнографии. В его таблицах пучки проколок всегда вместе с гарпунами, крючками, грузилами.
Солнце стояло еще высоко, хотя было десять часов вечера. Через озеро к острову спешил катер, чтобы забрать всех на материк, где был постоянный лагерь. Островок маленький, в штормовую погоду он оказывался отрезанным от внешнего мира. На островке был аварийный запас продовольствия, палатки, но без особой нужды на нем не оставались на ночь.
— Костя. — Михаил Николаевич обнял практиканта за плечи, и они не торопясь пошли к косе, к причалу. — Дайте телеграмму Василию Федоровичу.
Костя обрадовался. Ему неприятен был собственный промах, и с готовностью он ответил:
— Вот он обрадуется! А что сообщить?
Михаил Николаевич как-то странно улыбнулся:
— Сообщите так: «Найден еще пучок костяных проколок»... Он так обрадуется!
Тон, каким была произнесена последняя фраза, вызывал сомнение, доставит ли на самом деле сообщение радость Василию Федоровичу, но Костя не обратил на него внимания.
Когда прибыли в лагерь, Михаила Николаевича утащили археологи показывать новые находки, а Костя помчался на почту.
...Кончилось лето и с ним летняя практика. Как-то накануне ноябрьских праздников Михаил Николаевич назначил Сергееву встречу в Институте этнографии, где Костя бывал редко, хотя этот институт располагался на противоположном берегу Невы. На третьем этаже у этнографов размещались коллекции по антропологии и археологии каменного и бронзового веков. Проходя по музейным залам, Костя встретил Василия Федоровича.
— Здравствуйте, Василий Федорович! Вы не видели Михаила Николаевича?
Василий Федорович — седой, в длинном синем халате — равнодушно кивнул и, нахмурившись, отчетливо произнес:
— Ваш шеф скоро придет. Вам не следовало так шутить. Молоды еще.
Костя опешил. Он ничего не понимал. Разве когда-нибудь он посмел бы совершить нечто подобное по отношению к Василию Федоровичу, человеку, пользующемуся огромным авторитетом и у этнографов, и у археологов.
Василий Федорович быстро пошел дальше, но Костя догнал его.
— Простите, Василий Федорович, но я ничего не понимаю. Тут недоразумение.
— Что же вы, и телеграммы мне не посылали?
Вспомнилась улыбка Михаила Николаевича, его возглас: «Он так обрадуется!» Влез в историю.
— Василий Федорович, постойте! Я не знал, что...
— Вы не знали, что я слышать не могу об этих пучках, которые всюду путаются, нарушают схему? Да я во сне вижу крючки, гарпуны и проколки в пучках! Не знали... Конечно не знали, а все-таки так шутить не стоило!
В рассуждениях Василия Федоровича не было четкой логики, и все же Костя чувствовал себя прескверно. Василий Федорович продолжал:
— Обрадовались? Еще бы — новая находка. Не терпелось обрадовать, даже телеграмму дали!
Костя что-то пробормотал и попятился к выходу из зала.
— Нет, теперь постойте, — не унимался Василий Федорович, — я двадцать лет собираю материал по рыболовству в неолите, составил специальную картотеку. А ну, идите сюда.
Косте ничего не оставалось, как пройти в распахнутую дверь кабинета.
Картотека была уникальной. Здесь были фотографии пучков костяных проколок из захоронений, найденных на территории нашей страны, на Аляске, в Финляндии, Норвегии, Дании, Канаде и даже на Гавайских островах. Очень похожие пучки. Только в одних чуть меньше, в других чуть больше проколок, в одних проколки, изогнутые больше, в других меньше. Специальный раздел был посвящен пучкам из стоянок рыболовов бронзового века. Совсем неожиданно тут оказались и фотографии могильников, где вместе с бронзовыми крючками и гарпунами находились пучки бронзовых проколок, напоминавших костяные.
Костя был восхищен. Василий Федорович с видимым удовольствием следил за тем, какой эффект произвела на практиканта его коллекция.
— Мы квиты, Константин Андреевич! Моя резкость в наказание за ваше чрезмерное послушание шефу. Михаил Николаевич мой старый друг и сокурсник, он шутить любит. А если серьезно, ничего я не добился. Вы видели, что на отдаленных друг от друга территориях, в разные эпохи — всюду пучки проколок, которые похожи на какие-то остроконечники. Люди не могли создавать одно и то же так просто, ради забавы. Проколки, собранные в пучки, имели какое-то серьезное значение. Вы согласны?
Костя был согласен. Больше того, ему уже казалось заманчивым раскрыть тайну и войти в науку первооткрывателем.
— Вот было бы здорово: понять — зачем они? — мечтательно вздохнул Костя.
— Что же, Константин Андреевич, открывайте. Я испробовал много вариантов. Сопоставляя различные данные, изучал предания, смотрел этнографический материал. Пока нет ответа. Попробуйте вы. Я перестал ездить в этнографические экспедиции. Годы... Без этнографии этого не отгадать. Может быть, где-нибудь на севере, у рыбаков чукчей или эскимосов можно найти ответ. Помните об этом, если будете в тех краях. Пучок проколок на самом деле пустяк, точнее — частность, чтобы только им и заниматься, но помнить о загадке следует. Заболеете кладоискательством — приходите, я вам расскажу все, что мне известно.
До позднего вечера Костя просидел в библиотеке, просматривая все известные сводки археологического материала культуры рыболовов эпохи неолита. Дома Костя долго не мог заснуть. «Пустяк, — думал он, — но ведь называют предметы по имени первооткрывателя! Радио Попова, пучок Гиса, кажется, он из области медицины. Ничего, будет пучок Сергеева Константина, двадцать лет работал Василий Федорович, ну и что? Если бы он занимался только проколками, ничего не сделал бы. Двадцать лет он попутно собирает о них сведения, пытается понять их назначение. Сколько раз бывало так: кто-то ищет долго-долго, а приходит молодой — и сразу открыл. Что, это вполне... пучок Сергеева, нет, лучше пучок Константина... А может быть, все-таки Василия Федоровича?»

Костя занимался пучками ровно два месяца. Не найдя быстрого и гениального решения, он взялся за дипломную работу. Это, конечно, не открытие, но выполнить ее следовало в срок и хорошо.
Через год Константин Андреевич Сергеев получил право на самостоятельные раскопки средневековых памятников в низовьях Амура. Он тщательно готовился. Все свободное от организационных дел время проводил в библиотеке у этнографов, в коллекционных хранилищах. Штудировал старинные и современные описания культуры и быта коренного населения бассейна Амура. Из разговора с Василием Федоровичем он твердо усвоил одно: чтобы понять вещи, извлеченные из земли, надо знать этнографию тех мест.
Короткая легенда, записанная голландским путешественником XVII века у нивхов, заставила его задуматься. Он что-то вспомнил, быстро переписал ее и, спустившись по лестнице, вбежал в кабинет Василия Федоровича.
— Василий Федорович, здравствуйте! Вы знаете что? — Костя не дал опомниться хозяину кабинета и продекламировал: — «А еще богатырь направил лодку свою прямо на косяк кеты, и зажгли факелы шедшие за ним следом, и взметнулись гарпуны простых людей и убивали они по одной рыбине, а богатырь поднимал гарпун с многими остриями, и много рыб падало на дно его лодки»! Ведь это же костяные пучки!
Василий Федорович улыбнулся:
— Легенда записана голландцем Витсеном. Я знаю ее. Первое время я думал так же, но на Амуре не найдено ни одного пучка. Ни сейчас, ни в далеком прошлом ни один народ не ловил там на подобные пучки. У богатыря, как и полагается по легенде, был богатырский гарпун или связка гарпунов. Что, заболели тайной?
Костя махнул рукой:
— Да нет! Готовлюсь к экспедиции на Амур и читаю этнографические опусы. Так на Амуре нет загадочных проколок? Жаль. Здорово было бы, если бы они там были!
— Не огорчайтесь, Константин Андреевич. — Василий Федорович перешел на утешительный тон. — Будь так просто, не ломали бы голову шестьдесят лет, не было бы ничего загадочного. Занимаясь раскопками, восстанавливая жизнь ушедших поколений, помните и о живых. Наблюдайте. Будьте не только археологом, но и этнографом. По правде сказать, мне сдается, что пучки не зря всегда находятся рядом с рыболовными снастями. Не зря!
Костин отряд на Амуре собрал хороший материал. «Пучка Сергеева» не получилось.
Прошел еще год. Сергеев повзрослел, возможно, и поумнел. Как-то при встрече он сказал Василию Федоровичу:
— Вы знаете, на вашу загадку, — Сергеев так и сказал «вашу», очевидно, идея «пучка Константина» была всего лишь данью молодости, — да, на вашу загадку ответ, видимо, можно найти только в живой этнографии тех же приполярных областей.
Василий Федорович снял со стеллажа ящик, и Костя увидел два пучка по восемь костяных изогнутых проколок в каждом.
— Последние находки Михаила Николаевича на том же островке. Он грозит, что десятый пучок заставит меня съесть, если я ему не скажу, что они такое. Так что, Константин Андреевич, выручайте. Я уже закончил свою работу по рыболовным снастям новокаменного века. Смотрите, в таблице я посмел поместить пучки проколок, правда, с оговоркой, рядом с гарпунами.
Костя внимательно стал разглядывать таблицу. К сохранившимся каменным наконечникам гарпунов были реконструированы деревянные древки, крючки висели на жилах, и только костяные проколки лежали прямо или наискосок, так, как они были найдены, и производили странное впечатление — какое же это орудие лова?
— Мне кажется, Василий Федорович, что вы правы, хотя на вашей стороне пока только легендарный богатырь.
— Мое предположение не факт, но что делать? Мне нужен факт, а его нет. Остается либо забыть о пучках, либо логически домысливать. Забыть нельзя, а логика как на моей стороне, так и против меня. Возможно, проколки просто украшение, хотя вряд ли...
В это лето
Костя опять уехал на Амур. Как обычно, раз в полмесяца, на экспедиционной машине он приехал в райцентр за почтой для всего отряда. Его ждала телеграмма с предложением передать руководство отрядом заместителю и вылететь на Чукотку, где на мысе Уэлен проводил раскопки Михаил Николаевич.
Через три дня Костя был в Магадане, а еще через двое суток катер доставил его на базу экспедиции. Причина неожиданного вызова стала известна только здесь: Михаил Николаевич после сердечного приступа в тяжелом состоянии был отправлен на материк, и Сергееву поручили свернуть лагерь. Из четырех пунктов, где работала экспедиция, три находились рядом с базой, а четвертый в ста пятидесяти километрах на уединенном мысу. Здесь проводили разведку двое: молодой практикант (Михаил Николаевич любил самостоятельных практикантов) Сергей и его проводник — учитель истории чукотской школы Ратмир (на Севере мальчикам часто дают старинные русские имена). Пока сворачивали основную базу, Костя, воспользовавшись тихой погодой, захватив ружье, немного продуктов, на моторке пошел вдоль берега на дальний участок.
На исходе вторых суток Костя увидел над голым каменистым берегом на высоченной алюминиевой мачте красный флаг первооткрывателей и понял, что подъехал к нужному месту. Тупые и остроконечные камни, наступая друг на друга, сбегали в море. Пристать к берегу было невозможно. Сергеев сделал несколько кругов, затем прошел на лодке вперед, но бухты не увидел. Вернулся назад, заглушил мотор и вскинул ружье.
На резкие выстрелы двое появились на берегу. Ратмир ловко спрыгнул на самый ближний к воде уступ и стал ждать, когда Костя кинет ему конец веревки. Константин, не включая мотора, на веслах подошел к берегу.
— С приездом! — весело крикнул Ратмир и добавил: — Я сейчас к тебе сяду и покажу, куда надо ехать. Меня зовут Ратмир, а ты кто, геолог?
Лодка почти уткнулась в берег, и Ратмир легко вскочил в нее и уселся на корме у мотора.
— Я за Михаила Николаевича, — ответил Костя, — он заболел. Куда ехать? Я сейчас заведу мотор.
— Как заболел? Такой здоровый!
— Сердце наверное. Ты вынь весла, я сам заведу мотор.
Ратмир завел мотор, и через несколько минут, обогнув каменный уступ, который Костя принял за продолжение берега, лодка вошла в бухту. Сергей ждал их. Он подтянул лодку и вместо приветствия спросил:
— У тебя, Костя, патронов много?
— Есть еще, а что у вас случилось?
— Кончилось все. Неделю сижу на рыбной диете, и то спасибо Ратмиру. С продуктами ерунда вышла.
Разговор продолжили в палатке. Ратмир у костра пристроил палочку — рожень — с нанизанной на нее рыбой.
— Мы ушли на разведку, — продолжал Сергей, — а медведь все запасы растащил. Муку и чай только оставил. Первое время гусей били, кончились патроны — и сидим на одной рыбе.
— И то скажи мне спасибо, — вставил Ратмир, — изыскатель называется — ни спиннинга, ни крючка. Пришлось вспомнить, как отцы и деды рыбачили. Без меня совсем бы голодным был.
Костя посмотрел на обоих: загорелые, веселые, на бедствующих не похожи.
— Рыбная диета вам явно на пользу. Короче, завтра лагерь снимаем. Экспедиция сворачивается. Вы работу-то закончили?
— Закончили. Нас должны были снять вчера. Мы решили, что срок продлен. Раз уезжать, дай ружье. Пойду гуся напоследок подстрелю, ты гость все-таки.
Сергей взял Костину двустволку и вышел из палатки.
— А как вы обошлись без рыболовных снастей? — вспомнил о беде товарищей Костя.
— Очень просто, — Ратмир улыбнулся, — живая этнография!
Чукча вытащил из угла странной формы метелку. К длинному черенку толстым шпагатом были привязаны восемь острых чуть изогнутых деревянных наконечников. Изгиб был ближе к тупому концу, и все восемь наконечников соединялись в местах изгиба в метелку, так что ощетинившиеся острия торчали во все стороны.
— Пучок Сергеева, — тихо ахнул Костя и, схватив метелку, закричал: — Пучок Василия Федоровича! Живой, реальный! Факт!
В палатку заглянул Сергей:
— Ты что кричишь, Костя, спятил?
— Ребята, вы сейчас все поймете. Двадцать, больше, чем двадцать лет Василий Федорович ищет разгадку тайны пучков костяных проколок, которые археологи находят на разных материках. Он предположил, что они — орудия лова, что-то вроде гарпуна или пучкообразной остроги. И вдруг эта метелка. Это ведь здорово!
— Так те костяные, а наш из дерева. Его Ратмир сам сделал, — иронически заметил Сергей.
Ратмир привстал и гордо произнес:
— Я тебе говорил, что ты плохо знаешь этнографию. Во-первых, я не сам выдумал, во-вторых, наши старики делали эти пучки из кости. Когда рыба идет косяком плотно-плотно, метнешь простую острогу — одну рыбу поймаешь, а такую метнешь — много рыбы добудешь. Понимать надо!
При переезде на базу Костя, как маленького ребенка, держал замечательную метелку — метельчатый гарпун. Ратмир, сидевший за рулем, кричал:
— Да брось ты нянчиться с ней. Приедем, я тебе сделаю сколько захочешь — пять, десять. Все возьми, все увези к себе, отдай Василию Федоровичу.
Счастливый Костя, стараясь перекрыть шум мотора, отвечал:
— Сделай, Ратмир! Сделай много. Дорога дальняя. Одну мы подарим Сергею, пусть становится грамотным.
Сергей, довольный успешной охотой на гусей (четырех он вез даже на базу), только снисходительно улыбался.
С базы Костя послал Василию Федоровичу телеграмму: «Вы правы. Этнография подтверждает. Везу доказательство. Пучки проколок — своеобразный тип гарпуна или остроги. Поздравляю, рад вашему открытию. Сергеев».
ФРЕСКА БОНАМПАКА

Дорожка от яркого лестничного фонаря ворвалась в затемненный зал музея, коснулась пола, перегнулась у плинтуса и вскарабкалась на стену. Со стены на Кузнецова смотрели чернокожие воины в шкурах ягуаров...
И вновь вспомнились последние дни работы конгресса этнографов-американистов в Париже, на котором Кузнецов возглавлял советскую делегацию. Уже были прослушаны все доклады, заканчивались экскурсии по музеям и архивам, и теперь делегатам показывали специальные кинофильмы.
Просмотр фильма, названного достаточно сухо, «Новые материалы древней цивилизации Центральной Америки», был устроен в небольшом конференц-зале. Погас свет, и перед зрителями закачались зеленые листья, ощетинились кактусы. Желтая пыль ударила в подножие пирамиды.
Объектив побежал вверх от ступеньки к ступеньке. Выше и выше. Пирамида Солнца — сооружение из четырех поставленных одна на другую уменьшающихся в размере усеченных пирамид. На стороне, обращенной к тропе жрецов, несколько суживающихся лестничных маршей, они ведут к святилищу. Линия основания больше двухсот метров, плоскости между террасами устроены так, что толпа зрителей у подножия не может видеть происходящего на вершине. Перед ней только подъем, исчезающий в голубом небе, уходящий к солнцу. Когда процессия жрецов медленно поднималась по лестнице, изумленная толпа видела как бы их вознесение.
Мелькают кадры. Древняя столица майя. Каменная стена вокруг города. Дворцы правителей и знати. Колоннады, астрономические обсерватории, платформы для танцев. Храмы и пирамиды. Улицы выложены щебнем, он настолько прочен, что даже спустя тысячелетия кажется цементной кладкой. Мощенные щебнем дороги связывают крупнейшие города и торговые центры. И все это на земле народов, не знавших железа и изготовлявших оружие из кремня и вулканического стекла.
С точностью до минуты древние астрономы высчитывали солнечный год, предсказывали затмение Солнца, узнавали периоды обращения Луны и Венеры.
Вот стадион. На каменной стене сохранилось кольцо, куда забрасывали каучуковый мяч: играли две команды — одна защищала кольцо, другая прорывалась к нему.
Появляются изображения на камне и дереве. На песчанике четырьмя штрихами намечены глаза и колени, две вскинутые вверх женские руки, сложенные ладонями, молят о помощи.
Здесь микрофон щелкнул, и в притихший зал долетело басовитое:
— Господа, последняя сенсация — фреска майя из Бонампака!
...Торжественный праздник победы. На вершине пирамиды — вождь победителей; перед ним на коленях, простирая руки, предводитель вражеских войск. За поверженным врагом надменные военачальники, знатные воины. Сбоку на ступеньках коленопреклоненные пленники. Лица их искажены страданием, из рук сочится кровь. У ног победителя труп принесенного в жертву. Нижний ряд пирамиды охраняют воины. Вождь, торжествующий победу, и некоторые из его соратников чернокожие, у остальных кожа светлая. У пленников тела красного цвета. Лица победителей и побежденных как бы списаны с одного человека. С рисунков фрески более чем тысячелетней древности смотрят многочисленные близнецы, которых разделяет лишь роль в этой сцене и цвет кожи.
Затих шум кинопроектора, вспыхнул свет.
Зал жужжал, встревоженный увиденным, восхищенный красотой фрески, промелькнувшей на экране. Двое или трое участников конгресса попросили слова. Первый из них вновь поднял на щит давно известную американистам гипотезу Мельгара о том, что высокую культуру древних майя создали таинственные пришельцы из Северной Африки.
Спор разгорелся резкий.
Слово взял Кузнецов. Худой, близорукий, обычно стеснительный, Владислав Кузнецов преображался, когда говорил об истории и этнографии Центральной Америки. Речь его была короткой, но яркой. Он говорил о культурных контактах в далеком прошлом, о замечательной цивилизации древних африканцев, создавших памятники Тассили, и о том, что это не дает еще основания утверждать, будто майя и их соседи — отдаленные предки современного индийского населения — не могли самостоятельно создать только что виденные на экране шедевры.
Ему аплодировали. И тут кто-то крикнул из зала:
— А как вы, господин Кузнецов, объясните, почему на фресках изображены чернокожие воины?
На самом деле, как объяснить?
* * *
В центрально-американских джунглях стоит полуразрушенная стена Бонампака, найденная индейцем Акасио Чан; на ней подлинник фрески «Торжество победы», копия которой висит в музейном зале, рядом с рабочим кабинетом Кузнецова.
И он снова перебирает доводы сторонников африканского происхождения культуры майя. Вот они: иероглифическая письменность; пирамиды напоминают египетские. К тому же сооружались первые значительные памятники в Центральной Америке примерно во время заката Нового царства в долине Нила. Отсюда допущение: власть фараонов пала; уходя от преследования, египетская знать с многочисленной разноязычной свитой воинов и рабов погрузилась на суда и отдалась во власть океана; долгие месяцы носились беспомощные суда по волнам, но вот нескольким счастливцам удалось достичь неведомых берегов.
А вот доводы против: наука установила, что иероглифы майя совсем особого типа, да и пирамиды только внешне напоминали египетские. Гипотезу Мельгара подкреплял, в сущности, только один нерешенный вопрос: почему цвет кожи некоторых людей, изображенных на древних фресках майя, черный?
Испанские завоеватели не встретили чернокожих на американском континенте. Африканцы были привезены сюда позднее — европейскими работорговцами. Это известно всем. Почему же на фресках IV-VIII веков изображены люди трех цветов кожи? Может быть, за многие столетия потомки чернокожих пришельцев растворились в массе индейцев, утратили свой темный цвет?
Как все тогда соблазнительно просто, никакой загадки! Привычный для некоторых зарубежных исследователей ход конем. Нашли на острове, затерянном в океане, произведения высокой цивилизации — пришельцы научили местных жителей! Пирамиды Центральной Америки? Опять пришельцы! И ходят по древнему миру — да и не только по древнему — этакие «носители культуры», занимаются «просвещением неразумных дикарей»! Просто, очень просто!
По вечерам, после работы, Владислав задерживается у копии фрески. Сколько он уже пересмотрел книг, сколько передумал! Однако книги и отчеты различных экспедиций, побывавших в глухих индейских селениях Мексики и Гватемалы, у прямых потомков древних майя, не дают разгадки. А он так рассчитывал, что помогут ученые и путешественники! Перед глазами встает картина праздника древних майя.
...Размеренно стучат барабаны. По деревне, мимо длинных домов, крытых пальмовыми листьями (их строят так же, как много столетий назад), идут мужчины. В широкополых сомбреро, в грубых, разрисованных геометрическими узорами шерстяных накидках, они чуть покачиваются в танце. Индейцы только что слушали песнопение в храме Святой Марии — дар испанских завоевателей, — а теперь идут благодарить своих богов за ниспосланный им урожай. У древних предков этих людей, чье благополучие связано с кукурузой, не столько почитался бог неба, сколько его помощники — хозяева дождей.
Древние думали, что по четырем сторонам света растут четыре дерева: Красное, Белое, Черное и Желтое. На вершинах этих деревьев сидят боги — Чаки; в их руках огромные кувшины, наполненные водой. Когда Чаки льют воду, идет дождь и в центре мира распускается пышная крона Зеленого дерева, в густой листве его скрыт рай.
В день благодарения Чаков люди движутся под старинную музыку старинных барабанов к своим старинным богам. Четыре самых почитаемых старца изображают великих Чаков. На старцах шерстяные накидки, а вместо сомбреро высокие венки из ярких перьев попугая, в руках каменные мечи. Старцы сидят по старшинству: первый — бог Севера, затем бог Востока, бог Юга и четвертый — черный Чак — бог Запада.
Да, черный Чак! На всех фресках бог Запада черный. И старцу, изображающему западного Чака, мажут лицо сажей. Где же тут логика: раз уже черный цвет связан с Африкой, то черным должен быть восточный Чак?!
Владислав составил список всех торжественных церемоний майя. Теперь он знал, что говорили жрецы, поднимаясь на вершину пирамиды, какую одежду они носили, кто мог и кто не мог присутствовать при обряде. Но даже в самом полном описании «Старинных обычаев и обрядов майя, сохранившихся в памяти их потомков и преданиях», принадлежащем перу Эриберто Вэла, нет ни слова о различиях в цвете кожи участников церемоний. Об этом ни слова, а старцу — западному Чаку — все же не забывают мазать лицо в черный цвет.
Пергамент рукописи францисканского монаха Диэго де Ланда — очевидца гибели культуры древних майя в XVI веке, — в которую снова погрузился Кузнецов, сохранился неплохо. Перед ним лежали фотокопии текста. Вот он добрался до описания привычек щеголей тех отдаленных времен. «Они любители хороших запахов и поэтому употребляют букеты цветов из пахучих трав, оригинально и искусно составленные. Они имели обыкновение красить в... [дальше было неразборчиво] цвет лица и тело».
Как хотелось бы прочесть здесь «черный»! Он пробует написать это слово на староиспанском на прозрачной кальке тем же почерком, в том же размере букв и сопоставить с еле заметными штрихами рукописи. От волнения писать трудно. Если слово совпадет...
Ни полностью, ни частично слово в строку не лезло. Помещалось и совпадало с оставшимися штрихами только слово «красный».
— В общем-то это описание не имеет отношения к победной церемонии, — успокаивал себя Кузнецов, снова и снова перечитывая все, относящееся к празднеству в честь победы.
Вечером же, проходя мимо фрески, он задумчиво буркнул:
— Краснокожие небось красились глиной, чтобы спастись от гнуса, и вводите своих ученых потомков в заблуждение...
Кузнецов пристальней посмотрел на фреску и сразу же представилось то, что писал монах Ланда о торжествах победы. Пройдет мгновение, и сознание, память оживит картину...
У подножья пирамиды толпа ждет сигнала. Еще раздаются мольбы поверженного врага, но уже один за другим падают истекшие кровью его воины и катятся вниз по ступенькам. Толпа бесстрастно взирает вверх. Предводителю врагов не будет пощады. Суровый обычай войны — не оставлять в живых сильного врага: живой принесет несчастье. Взмах руки чернокожего победителя — и два знатных воина волокут врага вниз. Засуетился верховный жрец, вынул узкие кожаные ремни и подскочил к высокому резному столбу. Поверженного врага привязали к столбу и белой краской обозначили на груди, где спрятано сердце, круг.
Мужчины и юноши вышли из толпы, построились в узкую колонну, подняли луки со стрелами. По звуку барабана они двинулись с места.
Барабан бьет ритм быстрее, быстрее. Пляшущие люди мелькают перед столбом и один за другим посылают стрелы в жертву.
Побежденный не молит о пощаде, он стойко ждет стрелу, которая попадет в белый кружок. Он знает, что только тогда выхватит ее из груди верховный жрец и обагренным кровью наконечником вымажет уста четырех каменных Чаков, стоящих у подножия пирамиды. Один из Чаков — это черный Чак, бог Запада...
На стене, на фреске статичные воины у подножия пирамиды, победители и побежденные на ступенях. Среди них люди с черной кожей!
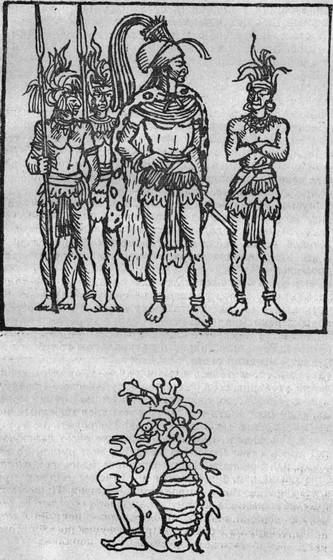
* * *
Сколько же времени прошло после парижского конгресса? Десять, нет, одиннадцать месяцев — почти год.
Мысль, память работают в одном направлении, сортируют подсознательно все новые и новые материалы. Пожалуй, надо ограничить себя поисками в двух направлениях — военные обряды и церемонии жертвоприношений после победы. Короче, один путь — знать все, что связано с военными обычаями прошлого. Так или иначе, но все фрески, не считая самих изображений богов, — это церемонии до и после походов. Может быть, такое решение самое верное, если... если считать, что ты прав в главном, в том, что это ритуальная окраска. Если ты прав в таком предположении?
Новый удар был настолько неожиданным и вместе с тем неопровержимым, что Кузнецов не сразу понял, как могло случиться, что он так долго заблуждался. Сколько раз он читал и перечитывал материалы, а не обратил внимания на то, что и жертву и святилище красили при обрядах в голубой цвет. Речь шла только о натуральном голубом цвете, о черном не было ни слова.
«Тебе просто хотелось думать так, — укорял он себя, — ты давно уговорил себя. Что же, получай свою краску, но не черную, а голубую, лазурную, как пишет тот же монах».
Эх, если бы узнать правду у очевидцев победных церемоний или хотя бы у их потомков! Побродить по горным селениям Гватемалы. Здесь люди помнят свою далекую историю; здесь звучат то переливчатые, как ручьи, то мощные, как гул водопада, песни предков; здесь сохранились древние обычаи, и, присутствуя на церемониальном празднике, ты переносишься на много веков назад. Невозможное становится возможным.
Но как далеко от берегов Невы, где висит фреска Бонампака, до берегов Усумасинта, где звучат песни потомков майя!
* * *
Приглашение на концерт мексиканских и гватемальских студентов оказалось очень кстати.
Концерт проходил на небольшой сцене Дома ученых.
Кузнецов за кулисами видел все, что происходит за сценой, рассматривал национальные костюмы, достал бумагу, чтобы сделать зарисовки. Студенты готовились к выступлению не как артисты-профессионалы, а как участники подлинных народных представлений. Второе отделение было посвящено старинным индейским танцам и песням.
— А кто ставил эти танцы? — задал вопрос Кузнецов.
— Это все наш маленький Артуро, — ответили ему. — Вон тот, совсем смуглый. Он очень гордится тем, что только его деревня сохранила память о танцах воинов древних времен...
Артуро, кончив петь, вихрем ворвался за кулисы.
— Хосе, ты не брал черную краску? — крикнул он.
Хосе подбежал к столу. Кузнецов смотрел на юношей,
искавших краску... Краску!
— Артуро, Хосе, зачем вам черная краска? — Он стоял перед ними, не понимая, что говорит слишком громко для кулис, почти кричит. — Зачем черная краска? Для танца воинов?!
Артуро схватил его за руку и оттащил в дальний угол. Приложив палец к губам, он зашептал:
— Я буду изображать вождя победителей. Только в нашей деревне умеют танцевать древний танец победы. Старики говорят, что в древности воины на церемонии в честь победы красились в черный цвет. Черный Чака — западный — побеждает даже солнце. Поэтому воин победы — черный воин. Мы сейчас танцуем танец победителей. Я их вождь, я должен быть черным.
Черный цвет — цвет воина победы. Не эфиопы или какие-нибудь другие скитальцы из Африки, а индейцы создали цивилизацию Центральной Америки, равную цивилизации античного мира Средиземноморья...
В зале погас свет, тихо зазвучали гитары и барабаны. Луч прожектора упал на сцену и осветил Артуро, вымазанного черной краской, с накинутой на плечи шкурой ягуара...
СОСНОВЫЙ ЛОБ

«Старое стойбище», «Старая застройка», «Сосновый лоб» — по-разному называли высокий выступ гряды холмов наволочной стороны Енисея сургутинские, пакулихинские кеты и дальние их соплеменники на севере — у берегов Курейки, на юге — у Подкаменной Тунгуски.
В половодье столетние сосны свысока смотрят на верхушки затопленных берез, елей и горделивых кедров, вынужденных ютиться у подножия лба. Сосны, как солдаты, захватившие господствующую вершину, удерживают свои позиции, и только исполинская, в три обхвата, лиственница допущена ими на открытую поляну у самого края. Этот край обращен к далекому восточному берегу Енисея.
Лоб обширен, и, как всегда в сосновом бору, деревья не липнут друг к другу, а щедро делятся землей, питающей корни, и лучами солнца, насыщающими хвою крон. Здесь просторно и чисто.
В жаркий полдень летом в мягком плотном ковре опавшей за столетия хвои глохнет шум шагов. Разросшиеся вершины создают тенистый шатер. Пожалуй, и в сильный дождь редкая капля падает на землю. Здесь всегда сухо.
Зимой, когда снег по низким местам наваливает огромные сугробы, на лбу малоснежно и легко развернуть оленью упряжку меж деревьев.
Западный склон лба более пологий. Тут сосны, сбежавшие вниз, задерживаются перед небольшим, но глубоким и прозрачным озером.
В озере много рыбы: сиг, пелядь, чир, окунь и щука. Иногда по неширокой извилистой Мамонтовой речке, вытекающей из озера и впадающей в приток Енисея, заходят осетры. У толстой лиственницы в самый большой мороз не замерзает родник.
Вода, рыба, незатопляемая в половодье земля, сосны — где этот обетованный край, названный Старым стойбищем?
Тот, кто говорит нам о Старом стойбище, машет то на север, то на юг. Рассказ о нем мы слышали на многих кочевьях. Он похож на легенду, повторенную, как эхо, рассказчиками из разных мест.
Думаешь, окажись рядом со стойбищем и сразу узнаешь его. Но наша экспедиция еще не видела этот край, где все нужное таежному охотнику и рыболову совместила природа.
Люди двести, триста лет подряд из поколения в поколение, ценя редкий дар природы, селились там.
И вдруг они покинули лоб. Не только покинули, но навсегда увели вдаль от него тропы и дороги. Неужто поглупели люди, что перебрались в места, где нет такого изобилия рыбы, где надо спасать жилье от воды, а зимой рубить просеку для оленьих упряжек?
Никто не отвечает на эти вопросы. Что же там сейчас? Рассказчики с еле уловимым сожалением возвращаются к давним дням: «Прежде людей там много жило. Утром новую парку, что мехом наружу, надеваешь, а к вечеру нет меха, одна ровдуга осталась. О людей мех вытер. Вот сколько народу было. Теперь там гагары и орлы из дерева, много, сильно много. Они всюду, под каждой сосной, пожалуй, шаманов хоронили! Правда, не на самом стойбище, рядом.
А вот лет двадцать пять назад большого шамана Сенебата с Печальки там зарыли».
Шаман с Печальки... Пожалуй, только старики знали его настоящее имя, ну а те, кто помоложе, называли шамана его вторым именем — Сенебат (что значит — «Старик шаман»).
Сильным шаманом был Сенебат. Казалось, ничто не может сокрушить его силу. Здесь долгое время его слово было законом, его поступкам подражали, его объяснениям всего, что казалось неясным, загадочным, верили беспрекословно.
Сенебат со своим могуществом был прошлым этого маленького народа, обреченного царскими сатрапами на вымирание. В этом прошлом — вечные спутники кета-охотника и рыболова: невежество, голод, болезни и постоянный страх перед неведомыми явлениями природы. Короткие парки из оленьей шкуры, надетые на голое тело, не могли согреть охотника, застрявшего в зимней ночной тайге. Не грел его и костер, чадивший посреди чума. А много ли могли помочь больному песнопения шамана, склонившегося у изголовья?
Проходили годы, десятилетия, столетия. Мать рожала ребенка, но не видела, как он начинал ходить. Дети умирали от чахотки. Постоянно холодно было в чуме, поставленном прямо на снегу и защищенном от злых сибирских метелей лишь тонкой берестяной покрышкой. Всегда сырой была одежда.
От мучительной, беспросветной жизни люди искали забвения в шаманских песнях, призывных звуках бубна, неистовом шаманском танце. Люди боялись шаманов.
Сенебат был силой и властью прошлого. Он стоял между своими людьми и пришельцами, несущими новую жизнь в затерянные таежные стойбища.
Чтобы пойти против шамана, нужно было обладать мужеством. Наш старый знакомый Дагай, смелый, удачливый охотник, много лет назад юношей, совсем еще мальчишкой, восстал против шамана, против старого света. Он первым поставил свой чум у красной фактории, отвез больного отца к настоящему доктору, а младших братьев отвел в школу. Бессильный остановить новое, Сенебат ушел из жизни.
Шаман умер четверть века назад. Сколько же отмерило время с тех пор, сколько изменило! Новые дома, поселки, современное оружие. Изменились люди. Кеты овладели специальностями пилота, радиста, моториста. Кеты-охотники получили семилетнее, а то и десятилетнее образование. Среди них солдаты, прошедшие войну, кавалеры орденов и медалей!
Почему же люди не возвращаются на Сосновый лоб? Вновь задаем вопрос. И снова недоуменно пожимают плечами: «А кто знает? Разное говорят...»
— Что говорят? — пытаемся расшевелить рассказчика, но он невозмутимо берет кружку с черным, как смола, чаем и в лучшем случае повторяет: «Разное говорят...» Разговор исчерпан.
Так повторяется и на южных станках у Подкаменной Тунгуски, и на Елогуе, и в Пакулихе, и на севере, на берегах Курейки.
Сосновый лоб, первоначально отмеченный в наших записях как одно из мест древнего поселения, постепенно отвоевывает страницы, захватывает внимание, мешает сосредоточиться на чем-то ином.
Должна же быть какая-то логика, какой-то смысл в том, что заставило людей покинуть Старое стойбище?
Страх! Именно Дагай первым произнес это слово.
Он стоит рослый, плечистый. Черные, с еле заметной сединой жесткие волосы зачесаны назад, его худое длинное лицо с выступающим орлиным носом, с резко очерченными скулами и подбородком кажется точеным. Он отрывисто бросает:
— Наши люди боятся.
Дагай удивленно смотрит на наши разочарованные лица. Мы ждали какого-то иного — более материального, что ли, объяснения.
— Страх, — повторяет Дагай, — перед шаманскими душами. Стариков страх преследует: молодые той дороги не знают...
Было время — умирал человек, и его родичи, не понимая, что произошло, долго ждали пробуждения. Смерть считали сном, но только слишком затянувшимся, и орда бросала мертвеца, ей нужно идти дальше. Никто не плакал, никто не боялся «уснувшего». Древние не осознавали еще тяжести утраты.
«Уснувший» продолжал жить, но где-то в другом месте, и заботливые руки оставляли около него еду на первый случай, оружие и орудия труда, чтобы он смог добыть себе пищу. Люди не боялись мертвых.
Призрак смерти, страх перед мертвецами появился тогда, когда древние люди стали объяснять непонятные события злыми и добрыми поступками мертвых.
По их представлениям, «уснувший» — мертвый человек — чаще всего приносил зло. И появляется культ умерших предков. Живые приносят им жертвы, спешат умилостивить их, просят защиты, но не надеются на то, что мертвец останется доволен своей участью. Они роют глубокие могилы, заваливают их после погребения камнями, сколачивают гробы из толстых досок, кладут каменные плиты, мертвеца связывают по рукам и ногам — теперь он никогда не выйдет к живым!
Живые понимают разницу между жизнью и смертью и начинают бояться смерти. Сны нет-нет да и «воскрешают» умерших. Но как мог (из такой глубокой ямы!) явиться умерший? Древние не могут объяснить этого. В жизнь человека вторгаются духи и души, вползает суеверие.
Жутко на шаманском кладбище в тайге. Чем могущественнее был шаман, тем больше деревянных гагар и орлов над могилой, а кругом тайга с голосами кричащих и плачущих ночных птиц, с сердитым урчанием ручьев и рек на перекатах, с тяжелым дыханием леса под порывами ветра.
...Мы ждем продолжения, а Дагай вопросительно смотрит на нас. Не в обычае кетов говорить больше того, что тебя спрашивают. Я задаю вопрос:
— Кто разрешил устроить кладбище на месте жилья? Ведь такое не в обычаях вашего народа?
— Сенебат не только большой шаман был, умный, хитрый враг был. Раньше других понял — конец его власти пришел. Смертью своей мстить захотел. Наш обычай — шаманов хоронить там, где Сосновый лоб. Прежде, очень давно, там всегда хоронили, но не на самом стойбище, а за ручьем. Сенебат на земле стойбища велел себя хоронить.
Дагай внимательно посмотрел на нас, задумался и продолжал:
— Много лет после гибели шамана прошло. Никто из наших людей той дорогой через Сосновый лоб не ходил: никто из нас сети в озеро, где рыба косяками плавала, не кидал; на соснах каждый год шишки появлялись, лишь проходная белка там зимовала.
Много лет там, на снегу, только легкие следы белки да боровой птицы были — никто не прокладывал широкую охотничью лыжню. Никто. Там духи шаманов жили — «злых шаманов», как говорили пугливые люди. Недаром двухметровую яму шаманам роют и толстые плахи — половину кедрового ствола — сверх колоды с покойником кладут.
У нас кладбище своих родичей не принято посещать. После похорон последний, идущий по тропе, не оглядываясь, поперек тонкий прут бросает и приговаривает: «Чтобы нам никогда этой дорогой не ходить».
Люди хоронят близких и не возвращаются к их могилам. Родные сами к живым придут — в обличии медведя придут. Наш обычай такой, и мы на свои кладбища не ходим, особенно на кладбище шаманов — злых шаманов.
Дагай медленно отвел упавшую на глаза седую прядь волос.
— Был случай до войны еще. Охотник Чуй пошел белковать на Сосновый лоб. Много белки там добыл. Много больше других охотников. Но умер по дороге на факторию. Все согласны были, он от болезни умер. Давно он болел. И все знали об этом. Но по чумам ходили старики, нашептывали: «Зря на лоб ходил, Сенебат его задрал».
«Чуй зря пошел. Мы не ходим, где мертвые!» — так многие говорили.
Я над ними посмеялся и сказал: «Летом избу, которую для нас русские поставили, подправлю и зимой на лбу жить буду». Парни моих лет сказали: «Вместе пойдем!»
Летом мы вместе пошли, далеко пошли — на войну.
Молодые на фронте, на стойбищах старики и бабы остались. Старики боялись, они в шаманов и духов еще верили. Железные печи прогорели, новых никто не делал — война. Как прежде, в чумах костры стали разводить. Прошлое вновь над людьми нависло, и кто-то вновь начал шаманить.
Нас, фронтовиков, мало было, но мы другими людьми стали, столько всего увидали, сколько старики и древние шаманы не видели. Никто не посмел шаманить, когда мы вернулись. Но в эти годы страх перед лбом держался. Никто туда не ходил.
И тут Паша Зуев — хозяин избы, в которой мы остановились, — не удержался:
— А ты? Ты не боишься? Переночуй там, чего по другим местам шатаешься!
Дагай нехотя ответил:
— И ночевал бы, да могила матери рядом. Мы на свои кладбища не ходим.
Дагай медленно поднялся. Паша остановил его:
— Причем здесь мать? Не обижайся. Я ваш обычай знаю, но ты ведь бойкий человек. Старовера Терентия с Имбака знаешь?
— Что же, знаю. Его небылицу о лбе расскажешь? — усмехнулся Дагай.
— И расскажу, — запальчиво ответил Паша и, обращаясь к нам, продолжал: — Как-то осенью Терентий очутился около лба. Поднялась метель. Он ехал на собаках. Разыскал уцелевшую избушку, там думал переждать метель. Ночь наступила быстро. Окна были без стекол тогда. Скрипели половицы.
Устроился Терентий в маленькой комнате, отгороженной тонкими досками от большой. После полуночи скрипнула половица. "Наверное, собака", — подумал он. Затем кто-то затопал. Он вздрогнул, смотрит — все собаки около него, шерсть дыбом. За стеною голоса, звон подвесок — шаманы пришли...
Паша рассказывает, а я представляю себе, что может показаться человеку во вьюжную ночь, когда с пронзительным скрипом трутся ветви деревьев, дрожат стены ветхой избенки, а сквозь плохо прикрытую дверь порывисто дует ветер. В безветренную погоду тайга не бывает молчаливой: где-то вскрикнет птица, где-то треснет сучок, упадет шишка, зашуршат листья. Сколько же голосов добавляет тайге ветер! И как многоголоса она в метель!
Голос у Паши дрожит, переходит в шепот, а глаза совсем пропали, только изредка испуганно вытаращатся и спрячутся под веки.
– Терентий крикнул. За стенкой: "Ук-ук, ха-ха!" И громче подвески дзинькают. Шаги к его комнате приближаются. Терентий вскочил и, не оглядываясь, бросился прочь из дому. Собаки за ним. С трудом запряг собак и в ночь, в метель, подальше от лба. Тридцать километров проехал, прежде чем на людей наткнулся. Заскочил к кому-то в чум, всех перепугал. Отдышался и все рассказал людям.
Паша замолчал. Я ловлю себя на том, что чему-то удивлялся во время рассказа. Удивляла искренность. Паша верил, что говорит правду. Неужели даже он верит всей этой чертовщине?
— Дагай, ты слышал такой рассказ? — спрашиваю я.
Дагай мрачно смотрит на Пашу и, толкнув дверь, роняет:
— Слышал, но не верю. Такого не было. Павел тоже боится. Я всем говорил. Страх Сосновый лоб прячет.
Стукнула дверь. Обиженный хозяин кричит вслед:
— Ты знаешь туда дорогу да Терентий!
Выясняется одно: на лоб никто не ходит.
Кому-то надо идти туда, надо вернуть его людям.
Надо идти нам!
Четвертый полевой сезон наша экспедиция работает в Туруханском районе, раскинувшемся на многие сотни километров по Енисею, по его притокам.
Мы изучаем культуру и быт кетов — небольшого народа, который издавна населяет этот край. Никогда у этого народа не было письменности. Никто еще не составил его истории. Никто еще даже не знает, откуда он появился в этих местах. Если сейчас не установить каких-то фактов истории, они просто ускользнут.
Новая жизнь здесь в корне изменила вековой быт. Радио, газеты, самолеты — сегодня такие же привычные вещи, как парка или нарты.
На станках — так называют здесь селения, разбросанные по енисейским берегам (через тридцать-сорок километров делали первые русские поселенцы и кандальные ссыльные остановку — стан, и на месте этих станов выросли большие и маленькие поселки — станки), — обычная летняя жизнь. С утра колхозники ездят проверять сети. У каждого рыбака свое привычное место. Прежде такие места были у каждой кетской семьи, их наследовали дети. Сейчас по традиции сохранились названия самых удачных мест лова.
В тридцати километрах от станка вверх по реке Сургутихе — такое место у Дагая.
На большой лодке Дагай привозит свой улов, ему помогает рыбачить сын Токуле.
Юного Токуле мы не видели, он все лето жил на угодье, в шалаше из гнутых прутьев, покрытых берестой. Вообще сейчас в поселке мало народа. Из колхозных рыбаков двое — Павел и Дагай, остальные с семьями ушли на Енисей неводить селедку, осетров и стерлядь. Шла путина.
Наш отряд здесь оказался случайно. Завершив часть маршрута и выйдя со стойбищ, мы ждали катера. Скоро катер должен прийти. Нас ничто не может задержать.
А как Сосновый лоб? Видно, самые разумные планы должны полететь к черту...
Нас в отряде пятеро. Пять разных характеров. Люба Быкова — начальник отряда, самый большой специалист по истории и этнографии кетов. Она никогда не раздражается, если я или кто-нибудь другой что-либо делаем не так. Чаще всего она переделывает сама, если еще что-то можно переделать. Сергей Дремов держался степенно: он был нашим главным и единственным антропологом. И я и Люба были виноваты в том, что Сергей оказался здесь. Мы убедили его, что открытие первой серии древних кетских черепов — достойный вклад в науку. Пока такого открытия не произошло, и Сергея раздражала наша задержка на станке. Всегда спокоен и бодр был самый молодой член экспедиции художник Саша Козлов. Четвертым членом отряда была переводчица Клава Хозова — культработник из Келлога, самого большого кетского поселения. Она умела удивительно искусно строить наш таежный быт. Пятым участником отряда был я.
Хотя каждый делал вид, что занят чем-то своим, все думали об одном — о Сосновом лбе. Но никто не заговаривал о нем.
— Так, — начал Сергей, — собирать материалы на Подкаменной будет дядя?
— Что ты предлагаешь? — подзадорила его Люба.
— Я просто уточняю ситуацию: конец лета — раз, несколько недель и конец навигации — два, а планы...
Тут я перебил его:
— Перестань! Планы? Никто не предлагает торчать на лбу месяц. Найдем его, переночуем две-три ночи. Для дела хватит.
— Найдем, вот именно. Шутник! Иглу в стоге сена ищи. Найти лоб в тайге? Где он?
— Проводника возьмем. Дагая уговорим.
— Чудак! Слышал, что сказал твой Дагай? Мать там! Не найдем проводника, а без него идти глупо.
— Что ты предлагаешь? — повторила Люба.
— Что он предлагает? Он ведь так... вообще! — выкрикнул из угла Саша.
— Да, я вообще! Нужно брать антропологический материал на Подкаменной или нет?
Сергей чуть не добавил: зачем же тогда он ехал? Люба опередила меня:
— Конечно, нужно. Давайте разделимся. Сергей с переводчиком едут на Подкаменную, а мы найдем лоб и догоним вас. Возьмите с собой Сашу.
— Нет уж! — заявил Саша. — Мне, как художнику, тут интереснее.
Прения оборвались. Сергей, обидевшись, вышел и сел на порог дома. В слаженном механизме что-то расстроилось. Думая развеселить всех, Сашка прокричал:
— Исследователи! Мы только подумали о лбе, а Сенебат уже мстит нам, ссорит нас.
Поддерживать шутку не было настроения. Я взял фотоаппарат, полевой дневник и пошел к большому дому, где жило несколько семей. Оставшиеся в доме старики, наверное, сейчас в сборе — обедают. Предложение разделить отряд, возможно, было разумным, но делать этого никому не хотелось, и больше всех, вероятно, Сергею.
...Пронзительный плач разбудил наш отряд. Я выскочил во двор. К женскому причитавшему голосу присоединился другой, третий...
— У кого несчастье? — выбежала Люба.
Голоса доносились от большого дома. Люба прислушалась к тревожному пению, пытаясь уловить смысл слов: она лучше всех нас понимала кетский язык. Мы ждали. Люба растерянно оглянулась и села на ступеньку крыльца.
— Ребята, что-то с Дагаем!
Сашка рванулся за калитку, но я успел остановить его.
— Нельзя. Сами скажут. Сейчас нельзя.
В необычных буровато-серых тенях раннего утра к нашему дому спешил старик Лукьян.
...Берег, начавшийся высоким угором у поселка, снижается постепенно. Затем он превращается в пологий выступ, исчезающий в воде, и здесь река резко поворачивает на север.
Массивная дощатая лодка на веслах с трудом шла вверх. На крутом повороте она чуть не уткнулась в громаду берегового леса, неожиданно вставшего над водой.
В лодке, заваленной мокрыми сетями, Дагай правил на корме, а за веслами сидел удивительно похожий на него, черноглазый, черноволосый, узколицый юноша Токуле.
Отец и сын уже вынули все сети. За поворотом реки их стан, их прутяной шалаш.
Лодка из-за поворота появилась бесшумно, неожиданно.
Отъевшийся за лето, жирный неповоротливый гусь медленно плыл навстречу. Он не учел опасности.
Дагай успел кивнуть Токуле, тот задержал весла на весу и носком сапога подтолкнул к отцу тозовку — малокалиберную винтовку, лежавшую на сетях.
Дагай за ствол дернул винтовку. Спусковой крючок зацепился, и тут же треснул выстрел...
Десять, пятнадцать, двадцать минут радист не может наладить прямую связь с Туруханском. Над районом магнитная буря. Нет прохождения на север. Радист вновь дает позывные и начинает выстукивать текст. На щите замигала лампа приема. Переключение настройки на телефонную связь. Дребезжащий голос в репродукторе:
— Я борт двести десять. Что у вас случилось? Прием.
Самолет АН-2 номер 210 поймал наши сигналы. Радист
протягивает микрофон Любе.
— Тяжело ранен грудь охотник Дагай. Нужен хирург. Туруханском связи нет. Помогите связаться больницей. Закажите санрейс. Прием.
— Я борт двести десять. Вас понял. Иду санзаданием Верещагино. Мы...
В эфире раздается гром, протяжные посвисты. Связь нарушилась.
В колхозной больнице медсестра сделала перевязку Дагаю. Врач на косе с рыбаками. Мы ждем у рации, мы надеемся, что связь с районом будет. Мы ничего не говорим друг другу, но помним последние слова Лукьяна, принесшего горестную весть на рассвете: «Дагай сеть вынул, на лоб, говорят, идти решил. Вот и сходил...»
— Самолет! — Саша рванул дверь почты и понесся под угор на реку.
Вдоль Сургутихи от Енисея шел самолет АН-2, борт номер 210. Около мостков засольни на мертвом якоре качалась бочка. С ходу, снижаясь, самолет ударил поплавками по воде и, подняв брызги, подрулил к бочке.
В Верещагине был хирург. Когда прилетевшие врачи скрылись в больнице, я заметил, что к засольне пристала моторка. Двое вышли на берег. Один поспешил к больнице, другой — грузный пожилой человек — шел к нам.
— Удружили, нечего сказать, — с упреком сказал председатель Гавриленко. — Я собирался на зиму на лоб людей уговаривать, а теперь! Что делать теперь?
— Зимой и пойдете.
— Кто пойдет? Наши люди знаешь что говорят: проклятое это место. Сначала — Чуй, теперь — Дагай.
Прокоп Гавриленко с досадой махнул рукой.
— Слушайте, Прокоп Васильевич. Вы-то понимаете, что происшедшее случайность?
— Да что я. Вы охотников убедите. Пока там кто-нибудь из здешних не побывает, никого туда не заманишь.
— Мы пойдем!
— Вы? — Гавриленко покачал головой. — Я проводника вам дать не смогу. Вы не найдете. Лучше отправляйтесь на катере на Подкаменную, а мы здесь, вот поправится Дагай, сами разберемся.
Операция прошла успешно. Пулю вытащили, она только слегка задела легкое. Дагай потерял очень много крови, но рана была не опасная.
После переливания крови и долгого сна Дагай почувствовал себя лучше. Здешний врач Толя Клитко, приехавший с Гавриленко, позвал меня и Любу в больницу.
— Вас Дагай зовет. Идите к нему, только ненадолго.
Дагай лежал на широкой
больничной койке. Даже
сквозь загар проступала болезненная бледность, лицо осунулось, но глаза были прежними — умными и подвижными.
Мы присели около него. Он слегка приподнял руку, протягивая ее для приветствия. Люба поправила ему подушку и тихо спросила:
— Очень больно?
Дагай улыбнулся.
— Я сам виноват. Зачем за дуло тянул? Сглупил, а на лоб надо идти. Поправлюсь — пойду, там жить буду. Место хорошее. Там человек поживет, и наши люди про шаманов не вспомнят.
Вошел врач. Нам пора уходить.
— Дагай, наш отряд — и Люба, и Саша, и даже Сергей, — все мы пойдем на лоб. Завтра же. Мы еще придем к тебе. Ты скажешь, как идти, хорошо?
Дагай схватил меня за руку и, напрягаясь, пожал ее.
— Я знал. Вы пойдете. Завтра идите. До моего рыбачьего стана дойдете, там мой сын Токуле вас ждет. Я знал. Он вас ждет.
— Спасибо, Дагай. Поправляйся, скорей поправляйся!
* * *
Все готово для похода. Гавриленко дал нам колхозную моторную лодку.
С утра задул южный ветер. По многовековым наблюдениям, он приносит ненастье — дождь или снег. Тучи сгрудились над поселком, и вдалеке уже повисли дождевые полотнища. На реке, сжатой высокими берегами, только на северной стороне заметное волнение.
Дождь некстати, но все собрано, все в сборе. Откладывать отъезд невозможно. На берегу появляются старики. Скоро в домах никого не осталось. Любопытство и тревога привели людей на берег. Они провожают нас, им не безразлично, куда пойдут «верховские», — приехавшие с верховьев Енисея.
В суматохе, беспокойстве мы не обратили внимания, что все эти дни не появлялась переводчица Клава. Ее нет сейчас с нами, нет на берегу. Мы сидим в лодке, ждем ее. Она должна прийти.
К нам спускается дед Лукьян.
— Клаву не ждите. Старики ее отговорили. Не нужна она. Токуле ваш язык лучше, чем она, знает. Северного берега держитесь. На той стороне — мели.
Лукьян столкнул нашу лодку с камней и медленно пошел в гору. Когда он взобрался на берег, Сашка дернул ремень мотора. Лодка пошла против течения, вверх по Сургутихе. Дождь не переставал.
Мы не искали необычных приключений — мы работали. Поездка на лоб была той же работой — может быть, чуть сдобренной романтикой таинственности, но все же работой.
Сосновый лоб имел особое значение в жизни здешних людей, но мог быть и просто местом древнего поселения, исследовать которое входит в нашу задачу. Те, кто часто бывает в экспедиционных походах, любят повторять совершенно справедливую фразу: «Приключения начинаются тогда, когда нет достаточной организации и порядка».
Мы собрались достаточно организованно. Без приключений одолели первый участок пути. Мошка, отставшая от нас на реке, напала на берегу. Даже дождь ей не мешал.
Токуле ждал нас. Он заякорил лодку и задал всего один вопрос:
— Как отец?
В прутяном шалаше было просторно, чисто. Никаких вещей, кроме чайника и ружья. Токуле уже собрался в поход. На реке капли дождя пузырились — будет вёдро... Стоило переждать. Перед входом в шалаш стояла железная печурка. Молча кипятим традиционный чай.
Юный Токуле одет, как все юноши поселка, в темные шерстяные брюки и вельветовую куртку.
Церемония знакомства показалась нам несколько необычной. Токуле спросил, так ли каждого из нас зовут, как он думает. И не ошибся, он сразу узнал нас по описаниям отца.
Токуле уже два года учится на подготовительном отделении Красноярского мединститута и через год перейдет на основной курс. Последние годы он видится с отцом только летом — сначала интернат, теперь институт. Это обеспокоило меня.
Сможет ли Токуле провести нас на лоб, куда люди постарше его не знают дороги? Я спросил его об этом.
— Я там не был, но отец мне рассказал путь.
Юноша отвечал уверенно, и я счел за благо не делиться своими опасениями с товарищами. Я не встречал еще в здешних местах ни одного человека, малого или старого, который бы не сделал того, за что брался.
Дождь перестал.
Можно двигаться дальше.
Все заняли свои места в лодке, только Саша расстался с мотором, уступив его проводнику. Ветер стихал, небо очищалось от туч. Большими разорванными хлопьями они перемещались на каменную сторону — на восток.
Крутые берега Сургутихи медленно отступали за корму. Чем дальше вверх, тем сильнее течение, и скорость моторки падала. Росшая на берегу осина пожелтела, у черемухи опадали листья, а на рябинах пунцовели гроздья ягод. Конец августа здесь, считай, середина осени.
Кажется, приключения все-таки будут. Надо же было умудриться забыть вторую канистру на станке, на берегу.
Бензин кончится, мотор заглохнет, и... останутся только весла. Против течения грести на тяжелой лодке трудновато.
Что предпринять? Внезапно наступившая тишина отвлекла от раздумий. Началось! Приехали!
Лодка глубоко уткнулась в вязкий илистый берег. Токуле, отворачивая ботфорты бродней, пролез на нос и спрыгнул на ил. Увяз по колено. Сильно дернул цепь, втащил нос лодки чуть выше.
— Саша, ты в броднях, вылезай. Остальные подождите, сейчас тальник наломаем.
Распоряжался Токуле. Вдвоем с Сашей они сломали несколько кустов тальника и сделали нечто вроде настила по самому вязкому краю берега.
Я подошел к проводнику.
— Мотор заглох. Наверное, бензин кончился. Дальше на веслах придется.
— Почему заглох? Я его выключил. Пока приехали. Дальше на моторке нельзя, на ветке-долбленке надо. Узко очень, и коряжин много. Вашу лодку здесь оставим.
Забрав всю поклажу, которая уместилась в двух массивных рюкзаках (три лопаты и пару кирок нес Сергей), мы пошли по самой кромке береговой вершины. Метров через двести берег перерезала узкая протока, в горловине которой стояли две осиновые лодки-долбленки, знаменитые кетские «ветки».
Ветку кеты делают из осины, а их соседи селькупы — из кедра. От толщины дерева зависит и размер ветки. Из прямого, ровного по толщине ствола вполобхвата может получиться ветка на одного, а чтобы делать на семью в 3-5 человек, нужно выбрать ствол в два обхвата!
Главное достоинство веток — легкость. Двое мужчин могут на себе перенести лодку через перевал, или, по-местному, перетаск.
Одна из двух ожидавших нас веток была около пяти метров длиной, другая — не более трех с половиной.
В протоке мы плыли по течению. Грести почти не приходилось, только успевай наклонять голову под стволы нависших деревьев.
К вечеру протока кончилась небольшим озером. Берега его хотя и пологие, но каменистые. В северной части небольшой подъем, растут высокие лиственницы, а за ними — сплошная стена хвойного леса.
Наши ветки пристали к северному берегу. Саша втащил свою лодку на берег и спросил Токуле:
— Теперь приехали?
— Нет, отсюда по перевалу восемнадцать километров до Мамонтовой речки, а по ней попадем на лоб, — ответил проводник.
Сергей подошел к говорившим.
— На Мамонтовой речке тоже ветки оставлены?
— Нет, наши ветки на себе понесем.
— Теперь мне ясно, что такое перетаск, — улыбнулся Саша и с расстановкой добавил: — А когда перетащимся... Поймем и окончательно поумнеем.
Ветки вытащили на берег и перевернули кверху дном. Пусть обсохнут.
Пока не совсем стемнело, собрали сухостой и валежник. Разожгли костер. После объединенного обеда и ужина устроились спать. Четверо, не раздеваясь, на двух спальных мешках, заменивших теплую подстилку. Люба — в персональном мешке.
Первый день не принес усталости, только с непривычки — от долгого сидения с подогнутыми ногами — немного ломило в суставах. (Сидеть в ветке спокойно, не делая лишних движений, чтобы не опрокинуть ее, — искусство. Еще большее искусство грести, стрелять из нее, когда на каждое движение долбленка отвечает резким креном.)
Еще в свой первый приезд в Туруханский район я попытался воспользоваться веткой на Курейке. По последнему насту меня привез в станок на собаках Дагай. Вскоре река вышла из берегов и отрезала от поселка холмистую косу. Над ней всегда шли пролетные утки. Я поддался на уговоры, и мы с Дагаем решили на ветке переплыть на косу. «Верховской», и на ветке! — зрелище редкое. За нами к берегу пришло добрых полтора десятка жителей. Дагай, придерживая долбленку, объяснил, что сидеть надо, положив согнутые в коленях ноги на борта для упора. Я уселся. Оказывается, могу. Очередь за Дагаем. Он передает мне ружья, я делаю еле заметное движение, ветка наклоняется в ту же сторону. Я инстинктивно откидываюсь в противоположную сторону. Мгновенье, и... ружье в руке, я сижу в ветке, но вода мне по пояс. У берега, к счастью, мелко.
Примерно то же случилось и с Сергеем. Любе и Саше удалось приобщиться к местному транспорту без водной процедуры.
Из-за вершин вышла луна. На ней можно увидеть то, что увидел древний автор кетского предания, — девушку с ведром в одной руке, другой она схватилась за куст тальника.
Давно случилось это: пошла девушка по воду, увидела в воде отражение месяца и засмеялась: «Что ты, бездельник, делаешь тут?»
Рассердился месяц, стал тянуть ее к себе, но девушка схватилась за куст, не переставая смеяться.
Ухнул месяц, вырвал куст и утащил к себе девушку вместе с ведром и кустом.
Луна на ущербе, и не видно ведра, но еще можно различить девушку и раскидистый тальник...
— Подъем!
Люба расталкивает нас. Холодно, солнце еще не поднялось.
— Зачем в такую рань! — взмолился Саша.
— На перевале весь день провозимся. Надо засветло дойти. Вставайте, Токуле чай вскипятил.
Груз распределили так. Мне и Сергею нести большую ветку с лопатами, кирками и с двумя ружьями. Саше и Токуле маленькую с одним рюкзаком. Любе рюкзак и ружье.
Токуле с Сашей впереди, затем Люба, и замыкаем шествие мы с Сергеем. Тропа еле заметная, заросшая. На стволах старые затесы, заплывшие смолой, почерневшие от времени. По новым затесам можно идти даже в легких сумерках — белое тело дерева светится светлячком. Токуле различает старый путь.
Ветки носом и кормой лежат на наших плечах. Положишь нос или корму на правое плечо и правой же рукой для упора держишь за борт.
Позади первый километр. Тяжеловато, но вполне терпимо. Сергей кричит сзади:
— Жить можно, я думал, будет гораздо труднее!
Токуле с Сашей заметно вырвались вперед, Люба не отстает от них, тогда и мы прибавляем шагу.
Не могу вспомнить, когда началось странное бормотанье за моей спиной. Пожалуй, на втором часу похода.
— Норма десять час, тридцать, солдат, — день, мокрая, двенадцать, шесть...
— Ты что, Сергей? — окликаю я, не останавливаясь.
— Подсчитываю, сколько прошли, — отвечает Сергей и с трудом переводит дыхание. Он устал, видно, больше меня. Я чувствую только надсадную боль в плече — наверное, натер. Надо было устроить привал.
— Эй! — раздалось из леса, видневшегося за тундрой.
На каком-то пределе мы быстро проскочили тундру. Токуле, Люба и Саша ждали нас. Они выглядели лучше. Мы опустили ветку на землю и отерли пот. Сергей присел на поваленный ствол и, отдышавшись, спросил Токуле:
— Половину прошли?
— Однако, не больше четверти.
— А, дьявол! — Сергей подскочил к ветке, схватил кирку и швырнул ее в кусты. Никто не остановил его. Все устали, а впереди еще много километров.
Опять идем лесом. Идем час, второй, и снова привал. Следующий привал уже через час. Очень трудно.
Сергей даже не отвечает на мои вопросы. Я иду и слышу его частое дыхание и очень частые просьбы сменить плечо. Теперь горят оба плеча, не хочу трогать, наверняка, содраны в кровь. Идем, как машины, бездумно переставляя ноги. От усталости они подкашиваются, мы продолжаем идти, покачиваясь из стороны в сторону.
На следующем привале в кусты полетела вторая кирка и лопата. Но легче становится на какое-то мгновенье.
Далеко за полдень. Очередной привал. Ни говорить, ни есть никто не хочет. Сергей лег на землю и зло стиснул зубы. Люба еле сдерживает слезы. Болят плечи и зудят искусанные мошкой ноги, шея, руки. Пройденный путь остался в памяти, как узкая тропа, загроможденная пнями, кочками и буреломом.
Сергей встал, молча вышвырнул из ветки еще две лопаты, вынул ружье и положил Любин рюкзак.
— Пошли, лучше не будет!
Он прав, надо идти.
— От этого кедра совсем близко! — радостно крикнул Токуле.
Мы не заметили кедр, но весь оставшийся путь прошли без остановки и быстрее. На берегу Мамонтовой речки, сбросив ветки на землю, плюхнулись на траву.
...Проснулись разом от ощущения голода и ничего не могли понять. На небе светило солнце, перед нами была река, и ветки лежали на траве. Значит, дошли! Все-таки дошли!
Впереди непростой путь против течения по Мамонтовой речке, но самое трудное уже позади!
Два дня мы плыли по речке до Соснового лба. Ночевали под сосной, которая не укрывала от хлынувшего среди ночи ливня, грести пришлось всем, и все устали от работы однолопастным веслом. Но все равно самым трудным был перетаск.
— Как, художник, уразумел, что значит на местном наречии перетаск? — подтрунивал над Сашей повеселевший Сергей. — Все-таки одна лопата осталась.
Сосновый лоб открылся, когда мы въехали на озеро. Могучие сосны багровели в лучах заката. Блестящая чешуя коры переливалась желтовато-красным отливом, и на ее фоне рельефнее выступал пирамидальный серо-черный ствол оголенной лиственницы с одинокими черными шариками шишек на ветвях.
Ветер не треплет верхушки крон, не рябит воду. В базальтовой глади озера отражается высокий угор, сосны и лиственница. На ее шишках — отблески уходящего дня.
Тихо на озере и в величавом бору, приближающемся к нам. Длинные тени падают на лодки, на людей.
— Э-гэй! — кричит Саша, и лес повторяет неожиданно мрачно и глухо перекатывающееся по кронам многократное эхо: «Э-гэй, э-гей».
С толстой лиственницы на уровне глаз смотрит застарелое вырубленное лицо хо́лой — «духа лба». У корней семь массивных валунов и меж ними — родник. Семь — магическое число. За деревом небольшая поляна и бор без кустов, с редкими молодыми сосенками и ковром пожелтевшей хвои.
Солнце село, и ночная темень бесшумно завладела лесом. Первый костер и первый ночлег на лбу, у лиственницы.
— Под охраной самого хозяина, — шутит Саша.
Первая ночь на лбу таинственна и немного тревожна.
Завтра пойдем вглубь. В тиши резко трещат тлеющие сучья, ворчит вода, наваливаясь на берег, но не слышно ночных птиц, и только из лесной чащи доносятся резкие шорохи — где-то сосны роняют шишки.

Все снаряжение оставили у холой, взяли только ружья, а Сергей — лопату. В лес идем скопом, все убыстряя шаг. Идти легко: ни бурелома, ни пней. Просторно, и нигде не видно шаманских гагар и шаманских орлов. Только лес, только сосны. Вот и ручей — не он ли служил границей меж живыми и мертвыми?
За ручьем разбрелись в разные стороны. Такой же лес. Издалека кто-то первым крикнул:
— Вы что-нибудь нашли?
Этот вопрос повторяется все чаще и чаще. Ничего.
— Нашел, сруб нашел!
Бежим через ручей на голос Сергея.
Три ряда нижних венцов, заросших мхом, засыпанных хвоей, лежат прямоугольником. В центре прямоугольника — береза, единственная в этом бору.
— Олений сарай, старый олений сарай, — поясняет Токуле.
Четверть века назад люди покинули стойбище, а раньше жили здесь подолгу и основательно.
Внимательно осматриваем землю и видим еле заметный конец полоза оленьей санки. Раскидали мох и хвою, и показался весь полоз, рядом второй, а меж ними упавшие сгнившие копылья. Следы живых теперь попадаются часто — почти неразличимый круг с короткими гнилушками — чумище, место, на котором стоял чум. Во мху нашли невыдолбленную ветку и снова санки.
Избушки, остатки избушек, упавшие стены и стропила находим во второй половине дня.
Так где же могилы? Ночь в глубине леса многоголоса. Над нами противным голосом кричал филин, где-то рядом трещали кедровки, раздавался шорох в сучьях, ломавшихся под лапками белки или ночной мыши. Переливчато звенел родник, но никто из царства мертвых не тревожил нас.
И второй, и третий, и четвертый день мы ищем древние могилы шаманов и не можем найти их.
Предложение Сергея копать наугад отвергается единодушно — общая площадь лба, пожалуй, больше двухсот гектаров.
Сергей не слушает нас и в пятый — последний — день пребывания на лбу в одиночестве раскапывает два «подозрительных» холма. Правы мы, но тем не менее холмы вызывают азарт, и со словами: "А ну-ка, дай я вот этот вскрою!" —Сашка копает третий холм. Чудесная песчаная почва. Рвем лопату из рук и вскапываем еще один, другой...
Расходимся собирать хворост для костра и, как сумасшедшие, мчимся на зов Токуле:
— Гагару нашел!
Деревянная гагара сантиметров двадцать длиной лежала подо мхом. На брюхе у нее выемка — сюда вставляли длинную палку-шест и втыкали его перед могилой. Где-то здесь была могила Сенебата.
Перерыли мох, но только труха сгнившего дерева попадается нам.
Тайга за многие годы сделала свое дело. Ветры уронили шесты с деревянными птицами, дожди сгноили шаманские символы, а мхи и хвоя спрятали от людских глаз пристанище мертвых. Тайга сохранила память только о жизни — чумища и санки.
Благодатный край... Теперь мы знаем, что люди вернутся сюда и дадут ему новую жизнь.
...Мы ушли со лба длинным, но легким путем: по течению Мамонтовой речки — на Енисей и дальше на косу, к рыбакам, сородичам Дагая.
* * *
Густое серое небо висит низко, почти касается мачты катера.
В кормовом кубрике катера теснотища.
За бортом — поникшие талины с длинными седыми пепельными усами ила, оставшегося еще с весеннего паводка; коричнево-мутная, пенистая на гребне волны енисейская вода, а по берегам редкие путевые знаки.
Катер идет час, другой, а берега безлюдны. Изредка появляются встречные суда, идущие вверх.
Кончается навигация, кончаются наши разъезды по селениям и стойбищам.
В багаже магнитофонные ленты и фотопленки, а больше всего записей, полевых дневников с беглыми заметками и зарисовками, нужными для воссоздания истории маленького народа. Писаная история нужна кетам и всем нам.
Нет народов без истории, есть еще не написанные истории, но сама история уже сотворена людьми. Ищи ее, пойми ее и дай всем людям. Они ждут ее.
...Кто-то дернул за рукав. Я обернулся, маленькая фигурка в огромной зюйдвестке прокричала:
— Папаша, письмо тебе!
Вот уже и папаша, а все из-за бороды.
Письмо было из Сургутихи, из центрального поселка, там работал Дагай. Со дня нашего отъезда прошло больше месяца. Председатель колхоза Прокоп Гавриленко просил выслать из Москвы очки для дочки и, делясь новостями, как бы между прочим писал:
«Дагай здоров, собирается на Сосновый лоб охотиться. На весновку отправятся две бригады туда же. Будем строиться. Приезжайте на наше стойбище — Сосновый лоб...»
АЛТАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА

Реки Горного Алтая, впитавшие снега Саян, устремляются к степным просторам, где проложила себе путь Обь. Горные реки насыщают Обь, и она, рассекая податливую землю, ускоряет свой бег на север. Там, где Обь вырывается к студеному океану, устье ее подобно бурному морю, здесь река кажется какой-то затихшей, уютной. В безветренную погоду, если не видно плывущей ветки или скользящих по воде листьев, можно подумать, что Обь вообще остановилась, прекратила свое вековое движение.
В тишине, особенно вечерней порой, рождается иллюзия пустынного безмолвия. Память же воскрешает минувшее, когда здесь, на стыке Степного и Горного Алтая, перед вторжением орд Чингисхана восемь-девять веков назад жизнь не затихала ни днем ни ночью. В такие минуты в наши дни и приходят голоса людей давней поры, их чувства, их боль и радость. Прошлое приближается к настоящему, как будто и не было расстояния, отмеренного временем...
* * *
...Телеуты, предки современных алтайцев, редко пользовались речными путями в своих дальних и близких странствиях. Вынужденные, как и все люди, селиться близ воды, они страдали от полноводной и широкой реки ежегодно.
Обычно по весне река разливается. Тогда волны ее хлещут неудержимо в степь, затопляют тропы, разрушают деревянные аилы — восьмиугольные сооружения из бревен с конусообразным верхом, захлестывают загоны для скота и губят его. Нехотя телеуты уходят под натиском воды подальше от степной равнины в лес и ждут с нетерпением того часа, когда вода остановит свой бег и начнет день ото дня отступать назад. Вслед за ней по непросохшей еще земле погонят свой скот телеуты на знакомые пастбища и начнут вновь строить жилища.
И так от века к веку. К этому уже привыкли. В глубокую старину, чтобы сдержать реку, на песчаных холмах, тянущихся грядой почти вдоль самого берега, устраивали поклонения богам и духам, в глубокие ямы закапывали специально убитых в честь духов воды пленных, а то и провинившихся соплеменников.
Телеуты не могли, как никто на свете не может, жить без воды, но боялись спокойной, хотя и быстрой реки, которая в пору таяния снегов становилась свирепой и неукротимой. Город жертв должен был оградить жилища живых, но вода шутя перекатывалась через гряду холмов и наступала на селения. Только один холм — остров на широкой речной протоке, Остров Мертвых, где телеуты и еще давным-давно их предки и предки их предков хоронили сородичей, никогда не затопляла вода. Такое чудо превратило остров в священное место, которое посещали только тогда, когда кто-либо из близких уходил в подземный мир.
Телеуты редко, очень редко на лодках или плотах отправлялись куда-нибудь в путь. Речным волнам они предпочитали земную опору и, оседлав низкорослых лошадок, могли без отдыха, мерно покачиваясь в седле, преодолевать большие расстояния. Телеуты редко пользовались речной дорогой, но зато по реке к их селениям и стойбищам приплывали другие. Их речь была непонятна для многих, хотя что-то знакомое слышалось в произносимых словах. Только старейшина Моюль да шаман Каракас понимали их язык. От старейшины телеуты узнали, что пришельцы живут ниже по течению реки, в краю редких пастбищ и обширных лесов.
Шаман даже лечил приезжавших так же, как лечил своих соплеменников. Люди не понимали, как могут их боги помочь чужакам, но никто не смел остановить Каракаса. Каракас всегда, сколько помнят старики, был самым сильным шаманом. Никто не знал точно, сколько ему лет. Если бы кто-нибудь сказал: «Каракас был и будет всегда, он не рождался и, значит, не умрет», — то никто не стал бы с ним спорить. Еще Каракас говорил своим, что приезжавшие по воде — дети давнишних людей, которые были братьями и сестрами самых первых телеутов, и даже имя их похоже на имя сородичей Моюля — телесы. Телесы большой народ. Многие из них живут, как и телеуты, среди равнин и степей, но некоторые аилы оказались в лесном краю. Так говорил своим людям Каракас.
Все верили ему. Все видели, что с ним согласен Моюль и самый умный из телеутских воинов — Дахча из рода Орла. Дахча соглашался с шаманом, хотя нередко и очень неосторожно подшучивал над ним, передразнивая в кругу сверстников его танцы и пение.
— Ты слишком неосторожен, Дахча, — в последнее время часто говорил воину Моюль, — зачем обижаешь шамана, зачем передразниваешь его? Твоей силы, Дахча, не хватит, чтобы справиться со всеми его духами. Берегись, Дахча!
Дахча почтительно выслушивал старого вождя, но не принимал близко к сердцу его предупреждения. В свои двадцать лет Дахча понимал, что и Моюль, и Каракас, и все старшины телеутов любят его за смелость и отвагу и гордятся им. Полюбили они его пять лет назад, когда он прошел последнее испытание и стал взрослым.
Тогда, на исходе зимних дней, Дахчу и всех его сверстников увели из аилов в долину у подножия Великой Золотой горы. Семь дней и ночей они были в дали от своих близких. У робких слезы нередко заволакивали глаза, во сне повторяли они имена матерей. Семь дней были какими-то странными и непонятными. Мудрые старцы и сильнейшие мужчины всех родов с первыми лучами солнца поднимали юношей с жестких постелей из бараньих и козьих шкур и заставляли до полудня носить маленькие и большие гнейсовые плиты из урочища на вершину холма, что стоял против снеговой шапки Великой Золотой горы. Каждый по указанию старейшины клал принесенные плиты в определенном порядке на землю или на другие плиты. После скудной трапезы, состоящей из сухого овечьего сыра, принесенного юношами из дому, печеной сараны да жидкого, но ароматного чая, можно было час-другой отдохнуть.
В три часа пополудни, когда солнечные лучи падают на пробуждающуюся от зимних вьюг землю наискосок и резко меняют очертания скал, холмов, деревьев и голого кустарника, мужчины-воины приводили коней и сажали на них юношей. Кони были неоседланные и необъезженные, а только взнузданные. Надо было усидеть на таком коне, заставить его идти шагом или рысцой, суметь натянуть лук и пустить стрелу в каменное изваяние, поставленное неизвестными телеутам древними народами на краю предгорной долины.
Прошло пять дней испытаний. На вершине холма стояли семь пирамид — обо, сложенных из каменных плит. По ночам многие с трудом сдерживали стоны, раны саднили, болели ушибы, полученные в эти дни. Дахче все было нипочем. Он легко носил плиты и даже не переводил дыхания, взбегая с ними на вершину холма. Весело скатывался вниз и быстро взбирался вновь. Работу он проделывал за двоих. Конь с белой отметиной на лбу, доставшийся Дахче, только два раза попытался сбросить всадника и затих, покорно повинуясь его уверенной и ласковой руке. Пустив коня легкой рысцой, Дахча наклонялся к гриве и шептал какие-то странные слова. Сверстники считали, что Дахча знает язык животных и птиц. Стрела Дахчи попала в изваяние, а стрелы других юношей пролетели мимо.
Самое главное испытание проходили юноши в последнюю седьмую ночь. Поздно вечером в долину приехали Моюль и Каракас. Юношей собрали у костра, и Моюль дал им последние наставления. Давно погасла вечерняя заря. Яркий желтый диск луны быстро поднимался в небо. Скоро полночь. Догорал костер. Юноши сидели притихшие, вслушиваясь в слова песни, которую запел Каракас. Песня набирала силу и отдавалась эхом от холма с обо, от вершины Золотой горы. Когда лунный свет озарил все семь каменных пирамид, Каракас прекратил пение и громко крикнул: «Начали!»
Юноши вскочили со своих мест, подбежали к коновязи, оседлали объезженных накануне коней, взяли в руки по аркану и рассыпались по долине. С каждой минутой нарастало напряжение. Вот-вот Моюль и Каракас выпустят из заброшенного загона для овец матерого голодного волка, который бросится в долину, а каждый из юношей, преградив ему путь, попытается заарканить его, связать и доставить на вершину холма. У юношей отобрали луки и стрелы, ножи и копья. Оставили только арканы да сыромятные кожаные путы.
Волк был громадным. Когда его выгнали из кошары, он злобно огляделся, приготовился к прыжку, но, увидав острые пики, поджал хвост и бросился в долину. Привлеченный запахом коней, волк делал мощные прыжки и в лунном свете фантастическим чудищем летел на первого всадника. Тот не успел соразмерить расстояние, и волк, рванувшись от земли и описав в воздухе исполинскую дугу, вышиб его из седла. Прежде чем сомкнулись зубастые челюсти, юноша успел защитить лицо локтем, в который впились волчьи клыки. Громкие крики и топот копыт вспугнули волка, он бросил жертву, отскочил в сторону и медленно, постоянно озираясь на приближающихся всадников, пошел прочь в долину. Всадники охватывали хищника огромным полукольцом, а он, пренебрегая опасностью, сел на задние лапы и высоко поднял голову к ночному небу. Вот-вот кольцо сомкнется. Несколько арканов не долетели до цели. Волк неожиданно пригнул голову и бешеными скачками понесся к центру полукольца. В свете луны тело хищника стало длинным, оскал пасти — зловещим, и молодые кони в страхе шарахнулись в сторону. Волк вырвался на простор, и только один всадник успел повернуть коня и стрелой помчался за ним. Это был Дахча. Он пригнулся к шее коня, взял на изготовку аркан. Расстояние сокращалось медленно. Еще мгновение — и волк добежит до края долины, а там горы. Дахча сильно послал аркан и еле удержался в седле — столь резким был рывок пойманного зверя.
Волк бился, пытаясь вырваться из петли или перегрызть ее. Перед юношей стояла самая трудная задача — приблизиться к зверю и спутать его лапы кожаными ремнями. Волк злобно щелкал зубами, норовя вцепиться в руки или ноги Дахчи. Отчаявшись, Дахча придавил телом голову хищника и, разрывая об острые когти зверя свою куртку, связал вместе его передние и задние лапы.
Когда остальные юноши приблизились к месту схватки, Дахча с трудом перекинул спутанного волка на круп коня и вскочил в седло. Лицо его, покрытое крупными каплями пота, озарилось улыбкой, узкие черные глаза радостно заблестели, и, не обращая внимание на исцарапанные в кровь руки, он издал клич победы и направил коня к вершине холма.
Слава победителя не вскружила голову Дахче, но сделала его не по годам уважаемым человеком в аиле. Каракас сам преподнес ему как талисман-оберег пояс из шкуры волка. Сверстники гордились Дахчой, и только Бюльдан — тот самый юноша, которого в долине вышиб из седла волк, — завидовал ему. Еще в детстве Бюльдан, бывший шестью лунными месяцами старше и рослее Дахчи, никогда не мог победить его в обычной мальчишеской борьбе. Бюльдан хотел быть предводителем сверстников, но предводителем был Дахча. Не рассчитывая одолеть Дахчу в честном состязании, которое устраивали в аиле для проверки силы и ума юношей — будущих воинов и старейшин, Бюльдан постоянно нашептывал шаману на ухо: Дахча насмехается над делами и помыслами старших, Дахча не боится вызвать гнев духов... Бюльдан завидовал доброте, силе, ловкости Дахчи, — зависть источала его сердце и с годами перешла в ненависть. Ночами не спал Бюльдан, придумывая, как бы извести своего недруга. Но тот так и остался всеобщим любимцем. Козни Бюльдана не разрушили дружбы Дахчи со сверстниками, не разожгли злобы в сердце Каракаса, лишь принесли завистнику славу клеветника.
* * *
Лодку, приставшую к берегу против аила отца Дахчи — Таласа, первой увидела его жена Анай. Она позвала сына:
— Дахча, скорее подними отца. Лодка пристала. Человек в ней почти не шевелится. Он или ранен, или болен...
С помощью Дахчи Талас привел раненого путника в аил. Анай сбегала за Каракасом. До прихода шамана человек из лодки не приходил в себя. Слова, вырывавшиеся в бреду, были непонятны. Каракас, очищавший лекарственным снадобьем рваную рану на груди незнакомца, внимательно прислушивался к бессвязному бормотанию. На десятый день незнакомцу стало немного лучше, и он достаточно ясно произнес по-телеутски:
— Чей аил дал мне приют в конце моей жизненной дороги?
Голос незнакомца прозвучал из гостевого угла так неожиданно, что Анай невольно выронила чашу с чаем на колени и вскрикнула. Талас быстро подошел к больному и опустился у его изголовья:
— Я Талас — хозяин аила, приветствую твое возвращение к жизни. Ты поправишься, странник, и не надо думать о конце пути.
— Я Катугаас из рода Телес. Мой аил стоит в лесу ниже по течению Великой реки. Мои отцы и деды умели понимать духов гор и лесов. Наш род древнего колена. Наши люди умеют видеть будущее и редко ошибаются.
Телесец с трудом подбирал непривычные для него телеутские слова. Долгая речь утомила его. Он перевел дыхание и продолжал:
— В моем аиле всего в достатке: и скота, и шкур зверей. Я видел в твоем доме, Талас, молодого мужчину. Он похож на тебя. Это твой сын? Он еще не женат? Я не видел здесь молодой, и ты не отделил его...
Раненый приподнялся и закашлялся так сильно, что кровь выступила на губах и он бессильно упал на постель. Испуганная Анай побежала за шаманом.
Только к вечеру Катугаас пришел в себя, попросил поесть и принести из лодки его торбу и оружие. Дахча побежал к берегу. В лодке было два лука. Один обычный, такой же, как у всех телеутских воинов, и другой большой, с длинными концевыми костяными накладками и звенящей тетивой. Дахча с трудом натянул тетиву. Он никогда не видел такого лука.
Телесец попросил развязать торбу и передать ему небольшой кожаный мешочек. Слабыми руками он дернул завязку, мешочек раскрылся, и на кошму выпали белые, лазурные, красные и желтые бусинки бисера — целое богатство, а среди них золотая поясная бляха, изображающая козлов, сцепившихся рогами.
— Талас, — подозвал телесец хозяина аила, — мой дом пусть будет счастливым домом для твоего сына. У меня растет дочь. Вчера ей исполнилось семнадцать весен. Она стройна, как лиственница, волосы чернее черного хвоста горностая, а глаза большие и цветом похожи на золото. Прими в знак дружбы золотую бляху для пояса, и давай сговоримся соединить наших детей. Подумай, спроси сына, если сердце его свободно, он будет счастлив. Подумай и не торопись, Талас. В обычаях нельзя отказывать ни принятому под кров, ни уходящему в подземный мир.
Дахча с каким-то смутным волнением прислушивался к словам Катугааса. Он знал, что нет хуже для телеута человека, чем неженатый мужчина, но пока еще не помышлял о браке, да и никто из девушек соседних аилов не был ему дорог. Он ждал, что скажет отец, и не знал, что хотел бы услышать.
Талас ничего не ответил в тот день. Он решил посоветоваться с шаманом. Каракас, прежде чем ответить отцу Дахчи, навестил раненого и долго говорил с ним, попросив всех покинуть жилище.
Каракас ушел от телесца крайне озабоченным и, не обращая внимания на почтительно ожидавшего ответа Таласа, быстро пошел к аилу Моюля. Дахча и все молодые и старые мужчины племени только поздно вечером узнали, что рассказал телесец шаману и что шаман передал старейшине. Далеко за верховьями реки, куда отправился Катугаас за редким товаром для своей любимой дочери — Айталины, где живет кипчакское племя, он встретился с воинственными и необычными в этих степях всадниками, пришедшими с юго-востока. Он вместе с кипчаками участвовал в сражении с пришельцами, там он добыл вражеский лук и получил глубокую рану на груди, которая раскрылась вновь уже на обратном пути, от частых взмахов веслом. Катугаас потерял много крови, и лодку его течением случайно прибило к стойбищу Моюля. Каракаса встревожил рассказ о неизвестном народе, вторгающемся в пределы земель родственных телеутам племен. Если всадников много, они могут дойти и до этих мест.
Катугаасу стало хуже, он вновь был в бреду и чаще других слов с его губ слетало: «Айталина». Он бредил и вспоминал свою дочь. Очнувшись, телесец вопросительно смотрел на Таласа, а тот так и не получил совета шамана. Предчувствия опасности вынудили Каракаса забыть просьбу отца Дахчи. Пришлось о ней вновь напомнить.
— Отец Дахчи, — медленно начал шаман, — я, который может опускаться под землю и подниматься на небо, не знаю, что ожидает нас в ближайшие годы. Но я тебе дам совет — принимай дружбу телесца. Я слышал о нем, о его дочери, которую за красоту назвали Айталиной. Айталина — значит созданная творцом. Нам нужна будет дружба народа телесца. Но только помни, Талас, ты отец Дахчи и ты должен будешь выполнить условия сговора. Отец Айталины долго не проживет. Твое согласие — клятва перед духами гор и лесов, не смей потом ее нарушить.
Талас вернулся домой в тот момент, когда Катугаас вновь пришел в себя. Дахча сидел около него и держал чашу с водой. Телесец внимательно посмотрел на хозяина дома.
— Слушай, отец Айталины, слушай Дахча. Не перед лицом смерти, не перед законами гостеприимства, а перед будущим я принимаю дружбу твою, Катугаас. Ты поправишься, и мой сын поедет с тобой за своей невестой, которую ты зовешь Айталина и у которой золотые глаза.
— Спасибо тебе, отец Дахчи, — голос телесца звучал радостно и спокойно, — ты не будешь проклинать этот день, юный Дахча, но тебе придется одному поехать к нашему аилу. Если тебе понравится моя дочь, ты отдашь ей бисер и все расскажешь сам. Я скоро умру. Дай мне, Дахча, стрелу из моего колчана, сломай ее, я уже бессилен. Возьми обломок с опереньем и тоже отдай Айталине. Она догадается, что случилось со мной, и поймет, что тебе можно верить. А еще...
Катугаас вновь закашлялся, кровь опять выступила на губах, он протянул руку к чаше с водой, которую держал перед ним сын Таласа, и вдруг быстро проговорил:
— Вынесите меня наружу, к берегу. Скорее...
Похоронили Катугааса на Острове Мертвых. В могилу сложили все его имущество, чужеземный лук, стрелы, нож — все, что было с ним в лодке, а лодку разрубили и остатками накрыли могильный холм. Мешочек с бисером и обломок стрелы остались на гостевом месте в жилище Таласа.
Бюльдан одним из первых узнал о сговоре Таласа и Катугааса и на другой день после похорон не преминул спросить Дахчу, когда же он собирается поехать к своей невесте. Вопрос даже в устах Бюльдана казался безобидным, и Дахча ответил:
— Через десять лун, так сказал Каракас.
А через семь дней Бюльдан исчез из стойбища, но Дахча ничего не видел и не замечал вокруг себя. Каждый день приходил он к шаману, и тот учил его трудному телесскому говору.
Прошло двенадцать дней после похорон Катугааса. В аиле Таласа Дахчу собирали в дальний путь. Ему предстояло быть вестником несчастья и исполнить дружеский сговор.
— Говорил тебе Моюль — не дразни шамана, — собирая сына в дорогу, причитала Анай, — не послушался. Теперь он посылает тебя в невиданные земли. Он мстит тебе.
— Замолчи, мать Дахчи, — резко крикнул Талас и что-то хотел еще добавить, но Дахча перебил его:
— Не ругай мать. Я все равно поеду в селение телесцев и выполню просьбу отца Айталины.
Пришла пора отъезда. Когда Дахча кончил пить чай перед дорогой, мать прошла в свой угол и открыла большой ящик. Прекрасная зеленая шелковистая ткань заструилась в ее руках.
— Давно уже твой дядя, Дахча, привез эту ткань из южных земель, чтобы ты подарил ее своей невесте. Это хороший подарок для девушки, Дахча... — И мать залилась слезами.
Река катила свои воды на северо-запад, и по ее течению легко было вести лодку. Осталась позади степь с редким лесом и низкий правый берег. Река то расширялась, то суживалась в своем русле. Правый берег на третий день пути стал постепенно повышаться и к вечеру уже нависал грозной громадой над Дахчой и его лодкой. На ночь Дахча приставал к берегу, но, встревоженный молчанием леса, покрывающего высокий угор, из осторожности не разводил костра. К исходу четвертого дня лес отступил чуть-чуть от берега и потянулся на восток. По всем приметам, о которых говорил Катугаас шаману, Дахча приближался к стойбищу Айталины. Еще нужно было обогнуть выступающий мыс, и тогда под сенью деревьев он увидит ее аил у трех громадных кедров. Дахча в волнении привстал в лодке, взмахнул веслом. Мыс стремительно приближался. Чья-то фигура мелькнула на берегу.
— Айталина! — крикнул Дахча. И в то же мгновение стрела впилась в борт лодки. Дахча резко пригнулся и выдернул ее. Оперение, как у стрелы Бюльдана, из перьев дохлого орла!
У каждого воина-телеута стрелы были с особым оперением, которое не повторялось у других. Особенно ценились перья горного орла или сокола, сраженного метким выстрелом. Но очень редко появлялись эти птицы над телеутской степью, да и летали они слишком высоко. Однажды Дахча скакал по степи и наткнулся на дохлого орла. Тело его разложилось, а перья пожухли от дождей и ветров. Никогда не возьмет телеут для стрелы перья дохлой птицы, и Дахча ускакал прочь. Вскоре ему удалось сбить парящего в небе сокола и украсить свои стрелы. Вернувшийся вслед за ним на стойбище Бюльдан гордо размахивал стрелами с орлиным оперением. Дахча попросил Бюльдана показать стрелу. Пожухлые перья дохлого орла! Дахча улыбнулся, но не стал позорить товарища.
Вновь послышался зловещий посвист. Дахча упал на дно лодки и вдруг услышал лай собак. Лодка огибала мыс, и впереди виднелся берег с восьмиугольным аилом под тремя кедрами. У входа в жилище стояла девушка, рука ее держала лук с вложенной стрелой, но она смотрела не на реку, а на берег, откуда в Дахчу летели стрелы и где не смолкал заливистый лай.
— Айталина! — громко крикнул Дахча, и девушка, стоящая на берегу, не опуская лука, повернулась к реке. Она громко свистнула, и тут же три громадных лохматых пса оказались у ее ног.
Дахча пристал к берегу и медленно стал подниматься на угор, неся перед собой сломанную стрелу Катугааса. Собаки грозно зарычали, когда Дахча оказался перед их хозяйкой. Молодой человек не решался поднять глаза, не решался отдать обломок стрелы. Он чего-то ждал. Густой, как песня, голос вывел его из забытья, он поднял глаза и застыл в изумлении. Девушка действительно была похожа на стройную лиственницу, распустившую по весне свои мягкие зеленые иглы. Глаза Айталины были большими, почти круглыми. Дахча видел только их на чуть продолговатом лице. Девушка удивленно глядела на пришельца. Дахча положил к ее ногам обломок стрелы, мешочек с бисером и зеленую ткань. Нет, Катугаас, не обманул его. Девушки прекрасней нет на земле, и это его, Дахчи, невеста.
Дахча плохо помнил, что произошло в те три дня, когда он наслаждался радостью видеть Айталину с утра до позднего вечера. По обычаю телесцев жених не входит в жилище невесты на ночь, пока она не позовет его, что означает ее согласие быть женой сватающегося. Дахча ночевал в лесу. И каждую ночь чья-то тень мелькала между деревьями, настороженно и злобно лаяли собаки. Вечером третьего дня открылся вход в аил Айталины, и она позвала Дахчу. Она протянула ему чашу с чаем, она дала ему выпить крепкой араки. На ней было зеленое шелковое платье, украшенное бисером на груди, рукавах и по подолу...
В доме завозились собаки: видимо, опять кто-то чужой подошел близко. Айталина подбежала к двери и распахнула ее. Три верных пса первыми выбежали на лесную опушку. Вдруг серый пес жалобно заскулил и как-то неуклюже сел на землю, остальные подняли лай. Айталина опередила Дахчу и подбежала к собаке, в спине которой торчала стрела с орлиным оперением. И в этот миг стрела впилась в грудь Айталины.
Дахча стремглав бросился в чащу без ножа и лука. От деревьев отделилась черная тень. Дахча узнал Бюльдана, и в этот миг стрела впилась ему в руку. Дахча рванул ее и устремился к Бюльдану. А тот бросил лук и помчался к реке — там осталась лодка Дахчи.
— Остановись! — крикнул Дахча. И в этот момент Бюльдан споткнулся и полетел с крутизны в воду.
Через пятнадцать дней Дахча вернулся в свой аил. В лодке лежало тело Айталины и ее серого пса. Две другие собаки охраняли хозяйку.
Каракас обещал юноше: когда смерть настигнет Дахчу, его похоронят рядом с Айталиной...

* * *
Правый берег Оби очень низкий. В половодье вода легко перекатывается через дюны, смещая их и
меняя всю топографию местности. Вода и ветер рушат песчаные стенки холмов, обнажая древние погребения. Иногда ручьи талых вод вымывают на дорогу кости умерших, и нередко пустыми глазницами череп смотрит на высокий левый берег реки. Местные жители, которых из-за постоянных разливов реки все меньше остается на правом берегу, обходят стороной так неожиданно открывшееся кладбище.
На высоком берегу, первоначально вдоль небольшой протоки, а затем все вверх и вверх от века к веку разрасталось село Вяткино. Сюда в пределы степного Алтая двести-триста лет назад переселялись из Вятской и Костромской губерний русские крестьяне в поисках привольных и свободных земель.
Первые русские поселенцы не встретили коренных жителей края. Нет никаких ощутимых влияний культуры алтайцев в быту и промыслах русских села Вяткино, как обычно бывает в тех местах, где пришлое крестьянство соприкасалось с прежними и первыми поселенцами. Заманчивая задача — выяснить: кто же жил в этих местах? Кто оставил могилы, ежегодно вскрываемые весенним паводком?
Небольшой отряд ленинградских этнографов вместе с косарями каждое утро переезжал из Вяткино на ту сторону Оби. У дюн их дороги расходились. Вечером, когда сенокосная бригада возвращалась домой, этнографы возвращались тоже. Стояли жаркие дни середины июля. С полудня до трех часов дня работать нельзя — солнцепек. Перерывы долгие. Но ни песен, ни шуток не слышно от дюн. Уже пятый день раскопки древних могил, которые, по рассказам старожилов, так щедро показываются случайному путнику по весне, не давали успеха. Их просто не было — этих древних могил. Уже обрушены стенки трех самых больших дюн. Найден явно захороненный череп коня (а коня всегда хоронили и древние скифы и древние алтайцы вместе с погибшим или умершим хозяином), но самих могил, останков тех, кто жил в этих затопляемых местах почти девятьсот лет назад, нет. Ребятам наскучило тщательно расчищать каждое темное или ржавое пятно — признак органического разложения либо кострища. Такой след может оставить и случайная ветка, и корень дерева.
На шестой день Дмитрий — начальник отряда, перепоручив дела студенческого коллектива второкурснику Володе, пошел обследовать "огромное", как говорили вяткинцы, кладбище у Клепиково. Поздно вечером он вернулся. На том месте искать нечего. Кладбище двухвековой давности, русское, видимо, старообрядческое. Старообрядцы давно уже ушли из этих мест на восток.
И все же на седьмой день работы были перенесены на небольшой выступ в протоке Оби у деревни Камышенки.
— Ура! Череп! — закричала Валя. Пронзительный крик долетел до лагеря. Дмитрий с ребятами побежали к раскопу. Под тонким слоем забуревшей от времени бересты (берестой обычно покрывали или заворачивали в нее умершего) угадывался четкий абрис черепа.
Кричала Валя, обычно спокойная и неразговорчивая, шумно радовалась своей удаче. Ее можно было понять — почти полмесяца ребята на жаре всаживали лопаты в легкий песчаный грунт и, углубляясь до материковой стерильной почвы, где нет никаких следов жизни или смерти человека, выкидывали на поверхность из раскопа многие кубометры земли. Грунт легкий, песчаный, но зато его легко развевает ветер, песчинки лезут в глаза, они всегда на зубах, их полно в пахнущем дымом чае, и в похлебке из консервов, и в традиционной гречневой каше. Полмесяца не дали практически никаких находок и превратили ежедневный землекопный труд в обязательный, но безрадостный урок, и в маленьком отряде кое-кто у вечернего костра часто теперь предавался унынию.
Ребята-этнографы участвовали в первой в своей жизни экспедиции, проходили первую археолого-этнографическую практику, далеко от дома, в непривычных условиях быта, и жили той работой, которую многие воспринимают как удачный романтический поиск золотых диадем, серебряных кубков, мраморных изваяний или пергаментов с таинственными письменами. Будни намного тяжелей и приземленней. Бывает, что за весь сезон археологи так ничего и не найдут путного, хотя и перекопают горы земли. И все-таки поиск не кончается, поиск прошлой истории, умерших жизней и судеб. Дмитрий — начальник отряда, единственный, кто точно знал, чего следует ждать от могильных холмов у Обской протоки, и то ходил понурив голову, и поэтому лицо становилось не просто озабоченным, но и хмурым. Дмитрий ждал, что оружие или орудия труда, одежда или конская сбруя, скрытые под земляной толщей, расскажут о неизвестном еще историкам-этнографам периоде жизни древних алтайцев, отстоящем от наших дней на восемь-девять веков. О предмонгольском времени степного Алтая.
Ребята поначалу жадно ловили рассказы Дмитрия, слушали его предположения и усердно старались найти хоть что-нибудь, что помогло бы раскрыть вековую тайну. Но шли дни, и просто изнурительный труд, просто усталость приводили к тому, что обычно у вечернего костра сидел один Дмитрий. Иногда к нему подсаживался Большой Володя — рослый белобрысый юноша. Володю звали Большим, так как в отряде был еще один Володя — чуть пониже ростом, в очках, с темными аккуратно подстриженными волосами, с выражением злого упорства на лице, которое особенно проявлялось в тот момент, когда он бросал трехсотую лопату земли из своего идеально расчищенного, но, увы, пустого раскопа. Володя-маленький считал число лопат или вслух, или про себя. Он был аккуратным, но в тот год ему явно не везло. Валя копала совсем рядом, и у нее оказалась первая находка.
Весь отряд собрался у раскопа, в яме которого, опустившись на колени, Дмитрий ножом осторожно расчищал захоронение. Под берестяной покрышкой лежал желтый скелет воина. Нож, наконечники стрел и копий были погребены рядом с ним. Валина находка подняла настроение, и, хотя следующий день не принес успеха, ребята работали с азартом. Дмитрий задумчиво ходил по раскопу, надеясь определить возможное размещение могил. Прошел еще день. Утро семнадцатого июля — день рождения великого русского этнографа Миклухо-Маклая, ставший днем этнографа, — должно было быть утром выходного дня, но ребята отказались от отдыха и ушли после завтрака на раскоп. К полудню трое наткнулись на захоронения. Через неделю было раскопано и расчищено более двух десятков могил воинов, причем некоторые из них были захоронены вместе с конем.
При раскопах уже были обнаружены стремена и седла, конская сбруя, украшенная металлическими бляшками, кое-где сохранилась деревянная утварь. Были найдены остатки лука, колчана и даже верхней одежды. Некоторые могилы, подобные обнаруженной в первый день, перекрывали древнейшие захоронения бронзового века с богатым бронзовым инвентарем — оружием и орудиями труда.
От расспросов ребят никуда не деться. Нужно как-то осмыслить собранный материал и рассказать студентам о своих предположениях. Дмитрию еще многое было неясно, кроме одного, — могильник дает материал по этнической истории самого «темного периода» в истории алтайских народов, периода, непосредственно предшествующего монгольскому завоеванию этих просторов. Сопроводительный инвентарь — то есть то, что было положено в могилу с умершим, — несомненно, представлял культуру прямых предков современных телеутов, одного из племенных подразделений алтайцев. Захоронения бронзового века свидетельствовали о длительном обитании здесь человека. Соображения очевидные, но как объяснишь, что в одной из телеутских могил лежит довольно хорошо сохранившийся лук, но не тюркского, а монгольского типа? Монгольский тип в домонгольский период? Было над чем поломать голову.
— Дмитрий, вы, возможно, ошиблись в датировке могильника, — произнес Саша несколько менторски и безапелляционно, когда за обычным вечерним костром Дмитрий не спеша подводил итоги прошедшего дня.
Иронические и немного удивленные взгляды обратились к Саше. Ребята притихли.
— Вы предполагаете, что могильник домонгольский, а он на самом деле монгольского периода, — Саша гордо тряхнул шевелюрой: волосы постоянно падали ему на лоб и лезли в глаза.
Дмитрий начал объяснять, что в монгольское время не только один лук мог попасть в могилу, но и другие предметы монгольского быта; что находка лишь одной вещи из сопроводительного инвентаря говорит о первых контактах древних алтайцев с монголами, а не о завоевании последними первых. Возможно, Дмитрию удалось убедить Сашу, но причина появления лука монгольского типа в телеутской могиле оставалась неясной. Можно было строить любые предположения, придумывать события тех дней и той, давно ушедшей, жизни. Если бы только один лук задавал загадку. Отряд натолкнулся на большой могильник, и «отчего?» и «почему?» приходили снова и снова.
И лишь одна Аня — человек удивительно упрямый и самовольный — нарушила строгие правила. Уже давно погасла вечерняя заря и все ребята вместе с Дмитрием покинули раскоп, а она, освещая себе фонариком захоронение, продолжала осторожно расчищать его. Так уж случилось, что всем девушкам в отряде повезло больше, чем ребятам. Валя первая наткнулась на могилу, Оля нашла захоронение с луком монгольского типа, а Аня вскрыла необычно богатое и странное захоронение. Она никому не сказала, что привлекло ее внимание, и пыталась тайком продолжать работы, не дожидаясь утра. В третий раз Большой Володя приходил за ней из лагеря, и только суровый голос Дмитрия заставил ее прекратить расчистку.
Утром, когда лучи солнца ударили в могильную яму, в захоронении, вскрытом Аней, заблестели россыпи бисера. На костях сохранились большие куски зеленого шелка — следы истлевшего богатого одеяния. В ногах погребенной — по костяку было ясно, что это молодая женщина, — была захоронена собака. Когда все погребение удалось расчистить, оказалось, что оно находится рядом с той могилой, где Оля нашла лук монгольского типа.
Большой Володя сделал несколько взмахов лопатой рядом с женской могилой и вскоре уткнулся в берестяную покрышку — еще погребение.
Через день этот участок могильного поля был вскрыт полностью. Можно было отчетливо видеть три погребения — пожилого мужчины с луком монгольского типа; молодой женщины, чья погребальная одежда из зеленого шелка была украшена бисером; молодого мужчины-воина, который носил пояс, сделанный из волчьей шкуры. В ногах первых двух были погребены три собаки, а рядом с молодым воином — конь.
Отряд этнографов проработал на берегу Обской протоки почти два месяца. Он не нашел ни царского клада с серебром и золотом, ни мраморных изваяний. Он нашел то, чего никогда не находили в этих алтайских районах. Дмитрий радовался удаче: восстановлена частица жизни древних телеутов перед монгольским завоеванием края.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В одном из старейших этнографических музеев мира — Петровской Кунсткамере — более четверти тысячелетия собирают и хранят, изучают и показывают подлинные предметы культуры и быта различных народов. У этих свидетелей человеческого таланта два исконных врага — злая воля людей и время.
Стремителен взлет культуры каждого народа нашей страны, а древние истоки этой культуры — вещественные памятники старины: древние крепости и остроги, курные избы и замысловатые предметы прикладного искусства, примитивные орудия труда и хрупкая утварь — под влиянием времени разрушаются.
И все же время над многим не властно. Оно не властно над приходящими из прошлого памятью и опытом людей. Многое из того, что можно увидеть в залах и витринах старинного здания на Неве, не поддалось течению времени. Напротив — время стало свидетелем и обличителем зла...
Уничтоженные самобытные культуры, истребленные народы — таков путь колонизаторов во всех частях света. Особенно бесчинствовали они на островах великих океанов, в Африке и в обеих Америках. Колонизаторы направляли удар не только против сравнительно небольших народов, — таких, как огнеземельцы или жители Гавайских островов, — но и против многотысячных племен.
Настало другое время, о котором мечтали лучшие люди нашей планеты, ради которого они шли на бой, жертвуя своей жизнью.
С новым веком, веком Коммунизма, идущим по странам Земли, сильнее стали люди, которые ничего не хотят ни забывать, ни прощать, которые ведут священную борьбу за мир и свет, против войны и мрака.
* * *
В разных странах мира ту науку, для которой музейный экспонат становится документом, называют по-разному: этнологией, антропологией, этнографией. Изучать историю и быт иных народов ради того, чтобы научиться ценить творчество человека и уважать его независимо от расы или цвета кожи; узнавать обычаи и верования, иной язык и иные легенды; быть все время в пути и поиске, каждый день обретать новых друзей, — таков завидный удел этнографа. Мне кажется, что специальность наша — одна из самых гуманных. Все, что мы делаем, мы делаем ради людей — и живших и живущих. Весной ли, осенью, зимой или летом — в любое время года мои товарищи укладывают походное снаряжение и отправляются в путь.
Позавидуйте этнографам! Может быть, иногда им, уставшим от холода и едкого дымокура, чуть-чуть обидно, что они не у Черного моря. Однако где бы ни были этнографы 17 июля, в день рождения своего замечательного предка, великого путешественника и гуманиста Н. Н. Миклухо-Маклая, — в степи, пустыне, тайге или на широких речных просторах России, — они отмечают свой день, День этнографа. По традиции в этот день у дальних костров и таганков память восстанавливает прожитое и пройденное. Как много еще надо рассказать людям о них самих...
Нет, этнограф вовсе не искатель приключений. Он всегда в поиске обычного. Но в этом обычном — история народов, их культура, их жизнь, в этом обычном — биение жизни ушедших поколений. И через предметы материальной культуры в сознание приходит гордость за Человека, освоившего Землю, столь различную на своих географических широтах.
Ленинград —
Кызыл —
Туруханск —
Алтай —
Колыма —
Ленинград
1962—1972
Рисунки Ю. Киселева
В Кунсткамере - Музее этнографии и антропологии Российской Академии Наук - хранятся уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни и быте народов всех континентов. Почти у каждой вещи, которую посетитель может видеть в музее, есть своя интереснейшая история. «Биографии» некоторых экспонатов и легли в основу сюжетов увлекательных рассказов ленинградского этнографа Р.Ф. Итса.
Итс Р. Ф. Камень Солнца. Рассказы этнографа. Рис. Ю. Киселева. Л., «Дет. лит.», 1974. 175 с. с илл.
Сборник приключенческих научно-художественных рассказов о культуре, истории и борьбе народов Земли против ига колонизаторов.
Примечания
1
Автор письма, вероятно, имеет в виду заметку, опубликованную в английской газете «Дейли ньюс» 3 марта 1882 года.
(обратно)
Оглавление
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
САНИ ИЗ ЛЕДЯНОГО ДОМА
КАМЕНЬ СОЛНЦА
ПЛАЩ ИЗ ПТИЧЬИХ ПЕРЬЕВ
ВОЖДЬ И ВОИН ТЛИНКИТОВ
АМУЛЕТ ПОСЛА
ЗЕМЛЯ УГАСШИХ КОСТРОВ
САГА О ГАРПУНЕ
ФРЕСКА БОНАМПАКА
СОСНОВЫЙ ЛОБ
АЛТАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА
ПОСЛЕСЛОВИЕ
*** Примечания ***