Стерьо Спассе
Они были не одни


ПРЕДИСЛОВИЕ
Стерьо Спассе (родился в 1914 году) вошел в литературу как романист еще задолго до освобождения Албании и установления в ней народно-демократического строя. К 1938 году относится его первый роман «Почему?» В нем еще сказались упаднические, модернистские влияния, которым в годы между двумя мировыми войнами были подвержены некоторые писатели Албании, подражавшие образцам реакционной буржуазной литературы Запада.
Но уже в тот период в Албании зарождалась литература иной, демократической ориентации, наиболее ярким представителем которой был Мидьени (1911–1938 годы). Спассе преодолевает несвойственные его творчеству чуждые влияния, ближе подходит к реальной жизни албанских рабочих и крестьян и уже в своем втором романе «Афердита», также вышедшем еще до второй мировой войны, решительно порывает с чуждой ему идеологией буржуазного декадентского искусства, рисует правдивую, реалистическую картину тяжелой жизни народной учительницы в условиях старой Албании. Тема эта была особенно близка и понятна автору, так как и он сам несколько лет проработал учителем албанского языка и литературы в школах Тираны и в провинции.
Много позже — в 1954–1955 годах — писатель снова вернулся к героине своего раннего романа Афердите и написал продолжение истории ее жизни, озаглавив свою книгу девизом: «За новую жизнь». Под этим девизом жила и работала сельская учительница уже в новых условиях, создавшихся в албанской деревне в результате освобождения страны от иноземных захватчиков и победы социалистического строя. Пафосом культурного строительства проникнута эта книга, составившая вместе с предыдущей дилогию, в которой раскрывается судьба учительницы, чей вдохновенный труд получает в новой Албании общественное признание.
Современные албанские писатели сравнительно редко обращаются к исторической тематике; главное содержание их произведений составляют в основном две темы: строительство социализма в Албании и патетика созидательного труда, а наряду с ними эпизоды героической борьбы за освобождение страны от итало-немецких захватчиков, насыщенные славными подвигами албанских партизан. Именно этим двум темам посвящены наиболее крупные художественные полотна последних лет: например. «Освободители» Дм. Шутеричи, «Поля пробуждаются» М. Залошня, «Болото» Ф. Гьяты и другие.
Роман Стерьо Спассе «Они были не одни», удостоенный национальной премии, посвящен более отдаленным дням в истории албанского народа: это тридцатые годы нынешнего столетия, когда Албания, формально являясь независимым королевством, фактически находилась в полной экономической и политической зависимости от крупных империалистических держав, использовавших марионеточного албанского короля Ахмеда Зогу как свое послушное орудие. Особенно повышенный интерес проявляла к Албании фашистская Италия, подчинившая себе экономику страны и закабалившая займами правительство Зогу, которое находилось на грани финансового банкротства. А затем последовала и аннексия: убрав ставшего ненужным ей Ахмеда Зогу, Италия включила Албанию в состав так называемой «империи» Виктора-Эммануила III — «короля Италии и императора Эфиопии».
Хотя Албания еще в 1912 году освободилась от почти пятивекового турецкого владычества и ее суверенную независимость признали великие державы, последующие десятилетия вплоть до окончательного изгнания фашистских захватчиков были периодом безвременья и тяжелых испытаний для свободолюбивого и мужественного албанского народа. Менялись властители и формы государственного управления, приходили и уходили оккупанты, и на смену им являлись новые: здесь побывали австрийцы, итальянцы, французы, болгары, немцы, и снова итальянцы, и снова немцы. Но ничто не менялось в жизни народа: по-прежнему над ним тяготел груз феодального закрепощения, оставшийся еще от тех веков, когда Албания представляла собой глухую и нещадно эксплуатируемую провинцию Оттоманской империи.
Правда, при королевском режиме Зогу феодалом албанского крестьянина был уже не турецкий крупный землевладелец, а свой, албанский «бей». Но система осталась той же. Более того, даже и терминология, употребляемая для обозначения правовых взаимоотношений между крестьянином и его феодалом, осталась прежней, турецкой. Всевозможные налоги, оброки и подати, которые албанский крестьянин должен был по-прежнему выплачивать и государству, и своему непосредственному хозяину — бею на юге, байрактару на севере страны, — остались те же и назывались так же, как и несколько веков тому назад в самые мрачные периоды турецкого ига. Арманджилек, спахилек, десятина, «доля» бея остались по сути и по названию турецкими. Со всеми этими формами узаконенного ограбления крестьянина мы встречаемся в романе Стерьо Спассе.
И если турецких беев сменили отечественные, крестьянину от этого легче не стало. Годы правления Зогу для него мало чем отличались от пятисот лет владычества турок. И внутренняя и внешняя политика этого албанского короля была глубоко антинациональной. Но именно к этим годам относятся первые революционные выступления албанских трудящихся: рабочих и подмастерьев в городе, крестьян в деревне. Такова была, например, крупная демонстрация в феврале 1936 года в Корче с требованием от правительства хлеба голодающему населению. Это первое массовое организованное выступление трудящихся Албании нашло свое отражение на страницах романа Спассе.
Движение протеста возникло не сразу; нужна была большая пропагандистская работа, затруднявшаяся, с одной стороны, неусыпной полицейской слежкой и, с другой — низким культурно-политическим уровнем народной массы. Все же такая работа велась и давала свои плоды. Действовали революционеры-одиночки, как например выведенный в романе Али Кельменди — лицо историческое. Ему удалось создать в разных районах страны революционные ячейки среди рабочих и крестьян. Али Кельменди и другие заложили основы коммунистической партии Албании, которая была создана на подпольной конференции в Тиране 8 ноября 1941 года (ныне Партия труда).
Истокам революционной борьбы албанского крестьянства против своих угнетателей и посвящен этот роман. Уже в самом названии книги дан ключ к пониманию ее основной идеи: братская солидарность трудящихся — верный залог победы.
Автор, оглядываясь на прошлое, говорит о своих героях: «Они были не одни». И герои его романа, простые албанские крестьяне, исполненные веры в грядущую победу своего правого дела, повторяют слова этой большой правды: «Мы — не одни!» И тема эта, тема солидарности трудящихся, получает свое логическое продолжение. Не только албанские крестьяне и рабочие чувствуют и уверенно утверждают, что они не одни. Эти же слова повторяют им иностранные — болгарские и греческие — матросы с кораблей, что приходят в албанский порт Дуррес: «Мы не одни, нас миллионы!» Эта мысль, проходящая через весь роман как его лейтмотив, в заключительных главах уже перекликается с великим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В лице главного героя романа, крестьянина Гьики Шпати, автор показывает человека, который — не сразу и не легким путем — обрел этот надежный ключ к будущей победе над своими угнетателями: единение. Писатель раскрывает этот характер в его развитии и становлении.
Гьика становится революционером, и процесс этот проходит через несколько фаз. Если на первых страницах перед нами темный крестьянин, лишь смутно ощущающий, что в мире, где он живет, царит какая-то большая неправда — подразделение людей на богатых и бедных, на тех, кто без устали трудится и ничего за свой труд не получает, и на тех, кто, живя в богатстве и праздности, почему-то неограниченно пользуется плодами чужого труда, — то уже к середине повествования, к тому моменту, когда в уме Гьики созревает — и тоже не сразу! — план диверсии против бея, его друг и учитель Али уже с полным основанием может о нем сказать: «Да, он еще раб, но это раб не покорный, а готовый восстать!» И в конце романа, в его финальном эпизоде, Гьика становится на путь активной революционной борьбы: у него достает мужества оказать открытое сопротивление властям и поднять руку на их представителей.
Расправу над своими палачами, описанием которой заканчивается роман, крестьяне воспринимают как залог близкой и окончательной победы. Они сознают, что их еще ожидает много трудностей и страданий, прежде чем наступит этот счастливый день. В конце книги автору удалось это двойственное чувство своих героев — веру в победу и готовность к жертвам — выразить в одной яркой фразе: «И хотя все крестьяне во главе с Гьикой и чувствовали приближение грозной бури, в сердцах у них наступало солнечное утро».
«Солнце восходит!» — звучит заключительная фраза романа, и не случайно, что малютка Тирка — сын Гьики — тянется ручками к появившемуся из-за горизонта светилу: солнечное завтра принадлежит ему.
Написав книгу о мрачном безвременье, о тяжелой доле албанского крестьянина в прошлом, Стерьо Спассе сумел сделать эту книгу жизнеутверждающей, оптимистической, ибо он и его герои верили, что союз рабочих и крестьян приведет к победе.
* * *
Стерьо Спассе хорошо знает старую албанскую деревню, и это дает ему возможность вывести в романе галерею образов живых людей — односельчан Гьики.
Наряду с главным героем наибольшие симпатии читателей, несомненно, вызовет образ старого Коровеша — дяди Гьики, простого, житейски мудрого крестьянина, хранителя преданий родного села, в молодости принимавшего участие в борьбе против турок.
Несколько схематично, а местами даже утрированно написаны образы представителей враждебного крестьянам лагеря (бей, его подручные, представители местной власти). Исключение здесь составляет фигура сельского богатея Рако Ферра, коварство и двурушничество которого художественно убедительно показаны писателем.
В романе хорошо и всесторонне изображен быт албанской деревни: описание трудовых будней на пашнях и горных пастбищах чередуется с картинами поэтического обряда народной свадьбы, с его шуточной борьбой за «яблоко счастья». В главе, где изображено праздничное богослужение в сельской церкви, автор сумел в ироническом плане подойти к сущности религиозных обрядов, описывая «продажу» креста и освящение виноградников в крещенский праздник. Здесь, безусловно, сказалось влияние Л. Н. Толстого. Читая эти страницы, невольно вспоминаешь сцену причастия в тюремной церкви из «Воскресения».
Стерьо Спассе любит вплетать в ткань основного повествования нечто вроде небольших самостоятельных новелл, почти не связанных с сюжетом романа. Такими новеллами представляются рассказы дяди Коровеша о зверствах Синан-бея, о совместной борьбе албанских и македонских повстанцев против турок. Такова же полная драматизма история об убийстве беем юной красавицы, поданная как воспоминания убийцы о совершенном им преступлении.
Использование таких вводных эпизодов позволило автору ввести в роман новеллу о представительнице албанской прогрессивной интеллигенции.
Раненного во время демонстрации Гьику прячет у себя в доме студентка Анна. До этого эпизода она не появлялась на страницах книги и не появится в дальнейшем. Но автору довольно одной детали: Гьика напомнил Анне Павла Власова из повести Горького «Мать», которую она недавно прочла. (К слову сказать, первый перевод этого произведения на албанский язык появился за два года до описываемых здесь событий — в 1934 году.) Эта ассоциация дает автору удобный повод рассказать о духовном росте и политическом развитии девушки. Только у Горького нашла она ответ на вопрос о причинах социального неравенства и об единственно верном пути его преодоления — пути революционной борьбы.
Один албанский критик правильно указал, что Анна — это Афердита в ее девичьи годы. Из того, что говорит о ней писатель в романе «Они были не одни», ясен дальнейший путь молодой студентки: она пойдет в народ, станет учительницей, как это показано в романе «Афердита», а впоследствии, в освобожденной Албании, будет бороться за социалистическую культуру, как это показано в другом романе автора — «За новую жизнь».
Так, сплоченные единством взглядов и общностью борьбы, переплетаются судьбы двух персонажей из двух разных книг Стерьо Спассе.
Афердита и Гьика непременно должны были встретиться, ибо они идут по одному и тому же пути — славному пути служения своему народу.
А. Э. Сипович.
ОТ АВТОРА
Дорогие советские читатели!
Перед вами мой роман «Они были не одни»… Я буду счастлив, если сумею хотя бы на мгновение мысленно перенести вас на мою родину.
На этих страницах вы не найдете описания нынешней Албании: окунувшись в жизнь моей страны тридцатых годов, вы увидите албанского крестьянина того времени, угнетенного и эксплуатируемого беями и сборщиками налогов; вы увидите рабочих и ремесленников, терпевших всяческие унижения и притеснения от ростовщиков и чиновников пресловутого сатрапа Зогу. Вы познакомитесь и как бы поговорите с жителями сел и городов, которые, работая в поте лица, не имели верного куска хлеба, необходимой одежды, крова. Но они обладали богатством другого рода: прекрасным сердцем и неисчерпаемым благородством, накопленным веками.
Была у них еще и надежда, единственная надежда, что и над их страной взойдет солнце, как взошло оно над одной шестой земного шара, над великой страной — Россией. Эта надежда придавала им силы: падавшие поднимались, вновь вступали в бой и отважно сражались.
Долгожданное солнце действительно взошло и для нас в 1944 году. Если вы приедете сейчас к нам, то увидите новый пейзаж Албании: фабричные и заводские трубы, засеянные плодородные поля там, где прежде были болота. Вы насладитесь улыбкой детей, радующихся тому, что все вокруг — для них. Вас встретят персонажи этого романа; они теперь не смахивают с лица слез страданий и нужды, теперь они выращивают золотые колосья на нивах, апельсины и яблоки в садах, тяжелые гроздья винограда в виноградниках; с каждым годом краше становится наша жизнь.
Мне очень приятно, дорогие советские читатели, признаться в глубоком чувстве счастья, которое охватывает меня, когда я подумаю, что мое произведение опубликовано на русском языке. Знаете ли вы, откуда это ощущение счастья и даже, с вашего позволения, гордости?
Это происходит потому, что я как писатель и читатель был очарован богатым миром, созданным русскими дореволюционными и современными советскими писателями; потому, что я считаю своими учителями Льва Толстого, Максима Горького, Михаила Шолохова и других.
Ныне, когда Народная Республика Албании идет по единственно верному пути, пути социалистического строительства, мне бы очень хотелось, чтобы перевод моего романа на «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» (заимствую это определение у вашего Тургенева) в какой-то мере помог советскому читателю познакомиться с жизнью албанского народа во времена буржуазно-феодального строя и в ней увидеть искорку большого пламени нашего народа. Мне хотелось бы своей скромной лептой содействовать укреплению дружбы между двумя нашими народами — албанским и советским.
Стерьо Спассе.
Тирана, декабрь 1957 года.
ОНИ БЫЛИ НЕ ОДНИ
I
— Знаешь, Гьика, знаешь, дружок! Присядем и немного отдохнем, а то я устал, слушая тебя… — с улыбкой сказал дядя Коровеш.
Племянник не заставил себя упрашивать, и они вдвоем уселись под деревом.
Дядя и племянник возвращались с пастушеского стана, куда отправились еще ранним утром. Дело в том, что у дяди Коровеша было неспокойно на душе из-за козла, которого — черт знает почему! — на прошлой неделе вздумалось ужалить змее. Но, слава богу, опасность миновала. Коровеш в этом сам убедился.
Старик снял келешэ
[1] и вытер голову, которая походила на ярко начищенную медную кастрюлю, лишь по бокам торчали два-три седых волоска.
— Вижу, племянничек, что я и взаправду состарился… Сделал два шага, и уже ноги подкашиваются. А каким я был раньше!.. Разве я знал, что такое усталость! Да никогда!
— Поживу с твое, неизвестно еще, каким тогда буду! — ответил Гьика и дал старику прикурить от трута.
* * *
Коровешу уже за семьдесят, хотя по виду этого не скажешь: зубы целы, на ногах стоит крепко. В доме у него порядок: пятеро сыновей, четыре дочки — все поженились, все повыходили замуж, у всех дети, кроме младшего сына Или. Правда, через несколько месяцев отец собирается женить и его. В доме живет свыше двадцати человек: мужчины, женщины, мальчики, девочки — и все трудятся. Двое в зимнее время работают в горах Горицы — добывают уголь. Двое ежегодно уходят на заработки в Дуррес — они тоже углекопы. А один даже уехал искать счастья в Австралию. Остальные — сыновья и племянники вместе с женами и детьми — живут дома, их кормит земля… Хотя все работают с утра до поздней ночи, они никогда не наедаются досыта. Своего хлеба им хватает только на четыре месяца в году, а в остальное время приходится где-то занимать деньги под проценты. Когда возвращаются сыновья, их заработок сразу же уходит на оплату процентов с долга. Так и идет: проценты нарастают на проценты, долг растет, и бедный дядя Коровеш не знает, как и когда его выплатит…
Гьике лет двадцать пять. Он племянник Коровеша, сын его сестры Мары, которая вышла замуж за Ндреко Шпати и уже лет пятнадцать тому назад как умерла. Она оставила Ндреко вдовцом с девятилетним Гьикой и дочкой Витой, которой было лишь полтора года. Как удалось вдовцу столько лет прожить без хозяйки в доме — одному богу известно! Односельчане советовали ему жениться вторично, но… Ндреко не так легко уговорить. Ему уже было под пятьдесят, и женитьба в таком возрасте представлялась ему безумием. Когда родилась Вита, он горько сетовал: маленькие дети — только обуза. Но, когда умерла жена, он всю свою любовь перенес на детей: сам их купал, стряпал на них и даже, если выпадало свободное время, обшивал их. Сердце у него разрывалось оттого, что он не мог обеспечить их всем необходимым. Как часто, возвращаясь ночью с работы на бея
[2], усталый, измученный, он заставал своих оборванных, посиневших от холода малышей спящими в обнимку у остывшего очага. Глаза у них были опухшими от слез, а лица казались окаменевшими от голода.
Ндреко принимался шарить по всем углам: не завалялась ли где-нибудь хоть корка хлеба, — но ничего не находил. Почесывая затылок, еще раз проклинал свою злосчастную участь, ложился рядом с детьми и тотчас же забывался тяжелым сном. Так было не раз и не два, а всегда, пока дети не выросли. Радость вошла к ним в дом только года три назад, когда сын его Гьика женился на Рине, дочери Нгьело, умной предприимчивой девушке, — другой такой в селе не найти! Правда, бедность осталась прежней: своего хлеба хватало лишь на четыре месяца в году. Однако Гьика не сидел сложа руки, а всюду искал работы. Трудился не покладая рук, но все-таки никогда семья не вставала из-за софры
[3], наевшись досыта.
Гьика никак не хотел примириться с теми условиями, в которых ему приходилось жить, работая на бея. Всюду он видел, что люди делятся на две категории: одни живут в достатке и довольстве, другие — в нищете. Бедняков и в городе и в деревне было много, очень много… и они покорно трудились и страдали, считая, что так и должно быть. А бею — тому уж, видно, на роду написано владычествовать над крестьянами и пользоваться плодами их трудов. Сборщик налогов, начальник жандармов, судья и прочие представители власти, проводившие жизнь в безделье, были уверены, что так уж предопределено самим богом: одни трудятся, а другие повелевают. Все крестьяне, все рабочие, где бы они ни находились, были обязаны денно и нощно трудиться, чтобы сильные мира сего — беи и их друзья, представители власти — могли наслаждаться жизнью.
Бедняки должны были не только работать на них, но, если понадобится, и защищать их благополучие с оружием в руках и даже умирать за них.
Когда Гьику призвали в армию, в казармах Тираны и Шкодры среди солдат он не встретил ни одного сына бея или эфенди
[4] — здесь были только сыновья крестьян и рабочих. Беи, ага
[5], эфенди, у которых карманы полны денег, считали своим врожденным, неотъемлемым правом господствовать, обогащаться, принимать почести. Дети их ели изысканные кушанья, спали на мягких перинах, ходили в школы, как будто только у них одних разум и только им одним под стать учиться. Так они готовились со временем занять места своих родителей. Черт бы их побрал! Почему этим избранникам аллаха уготовлена такая счастливая судьба?
После этих раздумий Гьика стал иначе смотреть на мир. Поняв, на чем зиждется рабство, навязанное беями, и как несправедлива полная лишений жизнь его и всех бедняков крестьян, Гьика как бы превратился в другого человека. Это прозрение не пришло само собой: понадобился кто-то другой, кто пришел и открыл ему глаза.
Несколько лет назад в Корче поселился некто Стири, сапожник, шивший опИнги
[6]. Гьика познакомился с ним в армии, где они вместе отбывали воинскую повинность. Позже, после демобилизации, когда Гьика, будучи в Корче, прогуливался как-то по рынку, он увидел лавку Стири. Они узнали друг друга и разговорились; ни тот ни другой не могли похвалиться жизнью.
Стири принялся горько жаловаться товарищу на свою судьбу: у него не осталось земли в деревне, задушили налоги и замучили кредиторы. В поисках работы он нанялся каменщиком на прокладку дороги. Кое-кто из приятелей посоветовал ему пойти в Тирану, где можно хорошо подработать, потому что тамошние богачи строят себе дворцы. Побывал Стири и в Тиране, таскал камни для постройки загородных вилл. Но зарабатывал он мало и с трудом помогал родителям, посылая по сорок пять — пятьдесят франков. Тогда он пошел работать в порт грузчиком: целую зиму таскал на себе тюки, но тоже заработал немного и решил вернуться в деревню.
А дома за это время семья прибавилась: у старшего брата, уже давно женатого, пятеро детей; у самого Стири — четверо: двое мальчиков и две девочки. Как их прокормить? И хлеб они видят не каждый день. Начались в семье раздоры. Отец попрекал Стири за то, что он не может заработать даже для своих детей и слоняется по свету, ничего не принося в дом. Ругал отец и своего старшего сына за то, что тот оказался плохим хозяином. Ссорились между собой и жены братьев. Все это происходило из-за бедности. В общем жизнь дома для Стири превратилась в сплошной ад: земли нет, семья разваливается — ну нет житья и только!.. Махнул он на все рукой, вернулся в город и поступил подмастерьем к сапожнику, шившему опинги, который жил в достатке. Проработал у него год с лишним, овладел этим ремеслом и вскоре, уйдя от хозяина, открыл собственную сапожную мастерскую на базарной площади. Потом перевез к себе семью: жену и четверых детей. Но и теперь ему часто приходилось сидеть без дел: не хватало заказчиков — ведь не каждый день может крестьянин заказать себе новые опинги.
— Так вот, дружок Гьика, смотри, как я живу! Сегодня есть хлеб, а завтра нет. И все-таки в городе лучше, чем в деревне; хочу здесь прожить до смерти…
Последние слова он постоянно повторял, рассказывая о своих поисках работы и хлеба. В ответ на это Гьика поведал ему о том, что делается в деревне, и оба пришли к выводу, что и в городе и в деревне один ад…
Как-то, месяцев десять назад, в базарный день Стири сообщил Гьике, что одному хорошему покупателю требуются дрова, — пусть Гьика на своем ослике и привезет их. Гьика согласился.
Покупателем оказался горожанин среднего роста с осунувшимся лицом, высоким лбом и глубоко запавшими глазами. Стири, как только его увидел, отложил работу, встал и тепло его приветствовал:
— Как хорошо, что ты зашел! Как раз здесь тот крестьянин — помнишь, я говорил о нем, — которому я поручил доставить тебе дрова. Вот он, зовут его Гьика, мой старый друг.
Господин улыбнулся.
— Спасибо, Стири, ты держишь слово. Если Гьика готов, можем тотчас же отправиться ко мне.
— Еще бы не готов! Дрова уже здесь! — откликнулся Гьика.
Дорогой неизвестный расспрашивал Гьику, как обстоят дела в деревне, каковы отношения с беем, с кьяхи
[7], с главой сельских общин; легко ли у них с дровами, с рыбой?.. На некоторые из этих вопросов Гьика ответил, а о многом умолчал. Когда он сгрузил дрова, покупатель не хотел его отпускать, не угостив на прощанье стаканчиком раки
[8]. Выпить стаканчик раки? Это предложение, как и весь предшествующий разговор с незнакомцем, немало удивило Гьику. Дело в том, что Гьика уже не раз доставлял дрова на дом разным господам в Корче. Все они большей частью были людьми черствыми, надменными и, разговаривая с крестьянами, не скрывали своего презрения. Во многих домах, после того как он сгружал дрова, хозяин или хозяйка тут же грубо приказывали ему поскорее убрать со двора ослика, чтобы он не оставил, упаси боже, после себя следов. Деньги в руки — и убирайся прочь! Случалось и так, что ему недодавали несколько леков
[9], потому что дрова якобы не такие добротные, какими они показались покупателю на базаре. В таких случаях Гьика никогда не вступал в спор, потому что никак не мог забыть происшествие, случившееся с ним несколько лет назад в доме одного эфенди. Едва он сгрузил с ослика дрова, как ослик — черт бы его побрал! — тут же, у дверей, прямо перед самой госпожой, расставил ноги и… готово!.. Во дворе лужа, сверкающая, как зеркало, и к тому же обрызган подол шелкового платья. Гордая барыня начала так кричать, точно ее ужалила змея; она — помилуй ее бог! — не скупилась на ругательства и угрозы. Сто раз назвала его негодяем, сто раз разбойником, бродягой, оборванцем, сопливым чертом и чего только еще не наговорила!
— Но послушайте, госпожа, ведь это скотина, осел… — пытался успокоить ее Гьика.
Но она ничего не хотела слушать и продолжала орать, вся багровая от гнева.
— Сейчас же вон отсюда, грязный оборванец! — и замахнулась на него палкой.
Гьика едва себя сдержал. Но все же она была женщина — что он мог с ней поделать? О деньгах госпожа и не заикнулась. Гьика махнул рукой, взял под уздцы осла и убрался подобру-поздорову.
Ему бы не хотелось, чтобы такая сцена еще когда-нибудь повторилась. Поэтому он взял себе за правило, сгрузив дрова и сунув в кошелек деньги, сейчас же брать под уздцы осла и убираться с ним на постоялый двор. И вообще, если бы не горькая нужда, он никогда бы не переступал господских порогов.
И вот случилось нечто совершенно неожиданное: незнакомец пригласил его к себе в дом выпить стаканчик раки. Что-что, а уж войти в дом Гьика никак не рассчитывал. Но делать нечего… Он привязал осла у двери и как был, в грязных опингах, вошел. Комната показалась ему настолько красивой и богатой, что он осторожно ступал на цыпочках. На самом же деле она была обставлена очень скромно: на полу постелен старый ковер, в углу стояла железная кровать, у окна — стол, заваленный книгами, и несколько стульев. Особенно привлекли внимание крестьянина книги. «На кой черт одному человеку столько книг? — подумал он. — Должно быть, хозяин — ученый человек».
Гостеприимный хозяин пригласил его сесть, вынул из шкафа бутылку, два стакана и сел рядом. Гьика не переставал удивляться: что за добрый господин!.. На рынке ему приходилось встречать многих горожан; это были главным образом приказчики из лавок, подмастерья, тоже добрые люди, но голодные и оборванные, хотя они и работали день и ночь. Если Гьика заходил к ним в лавку или мастерскую, они принимали его приветливо, но дров обычно не покупали. Да и на какие деньги они могли бы их купить? Чаще всего Гьика продавал дрова зажиточным людям. И обычно все они оказывались высокомерными и скупыми — старались выторговать у него хотя бы лек. Поэтому теперь, хотя этот господин оказался таким обходительным и даже угостил его раки, у Гьики зародилось опасение: не кроется ли за всем этим какой-то подвох? Упаси боже!.. Ведь точно так же поступал с крестьянами и глава сельских общин, когда хотел у них что-нибудь выведать. Не собирается ли и этот приветливый незнакомец нечто подобное проделать с Гьикой?
Выпили по стаканчику, выпили по второму. Затем хозяин угостил гостя яблоками и грушами. Гьика повеселел; выпил как следует и с еще большим удовольствием принялся за фрукты. Вгляделся в лицо хозяина; оно показалось ему доброжелательным и благородным, но в то же время печальным. Оно было исхудалое и какое-то зеленоватое, но, когда хозяин начинал говорить, казалось, что его уста источают мед, а из его блестящих глубоких глаз исходит некая колдовская сила.
Гьика не помнил, сколько продолжалась беседа. Говорили они о тяжелой доле крестьян. Его собеседник сразу же коснулся тех сторон крестьянской жизни, которые тревожили самого Гьику, — и это было Гьике приятно. А как хорошо он говорил! Как знал их жизнь! Будто сам жил в деревне и сам подвергался лишениям, которые терпят крестьяне. Слова этого человека разожгли любопытство Гьики: ему захотелось узнать, кто он такой и чем занимается. Неужели чиновник? Но разве он может так говорить, если сам ест казенный хлеб?
Хозяин не позволил себе ни одного дурного слова насчет правительства, но зато вполне определенно высказывался против беев. Что ж, несмотря на это, он мог оказаться и чиновником, а еще, того и гляди, — судьей. Но что нужно судье от Гьики? И станет ли судья осуждать беев?
У Гьики с чиновниками были свои счеты. Он ненавидел всех их, и в особенности судей, потому что они, и в первую очередь судьи, всегда поддерживают беев, сборщиков налогов, жандармов, богачей. Разве не судьи решили тяжбу в пользу Малик-бея и выгнали несчастных жителей Горицы из их домов? На многих примерах он мог наглядно убедиться в том, что суды враждебно относятся к крестьянам: когда бедняку нечем заплатить недоимки, сборщик налогов и глава общины обращались в суд, и судьи сдирали с крестьян последнюю шкуру. Приходилось браться за любую работу, продавать последнее имущество, последнюю скотину, чтобы тебя не выгнали со всей семьей на улицу. Да, Гьика знает тому немало примеров. «Дай бог, чтобы он не оказался судьей!..» — думал Гьика, слушая собеседника.
Поговорив о положении крестьян и о деревенской жизни, они расстались, как два истинных друга.
— Мы долго беседовали, но ты так и не сказал мне, чем занимаешься, — уходя, не выдержал Гьика.
Господин засмеялся:
— Гуляю по Корче взад и вперед.
Гьику этот ответ не удовлетворил:
— Ну, мы, крестьяне, народ простой, и нам нужно отвечать без обиняков. Скажи прямо, в чем твоя работа?
— Ха-ха! — рассмеялся хозяин. — Какой же ты простодушный, Гьика! Говорю тебе, нет у меня никакой работы, и живется мне не сладко. Но если еще привезешь в город дрова, доставляй их прямо ко мне. А забудешь адрес, спроси Стири, где живет Али, — он поможет меня найти. Ладно?
— Слава богу, что ты не судья! — невольно вырвалось у Гьики. — Значит, тебя зовут Али!..
Мучимый любопытством узнать, чем же занимается его новый знакомый, Гьика забыл спросить его имя и вспомнил об этом только теперь, когда тот назвался сам.
— Хорошо, господин Али. Так и сделаю. И если у тебя хватит денег, я готов привезти на моем ослике хоть целую рощу! — воскликнул Гьика.
Они крепко пожали друг другу руки, как старые приятели, и расстались, обменявшись дружескими взглядами.
«Вот хорошего нашел я себе знакомого! — думал дорогой Гьика. — Какой любезный, какой добрый, и понимает, отчего у крестьян душа болит».
Горожанин, с которым так непосредственно и простодушно разговорился Гьика, был Али Кельменди. Выпущенный на свободу после долгого тюремного заключения, он сразу же возобновил свою революционную пропаганду, стараясь разжечь в сердцах рабочих и крестьян пламя возмущения против существовавшего тогда в стране феодально-помещичьего режима. Он развил энергичную деятельность среди рабочих и подмастерьев Тираны, но шпики преследовали его по пятам. Несколько раз его арестовывали и в конце концов выслали в Корчу.
В тысяча девятьсот тридцать пятом году, когда происходили описываемые события, Али жил в ссылке в Корче. Жил он очень скромно — товарищи помогали ему кое-как перебиваться. Каждое утро он обязан был являться в полицейское управление и мог уходить оттуда, только когда это заблагорассудится полиции. И в Корче следили за каждым его шагом, за каждым человеком, с которым он встречался. Тем не менее Али не отказывался от своей цели: установить тесный контакт с рабочими Корчи, со студентами лицея, со всеми прогрессивно настроенными людьми. После встреч с Али у них нарастал протест против режима угнетателей народа. Ему удалось создать несколько небольших подпольных ячеек, которые начали революционную борьбу.
Такую же работу Али хотел повести и среди крестьян, которые ощущали на себе когти беев. В базарные дни весь окрестный бедный люд собирался в Корче. Грязные, оборванные, исхудалые, без единого проблеска надежды на улучшение своих жизненных условий, они казались живыми трупами. С ними и хотел Али наладить связь. Поэтому он поручил нескольким своим друзьям сблизиться с крестьянами, в особенности — с бедняками. Сапожник Стири — один из друзей и помощников Али — познакомил его с Гьикой Шпати, крестьянином-бедняком из села Дритас. Покупка дров была только предлогом.
Гьика произвел на Али очень хорошее впечатление: ему понравились непосредственность и горячность молодого крестьянина. В тот же вечер он зашел к Стири и, крепко пожимая ему руку, сказал:
— Молодец! Сумел найти такого человека, который укрепит наши ряды.
И на Гьику не менее благоприятное впечатление произвел Али. Всякий раз, приезжая в базарный день в Корчу, он искал встречи с Али, заходил к нему домой и целыми часами беседовал; встречались они и в мастерской у Стири.
Прошло два месяца. Как-то Гьика пришел в Корчу, чтобы продать одну из своих четырех коз. Стири пригласил его к себе на вечеринку. Крестьянин смутился.
— Эх, черт возьми, до чего же я плохо одет! — пробормотал он, оглядев себя.
Действительно, одежда на нем была такая рваная, что, как говорится, и собаке не за что укусить, а опорки на ногах даже не заслуживали названия опингов. К тому же он сегодня не мылся и был весь в грязи после того, как прошел ночью по дороге из Дритаса в Корчу. Сначала он хотел было отказаться от приглашения, но потом передумал: «Если тебя приглашают, почему не пойти и не провести вечер в хорошей компании?»
Они вместе вышли из мастерской и направились к дому Стири. Он познакомил Гьику со своей женой, здоровой краснощекой женщиной, очень подвижной и разговорчивой.
Немного поговорив, они сели ужинать. В это время появился Али. Вслед за ним пришли еще двое гостей — незнакомые Гьике люди. Один из них был высокого роста, круглолицый, широкоплечий, с большими глазами; одет он был с некоторой элегантностью: на нем был красный галстук в черную крапинку и белый воротничок. Второй гость был худой, в расстегнутой рубашке с засученными рукавами и в поношенных брюках.
— Ну, Гьика, что нового у вас в селе? — спросил Али.
«Могу ли я сейчас разговаривать с ним откровенно?» — подумал Гьика и недоверчиво покосился на двух незнакомцев. Али тотчас же догадался, что в их присутствии Гьика боится открыть рот, и, чтобы его подбодрить, успокаивающе улыбнулся. Тогда Гьика решился:
— Что нового может быть у нас в селе, друг? Все по-старому. По-прежнему ходим голодные и босые, хоть и трудимся с утра до ночи, как подъяремные волы. И в семьях у нас нету мира: целыми днями ругаемся со своими женами — все бедность виновата… — Тут он оборвал свою речь и, обратившись к незнакомцам, неожиданно спросил: — А не скажете мне — кто вы такие и чем занимаетесь?
Все расхохотались над простодушием и непосредственностью осторожного крестьянина.
— Не бойся, Гьика, ты не смотри, что они сегодня в галстуках. Это наши друзья, — успокоил его Али.
— Если бы все, кто носит галстуки, были нашими друзьями, тогда из всех нас — и рабочих Корчи и крестьян нашей округи — перестали бы выжимать последние соки. Не прогнали бы горичан из их домов, и не пришлось бы этим несчастным брести куда глаза глядят.
Это замечание Гьики произвело впечатление. Гость с нарядным галстуком одобряюще хлопнул его по плечу:
— Браво, Гьика! Хорошо ты это сказал.
А Гьику разбирало любопытство: чем же все-таки занимаются эти два новых товарища? Он вполголоса спросил у Али:
— Ты мне, может быть, объяснишь, кто эти люди?
— Ах, Гьика, я совсем позабыл познакомить тебя! Вот этот, — он показал на широкоплечего, — учитель средней школы. Звать его Мало. А вот этот, — он показал на худого, — Зенел, подмастерье у портного. Довольно с тебя?
«Учитель, подмастерье, значит — трудовой народ!» — решил Гьика и, успокоившись, обратился к новым друзьям:
— Скажу вам откровенно, до того как я познакомился с Али, здесь у меня, — он постучал по лбу, — была неразбериха, многого я не понимал, зато теперь разбираюсь. Что и говорить, люблю побеседовать с образованными и знающими людьми!.. А у нас в селе — темнота, мрак… Да и что требовать от крестьян, если они не знают грамоты? — горестно закончил он.
Учитель и подмастерье были близкими друзьями Али и пришли сегодня к Стири, чтобы познакомиться с Гьикой и через него наладить связь с крестьянами.
Когда жена Стири ушла в соседнюю комнату укладывать детей, Али заговорил о цели их сегодняшней встречи. И Гьика сразу же убедился, что это изможденное лицо с желтыми провалившимися щеками и потухшими глазами может внезапно оживиться, и в этих глазах вспыхивает яркий блеск, и эти уста произносят слова, каких Гьике до сих пор не приходилось слышать, — слова, полные возмущения и гнева, слова, которые заставляли Гьику дрожать от ненависти к чиновникам и беям. Этот с виду болезненный человек на глазах у Гьики вырастал, становился крепким и несгибаемым, подобно стали. На многие годы запомнил Гьика эти слова Али:
— Разве справедливо, разве законно, что один человек, какой-то бей, владеет огромным поместьем с полями, пастбищами, лесами, виноградниками, которых не охватить глазом, — в то время как тысячи других людей, в поте лица своего возделывающих и обрабатывающих эти угодья, должны ютиться в тесных хибарках и не имеют ни единой пяди своей собственной земли, а обрабатывают землю другого? Знай, Гьика, что вы, крестьяне, — рабы своих беев, так же как Стири и Зенел — рабы своих хозяев и работодателей. Можно сказать, что большая часть населения нашей страны — это рабы, работающие, как волы. Но сбросить с себя ярмо этого подлого рабства можно, только объединившись в борьбе против своих поработителей, как это сделал трудовой народ России…
Всю ночь провели они в горячей беседе, которой Гьика не забудет никогда в жизни. Разошлись на рассвете, Гьика уходил из дома Стири другим человеком, сильным и закаленным.
«Нет такого непреложного закона, чтобы бедняки были обречены на вечные страдания. Они сами должны отвоевать свое счастье у тех, кто украл его у них. Они должны быть беспощадны к врагам, в особенности к первому и главному врагу всего села — к Каплан-бею!» — Так думал Гьика, возвращаясь из Корчи в родное село.
* * *
После этого разговора Гьика попытался сблизиться с наиболее сознательными крестьянами у себя в селе. Заводил с ними беседы, как его научили товарищи в Корче. Впрочем, теперь он и сам уже легко находил примеры из жизни родного села, которые подкрепляли его мысли. Куда бы он ни шел, непременно говорил о невзгодах и лишениях, выпадающих на долю крестьянского люда. Вот и теперь, возвращаясь с дядей Коровешем из пастушеского стана, Гьика заговорил с ним об оброке, за которым бей со дня на день должен был пожаловать из Корчи.
Коровеш — закурил и бросил взгляд на видневшееся вдали село.
Селение Дритас насчитывало шестьдесят дворов, восемьсот душ. Оно было расположено треугольником в узкой лощине, окруженной с трех сторон горами, а с четвертой перед ним расстилалось озеро. Через село протекала небольшая мелководная речушка. Сельские домики издали напоминали жалкие землянки; лишь пять или шесть из них имели черепичные кровли. В центре села стояла маленькая церковка с колокольней, рядом с ней находилось старое кладбище. Перед церковью была расположена сельская площадь, окруженная шелковичными деревьями, ее называли «площадь Шелковиц».
Сейчас, когда Коровеш смотрел на родное село, далеко внизу, над полями, остался легкий, постепенно рассеивающийся утренний туман. Сожженные солнцем, пожелтевшие колосья покачивались, колеблемые ветром. Еще дальше зеленели виноградники, а за ними расстилалось озеро с такой блестящей поверхностью, что, даже если смотреть на него издали, становилось больно глазам. На противоположном берегу высились утесы, а посередине озера находился небольшой островок, напоминавший сказочный корабль, ставший на якорь среди моря. На погосте над чьей-то могилой склонились старухи. Из виноградников, расположенных у самой дороги, доносились смех и возгласы девочек. Забравшись на черешневое дерево, они рвали ягоды и сбрасывали их подругам.
Оглядев всю эту панораму, Коровеш печально проговорил:
— Вот что я тебе скажу, племянник! Нам никогда не поднять головы. Места наши прокляты, и мы прокляты вместе с ними. Мало того что земля плохо родит и мы всегда недоедаем, так еще бей сдирает с нас последнюю шкуру, отравляет нам жизнь. Разве не так? А ты еще рассказываешь, что наступит день, когда все изменится к лучшему! У нас и опорок-то нет, а ты сапоги захотел. Выкинь это из головы! Перестань болтать вздор, а то, смотри, накличешь беду!..
Улыбка удовлетворения скользнула по губам Гьики. Только что дорогой он говорил старику, что бей — это ядовитый змий, это паук, высасывающий из крестьян все жизненные соки, что его кьяхи — бешеные шакалы. Говорил, что надо объединиться для борьбы с произволом, иначе они — бей и его надсмотрщики — совсем сживут крестьян со свету, заставляя работать только на них. Разве справедливо, что испокон веков крестьяне вместе со своими семьями днем и ночью, летом и зимой трудятся, не разгибая спины, и не могут пользоваться плодами своих трудов? Только соберут урожай, как на них сваливаются кьяхи, сборщики налогов и
податей и словно бьют тяжелым молотом по голове, отнимая урожай за весь год. А крестьянам не остается хлеба даже на четыре месяца. Так Говорил старику Гьика. — Вот наступает уборка урожая, и теперь самое время заявить бею:
— Мы, господин наш, больше тебе ничего не дадим. Довольно ты попил нашей крови, повыматывал наши силы. Довольно мы на тебя поработали. Теперь будем трудиться на самих себя.
Однако ни один крестьянин в селе не осмелился бы поддержать Гьику, если бы он и обратился к бею с такими словами. О стариках и говорить не приходится; правда, когда они думали о том, что весь урожай придется отдать бею, у них больно сжималось сердце, но что они могли поделать? Ведь земля — собственность бея, и так повелось еще с незапамятных времен. Гьика пытался объяснить старикам, что в давние времена беи получили свои земли не по справедливости, а овладели ими с помощью меча.
— Некогда беи были сильны, и им посчастливилось овладеть землей, — возражал племяннику старик, — а крестьянам, видать, на роду написано вечно оставаться рабами. Да ведь так обстоит дело не только в Дритасе… Сколько еще сел в Албании принадлежит беям! Много в Албании рабов, много!..
— Ну, хорошо, дядя Коровеш! Вот сегодня приедет бей и потребует с тебя столько, сколько вся твоя шкура не стоит. Значит, и теперь ты собираешься ему ответить, как отвечал все прошлые годы: «Слушаюсь, бей! Будет исполнено, бей!» И опять сдерет он огромный оброк, а нам не оставит даже семян для посева. Опять скажешь: «Так нам, крестьянам, на роду написано». А ему на роду написано забирать наш урожай и оставлять нас в дураках.
— Удивляешь ты меня, племянник. Что с тобой? Тебя будто подменили. Слушаю тебя… и мне кажется, словно ты все это в бреду говоришь. Как же мы, крестьяне, можем спорить с Каплан-беем? Вот в Горице попробовали заспорить со своим Малик-беем, и что с ними стало? Послушай меня, племянник, образумься! Ведь у тебя семья. С беем опасно ссориться: земля-то его… Лучше договориться по-хорошему. А нам суждено терпеть до тех пор, пока не сложим своих костей. Такая уж наша доля. И так оно было с нашими отцами и с нашими дедами, мир их праху и успокоение их душе!
Гьика закусил губу и раздраженно стегнул прутиком по ветке можжевельника, будто хотел сорвать на ней досаду.
— Нельзя всю жизнь только и делать, что говорить бею: «Слушаюсь, бей! Будет исполнено, бей!» Что же получается? Я в поте лица, не щадя сил, обрабатываю землю, а весь свой урожай должен отдать бею, тогда как мои дети остаются без куска хлеба! Но этого мало. Мы еще должны выражать бею свою покорность не только когда он обирает нас, но и когда бьет нас, бесчестит! Скажи на милость, дядя Коровеш, разве это жизнь, достойная человека? — воскликнул Гьика и с еще большей силой хлестнул прутом по можжевельнику.
Старик закурил, ласково посмотрел на Гьику и сказал:
— Правильно говоришь, племянник, очень правильно, но кто же осмелится тягаться с беем?
— Мы все! Кто же другой? Пусть даже нам придется погибнуть, но уж если умирать, так хоть сразу, это по крайней мере лучше, чем жить, умирая каждый день…
Тут разговор их прервался, потому что Коровеш заметил приближавшихся к ним четверых всадников.
— Видишь там верховых? — и он вгляделся пристально. — Это, должно быть, он со своими кьяхи.
— Да, он, — процедил сквозь зубы Гьика.
— Что ж, пойдем, — вздохнул старик, и оба крестьянина двинулись в сторону Каменицы, чтобы, миновав виноградники, выйти у Скалистого ущелья на дорогу и по ней добраться до села.
* * *
Между тем четверо всадников, свернув с шоссе, направились в сторону села. Один из них ехал впереди. Он был в охотничьем костюме, с двустволкой за плечами, биноклем и патронташем. Из-за пояса сверкала серебряная рукоятка револьвера. Одной рукой он сжимал поводья, в другой держал красиво заплетенный кожаный хлыст. Хозяйским оком всадник поглядывал на поля и виноградники и время от времени что-то бормотал себе под нос.
Это и был Каплан-бей, владелец поместья Дритас. У него вошло в обыкновение дорогой никогда не разговаривать со своими спутниками, а только внимательно поглядывать по сторонам да покуривать. А если перед отъездом из дому ему случалось побраниться с женой, тогда он всю дорогу был зол и мрачен.
Позади бея ехали трое — его кьяхи, вооруженные до зубов, с закрученными усами, чванливые, как петухи. Они гнали коней рысью, и цокот копыт разносился далеко кругом. Девочки, забравшиеся на черешню, продолжая щебетать и смеяться, не слышали конского топота. Зато до слуха бея еще издали донесся детский смех. Бей все ближе и ближе, а они продолжают веселиться.
— Что это за разбойницы воруют у нас черешни? А ну-ка, Яшар, погляди! — приказал бей одному из кьяхи.
— Слушаю, бей! — ответил Яшар и во весь дух погнал лошадь к черешне.
— Эй, вы, разбойницы! Маленькие суки! Или вы думаете, что это — добро вашего отца, а? Да еще хохочете, да еще поете?.. Мимо едет сам бей, а вы у него на глазах воруете хозяйское добро! А ну-ка, слезайте! Сейчас же! — угрожающе крикнул кьяхи.
Девочки, едва услышав его голос, перепуганные, спустились с дерева и, стоя перед Яшаром, трепетали, как тростник на ветру. Их было семь, все в возрасте восьми-девяти лет, все оборванные и босые. Одна, спускаясь, разорвала рукав рубашки; другая оставила на дереве половину головного платка — он зацепился за сук; третья, спрыгнув на землю, напоролась босой ногой на колючку и крепко стиснула зубы, чтобы не закричать от боли; четвертая в кровь расцарапала руку.
— Ну, что теперь с вами делать, воровки?.. Знаете ли вы, что я могу вас убить тут же, на месте, за то, что вы крадете добро бея?
— Прости, эфенди! Прости нас на этот раз! Мы думали, что эта черешня дяди Гьерга, потому и забрались на нее. Прости! Прости! — взмолились малютки и расплакались.
— Ага! Теперь — прости? Когда дело плохо, вы ревете, а только что визжали и хохотали! Ах вы, маленькие суки! И отцов ваших посадим в тюрьму! — продолжал грозить кьяхи, посмеиваясь себе в усы.
Девочки заплакали еще громче.
В это время подъехал бей с двумя сейменами
[10] и устремил на детей грозный взгляд. Девочки испугались еще больше, и плач их перешел в отчаянный рев.
— Ха-ха-ха! Теперь эти разбойницы ревут… — и бей расхохотался.
От смеха бея девочкам стало немного легче на душе, и они осмелились поднять на него полные слез глаза. Но бей, пристально вглядевшись в одну из девочек, с розовыми щечками и голубыми глазами, улыбнулся. Правда, она еще очень мала, но и сейчас видно — когда вырастет, будет прекрасна, как пери. Разумеется, и мать у нее, должно быть, красавица…
— Эй, ты, там!.. Ну, ты… у кого кровь на руке!.. Подойди-ка сюда! — поманил ее пальцем бей.
Девочка выпрямилась, ощетинившись, словно ежик, и с низко опущенной головой остановилась у ног лошади бея.
— А ну, подними-ка голову! — приказал Каплан-бей, коснувшись хлыстом ее подбородка.
Малютка подняла на него заплаканные глаза, в которых были страх и мольба о пощаде. Но бей увидел в них редкостную красоту.
— Чья ты, девочка?
— Я внучка пастуха Гьеле.
— А мать твоя откуда?
— Мама моя из рода Галесов… — Девочка проглотила слюну и робко добавила: — А бабушка моя утонула в колодце Разбойников. Мне об этом мама рассказывала… Она совсем маленькая осталась сиротой…
— Что ты говоришь? — невольно вырвалось у бея.
Слова девочки потрясли его. Теперь он узнал эти ни с чем несравнимые голубые глаза: глаза красавицы, ее бабушки, в которую давно-давно был влюблен и которую погубил. Посмотрев сейчас на эту крестьянскую девочку, он вспомнил свое давнишнее преступление…
…Ему было тогда двадцать лет. Во время уборки урожая он часто приезжал в свое поместье — поразвлечься. Бродил по полям, отдыхал в густой тени деревьев, потягивая из фляги раки и закусывая жареной курицей. Занимался молодой бей и охотой: высматривал себе какую-нибудь молодую крестьянку покрасивее. Как-то раз, прохаживаясь по полю, он забрел на участок дяди Галеса, который со всем своим семейством вязал снопы, Якобы заинтересовавшись тем, как идет работа, бей затеял разговор, а сам не сводил глаз с невестки Галеса. До чего же она была хороша! Схватить бы ее и умчать на своем коне! В ее прекрасных глазах была заключена какая-то колдовская сила! Казалось, что это сама красота земли, одетая в крестьянское платье. Разве ее место здесь, в поле, под горячими лучами солнца? Нет! Ее место в гареме султана. Непреодолимое вожделение овладело молодым беем: во что бы то ни стало захотелось обладать ею, а потом — хоть смерть!
Две недели выслеживал он со своим сейменом красавицу, стараясь застать ее одну. И вот наконец счастье ему улыбнулось: они узнали, что молодая крестьянка без провожатых отправилась в горы отнести пастухам еду. Бей и его верный сеймен тотчас же пустились за ней следом. Дорога шла густым лесом, настолько густым, что в нескольких шагах не было видно человека. Они настигли молодую женщину у так называемого колодца Разбойников. Сеймен спрятался в кустах, а молодой бей встал посреди дороги. У него учащенно билось сердце, желание кружило ему голову, душило его. Там, в городе, он имел много женщин, но разве хоть одна из них могла сравниться с этой крестьянкой?
Поджидая свою жертву, бей, волнуясь от нетерпения, ломал ветки. Внезапно до него донесся шорох: кто-то пробирался сквозь чащу.
Молодой бей кашлянул и прислушался. Сеймен в кустах тоже насторожился.
Но вот ветки ближайшего вяза раздвинулись, и из-за них показалась похожая на испуганную газель невестка Галеса с корзинкой в руках и кувшином на плече. Увидев перед собой бея, она вздрогнула и поспешно закрыла платком лицо.
— Госпожа моя, прошу тебя, дай мне свой кувшин — набрать в колодце воды… погибаю от жажды! — проговорил юный бей мягким, вкрадчивым голосом, но вид у него при этом был, как у волка, готового броситься на добычу.
Крестьянка взглянула на него с ненавистью, затем опустила голову и поставила кувшин на землю.
— Мустафа, возьми кувшин и набери мне воды в колодце! — приказал бей показавшемуся из кустов телохранителю.
Сеймен, взяв кувшин, пошел к колодцу.
Бей едва сдерживал себя: кровь в нем кипела, сердце колотилось. Броситься бы на нее, схватить, сжать в объятиях!..
Теперь женщина оказалась наедине с беем. По его взгляду она сразу догадалась о его низменных намерениях, и мороз пробежал у нее по коже. Что делать? Звать на помощь? Но до пастушьего стана очень далеко. В лесу не слышно ни единого стука топора дровосека. На большом расстоянии вокруг никого нет. Она попыталась овладеть собой.
— Пойдем к колодцу напиться, — пригласил ее бей.
Но она, испуганная и настороженная, не двинулась с места.
— Мне не хочется пить… Отдайте мне кувшин, и я пойду. Я и так опоздала, — едва внятно проговорила она.
Бей прислушался: в лесу никакого шума, они одни. Тогда, облизав губы, он, испепеляя женщину сладострастным взглядом, с жаром схватил ее в объятия.
— А-а-а-а! На помощь, на помощь! — в ужасе закричала она и, собрав все свои силы, попыталась вырваться из его рук.
— Молю тебя, молю… Ты так красива… Я умираю от любви к тебе… Молю, молю! — лепетал бей, все сильнее сжимая ее в объятиях. Он уже больше не владел собой.
А сеймен, который не пошел к колодцу, а спрятался в кустах, подбадривал своего господина:
— Не выпускай ее, мой повелитель! Все они так делают… Сначала кричат, визжат, а потом… Будь мужчиной!
Бей не заставил повторять этого дважды; швырнул молодую женщину на траву и сдернул платок с ее лица — оно было мертвенно бледно, но еще более прекрасно. И это сильнее разожгло в нем желание. А ее голубые заплаканные глаза, в которых застыло выражение ужаса, обжигали его своим пламенем. Бледная, смертельно испуганная, с глазами, полными слез, она показалась бею еще более прекрасной. Ее набухшие груди — не прошло и пяти месяцев, как она родила дочку, — вздымались, и это еще больше распаляло бея. Он попытался овладеть ею. Молодая крестьянка, руки которой на какой-то миг оказались свободными, со всего размаху ударила бея по лицу, и он упал на землю. Пока бей, оглушенный, поднимался на ноги, она пустилась бежать во весь дух, не переставая громко звать на помощь. Она бежала сквозь чащу, как обезумевшая, волосы ее распустились, и косы бились о колени.
— В колодец ее, Мустафа, в колодец! Эта разбойница обесчестила меня! — срывающимся от бешенства голосом приказал молодой бей. Все лицо у него было залито кровью.
Верный Мустафа пустился преследовать беглянку и скоро нагнал ее.
— Разбойница! Сука! Тебе от меня не уйти!
Изнемогая от ужаса и отчаяния, она собрала последние силы и попытались вырваться из рук сеймена, но тщетно. Мустафа держал ее крепко в своих сильных руках. Затем легко поднял и взвалил себе на плечо.
— Ты говоришь, в колодец? — недоумевая, переспросил он у своего господина.
Она поняла, что ее ждет.
— Разбойники! Звери! Кровопийцы! Злодеи! Лучше в колодец, чем достаться вам в лапы! — кричала молодая женщина, извиваясь в руках сеймена.
— Она посягнула на честь бея! В колодец ее, суку! — снова распорядился бей, стараясь платком остановить кровь, которая продолжала течь из его разбитого носа.
Чтобы заглушить отчаянные крики женщины, Мустафа засунул ей в рот ее же головной платок и поволок к колодцу. Она, предчувствуя свою погибель, отчаянно сопротивлялась. Подошел бей — лицо и руки у него были в крови, — посмотрел на женщину, заскрежетал зубами и сжал кулаки.
Затем один взял ее за руки, другой — за ноги и, раскачав, швырнули её в колодец.
Послышался всплеск воды, эхом откликнувшийся в лесной чаще, и сразу же наступила тишина.
Через несколько дней по селу распространилась весть, что красивая невестка дяди Галеса, поскользнувшись, упала в колодец Разбойников и утонула. Все село оплакивало ее редкую красоту, ее молодость и приветливость, но еще больше все жалели бедную девочку, оставшуюся сиротой совсем крошкой.
Так никто и не узнал о происшедшей трагедии. А молодой бей в сопровождении Мустафы как ни в чем не бывало гордо разгуливал по селу. Он даже зашел к старику Галесу, соболезнуя ему и сыну в постигшем их горе…
Сколько лет тому назад все это произошло? Тридцать, сорок? Он и сам теперь хорошенько не помнит. Но сегодня эта маленькая оборванная девочка, с небесно-голубыми глазами, с розовыми щечками, так живо напомнила ему невестку Галеса; напомнила и страшный удар по лицу — единственный, полученный им за всю жизнь! Не было никаких сомнений: эта похожая на маленькую пери девочка — внучка той красавицы, которую он утопил.
Бей покачал головой и тяжело вздохнул. Не было у него больше верного Мустафы — мир праху его! — вместе с которым он мог бы предаться воспоминаниям.
* * *
Со страхом ожидая приезда Каплан-бея — изверга, как называли его крестьяне, — все село пришло в волнение. Старики уже с раннего утра распорядилась, как того требовал обычай, насчет угощения: пирог на меду из муки, просеянной сквозь самое мелкое сито, два бюрека
[11] на сливках и масле с яйцами, три цыпленка, хорошенько зажаренных на чистом масле, пара молодых баранов, затем яйца, сыр и еще много-много всякой вкусной снеди. Все это готовилось на двух разложенных в тени шелковиц кострах. Стати и Шойле жарили на вертелах двух жирных баранов. Они-то знают толк в этом деле!.. Стоя на коленях у огня и обливаясь потом, они мешали угли и вращали над ними вертела с мясом. Ведь это готовилось угощение для самого Каплан-бея! Так в Дритасе, кроме него, угощали только главу сельских общин да окружного инспектора жандармерии. Когда здесь, под тенью шелковиц, за стол сядет бей со своими приближенными и все будут пить раки, пусть хоть вспомнят тех, кто приготовил это угощение.
Рако Ферра, доверенное лицо бея на селе, беспокойный и запыхавшийся, сновал взад и вперед. Небольшого роста, с огромной головой и длинными, как у обезьяны, руками, он всюду поспевал сунуть свою лисью морду, бросить испытующий взгляд, дать распоряжение одному, подогнать другого…
— Эй, Стати! Смотри, чтобы мясо у тебя не подгорело! А то потом греха не оберешься! Ведь это не шутка: к нам сегодня пожалуют Каплан-бей и все начальство округи.
— А ты, Шойле, мне кажется, немного пережгла лопатку. Чаще поворачивай вертел. Шашлык должен быть на славу! Да не жалей масла — смазывай как следует. Ведь для бея готовишь!
— Послушай, Нгьело! Этих веленджэ
[12], что вы тут разостлали, боюсь, не хватит. Сбегай побыстрее и принеси пять-шесть веленджэ. Надо же постараться для бея и принять его как следует…
— Да вот еще что… мне пришло на ум: этих цыплят лучше зажарить на вертеле; тогда их легче промаслить. Да скажите вашим женам, чтобы они не пережгли их. Не забудьте!.. Эй, Гьерг! Твоя Гьерговица уже с утра испортила мне настроение, не знаю, как я стерплю. Разве можно так непочтительно отзываться о бее? Хоть бы она постыдилась! Вот что я тебе скажу: если она еще раз посмеет так говорить о бее, я ему доложу, и ей некуда будет деваться от его гнева. Если как следует не взяться за жен, они сядут нам на шею. Вели Гьерговице приготовить хороший бюрек и сам не отходи от нее. Ей-то ничего не стоит опозорить нас перед беем, а нам не сносить головы на плечах.
В разговоры крестьян Рако Ферра обычно не вмешивался. Он хорошо знал, о чем говорят эти увальни: конечно, ропщут на бея, совещаются, как бы его обмануть. Чего другого можно от них ждать? Даже если бей каждый день угощал бы их медом, они все равно будут его бранить. Будь бей самим ангелом, они все равно сделают его дьяволом; иначе они не могут.
Бей хорошо относится к Рако Ферра. А почему? Рако умеет с ним обходиться, вечно печется об его чести, об его имуществе, всегда говорит ему правду в лицо. Вот, к примеру, в прошлом году сыновья Постола ночью украли на гумне несколько снопов и думали, что бей об этом не узнает. А Рако подглядел за ними и сообщил об этом кьяхи. И пришлось парням не только расстаться с пятью спрятанными снопами, а еще в придачу к ним отдать большой штраф. Сколько таких мелких услуг оказывал он своему хозяину!
А вот еще пример: сын Ндреко, этот шалопай Гьика, слишком много болтает против бея. Само собой разумеется, святая обязанность Рако Ферра сообщать о том, что про бея говорят в селе. Пусть крестьяне не болтают насчет бея, если хотят, чтобы он хорошо к ним относился. Но бей ценит Рако Ферра не только за это. Рако лишнего не говорит, Рако не крадет, Рако не старается обмануть своего господина, и поэтому бей его любит и верит ему. А если этот дурак Гьика не перестанет злословить, может случиться, что бей, рассердившись, отберет у его отца Ндреко участок земли и передаст его Рако: пусть себе возделывает! Если так произойдет, можно ли обвинять в этом бедного Рако Ферра? Бей его ценит и, естественно, хочет вознаградить своего верного слугу. Не надо болтать лишнего, тогда и земли не лишишься! И по оброку бей оказывал Рако немалые льготы. Кое-что перепадало Рако и из тех денег, что бей получал с крестьян. Но ведь на то была собственная воля господина. Зачем сюда вмешивать крестьян? Рако Ферра — умный человек и сумел наладить превосходные отношения со своим милостивым хозяином.
За то, что крестьяне суют нос в его дела, Рако ненавидит их. Они отвечают ему тем же, многие, встречаясь с ним на улице, даже не здороваются; такое положение его не очень устраивает: как-никак он живет среди крестьян и время от времени ему хочется обменяться с соседом парой слов. И Рако затевает разговоры при всяком удобном случае. Изо всех сил защищает перед крестьянами бея, защищает представителей власти: главу сельских общин, инспектора округа с его жандармами, старосту села и местных богатеев. Все это он делает не из каких-нибудь корыстных побуждений, а только для блага родного села! Чтобы представители власти и бей не считали, будто крестьяне в Дритасе — неблагодарные скоты, с которыми и двух слов нельзя сказать! Ничего нет плохого в том, что Рако передает бею и сельскому начальству обо всем, что о них говорят крестьяне. В конце концов пусть они знают, кто им хочет добра, а кто зла.
На площади Шелковиц, где готовилась встреча бея, чувствовал себя беззаботно и был вполне счастлив только один человек: Ламе Плешивый, косноязычный дурачок. С восторженной улыбкой на губах следил он за тем, как жарится на вертелах мясо, облизывал пальцы и лепетал:
— У-у-у-у! За-леное, за-леное, оцень кусно!.. Блей мне даст целую куцу, целую куцу! Ха-ха-ха! — Последние слова он пролепетал перед самым носом Рако Ферра.
Тот сразу же погнал его прочь:
— Уходи отсюда, Ламе, уходи, ради бога! Не до тебя, дурачок! А то смотри, как бы я тебя самого не съел, — угрожающе закончил Рако и обеими руками оттолкнул юродивого.
— Рак! Рак! Заленого! Хоцу заленого! У-у-у! Дай Ламе заленого, Рак! — залепетал Ламе, но из осторожности отбежал в сторону.
Мальчишки передразнивали его и смеялись над ним.
Под развесистой шелковицей собралось много крестьян: кто уселся на земле, скрестив по-турецки ноги, кто примостился на корточках, а кто полулежал на траве; молодежь осталась стоять. Староста распорядился, чтобы от каждого двора для встречи бея вышло по крайней мере по одному мужчине; но, поскольку сегодня было воскресенье, народу собралось гораздо больше — всем хотелось послушать, о чем станет говорить бей со своими крестьянами.
Староста, дядя Тири, закадычный друг Рако Ферра, еще неделю тому назад объявил всему селу: «Каплан-бей прибыл из Тираны и находится в Корче. Он велел передать крестьянам, что в ближайшее воскресенье пожалует в село за получением оброка, причитающегося ему в этом году». Беседуя со старостой у себя во дворце в Корче, бей, между прочим, сказал ему:
— Слушай, староста! Я моим крестьянам всегда желал только добра. Они для меня — как дети родные. Но нужно, чтобы и крестьяне относились ко мне так же, как я к ним. Я не хочу обременять их своим присутствием во время уборки урожая. Поэтому я приеду только на воскресенье, и мы договоримся насчет оброка. Прежде всего вы мне заплатите сто пятьдесят или двести золотых наполеонов — я еще и сам не решил окончательно, — а там видно будет. Что такое в наше время двести наполеонов? Только и хватит на понюшку табаку!.. И, кроме того, не будем забывать, что в нынешнем году выдался на редкость хороший урожай. Не так ли?
У старосты не хватило духу противоречить. Да и что он мог ответить бею, не переговорив предварительно со своим дружком Рако Ферра? На свою беду староста явился к бею не один, а в сопровождении своего помощника, некоего Ташко, — человека, в голове у которого были точь-в-точь такие же мысли, как у этого сорванца Гьики! Нимало не смутившись, Ташко так ответил бею:
— Ты, конечно, прав, бей, но только сто пятьдесят золотых наполеонов — огромная сумма, и селу выплатить ее не под силу. Господин наш знает, как бедно мы живем. Поэтому просим тебя, бей, сжалься над нашими детьми! Меньшую сумму, гораздо меньшую мы, может быть, еще как-нибудь и соберем, но сто пятьдесят наполеонов никак не можем. Я и думать боюсь о таких деньгах.
Староста даже рот разинул, услышав наглые слова этого дурака. А бей нахмурил брови, и лицо у него залилось румянцем гнева. Вперив взгляд в старосту, будто это он, Тири, а не глупый Ташко держал дерзкую речь, и погрозив ему кулаком, бей ответил:
— Это мое дело. А ваше дело — заплатить мне не больше и не меньше как двести золотых наполеонов. Иначе — вон с моей земли, вон из моих владений! Разбойники! Я вам даю хлеб, а вы в знак благодарности предлагаете мне камень! Вы забыли, что я хозяин имения, земли, хлеба и вы должны беспрекословно выполнять мою волю! — Тут он вскочил и, вскипев от ярости, принялся орать: — Разбойники! Собираетесь посягнуть на мои права, на мою собственность! Довольно я с вами нянчился, оказывал вам милости; с сегодняшнего дня я научу вас, как относиться к своему властителю, не будь я Каплан-бей!
Старосте показалось, что под ним разверзлась земля и раскрывшаяся бездна поглотила его. Какой черт угораздил этого Ташко затевать бесполезный разговор? Бей еще долго кричал и грозил. Когда он, наконец, смолк, староста заговорил умоляющим голосом, словно лизал бею ноги.
— Проживи столько, сколько стоят наши горы, бей! Не принимай этих слов близко к сердцу! Мы как-нибудь все уладим. Ведь ты наш господин, наш отец! Не губи нас! Мы все уладим…
— Знаю я вас, мужиков, знаю, что вы за мошенники: вы вроде тех горичан, которые имели дерзость посягнуть на права и владения бедного Малик-бея! Но со мной это не пройдет. Я вам покажу! — процедил бей сквозь зубы и затем закончил решительным тоном: — Чтобы к воскресенью были готовы двести золотых наполеонов и вручены мне полностью. Двести, и не меньше! Слышите? А теперь, разбойники, убирайтесь и передайте сельчанам мои слова!
С поникшими головами вышли крестьяне из дворца.
Вернувшись в село, староста собрал сходку, на которой Ташко подробно обо всем рассказал, а Тири, со своей стороны, добавил, что поначалу бей принял его милостиво, но Ташко своей неуместной болтовней все испортил.
И вот наступил назначенный беем день. Крестьяне, собравшись на площади Шелковиц, переговаривались между собой:
— Двести золотых наполеонов! Двести! Да мы столько и слив не соберем с наших деревьев, а не то что золотых!
Дядя Постол — один из тех стариков, кто имеет обыкновение прежде чем сказать слово, хорошенько его обдумать, — вытряхнул из трубки пепел, снова набил ее табаком, прикурил от трута дяди Эфтима, сделал пару глубоких затяжек и, выпустив через ноздри дым, заговорил:
— Правда, двести наполеонов — это такие деньги, которые нам даже сосчитать трудно, а не то что заплатить! Плохи наши дела!.. Но когда разбойник хватает тебя за горло, надо придумать, как вырваться из его когтей. Он требует с нас две сотни наполеонов дани, хотя весь урожай нынешнего года, включая и кукурузу, не стоит таких денег. Но беда наша в том, что мы никак не можем это ему втолковать. Ему-то что! Выгонит тебя из Дому, заберет все твое имущество, весь скот, урожай, а ты подыхай с голоду посреди дороги. Где тут искать правосудия? Поэтому надо крепко подумать, все заранее решить между собой.
Крестьяне печально переглянулись. Дядя Постол сказал правду, но правда эта показалась всем очень горькой.
— Надо все решить между собой. Правильно. А если бей не согласится с нашим решением, что тогда делать? — задал вопрос один высокий худой крестьянин.
— Эй, дядя Коровеш! Почему молчишь? Скажи, как выпутаться из такой беды? — обратились к старику несколько крестьян.
— И я согласен с тем, что говорил Постол. Надо все хорошенько обдумать. Но сколько бы мы ни думали, положение наше нелегкое. Ведь бей требует ни много ни мало — двести наполеонов! Если бы мы даже продали наших жен в рабство турецкому султану, и то столько за них не выручить! По справедливости бей должен был потребовать с нас от силы наполеонов шестьдесят-семьдесят. Но даже и такие деньги нам трудно собрать. Говорю это, потому что знаю, как у всех обстоят дела. Давайте-ка приблизительно подсчитаем, кто сколько может дать. Ничо — самое большее — два наполеона, Бойчо — один, Постол — полтора, Барули — полнаполеона, Калеш — два без четвертушки… Даст еще один-другой — и наберется у нас пятьдесят золотых монет. Добавим сюда десять наполеонов, которые можно выручить от продажи скота, и станет у нас шестьдесят. Стало быть, до двухсот недостает ста сорока. Где же их взять? Двести наполеонов — деньги нешуточные! Поэтому я думаю, что самое лучшее нам все чистосердечно рассказать бею, все ему высчитать, а потом, приложив руку к сердцу, слезно его просить: «Возьми с нас шестьдесят-семьдесят наполеонов; больше мы дать не в силах. Мы не отказываемся тебе заплатить, но требуй с нас только то, что мы в состоянии собрать». Вот как должны мы ему сказать.
И опять крестьяне переглянулись. Прав дядя Коровеш. Больше чем шестьдесят, в крайнем случае семьдесят, наполеонов они заплатить не могут, — взять неоткуда.
— Ну, а если он не согласится, — что нам тогда делать? — со страхом в голосе спросил Гьерг.
— Что нам тогда делать? — как эхо, повторил один из стариков.
Воцарилось молчание. Все напряженно думали, но никто не находил пути к спасению. Один сосредоточенно курил, другой вытряхивал из опингов песок, но все молчали.
А между тем на вертелах поджаривалось мясо, распространяя вокруг приятный, возбуждающий аппетит запах. Тихо шелестела густая листва шелковиц. Вокруг огня, облизывая пальцы, увивался косноязычный Ламе Плешивый. Рако Ферра в сотый раз осматривал разостланные на траве веленджэ и следил за тем, как Стати и Шойле жарят баранов. Время от времени он бросал нетерпеливые взгляды на дорогу.
У Гьики было тяжко на душе: все эти люди боялись высказать правду. И тогда он поднялся с места и заговорил, сначала сдержанно, а потом дал волю своему гневу:
— Меня удивляет, что мы напрасно тратим время на бесполезные разговоры. Дядя Коровеш подсчитал и убедительно нам всем доказал, что дань бею не должна превышать шестидесяти наполеонов. Это всем ясно как дважды два четыре. И неправду говорит бей, будто в нынешнем году хороший урожай. Пусть он пройдется по полям и посмотрит на сгоревшую пшеницу. Но допустим даже, что урожай прекрасный. Много ли из него придется на нашу долю? Ведь бей требует с нас не только деньги! Из нашего урожая возьмут арманджилек
[13], десятину, а то, что останется, поделят пополам: половину получит бей, половину — мы. Вот об этом и надо говорить. И мы должны заявить бею в лицо: «Нет у нас денег! Мы должны тебе об этом сказать открыто!» Должны кричать! Должны вопить! Кто, как не мы сами, может помочь нашему горю? Довольно рабской работы на бея! Ведь мы уподобились не только рабам, но и бессловесным скотам! Нас, как волов, запрягают в ярмо тяжкого труда, у нас вырывают изо рта последний кусок, бесчестят нас, не переставая, высасывают из нас кровь, а мы на это только говорим: «Слушаюсь, бей! Твоя воля будет исполнена, бей!» Он обирает нас, попирает ногами, а мы пресмыкаемся перед ним; и некому на все это жаловаться!.. В правительстве такие же разбойники, как и наш бей. Мы видели, как они поступили с несчастными горичанами: именем закона несколько сотен людей выбросили из домов, прогнали с земли, которую они испокон веку обрабатывали, орошая своим потом и кровью, и все это — чтобы угодить какому-то бею! Разве это правительство? Разве это закон? И правительство и закон поставлены на службу беям! Разбойники защищают разбойников, а не таких честных бедняков, как мы! И поэтому нечего нам ждать спасения ни от правительства, ни от самого бога. Свои права мы должны защищать своими руками, своим потом, своей кровью. Довольно мы пресмыкались перед беем! Пора сказать ему прямо: «Бей, денег у нас нет, золота у нас не водится… Поступай с нами, как хочешь. Хуже того, как нам живется, быть не может».
Крестьяне слушали Гьику, опустив головы. Кто почесывался, кто пожимал плечами, кто беззвучно шевелил губами, а многие пугливо озирались по сторонам. Но все как-то изменились в лице, побледнели. Слова Гьики были подобны разорвавшейся бомбе, слишком дерзкие слова! И только кое-кто из молодежи одобрительно кивал: «Хорошо он говорит, правильно!..»
Отец Гьики Ндреко, нервно покусывая усы и вытряхивая трубку, ворчал:
— Погубит нас этот дуралей!
Дядя Коровеш, куря сигарету за сигаретой, с тревогой в голосе сказал:
— Говорит-то он верно, но уж слишком горяч. Еще когда мы с ним возвращались из Каменицы, с пастушьего стана, я ему все твердил: «Стену лбом не прошибешь!»
Рако Ферра, державшийся в отдалении, внимательно прислушивался к словам Гьики.
Когда Гьика кончил, все долго молчали. Кое-кто из крестьян искоса на него поглядывал, а были и такие, что даже не смели и головы поднять. Спору нет — хорошо сказал, но хватил через край. Слыханное ли это дело — так говорить о бее, о правительстве?
И только двое молодых крестьян — Петри, сын Зарче, и Ндони, сын Коровеша, — подошли к Гьике и тихо ему сказали:
— Молодец, Гьика, так вот и скажи самому бею!
В груди у Гьики клокотал вулкан. Слова его прогремели, как раскаты грома. Лицо его раскраснелось, глаза сверкали, учащенно билось сердце. В руке Гьика сжимал рукоятку топора, словно это был револьвер, из которого он готов выстрелить. Сегодня впервые он нашел в себе мужество так, начистоту, заговорить с крестьянами. Впервые он почувствовал в себе такую уверенность, и, пока говорил, ему казалось, что Али и другие товарищи из Корчи стоят здесь, у него за спиной, и подбадривают его.
— На кой черт мы слушаем молокососов! — громко сказал старый Ндреко. И, подойдя к сыну, гневно набросился на него:
— Не суй нос, куда не следует! Не наше дело наводить порядки в селе! Дурак!
— Иногда и молокососов не мешает выслушать, и не всегда можно уладить дело по-хорошему да по-мирному, — вставил смуглый крестьянин и осторожно огляделся по сторонам.
— Вот-вот, говоришь, нельзя по-мирному? Тогда с нами и получится так, как было с горичанами. Беды не оберемся, — возразил ему дядя Постол.
— Помилуй бог, какого вздору нагородил здесь Гьика! Только загубит себя понапрасну. Куда он лезет? Собирается спорить с беем! Видал бей таких героев, — процедил сквозь зубы один из родичей Рако.
Дядя Коровеш оказался в затруднительном положении, не зная, как выгородить племянника. Гьика высказался настолько открыто и резко, что покрывать его уже было поздно. Однако Коровеш понимал, что крестьяне не поддержали его племянника не потому, что не согласны с ним, а лишь из страха перед беем. И поэтому они теперь молчали, а если и высказывались, то против Гьики.
— Так вот, правильно сейчас было говорено — иногда и молодых надо выслушивать, — начал дядя Коровеш.
Все насторожились.
— Молодец, старик! — раздалось из группы молодежи.
— Мне уже за восемьдесят. — Коровеш любил преувеличивать свои годы. — Одной ногой уже в могиле. Сколько лет прожил на свете, а радости на своем веку не видел, нечему было радоваться… Всю жизнь слышал одну и ту же шарманку: «Село должно поставить бею две сотни кур; бею — две тысячи яиц; бею — два десятка ягнят, десяток баранов; бею — двести лир; бею — двести вязанок дров; бею — пятьдесят оков
[14] масла» и еще, и еще… Кто знает, сколько еще всего! Отец нашего нынешнего бея — не найти душе его успокоения на том свете! — сто раз продавал нам свое поместье и сто раз отнимал его обратно. Таков же и Каплан-бей. Призовет нас и скажет: «Есть у меня очень хорошие покупатели, и много дают мне за имение, но не хочу я вас, моих детей, обижать. Ведь вы обрабатываете эту землю, пусть она вам и достанется на здоровье. Покупатели предлагают мне восемь тысяч лир, но я из доброго к вам расположения отдам имение своим крестьянам за пять тысяч. Вы мне их уплатите в три срока, и вся земля станет вашей». Вот так он нас, простодушных слепцов, не раз обманывал. А что мы ему отвечали? «Спасибо, бей, пусть будет так, бей! Проживи столько, сколько стоят наши горы, бей!» А он продолжал: «Сейчас вы мне дайте только небольшой задаток, этак пятьсот лир, а остальное доплатите в первый базарный день». И вот мы начинаем собирать деньги, бросаемся во все стороны, продаем, что можем, залезаем в долги и вручаем ему задаток… «Отлично, на той неделе я к вам приеду и оформим купчую», — говорит он, кладя наш задаток в карман, и… был таков. Возвращается через три месяца. Мы к нему: «Бей, давай писать купчую!» — «Какая еще купчая? Что вам от меня надо? Я ведь только получил от вас старый долг. Вы не очень распускайте языки, а то узнаете, с кем имеете дело», — огрызается бей и сразу же хватается рукой за кобуру. Вот и вся история с покупкой имения. И так случалось не раз и не два… Вот живые свидетели — Постол, Ничо, Барули — пусть они расскажут. Каждый год собирается продавать и каждый год обманывает. А задаток-то остается у него. Так он с нас получил до пяти тысяч турецких лир, не считая золотых наполеонов, которыми мы выплачивали ему оброк. Коварный змий наш бей. С ним надо держать ухо востро. И не то что две сотни, которые он хочет теперь с нас содрать, но и шестидесяти наполеонов ему давать не следует. Правильно предложил Гьика, так мы и должны сказать бею: «Нет у нас денег, бей». Об этом знают даже камни на дорогах. Пусть сам замерит урожай. Так-то лучше будет…
Старик умолк, выбил кремнем огонь и закурил:
— Да, так и надо сказать. Дядя Коровеш прав, — раздалось сразу несколько голосов.
— Именно так, другого выхода у нас нет, — поддержали и молодые.
А у Гьики от слов дяди Коровеша стало радостно на душе, и глаза его засияли. Как хорошо сказал старик!.. Именно так бы и сказал сам Гьика. Он был готов броситься к дяде на шею и тут же, на глазах у всех, расцеловать его. Гьика убедился, что его беседы со стариком не прошли даром и вот теперь принесли свои плоды: Коровеш теперь рассуждал совсем иначе, чем прежде. Что он говорил в прошлом году? «Бей — это бей, и мы, крестьяне, должны беспрекословно выполнять его волю. Таков уж наш удел». Так он тогда думал, и так думали все крестьяне. А теперь дядя Коровеш думает иначе. Больше того, он осмеливается во всеуслышание осуждать бея. И другие крестьяне начинают думать так же.
— Верно, дядя Коровеш! Так и скажем. Но кто из нас возьмется это высказать? — опять заговорил смуглый крестьянин.
— Староста!
— Сам дядя Коровеш!
— Мы все!
— Нет, всем вместе, как бабам, говорить нельзя! Пусть скажет кто-нибудь один. Я считаю, что это должен сделать староста, — предложил Коровеш.
— Пусть будет так! — одобрили старики.
— Ай-ай-ай! Блей, Блей позаловал! — закричал Ламе-дурачок.
Все всполошились, вскочили с мест и устремили взгляды в сторону Скалистого ущелья, откуда в сопровождении трех сейменов ехал бей. Все четверо были вооружены до зубов. Они только что поили в озере своих коней и задержались на берегу.
Из толпы выступил вперед Рако Ферра, низко поклонился бею и взял его коня под уздцы. За ним следом подошел староста с несколькими стариками. Они приветствовали бея и помогли ему слезть с лошади.
Сопровождаемый крестьянами, бей прошел к шелковице и расположился в тени ее широких ветвей на разостланных для него веленджэ.
— Счастливые вы! Чистый воздух, приятная прохлада в тени! — проговорил бей, отирая шелковым платком вспотевшее лицо. Запах жареного мяса приятно щекотал ноздри и возбуждал аппетит. Облизнув губы, бей продолжал:
— Поездка верхом утомительна, но я с удовольствием проделал этот путь. В Тиране можно соскучиться по одному виду лошади — там ведь только автомобили. А они мне смертельно надоели. Сидеть же летом в кафе — значит задохнуться от пыли. — И, оглядевшись по сторонам, добавил: — Посмотрите только! У вас, как в раю!
— Ишь ты! Автомобили ему надоели! А пусть бы он спросил, найдется ли у нас хотя бы порядочный осел!.. — шепнул дяде Коровешу один из крестьян.
— Так, так… Он устал, пока ехал на оседланной лошади, а мы по десять часов ходим пешком, как же тут не устать!.. А он, несчастный, устал, сидя на коне! — проворчал стоявший поблизости другой крестьянин.
Бей, удобно расположившись на веленджэ, приказал крестьянам сесть вокруг него. Только Рако Ферра не сиделось на месте: он все время увивался вокруг бея.
— Ты немного утомился, милостивый бей? Разумеется, путь длинный… Но виноградное раки и хорошая закуска восстановят твои силы.
Рако, староста и другие крестьяне засуетились, захлопотали. Подали бею раки, вареных яиц, жареных цыплят, сыр, лук — не хватало только птичьего молока!
— Хе-хе, Рако! Чтоб тебе никогда не состариться! Всегда вижу тебя расторопным, веселым… Молодец! — похвалил бей, когда Рако расставил перед ним все эти яства.
Сеймены подмигнули Друг другу и довольно усмехнулись: сегодня достанется и на их долю, наедятся досыта.
— Ей-богу, там в Тиране люди превращаются в машины. Как я там скучал!.. И часто думал: когда придет пора уборки урожая, съезжу-ка я к себе в имение, проведаю моих крестьян, побеседую с ними, погуляю по холмам и рощам. Поброжу по берегу озера, полюбуюсь на свет божий… Да! Счастливые вы здесь! Где может быть лучше, чем в вашем селе? В раю живете! — говорил благодушно настроенный бей, попивая раки и закусывая.
А крестьяне только недоуменно переглядывались между собой. «Неужели наш бей и в самом деле так изменился, так подобрел? Посмотрим, что-то будет дальше», — говорили они.
Гьика, Петри и Ндони держались в стороне — стояли у плетня.
— Рако Ферра испортил нам все дело. Проклятый подлиза! Следовало бы ему хорошенько пересчитать ребра! Поглядим, что он еще выкинет, когда начнется жатва… — говорил Гьика, стиснув зубы и бросая недобрые взгляды на Рако.
— Ну, Гьика, подойди к ним! Сейчас они заведут речь насчет оброка, и тебе надо вставить свое слово. Старики могут дать маху, тогда придется тебе самому разговаривать с беем. Не мешкай! Иди, и будь что будет! — подбадривали Гьику два его молодых друга.
— Я и сам начеку! — ответил им Гьика и направился к группе стариков, столпившихся вокруг бея.
— Смотри, сын! Не очень давай волю языку, а не то накличешь на нас беду… Тебе вздумалось отстаивать перед беем интересы всего села, а нашей семье из-за этого придется остаться без крова над головой. Подумай о своем семействе, а другие пусть о себе сами заботятся, — прошептал на ухо сыну старый Ндреко, едва тот подошел к нему.
— Чего тревожишься, отец? Ведь мы не собираемся ссориться с беем — только мирно побеседуем.
— Говорю тебе, будь благоразумен. Уже все: Рако, староста, кьяхи — бросают на тебя косые взгляды. Они уже успели передать бею, что ты здесь говорил. Если бей на нас разгневается, мы пропали!..
Гьика опустил голову.
— Тому, кто тонет в реке, дождь не страшен! — прошептал он.
Отец, взволнованный, сгорбившийся, отошел от сына и сел рядом со стариками.
А бей, выпивая и закусывая, продолжал разговор о том, о сем. Из Шён-Паля с минуты на минуту ждали в село начальника общинного управления господина Лако и жандармского инспектора округа господина Джамло. По поручению Рако Ферра и старосты пойяк
[15] должен был их известить, что в Дритас пожалует бей, и пригласить для встречи с ним. Однако накануне ночью представители местной власти срочно выехали в Каламас, где произошла крупная кража из амбаров бея. Жатва там уже началась, и один крестьянин — жалкий оборванец, у которого не было ни своего участка, ни даже своего снопа, — решил поживиться за счет бея и ночью, проделав дыру в амбаре, забрался туда и украл целый шиник
[16] пшеницы. Но на его
беду в это самое время мимо проходил кьяхи и поймал его на месте преступления. Кьяхи поднял тревогу на все село: «Грабят амбары бея!» Начался шум, крики, суматоха и даже ружейная стрельба. В общем полный переполох. Известили общинное управление, известили окружную жандармерию в Шён-Пале, и, не медля ни минуты, начальник управления и жандармский инспектор, захватив с собой несколько жандармов, отправились в путь и в ту же ночь нагрянули в Каламас. Началось следствие, а вместе с ним и угощение — жареные куры, пироги, угрозы, раки, и опять угрозы, и опять пироги!..
Пойяк из Дритаса, явившийся в субботу в Шён-Паль сообщить о приезде бея, там начальников не застал. Ждал до поздней ночи, а они все не возвращались. Так и не дождавшись, велел, как только они вернутся из Каламаса, передать им эту новость, а сам отправился назад, в Дритас. А бей не успел слезть с лошади, как сейчас же осведомился о представителях власти, и узнав, что их еще нет, нахмурился и остался очень недоволен. И теперь, попивая раки, он время от времени спрашивал:
— Ну, что? Не видать их еще?
Но у бея был завидный аппетит, и, покончив с закуской, он решил не дожидаться представителей местной власти и распорядился подавать обед. И каким же замечательным обедом его потчевали!
— Клянусь честью, ни в Корче, ни даже в Тиране я так вкусно не ел, как здесь! Дивный воздух, благословенные места… — приговаривал бей, жуя крылышко цыпленка.
После обеда он отправился отдохнуть в свою башню. Эту ночь он собирался провести в селе — у него еще найдется время поговорить с крестьянами о делах.
* * *
К вечеру крестьяне снова собрались на площади. Разбившись на группы, они беседовали о всякой всячине, но больше всего — о своем бее и о беях вообще. Вокруг дяди Коровеша столпились молодежь и человек пять стариков. Подошел и Петри Зарче. Коровеш говорил:
— Вот что я вам скажу, ребятки… Еще совсем недавно у нас боялись произносить имя бея не только с осуждением, но даже с похвалой, а теперь… — он запнулся, покачал головой и, улыбнувшись, сказал: — Хотите, я расскажу вам одну историю? Только вот беда: позабыл захватить с собой табак. Кто из вас добежит до моей Коровешихи и принесет табаку?..
Все мальчишки вызвались исполнить это поручение. Но старик остановил свой выбор на самом маленьком, который побежал и мигом вернулся с трубкой.
— Эх, молодежь, молодежь, вы еще не знаете жизни — с вас по семь шкур не драли… — начал дядя Коровеш. — А вот взгляните на нас, стариков. Недаром нам достались и эти седины и эти морщины. Вот у Нело остался только один глаз. Посмотрите на правую ногу Калеша — и увидите, что на ней только два пальца. Вам и в голову не приходило спросить у Стефо, почему у него отрезано ухо… И мало ли что еще… — Старик на минуту погрузился в раздумье и закурил от трута. Перед ним, словно печальный туман, возникли видения седой старины. — Да… Многое пришлось нам в свое время услышать от своих стариков, много такого, чего своими глазами не видели, — продолжал Коровеш. — Но то, что творил в округе Корчи Синан-бей, я думаю, вам и представить себе трудно. Теперь от всех его дворцов остались одни развалины…
— Синан-бей?
— Синан-бей Пласса, будь проклята его память! — проскрежетал старик.
— Уж не приходится ли этот Синан-бей Пласса дедом нашему Каплан-бею? — спросил один из парней.
— Все беи между собой родня, все одной породы, — ответил Коровеш. — Сказать по правде, этот Синан-бей был бичом всей округи! Вы ведь бывали в Корче! Так вот, там, на окраине города, и до сегодняшнего дня виднеются развалины стен дворца Синан-бея. В свое время он был могущественнее самого султана. Что я говорю? Могущественнее самого господа бога! В его дворцах было все, вплоть до птичьего молока. Говорят, что стекла в его окнах мыли не водой, а молоком, — подумайте, молоком овец и коз, которых отбирали у крестьян!
— Этакий разбойник! — отозвались слушатели.
— У Синан-бея была не одна, не две и не три жены, как у некоторых нынешних беев, а целый гарем, точь-в-точь как у самого султана. И злосчастные жены эти были дочерьми и женами крестьян окрестных деревень — оттуда их похищали для бея его сеймены. Горе той девушке или женщине, которая приглянулась бею! Либо он волок ее в гарем, либо приказывал утопить в колодце! Дважды он созывал всех девушек и молодых женщин со всей округи якобы для того, чтобы мыть полы во дворце и выбивать ковры. Однако не за тем собирал он их к себе во дворец… Рассмотрев их одну за другой, бей отделял тех, кто пришелся ему по вкусу, и запирал у себя, чтобы удовлетворить свою проклятую похоть. А затем или прогонял их, или оставлял в своем гареме, или… в колодец!
Никто из крестьян не смел в то время строить хижины с очагом. Дым мог подниматься только из трубы Синан-бея! Рассказывали, что однажды, возвращаясь с прогулки, бей в одном селении заметил дом с трубой. Он взбесился так, что не приведи бог! Вырвал у хозяина дома клещами язык и уши, а потом заставил окровавленного крестьянина взобраться на крышу своего дома и сломать трубу! Но и этого ему показалось мало. Он отнял у несчастного землю, поджег его дом, а самого, связанного, истекающего кровью, увез с собой. Больше об этом бедняге никто ничего не слышал. Разумеется, и он нашел свою смерть в колодце.
— Подумать, подумать только, как этот палач глумился над людьми! — восклицали молодые крестьяне.
— Но одну историю, о которой мне рассказывал дед, — упокой, господи, его душу, — я никогда не забуду. Ни мы, ни отцы наши, ни деды не застали Синан-бея, а случилось это при наших предках, что жили в здешних местах лет триста тому назад и терпели всяческие муки от этого изверга. Так вот что рассказывал мне дед, который слышал про это от своего деда:
— В ту пору мне было лет шестнадцать, и мне еще ни разу не довелось бывать на базаре в Корче. Как-то раз, еще с ночи, нагрузили мы с Зарче — он был моим сверстником — ослов углем, и родители, поручив нас попечению дяди Нестора, прадеда Нело, и дяди Ярче, прадеда Калеша, послали нас на базар в Корчу продавать уголь. (Не забывайте, ребятки, что все это рассказывал мой дед, слышавший об этом от своего деда!) Так вот, говорил дед, отправились мы в путь. Но вскоре по дороге, вслед нам просвистело несколько камней; мы поняли, что это забавляется тамошний ага. Пройдя дальше полем, мы наконец добрались до Плассы, что на окраине Корчи. Еще издали увидели дворец — чудо-дворец, такой, что и во сне не приснится. Перед ним стояла большая толпа, но что там делалось, мы рассмотреть не могли. Дядя Нестор и дядя Ярче о чем-то между собой пошептались. Мы заметили, что оба они изменились в лице. Потом приказали нам снять опинги и взять под уздцы ослов.
— Только не говорите ни слова! — строго наказали они.
Впереди шли другие крестьяне, тоже держа опинги в руках и ведя под уздцы ослов. Нам с Зарче стало страшно, но расспрашивать стариков мы не решались. Шли мы, шли, дворец все ближе и все прекраснее, а толпа перед ним шумит и гудит. Вот наконец добрались до самого дворца. И что же мы там увидели? Посередине площади стояла виселица, и на ней раскачивались два трупа. А поодаль, на гумне, сплошь усеянном колючками, пятеро босых крестьян, запряженных, как волы, молотили снопы, и какой-то дьяволенок с бичом в руке нещадно стегал их и при этом покрикивал: «Хоп! Хоп!» Крестьяне, как настоящие волы, ходили вокруг столба босыми ногами по колючкам! Тут же стояли пятеро людей — должно быть, это были приближенные бея, — они смеялись и подзадоривали мальчишку, стегавшего крестьян бичом:
— А ну-ка, молодой бей! Не давай спуску этим разбойникам, так их, хорошенько их!
Поперек дороги, которая вела на площадь, была протянута цепь, и никто не смел за нее переступать. Сеймены били, раздевали, грабили путников, которые имели несчастье попасться им в лапы. Те, до кого не дошла очередь подвергнуться побоям и ограблению, оставляли своих лошадей и ослов и падали на колени перед Синан-беем, который сидел на троне с серебряным револьвером в руке и дико вращал зрачками. Мальчишка — видать, второй сынок бея — в это время вскочил на спину одному из крестьян, стеганул его хлыстом и, смеясь, погнал, как коня.
— Мне кажется, он недостаточно суров! — заметил Синан-бей одному из сейменов, указывая на мальчишку, который вцепился ногтями крестьянину в лицо.
Дядя Нестор нечаянно рукавом своего талагана
[17] слегка задел молодого бея. Тот тотчас же спрыгнул со спины крестьянина и, оседлав дядю Нестора, погнал его так неистово, что камни могли испугаться. Пена выступила на губах у мальчишки; стегает он дядю Нестора хлыстом, словно взбесившийся дикий кот, раздирает ему лицо. Хотел он было убить дядю Нестора на месте и потребовал у бея револьвер. А Синан-бей на все это посматривает и приговаривает: «Так его, так его! Развлекайся в полное свое удовольствие!» Крестьяне целуют землю у ног бея, дрожат, как осиновые листья. И до чего же нам — мне и Зарче — стало страшно! Мы и расплакались. «Хо-хо! Что там за мышата пищат? Возьмите их да бросьте в колодец!» — приказал бей. Тут мы совсем от испуга голову потеряли. Кровавый туман в глазах, ничего не видим! Подошли к нам два молодых бея, наверное, внуки Синан-бея, хвать нас за уши, потом как стеганут хлыстом по лицу!.. У нас только искры из глаз посыпались. И кулаками, и пинками, и хлыстами погнали нас к колодцу… «Вот смотрите, где вы будете жить!» — визжали бейчата. Мы плакали и молили их: «Ради аллаха пощадите нас, милостивые беи! Пощады, пощады!» — умоляли мы. Уж не знаю, что заставило их изменить свое решение, но только не бросили они нас в колодец, а снова поволокли к Синан-бею. «Показали мы этим мышатам, где для них норки приготовлены!» — «Разбойники еще смеют плакать!» — сказал один из приближенных Синан-бея. Потом они принялись нас грабить: забрали все деньги до последней меджитэ
[18], даже уголь отняли, и потом отпустили на все четыре стороны.
Только мы вышли на дорогу, глядь — приближается свадьба: жених, невеста, гости, все честь по чести. И только это шествие достигло цепи, протянутой поперек дороги, как два сеймена набросились на невесту, стащили ее с лошади и поволокли во дворец, а остальные окружили гостей, чтобы те не сбежали. Одного крестьянина, который пытался сопротивляться, нещадно избили. Что было дальше, мы не знаем. Бросились мы оттуда со всех ног, но уже не на базар в Корчу, где нам и продавать-то было нечего, а назад, к себе, в Дритас. Бежим, плачем, боже милостивый! Скоро догнал нас Ярче… а ухо у него отрезано. Подождали мы дядю Нестора. Догнал нас и этот несчастный; все лицо в крови, на месте правого глаза — впадина: молодой бей вырвал ему глаз. Ужас, ужас! «Хорошо расправился с нами Синан-бей, на всю жизнь запомним», — стонал дядя Ярче. Долго еще после этого нам казалось, что бей пошлет за нами погоню, чтобы схватить… и в колодец!»
Коровеш замолчал и снова принялся набивать табаком трубку. Слушатели сидели, затаив дыхание. Выпустив первые клубы дыма, старик посмотрел на них и добавил:
— Все, что я вам рассказал, похоже на сказку о страшных драконах, но таковы были тогдашние беи. Один чуть помягче, другой злее, но все они походили на этого страшного Синан-бея Плассу.
— Но почему же свадьба не избрала себе другого пути, не пошла в обход? — спросил один из парней.
— Эх, сынок! Каким бы путем она ни пошла, все равно один конец! В долине палачи, а в горах разбойники. Палачи и разбойники — родные братья, и от них не спастись. А если бы Синан-бей узнал, что свадьба пыталась обойти его земли и миновать дворец, за такую дерзость он бы всех убил: и жениха, и невесту, и гостей.
— За что так издевался над крестьянами этот Синан-бей? — спросил Петри.
Старик немного подумал и ответил:
— Рассказывали, что крестьяне часто восставали против него. Им удалось заманить в ловушку и убить его родного брата, да и сам он однажды едва ушел от их рук, чуть было не поплатился головой. Вот с тех пор он и мстил крестьянам. И даже тех, кто служил ему верой и правдой, в конце концов иногда находили в канаве зарезанными. «Они рады бы перегрызть мне горло, да я перегрызу им раньше!» — так думал Синан-бей про крестьян, так думали и другие беи.
— Какой изверг! Какой палач! — шептали те, кто впервые слышал этот страшный рассказ дяди Коровеша.
* * *
Солнце уже садилось, когда бей вышел из башни. Его сопровождали сеймены и несколько стариков крестьян. Рядом с беем шел Рако Ферра и что-то шептал ему на ухо. Все расположились под шелковицей. Бей выспался и хорошо отдохнул.
— Ну, теперь поговорим о делах. Как у вас в этом году с урожаем? Аллах свидетель, мне сдается, что вы довольны. А если довольны вы, разумеется, останусь доволен и я! — начал беседу бей.
— Проживи столько, сколько стоят наши горы, бей! Так, именно так! — отозвался один из стариков.
Бей извлек из кармана небольшую серебряную коробочку и, осторожно раскрыв ее, кончиками пальцев захватил щепотку нюхательного табаку и засунул ее в ноздри; на лбу у него собрались складки, он вытаращил глаза, на которых выступили слезы, наморщил нос, скривил губы, прикрыл лицо рукой и… ап-чхи! — чихнул так, что из глаз у него искры посыпались.
— Будь здоров! Будь здоров, бей! — пожелали ему крестьяне.
Бей вытащил шелковый платок, отер им нос, губы и усы. Затем достал портсигар, крышка которого была украшена четырьмя драгоценными камнями (подарок, полученный им в Стамбуле от одного паши, состоявшего в свите самого султана), и вынул сигарету с позолоченным кончиком.
Старший сеймен дал ему огня. Никому не предложив закурить, бей спрятал портсигар в карман. Все это он проделал чрезвычайно медленно.
— Так, так… Значит, в нынешнем году урожай у вас хороший… Грех жаловаться! — продолжал бей.
— О! Хлеба в этом году уродилось столько, что и впрямь грешно жаловаться! — подтвердил Рако Ферра.
— Я забочусь о вашем благе и не хочу во время уборки мешать вам. Только договоримся по-хорошему: я не хочу нанести вам ущерб, и вы не должны вредить мне.
Невдалеке от шелковицы, у забора, собрались женщины и оттуда смотрели на жирного краснорожего бея.
— Это он так на наших цыплятах разъелся! — проворчала старуха, завязывая на голове платок.
— Чтоб он подавился их косточками! — пожелала бею Зиза. Она была очень обозлена, потому что сегодня утром у нее забрали самого жирного цыпленка на закуску бею. — Жри моего цыпленка, жри! — продолжала Зиза, злобно нахмурившись, и затем, перекрестившись, с надеждой добавила: — Авось когда-нибудь бог тебя за все накажет!
Старуха Галес тоже была зла на бея. Она рассказывала женщинам, что ей пришлось приготовить бюрек с яйцами и творогом и извести на него целый ок масла: иначе его нельзя было подать бею.
— Тесто замесила такое белое, белее молока! Муку, милые мои, три раза просеивала сквозь частое сито!..
— Не ты одна, все должны были что-нибудь отдать…
— У меня вот внучка болеет… И ей давно хотелось яичка. Но яйца пришлось отдать не ей, а бею. Если бею понадобится, мы для него и дома свои должны сжечь!
— Вот именно! Злая наша доля!..
А тем временем под шелковицей бей не спеша перечислял крестьянам, что они ему должны:
— Эфенди мои! В этом году вам придется, помимо зерна, выплатить мне сто пятьдесят золотых наполеонов. Сначала я думал взять двести, но потом решил, что не стоит вас слишком отягощать.
— Мало просишь! — проворчал один из крестьян, стоявший поодаль.
— А почему бы не потребовать с нас и наших жен, и нашу жизнь?.. — негромко проговорил Гьика.
— Эй, что вы там бормочете? А ну-ка, громче! — сказал бей, повысив голос.
Но крестьяне стояли с поникшими головами, с глазами, устремленными в землю, и молчали.
— Говорите же, чего задумались? Я требую с вас только то, что принадлежит мне по праву, и не больше.
Крестьяне продолжали молчать и только с опаской косились на старосту и дядю Коровеша.
— Требую только того, что мое по праву! — раздраженно повторил бей.
— Нет, бей! Нет у тебя на это права. Ты заблуждаешься. Дети наши умирают с голоду, а у нас нет для них и ложки молока! Ты приезжаешь сюда пировать и требуешь с нас того, чего у нас нет и чего мы тебе не можем дать! — неожиданно прозвучал громкий голос одного из крестьян.
Это заговорил Гьика. Отбросив палку, которую он перед этим обстругивал, и заткнув за пояс оставшийся раскрытым нож, он выпрямился во весь рост и пристально смотрел на бея, как бы только дожидаясь ответа, чтобы броситься на него с ножом.
По губам крестьян мелькнула тень улыбки, чуть заметный знак одобрения блеснул в их глазах.
— Наш господин требует только то, что принадлежит ему по праву, — подтвердил слова бея Рако Ферра.
А бею кровь ударила в голову: его задели резкие слова Гьики. Сигарета выпала из его руки, лицо позеленело, и, весь задрожав от гнева, он вскочил на ноги и схватился за кобуру. По его знаку взялись за оружие и сеймены. Казалось, вот-вот прольется кровь. Однако мгновение спустя бей овладел собой. Он только поднял сжатую в кулак правую руку и грозно воскликнул:
— Какая сука тебя породила, наглец? Разговариваешь со мной так, будто ты, а не я хозяин имения! Разбойник! Оборванец! Клянусь аллахом, я тут же, на глазах у всего села, велю отрубить тебе голову, как козленку! Бунтовщик! Да знаешь ли ты, что говоришь с беем? С самим Каплан-беем!
Гьика продолжал стоять на месте, не сводя с бея прищуренных глаз. Казалось, он собирается сказать что-то еще более резкое, более гневное.
— Хорошо его отделал! Поделом ему! — прошептал Петри.
— Будто морду ему набил! Запомнит на всю жизнь! — добавил Ндони.
«Какая смелость, но — помилуй нас бог — дурацкая смелость! Теперь бей, если захочет, выбросит его на улицу…» — так думали крестьяне, хотя им и понравились слова Гьики.
Из стариков никто и рта не раскрыл; они только жевали губами и не знали, с чего начать. «Поторопился этот прыткий дьявол Гьика», — думали они.
Но тут неожиданно поднялся Рако Ферра и обратился к бею в самом подобострастном и смиренном тоне:
— Бей! Проживи столько, сколько стоят наши горы! Припадаем к твоим стопам и просим: не обращай внимания на слова этого парня, ведь он еще молокосос! Болтает зря, и никто у нас его не слушает! А ты, господин наш, имей дело с нами, со стариками!
От этих слов бей чуть успокоился. Метнув на Гьику гневный взгляд, он снова уселся на веленджэ и закурил новую сигарету.
— Я не хочу иметь никакого дела с сельскими бунтовщиками! Наступит день, и я поставлю их на место! А теперь буду разговаривать с вами, с пожилыми, почтенными людьми. — И, несколько смягчившись, бей спросил: — Ну? Так что же вы мне скажете?
— Мы хорошо понимаем, бей, что ты спрашиваешь принадлежащее тебе по праву. Но просим тебя, как желаем тебе прожить столько, сколько стоят наши горы, бей, облегчи нашу участь…
На этот раз просил бея староста. Но словно ему кто-то сжал горло: он так и не закончил своей просьбы. Вместо него заговорил Ташко:
— Ты сам знаешь, бей, что мы не едим ни кур, ни масла, ни баранины, а все это сохраняем только для твоей милости. Ты требуешь с нас оброка, как и в прошлые годы, но, бей, ведь мы тоже люди, мы болеем, а больные нуждаются в яйце и ложке молока. И, по правде говоря, сто пятьдесят золотых наполеонов для нас большие, очень большие деньги. Откуда нам взять их? Мы очень бедны, бей, а к кому нам обратиться за помощью, кому пожаловаться на свои невзгоды, если не тебе? Ты наш господин, ты наш отец! Да сжалится над нами твое сердце!
Начало речи Ташко сразу напомнило бею слова молодого бунтовщика, но конец ее несколько смягчил его сердце, однако ненадолго. «А не этот ли самый мужик разговаривал со мной во дворце в Корче? — вспомнил бей. — Словно они все, здешние крестьяне, сговорились с тем наглецом, и что не удалось высказать до конца одному, за него договаривает другой», — так думал бей, слушая Ташко. Лицо его помрачнело. Староста понял, что слова Ташко пришлись бею не по душе, и тут рука, словно сжимавшая горло, отпустила его и он договорил до конца то, что собирался сказать, если бы его не прервал Ташко:
— Припадаем к твоим стопам, бей! Мы в твоей власти, бей! Смилуйся над нами!
«Хе-хе! Этих бунтовщиков следовало бы хорошенько проучить, иначе они совсем обнаглеют. Разговаривают со мной так, будто они хозяева поместья, а не я. Вот и староста хочет заговорить мне зубы… Рако Ферра — тот другое дело, но он единственный», — подумал бей и затем решительно сказал:
— Послушай, староста! Я говорил уже тебе позавчера в Корче: требую своего по праву. Если бы даже сам аллах спустился с небес к вам на помощь, моего права у меня не отнять! Выбросьте эту дурь из головы! На моей стороне правительство, закон, полиция, сеймены, кьяхи. Советую вам хорошенько об этом поразмыслить, а не то придется вам за все это дорого поплатиться.
— О чем же нам размышлять, милостивый бей? Господин видит сам, каковы мы. Одна рубашка на теле, одна рогожка в доме. Что с нас взять! Лучше сам пожалуй к нам на уборку или пришли своих людей. Сосчитайте снопы, возьмите арманджилек, возьмите спахилек
[19], возьмите зерно на семена и увидите, что у нас останется, Вот как мы все думаем, — предложил дядя Коровеш.
Сказал мало, но к месту.
У Гьики просветлело лицо. «Дядя Коровеш может убедить любого, дельно сказал, ничего не возразишь! И Ташко хорошо говорит, только не всегда», — подумал он.
Остальным крестьянам тоже понравились слова старого Коровеша. Но Каплан-бея они снова привели в раздражение. Покусывая кончики усов, он поднялся с места, словно отыскивая, чем бы ударить старого крестьянина, обратившегося к нему с таким пылом, с таким независимым видом. Бей вспомнил жестокий завет своего покойного отца, который тот дал ему лет тридцать назад, вводя сына во владение здешним поместьем: «Помни, сын, в этом имении всегда водились опасные бунтовщики. Дритас кишит ими. Им надо свернуть шею, а не то жди от них беды!»
Разумеется, этот дерзкий молодой крестьянин, и старик, и помощник старосты — все они опасные бунтовщики, которые теперь осмелились поднять голову. Но им не провести Каплан-бея! Они еще узнают, с кем имеют дело! Сдохнут с голоду, как это случилось с крестьянами Горицы! Правительство его величества преподало им хороший урок, и тем хуже для здешних разбойников, если они не сделали для себя выводов из печального примера горичан.
Разгневанный бей встал с места. За ним поднялись приближенные.
— Я вижу, вы хотите разграбить мое имение, сожрать принадлежащий мне по праву хлеб! Вы все — и вы, старики, разговариваете, как тот молодой наглец. Но знайте, что я не только получу с вас свое по праву, но могу взять и ваши ничтожные жизни! Я вам еще покажу! — угрожающе закончил бей. И, пройдя мимо расступившихся крестьян, направился в свою башню.
Там он застал только что приехавших начальника общинного управления господина Лако, жандармского инспектора офицера Джемала и двух жандармов. Выполнив свою миссию в Каламасе, где они завтракали, обедали, ужинали и на следующий день снова завтракали и обедали, представители власти возвратились в Шён-Паль. Там им стало известно о прибытии Каплан-бея. Эта новость так обрадовала местных начальников, что они захлопали в ладоши.
— Как? К нам пожаловал сам Каплан-бей, а мы его не приветствовали! Разве это допустимо? — восклицали они.
И тут же один принялся распекать своего секретаря, а другой — старшего жандарма за то, что они не послали гонца в Каламас сообщить своим начальникам об этой радостной новости. Оба начальника сразу бы вернулись, чтобы должным образом встретить бея. Но теперь уже поздно. Ведь бей наверняка приехал в автомобиле и, покончив со своими делами в Дритасе, мог уже уехать обратно. Это обстоятельство их чрезвычайно беспокоило. Однако они решили ехать наугад и немедленно отправились в Дритас. Застанут ли они там бея — неизвестно, но это долг чести. У каждого, кто им встречался на дороге, спрашивали, находится ли еще бей в Дритасе. Наконец в Бигле от двух мальчуганов, которые шли из Дритаса на мельницу, они узнали, что бей намерен нынешнюю ночь провести в селе. Можно себе вообразить, как обрадовались представители местной власти, услышав, что их ожидает честь провести вечер в обществе Каплан-бея!
Всю ночь напролет в башне шел пир, всю ночь напролет в селе гремели выстрелы: это забавлялись бей, начальник общинного управления, жандармский инспектор, сеймены и жандармы. Всю ночь над озером, обычно таким тихим, стоял неумолкавший гул.
II
Каплан-бей возвратился в Корчу, твердо решив как следует проучить крестьян.
Особенно был он зол на Коровеша и на этого наглеца, сына Ндреко. Еще ни разу в жизни ему не приходилось выслушивать подобные речи от своих крестьян.
— Хорошо же! Эти разбойники, очевидно, не знают, какой ценой расплатились горичане, посмевшие посягнуть на собственность Малик-бея. Они собираются сесть мне на шею! Подождите! Не измеряйте тень по утреннему солнцу!.. — непрестанно повторял Каплан-бей, сидя в кафе со своими приятелями — беями и напыщенными городскими эфенди — и попивая для возбуждения аппетита раки.
— Ты должен их проучить! Они сами на это напрашиваются! Не то и впрямь сядут нам на шею, и тогда пиши пропало! Чернь стала подымать голову, и надо хорошенько стукнуть ее по этой голове молотком! — одобряли бея приятели.
Каплан-бей принадлежал к числу самых уважаемых лиц не только в Корче, но и во всей Албании. У него были дворцы в Корче и Тиране, прекрасная вилла на морском побережье в Дурресе и наконец вилла в Швейцарии, купленная года четыре тому назад и обставленная, как он сам рассказывал, по лучшим европейским образцам. Кроме того, он владел поместьем в Дритасе и несколькими имениями в районе Малика — некоторые из них он унаследовал от матери, другие взял в приданое за женой. Зиму бей проводил в Тиране, где мягкий климат, на своей красивой и удобной вилле в районе новой Тираны, — там обосновались самые сливки столичного общества: семьи политических деятелей и высшего офицерства. Место для этой виллы и средства на ее сооружение пожаловал Каплан-бею королевский двор в знак признательности за особые услуги, оказанные им албанскому государству. На лето бей обычно переселялся в Корчу, так как не выносил жары и пыли летних месяцев в столице. Иногда несколько месяцев в году он проводил в Европе, чаще всего в Швейцарии и в Париже.
Каплан-бей — один из самых известных албанских патриотов. В 1924 году, когда в Албании была провозглашена республика, его избрали депутатом. Жизненный путь Каплан-бея, как он сам утверждал перед своими избирателями — жителями Корчи и ее округи — накануне парламентских выборов, «был чист, как воды горного ручья».
Однако злые языки утверждали иное… До освобождения Албании из-под турецкого ига Каплан-бей, как и его отец Зюлюфтар-бей, был правой рукой турецких наместников, всяких мютесифиров, кади и вали, в Корче, Монастире и Янине. Он преследовал и притеснял всех, кто говорил по-албански и боролся за создание свободного Арнаутистана
[20], независимого от Оттоманской империи. Сколько раз гнался он по пятам за отрядом бесстрашного албанского патриота, непримиримого врага турок Чергиза Топулы! А в битве при Ормане не он ли сражался против патриотов Корчи? Не он ли с помощью своих шпионов заманил шестерых руководителей восстания в коварную ловушку?..
Когда же Албания добилась независимости, Каплан-бей отряхнул прах взрастившей его родной земли и бежал. В Монастире он делал все, чтобы повредить своей родине. Вместе с двумя такими же «патриотами», которые, однако, впоследствии стали министрами, он издавал на турецком языке газетку, которая ратовала против башибузуков, объявивших Албанию свободной и независимой. Перебравшись в Турцию, Каплан-бей верой и правдой служил султану. Когда же бразды правления перешли в руки «неверного» Мустафы Кемаля, Каплан-бей и там оказался не у дел; для него настали трудные времена. И тут он вспомнил о своих поместьях в Албании. И, как многие его приятели, в один прекрасный день «пламенный патриот Каплан-бей Душман» возвратился на родную землю. Он сразу же раскусил, что представляли собой люди, стоявшие тогда у кормила власти в Албании. Но и те в свою очередь поняли, кто такой Каплан-бей. «По кастрюле нашлась и крышка», как говорит народная пословица. И на первых же парламентских выборах в списках депутатов стояло имя Каплан-бея Душмана, великого патриота, которому долго приходилось есть горький хлеб на чужбине, обливая его слезами по родине, по дорогой Албании… И люди голосовали за него. Каплан-бей был избран!
В высших политических кругах Тираны Каплан-бея ценили как превосходного дипломата. Уже несколько раз возникал разговор о назначении его послом за границу, но двор отказывался от этого намерения, не желая расставаться с таким ценным советником. И Каплан-бей оставался в Тиране. Его часто можно было видеть в кафе, где он, сидя за столиком с представителями избранного общества, любил предаваться воспоминаниям о Турции: рассказывал о гаремах султана, о смуглых черноглазых турчанках, о прекрасной Дольме Бахче. Если же за столиком в общем зале кафе его не оказывалось, это значило, что он находится в одном из отдельных кабинетов, предназначенных лишь для министров и депутатов, где они проводили свободное время, остававшееся у них от государственных дел; с утра и нередко до утра следующего дня государственные мужи играли там в карты!
Таков был Каплан-бей Душман, сын Зюлюфтар-бея Душмана, связанный узами родства со многими другими беями, по линии то ли матери, то ли жены, то ли бабушки и дедушки! Большая у него родня — ничего не скажешь.
С тех пор как бей возвратился в Албанию, еще ни разу крестьяне не осмеливались ему противоречить, а тем более отказываться от уплаты оброка. Если бей уезжал за границу, деньги с крестьян его поместий собирал кто-нибудь из родственников и высылал ему туда, где он находился.
Какой же дьявол мутит теперь его крестьян? Сейчас ему нужно найти такого кьяхи, который мог бы сломить дух непокорности в этих бунтовщиках. Он не имел оснований быть недовольным своими кьяхи, но для этого нужен человек еще более жестокий, более суровый — такой, чтобы крестьяне трепетали от страха, только заслышав его голос. Один из близких друзей бея порекомендовал ему на эту должность некоего Кара Мустафу, уроженца Мокры.
Кара Мустафа — молодец, которого боялась вся округа настолько, что ему никогда не приходилось дважды повторять своих приказаний. На него можно было положиться.
— Вот такой человек мне и нужен! Я слышал о нем и от Малик-бея и от Кьязим-бея! — ударив кулаком по столу, воскликнул Каплан-бей, когда приятели, сидя с ним в кафе, посоветовали нанять Кара Мустафу.
И в Мокре, и во всей округе Корчи имя Кара Мустафы вселяло в крестьян страх. За дерзкое слово он собственноручно убил двух человек. Случалось, что он попадал в тюрьму, но удивительно быстро оттуда выбирался, и его снова можно было увидеть разгуливающим на свободе — Кара Мустафа сразу же устраивался либо сейменом, либо управителем поместья у какого-нибудь бея. В последнее время он обосновался в своем родном селе Мокре. Но и здесь пошел по своей проторенной дорожке: убил за смелые и прямые слова одного крестьянина, по имени Аслан Чена, — человека, которого все в селе любили и уважали. Года два назад Чена как-то сказал ему:
— Послушай, Кара Мустафа! Образумься, перестань притеснять народ, ведь ты губишь и женщин и малых детей!..
Но Кара Мустафа не такой человек, чтобы выслушивать нравоучения от какого-то Чены! И он тогда же пригрозил, что тот дорого заплатит за свои дерзкие речи. Когда Мустафа вернулся в село, бедный Чена поплатился за них головой.
Жандармы арестовали убийцу и препроводили в Корчу, в тюрьму. Вот уже два месяца, как он там сидит. Но Кара Мустафа понадобился Каплан-бею, чтобы держать в повиновении непокорных крестьян Дритаса, стало быть, Кара Мустафу надо освободить из заключения. Подумаешь, велика важность, что он убил у себя в Мокре какого-то дерзкого мужика! Разве мало их там осталось?
Каплан-бей написал в Тирану, и через несколько дней Кара Мустафа оказался на свободе, даже и не представ перед судом. Каплан-бей продержал его две недели при себе в Корче: хотел хорошенько втолковать ему, в чем будет состоять его новая работа, а заодно убедиться, можно ли вполне доверять этому человеку.
Все это время Кара Мустафа ходил по пятам за своим хозяином, насторожив, как заправская гончая, уши, изучая повадки и склонности своего господина, чтобы лучше ему угождать.
Хотя Каплан-бею уже под шестьдесят, но на вид ему нельзя было дать больше сорока пяти — настолько хорошо он сохранился. Раза три-четыре в неделю вечером он исчезал из своего дворца и отправлялся в южную часть города, где снимал дом. Часто он оставался там до утра и всю ночь предавался разврату с женщинами, которых при посредстве старых своден ему поставляли друзья. Ключи от этого таинственного дома хранились у толстой смуглой старухи — доверенной Каплан-бея. Говорили, что она бывшая кормилица бея и дом этот нанят для нее. Когда бей на лето перебирался из Тираны в Корчу, по ночам этот дом жил веселой, бурной жизнью. Здесь собирались близкие друзья бея: почтенные депутаты, беи, богатые купцы, иногда даже префект и комендант города. Они пьянствовали и играли в карты; к этому занятию обычно приступали ранним вечером и заканчивали его лишь наутро. Раза два в неделю здесь устраивались развлечения иного рода: в них принимали участие женщины, которых привозили с собой друзья бея. Ничего приятнее таких встреч нельзя было себе представить! Однако в этих увеселениях участвовали не женщины легкого поведения, которые предаются разврату ради денег, — такие попадали сюда лишь изредка. Нет, женщины приезжали, чтобы доставить себе удовольствие: пить, смеяться, развратничать; это были дамы из общества. Здесь они назначали свидания своим любовникам и, возвращаясь домой, часто увозили с собой ценные подарки своих щедрых поклонников: то золотое ожерелье, то браслет с драгоценными камнями.
Когда Каплан-бею надоедала шумная компания веселящихся друзей, он уединялся в отдельной комнате со своей избранницей и проводил там ночь.
Как-то раз бей услаждал себя обществом молодой цыганки, пленившей его не только своей красотой, но и замечательным пением. Он пил и закусывал, а эта плутовка, как любил называть ее бей, сидя у него на коленях и лаская его, напевала свои таборные песни. Она удивительно хорошо пела… В такие минуты Каплан-бей терял голову и превращался в ее раба: он вытаскивал из кармана все деньги, что при нем были, и бросал к ее ногам, а затем хватал эти маленькие босые ноги с блестящими раскрашенными ноготками и принимался страстно их целовать, шепча при этом имя, которое не было именем этой цыганки: «О Дольма Бахче, Дольма Бахче!..»
Раньше бею в этом доме прислуживал его старый сеймен Дервиш Лаке. Теперь же на эти две недели он взял сюда нового кьяхи, чтобы испытать его верность и расторопность. И Кара Мустафа старался изо всех сил, бодрствуя ночи напролет. Правда, закусок и раки у него было вволю. К полуночи в превосходном настроении он обычно отправлялся на кухню, к старой кормилице бея. Заигрывал с ней, даже лез целоваться, — все только для того, чтобы получить угощение, а она покрикивала и просила не мешать стряпать.
Первая жена бея умерла несколько лет назад. Вторая жена, госпожа Тидже, хотя ей уже было за сорок, превосходно сохранилась: полная, краснощекая, с большими черными глазами, окаймленными густыми бровями, с пышными волосами, иногда завитыми по последней моде, иногда скромно зачесанными назад. Как ни старался новый кьяхи, но ему никак не удавалось ни хорошенько рассмотреть, ни поговорить со своей госпожой. У нее была своя служанка Мереме, красивая девушка лет четырнадцати, сирота. Она поступила в услужение, чтобы прокормить своих двух маленьких братьев. В доме бея, кроме нее, было немало женской прислуги: повариха, судомойка, прачка, поломойка… Сеймены же либо слонялись без дела по двору, либо сидели в предназначенной для них комнате нижнего этажа. Кара Мустафа был человеком любопытным и повсюду совал свой нос, но ничего интересного так и не обнаружил.
Бывали дни, когда и госпожа Тидже исчезала из дворца. Куда она отправлялась, одному аллаху известно. Бей и его супруга не отдавали друг другу отчета в своих действиях, и каждый жил в свое удовольствие. Тем не менее иногда между ними вспыхивали ссоры, и шум поднимался такой, что становилось страшно: можно было подумать, что там, в верхних комнатах, грызутся собаки. И всякий раз в этих распрях первым складывал оружие Каплан-бей.
От первой жены у бея осталось двое детей: сын и дочь. Сын, Сефедин-бей, прославился на всю Корчу и ее округу своими дикими выходками. Ни за что ни про что он мог хватить кулаком первого встречного, войти в чужой дом и перевернуть там все вверх дном. Его боялись, как говорится, даже младенцы во чреве матери. Но все его проделки оставались безнаказанными. В описываемое нами время он отправился со своим сейменом в отцовское поместье в Малике, чтобы посмотреть, как там идет работа, а главное — поиздеваться над крестьянами.
Дочка бея, Сания, целые дни проводила в обществе своих подруг и светских молодых людей; любила наряжаться, постоянно меняла туалеты, завивалась у модного парикмахера. Все эти подробности о семействе бея Кара Мустафа узнал от Зельки — поварихи, с которой сразу же установил самые тесные дружеские отношения, главным образом ради того, чтобы получать куски пожирнее да повкуснее.
Наслышавшись от Зельки о красоте и распутстве госпожи, Кара Мустафа возымел дерзкое желание — хотя бы раз обнять свою хозяйку, коснуться этого прекрасного белого тела… То, что она была женой хозяина, только распаляло его страсть. Он мечтал об этом всю неделю перед отъездом в Дритас. Ходил чисто вымытый, тщательно причесанный, с закрученными усами.
Дня за два до отъезда как-то случилось, что бей, собираясь выйти из дому и уже дойдя до двери, вспомнил, что позабыл табакерку, и послал за ней Кара Мустафу. Кьяхи поспешно взбежал по лестнице на второй этаж и распахнул дверь кабинета бея. И тут он оказался лицом к лицу с госпожой. Белоснежная грудь ее была открыта, и тело, гибкое, как угорь, проступало сквозь тонкое, прозрачное платье. Женщина взглянула на него глазами, похожими на две крупные темные оливы.
У Кара Мустафы захватило дыхание. Он застыл на месте, глаза его расширились, вожделение овладело всем его существом. А она, не произнеся ни слова, скользнула, точь-в-точь как проворный угорь в воде, и скрылась за дверью.
Кара Мустафа тяжело вздохнул и, по своему обыкновению, принялся нервно покусывать кончики своих длинных усов. Но тут же вспомнил о поручении хозяина, взял табакерку, смущенный, спустился вниз и отдал ее бею.
— Да! Вот это женщина! Ее надо пить из чаши, как лучшее вино! — жадно облизывая губы, говорил Кара Мустафа своей приятельнице Зельке.
С той поры сумасшедшее желание заключить в свои объятия прекрасную госпожу преследовало его неотступно. Но через два дня ему пришлось выехать в Дритас, в поместье бея.
* * *
Июль на исходе, а серп жнеца еще не касался колосьев на полях Дритаса. От засухи они пожелтели, но не золотистой желтизной спелого плода, а тусклой, как лицо больного. От малейшего дуновения ветра, при взмахе крыльев пролетающей над полями птицы осыпались зерна.
Каждый вечер крестьяне готовили серпы и веревки для вязания снопов, надеясь, что с завтрашнего дня они смогут приступить к уборке, но каждое утро у околицы они видели сидящего на камне с ружьем в руке неусыпного стража Яшара — кьяхи бея.
Каплан-бей еще не дал распоряжения начинать уборку, и к тому же он еще не запродал в Корче и десятой доли нового урожая. Поэтому Яшар пригрозил, что свернет голову всякому, кто без разрешения бея приступит к жатве. Тщетно умоляли его крестьяне, старались разжалобить, даже предлагали взятку. Яшар от угощения не отказывался, но нарушить волю бея не мог.
— Если — и погибнет, так погибнет хлеб бея. Он сам и потерпит на этом убыток. А вы чего суете нос не в свое дело? Пришлет бей распоряжение начинать жатву — будем жать; не пришлет — не будем. А вы всего-навсего его батраки! — так отвечал Яшар на все просьбы и посулы.
И крестьяне отходили от него с поникшими головами, близкие к отчаянию.
— Прогневался на нас бог! Смотреть, как гибнет урожай!.. Не то что на семена — горстки муки и той не достанется!..
— Видеть, что давно пора начинать жатву, — и не сметь к ней приступить! Это ли не проклятие?
— Работать вместе с женами и детьми дни и ночи, с нетерпением ждать срока жатвы, возлагать на нее столько надежд, а теперь, когда наступило время, является бей и отсекает нам руки! — вздыхали и сетовали крестьяне, бросая на Яшара взгляды, полные ненависти.
— Хорошо бы взять его за горло и задушить тут же, на месте! Душу он из нас вымотал! Что за проклятая жизнь!.. — возмущались крестьяне.
А некоторые смотрели в землю с такой печалью, словно уже видели будущие могилы своих детей, которым угрожала голодная смерть.
— Придется нам без корки хлеба помирать. Зерна не хватит и на месяц!.. — говорили они.
Как неприкаянные, бродили крестьяне, подходили к обработанным участкам и с тоской смотрели на колосья, будто хотели их съесть глазами. Каждый колос — что родной ребенок… и, боже милостивый, он увядает!.. Птицы выклевывают из колосьев зерна, а крестьянам кажется, что это выклевывают им глаза! И ничего не поделаешь! Руки у них связаны, они не смеют спасать свой хлеб!
— Ой-ой!.. Гибнет пшеница, и поле, словно открытая могила… — вздыхал один.
— Что может быть страшнее, если хлеб пропадает на корню, разлагается, как труп? — добавлял другой.
И так каждое утро крестьяне с серпами в руках проходили вдоль участков, со слезами смотрели на них и потом, ожесточенные, отчаявшиеся, расходились по домам.
— Это проклятый Гьика нас погубил! А мы еще его слушали!.. Мы в руках бея — что он захочет, то с нами и сделает. Разве ему жалко, что погибает урожай? — говорил один из стариков.
— Правда, святая правда! И все это из-за Гьики! Вздумалось же дураку тягаться с беем, который сам себе господин, сам себе судья! Будто мы не видели, что стало с горичанами, когда они осмелились выступить против Малик-бея! — соглашался с ним другой.
— Ей-богу, следовало бы хорошенько набить морду этому Гьике, чтобы запомнил на всю жизнь! Чего он, прохвост, рыскает по селу, баламутит народ?.. Вот Рако Ферра — тот не дурак: делает свое дело, а бею на все говорит:
«Слушаюсь, бей! Будет исполнено, бей!». Ему-то ничего не запрещают: он и жнет, и молотит, и наполняет хлебом амбары. А мы зачахнем, дожидаясь начала уборки. Почему так получилось? Все из-за глупой болтовни Гьики, — к такому выводу приходил третий. — Не говори Гьика так дерзко с беем, все бы обошлось, и не пришлось бы теперь крестьянам мучиться, видя, как вянут колосья, как они осыпаются, будто падают слезы невест, внезапно ставших вдовами.
И ненависть всего села сосредоточилась на двух людях, которых мирская молва считала виновниками всех бед, — на кьяхи Яшаре и Гьике.
* * *
Уже в начале августа, как-то вечером, по селу распространилась радостная весть:
— Бей прислал свое слово — можно приступать к уборке!
Всю ночь напролет село кипело и жужжало, как пчелиный улей. Натачивали серпы, готовили мешки, застилали рогожей телеги, смазывали дегтем колеса. Все радовались, что наконец запрет снят!
В четыре часа утра, когда едва занялась заря, по улицам села двинулись телеги, кони и люди, направляясь к холму Бели, за которым лежат участки. Каждому хотелось начать работу пораньше, пока не взошло солнце и не наступила жара, обжигающая не только колосья, но и людей.
Как оживилась долина! Крестьяне вместе с женами и детьми поспешили начать жатву, стараясь, чтобы не пропал ни один колосок. Перед ними шумела пшеница, а позади из срезанных колосьев вырастали снопы.
На второй день уборки в село пожаловал новый кьяхи и заявил, что за оброком явится сам бей.
Право на изъятие десятины продавалось в Корчинской префектуре. Как обычно, претендентов на покупку у государства этого спахилека можно было пересчитать по пальцам. И все эти постоянные покупатели, главным образом беи — владельцы поместий, находились в приятельских отношениях с местными властями. В торгах принимали участие и деревенские старосты, собиравшиеся откупить десятину для своей общины. Но торги, как правило, затягивались на несколько дней, и старостам не было никакого смысла задерживаться в Корче и напрасно тратиться, так что в конце концов право на десятину покупали «свои люди», а старосты возвращались по деревням не солоно хлебавши. Счастливые обладатели этих десятин в сопровождении своих подручных тотчас же пускались в поход по окрестным селам. Тут-то и начиналась трагедия взимания с крестьян спахилека. Обычно беи приобретали это право не на одно село, а на три-четыре, а иногда и на десять. Так устраивали благосклонные к ним власти, ибо с одного села много не взять. А вот с пяти-шести уже кое-что наберется, и тогда бей сунет немалую толику в благодарность и финансовому инспектору, и самому префекту, и начальнику общинного управления. Последнему только за то, что он — если это потребуется — нажмет на крестьян и заставит их исправно сдавать спахилек. Изредка этот налог взимали и сами сельские старосты, но так случалось только в наибеднейших селах, затерявшихся далеко в горах, куда беям невыгодно было забираться. Бывало и так, что, когда начиналась продажа этой государственной десятины, какой-нибудь бей посылал в деревню, где шли уборочные работы, своих доверенных кьяхи, будто в помощь крестьянам, а на самом деле для слежки за ними. В это же время бей без особых трудностей сговаривался с государственной казной в Корче, вносил ничтожную сумму и покупал таким образом право на спахилек и со своего собственного села. Так и поступил в нынешнем году Каплан-бей.
В это время в селе появился новый кьяхи.
— Ого! Посмотрите-ка: настоящий леший! — окрестили его в селе, едва только увидели.
Кара Мустафа, который пожаловал в Дритас, был высокого роста, широкоплечий, глаза его слегка косили; изо рта торчали, похожие на крючки, два крупных гнилых зуба, от которых так дурно пахло, что рядом с Мустафой нельзя было стоять — тошнило. На нем была поношенная бархатная жилетка с вышивкой, старый пиджак из солдатского сукна и штаны, державшиеся на туго затянутом красном поясе; ноги его были обуты в тяжелые солдатские бутсы, от щиколотки и до колен обернуты темными обмотками. На груди висел патронташ. С шеи спускалась витая серебряная цепочка от часов, часы же он носил в жилетном кармане. Их подарил ему один преступник — убийца, с которым Мустафа подружился в тюрьме. За поясом у Кара Мустафы торчал револьвер с отделанной янтарем ручкой и большой нож с костяной рукояткой. Куда бы он ни отправлялся, непременно захватывал с собой ружье, словно собирался на охоту или пускался за кем-то в погоню.
Оба кьяхи неустанно следили за крестьянами. Ходили от межи к меже, от одного участка к другому. При их приближении крестьяне жали еще усерднее и, склонившись над колосьями, искоса бросали полные ненависти взгляды на медленно и важно проходивших вооруженных кьяхи, с дымящимися трубками в зубах.
— Эй, ты! Если со своего поля не соберешь пяти шиников, я тебе хребет перебью! — с таким приветствием, подходя к первому крестьянину, обратился Леший.
Этим крестьянином оказался дядя Постол. Старик поднял голову и чуть насмешливо взглянул в глаза Мустафе.
— Будь спокоен, кьяхи эфенди! Давай-ка познакомимся, а что до урожая, то все, что нам бог дал, все сполна вручим нашему бею!
Затем старик пригласил кьяхи присесть в тени сливового дерева и раскрыл перед ним табакерку.
— Хе-хе! Уж не собираешься ли ты, старый волк, задобрить меня табаком? Слушай, что я тебе говорю: или соберешь пять шиников, или жди беды! — еще раз повторил свою угрозу Леший и пошел на соседнее поле.
Дядя Постол печально покачал головой:
— Вот это да! Свалился нам на голову Леший!
Жницы, повернув потные лица, увидели, что дядя Постол как вкопанный стоит посреди поля с веревкой в руке.
— Вот прислал нам на горе такого человека бей! — и старик снова принялся вязать снопы.
На соседнем поле трудились жена Шумара и его дочка. Леший тотчас же придрался, почему нет мужчины.
— Эй, разбойница! А где твой мужик? Уж не отправился ли он воровать добро нашего бея?
Шумарица подняла голову, стерла рукавом пот со лба, испуганно посмотрела на кьяхи и ответила:
— Муж поехал на мельницу, эфенди! А снопы я и сама могу связать.
— Этакая молодчина! — и Кара Мустафа расхохотался, обнажив свои два клыка и подмигнув сопровождавшему его Яшару. — Та, что помоложе, нравится мне куда больше! — добавил он, покусывая кончики усов.
Кьяхи пошли дальше. Уже отойдя на значительное расстояние, Кара Мустафа оглянулся: хотел еще раз посмотреть на молодую девушку, даже не поднявшую головы, когда он проходил мимо.
Так они перешли на поле Калеша. Здесь, распарившись от зноя и обливаясь потом, жали шесть женщин. Мальчик Стаси вязал снопы, а сам Калеш шел сзади и подбирал опадавшие колосья. В ту минуту, когда к ним подходили кьяхи, дядя Калеш говорил сыну:
— Подожди, сынок, рано еще вязать снопы. Жарко очень, и колосья сразу осыпаются. Вот пусть спадет жара и тогда вечером, с божьей помощью…
Последние слова услышали кьяхи.
— Ты что, старый колдун, замышляешь? Вязать снопы вечером? Чтоб легче было воровать?.. Я покажу тебе — вечером! Здесь, на месте, сверну тебе шею! Будешь знать, что меня зовут Кара Мустафа! Я родом из Мокры — у нас народ бывалый, меня не проведешь! Тебе не утаить ни зернышка! — заорал новый надсмотрщик.
— Но, милостивый эфенди, я только сказал мальчику, что будем вязать снопы вечером, потому что сейчас от жары колос осыпается… Ничего другого я не говорил… — стал оправдываться старик.
— Ты меня не проведешь! А вот за это доставишь мне сегодня в башню бюрек, да такой, чтоб с него масло стекало! Иначе — плохи твои дела! — приказал Леший и, метнув плотоядный взгляд на женщин, двинулся дальше.
— Хорошо, что ты вспомнил про бюрек! — заметил Яшар.
— Если этим свиньям сто раз не долбить одно и то же, сами не раскачаются!
Миновав рощу, оба кьяхи вышли на поле Мало. Здесь работали пять жниц, но не было ни одного мужчины. Женщины разговаривали и чему-то смеялись. Кьяхи подкрались к ним на цыпочках, держа наготове ружья, будто охотились на уток.
— Посмотри на ту, что посредине, — какие ноги!..
— А у той какие икры!
В это время одна из женщин вскрикнула. Все в испуге подняли головы. Некоторые даже выронили серпы.
— Ха-ха-ха! До чего пугливые! — разразились хохотом кьяхи. — Да вы не бойтесь, это мы!
Женщины узнали Яшара эфенди и сразу догадались, что его спутник — новый кьяхи.
— Хе-хе… Мы здесь хорошо повеселимся! — радостно захохотал Кара Мустафа.
Посвистывая и бросая на женщин хищные взгляды, кьяхи отошли и расположились на отдых в тени большой чинары. Здесь их уже ждал обед, приготовленный Рако Ферра, на этот раз из своих собственных продуктов.
Зной стоял нестерпимый. Хлеб чуть ли не сгорал на солнце. Измученные жарой жнецы и жницы откладывали серпы и садились где-нибудь в тени обедать. Другие же, обливаясь потом, продолжали работать, не давая себе передышки. Кое-кто из стариков дремал около снопов. Изредка слышался короткий девичий смех или плач ребенка. Без умолку стрекотали цикады.
Вдруг со стороны поля Залле донесся громкий напев; невеселые слова были у этой песни — в них звучали и ненависть, и дерзкий вызов. Пели мужские и женские голоса:
Нынче Дритас с беем в ссоре.
Ой, ой, ой!
Бей явился нам на горе!
Ой, ой, ой!
Он и жаден и жесток —
Ой, ой, ой!
Подавай ему оброк!
Ой, ой, ой!
Все крестьяне прислушались к песне. Прислушались к ней и оба кьяхи, отдыхавшие под чинарой.
— Как будто слышу знакомый голос. И песню поют какую-то дурацкую…
— Разумеется, это он. И поле его — в той стороне. А песня продолжалась:
Ты послушай, эфенди!
Ой, ой, ой!
С нас оброка ты не жди!
Ой, ой, ой!
Знай, что наша сторона —
Ой, ой, ой!
И бедна и голодна!
Ой, ой, ой!
Тот, кто жевал хлеб, переставал есть, кто дремал, мигом стряхивал с себя сон; все — кто сидя со скрещенными по-турецки ногами, кто лежа врастяжку под деревом — словом, все, кто был в поле, с большим вниманием вслушивались в слова новой песни.
— А ведь хороша песня!..
— Не подтянуть ли и нам?
— Что ты, что ты! Здесь же кьяхи…
— Надо бы предупредить — пусть поют потише. Ведь у этих двух разбойников тоже есть уши. Поймут, о чем поется в песне, и тогда…
— А не пойти ли и нам туда? Так жарко, что жать невмоготу. Подождем, пока спадет зной. А ну, идемте! — и с этими словами несколько девушек поднялись и пошли к полю Залле.
Теперь песня раздавалась еще громче, еще сильнее зазвучали в ней гнев и угроза. Звуки ее разносились по межам и полям, достигали озера, и казалось, что этот гневный призыв исходит от самой земли, от вод озера, от колосьев, испепеляемых солнцем…
— Чего это мужичье так разоралось?.. Мешают нам разговаривать… — сердито проговорил Кара Мустафа.
Рако Ферра в ответ только покачал головой:
— Я уверен, что это затеял сорванец, сын Ндреко.
— Кто бы ни затеял, но за такие песни им надо ребра переломать! Про кого осмеливаются петь эти хамы? Про бея, про эфенди! Оскорбление для этих благородных имен, что презренное мужичье осмеливается упоминать их в своих песнях! Разве не правда? — раздраженно ворчал Кара Мустафа, жуя бюрек с сыром.
Рако кивнул в ответ. А Яшар, уплетая бюрек, по-видимому, не слышал ни песни, ни последних слов Кара Мустафы.
— Вот это бюрек! Хорош! — воскликнул он, покончив с едой. Затем достал коробку с табаком, скрутил сигарету и закурил.
— Рады сегодня крестьяне — ишь, как распелись! — сказал он и растянулся на спине.
— Знаешь, Рако, что мы должны сделать? Пойдем и разузнаем, кто зачинщик. Что ты на это скажешь, Яшар? — спросил Кара Мустафа.
— Делайте, что хотите, а меня клонит ко сну. Вот докурю и вздремну малость. А вы идите, — откликнулся Яшар, даже не сдвинувшись с места.
Рако Ферра тоже не улыбалось предложение Мустафы.
— Отправляйся с пойяком, а мне нужно похлопотать по хозяйству.
Кара Мустафа не настаивал. Он опоясался патронташем, взял в правую руку ружье, сунул в рот трубку и, захватив с собой пойяка, двинулся в путь.
Переходя с межи на межу, они добрались до поля Залле.
— Послушай, надо бы в роще пошарить: не прячут ли там мужики снопы? Смотри же, не забудь!
— Будет исполнено, эфенди!
Девушки, едва увидели Лешего и пойяка, сразу оборвали песню и, встревоженные, стали о чем-то шептаться…
— Что же вы замолчали, голоса лишились, что ли? Пойте же! Повторите еще раз, чтобы лучше запомнить слова. А что до опингов, так я каждой из вас починю, если они у вас порвались. Ну, давайте петь, — раздался громкий голос Гьики.
Он сидел в сторонке и тачал шилом порванный опинг. Рядом с ним, с малюткой на руках, сидела его жена Рина. Ребенок тянулся к матери и обнимал ее своими маленькими пухлыми ручонками.
Но девушки словно онемели.
— Ну, что же вы? Или уже успели позабыть? Вот как начинается песня… — и Гьика запел:
Нынче Дритас с беем в ссоре…
— Эй, Гьика! Что ты здесь делаешь? — перебил его пойяк.
Гьика хотел было встать, но раздумал. Бросив пренебрежительный взгляд на подошедших, он сделал вид, что ищет упавшее на землю шило, и спокойно ответил:
— Разве не видишь? Чиню опинги!
Между тем девушки одна за другой разошлись в разные стороны. Гьика и его жена остались наедине с непрошеными гостями. Гьика продолжал чинить опинги.
Кара Мустафа взглянул на молодую женщину.
«Красивая баба!» — подумал он.
Ребенок потянулся ручонками к серебряной цепочке и патронташу на груди кьяхи. Тот улыбнулся, обнажив свои клыки, и наклонился к ребенку: ему хотелось поближе посмотреть в лицо красивой матери. Но, увидев перед собой рожу Кара Мустафы, мальчик испугался и разразился громким плачем.
Кара Мустафа скривил губы. «И из этого вырастет такой же разбойник, как и его отец!» — решил он. Посмотрел по сторонам, и снова взгляд его устремился к Рине. Хотел найти какой-нибудь предлог, чтобы завязать беседу и побыть около нее подольше, но ничего не придумал. А этот наглый мужик сидел, скрестив ноги, словно ему и дела никакого, что перед ним кьяхи бея! Но он не решился как следует отругать Гьику — оробел, словно эта ясноглазая красавица околдовала его. Мустафа подмигнул своему спутнику: пойдем дальше!
— Прощай, Гьика! Счастливо оставаться! — сказал пойяк.
— Счастливого пути! Ах, забыл предложить вам сигарету! — крикнул им вслед Гьика, когда они уже отошли довольно далеко.
— Каков наглец! Как задирает нос! Даже не поднялся с места при моем приближении!.. Но я еще ему покажу, голову сверну этой свинье!.. — возмущался и грозился Леший, возвратившись под чинару, где его дожидались приятели.
— Ты еще услышишь о нем! — сказал Яшар, протирая глаза после сна.
— Давно пора за него взяться! — со своей стороны заметил Рако.
— Пусть только осмелится!.. Не знаю, как я удержался и не набил ему морду. Не будь там женщины, я бы это сделал. Но, даю вам слово, скоро он будет в струнку вытягиваться, едва меня завидит на расстоянии пятидесяти шагов! Меня зовут Кара Мустафа, и я из Мокры! — закончил разгневанный Леший, ударив себя кулаком в грудь.
Кьяхи снова двинулись в обход. Почти все крестьяне в это время обедали. Кьяхи подошли к участку Зизела. Пятнадцать человек — мужчины, женщины и дети — сидели в кругу и ели. У каждого в руке был кусок кукурузного хлеба, немного творога и лук. К этому — соль и перец. Почувствовав запах лука, кьяхи сморщили носы.
— Просим с нами откушать! — обратился к пришедшим глава семьи Зизел, и все его домочадцы приподнялись со своих мест.
— Спасибо, спасибо! — поблагодарили кьяхи, приложив руки к груди, и тут же отправились дальше — на участок Боко.
Семья Боко состояла из семи душ — четырех женщин, двоих мужчин и ребенка. Ребенок, у которого рот был набит кукурузным хлебом, увидев кьяхи, задрожал от страха и спрятался за спину матери.
— Обедаете? — спросил Леший, покручивая усы.
— С твоего соизволения, обедаем, кьяхи эфенди! Окажи честь, откушай с нами! — ответил Боко.
— Спасибо, спасибо! Ешьте себе на здоровье! — отказались от угощения кьяхи и, заткнув пальцами носы, пошли дальше.
Так побывали они на полях и Мало, и Шемо, и Барули, и Тушара. И всюду им предлагали разделить трапезу, и всюду они отказывались. Везде на обед был лишь кукурузный хлеб, кислый творог да вонючий лук.
— Вот дикий народ! Даже и есть как следует не умеют: творог да лук!.. — возмутился Леший.
— Чего можно от них ждать? Дрянной народ! Умеют только воровать да бунтовать! Создал же бог таких разбойников!
— В таком тряпье ходят, что собаке некуда зубами впиться! Прохвосты!
— Но среди женщин попадаются и прехорошенькие! Поймать бы одну из них где-нибудь в роще!..
Беседуя таким образом, оба кьяхи в сопровождении пойяка возвратились под сень чинары и улеглись, собираясь хорошенько поспать.
Теперь в поле не осталось ни души, все отдыхали в тени деревьев. Было тихо. И только по-прежнему без умолку стрекотали цикады.
А когда спала жара, поле вновь ожило. Крестьяне возобновили жатву. Здесь и там затягивали песни. Девушки вполголоса напевали запомнившиеся им слова из новой песни, которой научил их Гьика. И снова от межи к меже, от участка к участку пошли в обход кьяхи. Зорко следили они за крестьянами, чтобы никто не утаил ни одного снопа, ни одного зерна. Затем они направились к роще, и вскоре скалы над озером огласились эхом выстрелов.
— Уж не вздумали ли наши кьяхи охотиться? — удивились крестьяне.
Но они не охотились, а состязались в стрельбе по мишени. Вдоволь настрелявшись, они вернулись в поле, еще более чванливые и гордые, обсуждая результаты стрельбы — кто из них сделал больше метких выстрелов.
От чинары на участке Рако Ферра послышался громкий клич пойяка:
— Эй, слуша-а-а-ай! Сейчас кьяхи эфенди начнут подсчитывать снопы! Прекратить работу, больше снопов не вязать! Эй, слуша-а-а-ай! Кьяхи эфенди начинают подсчет снопов! Приготовьте дощечки для отметок! Эй, слуша-а-а-ай! Кьяхи эфенди начинают подсчет снопов!..
Проверка началась с Шоро.
— А ну-ка живо пересчитай снопы, и мы отметим на дощечке, — распорядился Яшар.
Шоро почесал затылок:
— Давайте считать вместе. А лучше отложить это на завтра: ведь я еще не успел дожать.
— На завтра? Это чтоб сегодня вечером тебе можно было воровать? Плут!
— Помилуйте, эфенди! Как я смогу украсть? Мне и сноп спрятать негде.
— Не заговаривай зубы, мошенник! Итак, начинаем: один, два, три, четыре… пятнадцать… двадцать пять…
Шоро опять почесал затылок:
— Мне сдается, вы малость обсчитались: здесь двадцать два снопа, а не двадцать пять.
— Плут! Наглец!.. Ну что ж! Пересчитаем еще раз: один, два, три… десять… пятнадцать… двадцать… двадцать пять!
— Двадцать два! — стоял на своем Шоро.
— Эх, дуралей! Тут у тебя еще хватит на четыре снопа! Ну, так и быть! Один оставим тебе, три засчитаем. Как раз и выйдет двадцать пять.
Но здесь не наберется колосков и на полтора снопа!
— Э, да что там толковать! Подавай сюда свою дощечку и зарубим на ней двадцать пять снопов, хотя следовало бы взять больше — в виде штрафа, чтобы отбить у тебя охоту учить нас, как нужно считать!
Волей-неволей Шоро вытаскивает из-за пояса дощечку и подает ее Яшару. Кьяхи ножом делает на дощечке условленные зарубки, долженствующие обозначить цифру двадцать пять.
— Чтоб вы лопнули со всеми своими чадами и домочадцами! — ругается Шоро вслед уходящим надсмотрщикам.
Кьяхи направляются на участок к соседу Шоро. Это поле дяди Коровеша. Двенадцать человек — члены его семьи — усердно жнут. Никто из них даже глаз не поднял на подошедших. Один лишь Коровеш встречает кьяхи: предлагает им табаку, почтительно приветствует, в особенности нового кьяхи. Поговорив с ним немного, кьяхи приступают к подсчету. Считает Кара Мустафа:
— Один, два, три, четыре… двадцать… тридцать… сорок шесть. Яшар-ага! Отметь здесь на дощечке: сорок шесть.
— Вы ошиблись: здесь не больше тридцати девяти… — раздается голос Ндони, сына дяди Коровеша. Он все время усердно жал, Но, услышав результат подсчета, сразу же прервал работу и подошел ближе.
— Эй, ты! Занимайся лучше делом и не суйся, когда тебя не спрашивают! Мы говорим не с тобой, а с дядей Коровешем. Он лучше знает! — огрызается Яшар.
— Да, занимайся делом, сынок! Мы тут с кьяхи эфенди разберемся сами. Ах, совсем позабыл!.. Сбегай-ка, Ндоневица, принеси бутылочку раки. Наши ага, наверно, устали, и им не грех подкрепиться! — обратился дядя Коровеш к невестке.
Та побежала, тут же возвратилась с бутылкой раки и подала ее старику.
— Приложитесь разок, а то ведь, небось, измучились за день! — и дядя Коровеш протянул непрошеным гостям бутылку.
Кьяхи переглянулись. Яшар не заставил себя упрашивать: приложился к бутылке и — буль-буль-буль! — отхватил больше половины ее содержимого. Кара Мустафа допил остальное и, не задерживаясь дольше, отправился на соседний участок.
— Эх, дядя Коровеш! Хоть Рако Ферра и говорит про тебя плохое, я этому не верю. Ты душа человек, и уста у тебя медовые. Ну, подавай сюда свою дощечку! Я уж знаю, сколько за тобой записать снопов! — обратился Яшар к старику тоном самого задушевного друга, желающего ему только добра. На дощечке он сделал зарубку, обозначавшую тридцать два снопа.
— Вот возьми да не забудь прислать нам вечером в башню еще одну бутылочку.
С соседнего поля — это было поле дяди Калеша — донесся голос второго кьяхи:
— Иди же скорей, Яшар… Темнеет.
— Все они жадные, все норовят хоть что-нибудь хапнуть. Но одним глотком раки их можно умилостивить, — сказал Коровеш сыну, показывая ему дощечку, на которой было отмечено уже не сорок шесть, даже не тридцать девять, а всего лишь тридцать два снопа.
А кьяхи, сопровождаемые пойяком, переходили с одного крестьянского поля на другое и — где ругаясь и угрожая, а где ласково беседуя — продолжали подсчет снопов. Закончили они его поздно вечером.
Все, что за день жнецы успели связать в снопы, отметили на дощечках. Этот подсчет кьяхи производили по приказу бея в конце каждого дня уборки и у каждого семейства в отдельности. Грамоты они не знали, но превосходно обходились дощечками, делая на них нужное число зарубок. Яшар с течением времени наловчился в этом деле; он подсчитывал снопы таким способом, что потом мог сравнить итоги с количеством шиников, полученным после молотьбы; определенному числу снопов соответствовало определенное количество шиников. Прекрасный способ блюсти интересы Каплан-бея!
Крестьяне тщательно хранили дощечки и носили их у себя за пазухой. Если потеряешь дощечку, ничем не докажешь, сколько у тебя было снопов, и придется отдать зерна в три-четыре раза больше, чем следует.
На поля, на спокойную гладь озера спустился вечерний сумрак. Кое-кто из крестьян еще оставался в поле. На каждом участке кьяхи устанавливали веху; до этого места все сжато, снопы связаны и пересчитаны. Дальше этой вехи крестьяне могли продолжать жатву, но не имели права вязать снопы.
Из-за горных вершин показалась полная луна. В ее свете серебряным зеркалом заблестела поверхность дремлющего озера. Кое-где еще продолжалась жатва в вечерней прохладе, при луне.
Лунные отблески падают на серпы, скользят по бусам и серьгам девушек, и чудится, что на груди каждой вспыхивают тысячи золотых искр.
На межах, смеясь, переговариваются юноши и девушки. У них есть, что рассказать о каждой паре: о тех, кто уже поженился, кто только помолвлен, или о тех, кто только-только полюбил друг друга.
Вот, например, прошел слух, будто сын Боко, молодой Карагьоз, собирается жениться на Розе, дочери Думо. Но известно, что Роза скорее утопится в озере, чем пойдет замуж за Карагьоза! Рассказывают, что она хочет выйти не за Карагьоза, а за его старшего брата Пеко, который где-то работает шофером.
Николина, дочка Данго, еще ни с кем не обручена: она дожидается, пока вернется с заработков сын Стаси. И ждет она его уже не год и не два, а целых пять лет! И после этого еще говорят, что на свете не существует любви! Как же так не существует? Дни проходят за днями, сколько пригожих парней за ней увивается, а она все ждет и ждет одного, исчезнувшего без следа, о котором ничего не известно, ничего не слышно! Вот это девушка! И любит, и ждет…
Говорят, что Нуни, сын Шемо, собирается похитить Кёлу, дочь Шумара, — ни она не хочет выйти за него замуж, ни родители ее не отдают. Но парень вбил себе в голову: или она, или смерть! И тогда Селим Длинный — великий мастер устраивать свадьбы с похищением невесты — пообещал Нуни, что в один прекрасный день доставит ему любимую девушку прямо в пастушеский стан, — пусть только Нуни не поскупится и приготовит для Селима за услуги пять золотых наполеонов.
Про Виту, дочку Ндреко, утверждают — и это верно, как дважды два четыре! — что она выйдет за Бойко, сына Терпо. И подходящая будет пара: бедняк женится на беднячке! У горемычного Терпо нет даже хромого осла свезти зерно на мельницу. И семейство Ндреко не богаче. Один только Гьика кое-как поддерживает семью; без него им пришлось бы еще хуже, чем Терпо.
Кому повезло, так это Петри Зарче: он берет себе в жены дочку самого Рако Ферра, Василику! У Зарче и штанов порядочных нету, а у Рако Ферра дом — полная чаша! Посчастливилось человеку, ничего не скажешь!..
Так разговаривали между собой юноши и девушки. Старики же следили, чтобы не пропало ни единого зернышка.
— И половины всего нам не собрать!
— Значит, не получим семян для посева!
— Подсчитают снопы, взвесят зерно, а сколько пропало на поле — до этого им и дела нет!
— Оберут они нас, погубят… — заранее сетовали крестьяне.
А кьяхи продолжали рыскать по полям и для пущей острастки время от времени палили из ружей.
— Пусть не думают, разбойники, что мы ушли! Пусть побаиваются! — посмеивались они, то и дело прикладываясь к бутылке раки, доставленной им Ферра.
Страда на поле продолжалась целых две недели, и за все это время никто в селе, даже дети, не знал отдыха. А кьяхи изо дня в день занимались одним и тем же: рыскали по полям, приставали к женщинам, шутили, стреляли из ружей, валялись на траве в тени деревьев, ели, пили и ругали крестьян.
III
Не прошло и шести месяцев, как по селу распространилась удивительная новость: семьи Ферра и Зарче действительно породнятся между собой. Никто бы этому не поверил, никому бы не пришло в голову, что такое может случиться. Однако наступил день, и крестьяне собственными глазами увидели, как из дома Рако Ферра понесли полную торбу в дом Зарче и такую же торбу из дома Зарче понесли в дом Ферра. Василика, дочка Рако, выходит замуж за Петри, сына Зарче. Петри — парень неплохой, но разве такой бедняк, как Зарче, мог думать о том, чтобы породниться с семьей Ферра? А все, видать, так и получится. Как же это случилось?
Петри лет восемнадцать-двадцать. Парень он красивый: белокурый, синеглазый, краснощекий. Рос в горах, где пас небольшое стадо. Он был далек от повседневных забот, которые тревожат в селе каждую семью. Обо всем этом думал его отец. Своего хлеба им хватало лишь на четыре месяца в году. Остальное время они кое-как перебивались, торгуя углем и дровами, продавая скот. Всем этим занимался отец, а Петри все время проводил в горах, где он пас скот. От мальчика ничего другого не требовалось, как беречь скотину. Он мог мастерить себе дудки и, лежа в тени, играть на них — больше он ничему не научился. И поэтому, когда ему пришлось впервые отправиться в Корчу, он не умел даже как следует нагрузить дровами осла.
Своих овец он пас невдалеке от стада Ферра. Каждое утро и каждый вечер вместе с его сестрой приходила в горы дочка Рако Василика — она тоже приносила пищу пастухам, — и поэтому Петри доводилось часто с ней встречаться. Они вместе сгребали дубовую листву на корм скоту и отправлялись в лес за сучьями. Петри настолько подружился с Василикой, что сначала помогал ей и только потом собирал листву для себя.
Тилькевица — жена Тильки, брата Рако, не раз со смехом говорила:
— Подрастай, Петри, набирайся сил, так и быть, отдадим за тебя Василику…
Молодые люди краснели, но им было приятно это слышать, и они обменивались такими взглядами, будто все уже свершилось.
Как-то зимой женщины из семьи Ферра вместе с Петри возвращались из лесу, нагруженные хворостом. Падал такой густой снег и так завьюжило, что в нескольких шагах не было видно друг друга. Петри шел впереди, прокладывая путь, но снег сразу же заметал его следы. Вокруг гудел лес, в долине лежали сугробы. С трудом пробирались они к селу, нагруженные, с замерзшими руками. Устали все так, что не приведи бог! Иногда останавливались отдохнуть, держась за ветки можжевельника. Наконец начали спускаться по склону горы. Теперь вьюга била им прямо в глаза. Все дрожали от холода. Женщины шли, не разбирая дороги. Петри поскользнулся, но сразу же поднялся. Василика, шедшая последней, бросилась к нему, но оступилась и упала. Ветки можжевельника осыпали ее снегом. Все в страхе закричали, но ни одна из женщин, шедших впереди, не могла ей помочь — никто не мог ни сгрузить с себя хворост, ни даже шевельнуть рукой. А из мужчин здесь был один Петри. Он с трудом развязал веревку, снял со спины груз и поспешил на помощь Василике. Она лежала под тяжелой вязанкой хвороста, почти засыпанная снегом. Петри стал оттирать ей руки и с большим трудом поднял девушку. Что с ней сделалось! Головной платок остался на ветке можжевельника, волосы растрепались и спустились на раскрасневшееся лицо. В глазах застыл страх.
— Ой, ой, несчастная я! — лепетала девушка, и слезы катились по ее щекам.
Петри отряхнул с нее снег, снял с можжевельника платок и, повязав ей на голову, погладил Василику по лицу, как ребенка.
Он поднес к губам ее оледеневшие пальцы и стал их отогревать своим теплым дыханием. А она только бормотала:
— Ох, замерзла я, совсем замерзла!
Застегивая ей куртку, Петри нечаянно коснулся груди девушки. Дрожь прошла по его телу. В эту минуту он забыл и о снеге, и о вьюге, и обо всем на свете.
— Ой! Рук не чувствую, пальцев не чувствую! Помоги мне, Петри! — повторяла Василика.
Юноша не знал, как ее согреть. Он и дул ей на пальцы, и тер их.
Затем, бросив вязанки, они взялись за руки и побежали вниз по склону. Скользили и летели, как две преследуемые птицы, пока наконец не добежали до села.
Это происшествие еще больше их сблизило, они стали встречаться втроем, вместе с сестрой Петри — Леной, вместе читали, в особенности по воскресеньям.
Дома Зарче и Ферра стояли неподалеку друг от друга и были разделены только небольшим холмиком. На вершине этого холма девушки обычно встречались.
— Как я буду счастлива, когда ты выйдешь замуж за Петри! — часто говорила Василике Лена.
Василика краснела, и в глазах у нее вспыхивали искры. Стараясь прикрыть смущение смехом, она отшучивалась:
— Что за глупости!
На самом же деле ей было приятно слышать такие слова. Она страдала, если долго не видела Петри, вспоминала тот памятный вьюжный день, когда Петри отогревал ее ладони, вспоминала его лицо, его взгляд…
В один из весенних дней Петри отправился на пастушеский стан. Чтобы скоротать время и не сидеть без дела, он принялся выстругивать палочку для наматывания пряжи. Вокруг все было полно цветов. Он нарвал для сестры большой букет, прикрепил его к палке и уже собрался домой. Путь его пролегал мимо стана Ферро. Там на лужайке лежала овца с новорожденным ягненочком. Рядом сидела Василика и вязала. Когда Петри приблизился к стану, овцы, почуяв чужого, всполошились. Василика встала, чтобы посмотреть, в чем дело, и, к своему большому удивлению, оказалась лицом к лицу с Петри. Оба от неожиданности остановились в нескольких шагах друг от друга. Она накинула на голову белый платок. Сердце у нее забилось сильнее, щеки покраснели. Петри стоял перед ней в расшитой цветными нитками жилетке, с засученными рукавами, опоясанный широким поясом и в новеньких опингах, которые за две недели перед тем ему купил отец. В одной руке он держал пастушеский посох, в другой — палочку, к концу которой был прикреплен большой букет из колокольчиков и фиалок. Белокурый чуб свисал ему на лоб, легкий ветерок шевелил волосы. Так молча стояли они друг против друга, а кругом бродили овцы. Ничего не было слышно, кроме шелеста листвы и нежного блеяния овец. Солнечные лучи падали на разноцветные бусы на шее Василики, и бусы загорались тысячами сверкающих искр.
Петри радостными, смеющимися глазами смотрел на девушку, а затем, не раздумывая, отбросил посох, отбросил цветы, обнял ее обеими руками и принялся жадно целовать… целовал ее в губы, в щеки, в глаза, целовал как обезумевший.
— Василика, Василика моя! — шептал он.
Когда ей удалось наконец вырваться из объятий Петри, лицо ее пламенело.
— Вот, возьми! — крикнул он, вкладывая в руку девушки букет. И тут же убежал.
Василика долго не могла опомниться. Белый платок упал с ее головы. В руке она сжимала палочку, к которой был прикреплен букет. Только этот букет и доказывал ей, что все случившееся — не чудный сон, а явь.
После этого молодые влюбленные сблизились еще больше. А Василика с тех пор с удовольствием пряла, наматывая шерсть на палочку, подаренную ей любимым.
Семейство Ферра было одним из первых не только в селе, но и во всей округе. Глава семейства, Рако, умел ладить и был в добрых отношениях решительно со всеми: с беем, с начальником общинного управления, с жандармским инспектором округа, со сборщиками налогов, со священником, — умел ладить со всеми влиятельными людьми. Денег у него было много, и происходило это потому, что он, как всем было известно, давал их в рост под большие проценты. В обхождении Рако был приятен, мягок и сладкоречив.
Кто бы ни обращался к нему за ссудой — никому не отказывал. Но если давал пять наполеонов, через шесть месяцев требовал пятнадцать: ведь должен был он получать какую-то выгоду! И крестьяне, у которых не было другого выхода, шли на эти условия. А потом, неблагодарные, еще ругали великодушного Рако! Собирается крестьянин уезжать на заработки на чужбину — в Австралию или в Аргентину, — кто даст ему деньги на поездку? Разумеется, Рако. Не идти же ему в Корчу к тамошним ростовщикам! Рако Ферра ссудит молодого крестьянина деньгами, а с его отцом, который остается в селе, заключит договор и оформит его честь по чести у нотариуса. По этому договору скромный Рако выговорит себе немного: проценты с предоставленной ссуды и, в случае, если она не будет погашена, право на имущество должника Как бы ни был беден крестьянин, несколько голов скота и небольшой участок земли у него всегда есть, а Рако больше и не нужно. За шестьдесят наполеонов, которые он дал уезжающему, через шесть месяцев он получит вдвое, а то и втрое. Если к этому сроку долг не будет покрыт, отцу должника придется платить проценты и проценты на проценты. Что же плохого делает Рако? Помогает своему ближнему в нужде, но не может же он при этом не иметь какой-то гарантии? Для этого-то заключается договор и оформляется у нотариуса.
И вот случается так, что крестьянам приходится целыми годами работать на добыче угля только для того, чтобы платить проценты Рако Ферра. Немало доверчивых душ попалось таким образом в его сети. Среди них и Коровеш, который семь лет назад занял у Рако шестьдесят наполеонов для сына, отправлявшегося в Австралию. С тех пор о сыне ни слуху ни духу, а проценты платить надо. И бедный дядя Коровеш платит их вот уже седьмой год.
Должники у Рако Ферра имеются не только в Дритасе, но и в соседних селах. И ходит молва, что на своем ростовщичестве он уже так разбогател, что, захоти он только, сразу может попасть в Правительство. В Корче его уважают как одного из самых богатых людей округи, у которого полная торба денег.
С таким-то человеком и предстоит породниться семье Зарче — одной из самых бедных в Дритасе. Несколько голов скота, жалкий клочок земли, убогая лачуга — вот и все их богатство, если не считать этого сорванца Петри, которому посчастливилось стать женихом Василики, дочери самого Рако. Дивились односельчане, как это Рако согласился на такой брак. У него было еще две дочери, и обеих он выдал замуж в другие селения, очень далеко, только для того, чтобы не просватать их за нищих своего села. С чего же это он теперь вздумал отдавать третью за бедняка, который зимой подыхает с голоду и не имеет даже корки кукурузного хлеба?
У Рако были свои намерения и относительно Василики. Он не хотел ее выдавать замуж слишком далеко и нашел ей жениха — внука попа Йорги, жившего поблизости, в Шён-Пале. Правда, мальчик этот как будто придурковат, но зато какой у него дедушка, поп Йорги! Послушали бы вы только, как он говорит, а как служит в церкви у себя в Шён-Пале! Когда запоет во время службы, можно подумать, что загремели трубы архангелов! И потом — богат, ничего не скажешь! Хоть и скуп не в меру, но породниться с таким человеком — овчинка стоит выделки. Это не чета какому-нибудь оборванцу у них в Дритасе. Вот только нехорошо: семья у попа большая, а хлеб пекут только раз в неделю: Йорги предпочитает есть хлеб, который верующие по воскресеньям приносят ему в церковь. Старшему его внуку тринадцать лет; женить его как будто рановато, но, с другой стороны, не пропускать же благоприятного случая: по соседству, в Каламасе, жила семья Ивани, богатая и скотом и землей. А детей у них — всего одна дочка. Теперь ей, правда, только десять лет. Самому же Ивани перевалило за шестьдесят. В таком возрасте нечего ждать детей. Не сегодня-завтра он отдаст богу душу, и все его богатства останутся в наследство единственной дочке. Вот на ней бы женить внука! Поп предпринял нужные шаги и, к своему удовольствию, убедился, что Ивани тоже не прочь с ним породниться. Так они между собой и порешили, но пока держали все в тайне.
Рако Ферра каким-то образом узнал об этом и чуть было не лопнул с досады. За кого же теперь выдавать дочь? В Шён-Пале была еще одна семья достаточно богатая — Стефо. Стефо в свое время засылал к нему сватов, но Рако отказал. А теперь он назло Йорги согласился. Пусть проклятый поп узнает, какую птицу он выпустил из рук. В довершение ко всем бедам жена поведала ему, что Василика по уши влюбилась в Петри Зарче и во что бы то ни стало хочет выйти за него замуж: или за него, или — смерть! Услышав об этом, Рако пришел в бешенство, стукнул себя кулаком в грудь и заорал:
— Голяк Зарче станет моим зятем? Не бывать этому!.. — Он хотел еще что-то добавить, но слова застряли у него в горле.
Рако вспомнил дочку Калеша, которая, не получив согласия родителей, сбежала с любимым. Вспомнил он и случаи похищения девушек в Гомбоче, Пустеци, Шулинеи в других деревнях. Одних похищали с их согласия, других — против их воли, но результат оказывался один и тот же: влюбленные парни добивались своего. И что оставалось делать родителям, если их дочь две-три ночи кряду проводила в горах у своего избранника? Разве после этого кто-нибудь другой возьмет ее в жены? Никто не согласится на такой позор. В подобном же положении находилась теперь и Василика. Ах, лучше бы она живой провалилась сквозь землю!
Рако вскочил и бросился во двор. Под навесом Василика насыпала овес, собиралась кормить лошадь. Отец устремился к дочери.
— Что ты, отец? Что с тобой? — испуганно спросила она.
— Вот что со мной! — проревел Рако и изо всех сил хватил ее кулаком по голове.
Девушка, как подкошенная, свалилась на мешок с овсом. Впервые в жизни отец ее ударил — и когда? Когда она была уже совсем взрослая и собиралась выходить замуж!
Жена Рако приложила все усилия, чтобы уговорить мужа:
— Послушай, муженек, были у нас две старшие дочери, и мы выдали их замуж так далеко, что не видимся с ними, точно схоронили. Василика у нас последняя, зачем с ней расставаться? Пусть остается дома, скрасит нашу старость, разделит с нами и счастье и горе. А этот Петри кажется мне неплохим парнем. Ты и сам говорил, что тебе нужен помощник.
Слова жены пришлись Рако по душе. Во-первых, не придется расставаться с Василикой — она останется при них в Дритасе, а, во-вторых, Петри можно будет заставить делать все, что потребует тесть. Что ж, неплохая подмога! Эти соображения примирили Рако с неизбежным, и скрепя сердце он принял у себя в доме сватов Зарче и угостил их кофе и табаком. Потом и сам отправился к Зарче, пил у него кофе и курил табак, обменялся ласковыми словами, поздравил его, выслушал ответные поздравления. И все же на сердце у него было нерадостно: согласился на эту помолвку потому, что ничего уже нельзя было поделать. После посещений дома своего будущего зятя — а ходил он к нему редко, только чтобы соблюсти обычай и не дать повода злым языкам болтать дурное, — он печально покачивал головой и говорил:
— Вот тебе и Багдад, вот тебе и калиф! Рако Ферра пьет кофе в доме Зарче, а Зарче пьет кофе в доме Рако Ферра!..
Петри чувствовал себя так, словно схватил звезду с неба: он женится на Василике, которую горячо любит, и, кроме того, становится зятем первого богатея не только в Дритасе, но и во всей округе! Зять Рако Ферра — это не шутка!
Отпраздновали помолвку. А спустя две недели молодой жених отложил пастушеский посох, распрощался с любимым стадом и спустился с горных пастбищ в родное село. Надо было готовиться к свадьбе и устройству своего семейного очага. Отец сразу же поручил ему все заботы о хозяйстве. Петри пришлось ездить и на базар, и на мельницу, и за дровами, и в поле — всюду. А его место на пастушеском стане занял младший брат.
Петри был добрый, смышленый и веселый парень. Никого не обижал, ко всем относился доброжелательно, со всеми был ласков. За это его в селе очень любили. Ближе всех он сошелся с Гьикой и сделался его закадычным другом. Вместе ездили они на базар, на мельницу, за дровами. Все желания, все мысли Гьики мало-помалу стали мыслями и желаниями Петри. Теперь они одинаково думали, одинаково чувствовали. И только одно их разделяло: предстоящая женитьба Петри на дочери Рако Ферра. Петри осуждал и поносил бея и кьяхи, но о своем будущем тесте никогда не говорил дурно и огорчался, если Гьика его порицал. Ведь Рако Ферра был отцом ненаглядной Василики, а все связанное с его невестой не могло быть дурным! Правда, он видел проделки будущего тестя, но как-то старался их оправдать, пытаясь уверить себя, что, если Рако Ферра так поступает, стало быть, так и нужно. Сколько раз защищал он его перед Гьикой! Но это не мешало ему по-прежнему ненавидеть бея: попадись только он ему в руки,
кажется, разорвал бы его живьем!
Теперь, во время уборки урожая, Петри еще яснее видел, как мошенничают подлые кьяхи, с которыми так тесно связан его будущий тесть.
Едва брезжил рассвет, крестьяне выходили в поле, приступали к жатве, но снопов не вязали, дожидаясь приказа кьяхи. А те не торопились, не спеша завтракали, пили кофе со сливками, потом отдавали распоряжения насчет обеда, затем, выкурив по сигарете, в сопровождении пойяка, а иногда и Рако Ферра и старосты медленно направлялись в поле. С их приходом крестьяне начинали вязать снопы; кьяхи спрашивали, чей участок, считали снопы, проверяли дощечки, делали на них новые зарубки. Так продолжалось целыми часами; глядишь — уже полдень. Когда подсчет заканчивался, все впрягали лошадей или волов и в самую жару приступали к молотьбе. Но если раньше крестьяне боялись жары, то теперь им приходилось опасаться дождя. Пойдут августовские дожди — и весь урожай погибнет!
К вечеру, на заходе солнца, большая часть снопов оказывалась обмолоченной. Снова появлялись кьяхи, представлявшие интересы и бея и государства, за ними пойяк нес шиник.
Являлись к первому крестьянину.
— Ну, сколько шиников ты нам сегодня дашь?
— Сколько мне дал господь бог!
— Смотри, разбойник: если собираешься что-нибудь утаить, милостивый бей покажет тебе!
— Помилуй, эфенди, не собираемся мы есть хлеб бея, не заримся на его добро!
— Ну, давайте мерить! — распоряжались кьяхи, посматривая по сторонам. Лешего больше занимали женщины, и при взгляде на них он плотоядно облизывал губы, а Яшар кидал взгляды в сторону домов, высматривая, не вынесут ли оттуда крестьяне какого-нибудь лакомого кусочка.
Мерили шиниками: один шиник, два, три, четыре, пять, шесть! Но не успевали еще наполнить последний мешок, как обычно появлялась жена крестьянина с бутылкой раки. Кьяхи покручивали усы, рассаживались на мешках, наполненных зерном, и каждый по нескольку раз прикладывался к бутылке. Затем они закуривали и снова принимались мерить.
— Сколько здесь вышло? Шесть шиников?
— Нет, всего пять.
— Пять?.. Смотри не обманывай! Один, два, три, четыре, пять! Ну, ладно!
— А скажи по-честному, сколько шиников украл? — как бы в шутку спрашивал Яшар крестьянина.
— Пусть лопнут мои глаза, если я утаил хоть бы единое зернышко! — крестясь, божился хозяин.
— Ха-ха-ха! Чертов плут! — смеялись кьяхи и продолжали подсчет. Отделяли на семена, сколько им вздумается, отсчитывали десятину, как им заблагорассудится, откладывали на арманджилек, сколько им понравится, а то, что оставалось, делили пополам: одна половина бею, другая — крестьянину.
— Разоряете вы нас, чтоб вам света белого не видать! Разбойники вы этакие в сапогах! — слали им вдогонку проклятия крестьяне, со слезами на глазах смотря на то, как у них отнимают хлеб, которым они могли бы накормить своих голодных детей, — отнимают, чтобы заполнить этим хлебом амбары бея.
Особенно люто относились кьяхи к тем крестьянам, кто молотит на волах.
— Эй, ты! Разве можно молотить на волах? Взял бы лучше у пастухов лошадь, — советовали кьяхи.
— Верно, эфенди, но за лошадь с меня пастухи потребуют долю урожая. А дать мне нечего.
— Так заплати деньгами! А то и пшеницей… Они будут довольны и пшеницей.
— Пшеницы у нас и себе не хватает. Откуда же взять ее для пастухов?
Кое-что в этом тревожит кьяхи. Крестьяне, которые молотят на волах, никогда не успевают управиться в течение дня, снопы целую ночь остаются на гумне, и зерно приходится замерять только на следующий день. А за ночь хлеб на гумне, не обмолотый и не очищенный, могут разворовать. Вот почему кьяхи так злы и всячески придираются к тем, кто молотит на волах.
Гьика у себя на гумне впряг вместе с волом осла и удивил этим все село. Виданное ли дело — молотить на осле? Но попробуй докажи Гьике, что так не делают.
— Будто мы не знаем, зачем он это затеял! Чтобы легче воровать у бея добро! — решили кьяхи в первый же день молотьбы.
— Я этого негодяя в бараний рог скручу, заставлю его обе ноги в один опинг сунуть, не будь я Кара Мустафа! — грозился Леший.
Вечером многие крестьяне закончили молотьбу. Шум постепенно стихал. Только с гумна Ндреко, на холме, доносился усталый голос Гьики, понукавшего осла.
— Пошел! Пошел!
Гьика с вилами в руках ни минуты не оставался без дела: отбрасывал в сторону солому, ворошил ее. За ним с веником в руках шла жена и отметала каждое зернышко, которое попадалось ей на глаза. За день они с работой не управились, а ночью молотить нельзя — кьяхи не разрешают.
Гьика решил в эту ночь остаться на гумне караулить свое зерно. Не забрались бы воры! Жена советовала ему задобрить кьяхи кофе, но Гьика со злостью сказал:
— Отравой их надо угостить, этих извергов, а не кофе!
И вот на гумно к Гьике явились оба надсмотрщика и принялись считать шиники, которые Гьика отмерял вместе с пойяком.
— Эй, хорошенько мерь! — время от времени покрикивали кьяхи.
Когда работа была закончена, они принялись считать.
— Как! Всего четыре шиника? — удивился Леший и фыркнул: — Не может этого быть!
— В самом деле что-то маловато! Из сорока снопов, что ты связал, должно было получиться по меньшей мере шесть шиников! — поддержал его Яшар.
— Но вы же сами видите, сколько дал в этом году господь! — возразил им старый Ндреко, и губы его задрожали.
А Гьика добавил:
— На гумне у нас зернышка не осталось. Здесь — все!
— Ты брось! Нас не проведешь! Ну что ж, перемерим! — усмехнулся Кара Мустафа.
Опорожнили наполненные мешки. Принялись сызнова. На этот раз подсчетом занялся сам Леший.
— Один шиник, два, три, четыре, пять, шесть… семь! Значит, ты украл!
Ндреко молчал, только курил да почесывал в затылке. Сперва он еще пытался убедить надсмотрщиков, что снопы осыпались, потому что зерно перезрело. Но разве их убедишь?
— Ты украл! И знать ничего не знаем!
В это время на гумне появился дядя Коровеш. Первое, что он сделал, предложил кьяхи табаку. Дружески их приветствовал, осведомился о здоровье, поговорил об урожае, о том о сем. У кьяхи немного отлегло от сердца, они стали уже подумывать, нельзя ли разживиться у старика и раки.
— Ну, ладно! Из уважения к дяде Коровешу принимаем как есть! — смилостивились они.
— Полтора шиника отложи в сторону — на десятину.
— Нет, с нас приходится шиник с четвертью, — возразил Гьика.
— Не очень-то распоряжайся! Давай столько, сколько говорят, и не меньше, — окрысился на него Леший.
Гьике волей-неволей пришлось смириться.
— Один шиник на семена. Отложи его в сторону.
— Полтора на арманджилек. Отложи и их в сторону. Теперь у нас остаются три шиника; их пополам — полтора для бея, полтора для вас! Точно рассчитано, а?
Гьика стиснул зубы…
— Два дня мы всем семейством жали, два дня молотили, а теперь за все это мне полтора шиника? Это же произвол!
— Он еще спорит! Эй, пойяк, сложи десятину вместе с зерном бея и снеси мешок в амбар, — распорядился Кара Мустафа.
Вскоре кьяхи перешли к Коровешу, а на гумне Ндреко осталось только три шиника зерна — доля самого хозяина и полтора шиника на арманджилек. Полтора шиника — вот все плоды тяжелого труда!
Две курицы подошли к мешку — нельзя ли поживиться каким-нибудь зернышком? — Кш, кш! — вспугнул их маленький сын Гьики. А его мать, просеивавшая сквозь решето пшеницу, с печалью глядела вслед пойяку, уносившему их хлеб. Она тяжело вздохнула и перевела взгляд на сынишку.
Ндреко, собирая в корзинку мякину, заворчал:
— Вот так… Так всю жизнь они высасывают из нас кровь…
Гьика, мрачный и расстроенный, пошел в хлев. Тяжело ему было в этот час даже прикоснуться к оставшейся у них пшенице и снести ее в амбар. Вместо этого, хотя в том и не было большой надобности, он взял скребницу и принялся чистить вола, чтобы хоть немного отвлечься от своих мрачных мыслей. Легко и быстро скользила скребница по шерсти вола. Гьика чистил животное, но думал совсем о другом: о пшенице, о кьяхи, о бее. Слова товарищей из Корчи, слова Али не выходили у него из головы:
«Постарайтесь утаить как можно больше зерна! А бею отдать как можно меньше! Это для вашей же пользы…»
За всю свою жизнь Гьике ни разу не пришла мысль — украсть. Даже маленьким он ни разу не взял с чужого поля ни одного початка кукурузы. Поэтому, когда товарищи посоветовали утаить как можно больше зерна, ему показалось, что его уговаривают стать вором. Украсть? Ни за что! Даже если бы его ребенок умирал с голоду, он и тогда не смог бы украсть для него кусок хлеба.
Так думал Гьика раньше, так думал он всегда. Однако теперь ему кажется, что он лучше видит, острее ощущает всю горечь крестьянской доли:
«Бей вырывает изо рта у бедняка последний кусок хлеба, и это считается честным. Но отними у бея излишки — и тебя назовут вором. Справедливо ли это?» — задавал он себе один и тот же вопрос. Но, прежде чем дать на него окончательный ответ, Гьика прикинул в уме, сколько времени и труда пришлось затратить его семейству, чтобы получить несчастных полтора шиника пшеницы. Четыре дня его жена, сестра и отец очищали поле от камней и колючек. Два дня он вспахивал его. День разрыхлял. Полтора дня выпалывал сорняки. Два дня сеяли. Два дня жали. День вязали снопы. Два дня молотили. Всего они — двое мужчин, две женщины, их собственный вол, вол дяди Коровеша и их осел — проработали пятнадцать с половиной дней! И в летнюю жару и под осенним дождем люди трудились, голодные и разутые. О! Он чуть было не забыл, ведь в этой страде принимал участие и его сынишка, маленький Тирка. Правда, сам он еще не работал, но вместе со взрослыми претерпевал и жару и холод, страдал от голода! Все время торчал около матери, и, если ему нечего было дать поесть, он плакал и набивал рот землей. Той самой землей, что вспахал его отец. И вот наконец наступил день, когда можно было порадоваться: работа, стоившая стольких страданий и обильно орошенная их потом, закончена. И тогда являются высокомерные кьяхи и пойяк и отнимают у него, у его семьи большую часть урожая, словно этот урожай и в самом деле по праву принадлежит им, словно не Гьика с семьей, а они сеяли, жали и орошали его своим потом. Ему же оставляют всего-навсего… полтора шиника за работу, на которую семь тружеников затратили пятнадцать с половиной дней! Нет! Надо было не только спрятать от этих гадов пшеницу, как советовали корчинские товарищи, но и разграбить их собственные амбары, а их самих запрячь, как волов, чтобы, работая в поле, они на собственной шкуре испытали, во что обходится крестьянину полтора шиника пшеницы!
Гьика глубоко вздохнул. Али прав, Али совершенно прав, говоря, что эти кровопийцы, эти пиявки заслуживают только ненависти.
— Ненавидеть и бороться с ними всеми средствами! — с ожесточением прошептал Гьика.
И тогда с полной убежденностью он решил, что надо утаивать из урожая как можно больше. Впервые он подумал, что неплохо бы выкрасть пшеницу из амбаров бея.
Мрачный и ожесточенный, вышел Гьика из хлева и снова направился на гумно. Взгляд его устремился туда, где высилась башня бея. Там хранилась пшеница — пот и кровь крестьян!
— Гьика, давай же снесем пшеницу в амбар, а не то ее поклюют куры, — обратилась к нему жена, просеивавшая мякину.
Гьика покачал головой и показал на башню:
— Вот там наши амбары!.. — Он тяжело вздохнул и принялся за работу.
С этого дня Гьика начал подстрекать крестьян, особенно тех, на кого больше надеялся.
— Прячьте зерно! Прячьте как можно больше, чтобы этой пиявке досталось как можно меньше! Пусть лучше ваше зерно склюют куры, чем заполнять им амбары этого кровопийцы! — говорил Гьика.
Упоминая слово «пиявка», которое в разговорах с ним часто употреблял Али, Гьика представлял себе чудовищный образ: он как бы видел всех беев, всех кьяхи, всех эфенди, присосавшихся к телу несчастного народа и огромным жалом высасывавших из него кровь! Ты кричишь, вырываешься, извиваешься, но не можешь освободиться от гадины! Но нужно не извиваться, не стонать, а покрепче сжать кулак и как следует ударить по этой чудовищной пиявке, раздавить ее, как комара, что под вечер назойливо кружится у тебя над головой!
Слова Гьики падали на благодарную почву. Но разве крестьяне осмелятся утаить зерно? Кое-кто, правда, уже пробовал спрятать немного зерна в сарае под соломой. Но надсмотрщиков на такой уловке не проведешь. Они обнаружили спрятанное зерно, и у кого же? У самого захудалого из крестьян — у Терпо. Леший заставил его выбросить из сарая всю солому и очистить мякину. Нашел он, правда, немного — всего лишь полшиника. Но за утайку Терпо пришлось отдать целых два шиника в виде штрафа. А если вспомнить, что со всего своего участка он собрал лишь семь шиников, куда входили и десятина, и семенные, и арманджилек, и доля бея, тогда два шиника штрафа могут свести человека с ума. Леший собственноручно забрал у него все зерно, и после этого Терпо еще остался должен бею целый шиник. Бедняк только покачивал головой и бормотал:
— Ох! Ох! Ох! Этакая беда со мной стряслась!
Гьика очень жалел его, но ничем не мог помочь.
«Ни страдания, ни жертвы, как бы тяжелы они ни были, не должны нас испугать!» — вспомнил Гьика слова Али, и они придали ему мужества.
Крестьяне боялись утаивать пшеницу, и амбары бея изо дня в день наполнялись все больше. Гьика понимал, что единственная возможность причинить хоть какой-нибудь ущерб бею — это ограбить его амбары. Но как? Каким образом? Днем и ночью ломал он себе над этим голову. Амбары, расположенные в башне, недоступны, оттуда не выкрадешь и горстки зерна, а не то что мешок.
Башня бея представляла собой строение с толстыми каменными стенами. Ее воздвигнул еще покойный дед нынешнего бея, Сефедин-бей. Стояла она при въезде в село, у дороги, на небольшом пригорке. Позади тянулся фруктовый сад слив, яблонь и груш. Перед башней находился широкий двор, обнесенный забором, по которому, закрывая передний фасад здания, вился виноград. Окна были узкие, защищенные решетками, будто здесь ожидали нападения. В верхнем этаже имелись две комнаты и зала. Из залы вела дверь на балкон, с которого открывался вид на дорогу. Отсюда Сефедин-бей и его сын Зюлюфтар-бей некогда высматривали себе красивых крестьянок. На этом балконе и предрешали они судьбу женщины, которая имела несчастье им приглянуться: ее забирали в услужение к беям на все время их пребывания в Дритасе. В нижнем этаже было три комнаты и при них кухня. Теперь одну приспособили под амбар для зерна.
Верхний этаж целиком предназначался для самого Каплан-бея. Будучи совсем молодым, и позднее, после женитьбы на родовитой и богатой девушке, Каплан-бей нередко приезжал в Дритас и останавливался в этих покоях, где веселился и кутил в обществе своих друзей и веселых женщин, которых привозил с собой из Корчи или из Монастира. Что тогда делалось! Всю ночь напролет звучали песни, слышались взрывы хохота, крики, ружейная пальба! Дорого обходились крестьянам эти пиршества бея: каждая семья по очереди была обязана готовить угощение для бея и его гостей.
Теперь башня служила только складом зерна и жильем для кьяхи. Каплан-бей уже давно избрал себе другие места для развлечений и веселья: в Корче, в Тиране, на побережье в Дурресе, наконец, в Швейцарии. Приезжая в Корчу, он очень редко и совсем ненадолго наведывался в свое поместье: заедет как-нибудь в воскресенье выпить раки и закусить жаренной на вертеле бараниной под развесистыми ветвями шелковицы — и обратно. Но на сезон охоты специально приезжал сюда из Тираны в сопровождении большого числа друзей из самого изысканного общества — всё депутаты, высшее офицерство, даже министры и иностранные консулы. Так, итальянский консул был непременным спутником бея. Три дня охотились они в окрестных лесах. Ночи проводили в башне, и опять гром и звон шел по селу!
В этом году ранней весной Каплан-бей приезжал в Дритас и прожил в своем поместье целую неделю. Такие наезды совершал он и осенью, после купального сезона на побережье Дурреса. Он привез с собой стройную красавицу, втрое моложе его. С ней и заперся у себя в башне, выходя только погулять. За эту неделю никто из крестьян не осмеливался даже приблизиться к башне. А кьяхи на это время переселились в крестьянские хижины. При бее оставался лишь его верный сеймен Дервиш Лаке, к которому он был особенно привязан. Лаке же носил ему пищу, приготовлявшуюся по очереди крестьянами.
Как аристократические друзья бея, приезжавшие к нему в имение охотиться, так и стройная красавица вовсю расхваливали бею его имение, расположенное в таком живописном месте, на самом берегу озера Преспы; расхваливали кристальные воды озера, тенистые рощи, горы, покрытые густым лесом и можжевельником. «Настоящая Швейцария!» — восхищались они, и только одно вызывало их единодушное осуждение: для такого прекрасного имения, для такого сиятельного человека, как Каплан-бей, вовсе не подходит какая-то старая башня. И где? У самого въезда в село, в близком соседстве с крестьянскими хибарками. Бею следовало бы построить здесь виллу, подобную той, что имелась у него в Швейцарии. И выбрать для нее место повыше, хотя бы на том холме, где стоит хижина какого-то мужика, которой там вовсе не место; с этой виллы открывался бы настолько восхитительный вид, что, сидя там и любуясь окрестностями, можно было бы опьянеть не только от виноградного раки, но и от простой воды.
Внизу огромным блестящим зеркалом расстилалось озеро с живописным островком посреди, вдали высилась длинная цепь гор. Справа над озером, словно носы сказочных кораблей, нависли острые скалы. Вершины гор, казалось, уходили в самое небо. Склоны их поросли густыми буковыми лесами, там и сям перемежавшимися полянами, полными пестрых цветов. Всюду рос вечнозеленый можжевельник. На берегу озера простирался превосходный песчаный пляж, сверкающий галькой, такой же ослепительной, как бусы на прекрасной шейке гостьи бея.
Приглашенные к бею друзья не переставали расхваливать красоты его имения. И Каплан-бей не устоял: в конце концов он решил выстроить здесь прекрасную виллу. О судьбе крестьян он не беспокоился. У них мало земли, и живут они впроголодь. Какая важность! Если понадобится, он снесет их лачуги, чтобы очистить место для виллы. Особенно настаивала на этом его красавица, ради которой он готов был отдать душу.
Поэтому в нынешнем году старую башню уже не ремонтировали, как это делалось в прошлые годы. Только заменили ржавые решётки на окнах, чтобы лучше охранять зерно от воров, — об этом распорядился Кара Мустафа. Особенно крепкие решетки были вставлены в окна первого этажа, где находился амбар. Правда, здесь не было стекол и кошка могла бы пролезть внутрь, но человек — никогда!
Напрасно ломал себе голову Гьика, как бы добраться до зерна. Проделать в стене отверстие? Но разве в такой толстой стене может это удаться? Он посоветовался с Петри, и тот ему только сказал:
— Туда и мыши не пролезть, а нам и думать нечего!
Во время уборки урожая Петри, наблюдая за своим будущим тестем, замечал много такого, что ему приходилось не по душе. Рако Ферра, например, часто сопровождал кьяхи в их походах с гумна на гумно. Он явно старался помогать во всем бею, а не своим братьям крестьянам. В этом можно было убедиться хотя бы на том, что произошло с Эфтимом. Хотя дядя Эфтим божился, что он не утаил для себя ни зернышка, Рако науськивал на него кьяхи:
— Вы должны с него взять еще шиник или хотя бы полшиника, — что было явно несправедливо.
И вот наконец наступил день, когда бей явился к крестьянам. Больше всех хлопотал и старался все тот же Рако Ферра — он-то и помогал кьяхи подготовить бею достойную встречу. Никто в селе, пока не разрешит бей, не имел права приступать к уборке, в то время как для Рако было сделано исключение. Все село умирало с голоду, в то время как семейство Рако уже ело хлеб, выпеченный из муки нового урожая.
На это и еще на многое другое обратил внимание Петри, и в душу его закралось сомнение: честен ли по отношению к крестьянам его будущий тесть? Но Рако Ферра был отцом его любимой Василики, и поэтому Петри должен был относиться к нему с почтением. Впрочем, в селе было немало крестьян, которые почитали Рако Ферра за то, что во всех делах ему сопутствовала удача, за то, что у него был полный мешок денег. И только Гьика, сын Ндреко, открыто его осуждал; сначала он говорил как бы в насмешку, но со временем его осуждение принимало все более резкие формы. Когда Гьика высказывался против бея, он сразу же переходил и на Рако Ферра. Поэтому, когда речь зашла о том, что неплохо бы обчистить амбары бея, Гьика напомнил Петри и об амбарах его будущего тестя, которые мало чем уступали хранилищам самого бея, И, строго говоря, следовало бы пообчистить амбары у них обоих: уж очень они между собой связаны!
— Ну, что ты об этом думаешь? — спросил Гьика.
Но Петри только слегка побледнел и виновато опустил голову.
— Говорю же тебе, что туда и мышь не пролезет, а как же забраться нам да еще вытянуть оттуда зерно?
— Да, в самом деле, как? Я об этом и думаю, — ответил Гьика таким тоном, словно ждал, что Петри что-нибудь подскажет ему.
Действительно, было над чем задуматься. Нелегко залезть в амбары бея: их неусыпно сторожат кьяхи и даже, если удастся проникнуть внутрь, вряд ли можно незаметно вытащить оттуда мешки с зерном. Нет, это совершенно невозможно! И, однако, надо же что-то придумать!..
— Эх, мы с тобой, словно дети малые. И затея эта детская… — сказал Петри, и это было вполне чистосердечно.
Молча они разошлись.
* * *
Когда уборка подходила к концу, как-то под вечер в селе появился чужой человек. Крестьянину, пришедшему с ним из Корчи, он назвался скупщиком скота и сказал, что он гег
[21] и пришел с севера. На рынках в Тиране и в Дурресе большой спрос на скот — его вывозят в Италию. Вот поэтому он с несколькими гуртовщиками прибыл в Корчу. Здесь они разбрелись по разным селам, чтобы не перебивать друг у друга товар. В Дритасе, говорил скупщик, он знает некоего Гьику Шпати, с которым познакомился в прошлом году в Корче на скотном базаре, где Гьика покупал себе осла. Торговец рассчитывал, что сможет приобрести в Дритасе хороший, упитанный скот. В заключение он попросил одного из крестьян показать ему дорогу к дому Гьики.
Крестьяне, работавшие у себя на гумнах, при виде чужака приуныли:
— Вот и пожаловал к нам сборщик налогов! — стали они печалиться.
Пройдя через все село, незнакомец направился на гумно к Ндреко; увидев его, Гьика выронил вилы и поспешил к нему навстречу. Они сердечно поздоровались, и гость даже похлопал Гьику по плечу.
— Сборщик налогов? Что-то не похоже. Не может чиновник быть в таких дружеских отношениях с Гьикой, — говорили между собой крестьяне, наблюдавшие со своих гумен за этой встречей, и немного приободрились.
А незнакомец оказался не кем иным, как Али Кельменди. Организация в Корче считала недостаточной установившуюся связь с деревней, и Али решил сам посетить несколько сел, чтобы на месте ознакомиться с положением дел и побудить товарищей к более энергичным действиям именно теперь — в пору сбора урожая. Вот почему он оказался в Дритасе.
— Я дал тебе слово, что приду, вот и пришел, — сказал Али, еще раз крепко пожимая Гьике руку.
— Это мой отец, вот моя жена, это сестра, а вот мой любимец — зовут его Тирка.
Познакомив Али с членами своей семьи, Гьика расположился с гостем под навесом перед домом.
— Разумеется, ты устал, Али! Рина, скорей приготовь кофе да завари его погуще! У нас, кажется, осталось еще немного раки. Принеси! Как ты хорошо сделал, что пришел! Как хорошо! Скажу тебе, нам здорово достается от наших кровопийц, но что мы можем поделать? Все дрожат и трусят, как зайцы. Как хорошо, что ты пришел, милый Али, милый брат! — И Гьика с нежностью посмотрел на любимого друга, не зная, чем бы ему угодить.
Али снял фуражку, отер платком высокий лоб и ласково поглядел на Гьику. Его радовало, что сегодня он встретил другого Гьику: правда, это был еще раб, но уже раб не покорный, а бунтующий, объятый жаждой борьбы. До чего изменился Гьика с тех пор, как они впервые встретились!
Как раньше думал и говорил Гьика? «Нам, крестьянам, на роду написано прожить и умереть раздетыми, разутыми, голодными. Таков наш удел!» А сегодня Гьика уже не мирится с этой горькой, как полынь, долей. Он понял, что такое гнет богачей, понял, что с ним можно и нужно бороться.
Хижина дяди Ндреко находилась на холме Бели, откуда открывался вид на все село. Перед Али тянулись нищие лачуги, почти сплошь крытые соломой. Редко-редко мелькала черепичная крыша, и казалось, что эти лачуги готовы уйти в землю, превратиться в могилы, настоящие могилы! А крестьяне, которых он встретил по пути к Гьике, были еле прикрыты жалкими лохмотьями и выглядели изможденными. Они походили на живые скелеты, возвращавшиеся вечером в свои могилы.
— Вот до чего дошла Албания! Могилы и скелеты! — прошептал Али, принимая чашку кофе, которую принесла ему Рина.
А Гьика продолжал говорить, словно торопился высказать все, что угнетало его:
— Бей и его псы — кьяхи высасывают из нас все соки. Хлеб забрали почти целиком. И масло, и яйца, и кур… А потом надо еще день и ночь угощать кьяхи… Нам только остается помирать с голоду. Вот клянусь тебе моим сыном, мы с пасхи не ели белого хлеба, а вчера я должен был его доставить для кьяхи, потому что моя очередь их кормить. Мой ребенок яиц и не пробовал, а для них я должен найти.
Гьика закурил.
— Али, милый, выпей! Там еще немного осталось. Я знаю, ты не пьешь, но сейчас ты устал и раки тебе пойдет на пользу. Какой ты молодец, что пришел! — еще раз повторил Гьика и продолжал свой рассказ: — Я уже разговаривал со многими крестьянами, с каждым в отдельности. Мы должны утаить как можно больше зерна. Но и с этим пока ничего не получается. Признаюсь тебе откровенно, я и сам на это неспособен. Поверишь ли, друг Али, но всеми нами владеет страх! Где нам браться за такое дело? Если нас поймает Кара Мустафа, что с нами будет? Не видать нам ни зернышка пшеницы, и землю у нас отнимут, и самих нас выбросят на улицу! Каждый день кьяхи рыщут от гумна к гумну, от дома к дому, нагло покручивают усы, ругают нас на чем свет стоит и грозятся… а мы все — стыдно признаться, Али, — мы только покорно склоняем перед ними головы, на все соглашаемся и еще оказываем им знаки почтения. До чего мы низко пали!
Али внимательно слушал Гьику, время от времени покачивал головой и глухо, прерывисто кашлял. Несмотря на то, что молодой крестьянин не сообщал ничего утешительного, Али радовался, что он видит перед собой нового Гьику, который не только сетует на свою долю, но уже помышляет о том, как ее изменить.
Было уже поздно, когда они, закончив беседу, вошли в дом.
На следующее утро Али встал очень рано вместе со всеми. Накинул на себя бурку Гьики и вышел во двор. Он был очень тронут приемом, оказанным ему не только самим Гьикой, но и всей его семьей. Даже маленький Тирка накануне ни за что не хотел слезть с его колен, так и заснул.
Из труб крестьянских лачуг шел дым, поднимался кверху и потом стлался внизу, обволакивая башню бея. Крестьянки принимались за работу: одни доили коров, другие с веревками за поясом отправлялись в лес за хворостом. На гумнах расстилали последние снопы. Плакали дети. Громко взывал пастух:
— Эй! Выгоняйте коров! Эй, коро-о-ов!
На берегу озера толпились пришедшие на водопой коровы, волы, козы и лошади.
К Али подошел дядя Коровеш.
— Я прослышал, ты пожаловал к нам покупать скот. Зайдем ко мне, у меня кое-что найдется для продажи… Ну, как в Корче? И как у вас на севере? Мне сказали, что ты гег, не так ли? — начал разговор Коровеш и предложил гостю закурить.
Али отказался:
— Спасибо, не курю.
— Чудной народ вы, горожане, табак не курите, раки не пьете. На кой черт вам тогда деньги? Дорогу ими мостить, что ли?
Старик рассмеялся, улыбнулся и Али.
Пока они разговаривали, к ним один за другим подошли дядя Эфтим, Зарче, Калеш, Барули, Шоро и Зизел. У каждого нашлось для продажи несколько голов скота. Подошел и Петри, чтобы поздороваться с другом Гьики. Посмотреть на гега пришел и Ндони, сын Коровеша. Все расселись вокруг Али и, покуривая, беседовали о всякой всячине: об урожае, о мельницах, до которых так далеко добираться, о скоте, которым они не могли похвалиться, и о многом другом. Однако мало-помалу разговором овладел Али и стал слышен только его негромкий голос.
— И у нас на севере творится то же, что у вас: крестьянство страдает, и страдает жестоко. Закупая скот, я был во многих селах. Поверьте, у наших горцев нет даже рогожи, на чем спать. На ночлегах мне стелили листья папоротника, а под голову вместо подушки клали полено. Все ходят в лохмотьях… Скот? Какой там скот! У каждого семейства не больше двух-трех коз, вот и весь скот! А сколько народу умирает от болезней, от эпидемий, от сифилиса? У всех на теле парша. Вот что приходится терпеть жителям наших гор! Вот до чего они дошли! Там, на севере, есть такие же крепкие башни, как и у вас, и в них тоже живут беи. Наши байрактары
[22] — то же самое, что ваши беи. Они бездельничают, едят, пьют, грабят, немилосердно угнетают горцев-крестьян. А наши крестьяне точь-в-точь, как вы: стонут под их гнетом, и ничего больше.
Все слушали этого гега, разинув рты. Уж очень складно он говорил. В его высоком, покрытом морщинами лбе, в его худом, изможденном лице с ввалившимися щеками, в тонких губах и проникновенном взоре была какая-то поистине колдовская сила! Взгляд ласковый и скорбный, мягкий голос — все это нравилось крестьянам. Слушая его, они даже забыли, зачем пришли. Слушали молча, редко-редко кто тихо кашлянет.
А он продолжал:
— Если бы вы только посмотрели, как эти надменные байрактары в конце каждого месяца являются в Тирану в расшитых серебром фесках, с револьверами за поясом! Едут они на своих дородных конях, и земля дрожит под ними. А что они делают в столице? Первым долгом отправляются в казначейство и выходят оттуда с мешками полными золота.
— Но кто же им платит? — спросил Барули, самый простодушный из слушателей.
— Кто? Да хотя бы ты, дядя Коровеш, другой, третий бедняк. Кто же еще?
— Это я-то плачу им деньги? Да я скорей дубинкой их огрею, чем дам хоть медяк! Да я и в Тиране сроду не был, и знакомых у меня там нет! — ответил Барули, поняв собеседника слишком буквально.
В разговор вмешался Гьика:
— Эх, дядя Барули! Посмотри на нашего бея, на наших кьяхи! Разве не мы их содержим? Где пшеница дяди Шоро, который вот сидит здесь да почесывает затылок, потому что ему нечего везти на мельницу? Кто отнял у него пшеницу, если не бей?
— Их власть, — процедил сквозь зубы Барули.
Али закусил губу.
— Верно, нынче их власть, — после короткого молчания заговорил он. — Ваши беи, и наши байрактары, и все прочие — министры и депутаты в Тиране, префекты в провинции — крепко держат власть в своих руках! Пока их время и их власть. Ты платишь налог за несколько своих шелудивых коз, платишь земельный налог за клочок земли, на котором стоит твоя хибарка. С утра до ночи, как раб, ты трудишься в поле, и все же, когда урожай уже снят, тебе нечего везти на мельницу! И не забудь при этом, что жатва только что закончилась. А тем временем бей сидит, скрестив по-турецки ноги, наслаждается жизнью: у него-то есть что послать на мельницу и есть на что кутить в ресторане и жить во дворце! Ведь на то у него и власть.
Крестьяне мрачно слушали.
Правильно говорит гег!
— Но что на это скажет главный? Ведь он могущественнее всех, и нет ему равного! — Эти слова произнес Шоро, не переставая почесывать затылок. Сказал он их без всякого умысла: ведь гег говорил тут про беев, про ага, байрактаров, депутатов и министров. Почему же ни слова о короле? А ведь король — важная птица! Вот Шоро и вмешался в разговор и спросил насчет короля.
Все насторожились. Что ответит незнакомец?
Али чуть скривил губы, и в глазах у него сверкнул гнев:
— Именно, нет ему равного во всем свете, пропади он пропадом!
При этих словах дядя Коровеш подскочил на месте и принялся протирать глаза, словно проснувшись после глубокого сна. Ндреко уронил трубку. Калеш выпустил из рук турецкие четки. А Зарче принялся громко кашлять, запоздало пытаясь заглушить слова Али.
Чтобы он — король! — пропал пропадом? Страшные слова выговорил этот гег!
— Ничего не поделаешь, слово сказано, — проворчал про себя Шоро, раскаиваясь, что завел речь о короле, и пошел прочь.
Вслед за ним, посвистывая, отошел Барули. Поднялся с места и Зизел:
— Ах, за разговором я и позабыл совсем, что у меня на гумне мякина не собрана. Пойду-ка уберу ее в сарай. А говорить можно без конца! — и Зизел тоже ушел.
— Ну и гег, торговец, скупает скот и так говорит про короля! — ворчал он дорогой. И сам не мог решить, на чьей же стороне его симпатии — гега или короля?
— Помилуй бог, если бы такие речи услышал кто-нибудь из начальства, мы бы все погибли! — ужасался Зарче.
«Разъезжает человек по всей Албании и позволяет себе такие слова говорить!» — думал Калеш.
Один только дядя Эфтим, стряхнув с талагана пепел, совершенно спокойно дружески простился с пришельцем, будто ничего и не случилось.
Дядя Коровеш посмотрел направо, потом налево и подмигнул Гьике. Но тут взгляд его упал на Петри Зарче. И его точно кольнуло в сердце! Правда, племянник говорил, что этот Петри хороший парень; однако раз он почти уже зять Рако Ферра, при нем надо выражаться осторожно. Черт дернул этого дуралея Шоро вмешаться в разговор. Он-то все и испортил. Один дурак бросит камень в озеро, и целой толпе умников его оттуда не вытащить.
В конце концов старик нашел выход.
— Знаешь, — обратился он к скупщику скота, — скажу тебе без обиняков: очень ты пришелся мне по душе, приходи-ка сегодня вместе с Гьикой ко мне обедать, а сейчас пора идти: у меня на гумне работа.
Ушел и дядя Коровеш. Проковылял в сарай Ндреко.
— Ты их всех точно ошпарил, — смеясь, заметил Гьика.
— Когда начнут понимать, перестанут бояться! А пока они не вольны в своих поступках: это им подсказывает страх. Надо вдохнуть в людей мужество, пробудить их души… Вот, к примеру, дядя Коровеш — умный старик; он правильно смотрит на вещи и думает, как надо.
К ним подошел Селим Длинный в разорванном талагане, надетом на рубашку, похожую на рубище.
— Друг Гьика, сделай милость, помоги продать моего бесноватого козла! Деньги нужны до зарезу, ты ведь знаешь почему. Да и козел этот меня измучил, нету с ним сладу, какой-то одержимый!
Гьика взглянул на Али, как бы спрашивая у него, что ответить.
Настоящее имя Селима было Шот Малавец, а Длинным Селимом его прозвали за высокий рост. Он славился дерзостью, с которой похищал девушек из богатых семей и устраивал их браки с бедными парнями. Не боялся ни побоев, ни тюрьмы! Сейчас деньги ему действительно были очень нужны: на днях собирался женить сына, и для этого требовалось два наполеона — сунуть свату; без них тот не понесет невесте подарки и вся женитьба может расстроиться.
Али выдал себя за скупщика скота. А ведь недаром говорит пословица: «Назвался калифом, поезжай в Багдад!» Что ответить на просьбу Селима? Гьика с минуту подумал и в усмешке скривил губы.
— Хорош твой козел, дядя Селим, спору нет. Но дело в том, что этот господин не покупает мелкий скот. Ему нужны волы, особенно быки, только на них и спрос там, на Севере.
Али рассмеялся и с одобрением посмотрел на Гьику: неплохо придумано, очень удачная отговорка. Так можно будет отвечать и всем остальным, кто станет предлагать мелкий скот: он коз и овец не покупает, ему нужны только волы и быки. А разве в Дритасе найдется человек, который предложит купить у него вола или быка?
— Эх! Такой уж я несчастливый: только начнет наклевываться дело, как тут же обязательно лопнет, — пробормотал Селим Длинный. — А я так надеялся продать козла, даже работу бросил и прибежал сюда.
Прислонившись к забору, огорченный дядя Селим принялся скручивать цигарку и не переставал ворчать:
— До чего дошел, нет денег ни на сигареты, ни на каплю раки…
Али и Гьика отправились обедать к дяде Коровешу. Софра уже была накрыта на дворе под навесом. Хотя гость и просил хозяина не тратиться на угощение, Коровеш уставил софру множеством вкусных блюд. За обедом они возобновили прерванную беседу:
— Давно уже не приходилось мне угощать человека, к которому так лежало бы сердце! Нас здесь совсем одолели власти, начиная с главы сельских общин господина Лако и кончая новым кьяхи, которого мы прозвали Лешим. Всех их надо угощать, всех поить, — говорил дядя Коровеш, упрашивая Али, чтобы тот ел без стеснения, как у себя дома. Потом, вспомнив об утреннем разговоре на дворе у Ндреко, сказал: — Вот, милый человек, не идут у меня из ума слова, которые ты выговорил про короля: «Пропади он пропадом!» Смелые слова и правильные. Король этот дает волю и попустительствует всем, кто нас угнетает: жандармам, сборщикам налогов, полиции, — всем, кто только дерет с нас шкуру. А кроме того, мы должны их же кормить и поить. И вот я уже давно думаю, почему король покровительствует беям и развязывает им руки, чтобы свободнее было душить нас, крестьян? Почему, скажем к примеру, ради удовольствия Малик-бея король допустил, чтобы выбросили на улицу, лишив хлеба и крова, несколько сот душ со всем их скарбом?
Али насторожился. Он понял, куда клонит старик, но сделал вид, будто ему об этом ничего не известно.
— Что это за Малик-бей, и о каких душах идет речь? — спросил он.
— Как, ты не знаешь про дело горичан? Не только люди, даже камни на дороге до сих пор оплакивают их судьбу!
— Да, да, что-то припоминаю. Но лучше расскажи мне поподробнее.
Дядя Коровеш не спеша закурил, разгладил свои длинные усы и откашлялся, чтобы лучше звучал голос.
— С чего же начать, господин мой? Такого дела, наверное, никогда у вас не случалось. А тут и мертвых не оставили спокойно лежать в могилах. Вот посмотри туда: видишь дальний лес и поле внизу? Все это некогда принадлежало горичанам. Какой могучий лес, какие плодородные поля! И вот порешили между собою горичане: «Испокон веков возделываем мы эту землю, наша она, кровная, и поэтому ничего не дадим из своего урожая Малик-бею. Вот еще! Мы будем работать, а бей нашими трудами пользоваться! Так не годится! Мы трудились — мы все и съедим». Тогда бей потащил их в суд. Суд сегодня, суд завтра… продолжалась эта тяжба ни больше ни меньше как пятнадцать лет кряду. Во главе горичан стояли решительные люди Линдо и Бандил; не боялись они ни бея, ни властей. В суде поначалу им посчастливилось: попался честный судья, решил тяжбу в их пользу. Но вслед за этим пришла бумага из Тираны — дело, мол, решено неправильно и будет пересматриваться. И пересматривалось оно еще один раз, потом еще и еще, и так целых пятнадцать лет! В Корче поднялись все адвокаты, все богатые торговцы, все ростовщики. Все они пришли на помощь бею, снабжая его деньгами. Ну, а кто заступится за бедняков? Захватили горичане большой кусок, а проглотить его не могут. Послали своего человека в столицу, думали, там у Малик-бея не найдется руки. Но бей всегда останется беем, и всюду у него найдутся друзья. А тут он и вовсе пришел в ярость: «Ни перед чем не остановлюсь и добьюсь решения в свою пользу!» И всюду он — то уговорами, то подкупами — заручился помощью властей, и кончилось дело тем, чем должно было кончиться: в самом высшем суде горичане проиграли.
Дядя Коровеш зажег потухшую сигарету и продолжал:
— И вот приняли решение, совсем не похожее на первое: поместье и земли признать неотъемлемой собственностью Малик-бея. Горичане, отказываясь платить ему оброк, совершили преступление.
Когда горичане узнали об этом решении, женщины, захватив с собой детей, отправились в Корчу — хотя и было это во время уборки урожая, — встали перед окнами префектуры и все в один голос начали кричать:
— Требуем свою землю! Требуем своего права!
Префект высунулся из окна, сделал гримасу, а потом приказал своим полицейским и жандармам: «Чтобы никого из этой швали у меня не оставалось под окнами!»
И вот его полицейские и жандармы вышли с плетками, с ружьями, с револьверами и принялись разгонять народ. Одного — по спине, другого — по лицу, третьего — по голове, хлещут куда попало. Не пощадили они ни женщин, ни детей. А те всё кричат: «Требуем свою землю! Требуем свои права!»
Как их поносили жандармы! Называли и суками, и разбойницами, и шлюхами — в общем всеми девяноста девятью бранными словами. А префект и жандармский начальник смотрели в окно и скалили зубы: уж очень им было весело.
Но тут одна женщина не выдержала и сумела за себя постоять, как надо. Это была невеста Нело. Вырвала она у одного жандарма револьвер и как стукнет его рукояткой по голове.
— Получай, сукин сын! Все мозги тебе вышибу!
Но тут подоспели другие жандармы, отняли револьвер и связали ее.
Старуха — жена Бандила — в кровь расцарапала жандарму лицо. Дочка Стефо отпустила две хороших оплеухи офицеру — так, что у него искры из глаз посыпались. Но бой-то был неравный: у тех палки и револьверы, а у этих — кулаки, ногти да крик истошный… Будь поблизости камни — другое дело.
В общем переполох вышел на всю Корчу. Мужчины, женщины и дети сбежались к церкви святого Георгия, что находится напротив префектуры; все возмущались жандармами и жалели несчастных крестьян. Когда демонстрацию наконец разогнали, на жандармов нельзя было смотреть без смеха: у одного разорвана рубашка, у другого — штанина, у третьего лицо в крови, у четвертого растрепаны волосы. Горичане сумели за себя постоять…
— Подумать только, что это было… — пробормотал Али, не спуская глаз с дяди Коровеша.
— Это все пустяки, а вот ты послушай, что было дальше. Послушаешь — кровь в жилах застынет.
— Расскажи, дядя Коровеш, расскажи, — попросил гость.
— Наступил день, когда правительство известило горичан, что они должны оставить свои дома и уйти из села. А куда им, бедным, пойти — это никого не интересовало. Горичане не сдвинулись с места. Тогда в село нагрянули на грузовиках пятьдесят жандармов.
— Убирайтесь, разбойники! Вон отсюда! — приказали жандармы и принялись выбрасывать крестьянский скарб на улицу.
Как завидели это женщины, — кто с дубинкой, кто с камнями бросились на жандармов, и опять пошла потеха! А те отбивались прикладами. Женщины совсем озверели, жандармы ничего не могли с ними поделать. Пришлось им опять садиться на грузовики и возвращаться в Корчу. Троих жандармов тут же отправили к доктору — у них были разбиты головы, но и жандармы в свою очередь
сильно избили пятерых женщин.
Великий гнев вызвало это событие в Корче. Жандармский начальник скрежетал зубами, ругал своих подчиненных на чем свет стоит, обвинял их в том, что в их лице нанесено оскорбление власти. Через неделю он собрал всех жандармов, что были в Корче, и отправил их в Горину. Сколько их было, как ты думаешь?
— Ну, человек семьдесят?
— Вот и не угадал. Целых две сотни жандармов с ружьями, с пулеметами! Оцепили они село и начали неистовствовать. Избивали женщин, но и те не сидели сложа руки, а дрались с жандармами чем попало: камнями, поленьями, кастрюлями. Но что они могли поделать? Жандармы повыбрасывали все вещи, так что к вечеру дома оказались разгромленными, никому даже не позволили вернуться к себе. Какой тут поднялся плач, какие вопли! В окрестных селениях даже было слышно! Несколько дней подряд громили жандармы село, и вот до чего додумались, изверги! Горица далеко от озера, так что жители ее брали воду из колодцев. Так жандармы взяли и набросали в колодцы дохлых кошек, собак, всякого мусора — пусть горичане вместе со своими детьми погибают от жажды!
И пришлось горичанам уходить из родного села. Были они совсем как обезумевшие… Целовали пороги своих домов, стены, землю. В слезах последний раз глядели на холмы, поля, рощи — родные, дорогие места. И опять целовали стены домов и землю, и опять стонали и рыдали. А потом взвалили на спину все, что могли с собой захватить, остальное бросили — и навсегда ушли от родных очагов. С плачем вышли они на шоссейную дорогу, словно направлялись прямо в могилы, выкопанные для них правительством. Целых три месяца прожили они под открытым небом в придорожных канавах; поливал их дождь, дрожали они от холода; есть было нечего, многие заболели. Кончилось дело тем, что им кое-как удалось перебраться через границу.
— Подумать, подумать только, что сделало правительство с этими людьми! Но ради чего оно так поступило? — задал вопрос Али и уже сам собирался на него ответить, но старик перебил его:
— Ради чего? Ради удовольствия Малик-бея. Вот какое у нас замечательное правительство! Ради одного человека оно с корнем вырывает целое селение со всеми его жителями. Славно, славно! Даже во времена турецкого владычества не случалось такого! — проговорил старик и уселся на соломенной подстилке.
Али с большим вниманием прослушал рассказ о трагедии горичан, разыгравшейся в 1932 году. Чего только не писали тогда в их осуждение правительственные газеты! Парламент в течение часа принял новый закон, выгодный для Малик-бея. И вот теперь Али довелось услышать подробный рассказ об этой трагедии из уст старого крестьянина. «Вот как об этом событии думает народ!» — мелькнуло в уме Али. И он сказал:
— Не воображай, дядя Коровеш, что правительство все это сделало только в угоду Малик-бею.
— Как же не так? Разве об этом можно забыть? — удивленно возразил старик.
Али улыбнулся:
— Ты прав, правительство, чтобы угодить Малик-бею, не остановилось перед тем, чтобы сровнять целое село с землей. Однако ты не думай, будто это сделано только ради одного бея Горицы. Нет, в этом были заинтересованы все беи, все байрактары. Правительство понимало, что, если оно не расправится с горичанами, если они выиграют свою тяжбу с беем, завтра их примеру могут последовать крестьяне других сел: и они взбунтуются против беев, и они заявят о своих правах. И неизвестно, к каким последствиям, к каким бедам для правительства все это может привести!
— Верно ты сказал, гег! Именно так оно и было!
— Да, дядя Коровеш! Беи, байрактары, эфенди — все они друг за дружку держатся, они и в правительстве, и в парламенте, и в префектуре — всюду…
— Это верно. Между ними тесный союз.
— А для чего они составили этот союз? Чтобы жить в свое удовольствие! Накапливать богатства, приобретать имения, строить дворцы и средства для всего этого высасывать из крестьян и рабочих. И стоит одному из них в чем-нибудь потерпеть ущерб, как все остальные воспримут это словно кровную для себя обиду. Вот почему все они поднялись на защиту интересов Малик-бея в Горице, вот почему они поддерживают Каплан-бея здесь, в Дритасе, и всех остальных беев, где бы они ни находились.
— Именно так! Правильно говоришь, друг, правильно! — повторял старик, делая затяжку за затяжкой. Потом вдруг встрепенулся, словно вспомнил еще что-то. — А знаешь, кому досталась земля горичан? Тем, кто помог Малик-бею выиграть тяжбу: богатым торговцам, адвокатам и им подобным. Один получил большой участок на берегу озера, другой — хороший куш деньгами; всех отблагодарил бей по положению и чину.
Постепенно к собеседникам опять подошли Эфтим, Зарче, Калеш, Барули, Шоро и Зизел. К ним присоединились Шумар, Терпо и еще несколько крестьян, которым хотелось послушать гега. Круг расширился. Теперь дядя Коровеш говорил совершенно откровенно. В конце-то концов, подумал он, ничего особенно дурного про беев здесь не было сказано. Он всего-навсего поведал этому гегу печальную историю горичан. Кто ее здесь не знает и кто не оплакивал их горькой участи?
Покручивая редкие усы, рассказал несколько историй о возмутительной жадности ростовщиков дядя Терпо. Другие крестьяне подтвердили достоверность его слов.
Все это произвело на Али большое впечатление. «Когда соприкоснешься вплотную с крестьянами, какие страшные раны раскрываются перед тобой!» — подумал он.
— Но если бы все крестьяне, — заговорил Али, — тоже объединились и поклялись друг другу в верности, никаким беям ничего бы не удалось с ними сделать!
Он сказал это так просто и вместе с тем так убедительно, что никто из крестьян не усомнился в его правоте и никто не испугался, как это было утром. И только дядя Эфтим заметил:
— Вот, милый человек, горичане ведь были объединены, а чего они добились?
— Все-таки им удалось долго сопротивляться именно потому, что они были объединены. Но беда их состояла в том, что они остались одни. Если бы к ним примкнули крестьяне других сел, тогда бы вы увидели, как могут дрожать поджилки у беев и представителей власти!
— Опять верно сказал, друг, именно так! — снова отозвался дядя Коровеш. — Разве нашим мозгам до этого додуматься? Да можно ли зайцев объединить в стадо?
— Вы же не зайцы, а люди, дядя Коровеш! А люди должны быть едины, — возразил Али и с воодушевлением продолжал: — Есть на свете большая страна, очень большая… Она называется Россия…
— Да, да! Мы слышали, что русское государство очень могущественно! — перебило его сразу несколько голосов.
— Как же, как же! Мне племянник кое-что рассказывал про Россию, но продолжай, прошу тебя, — сказал Коровеш.
— В той стране крестьяне объединились с рабочими, свергли царя, свергли своих беев, ага, эфенди, ростовщиков и взяли власть в свои руки. Стали хозяевами над всеми фабриками, поместьями, богатствами. И теперь у тамошних крестьян есть своя собственная земля.
— Славно, славно! Молодцы!
— Ей-ей, великое дело совершили!
— Неужто так взяли и прогнали всех беев?
— И даже самого царя?
— И все взяли себе рабочие и бедняки крестьяне? Вот это народ!
— Однако среди этих бедняков, наверно, были очень умные люди, если им удалось совершить такое большое дело? — осторожно спросил дядя Коровеш.
— Верно, дедушка! Нашлись там очень умные люди, которые встали во главе крестьян и рабочих. Это были большевики…
— Эге! Именно большевики, я кое-что про них слышал. Большевики! — воскликнул Шумар, хотя представлял себе большевиков очень смутно.
Ему рассказывал о них молодой болгарин, бежавший из своей страны и добравшийся до Албании. Но то было давно. Позже беглец из Греции, македонец Ило Дигалов, которого вскоре, осенью 1922 года, греки все же убили, некоторое время скрывался в Дритасе, где его спрятали крестьяне. Он тоже рассказывал про большевиков.
— У меня ум простой, деревенский, — разве запомнишь все, что приходится слышать? Повстречаешься с человеком где-нибудь в пастушеском стане, покуришь, поболтаешь, а потом расстанешься и все забудешь, — объяснил дядя Шумар и затем добавил: — Но слово это — «большевик» мне приходилось слышать и от людей совсем другого рода: начальник общинного управления — как раз в то время, когда горичане судились с Малик-беем, — сказал мне, что их подстрекают и натравливают на бея большевики. Но что они из себя представляют, об этом он ничего не сказал.
— Ну и что же дальше? — обступили крестьяне гега, требуя, чтобы он продолжал свой рассказ о России. Они не спускали с гостя глаз, не смели кашлянуть, забыли про курево.
Шумар слушал, приложив ко лбу палец, будто старался вспомнить, что ему говорили про большевиков болгарин и македонец. Терпо по своему обыкновению теребил кончики усов и смотрел на Али таким взглядом, в котором ясно выражался вопрос: «А правду ли ты нам рассказываешь?» Дядя Эфтим только приговаривал: «Вот это люди, вот это люди!» Зарче кивал головой, подтверждая каждое слово гега, но все же вид у него был такой, словно, веря в то, что это возможно в России, он никак не мог допустить, чтобы подобные дела когда-нибудь могли свершиться в Албании. А дядя Коровеш пожирал рассказчика глазами и не переставал повторять: «Так, именно так, верно говоришь, друг!» Гьика же и дышать боялся, всем своим существом перенесся в мир, о котором рассказывал его друг.
Когда гег умолк, дядя Коровеш воскликнул:
— Значит, ты говоришь, мы все станем как бы братьями и сестрами? Но ведь мы люди и плохо ладим между собой. Как же это мы вдруг переделаем весь мир? — Но тут же, будто раскаявшись в своем неверии, поспешил добавить: — Впрочем, все возможно, все может быть. Но такое братство, о котором ты здесь говорил, может наступить, только когда мы станем другими.
— К этому мы и должны стремиться, дядя Коровеш! Крестьяне, рабочие и ученые люди нашей страны должны объединиться, и тогда вы увидите, какая у нас начнется жизнь! Подумайте только! Какими вы, крестьяне, станете счастливыми, когда получите землю! Когда сами станете пользоваться плодами своих трудов и никто не посмеет у вас их отнять! — сказал Али.
— Все это похоже на сон. И он слишком хорош, чтобы сбыться, — возразил Шумар.
— Это не сон, если только крестьяне объединятся…
— Опять… если… А возможно ли это? — снова перебил гега дядя Коровеш. — Или ты, милый человек, никогда не слышал нашу поговорку: «Потряси любую ветку в лесу — и стряхнешь с нее сотню беев!»? Ведь им несть числа! Они сильны, они объединены, у них деньги, богатства, приспешники, войско! Эх! Что такое они и что такое мы? Стоит нам пальцем шевельнуть, как нас постигнет та же участь, что и горичан. Останемся и без крова и без имущества.
— Мы все в руках у бея, — поддержал старика Шумар, — он потребует с нас хлеб и сам его взвесит. Половина урожая так и сгорает на ниве, другую половину забирают для бея кьяхи. А нам уже на роду написано работать и умирать с голоду.
«Они не верят в собственные силы! Как с ними надо много и упорно работать!» — подумал Али, услышав эти слова, и сказал:
— Вы должны верить, что можете добиться всего, и, если поверите в это, так оно и будет. Ведь вы, крестьяне, даете хлеб, рабочие дают одежду и обувь, строят дома. Кто трудится, тот победит! Можете не сомневаться.
Гьика все время молчал и внимательно слушал. Он хотел о многом сказать, но боялся нарушить ход мыслей Али и только изредка приговаривал:
— Добьемся, непременно добьемся!
Али пробыл в селе всего сутки. Не хотелось ему уходить отсюда, но оставаться дольше не мог: в течение двадцати четырех часов он обязательно должен был явиться в полицию в Корче, иначе его объявят скрывшимся, а он не хотел подвергать неприятностям и обыскам своих друзей в этом городе.
На другой день ранним утром он долго беседовал с Гьикой и Бойко, сыном Терпо. Бойко был решительнее Петри, беднее его и теснее связан с Гьикой, так как собирался жениться на его сестре Вите. Петри на эту беседу они не позвали. Али наказывал друзьям энергичнее вести пропаганду среди крестьян, побуждать их вредить бею, его подручным и представителям власти. Затем он пустился в обратный путь. Дорогой к нему присоединился Петри Зарче. Его послал Гьика, надеясь, что время, проведенное с Али, пойдет Петри на пользу.
Проводить Али вышел и дядя Коровеш. Наклонившись к самому его уху, он шепнул:
— Только вот такие, как ты, милый человек, могут сделать из нас настоящих людей. Так-то… Вот ты уходишь, но сердце твое остается с нами. Очень мы довольны твоим разговором. Дело говоришь…
А Калеш сказал ему на прощанье:
— Что же это такое? Забрался ты так далеко, а уходишь, ничего не купив. Правда, ты искал волов и быков, но, ей-богу, мог бы вместо них купить хоть одну козу!
— Козы ему не годятся, ему нужны только волы и быки, — улыбаясь, ответил Гьика.
— Волы и быки! Или ты не знал, гег, что хотя село наше и называется хлебным
[23], но в нем и хлеба не найти, а не то что быков! — покачал головой Селим Длинный.
Али и Гьика пошли через село. Дядя Коровеш смотрел им вслед.
«Простой гуртовщик, а какой знающий, даже не верится. А как складно говорит, речи его — чистый мед. Уж не большевик ли он, чего доброго?» — думал старик.
И хотя прошло уже много времени после их разговора, только сейчас дядя Коровеш впервые усомнился в том, что этот гег — действительно скупщик скота.
Гьика и Али приблизились к башне бея.
— Вот где амбары с зерном! — сказал Гьика.
— Иными словами, здесь находится хлеб всего вашего села! — тихо проговорил Али.
— Мне приходила в голову мысль обворовать амбары, — продолжал Гьика. — Советовался я с Петри. Но это совершенно невозможно. Ты взгляни только на башню — сплошные каменные стены и железные решетки на окнах. В комнате рядом с амбаром спят кьяхи. Не то что вынести мешки — внутрь не проникнуть!
Али внимательно посмотрел на башню.
— Да, сюда не проникнуть. — Он немного подумал и затем, понизив голос, почти шепотом убежденно сказал: — Огнем, только огнем! Другого средства нет!
Будто молния сверкнула перед глазами Гьики.
— Огонь! Огонь! — прошептал он, но не решился спросить у Али, что он имеет в виду. Боялся услышать от него еще раз это такое важное, такое страшное слово.
Гьика проводил Али до поворота. Дорогой они говорили о многом — о бее, о голоде в деревне, о кьяхи, о ценах на дрова и уголь, об охоте, о товарищах в Корче. Но об огне ни один из них больше не упоминал. На прощанье они обнялись и расцеловались.
— Прощай, дорогой Гьика, не забывай нас, почаще заглядывай в Корчу. Я убедился, что ты хорошо поработал в селе, но этого еще недостаточно, — проговорил Али, в последний раз пожимая ему руку.
Гьика улыбнулся в ответ, но улыбка эта была печальной. Долго смотрел он вслед удаляющимся Али и Петри, пока они не скрылись за неровными выступами холмов. Гьика вспомнил, что ему еще надо пойти на пастушеский стан дяди Коровеша — взять немного козьего творогу. И он стал подниматься по склону горы, задумчивый и печальный, словно что-то потерял. Из этого состояния его вывела жена Топче, повстречавшаяся на пути:
— Что с тобой, Гьика? Идешь и даже не взглянешь, — шутливо обратилась к нему Топчевица, сгибаясь под вязанкой хвороста.
— Ах, это ты, тетя Кёла? (Он называл ее тетей потому, что она приходилась ему дальней родственницей.) Я и впрямь задумался! Ну, как поживаешь? Откуда идешь? — спросил Гьика, словно пробуждаясь ото сна, и, не дожидаясь ответа, быстро пошел дальше. Сознание его было пронизано одной мыслью, одним словом. И сердечное расставание с Али, и простодушная веселость Петри, и шутливый оклик Топчевицы, звуки ее шагов, шелест ветра в древесной листве — все, все вокруг повторяло ему только одно слово, произнесенное Али:
— Огонь! Огонь!
IV
Петри вернулся из Корчи оживленный, повеселевший и более зрелый в своих суждениях.
— Смотри-ка! Можно подумать, что Али тебя заколдовал! — со смехом замечал ему Гьика, всякий раз когда Петри резко отзывался о бее или о Лешем.
— Али!.. Душа человек этот Али, и голова у него замечательная! — восторженно откликался на это Петри и потом спрашивал: — Скажи, что мы должны делать?.. Я готов!
Гьика клал руку на плечо своего друга и отвечал:
— Нет, ты скажи, что мы должны делать?..
На самом же деле Гьика прекрасно знал, что теперь нужно предпринять. Нужно выполнить обещание, данное им Али. Амбары бея полным-полны, и не сегодня-завтра весь урожай повезут в Корчу. Надо сжечь этот хлеб, и как можно скорей. Каждый раз, когда ему приходилось проходить мимо башни — а это случалось ежедневно утром и вечером, — он, сжав зубы, с ненавистью смотрел на этот склад зерна. Внимательно вглядывался в стены башни: вся она сложена из камня, крыта черепицей, в окнах железные прутья, на дверях замки, здесь же неусыпный страж, Леший. Будь это жалкие крестьянские лачуги, не потребовалось бы особой хитрости: стоило только чиркнуть спичкой, и они сразу бы запылали… Но как быть с каменной крепостью?
— Ничего не могу придумать, — вздыхал Гьика и проходил мимо с таким видом, словно был в чем-то виноват. Да и самое слово «огонь» возбуждало в нем тревогу. Стоило вспомнить о нем, как сразу же перед глазами возникали языки пламени и клубы дыма; слышался треск, вопли, плач… Такую картину пожара ему довелось видеть в Каламасе, когда сгорел дотла дом одного крестьянина. Случилось это так… Жена этого крестьянина пекла лепешки и — такая неосторожная — положила в печку слишком много сухих дубовых сучьев… Пламя взвилось под самую крышу, искры попали на солому, и вмиг хижина запылала. Нет, с огнем шутить нельзя!.. А ведь в пятидесяти шагах от башни находятся дома Шоро и Зарче, — не дай бог, на их соломенные крыши попадут искры! Тогда они пропали! А виновником окажется Гьика! Разве мог он это допустить? Вот почему Гьика никак не решался на поджог… Он боялся с кем-нибудь посоветоваться, а когда думал о своем плане, мурашки пробегали у него по коже.
В один прекрасный день кьяхи собрали на площади Шелковиц крестьян по одному от каждого двора и объявили им волю бея: весь хлеб должен быть доставлен в Корчу, куда он запродан на корню.
— Завтра — и ни днем позже — все лошади и ослы, все телеги, какие только есть в селе, должны быть нагружены зерном и отправлены в Корчу, — приказал Леший, постегивая по сапогам хлыстом с богато украшенной ручкой, которую ему прислал из тюрьмы один его приятель.
— Мне завтра надо на мельницу ехать, у меня в доме — ни горстки муки… — почесывая затылок, возразил Шоро.
— А я собирался в лес за дровами, — продам их и заработаю хотя бы на ок муки… — пробормотал Барули.
Кара Мустафа вытаращил глаза, заскрежетал зубами, погрозил хлыстом и со злостью в голосе крикнул:
— Завтра и не позже! Завтра!
— Ну конечно, Мустафа эфенди, ну конечно же! Ради его милости бея мы готовы отправиться хоть сегодня, а не то что завтра. Наш долг — доставить хлеб, куда соизволит приказать бей, — проговорил Рако Ферра. И в словах его и во всех его движениях было столько угодливости, словно он, пресмыкаясь, лизал Лешему сапоги.
Гьика легонько подтолкнул Петри. Юноша покраснел и опустил голову.
— Молодец, Рако! Только ты один здесь настоящий человек, а эти… А эти!.. Эх, если бы Каплан-бей мне только позволил, я всех бы их до единого облил керосином и сжег живьем! — проскрежетал Леший и со всего размаху стеганул хлыстом по стволу шелковицы.
— Послушать только! Он бы всех нас облил керосином и сжег живьем… Так прямо и сказал! — горько усмехнулся Петри.
Однако Гьика не придал значения словам надсмотрщика: разумеется, Леший именно так и должен говорить, но он произнес одно слово, которое Гьика удивленно и радостно повторил за ним шепотом:
— Керосин!..
Можно было подумать, что это счастливое открытие сделал сам Гьика, но ему немного страшно было додумать до конца все, подсказанное этим словом.
— Послушай, добрый Мустафа эфенди! Пусть Шоро и Барули съездят с утра на мельницу, свезти в Корчу хлеб они успеют и после, — проговорил дядя Коровеш.
Леший метнул на него злобный взгляд.
— Никого я не отпущу! Все должны с утра ехать в Корчу. А ты, старик, придержи язык!
Коровеш ничего не ответил на этот грубый окрик. Открыл свою табакерку и принялся скручивать цигарку.
— У меня завтра в Поле работа…
— А у меня навоз на гумне не убран…
Так переговаривались между собой крестьяне. Каждый должен был бросить свое дело и по принуждению отправиться со своими лошадьми и ослами в Корчу. Все это займет не меньше двух дней… А расходы!..
— Добро бы только нас гнали… А то запрягай и скотину!..
— Лошадь — тоже живая тварь… И устанет, и есть захочет дорогой… А сунься-ка на постоялый двор за сеном! Опять же деньги! Бею, небось, до этого дела нет!
— Почему бей не наймет два-три грузовика? Они живо доставят весь хлеб, куда ему надо. А мы как-нибудь довезем его до шоссе.
— Очень ему это надо! У кого есть щипцы, тот не станет обжигать себе пальцы!
— А этот змей, этот Рако Ферра!.. Заладил одно: «Мы все поедем, непременно!» Когда же дойдет до дела, он и лошади своей не даст и сам куда-то запропастится!
Так говорили крестьяне; и только один Гьика молчал, думая о чем-то своем. Даже Петри удивился:
— Что с тобой, Гьика? Ты сам не свой. Ничего не поделаешь, придется везти хлеб. Стену лбом не прошибешь! Слышал, как он сказал: «Всех бы их облил керосином и сжег»?.. Ему бы только головы рубить! Думаешь, не сумеет? Да ведь это настоящий палач!
А Гьика лишь покачал головой и еще раз прошептал:
— Керосин!
Леший назначил час, когда крестьяне должны явиться с телегами для погрузки зерна. Затем все разошлись.
— Видел? Он сегодня и не пикнул! Это потому, что я недавно как следует его отделал! — обратился Кара Мустафа к Рако, провожая взглядом уходившего Гьику.
Рако посмотрел ему вслед и улыбнулся.
— «Ты еще не знаешь, с кем имеешь дело!» — сказал я ему, — продолжал Леший, — и предупредил в открытую: «Если ты еще раз позволишь себе что-нибудь подобное, я тебе голову сверну! Даю тебе честное слово». И в самом деле, если он хоть малость провинится, велю раздеть его догола, поставить на площади и хорошенько отстегать крапивой! Так что ему после этого будет стыдно на селе показаться! Видел, как он повесил нос? И здесь стоял, будто мокрая курица!
Кара Мустафа рассказывал своему приятелю про Гьику в насмешливо-пренебрежительном тоне, имея в виду недавнее происшествие. Как-то Гьика вместе с сестрой возвращался с поля. Шли они по тропинке через рощу и пели новую песенку, которую сами сложили:
Дритас с беем нынче в ссоре,
Ой, ой, ой…
Случайно поблизости оказались Леший и Яшар. Они прислушались к песне и разобрали ее слова. А слова были про налоги, про тяжкий труд на бея и — что самое ужасное — про самого бея! Лешему кровь ударила в голову, и он с ружьем наперевес преградил путь Гьике и его сестре.
— Ах ты разбойник! Ах ты негодяй! Про кого ты осмеливаешься петь такие срамные песни? — заорал он, готовый ударить Гьику.
Перепуганная девушка вскрикнула. Гьика остановился и, сжимая в руке топор, спокойно посмотрел Лешему в глаза.
— В чем дело? Разве правительство запрещает петь?
— Я тебе покажу, разбойник, негодяй! — заскрежетал Кара Мустафа, и на губах у него выступила пена.
— Заткни глотку, не ругайся! Постыдился хотя бы девушки! — с невозмутимым хладнокровием отрезал Гьика и, бросив на него исполненный презрения взгляд, продолжал свой путь.
— Разбойник! Я еще тебе покажу! Ты еще увидишь, что я с тобой сделаю! — кричал ему вслед Леший, однако сам оставался на месте.
Вот об этом-то происшествии Леший рассказывал Рако Ферра и другим своим приятелям, но только в сильно приукрашенном виде.
— Представь себе, Рако, я закатил ему пощечину! Морда у него сразу стала красная, как огонь, а из глаз искры посыпались! «А-а-ай!» — завизжала молодая сука, бывшая с ним, и наутек! Разбойник что-то хотел сказать, а я его р-раз по другой щеке! «Спой-ка, спой-ка еще!» — сказал я ему. Ну, а ему уже не до песен!..
Этот рассказ слышали в селе многие, так что в Дритасе вскоре распространился слух о том, что на лесной просеке Леший до полусмерти избил Гьику. Слух этот дошел и до самого Гьики, но его никак не тронул.
Со сходки Петри возвращался вместе с Гьикой. У Петри тревожно билось сердце: он все ждал, что вот-вот Гьика заговорит с ним о тесте, который сегодня открыто защищал интересы Каплан-бея. Однако Гьика, идя рядом, не проронил ни слова, а когда они расставались, попрощался с Петри очень холодно, — это случилось впервые. У юноши пребольно сжалось сердце.
«Конечно, — решил Петри, — Гьика на меня рассердился за то, что я не возражал тестю».
То, что Рако Ферра говорил глупости, было Петри понятно, но, если бы он в присутствии всех начал спорить с тестем, это было бы еще глупее.
Петри пришел домой задумчивый и печальный. Вывел из конюшни кобылу, взял топор. Надо отправляться на работу. И снова что-то больно укололо его в сердце: неужели он утратил дружбу Гьики именно теперь, когда познакомился с Али? Позор!..
— Черт меня угораздил полезть в зятья к Рако Ферра! — в отчаянии прошептал он. Эта мысль возникла у него сейчас впервые.
Петри решил теперь же отправиться к тестю и прямо сказать ему, что тот нехорошо поступает, поддерживая бея. Он привязал кобылу у сарая и, захватив с собой топор, собрался идти.
— Петри, ты куда? — окликнула его мать.
— К тестю, топор у него поточить. А ты мне пока положи хлеба в мешок.
Размышляя дорогой, Петри все более приходил к заключению, что он виноват, и признавал, что Гьика, рассердившись на него, был прав.
— Черт побери! Если я сам не скажу тестю, что он поступает неправильно, кто же ему это скажет? — мучился он угрызениями совести. — Нет! Сегодня же все выскажу! Пусть даже мы с ним поссоримся!
Петри подошел к дому Рако Ферра; на лице его выступил холодный пот. Войдя во двор, он наткнулся на будущую тещу, которая возилась с теленком.
— Это ты, Петри? Иди, иди-ка сюда! Этот упрямый дьявол никак не выходит из хлева. Надо бы сводить его на озеро, напоить.
— У меня нет времени. Нужно повидать тестя. Он дома?
— Еще не приходил, но сейчас должен вернуться. Подожди его немного. А зачем он тебе так спешно понадобился?
Петри покраснел: что ей ответить? Василика, услышав голос любимого, высунулась из окна и радостно посмотрела на него смеющимися глазами. Юноша почувствовал на себе ее взгляд и улыбнулся в ответ, но так, чтобы теща не заметила его нежной улыбки. Он покраснел еще больше, но теперь это был румянец любви. Все принадлежавшее семейству Рако Ферра было связано с Василикой, все принадлежавшее ей, принадлежало семейству Ферра. И поэтому ко всему, что было связано с этой семьей, Петри испытывал какую-то нежность. Каким привлекательным показался ему сейчас прыгавший на дворе теленочек, какой милой казалась ему теща; даже окно, из которого с лукавой нежностью поглядывала его суженая, показалось ему замечательно красивым. Разве он способен теперь высказать тестю слова осуждения, упрекать и обличать его? Это значит огорчить Василику, вызвать слезы на этих прекрасных глазах, которые сейчас улыбаются ему из окна, согнать радостную улыбку с этих розовых уст, словно только и ожидающих, как бы слиться в поцелуе с его устами!
— А вот и Рако! И с ним кьяхи. Эти дьяволы совсем его окрутили! — проговорила теща.
Петри будто кто-то ударил. Василика тотчас же скрылась.
— Петри! Почему ты здесь? Ведь ты собирался в лес за дровами? — спросил его Рако.
— Я пришел попросить точильный камень — не знаю, куда наш задевался… — смущенно проговорил Петри.
Леший, пришедший вместе с Ферра, расхохотался:
— Нечего сказать, хозяйственный у тебя будет зятек, Рако! Настоящий лев! А ты, теща, должна бы хорошенько угостить зятька! Не то он будет плохо обращаться с твоей дочкой.
— Он к нам не ради угощения заглядывает, — засмеялась жена Рако и, обратившись к Петри, спросила: — Если тебе был нужен точильный камень, почему же ты мне сразу об этом не сказал? Я и сама могла его дать.
Петри долго не задерживался: поточил топор и ушел.
— Зачем тебе понадобился точильный камень у тестя, когда наш собственный лежит у тебя в мешке? — удивленно спросила его мать.
— Ладно, ладно… — процедил Петри сквозь зубы, взял под уздцы кобылу и отправился в лес.
— Скотина я, скотина! — дорогой ругал себя Петри, подстегивая лошадку. — Чтобы загладить вину перед Гьикой, я должен был поговорить с тестем начистоту. Но мог ли я это сделать?.. А как на меня посмотрела Василика!.. Словно обожгла!
Размышляя таким образом, он брел с опущенной головой и вполголоса затянул песенку, слышанную недавно в Корче:
…Покажись, красавица, в окошке,
На себя взглянуть позволь разок!..
Внезапно он резко оборвал пение: далеко впереди себя он заметил Гьику, поднимавшегося по горному склону. Остальную часть пути Петри шел молча, думая то о Гьике, то о Василике, но больше — о Василике.
А Гьика тоже направлялся в лес. За неделю перед этим он нарубил дубовых веток, подготовляя запас на зиму. Отец с сестрой отправились в лес еще с утра. Теперь шел и он, задумчивый, мрачный, с топором на плече.
Придя на место, Гьика увидел, что старый Ндреко и Вита до его прихода успели много сделать: нарубленные ветки были сложены рядышком, там, где наметил Гьика. Теперь родные дожидались его. Ндреко, состарившись, уже не мог достаточно аккуратно укладывать ветки. В прошлом году он так их сложил, что, когда наступила зима и женщины пришли в лес за листвой, она вся погнила, потому что сквозь плохо уложенные сучья в листву проникал снег.
— Когда-то я в этом деле был мастер: так листву складывал, словно букет, — цветок к цветку подбирал. А теперь, сам вижу, состарился… никуда не гожусь…
Гьика сбросил с себя куртку, засучил рукава и принялся за дело. Сестра подавала ему дубовые ветки, а он располагал их вокруг высокого, вбитого в землю кола.
— Как здоровье внучка, Гьика? Ведь я его с утра не видел, — спросил старик.
— Когда я уходил, он плакал. Наверное, малость простудился.
— Да сохранит его бог! Столько радости принес он в наш дом! Такой малюсенький, весь с кулачок, а стоит его позвать — сейчас же поворачивает головку! Да сохранит его господь! — проговорил Ндреко и перекрестился.
— Да! Совсем было позабыл! Зачем вас сегодня созывали кьяхи? — после короткого молчания спросил старик.
Гьика в сердцах швырнул на землю дубовую ветку.
— Черт бы их побрал! — проскрежетал он и затем чуть спокойнее добавил: — Сам знаешь, отец! За хорошим они нас созывать не станут.
— Это известно! Вот потому я и спрашиваю: зачем?
— Велели завтра с утра явиться с лошадьми, ослами и телегами, везти в Корчу хлеб Каплан-бея.
— Чтоб не было бею от него проку! — воскликнул старик и склонился над дубовыми ветками. — Я так и знал, что они придумали для нас новую повинность.
Старик начал складывать ветки, но вскоре, о чем-то вспомнив, воскликнул:
— Как же так, Гьика? Ведь завтра мы должны укладывать листву у Сухого ручья!
— А какое Лешему до этого дело? — ответил Гьика, в сердцах топнув ногой. — Придется этим заняться тебе с Витой. Может быть, если маленькому станет лучше, и Рина подсобит. Откладывать это дело нельзя. Коли будете дожидаться меня, — а вернусь я не раньше, как через два-три дня, — все нарубленные ветки засохнут. Как бы там ни было, придется вам самим управиться!
Так говорил Гьика отцу, а сердце у него сжималось от боли. Завтра ранним утром должны подняться все крестьяне со своими лошадьми и ослами и, бросив на два-три дня все свои дела, погрузить хлеб Каплан-бея и везти его в Корчу. Только вчера бей украл этот хлеб у крестьян, а завтра эти самые обворованные им крестьяне должны на своем горбу тащить хлеб в Корчу, чтобы бею не пришлось тратиться на перевозку!.. А как быть с тем, что советовал ему Али?.. Правда, он сказал ему об этом только раз, но для мужчины этого должно быть достаточно. А что сделал Гьика, чтобы выполнить наказ Али?
Такие мысли совершенно измучили Гьику. Весь день он работал в состоянии какой-то растерянности. Ни разу не улыбнулся. Сестра затянула вполголоса песню, надеясь, что брат, по своему обыкновению, подтянет, но куда там: Гьика и рта не раскрыл.
— Милый брат, не печалься о маленьком! Ведь это обычно бывает с детьми: простужаются, не могут заснуть, плачут!.. Разве с нами в детстве так не случалось? — попробовала утешить брата Вита, думая, что Гьику тревожит болезнь ребенка.
Стоя на ворохе листьев, успевшем за это время вырасти у него под ногами, Гьика посмотрел на сестру и с печальной улыбкой покачал головой.
Когда они кончили работу, солнце уже садилось за вершиной Сухой горы. Гьика слез с громадной кучи листьев и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Она походила на хороший стог сена. Но Гьика все же остался недоволен: хранилища, устроенные им в других местах, получились лучше.
— Вы с отцом идите домой, а мне нужно нагрузить осла хворостом, — сказал им Гьика и отправился дальше.
Вскоре он подошел к пастушескому стану, где Бойко пас стада Шумара и еще нескольких крестьян.
Гьика отвел Бойко в сторону и долго говорил с ним о предстоящей перевозке зерна. Бойко, как всегда, был готов действовать, достаточно было ему только приказать. Однако в чем будут состоять их действия, Гьика не сказал. Велел только сегодня к полуночи оставить стадо, незаметно пробраться в село и ждать в кустах в условленном месте. Гьика подаст сигнал, бросив три камня. Тогда Бойко должен выйти из кустов. Но что они будут делать после, — этого Гьика так и не сказал.
Затем Гьика топором выкорчевал несколько пней, нагрузил их на осла и пустился в обратный путь. На душе у него было мрачно. Когда он добрался до села, уже стемнело. Приблизившись к башне бея, он увидел, что окна одной из нижних комнат освещены. Оставив осла с поклажей в стороне, он осторожно подкрался к окну и заглянул внутрь. Он увидел, как пятеро крестьян ссыпали в мешки зерно, в то время как Леший, Яшар и Рако Ферра с безменами в руках взвешивали мешки. Вдоль стены стояло около сорока мешков, полных зерна.
Все так же осторожно, на цыпочках, Гьика отошел от окна и отправился со своим ослом домой.
Кьяхи хорошо придумали: уже с вечера наполнить зерном мешки, чтобы утром они были готовы для отправки. Но Лешему пришла на ум еще одна счастливая мысль:
— Что ты скажешь, Рако, если мы взвесим мешки? Ведь, разумеется, кому-нибудь из этих мошенников вздумается дорогой отсыпать себе зерно, а потом в Корче они будут уверять: «Сколько нам дали, столько мы и доставили!» Ведь это же отъявленные плуты!..
— Отлично придумано, Мустафа эфенди! Против безмена они уже ничего не смогут поделать! — одобрил его мысль Рако.
Вооружившись двумя безменами, они принялись за дело и закончили его уже глубокой ночью. Всего было наполнено и взвешено сто тридцать мешков: семьдесят с пшеницей, двадцать с рожью и сорок с ячменем. Вику и двадцать пять мешков ржи кьяхи еще до этого продали в Дритасе и в соседних селах для покрытия своих личных мелких расходов. На эти же расходы предназначались и оставленные ими в закромах пятнадцать мешков пшеницы и около пяти мешков ячменя. Вторую комнату, где тоже хранилась пшеница, они даже и не открывали: для этого зерна не хватило мешков.
— Ох, и устал же я! — простонал Леший, закончив работу. — Но ради Каплан-бея стоит потрудиться. Какой человек! Всегда примет тебя, угостит, разговаривает с тобой так ласково, так хорошо! Ей-богу, за него и жизнь отдать не жалко!
— Да, другого такого господина не сыщешь! — согласился с ним Яшар.
— Я его помню еще совсем мальчиком, когда он гостил здесь по целым неделям, — сказал Рако Ферра. — На всем свете нет человека лучше его!
Все трое перешли в соседнюю комнату, служившую для кьяхи спальней.
— Право слово, мы так устали, что не грех выпить стаканчик раки! — проговорил Кара Мустафа и направился к шкафу. Достал полуторалитровую бутылищу раки, присланную ему в подарок беем из Корчи вместе с мешками для зерна. Поднес ее к губам и сразу опорожнил на целую четверть. — Хо-хо! Вот это раки! Дай бог здоровья бею!
— Смотри-ка, да ты ее почти всю выпил! — воскликнул Ферра, беря у него из рук бутылку. Поднес ее ко рту — и раки зажурчало у него в горле.
Яшар подошел к печке, открыл стоявший на ней противень и отрезал себе кусище пирога с начинкой.
— Масла маловато, но пирог свежий и вкусный! — проговорил он с набитым ртом. Затем подошел к Рако, взял у него бутылку — и не оторвать! Когда он наконец отнял бутылку ото рта, у него по бороде стекали капли раки, смешиваясь с крошками жирно намасленного пирога.
— Курочка немного остыла, но все равно вкусная, — заметил Леший, жуя куриную ножку. — Славно стряпает молодка Барули!
Пирог поставил Бойчо, — была его очередь. Курицу же дал Барули не в очередь, а в виде штрафа за то, что без позволения кьяхи срубил в лесу несколько стволов для постройки на зиму стойла.
Леший еще раз приложился к бутылке и пришел в веселое настроение. Правда, он здорово устал, но зато завтра отправится в Корчу! Когда бей увидит доставленный хлеб, он, можно в этом не сомневаться, обрадуется. Угостит великолепным обедом, напоит раки и даст баклавы
[24] на закуску. А вечером, может быть, возьмет с собой в домик кормилицы… Хо-хо-хо!.. И, может быть, там ему посчастливится еще раз увидеть украдкой ту, которую он встретил несколько месяцев тому назад! Гибкую, как змейка, с белоснежным телом, видным сквозь тонкие покровы, с такой грудью… Ах, довольно, довольно мечтать!..
Мустафа облизнулся, съел вторую куриную ножку, снова приложился к бутылке. Завтра, да, завтра он увидит эту красавицу. Зажмурил глаза и, отдавшись сладкой истоме, растянулся на деревянной кровати…
Со скрипом приоткрылась дверь, и в ней показалась голова Шоро.
— Мы еще нужны зачем-нибудь или можем идти?
— Вон отсюда, разбойники! — заорал Леший, как бешеный вскакивая с кровати и бросаясь к двери.
— Мы дожидались только твоего распоряжения, — оправдывался Шоро, и пятеро крестьян, согнувшись, один за другим вышли из башни.
— Невежи! Скоты! Испортили мне настроение! — еще раз выругался Леший и снова приложился к бутылке. Он так рассвирепел, что готов был стукнуть Шоро противнем по голове, если бы этот хам вовремя не убрался.
Рако Ферра расстался с приятелями очень поздно, после того как они распили еще бутылочку раки, принесенную им в подарок от крестьян.
Кьяхи хорошенько заперли двери, задвинули железные засовы и, усталые, пьяные, легли спать.
А Гьика еще бодрствовал: все мучился угрызениями совести из-за того, что не выполнил свой долг. Когда он вечером вернулся домой, его встретила повеселевшая жена — маленькому стало лучше.
— Он сейчас спит у дедушки на коленях. Едва ты ушел, как он заснул и до сих пор не просыпался, — рассказывала Рина, помогая мужу разгружать осла.
— Накорми осла хлебом. Он заслужил… Принеси, а я пока расседлаю его, — сказал Гьика жене.
Рина проворно сбегала домой и вернулась с несколькими кусками хлеба. Одной рукой она подавала ослу хлеб, другой держала его под уздцы. Гьика расседлал осла, схватил руку жены и сжал ее с таким пылом, словно они встретились после долгой разлуки.
— Иди домой, я сам с ним управлюсь, — сказал он и нежно погладил жену по щеке.
Рина почувствовала себя счастливой: после рождения ребенка сегодня муж впервые приласкал ее. Будто вернулась их первая любовь. Смеющаяся и радостная вошла Рина в дом.
Гьика поставил осла под навес, положил ему в кормушку кукурузы и прошелся по двору. Он и сам не понимал, что побудило его сжать жене руку, погладить ее по лицу… Сегодня он испытывал большую нежность к жене, ребенку, отцу и сестре — ко всем своим близким. Он посмотрел вдаль, где в ночном мраке еле виднелась башня бея. Его мысли, как и мысли всех его односельчан, были там. Завтра утром все они, бросив свои дела, как подъяремные волы, потащат на себе в Корчу урожай, отнятый у них беем.
— Леший, если ему заблагорассудится, может и жен наших обесчестить, а мы все равно будем сидеть сложа руки! — прошептал Гьика и топнул ногой.
— Гьика, иди ужинать, софра уже накрыта! — позвала его с порога сестра.
Он вошел в дом. Жену свою Гьика любил всей душой и, чтобы ее не огорчать, во время ужина старался казаться веселым. Взял на колени маленького и поиграл с ним. Перед тем как лечь спать — а спали они все в одной комнате, отделенной перегородкой от хлева, где находилась скотина, — Рина потрясла лампу: хотела убедиться, достаточно ли в ней керосина. Поставила ее у изголовья и рядом положила спички: среди ночи может проснуться ребенок, и придется сразу зажечь свет.
Гьика, как и всегда с тех пор, как родился ребенок, лег с краю у двери и завернулся в бурку. Погасла лампа, погасли головешки в печи. В комнате воцарились мрак и тишина. Все погрузилось в сон. Только Гьика, мучимый своими мыслями, не мог уснуть. Тишина и мрак угнетали его, казалось, что он на дне колодца и ему не хватает дыхания.
…Целое село должно работать для бея, для кьяхи, для богатеев!.. Крестьяне стонут, но не смеют протестовать!..
«Гьика! ты понял, что хорошо и что плохо, поэтому именно ты должен везде и всегда подавать пример мужества», — так говорил ему когда-то в Корче его друг Али. То же самое твердили ему и Стири, и портновский подмастерье, и школьный учитель, и высокий худой студент.
«Наступит великий день, счастливый день для всего бедного люда… и этот день не за горами…» — доносились до него отзвуки этих исполненных веры слов.
Вначале этот великий день вырисовывался в сознании Гьики не очень ясно. Но постепенно, по мере того как он встречался в Корче с товарищами, это видение приобретало все более определенные, зримые очертания.
«Великий день — это праздник для всех, всеобщая пасха или всеобщий байрам!.. Вернее сказать — хлеб для всех, счастье для всех»…
Чтобы такой день наступил, нужны были жертвы. Большие жертвы. А вот завтра они везут весь хлеб в Корчу, чтобы Каплан-бей смог получить за него золотые наполеоны и промотать их в кабаках Тираны. Что сделал он, Гьика, чтобы помешать этому? Что он сделал для наступления великого дня? Какие принес жертвы?
— Ничего, ничего не сделал! — простонал он под буркой.
— И когда завтра товарищи в Корче узнают, что мы не только не нанесли бею ни малейшего ущерба, но еще и сами приволокли к его дверям зерно, — что они на это скажут?.. Что подумает Али?.. — и он стукнул
себя ладонью по лбу.
Нет, с этим примириться нельзя! Нет, он должен что-то сделать, пусть хоть самое малое! Эх, будь у него здесь товарищи, с кем можно посоветоваться! Но с кем? С Петри? Петри — истинный друг, но весь поглощен любовью к невесте. С Бойко? Но Бойко умеет только повиноваться и лишь ждет приказаний… Как же быть? Что предпринять? Голова идет кругом…
Но тут ему снова пришли на память слова Али: «Огонь! Огонь!»
«Даже самый незначительный вред, который удается причинить врагу, — уже для нас какая-то польза. Всеми способами старайтесь вредить беям и представителям властей! Они — пиявки, высасывающие из вас кровь!»
Гьика словно вновь слышит этот любимый голос, спокойный и в то же время властный, вызывающий у него чувство преданности и веры… И этот голос подсказывает ему:
«Огнем, только огнем! Другого средства нет!»
Гьика беспокойно ворочается под буркой. До сих пор всякий пожар он представлял себе как нечто ужасное. Какое это страшное зрелище! Но тут он вспомнил сегодняшнюю сходку крестьян и слова Лешего: «Я облил бы этих разбойников керосином и сжег живьем!»
— Огонь! Керосин!
У Лешего хватило бы духу сжечь их всех живьем, а у него, у Гьики, недостает мужества поджечь амбар, где хранится хлеб!
— Огнем ответить палачу! Другого выхода нет! Огонь!.. Керосин!.. — прошептал Гьика, сбрасывая с себя бурку.
В темноте он нащупал лампу и спички. Очень осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из комнаты в хлев. Здесь он зажег лампу, прошел в кладовую. Нашел бутыль с керосином — она оказалась опорожненной лишь наполовину. Из сундука с одеждой вытащил кое-какое тряпье. Собрался уже облить его керосином, но передумал. Еще раз вернулся в комнату, где спали его домашние, набрал в печке полный совок потухших угольков и возвратился с ним в кладовую. Высыпал угольки на тряпье и полил керосином. Хорошенько обернул их тряпками. Полил керосином и тряпки. Взял полено и расщепил один конец. В образовавшееся отверстие всунул завернутые в тряпье угольки. Решил, что они еще недостаточно обильно смочены керосином. Потряс лампу, и ему показалось, что в ней еще довольно много керосина. Стал лить керосин на связку тряпья. Сколько налил? Он и сам не знал! Оставив лампу на сундуке, с поленом под мышкой он вышел наружу.
Стояла глубокая тишина. Село спало. В ночном небе сияла Большая Медведица. Луна уже закатилась.
«Сейчас самое подходящее время…» — подумал он и зашел в сарай за топором.
Слегка пригнувшись, быстрым шагом миновал дома Зарче и Шоро и подошел к хижине Бойко, расположенной у рощицы.
Швырнул один камень, швырнул второй, третий… Из-за деревьев показалась тень: это был Бойко.
— Сейчас мы подожжем башню. Я все приготовил. Пойдем со мной.
У Бойко от неожиданности перехватило дыхание.
— Я так и думал, что сегодня нам предстоит большое дело! — в радостном возбуждении воскликнул он. — Поручи мне, я подожгу!
Гьика протянул ему полено с воткнутыми в него тряпками.
— Держи крепко! Я зажгу полено, а ты бросишь его в окно… И тотчас же отправишься на свой стан, а я — домой! Только смотри, не проболтайся! — предостерег его Гьика.
Не выходя на дорогу, они пробрались вдоль изгороди, за которой находились владения бея, и подкрались к башне.
Их сердца бились учащенно. Пот выступил на лицах. Гьика прислушался. Из второй комнаты доносился громкий храп обоих кьяхи, спавших тяжелым сном пьяных.
Не теряя времени, Гьика чиркнул под буркой спичкой и зажег лоскут, свисавший из тряпья. Не дав ему как следует разгореться, Бойко сквозь железные прутья в окне швырнул полено в комнату.
После этого они перемахнули через одну изгородь, через другую и, не произнеся ни слова, пожали друг другу руки и разошлись: Бойко направился к своему стаду, а Гьика — домой. Ни тот ни другой не смели обернуться назад. Где-то поблизости проревел осел, несколько раз пролаяла собака, и потом снова воцарилась полная тишина.
Придя домой, Гьика взял из кладовой лампу и поставил ее на прежнее место у изголовья жены. Затем лег у двери и накрылся буркой.
Только теперь, под крышей своего дома, рядом с родными, он почувствовал себя в безопасности, уверился, что никто их не видел. Теперь он дожидался результатов… Ждал, что вот-вот проснется всполошенное село. Переворачивался с боку на бок и никак не мог найти удобного положения. Ложился и на спину, и на живот — ничего не помогало. У него возникли мучительные опасения: а что если огонь перекинется и на дом Шоро, находящийся вблизи от башни?.. А от дома Шоро рукой подать до дома Зарче… Потом — дом Бойчо… Глядишь, и запылает все село!.. И кто, окажется, все это устроил крестьянам? Гьика, их друг Гьика, а не Леший, не бей!..
— Великий боже! Если случится такая беда, не оставь меня в живых! — пробормотал он. Холодный пот выступил на всем его теле. Как тяжелы, как мучительно долги эти минуты ожидания!..
Где-то в отдалении раздались ружейные выстрелы.
Гьика весь сжался под буркой: вот они, первые вестники того, что он совершил.
— Пожар! Пожар! — донеслись издалека голоса.
Ндреко проснулся, встревоженно подбежал к окошку, открыл его и выглянул на улицу. И что же он увидел! Пламя и клубы дыма над башней бея!
— Гьика, вставай! Башня горит! — крикнул старик. Он и сам не знал: ужасаться ему или радоваться.
Гьика тотчас же сбросил с себя бурку и подбежал к окну.
— Какое пламя, вот ужас! — проговорил он, подобно отцу, плохо отдавая себе отчет в овладевшем им чувстве. Но сердце его забилось еще сильнее, и, конечно, причиной тому — охватившая его радость. Гьика не мог больше оставаться в хижине и вышел во двор. Прислонившись к столбу, подпиравшему навес, он устремил взгляд на далекое пожарище: огненные языки вырывались из башни бея, над ней клубился черный дым.
Это зрелище напомнило Гьике старую сказку про дракона, которую ему в детстве рассказывала бабушка:
«В те времена, как и ныне, жили и кьяхи и беи!.. И жил в те времена посреди озера дракон — огромный змей, величиной с гору; пасть у него была шириной с пещеру в Косорнике; зубы — как колья в изгороди. Этот дракон каждое воскресенье съедал двух девушек и двух юношей из села — двух невест и двух женихов, — таких красивых, ну, просто загляденье! Полакомившись этими двумя парами, дракон позволял крестьянам — один только раз в неделю — набрать маленькое ведерко воды! Так и повелось: молодых и сильных дракон пожирал, а старики и дети, изможденные, похожие на скелеты, бродили по селу, изнывая от жажды. И это продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день в селе не появился герой, который сказал: «Я убью дракона!» И в самом деле, он совершил этот подвиг. Едва он убил дракона, как из земля забили родники, заструились ручьи, и в селе появилось столько свежей, чистой воды, что ей никогда не иссякнуть! И крестьяне — эти живые скелеты — забыли о прошлых невзгодах, примирились с утратой родных, которых сожрал у них дракон, и, обезумев от радости, с пением и плясками устремились к ручьям и ключам и пили, пили свежую, чистую воду, пока полностью не утолили жажду! С тех пор в селе началась новая жизнь. Избавившиеся от дракона крестьяне стали возделывать поля, строить дома, хорошо одеваться, полюбили труд, полюбили друг друга, наслаждались жизнью. А великий герой, освободивший их, остался в неизвестности. Это был такой же крестьянин, как и они, только более мужественный, с бесстрашным сердцем. Он жил среди своих односельчан, работал, ел, пил, развлекался, но никому не рассказывал, что он совершил. Однако в сердце своем он гордился содеянным подвигом, чувствовал себя великим, подобно горе, ибо это он освободил село от дракона и один совершил геройский подвиг…»
Вспомнил эту сказку Гьика, и само собой напросилось сравнение: дракон — это бей, село, где свирепствовал дракон, — его родное село Дритас, а герои, убившие дракона, — это он с Бойко. Языки пламени, густой дым — это черная душа бея.
От объятой пламенем башни бея осветилось все село.
— Так светло у нас в селе будет всегда, когда из него исчезнут беи! — прошептал Гьика и полной грудью вдохнул воздух наступающего утра.
Великую радость ощутил он в сердце, радость, подобную той, какую некогда чувствовал герой старой сказки, умертвивший дракона.
«Прав был Али, когда утверждал, что нет большего счастья, как служить народу и приносить себя в жертву ради блага народного!» — с любовью и благоговением вспомнил он своего учителя в это раннее утро, утро его победы.
Обуреваемый радостью, он смотрел на горящую башню, вокруг которой толпились крестьяне. Они напомнили ему тех самых крестьян из сказки, которые с пением и плясками устремились к забившим из земли источникам и пили из них, пока не утолили своей давнишней жажды… А эти крестьяне — разве они не радуются бедствию, которое постигло их дракона — бея?
Все жители села поднялись на ноги и с ведрами в руках бросились тушить пожар. Гьика и Ндреко тоже пошли туда.
Было безветренно, и поэтому ни одна искра не попала на крыши хижин Шоро и Зарче.
Когда окончательно рассвело, стало ясно видно, какие разрушения причинил пожар: комнаты, где находились мешки с зерном, антресоли над ними и часть крыши — все это сгорело дотла. Уцелела лишь задняя часть башни, потому что подоспевшие крестьяне, понукаемые рассвирепевшими надсмотрщиками, сумели здесь справиться с огнем.
Леший, с взъерошенными волосами, с пеной на губах, с лицом, испачканным сажей, носился взад и вперед совсем обезумевший и ревел, как раненый бык.
— Что я теперь скажу бею?.. — и колотил себя по лбу.
Яшар проявил больше хладнокровия: не забыл дать распоряжения относительно обеда; сегодня угощение должно быть приготовлено на славу, так как к ним в Дритас для следствия о пожаре не замедлят пожаловать начальник общинного управления и окружной полицейский инспектор.
У Гьики сияли глаза: ведь ни одной искры не упало на крыши домов Шоро и Зарче, а поручение Али, которое было и его собственным долгом, выполнено полностью!
Мужчины собирались в небольшие группы, женщины оставались на порогах домов, детишки сновали вокруг пожарища. И все приглушенными голосами без конца шептались об этом удивительном событии.
— Вырвал бей у нас изо рта хлеб, но и самому не пришлось попользоваться!
— Отозвались волку овечьи слезы!
— «Завтра и ни днем позже все лошади и ослы, все телеги, какие только есть в селе, должны быть нагружены зерном и отправлены в Корчу!» — передразнил Лешего один из крестьян.
А другие, посматривая то на вытянувшуюся физиономию Лешего, то на сгоревшую башню, говорили между собой:
— Что ж! Нагрузим, пожалуй, ослов пеплом да сажей и свезем в Корчу. «Получи, бей! Вот тебе твой урожай!» Ха-ха-ха! — посмеивались они себе в бороду.
Гьика все слышал, все видел и испытывал чувство радости и гордости. Ах, как бы ему хотелось забраться на обгоревшую крышу башни и оттуда крикнуть всем:
— Эй, послушайте! Это сделали я и Бойко для вашего блага. Но мы с ним были одни. А если бы вы все, все село примкнули к нам, подумайте, что бы мы могли сделать, каких чудес натворить!
Но нет! Надо действовать молча! Он сделал это для пользы крестьян, сделал потому, что так советовал Али. Он учил Гьику ненавидеть врагов и бороться с ними! А бей — один из главных врагов!
Гьика возвратился домой, взял на руки сына и вышел с ним во двор. Здесь, повернувшись в сторону сожженной башни, он сказал ребенку, словно тот был способен его понять:
— Посмотри, что сделал твой отец!
Впервые Гьика с такой радостью и наслаждением забавлялся с малюткой, играл с ним. Как сладко было прижимать его к груди, дышать свежим утренним воздухом и любоваться пепелищем!..
Старый Ндреко окликнул сына: пора отправляться к Сухому ручью укладывать ветки; ведь уже не придется ради бея ехать в Корчу!
* * *
После полудня в село явились начальник общинного управления с секретарем и окружной полицейский инспектор в сопровождении целого взвода жандармов, все возмущенные и разъяренные.
— Как могло случиться, что Каплан-бею нанесен такой ущерб? Надо найти виновника, арестовать и повесить! Слыханное ли дело — сжечь башню бея со всем урожаем! — негодовали представители местной власти.
Они провели в селе день, остались на второй, на третий, на четвертый; ели, пили за счет крестьян и вели следствие. Начальство разместилось в лучшем доме, у Рако Ферра. С ними же ел и пил Леший, чувствовавший себя теперь гораздо менее уверенно. Что же касается Яшара, то он на другой день после пожара отправился в Корчу — доложить бею о постигшем его несчастье.
Представители власти изо дня в день, применяя угрозы, добивались от допрашиваемых крестьян объяснения: как могла сгореть башня с толстыми каменными стенами?
И только один человек из их числа, секретарь Гоца, в душе одобрял поджог и втихомолку посмеивался. Правда, он вынужден был молчать, но зато допрашиваемые крестьяне не услышали от него ни одного дурного слова. И будь это в его власти, он давно бы прекратил канитель со следствием и не стал попусту тратить время, как это делало его начальство. И все же несколько раз он перед своим шефом вступался за крестьян. Он и сам был родом из деревни и знал, что такие же обиды, какие Каплан-бей чинит крестьянам Дритаса, его односельчанам в Мюзеке чинит их собственный бей. Ко всем беям он питал закоренелую ненависть крестьянина и не мог удержаться, чтобы не сказать с усмешкой:
— Хотел бы я посмотреть на бея в ту минуту, когда он узнает, что весь урожай сгорел!
Однако его начальник и полицейский инспектор не разделяли этого желания и рьяно продолжали следствие. А секретаря отправили обратно в Шён-Паль, чтобы он не мешал им.
В конце концов следствие установило виновников пожара. Ими оказались пятеро крестьян: Шоро, Селим, Стефо, Дудуми и Барули. Обвинение было предъявлено им, так как в ночь пожара именно они насыпали зерно в мешки. Наверно, забыли — где и как, это уж их дело! — горящие цигарки, может быть, даже заронили искру в мешки, от этого и возник пожар!
Напрасно обвиненные крестьяне клялись и Христом, и богородицей, и аллахом, что в тот вечер они не только не курили, но у них даже не было при себе ни спичек, ни зажигалок! Кто действительно курил, так это староста вместе с Кара Мустафой, Рако Ферра и Яшаром эфенди, когда взвешивали мешки. Но такое утверждение — хотели ли этого крестьяне или нет — было прямым обвинением против кьяхи и Рако Ферра, и это только повредило несчастным: стремясь отвести от себя обвинение, Леший и его приятели стали всячески доказывать представителям власти, что виновники пожара именно эти пятеро и их надо судить.
Наконец прибыл и сам бей; он приехал в автомобиле вместе с прокурором, судебным следователем и окружным жандармским начальником. И опять началась кутерьма. Удрученный бей осмотрел башню и особенно внимательно место, где находился склад зерна. Да, все погибло без остатка! Из пепла муки не смолоть!..
— Сколько наполеонов я потерял! — пробормотал бей и повернулся к Кара Мустафе, стоявшему в нескольких шагах позади своего господина:
— Лучше бы вы сами здесь сгорели, а урожай спасли!
Леший ничего не ответил, только проглотил слюну.
Прокурор, следователь и начальник жандармов провели в селе целый день. Произведя дополнительное следствие, они решили предать суду пятерых крестьян за совершенное ими тяжкое преступление.
Выходя из дома Рако Ферра, жандармский начальник осмотрелся вокруг и обратился к бею:
— Поганые люди — здешние крестьяне! Какая дивная здесь природа, а они живут по-свински! Поместье у вас такое, что равного ему не сыщешь! Какая красота! Удивляюсь, что вы до сих пор не построили здесь виллу, не вроде этой башни при дороге, а настоящий дворец, ну, хотя бы вон там! — и он показал на холм Бели, где с давних времен стоял дом Ндреко.
Каплан-бей засмеялся:
— Это же самое говорили все, кто бывал у меня здесь в гостях. И я уже решил выстроить виллу, равной которой не найдется на всем побережье.
Жандармский начальник, пригладив подстриженные усы, выразил удовольствие по поводу того, что его мнение разделяют и другие истинные друзья бея.
Садясь в автомобиль, бей еще раз посмотрел на вершину холма и подумал, что действительно следует выполнить совет друзей; его только смущало, что постройка виллы на холме обойдется недешево.
На следующее утро пятеро крестьян, по распоряжению прокурора, были препровождены в Корчу — в тюрьму.
V
Все село было глубоко возмущено арестом пятерых крестьян. Все знали их как самых кротких, самых покорных людей; в тот день они работали как проклятые, насыпая свое зерно в мешки бея. Мало того, что их заставили трудиться до поздней ночи, пока они не выбились из сил, — вдобавок их еще обвинили в преступлении, которого они не совершали.
Такая несправедливость не могла не возмутить всех сельчан, но Гьику она привела в отчаяние. Он вместе с Бойко сделал хорошее дело и был чрезвычайно доволен результатами, но, к его ужасу, за совершенное ими приходится расплачиваться невинным людям! Можно ли допустить, чтобы другие безвинно томились в тюрьме за дело, которое совершил он? (Думая о поджоге, Гьика мысленно никогда не называл своего поступка «преступлением», а всегда «делом»; он считал, что поступил справедливо, и ни одной минуты не сомневался в своей правоте.) Что же получилось? Невинные из-за него сидят в тюрьме, а он не может во всеуслышание заявить, что поджог — дело его рук.
Через несколько дней из пастушеского стана вернулся Бойко. Друзья встретились и долго беседовали. Между прочим Бойко сказал:
— Поверишь ли, Гьика, но я никогда в жизни не испытывал такой радости, как в ту ночь, когда с вершины горы любовался пожаром! Прикажи мне — я готов и Лешего застрелить, прямо в лоб!..
Гьике приятно было слышать такие слова, и от них у него немного полегчало на душе. Ему нравилась горячность Бойко, его уверенность. Он почувствовал себя несколько спокойнее, находясь рядом с этим решительным молодым крестьянином. Но только Бойко по собственному почину ничего не станет делать, если же ему приказать, готов даже в огонь броситься. Заключению в тюрьму невинных он не придал особенного значения.
— Попугают их, да и выпустят! — сказал он.
Но Гьику не переставала мучить эта мысль. Он решил отправиться в Корчу и повидаться с Али. Сообщить ему радостную весть о совершенном деле и вместе с тем посоветоваться относительно арестованных односельчан. Гьика был уверен, что Али рассеет его сомнения.
— Али — тот не ошибется! — повторял он себе не раз по пути в Корчу и в этом находил утешение.
Но из дома, где жил Али, Гьика вышел смятенный и опечаленный. К несчастью, ему там сказали, что Али уже две недели назад выехал неизвестно куда. Словно кто-то ударил Гьику в грудь. Расстроенный, с поникшей головой, возвращался он на постоялый двор, где остановился. Куда мог уехать Али?.. Уж не арестовали ли и его? И Гьика невольно представлял своего друга в тюрьме за железной решеткой. А за что? За то, что он открывал беднякам глаза? Мысль, что его друг и учитель, может быть, сейчас находится в тюрьме, была для Гьики мучительна.
Оставаться на постоялом дворе ему было тяжело. Здесь собралось много крестьян из окрестных сел, таких же бедняков, как и он сам: они пришли в Корчу в базарный день купить соли. Но были на постоялом дворе и беи — эти явились разряженные, верхом на оседланных красивых конях. Гьика не знал их, да и не хотел знать. Для него были одинаковы и Каплан-бей, и Эстреф-бей, и любой ага: все они одинаково чванились, одинаково покручивали усы и держали себя так гордо, словно правили невесть какими царствами! Разве осмелишься к ним подойти? А постояльцы-крестьяне только и мечтали о том, как бы купить на базаре соли, хотя тогда у них не хватит денег, чтобы отдать в починку свои износившиеся опинги. И они в нерешительности слонялись по базару и только смотрели, как покупают другие, более счастливые. Гьике не сиделось на месте. Он прошелся по мясному ряду, зашел в посудный, в сапожный, но нигде не встретил знакомых подмастерьев. Стири, как об этом было известно Гьике, со всем своим семейством перебрался в деревню. Переходя через мостик у постоялого двора, Гьика, на свое счастье, столкнулся с Мало, учителем средней школы.
— О! Наконец к нам пожаловал, Гьика! Ну, что нового у вас в селе, дружище? Мы узнали, что башня вашего бея сгорела дотла! Отлично! Придет срок, мы и самих беев превратим в прах! — заговорил учитель, крепко пожимая Гьике руку. — Зайдем-ка вон в ту кофейню, поговорим по душам!
Гьика удивился: значит, здесь уже известно, что башня сгорела. Учитель, разумеется, этому очень рад. Но если бы он только знал, что это дело рук Гьики, наверное, расцеловал бы его тут же, на улице! Но нет: Гьика ему об этом не скажет!
В кофейне близ постоялого двора они уселись в укромном уголке, заказали кофе и, наклонившись друг к другу, приступили к беседе.
И тут Гьика узнал от учителя, что Али арестован и отправлен в Берат.
— Значит, Али больше нет с нами? — с болью в душе воскликнул Гьика. Он почувствовал себя так, словно ему подрезали крылья. В одно мгновение погас весь его революционный пыл, пропала вся его смелость, и он снова стал таким, каким был до знакомства с Али: темным крестьянином, который страдает, жалуется на свою горькую долю, но не способен ничего предпринять, чтобы избавиться от страданий.
— Беда! Великая беда!.. — повторял крестьянин, совершенно позабыв о кофе, который уже давно поставил перед ним официант.
Учителю было понятно огорчение Гьики, и ему стало жаль молодого крестьянина. Но, с другой стороны, он испытал при этом и некоторое удовлетворение: скорбь, которая охватила Гьику, свидетельствовала о том, насколько глубоко в сердца крестьян вошел Али! Теперь на учителя ложилась обязанность не оставить сидевшего перед ним Гьику без поддержки, как машину нельзя оставить без руля.
— Когда мы расставались, Али мне сказал: «Передай мой горячий привет Гьике, обними его за меня и скажи, чтобы он всегда оставался мужественным, каким был до сих пор!» — после короткого молчания проговорил учитель.
— Ах, Али, Али!.. — прошептал Гьика. Он ощутил, как от слов учителя в нем вновь начало оживать то чувство, что поддерживало его в борьбе.
— «Передай мой горячий привет Гьике… обними его за меня…», — повторил Гьика слова учителя и подумал: «Как бы обрадовался Али, узнав, что его поручение выполнено, что башня бея со всем хранившимся в ней урожаем превращена в пепел! Но Али ведь добавил: «Скажи ему, чтобы он всегда оставался мужественным, каким был до сих пор!» Вот завещание Али! И его завещание надо выполнить во что бы то ни стало, даже если для этого придется заплатить собственной головой!»
Эта мысль захватила Гьику, но он тут же вспомнил о пятерых крестьянах, томившихся в тюрьме. А что об этом сказал бы Али?
— Кто бы ни поджег башню, он сделал хорошее дело! Одно из самых лучших дел!.. Вот если бы и горичане спалили отнятое у них село и вдобавок ухлопали бы какого-нибудь кьяхи, тогда пришлось бы беям и властям призадуматься!.. А у вас в Дритасе славно получилось: и башня сгорела, и бей остался без урожая! — говорил учитель. — Что же касается арестованных крестьян, ты не огорчайся: ничего с ними не случится. Правда, придется им несколько месяцев просидеть в тюрьме, но тут уж ничем не поможешь. Такова борьба: пока не одержана победа, приходится терпеть и страдать…
На Гьику эти слова подействовали, как целебный бальзам. Конечно, те пятеро страдают в тюрьме, но в конце-то концов с ними действительно ничего не смогут сделать, потому что никто не видел, что именно они подожгли башню! Если же Гьика сам заявит, что поджег он, невиновных крестьян, правда, освободят, но его самого осудят — и не на месяц, не на два, а на многие, долгие годы, если не на смерть…
Гьика и Мало просидели в кафе часа полтора, и молодой крестьянин вышел оттуда несколько успокоенный. На улице они расстались, крепко пожав друг другу руки. Это рукопожатие напомнило Гьике его последнее прощание с Али.
Гьика возвратился на рынок. Опять прошел по сапожному ряду и, повернув в портняжный ряд, встретил там подмастерье Зенела, долговязого юношу лет восемнадцати, худого, с постоянно слезящимися глазами. Говорил он тонким, жалобным голосом, будто только и делал, что перечислял свои невзгоды.
Четыре года назад мать отдала его в ученики к мастеру Кристо, однако портной не очень-то торопился с обучением, и до сегодняшнего дня Зенел не выучился и половине того, чему следовало. Хозяин боялся, как бы он, выучившись портняжному делу, не открыл собственную мастерскую. Тогда Кристо лишился бы полезного помощника, получавшего у него жалованье, которого едва хватало, чтобы не умереть с голоду.
Увидев Гьику, Зенел отложил работу. В спешке он рассыпал коробку с пуговицами, но, даже не обратив на это внимания, сказал хозяину, который в это время пил (уже в третий раз за сегодняшний день) кофе:
— Я заказал вот тому крестьянину, что слоняется возле мастерской, рыбу; пойду узнать, не принес ли он. — И, не дожидаясь позволения, вышел на улицу.
Хозяин, уже рассерженный тем, что подмастерье рассыпал пуговицы, после самовольного ухода Зенела и вовсе пришел в ярость. Как ни поспешно выскочил Зенел, но до него донеслась ругань хозяина: — Чучело! Прохвост! Бросает работу и бежит к какому-то мужику! Чтоб тебе пусто было!
А Зенел, совершенно забыв о том, что хозяин может увидеть его через окно, крепко пожал Гьике руку.
— Нам уже известно о пожаре башни бея со всем урожаем. Молодец, Гьика! Мы знали, что ты поступишь именно так, как советовал Али! Молодец! — восклицал Зенел. Он говорил так уверенно, словно сам Гьика признался ему, что это большое дело выполнено им собственноручно… Но ведь и учитель Мало говорил с такой же уверенностью, хотя и не назвал его прямо в глаза молодцом, а сказал только, что молодец тот, кто это сделал.
— Конечно, мои друзья догадались, чья это работа, и мне незачем было им об этом говорить, — пробормотал про себя Гьика и затем уже громким голосом добавил:
— Ушел он от нас, оставил нас одних!.. Что теперь делать?
Гьика не назвал имени, но Зенел сразу понял, что он имеет в виду Али. Он не нашелся, что ответить. Этот вопрос уже не раз он задавал и себе. Но тут же вспомнил свою последнюю беседу с Али. Тот ему говорил:
— Укрепляйте свои ряды, сохраняйте единство, дорожите друг другом и, главное, действуйте, работайте как можно больше! Несите всюду слово правды!
Теперь, в ответ на вопрос Гьики, Зенел повторил ему эти слова Али. И обоим было понятно, что именно так и надлежит впредь действовать. Али указал правильный путь, им остается только идти по этому пути: работать как можно больше, всюду нести слово правды…
— Зенел, разбойник! Целый час потерял! — донесся из мастерской истошный крик портного.
Друзья продолжали беседовать, не обращая внимания на брань хозяина. Гьика рассказал о пятерых крестьянах, посаженных в тюрьму, и спросил мнение Зенела на этот счет. И Зенел ответил ему почти то же самое, что учитель.
— Негодяй! Ты хочешь меня разорить, обокрасть! Эй, живо за работу! Довольно там болтать с каким-то мужиком! Живо сюда!.. — в бешенстве орал портной.
— Вот видишь, каков мой хозяин! — сказал Зенел. — И все они такие, все заодно с беями, с ага, с эфенди, с властями! А нам приходится терпеть и страдать, пока не добьемся освобождения от их гнета. Но будущее принадлежит нам, говорил Али. Разумеется, так оно и будет!
Друзья распрощались, условившись встретиться вечером у Стири, который как раз сегодня должен был вернуться из деревни.
Зенел возвратился в мастерскую и молча принялся за работу. Хозяин начал тут же перечислять ему все его девяносто девять смертных грехов: он и непослушен, и за последнее время нерадив в работе, и не экономит ниток, и… в чем еще только не оказался повинен Зенел — этот негодяй, который вместо того, чтобы учиться как следует ремеслу — а он учится ему уже целых четыре года! — теперь начал якшаться со всякими подозрительными личностями, завел дружбу с подмастерьями, рабочими, которые добиваются повышения платы за свой труд!
— Чтобы всем вам пусто было! Ничего вы не смыслите своими телячьими мозгами! Но если ты собираешься просидеть здесь еще четыре года, не выучившись портняжному делу, пусть тогда меня не зовут мастером Кристо! — закончил хозяин и, чтобы немного успокоиться, велел подать себе еще кофе.
Мастер Кристо, как и прочие хозяева портняжных и сапожных мастерских, хорошо знал о движении, которым с некоторых пор были охвачены работавшие у них подмастерья: они хотели организовать союз, который предъявил бы хозяевам ряд требований: повышение заработной платы, введение восьмичасового рабочего дня, еще то… еще другое!.. Неспроста Зенел последнее время не выказывает ему прежней почтительности. Раньше, бывало, только заслышав голос хозяина, он живо вскакивал и стоял навытяжку, а теперь убегает из мастерской, даже не спросившись. Нет, совсем распустились подмастерья! Пора поставить их на место, и чем скорее, тем лучше!
Вот почему, всякий раз когда мастер Кристо видит, что Зенел разговаривает с каким-нибудь оборванцем, вроде хотя бы сегодняшнего, ему сразу кровь ударяет в голову, так как он догадывается, что разговор у них идет о разных злокозненных затеях против хозяев.
Гьика возвратился на постоялый двор с прояснившимся лицом. Пересчитал, сколько у него осталось денег, — оказалось шесть леков. Не откладывая дела в долгий ящик, он купил пять пачек сигарет, после чего у него в кошельке остался всего один лек. Пошел по Почтовой улице и, перейдя через мост, очутился у тюрьмы.
Сколько раз случалось ему проходить мимо тюрьмы, но никогда он не думал, что придет сюда повидаться с дорогими ему людьми, за которых болела его душа! Раньше он считал, что в тюрьмах сидят только настоящие преступники: воры и убийцы. Однако позднее, когда у него начали открываться глаза, он убедился, что в тюрьму сажают и честных людей, и даже очень честных. В то же время те, которым следовало бы там сидеть — люди вроде Каплан-бея, Малик-бея, Лешего, мастера Кристо и им подобных, — не только разгуливают на свободе, но еще держат в своих руках власть! И тогда в нем проснулось чувство глубокого сострадания ко всем, кто томится в тюрьме. Даже о настоящих преступниках, об убийцах, он не мог уже думать дурно, потому что — кто знает? — может, и убийцами они стали потому, что не было другого выхода!
Гьика подошел к воротам, где дожидались люди, пришедшие навестить своих заключенных родственников. Свидание давалось раз в неделю, по субботам. Жандарм впустил Гьику внутрь, выкрикнул имена узников, и вот Гьика увидел за железными прутьями решетки пятерых своих односельчан. Селим Длинный, худой и осунувшийся, в лохмотьях, Шоро, низенький, с отросшей седой бородой, все время почесывающийся обеими руками, Стефо, мрачный, превратившийся в скелет, с глубоко впавшими глазами, Дудуми, сгорбившийся, с поникшей головой, с изборожденным морщинами лбом, — вот какими предстали перед Гьикой его друзья. И только Барули был неизменно мужествен и всем своим видом как бы хотел бросить в лицо тюремщикам: «И даже здесь вам ничего со мной не поделать!»
При виде Гьики у всех пятерых глаза на миг блеснули радостью и из груди вырвался взволнованный возглас:
— Гьика!.. — Но затем они печально опустили головы.
— Да… вот что пришлось испытать на старости лет… — едва слышно проговорил Стефо.
Вид этих пятерых крестьян за решеткой, их скорбные глаза, бледные, осунувшиеся лица произвели на Гьику страшное впечатление. Что он мог им сказать?..
На самом же деле у него было что сказать! Повторить им слова учителя Мало, слова Зенела, успокоить их тем, что они скоро выйдут из тюрьмы… Но рядом стояли часовые, и, казалось, они следят не только за словами, но даже и за дыханием заключенных.
— Привет от ваших родных… Все живы-здоровы… — вот что только мог выговорить Гьика сдавленным от волнения голосом.
— Спасибо, Гьика, спасибо!.. Видишь, в какую мы попали беду… — услышал Гьика в ответ, когда передавал им через надзирателя сигареты.
— И от нас кланяйся… Скажи, чтобы не забывали нас, — проговорил Барули, который никогда не падал духом.
Надзиратель сделал Гьике знак: пора кончать свидание. Так ничего больше и не удалось ему сказать своим несчастным землякам; хотя бы подать им надежду… Глубоко огорченный, вернулся он на постоялый двор.
К вечеру приехал из деревни Стири, и они собрались вместе: Стири, Зенел, учитель Мало и Гьика. Гьика рассказал о работе своей группы в селе и о поджоге башни. Товарищи поздравили Гьику и Бойко с выполнением большого дела и пообещали уведомить об этом центральное руководство и лично Али. Затем перешли к обсуждению вопроса, как помочь семьям арестованных крестьян, лишившихся своих кормильцев, — за них некому было работать в поле, а приближался сев озимых. Гьика дал слово, что постарается им помочь, в особенности семейству Шоро, где не было ни одного работоспособного мужчины.
На следующий день, рано-рано утром, Гьика расплатился занятыми у товарищей деньгами за сено и овес для осла и отправился домой.
* * *
В селе начался осенний сев. Крестьяне спешили.
— Зерна у меня осталось только на семена. Если на этой неделе не посею, съем его, и поле мое останется голым.
— А на что потом купишь хлеб, непутевый?..
— Ладно, ладно… Но как мы протянем эту зиму, одному богу известно…
— Перемрем один за другим с голоду, как мыши… Что будешь делать, если неоткуда достать даже лека?..
— Плохо нам придется!..
Так переговаривались между собой исхудавшие, мрачные крестьяне, бредя за плугом.
— А потом… потом явится бей и заберет у нас последнее!.. — с горечью произнес кто-то из крестьян.
Приступил к севу и Гьика. Своего вола он впряг в один плуг с волом Шоро. Раньше он брал старого вола дяди Коровеша, но теперь положение изменилось: Шоро сидит в тюрьме, у него в доме остались жена, маленький сынишка да три дочери. Одна из них вышла замуж, и у нее ребенок, но муж уехал на заработки в Австралию — и вот уже несколько лет, как о нем ни слуху ни духу. С семьей мужа дочка эта не ужилась, и старуха мать взяла ее к себе вместе с ребенком. Всю эту ораву нужно прокормить… Но кто же возделает их участок, если этого не возьмет на себя Гьика?.. У Гьики так болело сердце за арестованных сельчан и их осиротевшие семьи, что он с жаром принялся за дело. Пусть лучше останется незасеянным его собственный участок, но только не земля Шоро! У четырех остальных крестьян в семьях были уже подросшие мальчики, которые могли кое-как заменить отцов.
Гьика ловко наладил дело: день работал на своем поле, день — на поле Шоро. Крестьяне только дивились, как хорошо и быстро у него все выходило.
— Эге, Гьика! Что это ты так горячо принялся за работу?.. Словно тебе очень хочется получше наполнить амбары бея!.. — посмеивались крестьяне, видя, как он трудится не покладая рук с утра до позднего вечера.
— Что ж! Если не хватит хлеба нам, то бею, во всяком случае, жаловаться не придется, — отшучивался Гьика.
Как-то раз, когда он пахал, к нему на поле прибежала запыхавшаяся жена:
— Иди скорее! Тебя бей спрашивает!
Гьике волей-неволей пришлось бросить работу, выпрячь вола и отправиться в село.
Он увидел бея в обществе двух дам и двух господ; один из этих господ был толстый, как бочка, с большим кадыком, другой — худой и высокий, как жердь. Здесь же находились кьяхи, Рако Ферра и староста.
Каплан-бей со своими спутниками приехал в автомобиле. Бей стоял с двустволкой за плечом, на нем были охотничьи сапоги и патронташ. В таком виде он приехал из Тираны со своими знатными гостями.
— Веди нас к своему дому! — приказал он Гьике, даже не ответив на его приветствие.
«К моему дому?.. Зачем бы это?» — удивился про себя Гьика.
Они двинулись в путь: Гьика впереди, остальные за ним следом. Дорога шла вверх. И чем выше поднимались они на холм, тем шире открывался перед ними горизонт, тем восхитительнее становилась панорама. Толстый господин с кадыком часто останавливался, любовался открывающимся перед ними видом и приговаривал:
— Что за красота, что за красота! Настоящая маленькая Швейцария!
Бей довольно посмеивался в усы: ему было чрезвычайно приятно, что его поместье очаровало представителей высшего света Албании!
На холме, где стояла хижина Ндреко, гости осмотрели все: побывали на гумне, во дворе, в сарае и потом долго любовались видом, открывающимся внизу: селом на берегу озера, лугами и рощами и совсем вдали — очертаниями гор.
Худой и высокий господин достал из кармана круглую коробку, извлек из нее рулетку и стал обмерять двор. У Гьики сжалось сердце. Он понял, что неспроста взялся этот субъект измерять его участок! Закончив обмер, господин заговорил с беем на каком-то иностранном языке (Гьике показалось, что по-турецки). Потом толстяк с кадыком, принявший участие в их разговоре, громко воскликнул по-албански:
— Более подходящего места ни за какие деньги не купишь!
Тогда бей подозвал к себе Ндреко и Гьику и, указывая пальцем вниз, в сторону Скалистого ущелья, сказал:
— Видите вон то место… внизу? Начинайте-ка понемногу строить там себе дом, потому что здесь я намерен воздвигнуть дворец, такой, что равного ему не найдется во всей округе! — Последние слова бей проговорил с необычайной гордостью.
Отец и сын растерянно переглянулись.
— Что ты такое говоришь, бей? Мы живем здесь испокон веку… Зачем же нам переселяться в тесную ложбину?.. — проговорил старик.
А Гьика даже и не собирался что-либо возразить: он знал, что бей никогда не отступится от задуманного им. Умолять его? Нет, он не станет этого делать! Ненасытны и жадны беи!
— Я поступаю с вами по-человечески; не хочу причинять вреда моим крестьянам и потому предупреждаю вас заранее. Принимайтесь за дело теперь же, так как весной здесь начнут строить дворец, — ответил старику бей.
— О бей, ты мог бы построить свой дворец вон там, у платановой рощи, или на площади Шелковиц: там и тень и густая трава. Оставь беднягу Ндреко там, где он прожил всю жизнь! — с такой просьбой обратился к бею только что подошедший дядя Коровеш.
Бей разгневался:
— Смотри у меня! Не болтай много, а не то вырву тебе усы, волосок по волоску! Не суйся не в свое дело!
Не по себе стало дяде Коровешу от злобных слов бея… Он побледнел и, низко опустив голову, отошел в сторону.
Гьика, слышавший слова бея, подошел к нему и сказал с оттенком презрения:
— Мы в твоей власти, бей. Захочешь — можешь и дух из нас вышибить вон! — И, не дожидаясь ответа, пошел вниз, на свое поле.
Бей еще пуще возмутился. Опять, как и в прошлый раз, этот разбойник говорит ему дерзости и уходит! Даже не подождал, чтобы бей успел за эту наглость ударить его по лицу!
— Разбойник! Разбойник! — заскрежетал зубами бей и топнул ногой.
— Только прикажи, бей, — я вмиг свяжу его и приволоку! — изъявил свою готовность Леший, и у него грозно засверкали глаза.
— Разбойник, разбойник!.. — все еще продолжал скрежетать зубами бей, не зная, принять ли ему предложение своего кьяхи.
Краснощекий толстяк с кадыком взял бея под руку и что-то зашептал ему на ухо.
— Он опозорил меня перед моими друзьями, этот разбойник! — в негодовании пробормотал бей, но, немного успокоившись, закурил сигару.
В это время из рощи показались обе дамы; они были очень красивы в своих платьях с глубокими декольте, обнаженными до плеч руками и в нарядных туфлях на высоких каблуках.
— Какая тут прелесть, бей! Когда вы построите виллу, мы будем устраивать на ней журфиксы! Как хорошо повеселиться среди рощ и гор!
В присутствии этих двух газелей бей постарался овладеть собой и казаться таким же веселым, как и его гостьи.
Они закусили в роще сыром и хорошо зажаренным мясом и выпили шесть бутылок выдержанного вина, захваченного с собой из города.
Когда они возвращались в село, уже заходило солнце. Тенистые рощи, вершины гор с обрывистыми склонами — вся эта величественная красота отражалась в спокойных водах озера, и казалось, что из глубин Преспы широко распахивал свои врата какой-то иной бездонный мир, более прекрасный, более счастливый, чем наш. Особенно волшебную прелесть обретало все после того, как в обществе ласково щебечущих очаровательных женщин было выпито немало доброго старого вина! По спокойным водам озера пробежала легкая рябь; волна набегала на волну, и на них заиграли пурпурные отблески заходящего солнца. Озеро, прибрежные скалы, вершины далеких гор, листва деревьев — все было озарено алым светом заката.
— Какая красота! Какая красота!..
— Да здесь у вас, как в Лозанне! — мешая итальянские слова с французскими, восхищенно воскликнул господин с кадыком.
Две веселые газели, взяв его под руки, вторили ему.
Когда солнце уже совсем закатилось, гости, прогулявшись еще раз вдоль берега озера, вместе с хозяином уселись в автомобиль и уехали.
А между тем по селу распространился слух: на месте дома Ндреко бей собирается выстроить дворец, равного которому не найти в Тиране.
— А бедняга Ндреко куда же денется?
— Какое бею до этого дело? Придет и выбросит его вон! Ндреко пусть хоть вешается!
— Или пусть поселится внизу, в ущелье среди скал.
Так говорили крестьяне, сочувствуя несчастью, обрушившемуся на односельчанина. Один только Рако Ферра радовался. Прежде всего ему было приятно, что таким живописным местом, где стоял дом Ндреко, не придется больше пользоваться крестьянам. Во-вторых, его радовало, что этот Ндреко, которого он ненавидел, лишится своего дома. Поделом ему! А то загордился, вообразил себя сельским старостой!.. И, кроме того, распространяет слухи, будто Рако — подручный бея, прислуживается к кьяхи и что он, именно он, Рако Ферра, причина всех напастей и невзгод, какие приходится претерпевать крестьянам. То же самое утверждает его сын; и Рако Ферра хоть и добрый человек, но и ему надоело это терпеть. Вот за поджог башни посадили в тюрьму пятерых крестьян. И Гьика всюду говорит, что в их аресте виноват Рако. Он даже сам ходил в тюрьму, будто навестить их, узнать, не надо ли им чего, а на самом деле, чтобы восстановить их против Рако и против бея! И что он еще придумал? Запряг своего вола вместе с волом находящегося в тюрьме Шоро и сам вспахивал его участок. А кто для него Шоро? Никто! Разумеется, он это сделал для этой франтихи… старшей дочери Шоро. (Франтихой Рако называл Велику, дочку Шоро, которая в свое время, захватив сына, убежала из дома мужа и вернулась к отцу.) Этакая сука, вертихвостка! И теперь она целыми
днями кружится около Гьики и судачит с ним. С чего бы такой женщине, как Велика, проводить целые дни на пашне с Гьикой? О чем им между собой толковать?
Такого рода соображения занимали Рако Ферра. Уже давно он вынашивал план, как бы разделаться с Гьикой. В тот день, когда сгорела башня бея, он сделал все возможное, чтобы бросить тень подозрения на Гьику, но из этого у него ничего не вышло. Знай он заранее, что будет пожар, он настоял бы, чтобы кьяхи заставили Гьику насыпать в тот вечер мешки. Тогда его легко можно было обвинить и свернуть ему шею! Но тогда Рако не повезло… Зато теперь приехал бей с инженером — выбирать место для постройки виллы, и не кто иной, как Рако, первый посоветовал ему выбрать для этого холм, на котором стоит хижина Ндреко. Бею его совет понравился. А Рако не смог бы найти лучшего средства столкнуть лбами Гьику и бея.
Взобравшись на холм, они застали дома одного Ндреко: Гьика в это время находился на пашне. Но Рако рассчитал правильно: когда они начнут измерять участок, Гьика, узнав, в чем дело, наверняка окажется тут же, конечно придет в ярость — он такой, что способен схватить бея за горло, — и тогда… Легко себе представить, что произойдет: кьяхи схватят его, как следует свяжут и, не откладывая, сразу же отправят в тюрьму, где он и сгниет! А будет ли он в тюрьме или в могиле, для Рако все равно — его злобная болтовня уже не страшна! Однако и здесь вышло не так, как предполагал Рако. Правда, Гьика рассердился, правда, он резко говорил с беем, но то, на что рассчитывал Рако Ферра, не произошло. «И на этот раз негодяй счастливо отделался!» — так размышлял Рако Ферра.
Не вышло сегодня — выйдет завтра; камень за пазухой для Гьики у него всегда наготове. Рано или поздно, но он свернет этому Гьике голову! Никого за всю свою жизнь он так не ненавидел, как этого негодяя. И ненависть доводила его до бешенства.
В эту распрю постепенно втягивался и будущий зять Рако Ферра. Петри очень огорчила холодность Гьики, которая особенно заметно проявилась в день накануне предполагавшейся отправки зерна в Корчу. Ведь в тот день он пошел к тестю, чтобы напрямик высказать ему правду, осудить за то, что он поддерживает бея. Однако, на свою беду, явившись на двор к Рако, он увидел в окне свою невесту Василику. А один ее взгляд мог сотворить чудеса!
В ту же ночь сгорела башня. Петри был одним из немногих крестьян, которые сразу догадались, что это — дело рук Гьики. Сколько раз повторял Гьика, что следовало бы разграбить амбары бея! Как обвинял он Каплан-бея, кьяхи, будущего тестя Петри!.. «Тут не обошлось без Али», — думал Петри. Разве Али, говоривший так разумно, так доброжелательно, не подсказал Гьике эту мысль? И, даже когда они провожали Али в Корчу, не повторял ли он, что несправедливо, если урожай — пот и кровь крестьян — для выгоды бея будет отправлен в Корчу, тогда как крестьянам придется голодать. Эти слова он повторял не раз и всю дорогу говорил о крестьянах и беях.
Петри пробовал заговаривать с Гьикой о пожаре, но ничего от него не добился. Всякий раз Гьика отвечал ему:
— Ты все еще никак не можешь поверить, что башню подожгли кьяхи вместе с твоим тестем, когда, пьяные, курили там сигары! — Потом сжал кулаки и процедил сквозь зубы: — Наступит день, и мы сожжем дворцы беев и их самих!
— Жаль, что мы заблаговременно не нашли лазейки и не спасли для крестьян хотя бы часть урожая! — как-то заметил Петри.
Гьика не выдержал и вспылил:
— Да разве ты пошел бы против своего тестя? Если он тебе велит, ты и наши хижины спалишь!
Петри покраснел.
— Мне очень больно, что ты так со мной говоришь, — пробормотал он.
А Гьика горько улыбнулся и сказал:
— Я тебя, Петри, всегда любил и люблю. И Али тебя любит. И, по правде сказать, тебя есть за что любить. Но с некоторых пор я замечаю, что ты переменился. Иногда мне кажется, что ты своему тестю предан больше, чем самой невесте! Ты видишь, что он правая рука бея, кьяхи, представителей власти, ты видишь, как мы все изнываем под тяжестью налогов, податей и поборов, в то время как один лишь Рако Ферра процветает, богатеет, за наш счет расширяет свои земельные участки. Он — первый человек в селе, член совета сельских общин, церковный староста; он на наши деньги поддерживает церковь и подписывает свое имя под иконами, которые жертвует ей опять-таки на наши деньги. Вспомни, что он занимается ростовщичеством и мы все у него в долгу. Даст два наполеона, а получит обратно десять, а не то — прощай дом, скот и земля, либо садись в тюрьму! На днях он явился к дяде Коровешу и потребовал проценты с тех денег, что дал ему в долг, когда сын дяди Коровеша отправлялся на заработки в Австралию. До сих пор старик не может покрыть этот долг и только знай выплачивает по нему проценты. Но на проценты, не выплаченные вовремя, нарастают новые проценты, и для дяди Коровеша нет никакой надежды на спасение. Сгорела башня… и хорошо, что она сгорела. Но разве справедливо, что за это только по подозрению посадили в тюрьму пятерых крестьян? Я собственными ушами слышал, как Рако Ферра говорил, что, кроме них, поджечь больше некому… И вот несчастных Стефо и Барули на старости лет сажают в тюрьму! Место ли там для Шоро и Селима Длинного, у которых дома осталась целая орава голодных ртов? А для чего все это сделано? Для того, чтобы никто не заподозрил пьяных кьяхи вместе с твоим тестем, для того, чтобы утолить гнев Каплан-бея. А теперь Рако Ферра кричит на все село, что сын Ндреко обрабатывает участок Шоро не ради его голодных детей, а потому, что спутался с Великой, дочкой Шоро! Разве такие разговоры достойны мужчины, достойны отца семейства?
Гьика замолчал и взглянул Петри прямо в глаза. Петри, бледный, побежденный, нервно ломал ветку, которая была у него в руке. А Гьика продолжал:
— Не будем себя обманывать: между нами и Рако Ферра нет ничего общего. Он — наш заклятый враг. И наш долг бороться с ним всеми способами. Иного пути нет.
Петри прерывисто, тяжело дышал. Гьика задел его за живое. Вот он снова говорит против его тестя, но в отличие от прежнего ждет ответа Петри.
«Да, я виноват, очень виноват, но что можно поделать? Для меня единственная радость — гладить волосы и щеки моей невесты, ощущать ее горячее дыхание», — подумал Петри.
В тот день он расстался с Гьикой с таким чувством, будто его жестоко отколотили дубинками, но принял твердое решение: не откладывая, высказать в глаза тестю всю правду, к чему бы это ни привело!
С тех пор прошли дни, прошли недели. А Петри так все и не мог решиться поговорить с тестем. Он часто бывал в доме Ферра. Теща принимала его ласково, тесть с ним шутил, а сквозь приотворенную дверь или в окне он часто имел возможность видеть свою невесту.
— Пусть я преступник, но не хватает у меня духу поссориться с тестем, который так меня любит! — говорил он себе каждый раз, уходя из дома Рако.
Как-то вечером с топором под мышкой он возвращался с пастушеского стана. На душе у него было мрачно. Но едва он вошел в село, как его кто-то окликнул. Он сразу же узнал голос невесты, мигом свернул с дороги, перепрыгнул через плетень двора Нело и оказался перед ней.
— Василика, что ты здесь делаешь?
— У нас сбежал теленок, вот я и ищу его… Неловица сказала, что недавно видела его здесь. А ты куда направляешься?
— Милочка моя! Когда я услышал твой голос, я так обрадовался! Ну, теперь ты от меня не уйдешь! — прошептал Петри и попытался обнять невесту.
Почувствовав его прикосновение, Василика вся задрожала.
— Не надо, не надо! — бормотала она, как в бреду.
Петри любовался ею при свете луны. Он ощущал биение ее сердца, как своего собственного.
— Василика, Василика!
— Василика-а-а, где ты?.. — послышался издалека голос ее матери.
В это время с другой стороны раздалось мычание теленка.
— Василика, дочка-а-а! — звала ее мать, и голос ее все приближался.
— Му-у-у-у! — откликался ей с противоположной стороны теленок.
Но Василика и Петри ничего не слышали. И только когда рядом оказался громадный черный пес Кара Мустафы и своим глухим, угрожающим рычанием испугал их, только тогда они пришли в себя и услыхали и голос матери и мычание теленка.
— Иду, мама, иду-у-у! — откликнулась девушка срывающимся голосом.
— А теленка нашла? — спросила мать.
— Нашла, мама, нашла!
— Ну хорошо, хорошо. Так возвращайся скорей! У нас сегодня в гостях кьяхи.
Между тем Петри поймал теленка и привел его к Василике. Потом они пошли, взявшись за руки, и он проводил ее до самого дома. Какие это были для них обоих счастливые мгновения!.. Ведь давно уже им не приходилось бывать наедине при свете луны. Однако слова тещи о том, что они ждут К ужину кьяхи, огорчили Петри. Он сразу же вспомнил Гьику, вспомнил тот день, когда Гьика уже было убедил его своими доводами. И, подходя к дому Ферра, Петри уже не был таким радостным, как прежде, когда при виде любимой все казалось ему похожим на прекрасный сон.
У ограды дома Ферра они остановились: надо было расстаться.
— Мне нужно скорей вернуться, ведь у нас сегодня кьяхи! — проговорила Василика.
— Будто только сегодня они у вас! Твой отец с ними, как родной брат! — мрачно отозвался Петри.
— Это верно, но ведь гостям надо оказывать честь.
— Гостям?.. Но твой отец уж слишком много чести оказывает и им и Каплан-бею! За это его осуждает все село.
— Все завидуют, что отец умеет ладить с людьми.
— Да, умеет ладить, только не с хорошими, а с дурными людьми!
Снова послышался голос тещи:
— Василика, Василика, иди же скорей, уже поздно!
— Иду, мама, иду! Никак не могу загнать теленка в калитку… — Затем, повернувшись к Петри, она тихо спросила: — И ты тоже против моего отца?..
Петри содрогнулся: она проговорила эти слова так горько, с такой печалью, а между тем голос ее звучал для него так сладостно… Он еще раз сжал ее руку и затем бросился прочь от дома Ферра с такой поспешностью, будто за ним гнались.
«Зачем огорчать Василику, разве она во всем этом, бедняжка, виновата?» — думал он дорогой.
А Гьика всякий раз, как встречал Петри, перечислял ему все новые и новые подлости, совершаемые его будущим тестем.
* * *
Через несколько дней в село явились лесничие. Узнав об этом, крестьяне переполошились: они знали, какие им угрожают неприятности, если у кого-нибудь будет обнаружено свежесрубленное деревцо. Леса охранялись не только кьяхи, но и представителями государственной власти.
А дело обстояло так: лес сберегали не для того, чтобы сохранить его, а затем, чтобы получать взятки за порубку. На этом деле наживались лесничие и кьяхи. Торговцы углем и дровами из округи Корчи имели полную возможность вырубать лес по своему усмотрению. Днем и ночью поднимались из леса клубы дыма. А когда спрашивали у этих торговцев, как им удалось поладить с лесничими, они в ответ только хитро улыбались и подмигивали:
— Очень просто! Надо только хорошенько смазать дегтем колеса чужой телеги…
Действительно, так оно и было. Например, договаривались о том, что срубят сорок стволов, а на самом деле рубили двести и больше, если только умели вовремя сунуть взятку.
Но с крестьянами дело обстояло хуже, потому что, как они сами признавались с горькой иронией, не было у них дегтя, чтобы смазать чьи-то колеса. Кьяхи следили за ними в оба: лесничие не отставали от них и тоже часто наведывались в село, чтобы хоть что-нибудь сорвать с крестьян, если не деньгами, то, на худой конец, продуктами.
За этим пожаловали они и на сей раз. В сопровождении Кара Мустафы, сельского старосты и пойяка лесничие пошли в обход по селу. К ним присоединился и Рако Ферра. Перед домом Нело они наткнулись на бревно. Тотчас же старший лесничий, человек очень высокого роста, грозно нахмурил брови.
— Как здесь губят лес! Срубить такой толстый ствол — это преступление; за такое дело мало оштрафовать, следовало бы виновного посадить в тюрьму — да так, чтобы он никогда оттуда не выбрался!
— Правильно! — поддержал его Рако Ферра.
— Что поделать с этими разбойниками? Вон видите это развесистое грушевое дерево? Так вот… Каждого из них следовало бы там подвесить за язык; только тогда, может быть, они отучились бы от своих мошеннических проделок, — со своей стороны поддержал его Леший.
Из-за найденного бревна поднялся большой шум. Позвали Нело, чтобы он сознался в преступлении. Держа в руках келешэ. Нело, сгорбившись, предстал перед лесничими. Подбородок у него трясся.
— Я срубил его, потому что… потому что мне нужен плуг! — объяснил он, судорожно комкая в руках келешэ.
Старший лесничий ударил по стволу ногой и проскрежетал:
— Тебе нужен плуг, и поэтому ты рубишь лес, а? Знаешь, что ты наделал? — и он вытащил из сумки тетрадку и что-то в ней записал. Потом принялся допрашивать Нело: имя, фамилия, возраст, где срубил дерево и еще про всякую всячину.
Выругавшись и снова стукнув ногой по стволу, лесничий приказал Нело:
— Сегодня вечером явишься к старосте.
Лесничие отправились дальше, по дворам и сараям. В сарае у Эфтима они искали особенно тщательно. Эфтимица клялась и божилась, что у них ничего нет. Но в это время Рако незаметно подмигнул старшему лесничему. Тот, не говоря ни слова, взял вилы и глубоко ткнул ими в солому. Зубья уткнулись во что-то твердое. Лесничий приказал пойяку разворошить солому. Эфтимица в ужасе заломила руки и простонала:
— Пропали мы теперь!
— А, подлая баба! Вот ты теперь как запела! Думала, обманешь нас, хотела, чтобы все осталось шито-крыто!.. — набросился на нее с руганью Леший, в то время как старший лесничий с торжествующим видом снова извлек из сумки свою тетрадку для составления протокола.
В это время в сарай прибежал и сам Эфтим.
— Господа хорошие! Я шесть раз ходил к начальству, чтобы позволили срубить деревцо, а мне все велели приходить завтра да завтра… В прошлом году я и в Шён-Паль ездил, к вашему главному, и там ничего не добился! А вы посмотрите, что с домом стало? Крыша того и гляди обвалится, как-нибудь ночью придавит нас всех во сне. Вот я и срубил эти три тоненьких стволика, чтобы хоть немного ее подправить. Ни для чего другого! Но не успел еще… И сложил их здесь под соломой. Вот и все дело! — пытался как-то оправдаться Эфтим, с отчаянием показывая рукой на крышу своей хижины, напоминавшую шатер, растрепанный бурей.
Но представителя власти такие объяснения не умилостивили. Он составил протокол и подписался. Неграмотный Эфтим приложил палец. Когда лесничие уходили, он не мог сдержать своего возмущения:
— Другие рубят лес, и вы им ничего не говорите… А из меня за каких-то три прутика готовы всю душу вымотать! Хороша справедливость, нечего сказать!..
После обеда лесничие отправились в лес, чтобы обнаружить устроенные там крестьянами хранилища листвы. И действительно скоро на них наткнулись.
К вечеру они вернулись в село. Дело ясное: все крестьяне заготовили себе листву, кто больше, кто меньше. Сколько раз говорили крестьяне старосте и кьяхи, что, если им не запастись на зиму листвой, вся скотина передохнет с голоду. Но до сих пор не получили никакого ответа. Что же с них теперь спрашивать?
Представители власти расположились в доме у Рако Ферра. Пили и ели самое лучшее, что было в Дритасе. Только пойяк, поднося одному яйца, другому бюрек, время от времени шептал, словно сожалея о крестьянах:
— Нехорошо, нехорошо! Как они теперь выпутаются, одному богу известно!
Эфтим, Нело и другие, у кого были обнаружены бревна, отправились к сельскому старосте и слезно умоляли помочь им. Ходили они и к Рако Ферра. Но тот только пожимал плечами и с деланным состраданием отвечал:
— Теперь все в руках божиих! Плохо ваше дело… И не придумаю, какой здесь найти выход… Очень мне вас жалко, очень. И зачем только черт вас попутал?..
Прошла ночь, наступило утро. Лесничие заснули поздно, а проснувшись, сразу же приступили к следствию. Крестьяне, пойманные с поличным, как шутливо заметил своим друзьям Рако, один за другим входили в комнату и в позе приговоренных к смерти останавливались перед сидевшим у стола старшим лесничим. Это был человек высокого роста в расстегнутом пиджаке и брюках из солдатского сукна, обутый в альпийские ботинки. Полный его титул гласил: «управляющий государственным лесным хозяйством». Так вот, этот господин управляющий окидывал подходящих к нему крестьян грозным взглядом.
После допроса крестьяне возвращались во двор, ломая себе голову, как бы им выпутаться из неприятного положения. Некоторые подходили к старосте, некоторые к Рако и о чем-то с ними шептались:
— Поговори, пожалуйста, с лесничими; может, как-нибудь удастся замять дело! — просили они Рако.
— Правда, дело дрянь, и не только для вас, но и для всего села. Всех потянут в суд, потому что установлено, что каждый из вас воровал листву. Теперь не оберешься хлопот, — спокойно отвечал Рако, покуривая трубку.
А староста повторял его слова и для пущей убедительности горестно разводил руками, как бы призывая небо помочь несчастным.
— Помоги нам, Рако, придумай что-нибудь! — просили крестьяне.
Рако вернулся в дом и вступил в дружескую беседу с лесничими и с Лешим, представлявшим интересы бея.
— Сам придумай, как лучше! Ясно, чем больше, тем лучше! — обратился к Рако старший лесничий и, обнажив в торжествующей улыбке зубы, добавил: — Ну, созывайте их!
Рако Ферра засмеялся и вышел во двор; как только он переступил через порог, лицо его снова приняло печальное выражение.
— Ну, Эфтим, я ведь говорил: они дорожатся — меньше чем за наполеон не соглашаются!
Эфтим побледнел:
— Целый наполеон! Если даже продам теленка, столько не наберу…
— Ничего не могу поделать! Впрочем, попробую попросить их еще раз, может, немного уступят! — и, вселив этим в Эфтима маленькую надежду, Рако подошел к Нело и, отведя его в сторону, тихо сказал:
— Или полнаполеона, или тебя потащат в суд! Одно из двух!
— Помилуй, Рако! За какое-то несчастное бревнышко заплатить ползолотого наполеона?
— А я-то что могу поделать? Я человек маленький. Так они решили. Впрочем, пойду попробую попросить еще раз!
Таким же образом Рако переговорил с глазу на глаз с Ничо, Калешем и другими.
— Послушайте! Ваше дело — дело всего села. Они собираются опять отправиться в лес, чтобы установить, что в порубке виноваты все крестьяне, без исключения. И тогда в суд потащат все село. И меня не минует эта горькая участь. Так вот что я придумал: давайте соберем, ну, скажем, четыре-пять наполеонов и заткнем их ненасытную пасть! Ничего не поделаешь! Иначе не миновать нам всем суда. Ты, Ничо, и ты, Калеш, — главные порубщики, и поэтому вам придется внести по полнаполеона каждому, а остальное заплатит село.
Крестьяне только покачивали головами: как быть? Если они не согласятся, известно, что их ожидает. В прошлом году, например, дяде Коровешу за одно бревно пришлось шесть месяцев таскаться по судам и потом заплатить штраф, не говоря уже о других убытках! Да, есть над чем призадуматься!
— У кого связаны ноги, тому нечего и думать о бегстве! Надо собрать деньги и отделаться от этих кровопийц! — растерянно пробормотал Калеш.
— Вот и ладно! Идите, доставайте скорее деньги и несите их сюда! — распорядился Рако Ферра.
Крестьяне разбрелись по селу. Но где набрать пять золотых наполеонов наличными, прямо на бочку? Единственно у кого в Дритасе водились деньги — это у Рако и у его брата Тильки.
Разойдясь по домам, крестьяне высыпали из мешочков и кошельков последние медяки, но едва набрали один наполеон. Полнаполеона дал дядя Коровеш, получилось полтора, но до пяти не хватало еще трех с половиной!
— Попросим Рако Ферра доплатить недостающие, а в субботу сведем на рынок козу или овцу и тогда вернем ему деньги. Иначе ничего не поделаешь! — решили между собой крестьяне.
Так сказали они и Рако. Тот немного подумал:
— Ей-богу, не знаю, где мне взять такие деньги. Шутка ли — три с половиной золотых! — ответил он и вошел в дом, но тотчас же вернулся.
— Очень хочется вам помочь, но не знаю как. Думал обратиться к брату Тильке, — у него-то с Тилькевицей кой-какие деньжата водятся. Но он за один наполеон, одолженный на неделю, берет один наполеон процентов. Давайте подумаем, соглашаться ли на такие условия? Конечно, Ничо и Калешу придется заплатить побольше других, а остальное разложим на все село.
Крестьянам пришлось согласиться и на это. Рако отправился к Тильке — братья жили отдельно друг от друга: так спокойнее. Но он и не собирался говорить с Тилькой о деньгах, а пошел к нему для отвода глаз. Вернувшись домой, он прошел в чулан, открыл сундук, извлек из него сумку и вытащил оттуда три золотых наполеона. Поиграл ими на ладони, погладил их, словно любимых детей, и радостно прошептал:
— Пройдет неделя, и за эти три золотых я получу целых шесть и спрячу их сюда.
Тщательно завязав сумку, он запер сундук на ключ, затем закрыл чулан и, выйдя боковой дверью, снова предстал перед крестьянами, будто только что вернулся от брата.
— Еле-еле удалось уговорить Тильку дать денег. Теперь доложите к ним то, что у вас есть, и сунем их лесничим! — обратился он к обступившим его крестьянам.
— Хороший они сорвали с нас куш, нечего сказать! — гневно проговорил Калеш.
Не откладывая дело в долгий ящик, Рако отправился к представителям власти.
— Содрал с них три золотых наполеона! — весело воскликнул Рако, передавая золотые старшему лесничему.
Тот схватил деньги, и лицо его озарилось довольной улыбкой:
— Молодец, Рако, нет тебе равного! Ну, а теперь разделаемся с теми двумя, и нам пора собираться — к вечеру надо успеть в Каламас.
Рако снова вышел к крестьянам и опять принял печальный вид.
— Отдал им деньги! Удалось полнаполеона сбавить. Но помните, через неделю вы должны вернуть брату вместе с процентами шесть наполеонов. Ну, а ты чего ждешь, Эфтим? И ты, Нело? Жандармы уже готовы взять вас, чего вы еще раздумываете?
Оба они, Эфтим и Нело, только что перед этим умоляли старосту вступиться за них, но тот в ответ лишь пожимал плечами:
— Только Рако Ферра может вам помочь!
Эфтим и Нело отвели Рако в сторону:
— Помоги, богом тебя заклинаем! У нас нет ни гроша, — взмолились они.
— Ну хорошо! Вы просите, чтобы я вам помог. А чем вы мне поможете?
— Продадим кое-какой скот и в субботу расплатимся с тобой.
— Вот еще, кто будет ждать до субботы? Ведь я должен вам помочь сейчас, стало быть, и вы должны мне отплатить добром не откладывая.
— Умоляем тебя, подожди до субботы!
— Я придумал, как нам сделать. У тебя, Эфтим, есть хороший телок. На базаре тебе за него больше наполеона не дадут, а я у тебя возьму его за полтора. И денег ты получишь больше, и время и труды сбережешь. Если согласен, ударим по рукам и я сейчас же плачу за тебя лесничему откуп!
— Ишь, как ловко придумал! Этого теленка я берегу как зеницу ока. Ему и цены нет. И чтобы я тебе его отдал! — чуть не плача, возразил Эфтим.
Рако Ферра пожал плечами:
— Как знаешь… Я хотел тебе только добра!
— Прошу тебя!.. — принялся, было, снова умолять Эфтим, но Рако не стал его больше слушать и отошел в сторону с Нело:
— Что касается тебя, то я вот что скажу. Готов дать тебе полнаполеона, но за это ты сегодня же вечером приведешь в мое стадо своего козла. Цена ему гораздо меньше, но, так уж и быть, помогу тебе.
Нело закусил губу.
— Уж больно мой внук любит этого козлика… Ни за что не захочет с ним расстаться. Кроме того, он мне нужен для разводки.
— Тебе виднее… козел твой, поступай с ним как знаешь. — И Рако собрался уходить.
Нело покачал головой.
— Хорошо, я согласен, — проговорил старик. Он чувствовал себя так, точно его огрели дубинкой по голове.
А Эфтим сидел под навесом около дома, курил и приговаривал:
— Ах, мой теленок, мой бедный теленок!..
Рако Ферра вернулся в дом, где его дожидались лесничие.
— Вот вам еще полнаполеона с Нело за ствол. А Эфтим, у которого в соломе нашли бревно, говорит: «Делайте со мной, что хотите, не заплачу ни гроша!» — доложил Рако.
— Что он сказал? Не заплатит ни гроша? Он еще, чего доброго, обвинит нас во взяточничестве, когда мы только хотим облегчить его участь! Арестовать этого Эфтима! Он уличен в противозаконной порубке… В тюрьму его! — вскипел старший лесничий.
Двое жандармов, находившихся во дворе, тотчас же явились на зов и, получив приказ, пошли его выполнять.
Перепуганные крестьяне спешили разойтись. Эфтим не двинулся с места: по обе стороны от него встали жандармы.
Прошло около часу. Из дома Рако Ферра вышли, сопровождаемые хозяином, Лешим и старостой, лесничие.
— Говорил я тебе, предупреждал… Теперь ничем не могу помочь! — проходя мимо Эфтима, сказал Рако с видом человека, который выполняет тяжелый, но неизбежный долг.
Прибежала Эфтимица. Она ломала руки, вопила, умоляла отпустить мужа. Один из лесничих принялся ее ругать. Тогда она заголосила так, что плач и крики были слышны по всему селу. Напуганные крестьяне смотрели на это зрелище через щелки заборов или с порогов своих хижин: никто не осмеливался подойти близко к грозным представителям власти.
Процессия направилась в Шён-Паль. Впереди вели Эфтима. Рядом бежала его жена и умоляла Рако вступиться за ее несчастного мужа. Тот в ответ только пожимал плечами и приговаривал:
— Закон есть закон; теперь я ничего не могу поделать…
Рако Ферра и староста проводили лесничих и жандармов до Биглы. Сзади продолжала бежать Эфтимица и выла во весь голос. А Эфтим тем временем понял, что, если он не откупится, его и в самом деле посадят в тюрьму. Подумал он о семье, об оставленном хозяйстве; представил, как он будет сидеть в тюрьме, потом как будет оправдываться на суде и все равно придется ему платить штраф, и в конце концов решил, что тут не только телка отдашь, но и сам с себя шкуру снимешь, только бы всего этого избежать. В этом году он еще кое-как управлялся с одним-единственным волом. А к весне теленок подрастет и Эфтим впряжет его вместе со старым волом. Как-никак, а у него была бы тогда своя пара волов. Нет! Пусть лучше из него душу вынут, только не отнимают теленка! Не отдаст он его.
Тем временем старший лесничий шепнул что-то на ухо Рако. Тот подошел к Эфтиму и тихо спросил:
— Ты еще не одумался? Видишь сам, с ними шутки плохи!
— Господом богом прошу! Возьми с меня что хочешь, только не теленка!
Рако задумался. Эфтим — хороший каменщик. А Рако как раз нужно соорудить стену длиной примерно в двадцать метров и высотой с человеческий рост, чтобы отгородить свой двор со стороны озера. Он уже неоднократно звал для этого Эфтима, но тот все отказывался, говоря, что занят. Теперь выход был найден!
— Попробую тебе помочь — уж больно жаль тебя. Постараюсь уладить твое дело, но за это ты мне построишь стенку, которую до сих пор отказывался делать. Видишь, как я готов пойти тебе навстречу.
Эфтим опешил:
— Друг Рако! Возьми у меня лучше какую хочешь козу! За полтора наполеона построить тебе стену?! Побойся бога!
— Сейчас дело не столько в моей стенке, сколько в том, чтобы выручить тебя из беды. А впрочем, поступай как знаешь.
— Смилуйся, Рако!
— Я только хочу тебе помочь. А принять мою помощь или нет — твое дело. Если согласен, я сейчас же заплачу им.
— Ну ладно, ладно… — пробормотал Эфтим.
Рако подошел к старшему лесничему и сказал:
— Еле уговорил его. Клянется и божится, что у него всего лишь один наполеон. Вот он! Возьми и освободи его.
— Легко удалось тебе отделаться. А вообще следовало посадить тебя в тюрьму, чтобы понял, что к чему, — обратился старший лесничий к Эфтиму, пряча золотой. Потом обернулся к жандармам и приказал:
— Отпустите этого разбойника! Черт с ним!
Жандармы немедля исполнили приказание. Лесничие распрощались со старостой, с Лешим и Рако и пустили лошадей рысью по склону горы. За ними следом пешком поплелись жандармы.
В тот день за обедом Рако Ферра, очень довольный своими барышами, выпил целую бутылку вина. Ведь ему одним ударом удалось убить сразу двух зайцев: он облапошил и представителей власти и этих дуралеев-крестьян. Еще сегодня он заберет у Нело козла, Эфтим соорудит ему стену, а в конце недели он еще получит несколько золотых наполеонов.
— Эх, жена! Кто со мной может сравняться? Сходи-ка на пастушеский стан и вели нашему пастуху забрать сегодня у Нело его пятнистого козла. Никто со мной не потягается! — хвастался Рако, с аппетитом обедая и потягивая винцо.
* * *
Гьика прекрасно понимал все фокусы, которые Рако Ферра вместе с представителями власти проделывал за спиной у крестьян. От одного приятеля в Каламасе ему было известно, что тамошние крестьяне откупились от лесничих и за листву и за срубленные деревья всего-навсего двумя наполеонами. Почему же крестьяне, у которых и скота больше, и листвы запасено на всю зиму, сумели откупиться двумя наполеонами, а жителям Дритаса пришлось уплатить куда больше?
В конце недели пойяк пошел по дворам собирать деньги на взятку лесничим. Каждый давал, что с него требовали. Но когда пойяк сунулся на двор Ндреко, к нему вышел Гьика:
— Гроша ломаного не дам Рако! Насквозь вижу все его штучки! — Такими словами Гьика встретил пойяка.
Конечно, об этом тут же стало известно Рако Ферра.
— Видали такого наглеца! Он не только отказывается платить, что с него причитается, он еще клевещет! Я спас село от беды, и вот как меня благодарят! Ну ладно, ладно! Настанет день, и я сверну ему шею, не будь я Рако Ферра! — злобно сказал он и, как обычно, закурил сигарету.
Несколькими днями позже Гьика и Петри, идя вдоль берега озера, громко и возбужденно разговаривали, будто ссорились. Гьика с возмущением перечислял Петри последние проделки его будущего тестя. Вдруг, совершенно неожиданно, перед ними вырос Рако. Увидав их, он изменился в лице, но подошел и поздоровался.
— Да, Гьика! Чуть было не позабыл: у нас с тобой кое-какие счеты. Почему ты до сих пор не прислал мне должок? Если бы я сейчас не нуждался в деньгах, я бы тебя не торопил. Но, право, мне не с чем ехать на базар… — Все это Рако проговорил очень спокойно, словно и не думал сердиться на Гьику.
— Я не должен тебе ни гроша! И ты сам это прекрасно знаешь. Можешь поступать, как тебе угодно. Ты верный прихвостень Каплан-бея и Лешего! А с такими людьми и разговаривать грех! — ответил Гьика.
Рако Ферра чуть удар не хватил. Этот наглец осмеливается так с ним говорить, да еще в присутствии его будущего зятя! Нет, этого стерпеть нельзя! И тем не менее Рако сдержался. «Псы лают, а караван спокойно проходит мимо!» — подумал он. Он сам, Каплан-бей, Леший, представители власти — это караван, а Гьика и ему подобные оборванцы — всего-навсего лающие псы. Стоит ли с ним связываться? И он расхохотался с таким видом, будто слова Гьики его вовсе и не задели.
— Как вы, молодежь, невоздержанны на язык. Но ничего! Отдашь мне долг, когда у тебя будут деньги. — И, не переставая смеяться, Рако пошел прочь.
— У этого человека нет ни капли стыда. Что можно от него ждать? — обращаясь к Петри, с презрением проговорил Гьика.
А Петри между тем чувствовал себя очень смущенным. Ему не понравилось, что Гьика так дерзко разговаривал с тестем; но еще больше его огорчило, что грубые, оскорбительные слова Гьики, по-видимому, не произвели на тестя никакого впечатления.
— Да, ты прав, Гьика… Тесть мой — человек слабый и неустойчивый. Ради выгоды пойдет на любую сделку со своей совестью.
Петри сказал это со злостью, почти с ненавистью. Впервые он отважился так резко отозваться о будущем тесте, слова его вырвались из глубины души.
После этого разговора у Петри пропала охота ходить в дом к невесте, особенно если он знал, что застанет там тестя. Он даже избегал встречи с ним на улице. Но однажды Рако сам зазвал его к себе. Предложил ему лучшее раки, какое он подносил только Каплан-бею и его кьяхи.
— Послушай, сынок! Я вижу, что ты на дурном пути. Зачем связался с этим разбойником — сыном Ндреко? Неужели ты не понимаешь, что дружба с таким человеком до добра не доведет? Разве ты не слышал, как он намедни со мной разговаривал? Разве разумный человек будет говорить такие слова? Подожди! Вот увидишь, попадется он мне в руки, шею ему сверну! Тогда он узнает, что не на дурака напал. Я ему еще покажу! — говорил зятю Рако.
Он еще долго распространялся о том, что все крестьяне разбойники, что всем им место в тюрьме, куда они и попали бы, не будь Рако, который великодушно за них вступился. Не переставал он и поносить Гьику, неблагодарного Гьику, которому сделал столько добра!
И вообще, продолжал он, кто больше него делает добра для всего селения? Вот, например, приезжает в Дритас священник служить обедню. У кого он останавливается? Кто его угощает и в чьем доме он ночует? У Рако Ферра. Кто оплачивает все расходы, связанные с богослужением, — свечи, масло для лампад, то, другое? Рако Ферра. Кто печется об устройстве и убранстве их маленькой церковки? Рако Ферра. А хоть церковка и маленькая, но расходов требует больших. Всего этого никто, ни один человек в селе не посмеет отрицать. А когда приезжают в Дритас начальник общинного управления, окружной полицейский инспектор, сборщик налогов — кто их всех принимает и угощает, стараясь расположить в пользу села, как не он, Рако Ферра? А ведь с каждым из них надо уметь обойтись, каждому угодить. Что бы делали без него жители Дритаса? А выходит, они мало ценят своего Рако, мало благодарны ему за все доброе, что он для них делает! Но бог с ними. Рако на них не обижается. За добрые дела не следует ожидать благодарности. Однако этого разбойника Гьику следовало бы за дерзость и неблагодарность выгнать из села!
Петри слушал разглагольствования тестя и хотел бы им поверить. Особенно он готов был всему поверить, когда ему показалось, что за дверью промелькнула Василика. Да, это была она. Приложив к губам палец, она прошептала:
— Тсс… только не груби отцу!..
Но, когда Рако договорился до того, что Гьику следовало бы выгнать пинками, Петри не мог больше сдерживаться. Зажмурив глаза, чтобы не видеть чудесного, неотразимого образа невесты, он для храбрости выпил еще стаканчик раки и заговорил мягко, как бы шутя:
— Ты, дорогой тесть, относишься к людям так, словно они скоты. Это я должен тебе сказать. Гьика не хочет рабски повиноваться тебе, и поэтому он плох. Но это неправильно! Подумай сам, сколько вреда ты причинил крестьянам и как ты раболепствуешь перед Каплан-беем и Лешим.
— Ах ты пес! Сукин сын! Вот как ты теперь заговорил! Что плохого ты от меня видел? Разве я не сказал тебе честь, согласившись ввести в свою семью, отдать за тебя родную дочку? Будь проклят тот день, когда она с тобой обручилась! Пес! Разбойник! Не глядели бы на тебя мои глаза! — принялся бешено орать Рако Ферра.
Петри растерялся и не знал, что делать. «Лучше всего уйти, пока я не потерял самообладание», — решил он и, не попрощавшись, бросился к двери, оттуда во двор — и был таков!
А Рако, оставшись один, все еще продолжал ругаться. Таким его увидела жена, когда вошла, неся блюдо с вареными яйцами, предназначенными для угощения зятя. Но при взгляде на мужа она чуть было не выронила из рук блюдо.
— Пусть лопнут мои глаза, пусть лопнут, если я отдам дочку за этого разбойника, разбойничьего сына, за этого шелудивого пса!
— Что случилось, муженек, в чем дело? — спросила перепуганная Раковица.
Рако набросился на нее с руганью:
— И ты, сука, пропади ты пропадом! Сука, сводня, вон отсюда! — Он вырвал у нее из рук блюдо с яйцами и швырнул его об пол. Яйца поразбивались, осколки блюда полетели в разные стороны.
Василика, узнав о случившемся, проплакала всю ночь и весь следующий день. Жена Рако очень боялась, как бы на селе не узнали о разрыве между семьями. Поэтому в тот же вечер она отправилась к Зарче и вызвала во двор Петри.
— Сынок, не говори никому о том, что случилось с тестем, а то все будут смеяться над нами, — со слезами на глазах умоляла его Раковица. — Попроси прощения, сынок… — уговаривала она Петри.
Но Петри, как ему ни хотелось примирения, как ни жалко ему было огорчать Василику, идти просить прощения отказался.
Дня через три, повстречавшись с Гьикой, Петри не удержался и со всеми подробностями рассказал ему о том, что произошло между ним и тестем. Гьика остался очень доволен:
— Ты поступил правильно! А они еще хотят, чтобы ты же просил прощения! — сказал он и крепко пожал Петри обе руки.
А сам Петри очень мучился: правда, он поступил, как должно, но из-за этого страдает Василика, избранница его сердца! В дом к тестю он с тех пор ни ногой. Но каждый вечер, как только темнело, бродил вокруг дома Ферра, надеясь увидеть невесту, поклясться, что любит ее больше жизни! Однако он ни разу не встретил Василику. Рако запретил ей выходить одной из дому, даже не пускал ее к озеру за водой, не без оснований подозревая, что Петри будет искать с ней встречи. Пока Петри не припадет к его стопам и не попросит прощения, ему дочки не видать. Пусть знает, что не так-то просто стать зятем Рако Ферра!
А против Гьики Рако затаил в сердце непримиримую ненависть. Он никогда не забудет его дерзких слов. Настанет день, и Рако Ферра сотрет его в порошок, обратит в прах со всем его семейством!
VI
Наступил сентябрь. Сентябрь — очень важный для крестьян месяц. Он как бы означает конец старого года и начало нового. Давно собран урожай с небольших участков кукурузы. Что нужно было посеять — посеяно. В этом месяце крестьяне всем миром выбирают новых пастухов. Раньше они выбирали и нового старосту, но с тех пор, как власти стали вмешиваться в их дела, этот обычай больше не соблюдается. И свадьбы обычно приурочивались к сентябрю, потому что в это время у каждого семейства могла найтись лишняя горстка муки для свадебного пирога.
В сентябре у крестьян немало хлопот и со скотом: если летом достаточно было нескольких пастухов на все стадо, теперь их требовалось побольше.
Смена пастухов обычно производилась в день святого Димитрия. Прежние пастухи, пасшие скот летом, передавали свои посохи и стадо новым и спускались с гор в село. Кое-кто из них собирался осенью жениться, и надо было дать будущему отцу семейства возможность немного заняться своим хозяйством. А в горы зачастую отправлялись подростки. Родители заранее готовили им и опинги из свиной кожи и торбы.
После их ухода в деревне становилось еще тише. Особенно радовались старухи, что несколькими шалунами стало меньше. На улице теперь возились лишь ребятишки — оборванные, грязные, с исхудалыми личиками и раздутыми от постоянного недоедания животиками. Целыми днями они хныкали и дрались между собой.
Когда-то, много лет тому назад, в Дритасе была открыта школа. Помещалась она в полуразрушенном домишке и просуществовала всего лишь три месяца. Ученики этой школы — ныне взрослые, усатые мужчины — запомнили только палку, которой за малейшую ошибку или провинность их дубасил учитель. Прошло три месяца, и учитель бесследно исчез. С тех пор в Дритасе школы больше не открывали. Правительство албанского королевства вряд ли даже знало о существовании селения Дритас и уж во всяком случае не предполагало, что там нужен школьный учитель. Крестьяне давно потеряли всякую надежду на открытие в их селе школы, а когда о ней заходила речь, вспоминали горькую народную поговорку: «Если даже море будет из сливок, у бедняка все равно не найдется для них ложки»… Учатся и становятся государственными чиновниками только сыновья беев и ага, у которых есть много денег! Станет ли правительство заботиться об образовании детей каких-то разбойников в Дритасе?..
До восьмилетнего возраста крестьянские дети, словно поросята, валялись в уличной грязи, как кошки, лазали по деревьям да по заборам; достигнув же восьми лет, отправлялись в горы — пасти скот. Здесь, нередко под дождем и градом, жили они в обществе коз, овец да сторожевых псов. Этот путь прошли в селе все: от самых старших и до Гьики и Петри.
Вот уже три недели, как вернулся с гор младший сын дяди Коровеша, Или. Старик, пока в амбаре еще оставалось немного хлеба, собирался его женить, но стряслась нежданная беда — Или заболел. Дядя Коровеш уверял, что парня сглазили: колдовством накликали на него хворь. Но делать было нечего: пришлось отложить свадьбу до дня святого Георгия!..
Обычно день святого Димитрия заставал крестьян почти с пустыми амбарами: немного оставлял им Каплан-бей. Некоторые кое-как обходились собственным хлебом, другие искали заработков в округе Корчи, торгуя дровами или сушеной рыбой. Делали это с оглядкой, чтобы не попасться на глаза кьяхи или представителям власти. Многие уходили на заработки, кто в Горицу, а кто и дальше, в самый Дуррес. Особенно ценились те, кто нанимался на работу со своей лошадью или ослом. Еще до отъезда они получали аванс и, надеясь на хороший заработок, оставляли его семье. Но обычно авансом все и ограничивалось. Проработав целую зиму, при окончательном расчете они ничего не получали — с них удерживали буквально за все: столько-то за муку, столько-то за фасоль, за масло, за выданную обувь, за недостачу угля и еще за многое другое… И в конечном счете они не только не получали денег, а еще оказывались в долгу у нанимателей: иногда приходилось в счет долга оставлять там осла или коня, которые от непосильной работы скоро издыхали. Так, например, в прошлом году вернулся домой без своего осла дядя Стаси. Там же, в горах, близ Дурреса, сложил свои кости и огромный, величиной с верблюда, мул дяди Ничо. Ничо приобрел его еще в те времена, когда в Корче стояли французы
[25]. Горько плакали маленькие внуки Ничо, увидев, что дед вернулся без своего замечательного мула. А года два тому назад подобная же история приключилась и с Нело.
Те, кто зимой добывал уголь, возвращались в Дритас весной. Жены и дети встречали их с радостью и надеждой. Но их кормильцы возвращались оборванные, изможденные, почерневшие, как сам уголь. Позади плелся Терпо и тянул за уздечку своего хромого осла. Самым последним шел Нело. Его семилетний сынишка Тили, едва увидев отца, бросился к нему на шею и, плача, спросил:
— Папа, папа, а где мул? Где мой мулик?
Отец, не отвечая на вопрос, обнял сына, прижал его к груди, вынул из кармана гнилую грушу и отдал ему. Сын взял грушу, но не переставал спрашивать:
— А где мой мулик, папа?
— Мулик остался в Дурресе… Но я куплю тебе другого…
Мальчик бросил на землю грушу и расплакался. И десятилетняя дочка Нело, узнав о пропаже мула, тоже принялась плакать. Тут не выдержал и сам Нело, и слезы покатились по его щекам.
Несмотря на горький опыт предыдущих лет, когда наступал
сентябрь, крестьяне все равно отправлялись на отхожий промысел. Их привлекал аванс. А некоторым приходилось наниматься, чтобы отработать прошлогодний долг. Из двенадцати человек, собравшихся нынешней осенью на заработки, шестеро отправлялись впервые, а шестеро шли отрабатывать долг.
Условия, в которых приходилось жить на добыче угля, были самые ужасные. Всю зиму работали под дождем и снегом, а жили в шалашах из дубовых веток, где нельзя было укрыться от ветра, где люди задыхались от дыма костра, разведенного тут же, посреди шалаша. Ни согреться, ни отдохнуть там нельзя было…
В порту Дурреса случалось иногда целыми неделями грузить углем иностранные суда. Это были счастливые дни, потому что можно было поговорить с матросами, которые много плавали по свету и много видели. Особенно запомнились крестьянам Дритаса беседы с высоким остроносым греком и с пожилым болгарином. Хотя тот и другой плохо говорили по-албански, но тем не менее смогли многое рассказать крестьянам о далеких странах.
— Да, таких, как вы и как мы — голодных, раздетых, разутых, — на свете миллионы. Но придет день, и вспыхнет великое пламя, и никому его не загасить!..
Слушая такие речи, крестьяне чувствовали, как в их сердцах нарастает злоба против тех, кто обрек их на эту проклятую жизнь. А возвращаясь к себе в село, измученные и оборванные, они находили какое-то утешение, вспоминая слова матросов: — Вы — не одни. Таких, как вы, на свете миллионы…
И в этом году на зиму одна группа крестьян отправилась в Дуррес, другая — в Горицу. Мужчины, оставшиеся в селе, занялись хозяйством.
Зато у женщин, и в особенности у молодых девушек, оставалось много свободного времени. Часто отправлялись они в лес за хворостом — делать запасы на зиму. Дорогой разговаривали на самые разнообразные темы. С песней поднимались на холмы и с песней спускались, возвращаясь домой с тяжелым грузом на спине. Судачили обо всем и всех: о женихах, свекрах и свекровях; одними гордились, других ругали, над третьими посмеивались.
В прошлые годы в хоре девушек часто звучал прекрасный звонкий голос Василики, но теперь ее не было слышно. Василика больше не ходила за хворостом — его набирал для Ферра пойяк. Подруги решили, что она занята: готовит к свадьбе приданое.
В действительности дело обстояло иначе: отец запретил Василике ходить с девушками за хворостом, опасаясь, что там она может повстречаться с этим сорванцом Петри. Раз Петри нагрубил своему будущему тестю, надо его разлучить с Василикой — пусть не зазнается!
Грустно становилось Василике всякий раз, когда она, сидя у окна за рукоделием или вязанием чулка, видела, как ее подруги с веревками за плечами отправлялись в лес. Они шли веселые, много смеялись. Василика не решалась даже выйти во двор, а только смотрела на них через окно. Слезы появлялись у нее на глазах, и она уходила в чулан, где никто не видел, как она плачет. Перед родителями и гостями она старалась казаться беззаботной и веселой.
Но наступил день, когда затворничество стало ей невмоготу. Отец ее в это время находился в Корче, а мать гостила в соседнем селе у тетки. Остальных домашних она не очень-то боялась и потому, не раздумывая, взяла веревки и присоединилась к веселым подругам, отправлявшимся за хворостом. Раньше лучшей ее подругой была Лена, дочь Ничо; но после того как в прошлом году, в день святого Георгия, Лена вышла замуж, Василика крепко подружилась с Витой, дочкой Ндреко. Очень помогло укреплению их дружбы и то, что брат Виты — Гьика был закадычным другом жениха Василики. Но с тех пор как Петри поссорился с ее отцом, Василика редко виделась с Витой. Узнай отец, что они встречаются, Василике бы несдобровать.
На этот раз она шла вместе с Витой, и обе подруги могли разговаривать, сколько им угодно, могли раскрыть одна перед другой тайны своих сердец. Сделав вид, что им надо вытряхнуть из опингов колючки, подруги незаметно отстали от остальных. И о чем только они не говорили: и о вышитых свадебных рубашках, и о подарках, которые семья невесты должна прислать семье будущего мужа, и о цветах, которыми должна быть украшена всякая приличная свадьба, и о тех их сверстницах, которые с некоторых пор стали задирать нос, и, конечно, больше всего о женихах. Но стоило Вите упомянуть имя Петри, как Василика изменилась в лице, будто ей тяжело слышать имя, которое было для нее самым дорогим.
Вита очень удивилась этому:
— Мне кажется, ты очень переменилась. Едва я назвала имя Петри, как ты сделалась бледнее полотна. Что это значит, скажи мне? Ведь Петри по тебе с ума сходит. Когда бывает у нас и не застает дома Гьику, только и говорит о тебе.
Василика не выдержала и разрыдалась. Не в силах идти дальше, она остановилась на лесной поляне. Подруги сели на камень. Остальные девушки успели уйти далеко вперед и собирали в лесной чаще хворост. Глубокая тишина царила вокруг. Лишь изредка откуда-то издалека доносились звуки пастушеского рожка.
Над девушками простирались ветви дуба с большими красноватыми листьями. Немного поодаль, за поляной, начиналась густая чаща. При первом взгляде на нее казалось, что смотришь на огромный ковер, весь сотканный из разноцветных нитей — от бледно-желтых до ярко-багряных. Это осень так расцветила лес. Несколько ниже поблескивала гладь небольшого лесного озера, едва колеблемая слабым ветерком.
Василика кинула печальный взгляд на озеро, затем перевела его на желто-багряный ковер осеннего леса, закрыла лицо руками и простонала:
— Родной отец хоронит меня заживо, губит меня!
Вита удивилась:
— Отец? Что он тебе сделал?
— У меня рана вот здесь, в самом сердце! — горько продолжала Василика.
Набежал ветер. С деревьев посыпались десятки красных и желтых листьев; они медленно опускались, кружась над головами девушек. Несколько листочков упало им на волосы и на колени. Василика подняла листок, посмотрела на него с глубокой печалью и проговорила:
— Вот как ветер срывает с деревьев листья, так и отец оторвал меня от любимого… Но… листья опадают осенью, а со мной это случилось в весеннюю пору моей жизни!.. — и она снова расплакалась.
Вита, еще не понимая, в чем дело, попросила подругу рассказать ей все начистоту и поклялась, что скорее умрет, чем откроет кому-нибудь ее сокровенную тайну. Тогда Василика, не осушив еще слез, поведала ей о том, что произошло между Петри и ее отцом, о том, как после этого отец держал ее взаперти и даже не отпускал на озеро за водой.
— Сегодня я пошла за хворостом, ни у кого не спросившись. Если отец, вернувшись из Корчи, узнает, где я была, он изобьет меня. А мне хотя бы еще один-единственный раз повидаться с Петри, а потом отец, если захочет, пусть хоть убьет меня! — с отчаянием воскликнула Василика.
Вита чуть было и сама не расплакалась, будто все это произошло с ней. Это вполне понятно: и ей уже пришлось узнать, что такое любовь. И случилось это еще прошлой весной…
…Вита и Бойко, сын Терпо, уже второй год как любили друг друга. Впервые они обменялись улыбками на пастушеском стане, куда Вита носила пастухам ужин. Чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, она решила набрать в лесу немного хворосту. На поляне Вита увидела множество цветов, напоминавших по форме тонкие церковные свечи. Совсем близко позвякивали колокольчики пасшегося скота. Девушка положила собранный ею хворост на землю и принялась рвать цветы, цветок за цветком; скоро у нее получился огромный букет. Усевшись под дубом, она расположила цветы таким образом, что букет переливался всеми цветами радуги.
Неожиданно из кустарника выскочил большой пес и громко залаял.
Вита перепугалась и выронила букет. Начала звать на помощь, сама же схватила палку и приготовилась защищаться. А собака, оскалив зубы, продолжала лаять, готовая броситься на девушку.
— Помогите! Помогите! — в ужасе кричала Вита, грозя собаке палкой.
В кустах послышался шорох.
— Цыц, Балаш! Цыц! Назад, проклятый пес, а то и впрямь загрызешь человека! — закричал на собаку появившийся из кустов юноша.
Это был Бойко, сын Терпо. Он поблизости пас стадо Шумара, нанявшего его в пастухи. Услышав лай собаки и крики девушки, он бросился на помощь. При виде хозяина собака перестала лаять, завиляла хвостом и отошла в сторону. Вита кое-как оправилась от испуга.
— Спасибо, что отогнал от меня собаку! — смущенно поблагодарила девушка пастуха.
А Бойко смотрел на Виту и не мог наглядеться: такой прекрасной она ему показалась! Смущенная, с блестящими от слез глазами, с большими заплетенными косами… Впервые он увидел ее так близко, рядом с собой.
— Верно, Вита! Этот Балаш злой пес. Придется в конце концов убить его, уж больно много он доставляет хлопот, — проговорил Бойко и после минутного молчания спросил: — А что ты здесь делаешь? И совсем одна…
— Я отнесла пастухам ужин и, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, решила набрать немного хворосту, — отвечала Вита, — хворосту набрала, да вот задержалась: уж очень хороши здесь цветы… Ну, теперь пойду, а то поздно… — и она принялась подбирать хворост.
Молодой пастух увидел рассыпанные на земле цветы, улыбнулся, собрал их и подал Вите букет.
— Жалко бросать цветы. Ты ведь трудилась, собирая их. Какие они красивые!.. На, возьми! — ласково проговорил он.
Вита смотрела на юношу счастливыми и в то же время испуганными глазами. Улыбнулась в ответ и ушла. Даже не успела как следует поблагодарить за то, что Бойко защитил ее от собаки, за то, что подобрал цветы, даже не попрощалась как следует.
Бойко проводил ее долгим взглядом. Новое, еще не испытанное чувство овладело им. Ласковая улыбка девушки, ее нежный взгляд, белые зубы, похожие на камешки в прозрачном ручье, — все это пронзило его сердце. Он взглянул под ноги и увидел еще несколько сорванных цветов, которые она обронила. Подобрал их и прижал к груди…
С тех пор прошло два года. Вита стала красавицей. После встречи в лесу Вита и Бойко горячо полюбили друг друга. Не проходило дня, чтобы она не думала о молодом пастухе, а он — о юной крестьянке. Изредка, встречаясь на праздниках или гуляньях, им удавалось перекинуться несколькими словами, и от встречи к встрече их любовь крепла.
Скоро об этой любви узнало все село. Терпо уже дважды посылал к Ндреко сватов. Но старик встречал их нелюбезно, считая, что дочь еще слишком молода для замужества. Не привлекала его и перспектива породниться с Терпо, семья которого жила еще беднее его семьи.
Тогда между Гьикой и отцом начался раздор: Гьика был за то, чтобы отдать Виту за Бойко, отец — против. А Вита начала прихварывать: худела и бледнела. Отец же по-прежнему никак не соглашался на ее брак с Бойко и даже, побывав в Шён-Пале, дал слово своему старому приятелю Журко, что выдаст дочку за его сына. Но Гьика обещал Вите переубедить отца и добиться его согласия.
Бойко по-прежнему пас стадо Шумара, и Вита, отправляясь в лес за хворостом, тайно встречалась с ним. Она предпочла бы смерть разлуке с любимым и не допустила бы того, что случилось с Василикой. Она надеялась, что Гьика отстоит ее.
Налетел новый порыв ветра, еще более сильный, и над головами девушек, подобно разноцветным бабочкам, запорхали сотни листьев. Василика лежала на траве, положив голову на колени подруги. Вита гладила ее волосы, как любящая мать гладит своего обиженного ребенка. Издалека послышались голоса пастухов.
Хотя Вита и знала, что Бойко среди них нет, ей все же было приятно слышать эти голоса. Она представляла себе, будто Бойко зовет ее и как бы спрашивает: «Эй, Вита! Где ты?..» — и она, как зачарованная, идет на этот зов. А Бойко, увидев ее, отбрасывает в сторону пастушеский посох и торбу, заключает ее в объятия и прижимает к самому сердцу.
Теперь голос раздается где-то совсем близко, — пастух подходит к поляне. Вита обрывает нить своих сладостных мечтаний:
— Вставай, Василика! Пойдем! Не надо, чтобы нас здесь застали…
Девушки поднимаются. У Василики лицо опухло от слез. Она вытерла его концом головного платка и, взяв за руку подругу, направилась в лес. На поляну из чащи вышли остальные девушки, нагруженные вязанками хвороста. Василика и Вита, присоединившись к ним, шли на некотором расстоянии и продолжали беседу.
Рассказ Василики огорчил Виту, ей стало жаль несчастную подругу.
Спустя несколько дней, увидевшись с Петри, она подробно рассказала ему, как Василика мучается. На это Петри только воскликнул:
— Что за злодей ее отец!
А когда наступил вечер, Петри осторожно пробрался к огородам Рако Ферра, надеясь хоть на мгновение увидеть любимую. Но в этот вечер Василика не вышла из дому.
Проходили дни, а Петри все так и не удавалось повстречаться с невестой. Видимо, отец держал ее взаперти. В действительности так оно и было. Вернувшись из Корчи, Рако узнал, что Василика ходила вместе с Витой за хворостом, и пришел в такую ярость, что даже поколотил жену, вообразив, что это она отпустила Василику в лес. Теперь он сам следил за дочерью, а если ему случалось отлучиться на базар в Корчу, поручал это дело своим надежным друзьям. Никто в селе, кроме Виты и Петри, не знал о мучениях бедной девушки. Вита сдержала слово и никому не выдала подругу. Петри тоже молчал.
* * *
Выпал первый снег. Забот у крестьян прибавилось: с утра отправлялись они в лес за припасенным с лета кормом для скота. Члены семейства Ферра старались при этом не встречаться с членами семьи Зарче. Это очень задевало Зарче, и в особенности его жену. Она замечала, что каждый раз, когда ей приходилось заходить к Рако, ее встречали очень холодно, чуть ли не говорили «убирайся». А между тем Петри уверял ее, что в доме Рако Ферра его по-прежнему радушно принимают. Неужели сын ее обманывает?..
Так шли дни, и незаметно наступило рождество. Его отпраздновали, как и в прошлые годы. На дворе у Шумара устроили танцы девушки, а на дворе у Янкулы плясали парни. Старики смотрели на танцующую молодежь и радовались ее веселью. Ребятишки бегали взад и вперед, кричали и смеялись. Из Горицы на праздник в село вернулись угольщики. С гор спустились пастухи.
На третий день рождества все — и мужчины и женщины — собрались у Шумара. Теперь девушки танцевали вместе с парнями, да так, что было слышно по всему селу. А играли для них Кутини на дудке, Нгельи на барабане, и играли — надо отдать им должное — замечательно. К ним присоединился и Шето со свирелью, так что музыка вышла на диво. Раскраснелись девушки, а глаза парней метали искры. Словом, повеселились на рождестве!.. Последний танец открыл Петри; и до чего же он хорошо танцевал, и все на носках! Казалось, что он не касается ногами земли, а летает по воздуху.
— Пойдем, дочка, потанцуем! — послышался веселый голос старика Зарче. Среди девушек, которые стояли поодаль, он заметил суженую своего сына, подошел к ней и потянул в круг. — Пойдем, дочка, потанцуем!
Василика вспыхнула, смутилась и не хотела было идти.
— Иди, иди, когда тебя зовет сам свекор! — уговаривали ее подруги.
А мать удерживала ее за руку и возражала:
— Нет, сват, не надо ей, не надо!..
— Иди, иди же! — раздалось сразу несколько голосов.
Музыка продолжала играть, молодежь танцевала, но этот спор привлек всеобщее внимание. Веселый старик, так простодушно и ласково приглашавший потанцевать свою будущую невестку, оглядывался по сторонам и, заметив, что многие на него смотрят, сначала покраснел, затем побледнел и отошел в сторону.
— Отказала мне, не пожелала уважить свекра…
Тут к нему подошел Леший и как бы в шутку заметил:
— Дядя Зарче, ты уже вообразил, что Василика — твоя невестка, будто уже успел обвенчать ее!.. Э, нет! До свадьбы еще очень далеко!..
Зарче почувствовал насмешку и обиделся:
— Проваливай своей дорогой и не суй нос в чужие дела! — отрезал он и, не дожидаясь ответа Лешего, ушел со двора Шумара.
Кара Мустафа с ненавистью посмотрел вслед уходившему старику, и глаза его налились кровью. Затем он подошел к Рако и, злобно улыбнувшись, шепнул ему:
— Этой дерзости я ему не забуду!
О столкновении Зарче с будущей невесткой скоро узнало все село. Некоторые утверждали, что Василика поступила нехорошо, отказав свекру в такой безделице. Ведь все знают, каким весельчаком, каким лихим танцором был в молодости дядя Зарче! И сын весь в него: Петри и в танцах, и в песне, и на пирушке — всюду первый! И такой обходительный, такой приятный в разговоре!..
Взбрело же в голову старику протанцевать с невестой сына перед всем селом! Веселый человек этот Зарче, ничего не скажешь!.. Да и как не радоваться, когда у тебя такой сын, как этот молодец Петри, рассуждали крестьяне.
Однако Рако Ферра был иного мнения.
— Этого еще недоставало! — сказал он дочери. — Проклятый старик на глазах у всех оскорбил честную девушку. Ты хорошо поступила, Василика, что отказалась с ним танцевать. Так ему и надо: остался с носом. — И Рако, злорадствуя, потирал руки.
А Василика была в отчаянии. Чтобы угодить отцу своего любимого, она, ни с чем не считаясь, закрыла бы на все глаза и пошла бы с ним в пляс. Но в ту минуту ее крепко схватила за руку мать. Кого же ей было слушаться?
Вот и рождество прошло. Василика надеялась, что, может быть, в дни праздника их семьи помирятся и отец снова пригласит в гости Петри, как по обычаю зовут женихов. Но этого не случилось.
В рождественские дни в доме Рако Ферра перебывало немало гостей: кьяхи, жандармы, представители местной власти, но Петри не было: ему этой чести не оказали. И подарками, как того требовал обычай, семьи тоже перестали обмениваться.
— Ничего ему не посылать! — приказал Рако.
И не посылали!.. Как Василика ни упрашивала мать, как ни плакала над связанными ею для Петри теплыми носками, но послать их в подарок жениху ей не позволили. На второй день рождества все ранее предназначавшиеся для жениха подарки мать заперла в сундук. Так велел хозяин.
А Зарче со своей стороны прислал семейству Ферра подарки: пироги, яйца, теплые носки, мыло и карманное зеркальце. Подарки, правда, приняли, но пироги Рако выбросил собакам.
— Нет, мы им ничего не пошлем. Это вздорный, устарелый обычай! — сказал он.
А старика Зарче тем временем стали одолевать сомнения.
— Жена, что такое с нашим тестем? Почему он ничего не прислал в подарок Петри?
Жена только пожала плечами:
— Одна из родственниц Рако говорила, что нам нечего ждать от него подарков. Будто теперь правительство отменило этот обычай. Будто так говорил и начальник общинного управления и главный жандарм. — И, усмехнувшись, добавила: — Разве поймешь, в чем тут дело?
Пришлось Зарче проглотить и эту обиду.
* * *
Наступил праздник святого крещения. Уже с полуночи крестьяне, разряженные, отправились в церковь. Из Каламаса приехал поп Ристо — служить заутреню. После богослужения предстояло взять крест, поднять иконы и с ними отправиться к виноградникам, чтобы бог послал в этом году хороший урожай. Потом, на рассвете, должны были бросить крест в озеро, и счастливым окажется тот, кто, нырнув в ледяную воду, первым его схватит.
Маленькая сельская церковка к двум часам ночи была битком набита. Женщины стояли по одну сторону, мужчины — по другую. Теснота была такая, что дышать трудно. Священник с козлиной бледно-рыжеватой бородкой и худым, длинным лицом походил на святого, изображенного на одной из многочисленных икон, висевших в золоченых и серебряных окладах по стенам церкви. Голос у него приятный, но разобрать слова молитвы почти невозможно. Дьякон — человек весьма уважаемый в селе — пел очень задушевно, хотя его баритон и несколько дребезжал.
— Миром господу помолимся!.. Ами-и-инь! — этот припев повторялся без конца.
Недалеко от священнослужителей с торжественным выражением лица стоял Рако Ферра. На нем было новое пальто, сшитое по заказу в Корче; усы аккуратно подстрижены, подбородок чисто выбрит. Время от времени он морщил лоб, поднимал брови и, как следует прокашлявшись, хриплым басом подтягивал дьякону.
Женщины не могли стоять спокойно, все толкались: каждая хотела подбросить поближе к алтарю платок, чтобы священник, проходя с крестом, наступил на него. У жены Нгельи болен сын. Она положила ребенка на пол: пусть священник перешагнет через него, и тогда мальчик непременно выздоровеет. В задних рядах, по разным сторонам, стояли девушки и парни.
У всех молящихся был испуганный вид: многие размышляли о делах, о которых не следовало бы думать в божьем храме. Вот, к примеру сказать, Петри. Протолкавшись вперед, он подошел возможно ближе к Василике. Украдкой посмотрел на нее, улыбнулся, хотел что-то шепнуть, но это ему не удалось. Столько глаз следят за ними и столько ушей их слушают! Василика покраснела и опустила голову. В эту минуту она была очень похожа на святую Марию, икона которой висела рядом на стене.
Священник вышел через врата алтаря, поправил длинные волосы, почесал подбородок и громким голосом торжественно провозгласил:
— Господу богу помолимся, господу помолимся! — И протянул крест к верующим.
— Ами-и-инь — раздался голос дьякона, а за ним хриплый бас Рако Ферра и голоса стариков подхватили слова молитвы:
— Господи, боже наш! Ами-и-инь!..
— Помолимся господу об отпущении грехов наших! — предложил священник присутствующим и под звяканье кадила, среди клубов дыма от ладана вернулся к алтарю.
— Помилуй нас, боже, помилуй! — продолжал дьякон как бы в ответ на предложение священника.
— Помилуй нас, боже, помилуй, и освободи из тюрьмы моего бедного Шоро!.. Ведь он не поджигал башню бея… — молилась жена Шоро, с благоговением взирая на большой серебряный крест в руке священника.
— Помилуй нас, боже, если мы согрешили перед тобой, и освободи моего Барули!.. — молилась Барулица, прикладываясь к иконе пресвятой богородицы и принося ей в дар две медные мелкие монетки.
Каждый замаливал свои грехи. И только Рако Ферра чувствовал себя безгрешным. Даже если он и согрешил — а в это ему поверить трудно, — он уже искупил свои грехи тем, что время от времени жертвовал церкви и растительного масла для лампад и воску для свечей. Тем более сейчас, на празднике святого крещения, он мог снять с себя всякие остатки грехов, если бы они у него и нашлись, купив по самой дорогой цене право нести крест.
Каждый воскресный день, каждый праздник Рако Ферра посещал церковь, приходя туда раньше всех и выходя последним, когда уже заканчивалась служба. Какие грехи замаливать ему перед богом? А вот что касается здоровья или удачи в делах, за это он молится, и молится усердно и святой Марии и Иисусу Христу. Свою молитву он всегда подкрепляет или целым оком масла, или пол-оком воска для свечей, чистого воска, а не дрянного сала, как осмеливались жертвовать крестьяне победнее.
Богослужение окончилось, и приступили к продаже креста. Правда, продавался не крест, а лишь право понести его до виноградников. За это нужно было уплатить святой церкви деньгами, маслом или воском.
Псаломщик, выйдя на середину церкви, объявил исходную цену за крест: пол-ока масла.
Рако Ферра разгладил подстриженные усы, откашлялся и посмотрел вокруг себя с таким видом, точно хотел сказать: «Ну, сейчас вы увидите, каков я!»
— Даю полтора ока! — гаркнул он на всю церковь.
Псаломщик, высоко поднимая над головой большой крест, проговорил:
— Кто дает больше? А не то крест получит Рако Ферра за полтора ока масла!
Все молчали. Только Гьика и Петри о чем-то перешептывались:
— Взвинтим цену, поддразним Рако. А потом оставим крест ему, — предложил Гьика.
— Согласен! Если опростоволосимся — убыток пополам. Только чтобы не узнали, что и я замешан в этой затее… — ответил Петри.
— Рако Ферра дает полтора ока. Кто больше? — повторил свой вопрос псаломщик.
— За один ок и три четверти возьму крест я! — крикнул Шумар.
— Два с половиной ока! — перекрыл его голос Гьики.
— Чудеса! — зашептались крестьяне. — Где Гьике взять столько масла?
— Три ока! — сердито огрызнулся Рако Ферра.
— Опять Рако дает больше! — прошел шепот по церкви. — Кто может с ним тягаться? Он всякого переплюнет: у него денег куры не клюют.
— Три с половиной ока! — послышался голос Гьики.
— Э, да он с ума сошел, хочет перещеголять самого Рако Ферра, — громко проговорил кто-то из задних рядов.
— Три с половиной ока дает Гьика! Три с половиной! — восклицал псаломщик.
Снова воцарилась тишина.
— Даю четыре с половиной! — раздался голос взбешенного Рако Ферра.
— Ой, ой, сразу прибавил целый ок!
— Каждый год крест остается за ним. Разве он уступит его? — переговаривались крестьяне.
— Четыре с половиной ока! Четыре с половиной дает Рако Ферра! — надрывался псаломщик.
— Дальше уж идти некуда! — перешептывались крестьяне. — В прошлом году крест продали всего-навсего за два с половиной ока, а теперь дошли уже до четырех с половиной.
Рако гордо посматривал направо и налево, как бы желая сказать: «Куда тебе, сопляк, со мной тягаться! Ну, прибавь еще, если можешь! Все равно меня не испугаешь!»
— Пять оков даю я! — это опять был голос Гьики.
Все вытаращили глаза.
— Пять оков дает Гьика, сын Ндреко! Пять оков, — продолжал надрываться псаломщик.
— Пять оков, пять! — проговорил кто-то в толпе радостным голосом.
Кровь ударила в голову Рако: «Нарочно это делает, разбойник, но я ему покажу: подниму цену до десяти оков и уступлю ему крест, пусть попляшет! У него дома нет даже горстки муки, а хочет со мной тягаться», — подумал Рако и заревел на всю церковь:
— Шесть!
— Еще больше дал! — зашептали крестьяне.
— Семь! — крикнул Гьика.
— С ума сошел, парень! — пробормотала какая-то старушка.
— Восемь! — прибавил Рако Ферра.
— Восемь с половиной! — отозвался Гьика.
Рако насмешливо покачал головой. Крестьяне превратились в зрение и слух.
— Девять с половиной! — чрезвычайно гордо отчеканил Рако и вытер пот со лба.
— Бери себе на здоровье! — насмешливо ответил Гьика.
Все облегченно вздохнули, будто освободились от тяжелого груза. Впрочем, кое-кто хитро посмеивался.
— Девять с половиной оков масла!.. Крест остается за Рако Ферра… или, может быть, кто-нибудь еще прибавит? — обратился псаломщик к присутствующим.
Но никто больше не прибавил.
— Итак, девять с половиной оков масла! Крест остался за Рако Ферра. Прошу подойти и принять святыню! — пригласил псаломщик победителя.
Рако отер губы, торжественным шагом подошел к кресту, приложился к нему и взял в руки.
— Поздравляем! Поздравляем! — окружили его старики и старухи.
В ответ он благодарил, кланяясь и сжимая в руках большой деревянный крест.
Потом начали продавать иконы, но дороже ока масла ни одну продать не удалось.
Наконец все — мужчины и женщины, старики и старухи, парни и девушки — с иконами в руках и зажженными свечками вышли из церкви и направились к виноградникам. Впереди рядышком шли священник с кадилом и Рако Ферра со своим крестом. За ними двигалась толпа, освещаемая мерцанием лампад и трепетными огоньками свечей, которые поминутно гасли и снова зажигались, чтобы опять погаснуть от легкого ветерка. Крестьяне шли и пели:
— Христос, господь наш!
— Даруй нам хлеба, даруй нам вина!..
Гьика, затесавшись в самую гущу толпы, оживленно разговаривал с одной старушкой. Та его спрашивала:
— Эх, сынок, где бы ты взял столько оков масла?
А он только смеялся ей в ответ:
— Есть у меня, бабушка, кое-какие сбережения…
— Да разве можно тягаться с таким богачом, как Рако Ферра? Да и сам Христос, выходит, ищет выгоду: кто больше даст, тому и крест достанется. Вот за это он и помогает Рако.
— Все есть у Рако, — пошутил кто-то из крестьян, желая поддразнить старуху.
— У него есть, но и я хочу иметь! А вот не имею! Он обманывает, крадет, потому и имеет больше. Нынче самые богатые люди — воры! — смеясь, заметил Гьика.
— Несчастная я, думала, что ты со мной всерьез, а у тебя шутки на уме!.. Разве можно зубоскалить во время крестного хода?.. — старуха перекрестилась и поспешила отойти от Гьики.
Петри старался не терять из виду Василику, которая шла впереди вместе с матерью.
Когда шествие достигло виноградников, все разошлись в разные стороны. Каждый со своей семьей и иконами отправился на свой виноградник. Петри передал матери икону, которую нес, и незаметно удалился. Перепрыгнув через изгородь виноградника дяди Мало, через забор Селима Длинного, он оказался у виноградников Рако Ферра. Здесь Рако со всей своей семьей и священником горячо молился богу о том, чтобы тот послал ему побольше винограду и хлеба. Женщины прикладывали иконы к корням и лозам, а Рако стоял с крестом посередине своих владений. Женщины — их было четыре — зажгли свечи и разошлись в разные стороны. У одной свеча погасла, пришлось возвратиться, чтобы зажечь ее снова. Петри узнал Василику. В этой части виноградника она сейчас находилась одна. Не теряя времени, Петри перепрыгнул через ров и подошел к ней. Вдруг в предрассветных сумерках она услышала за спиной знакомый, любимый голос:
— Василика, это я, Петри!
Девушка вздрогнула и выронила свечу.
— Прошу тебя, уходи! Сейчас же уходи, нас могут увидеть!
Но Петри не послушался, притянул ее к себе и с жаром поцеловал.
— Любишь меня? Любишь ли по-прежнему? — горячим шепотом спрашивал он.
Василика от волнения, от страха, от счастья не могла выговорить ни слова.
— Скажи, скажи мне, любишь ли ты меня? Или, может быть, отца своего любишь больше? Но ведь он разлучил нас! Он изверг! У него нет сердца! Ответь же мне! — настаивал Петри.
Василика заплакала.
— Скажи хоть одно слово, одно только слово! — продолжал он умолять.
С середины виноградника послышался сердитый голос Рако:
— Василика, куда ты запропастилась? Мы сейчас возвращаемся. Что ты там делаешь в темноте? Почему твоя свеча не горит?
Девушка с трудом вырвалась из объятий жениха, а он все продолжал настаивать:
— Скажи, любишь?
— Я твоя до могилы! — проговорила Василика и бросилась бежать, спотыкаясь о корни.
— Иду, отец, иду! — кричала она.
Но, не пробежав и двадцати шагов, вспомнила, что забыла у лозы икону. Пришлось вернуться. Поднимая с земли икону, вдруг задумалась: вот перед этой иконой, перед святыней, в день водосвятия Петри поцеловал ее! Ведь это большой грех. И ей стало страшно.
Крестьяне собрались у Скалистого ущелья и продолжали распевать священные песнопения. Когда вернулись в церковь, уже совсем рассвело.
Весь этот день на площади Шелковиц происходили танцы. В самый разгар праздника вдруг раздался радостный возглас мальчика:
— Папа! Папа вернулся!
Крестьяне повернули головы и увидели мальчика, бегущего по направлению к Скалистому ущелью. Со стороны виноградников, расположенных неподалеку от озера, еле волоча ноги, шли трое крестьян.
— Слава богу! Освободили из тюрьмы! — сказал один парень, узнав их.
Действительно, из тюрьмы возвращались Селим Длинный, Шоро и Барули.
Женщины, девушки и дети бросились им навстречу, но Гьика, Петри, Ндони, Бойко и еще несколько парней обогнали их и уже через несколько минут горячо обнимали трех освобожденных сельчан. А те стояли среди обступивших их друзей, улыбались и говорили:
— Как хорошо, что мы опять дома!
— Как хорошо, что вы вернулись… — отвечали сельчане.
— А где Стефо и Дудуми? — спросил один из крестьян.
— Они немного задержались, — желая успокоить встречающих, ответил Барули.
А крестьяне смотрели на них, ахали и соболезновали:
— Как ты исхудал, Шоро!
— А Барули выглядит еще хуже!
— От Селима Длинного кожа до кости остались!
Гьика, Петри и еще несколько парней подхватили освобожденных в круг и хотели заставить их плясать вместе со всеми. Но те отказывались.
— Увольте! Дайте нам хоть немного отдохнуть! — умоляли они и, дойдя до площади, совсем обессиленные, опустились на камни.
Петри, дом которого находился рядом, принес им раки. Гьика попросил жену сделать то же самое. Выставил бутылку раки и дядя Коровеш, так что выпивки оказалось много. Подкрепившись раки, трое выпущенных из тюрьмы крестьян почувствовали себя лучше и повеселели: так приятно было видеть вокруг знакомые, дружеские лица.
Барули отер усы и проговорил:
— Хорошо, что бог дал нам снова свидеться! А то мы и впрямь боялись: придется там за решеткой и кости свои сложить.
— Отсиживать в тюрьме за других! Виданное ли это дело? — возмущался Шоро, по обыкновению почесывая затылок. От усталости и от выпитого раки он был весь в поту.
Единственный человек, кого не обрадовало возвращение троих крестьян, был Рако Ферра. У него внутри все кипело. Но волей-неволей пришлось ему подойти и поздороваться.
— А, Рако, неужели и ты рад нашему возвращению? — спросил Шоро, пожимая протянутую ему руку.
Рако смутился.
— Конечно, рад, что вас освободили. Но ничего не поделаешь! Если тюрьма построена, надо же кому-то в ней сидеть, — попытался он отшутиться.
— Это верно, сидеть в ней кому-то надо. Но что ты скажешь, если тебя самого посадят ни за что ни про что? — как всегда, независимым тоном спросил его Барули.
Такого рода разговоры пришлись Рако Ферра не очень-то по душе. И все село так радостно встречало этих оборванцев, в такой пустилось пляс по поводу их освобождения, что можно было подумать, будто сегодня празднуется не день святого крещения, а встреча этих негодяев! И пляшут, и смеются, и раки хлещут!
Все это подстроили Гьика и Петри — в этом нет никакого сомнения. Хорошо, что у этого разбойника Гьики такой длинный язык и он открыто хвастался, что когда-нибудь зароет Рако Ферра живым в землю. Об этом передавали Рако преданные люди, которые не могли его обманывать. Впрочем, о его вражде с Гьикой было известно всему селу. Ну, а этот сопляк, сын Зарче, ему-то что надо? Вместо того чтобы просить прощения, он держит себя еще наглее. Словно и знать не хочет тестя! Нет, такого дальше терпеть нельзя! Этот Петри больше не жених его дочери, а самый заклятый враг Рако! Сегодня в церкви он перешел все границы. Рако собственными глазами видел, как он перешептывался с Гьикой. И если в этом году Рако пришлось отдать за крест девять с половиной оков масла — на семь оков больше, чем в прошлом, — то в этом повинен и Петри… И зачем они так торжественно встречают этих вшивых оборванцев, только что выпущенных из тюрьмы? Не нравится это Рако Ферра…
Подумать только! Они подожгли башню бея, а их встречают танцами и угощают раки! Будь здесь Леший, он бы им показал! Но, черт побери, как на зло, Кара Мустафа уехал в Шён-Паль в гости к начальнику общинного управления.
— Эй, друзья! Гьика, Петри, Бойко! Выпьем же за ваше здоровье! Вы самые лучшие парни в нашем селе! — воскликнул Селим Длинный и разом осушил кружку.
Петри подошел к нему, обнял и потащил в круг танцующих.
— Не надо, Петри, не надо, я еще не очухался! — отбивался Селим.
Старики и старухи смотрели, смеялись и одобряли:
— Здорово пляшут!
— Так и надо… Молодежь…
— Правда, пусть повеселятся, пока молоды! Еще много тяжелого они увидят в жизни…
Поступок Петри вконец возмутил Рако. Подойти и обнять немытого, грязного, оборванного, может быть, кишащего вшами Селима Длинного! Он, Рако, на такую погань, как Селим Длинный, и плевка бы пожалел! Разумеется, Петри сделал это назло, как бы желая сказать: «Ты разлучил меня с Василикой, так вот смотри, любуйся!»
В эту минуту Рако окончательно решил ни за что не выдавать свою Василику за этого мерзавца. Правда, они уже помолвлены, но это еще ничего не значит. Он может возвратить семье Зарче подарки и открыто заявить на все село, что такой человек, как Петри, недостоин переступить порог его дома! А дочку он хорошо выдаст замуж в Шён-Паль за какого-нибудь богатого жениха.
Приняв такое решение, Рако ушел. Ухода его никто и не заметил.
Поздним вечером крестьяне, вдоволь натанцевавшись, с веселыми песнями проводили освобожденных по домам. Впереди, приплясывая, шли Гьика, Петри и Бойко. Никогда они еще не чувствовали себя такими близкими и родными друг другу, как в этот вечер. Одного взгляда товарища было достаточно, и другой понимал его без слов.
И только на следующий день освобожденные крестьяне открыли горькую правду: их-то выпустили, а Стефо и Дудуми суд в Корче приговорил к длительному тюремному заключению.
Новость эта потрясла крестьян, в особенности семьи осужденных и Гьику.
— Я знал, что суд решит так, как будет угодно Каплан-бею. Суд и бей между собой связаны. Так оно и вышло, — сказал Гьика. — Но не будем отчаиваться! Раньше всего поможем семьям этих несчастных. И борьбу нашу будем продолжать! — заключил он, кладя руку на плечо своего верного друга Бойко.
* * *
Несколько дней кряду непрерывно шел снег. Крестьяне из-за сугробов не могли даже пробраться к загонам скота. Дул леденящий ветер. Самый суровый период зимы застал многие семьи без горстки муки в чулане. Немногие початки кукурузы, которые сохранялись для посева, были съедены. Днем и ночью плакали голодные дети, будто по селу выли шакалы:
— Хлеба!
— Хлеба!
Этот крик, эта мольба, сопровождавшаяся слезами, шла от самого сердца. До этого крестьяне еще кое-как держались: изредка продавали дрова в Корче, занимали там, занимали здесь, но разве долго так продержишься?
Зато у Рако Ферра и его родичей амбары были полны до отказа и зерном и кукурузой. Как-то случилось, что доведенный до отчаяния Селим Длинный осмелился пойти к Рако Ферра попросить в долг кукурузы для своих голодающих детей. Что же ему ответил Рако?
— Кто я такой, миллионер? — накинулся он на Селима. — Должен оставить своих детей не евши, в то время как твои выродки будут жрать мой хлеб? Убирайся!
Селим ушел, печально покачивая головой и бормоча:
— Будто я пришел к нему воровать! Я ведь честно… в долг! Хочешь дать — давай, не хочешь — жри сам. Придется, видимо, сдыхать с голоду вместе с детьми, но так будет лучше: по крайней мере сразу отмучаемся!..
А между тем некоторым другим семействам — пойяка, Сике и Шуко — тот же самый Рако по собственному почину прислал немного муки. Но эти крестьяне почитали его, уважали, постоянно расхваливали и сверх всего возвращали ему долг в двойном, а то и в тройном размере.
— Правительство должно дать нам хлеб — иначе все перемрем! — говорили крестьяне.
— Правительство? Но что такое правительство, глупцы? Рако Ферра — это и есть правительство, Леший — правительство, Каплан-бей — правительство. Они довели нас до того, что мы умираем с голоду, а вы на них еще надеетесь! Не будьте глупцами, действуйте, требуйте, нападайте на этих кровопийц, просьбами вы ничего не добьетесь. На удар отвечайте ударом! — гневно говорил крестьянам Гьика.
Трудно пришлось в эту зиму и семье Ндреко. Гьика не знал, как прокормить своих.
Плач детей, раздававшийся по всему селу, разрывал ему сердце.
— Хлеба!
— Хлеба-а-а!
Как-то раз Гьике пришлось зайти в хижину к Шоро, и то, что он там увидел, потрясло его. На полу, словно маленькие скелетики, лежали изголодавшиеся дети. Они уже были не в силах подняться, только беспрестанно твердили одно и то же:
— Хлеба, мама! Хлеба!..
Жена Шоро могла им сунуть в рот только несколько зернышек последнего початка кукурузы; больше в доме ничего съестного не было. А в противоположном углу лежал больной Шоро. Он стонал и время от времени цыкал на детей и ругал их, будто они виноваты:
— Чтоб вы сдохли! Чтоб вы сдохли! Душу из нас вымотали!
Гьика ушел потрясенный. Он решил, что единственный путь к спасению от голодной смерти — это всем отправиться с дровами в Корчу. Переговорил с одним, с другим, но все боялись пускаться в длинный путь в самый разгар суровой зимы. И на его предложение откликнулось всего лишь трое: Петри, Бойко и дядя Коровеш. К несчастью, Петри простудился и не смог с ними отправиться. Верхом на кобыле Зарче, больному, в лихорадке, не под силу было сделать и полпути.
Делать нечего: отправился Гьика с дядей Коровешем и Бойко, да прихватили они с собой Ндони. Был у них осел Ндреко, осел Шоро, жеребец Коровеша, кобыла Зарче и еще Тушар дал им своего мула. Нагрузили животных дровами и отправились. Что они перенесли дорогой, одному богу известно! В пути пришлось остановиться и переждать вьюгу — только через два дня прояснилось.
Дрова они продали выгодно. С большим трудом купили около ста пятидесяти оков кукурузы, смололи ее и вернулись в Дритас. Голодные односельчане встретили их, как своих спасителей. Кукурузу распределили по количеству душ в каждой семье.
Получая муку, крестьяне благодарили Гьику и его товарищей, поднимали глаза к небу и твердили:
— Ну, уж если на этот раз спаслись, значит, нет на нас погибели! Боже, сделай так, чтобы опять подул ветер с юга! Тогда и мы выживем и скот наш не подохнет…
Ветер с юга среди зимы нужен был для того, чтобы растаял глубокий снег, занесший село…
* * *
Через два дня на крестьян свалилась еще одна беда: к ним пожаловал сборщик налогов.
Финансы Корчи находились в плачевном состоянии. Государственные служащие уже три месяца не получали жалованья. Кризис обострялся день ото дня. Те жалкие налоговые поступления, которые удавалось собрать, немедленно пересылались в столицу. Поэтому-то власти, несмотря на бездорожье и снежные заносы, разослали сборщиков налогов и наказали им любыми средствами взыскать с крестьян налоги за этот год и недоимки за прошлый. Они могли, если бы это потребовалось, даже применить силу, но во что бы то ни стало собрать налоги. И вот сборщик, господин Рамо, явился в здешние края.
Жестокие холода задержали его в Шён-Пале, но едва установилась мало-мальски сносная погода, как он вскочил на лошадь и в сопровождении трех крестьян, которые расчищали ему дорогу, и двух жандармов приехал в Дритас. Однако снега на дороге оказалось так много, что из Шён-Паля до Дритаса вместо двух часов, как обычно, им пришлось проехать целых пять.
Стоило крестьянам услышать о появлении сборщика налогов, как они пришли в ужас. Никогда еще не удавалось рассчитаться с ним по-мирному. И, надо признаться, трудно им было выплачивать эти налоги: приходилось распродавать последнее, только бы не остаться должниками неумолимого правительства. И, однако, многие подозревали, что сборщик налогов обсчитывал их. Ведь чем больше он соберет, тем выгоднее для правительства, да и для него самого. Крестьяне не отказывались платить, но зима выдалась такая суровая, что хлеба ни у кого не было и дети умирали от голода. И вот как раз в такое время с них еще требуют налоги!
Пойяк оповестил всех: собраться в доме Рако Ферра.
Согбенные, в худой одежде, в рваных опингах шли туда крестьяне. За большим столом у пышущей жаром печи уже сидел сборщик налогов и разложил перед собой большие тетради. Господин Рамо был человеком среднего роста, с худым лицом, тонким носом и короткими усиками. Ища в тетради имя крестьянина, он надевал на нос очки и, зажав ручку между пальцами, проводил пером по строчкам с таким видом, будто давил блох.
Крестьяне молча стояли перед ним. Он выкликал имя, и вызванный выходил вперед. Господин Рамо подсчитывал, сколько тот задолжал. Крестьянин морщил лоб, почесывал в затылке и отвечал:
— Разве я знаю, сколько должен? Помнится, я уже платил в день святого Димитрия… Какой же еще за мной долг?
— А у тебя есть справка, что ты платил? — раздраженно спрашивал его сборщик.
— Была, да куда-то запропастилась, никак не мог найти.
— А еще говоришь, будто платил, — возмущался представитель власти.
Крестьяне были неграмотными. Сборщик налогов, человек ловкий и хитрый, умел вершить дела: каждый раз, когда крестьянин платил, он записывал в журнал меньшую сумму, а в справке изменял цифры так, чтобы они сходились с тем, что у него было записано в журнале. Крестьянин, не разбирающийся в этих делах, клал справку куда-нибудь в дальний угол и, когда она была нужна, никак не мог ее найти. Да если бы и нашел, не смог бы прочесть. А если бы каким-нибудь чудом смог, это ему не помогло бы. Ведь в справке была записана меньшая сумма.
А господин Рамо возвращался домой с деньгами, мясом и курами, которые жертвовали ему крестьяне.
Подошла очередь Шоро.
— С тебя причитается десять франков за арманджилек, пять — за спахилек и три — школьного налога, всего восемнадцать.
Шоро закашлялся и почесал затылок:
— Нет у меня таких денег. Нет! — прохрипел он.
— Есть они у тебя или нет, но долг правительству ты уплатить обязан.
Шоро пристально посмотрел на печную трубу, будто ждал, что она подскажет ему, как поступить. И вдруг вспомнил.
— А я ведь уже платил, — робко проговорил он.
— Будь это так, здесь, в журнале, было бы записано. Ну хорошо, допустим, ты уплатил, а где у тебя квитанция? — иронически спросил господин Рамо.
— Неграмотный я, читать не умею!
— Читать не умеешь, а выдумывать, будто заплатил, умеешь? Хочешь обмануть правительство? Пораскинь хорошенько мозгами и отдай деньги, не то хуже будет! — рассердился сборщик налогов.
— Будет хуже? — Шоро покачал головой и в отчаянии прислонился к стенке. — Куда же еще хуже? Дети с голоду пухнут, я сам болею, а он с меня еще денег требует! — пробормотал крестьянин.
Сборщик налогов, услышав последние слова, покраснел, нижняя губа его задрожала. Сквозь стекла очков он метнул на Шоро разъяренный взгляд:
— Я требую денег? Разбойник! Я только требую то, что с тебя причитается по закону! А вот за такие слова могу посадить тебя в тюрьму! Наглец!
Шоро опустил голову. А господин Рамо продолжал кричать:
— Твои дети потому и пухнут с голоду, что ты не хочешь работать. Вместо того чтобы обманывать правительство, иди работай! Скот ты эдакий!
— У меня ничего нет, кроме осла. Возьмите его!
— И осла заберем, не беспокойся. А правительству платить надо, — пригрозил ему один из жандармов.
— Конечно. Правительство не может существовать без денег! — развил мысль жандарма Рако Ферра, затягиваясь дорогой сигаретой, которой его угостил господин Рамо.
Пока продолжался этот спор, Гьика протолкнулся вперед. Он знал, что после Шоро наступит очередь его отца.
— Так вот, взвесь хорошенько: или плати деньги, или мы опишем и заберем все, что найдем у тебя в доме. Одно из двух! — веско проговорил сборщик налогов и на этом окончил разговор с Шоро. Заглянул в свой журнал и громким голосом выкликнул:
— Ндреко Шпати!
— Здесь! — откликнулся Гьика.
Сборщик исподлобья бросил на него быстрый взгляд и начал подсчитывать: десять франков арманджилек, восемь — спахилек, полтора — школьного налога, всего девятнадцать с половиной франков.
— Ну, выкладывай деньги!
Однако Гьика спокойно, без заминки, ответил:
— Пять франков я уже заплатил после сбора урожая, а школьного налога мы не должны платить, потому что у нас в селе школы нет и на моей памяти не было. Шесть франков я уплатил тебе в мае в Корче. Остальное сейчас заплатить не могу, нет у меня денег, рассчитаюсь потом.
Господин Рамо угрожающе взглянул на него, снял очки, фыркнул и со злостью ответил:
— Ты разговариваешь так, словно мы — приятели. Разве ты не понимаешь, что имеешь дело с государственным чиновником, с представителем правительства? Не тебе решать, должен ли ты платить школьный налог или нет. За тебя уже давно решило правительство. А твоя обязанность — внести деньги, понимаешь?
— То, что причитается, я платить не отказываюсь… только не сейчас, а позже, — хладнокровно повторил Гьика.
— За арманджилек, за спахилек, школьный налог… — снова начал перечислять сборщик.
— Я никак не возьму в толк, почему я должен платить школьный налог, когда у наших детей нет школы? Что же касается остального, не пойму, почему должен платить второй раз? Оставшиеся недоимки, повторяю в последний раз, я платить не отказываюсь, — так же хладнокровно сказал Гьика.
Господин Рамо почувствовал себя уязвленным: тут была затронута его честь. Во-первых, крестьянин утверждал, что часть налогов, которые сейчас с него требуют, он уже уплатил. Выходит, что сборщик требует с него налог неправильно и собирается положить эти деньги к себе в карман. Во-вторых, этот мужик вовсе отказывается платить школьный налог на том основании, что у них в селе нет школы. Поступая так, он посягает уже не на честь одного лишь господина Рамо, но идет против правительственного постановления. Да это какой-то бунтовщик!..
Теперь лицо господина Рамо по цвету напоминало красный перец: еще никто из крестьян не осмеливался так с ним разговаривать. Он поправил очки, грозно нахмурил брови и, походя в эту минуту больше на прокурора, чем на сборщика налогов, зловеще проговорил:
— Ты сказал, что школьного налога совсем не собираешься платить? Правильно ли я тебя понял?
— Правильно, не буду его платить, — ответил Гьика.
— А известно ли тебе, что закон о школьном налоге издан правительством? Значит, отказываясь его платить, ты идешь против правительства! В таком случае тебя научат, как платить налоги! — и он показал пальцем на жандармов. — Видишь! В последний раз спрашиваю, будешь платить?
— Мы умираем с голоду, у нас нет даже завалящего кукурузного початка, не то что хлеба, а ты требуешь деньги!.. Где мы их возьмем? Ведь такая суровая зима!.. — пытался убедить сборщика Гьика.
— Меня это не касается. Если вы умираете, умирайте! Но ведь вы еще живы? Значит, должны платить налоги!
— Говоришь, умирать нам, а? Вот чего вы хотите, чиновники, представители власти! Чтобы мы, крестьяне, умирали! Вместо того чтобы прислать нашим голодающим детям хоть горстку муки, являетесь сюда и благословляете нас на смерть! Да разве это правительство? Нет у нас денег, нет! Хоть нож к горлу приставляйте! — гневно воскликнул Гьика.
Кое — кто из крестьян, слыша эти слова, одобрительно покачивал головой. Но большинство съежилось от страха. Всех поразила смелость и бесстрашие Гьики.
А жандармы уже приготовились. Рако, делая вид, будто греется у печки, довольно потирал руки и думал: «Вот молодец, люблю за это! Теперь уж он не выберется из мешка, который сам себе приготовил. Теперь ему крышка!»
От дерзости Гьики сборщик налогов в первую минуту даже растерялся — его точно дубинкой по голове огрели. Он пристально вгляделся в Гьику: да полно, не сошел ли с ума этот мужик, осмелившийся в его присутствии, в присутствии жандармов говорить такие дерзкие речи? Возможно ли это? Еще ни разу в жизни ему не приходилось выслушивать подобное! Потом он стиснул зубы и, вытаращив глаза, заорал:
— Да как ты смеешь, наглец, поносить правительство?!
— Я только сказал, что мы умираем с голоду и…
— Врешь, ты ругал правительство, изменник! Тьфу! — диким зверем взревел господин Рамо, заглушив спокойный голос Гьики.
Один из жандармов не стал долго раздумывать, шагнул к Гьике и со всего размаху прикладом ударил его по голове. Гьика упал как подкошенный.
— Ой, ой! Убили!.. — возглас ужаса пронесся по комнате.
Что было потом, никто хорошенько не разобрал. Крестьяне бросились вон. Остались лишь Шоро да Селим Длинный. Они подошли к распростертому на полу Гьике и хотели его поднять.
— Убили человека, пусть бог вас за это накажет, — проговорил Шоро.
Господин Рамо побледнел, быстро вскочил с места и при этом локтем перевернул бутылку с чернилами. Чернила разлились по его журналу, а оттуда на брюки, оставив на них длинную черную полосу. Рако Ферра принялся стирать чернила с брюк сборщика налогов.
Несколько минут спустя в комнату с криком вбежала жена Гьики, Рина:
— Ой, ой, что сделали с моим мужем? Бедная я, несчастная я!
Увидела у стенки Гьику, бледного, с обвязанной головой. У него нашлось силы улыбнуться ей. От этой улыбки, оттого, что она застала мужа живым, ей стало немного легче. Но тут Рина увидела жандармов, и кровь бросилась ей в голову. Она подбежала к ним и закричала:
— Палачи! Псы! Хотели убить моего мужа!
Жандармы сначала растерялись: натиск этой молодой красивой женщины ошеломил их. Но они тут же опомнились и изо всех сил оттолкнули ее. Рина отлетела к противоположной стене и упала.
— Палачи! — закричал Гьика. — Бьете беззащитных женщин, нет у вас ни капли чести. Палачи! — он тщетно пытался разорвать веревку, которой жандармы успели его крепко связать.
А Рако Ферра потирал руки и от радости готов был петь и плясать.
На следующий день, ранним утром, один из жандармов препроводил связанного Гьику в жандармское управление Шён-Паля. Гьику обвинили в том, что он публично поносил правительство. Оттуда же для охраны сборщика налогов в Дритас прислали еще троих жандармов.
После двух дней долгих споров господин Рамо реквизировал за недоимки у Ндреко осла, у Шоро — козла, у других крестьян забрал овец и коз. Всех этих животных отправили в Корчу, где их должны были продать на базаре.
Большинство крестьян — вернее, все, за исключением Рако Ферра, старосты и их немногих прихвостней, — жалели Гьику, зная, что его ожидает тюрьма.
— Что же у нас за правительство? Стоит громко сказать слово, как тебя изобьют и бросят в тюрьму!
— Вместо горстки муки голодающим крестьянам их бьют, сажают за решетку, последнюю шкуру сдирают!..
— Эх, верно говорил тот гег: правительство, чиновники и беи — все нас притесняют, обирают, душу из нас выматывают. Один только Гьика решился громко сказать правду, да и тот угодил в тюрьму.
Так разговаривали между собой Селим Длинный, Шоро, Барули, Эфтим, Коровеш и другие крестьяне. Но иначе думали и рассуждали Рако Ферра, староста и их немногочисленные сторонники.
— Вот дурак — осмелился вступить в спор с самим правительством!
— И поделом ему, так дураку и надо!
— С правительством шутки плохи! Мигом мозги вышибут!
— И чего полез? Кто его просил?
— Правильно говорят старики: не зазнавайся! А то угодишь в яму!
— И как еще угодил! Вряд ли оттуда выберется.
* * *
Беда, приключившаяся с Гьикой, больше всего опечалила его друзей: Петри, Бойко, Ндони и дядю Коровеша. В тот день, когда произошло это несчастье, Петри лежал больной. Но стоило ему узнать о том, что случилось с Гьикой, как он поднялся с постели и поспешил к Ндреко, чтобы хоть немного поддержать и подбодрить семью несчастного. С дядей Коровешем они советовались о том, как бы вытащить из когтей сборщика налогов осла Ндреко.
Порешили на том, что каждый из них за этого осла отдаст по одной своей козе. И с этими козами Петри, хоть и больной, отправился в Корчу. Продал там коз, и господин Рамо, уступив его долгим упрашиваниям, согласился принять деньги и вернуть Ндреко осла.
После многих недель густого снегопада крестьяне получили наконец возможность добираться до Корчи. На базаре, где они продавали скот, было много народу. Видно, не в одном только Дритасе успели побывать за это время сборщики налогов. Из многих деревень гнали в город на базар скотину, чтобы, продав ее, заплатить налоги и недоимки.
В тот день погода выдалась солнечная, просто душа радовалась. Петри, ведя за уздечку осла Ндреко, решил зайти к Залле. По дороге ему встретились несколько незнакомых крестьян. Один из них, должно быть единственный грамотный, читал вслух газету. До Петри донеслись слова: налоги… отмена… правительство…
Одной из главных забот Гьики было научить крестьян читать и писать. В особенности он требовал этого от молодежи. Сам Гьика постиг эту премудрость еще в армии, а Петри, Бойко и Ндони выучились читать сами. Рина, жена Гьики, Вита и несколько их подруг, занимаясь с ним, уже научились довольно хорошо читать и писать. Женщины по складам читали завалявшуюся у Гьики маленькую книжку, в которой рассказывалось о том, как некогда беи Албании завладели всей землей, закабалили крестьян и заставили их работать на себя. Теперь Петри мог бы и сам прочитать газету, только он еще сомневался — все ли правильно разберет. Ведь в газетах пишут особенным, ученым языком. Не всякому его понять…
Петри шел по базару и замечал, что у всех торговцев в руках газета, чем-то они зачитываются, а некоторые от удовольствия даже потирают руки.
«Черт побери, что это такое в газете?» — подумал Петри. Хотя у него и было туго с деньгами, он охотно заплатил бы за газету пол-лека, но, как на грех, ему не попадался ни один продавец.
Когда Петри подошел к водопроводной колонке, он увидел двух крестьян, которые с трудом по складам читали газету. Петри невмоготу было терпеть, и он подошел к ним:
— Скажите, добрые люди, что такое в сегодняшней газете? Куда ни глянешь, все ее читают!..
Крестьяне с удивлением посмотрели на него, а один даже засмеялся:
— Новостей в газете не перечесть… Тебе хочется все знать? Так вот, слушай!
И прочел напечатанное в газете крупными буквами правительственное сообщение:
— «Албанский парламент по предложению правительства в целях укрепления национальной экономики утвердил закон о снижении размеров налогов с облагаемого дохода, начиная от тысячи пятисот наполеонов и выше».
Услышав это, Петри простодушно спросил:
— Почему богачам снижают налоги, а с нас последнюю рубаху снимают?.. Как же это так?
Крестьяне переглянулись.
— На наше дело рассуждать, — испуганно сказал один из них.
А Петри, не говоря больше ни слова, дернул за уздечку осла и пошел своей дорогой.
В толпе его толкали, даже ругали, но он, не обращая ни на что внимания, думал только о том, что сейчас услышал: «Ведь есть же, черт возьми, богачи, которых сборщики налогов оставляют в покос! Долг их растет и может дойти до ста, двухсот, даже тысячи наполеонов! А их и не потревожат. И кончается это тем, что вместо того, чтобы таких людей за недоимки сажать в тюрьму, как поступили с Гьикой, или описать их имущество, как это сделали с другими крестьянами, господин Рамо, парламент и правительство пожалели их и списали долги. А ведь только подумать!.. Если бы он, Бойко и дядя Коровеш не вмешались, осел Гьики остался бы у сборщика налогов, и всего за девятнадцать с половиной франков!»
Оставив осла на постоялом дворе, Петри отправился на базар, но не нашел там ни Стири, ни Зенела. Увидев мальчишку-газетчика, он купил за пол-лека газету и в поисках грамотея вошел в магазин будто за тем, чтобы купить керосиновую лампу. Повертел лампу в руках, встряхнул, внимательно осмотрел ее, желая обнаружить хоть какой-нибудь изъян, но потом все же поставил ее на место. Хозяин лавки проворчал ему вслед:
— Ишь, черт, точно и вправду собирался купить!
Петри еще походил около сапожников и портных, но не нашел никого из знакомых. Прошел в рыбный ряд, опять вернулся к сапожникам.
К счастью, на этот раз он увидел Стири.
— Стири, здорово!
— А, Петри! — приветствовал его Стири, радостно пожимая руку.
— Как поживает Гьика? — Это был первый вопрос, с которым обратился к нему Стири.
Петри побледнел и опустил голову. Что ответить? Если не со Стири, то с кем же ему быть откровенным? Будь здесь Али… но увы!.. Где теперь Али и что с ним? И Петри рассказал обо всем, что случилось с Гьикой. Потом протянул ему газету. Стири усадил его рядом с собой и заговорил. Слова его действовали на раненое сердце молодого крестьянина, подобно целебному бальзаму.
— Эх, Петри, парламент и правительство издали этот закон для беев и ага, для торговцев, для богачей, для самих министров, но не для нас — подмастерьев, не для вас — крестьян. Вот видишь, Гьику за слово правды избили, и в тюрьму посадили, и вдобавок, в счет каких-то девятнадцати с половиной франков, отобрали осла. И все это только за правду. И мы, подобно Гьике, должны смело говорить правду и бороться за нее, жертвуя ради этого всем, даже жизнью. Так учил и наш Али. Нам нечего ждать от правительства милостей! Пора восстать и свергнуть этот режим! Вот единственный путь к спасению!
Когда они прощались, Стири повторил:
— Нужно быть смелыми, как Гьика, нужно открыто говорить правду!
Разговор со Стири несколько подбодрил Петри. А Гьика теперь представлялся ему еще более отважным, настоящим героем.
— Гьика говорит правду и готов пострадать за нее. Вот пример для всех нас! — сказал ему учитель Мало, которого он встретил у постоялого двора.
Учитель зашел сюда, рассчитывая найти Гьику, но вместо него увидел Петри. Учитель тоже нашел для него слова утешения, и оба они вспомнили Али и его заветы.
Петри понимал, что ему далеко до Гьики; он не обладает ни мужеством, ни решительностью этого человека. Но страдания крестьян были настолько велики, что он считал своим долгом сделать все от него зависящее для их облегчения. Он вспоминал слова Гьики: «У меня сердце разрывается, когда слышу по всему селу плач голодающих детей: «Хлеба! Хлеба!» Пусть я даже замерзну по дороге, пусть меня заметет снегом — все равно повезу в Корчу дрова, продам их и достану хлеба». Вот как любил Гьика своих односельчан! Да, далеко до него Петри!
Поговорив со Стири и с Мало, он понял, почему принят новый закон. Правительству нет никакого дела до того, что где-то в деревне умирают с голоду крестьяне, что у них отбирают последнего вола, осла, отнимают все.
В этот день номера «Голоса Корчи» и «Вестника Корчи» продавались, как горячие булочки. Правительство, желая пойти навстречу преданным ему людям, решило списать недоимки по налогам с облагаемого дохода от тысячи пятисот наполеонов и выше. Образовавшуюся недостачу в бюджете министерство предполагало восполнить иностранным займом, который ему великодушно обещало предоставить фашистское правительство Муссолини!
Ведь такие значительные суммы задолженности могли быть только у богатейших беев, владельцев огромных имений, крупных негоциантов, хозяев больших торговых предприятий. Эта льгота не могла коснуться ни одного рабочего, ни одного крестьянина — им правительство не простит ни одного лека.
Эта новость возмутила и крестьянина из Дритаса, у которого за недоимки отобрали козу, и рабочего в Корче, который с трудом перебивался с хлеба на воду. Зато пришли в умиление торговцы, ростовщики, крупные домовладельцы, освобожденные от необходимости вносить недоимки.
Бедный люд с гневом перешептывался о новом законе, а богатеи радостно потирали руки и хвалили королевское правительство:
— Вот верный способ поднять национальную экономику! Какое у нас замечательное правительство! — и запивали эти хвалебные слова дорогими винами и лучшим раки в первый солнечный день, выдавшийся в ту суровую зиму.
VII
Утром двадцать первого февраля тысяча девятьсот тридцать шестого года город Корча проснулся в тревоге.
По главной улице, ведущей к рынку, двигалась огромная толпа. Впереди несли красное знамя, на котором были вышиты две руки, соединенные в братском пожатии. Следом, по десять человек в ряд, шагали рабочие, с нахмуренными лицами, суровые и решительные. В толпе было много девушек и женщин — сестер и жен рабочих. Раздавались крики:
— Хлеба! Хлеба!
— Мы требуем хлеба! Хлеба!
Эту демонстрацию организовали местные профессиональные союзы.
Корча и вся ее округа страдала от недостатка хлеба. Торговцы зерном в полном согласии с властями еще с осени скупили всю кукурузу и все зерно. Чтобы уплатить налоги, крестьяне продавали свой последний хлеб в надежде, что зимой смогут себе его купить. Однако большую часть закупленного зерна купцы продали в Грецию, а остальное спрятали в своих амбарах. Время от времени, когда голод, казалось, достигал высшей точки, они выбрасывали хлеб на рынок и продавали его по неслыханно высокой цене. Ни крестьянам, ни рабочим не было под силу так дорого платить — они были близки к отчаянию. Этот злосчастный хлеб был им недоступен. Это обстоятельство использовали профессиональные организации разных отраслей промышленности, чтобы провести массовую демонстрацию городского и сельского населения под лозунгом: «Хлеба!»
По плану организаторов демонстрации рабочие должны были собраться перед зданием профессионального союза «Труд». Властям стало об этом известно заранее. И как только рабочие начали подходить к намеченному пункту, их окружили жандармы.
Швейники собрались несколько позже около здания своего союза. Узнав о том, что произошло с их товарищами, они двинулись к ним на помощь, чтобы, освободив их из кольца жандармов, дать им возможность демонстрировать вместе со всеми. А жандармы, сгруппировавшиеся около здания «Труда», не знали, что творится в других частях города.
Рабочие-швейники выступили с пением революционных песен. Торговцы в страхе закрывали ставни на окнах и, как мыши, прятались в лавках, в то время как их приказчики спешили присоединиться к демонстрантам. Дело шло о насущном хлебе, и поэтому в ряды демонстрантов начали вливаться и крестьяне, приехавшие на рынок.
В это самое утро, вместе с Петри и еще несколькими крестьянами, Гьика, только недавно освобожденный из тюрьмы, пришел из Дритаса в город. Он решил принять участие в демонстрации, о которой его заранее предупредил Стири. Здесь Гьика встретился с Зенелом и вместе с ним пошел на демонстрацию. Радостно билось его сердце, согретое братской любовью крестьянина к рабочим, но в то же время в нем кипела ненависть против тех, кто подвергал и крестьян и рабочих стольким мучениям. За одно грубое слово, сказанное сборщику налогов, ему самому пришлось отсидеть в тюрьме.
Дела в деревне шли все хуже и хуже. Несмотря на это, Гьика теперь чувствовал себя увереннее: у него появилось дерзание, вера в победу, уверенность в завтрашнем дне. И вот они, эти первые признаки счастливого завтра, того завтра, которое уже близко… Так думал Гьика, глядя на демонстрацию.
Толпа двигалась по направлению к зданию муниципалитета. Путь ее лежал мимо большого постоялого двора, у ворот которого толпились крестьяне, пришедшие из ближних сел. Здесь же стоял Сефедин-бей с длинным хлыстом в руке. Волосы у него были растрепаны, вихры свисали на лоб, и весь он походил на взбесившегося пса; он что-то орал, но от гнева голос его то и дело прерывался. В общем шуме трудно было разобрать его слова. Но одну фразу бей повторял беспрестанно, и именно ее расслышали стоявшие рядом крестьяне:
— Христианские свиньи! Проклятые гяуры! Они хотят, чтобы к нам пришли греки!
Сефедин-бей был человеком, которого особенно остро ненавидели все честные горожане Корчи. А власти, как только узнали о готовящемся выступлении рабочих, сразу обратились к нему за помощью. На закрытом совещании в префектуре вынесли решение: натравить мусульманское население города на христиан. Для этой цели был выдвинут такой лозунг:
«Гяуры в Корче хотят продаться грекам. Правоверные мусульманы не позволят обмануть себя!»
Как только на улицах раздались крики: «Хлеба! Хлеба!», этот лозунг и был пущен в ход.
Сефедин-бей обошел всех богатых торговцев мусульман и теперь явился на постоялый двор, где собрались крестьяне. В качестве «правоверного мусульманина» он начал бросать в толпу провокационные лозунги.
Всех встречных он уговаривал не принимать участия в демонстрации. Ага и эфенди охотно слушали его увещевания, но крестьяне, как он ни старался, поворачивались к нему спиной и шли прочь. Когда голова колонны достигла здания муниципалитета, Сефедин-бей все еще продолжал вести свою безуспешную пропаганду у постоялого двора. Он угрожал крестьянам хлыстом и в бешенстве метался из стороны в сторону.
— Эй, вы, дурачье! Разве вы не знаете, что затеяли гяуры?.. — поддержал Сефедин-бея один ага с длинными усами.
Однако крестьяне, не обращая внимания на бея и его приспешника, примкнули к демонстрантам.
Сефедин-бей, пытаясь спасти положение, стал орать еще громче, но его заглушили крики толпы:
— Хлеба! Хлеба!
— Вперед, товарищи!
Тут Сефедин-бей совсем растерялся и в страхе бежал под защиту жандармов, отряд которых, предводительствуемый сержантом, в эту минуту подошел к постоялому двору. При виде жандармов крестьяне рассеялись.
Над толпой, подхваченный десятками рук, появился рабочий.
Он подал знак, чтобы прекратился шум, и заговорил:
— Товарищи!
Слово «товарищи» он произнес громко, восторженно, и толпа сразу замолкла. А оратор, чье лицо нельзя было разглядеть под козырьком низко сдвинутой на лоб фуражки, повторив это волнующее слово, продолжал:
— Наших товарищей, которые требовали хлеба, окружили жандармы. Соединимся же с ними и будем требовать хлеба для себя, для наших семей, жен, матерей, сестер наших! Но прислужники беев преградили нам путь. Так проложим же грудью дорогу и покажем насильникам, что правда на нашей стороне, что мы не смиримся, не будем умирать голодной смертью, когда амбары беев полны зерном! Хлеба! Хлеба! Вперед, товарищи! Ура, вперед! — И он прыгнул в толпу.
— Вперед! Ура! — как эхо, откликнулись сотни голосов, и волна демонстрантов устремилась вперед.
Гьику, который стоял рядом с оратором, воодушевила эта короткая, простая и справедливая речь. И не только Гьика, каждый участник демонстрации с еще большей уверенностью в победе был готов к жертвам, к борьбе! С криком «ура!» Гьика бросился вперед и очутился в первом ряду демонстрантов, рядом с товарищами, несшими знамя союза. Прямо перед ними стояла цепь жандармов в шлемах, с ружьями наперевес. За ними виднелись еще ряды жандармов в полной боевой готовности. Весь квартал, где находились здания профессиональных союзов, был оцеплен жандармскими частями.
Подошедшие сюда демонстранты двинулись на жандармов, чтобы высвободить из кольца товарищей. Жандармы, не ожидавшие такого натиска, все же не решились стрелять и пытались рассеять демонстрантов, не применяя оружия, но когда увидели, что это им не удастся, запросили начальство, как им поступить.
Местные власти созвали экстренное совещание, на котором обсудили вопрос о том, как быть с этими корчинскими разбойниками, устроившими такую невиданную демонстрацию. И сразу же приняли решение: рассеять демонстрантов, не останавливаясь перед применением оружия.
Именно в ту самую минуту, когда рабочий-швейник призывал товарищей к борьбе, из здания префектуры вышел начальник жандармерии, господин Юрка. В руке у него был револьвер, на голове — стальной шлем. Он приказал своим подчиненным приступить к решительным действиям.
Едва Гьика, Зенел и двое рабочих, несших знамя, приблизились к цепи жандармов, как те бросились на демонстрантов и стали избивать их прикладами. Завязалась драка, в которой каждый бил кого попало. Сомкнутая до тех пор стена демонстрантов дала брешь. Озверевшие жандармы начали стрелять из ружей и револьверов и бросились на беззащитную толпу. Те, что шли им на выручку, увидев, как зверствуют жандармы, сами перешли в нападение; кулаки, камни, дубинки — все было пущено в ход.
Жандармы окружили рабочих, несших знамя. Знаменосцы упорно обороняли его: они готовы были пожертвовать жизнью, но не допустить, чтобы знамя — символ дружбы рабочих и их грядущего освобождения — досталось жандармам. Эти рабочие читали повесть Максима Горького «Мать»; они хорошо помнили, как там описана первомайская демонстрация русских рабочих. И теперь здесь — такое же столкновение, такая же схватка, такая же борьба. И каждый из них в эту минуту чувствовал себя Павлом Власовым.
Наконец жандармам, которые получили подкрепление, удалось овладеть знаменем. Одного из знаменосцев они сбили с ног, но как только Гьика и Зенел увидели, что знамя в руках жандармов, они бросились на выручку, и оно оказалось в их крепких руках. Жандармы пытались вырвать его, но Гьика и Зенел не выпускали знамени. Один из жандармов, с усами до ушей, с мордой бешеной собаки, взял штык на изготовку, намереваясь вонзить его в рабочего, который мужественно оборонял знамя и теперь пытался подняться на ноги. Но Гьика мгновенно заслонил рукой лицо рабочего, и штык жандарма со всего размаху вонзился в его ладонь. Гьика ощутил ужасную боль, но не выпустил древка. Зенел тоже крепко, обеими руками, держал знамя.
Как дальше развертывались события и какую форму приняла борьба демонстрантов с жандармами, Гьика уже не видел: он услышал, как несколько голосов прошептали ему: «Беги, беги скорей!» И, не выбирая направления, бросился бежать, так как заметил, что небольшая группа, оборонявшая знамя, вдруг рассеялась. Гьика бежал опрометью, сворачивая с одной улицы на другую. Наконец на четвертой улице какая-то девушка, бежавшая сзади в нескольких шагах от него, предложила укрыться у нее в доме. Он так и сделал.
Всюду в городе царила паника. Люди разбегались в разные стороны. Жандармы били прикладами всех, кто только попадал им под руку.
У дверей церкви святого Георгия какая-то старуха от испуга застыла на месте и только крестилась. К ней подбежал жандармский сержант и принялся осыпать ее ругательствами. Она что-то пробормотала ему в ответ и снова принялась креститься. Тогда сержант со всего размаху ударил ее кулаком по голове и сбил с ног. Старуха скатилась по ступенькам церковной паперти и осталась лежать посреди улицы.
Из дома против церкви с отчаянными криками выбежала пожилая женщина:
— Сыночек, сыночек мой! Где ты? О, я несчастная!
Жандарм преградил ей путь и не пустил дальше. Она метнулась к префектуре. Но жандарм изо всех сил толкнул ее, и она ударилась о стену.
— А-а-а! — прозвучал отчаянный вопль. Двое полицейских агентов поспешно подхватили ее и поволокли.
На углу жандармы били прикладами трех стариков, которые не успели убежать.
Куда ни взгляни, всюду можно было видеть ужасающие сцены. Корча стала напоминать город, захваченный свирепыми завоевателями. Вскоре улицы совершенно опустели, на них остались лишь жандармы в стальных шлемах и с ружьями в руках. Офицеры с револьверами наготове, высматривая добычу, сновали взад и вперед. С десяток жандармов, окровавленных, раненных кто в руку, кто в ногу, брели в ближайшую аптеку.
Из жандармского управления под конвоем вывели около двадцати человек, связанных по двое, и отправили в городскую тюрьму. Это были рабочие, арестованные во время демонстрации.
После полудня, когда город казался вымершим и только на рынке под угрозами жандармов понемногу начали открываться лавки, со стороны бульвара святого Георгия показалась толпа студентов лицея. Они шли сомкнутым строем и громко пели:
Эй, крепите, крепите ряды,
Эй, крепите, крепите ряды,
Вместе с нами — вперед!
И вот город, на короткое время устрашенный кровавой расправой, снова стал героическим. Из каждой улицы, из каждого переулка начали выходить рабочие, их жены, сестры, невесты, дети и присоединялись к демонстрации студентов. Теперь во главе толпы, которая грозной волной катилась к зданию префектуры, оказались и женщины.
К студентам присоединялись крестьяне, и все они направлялись к префектуре.
И перед самым зданием префектуры прозвучала революционная песнь:
Взвейся выше, красное знамя!
День борьбы настал.
Свобода будет с нами
Средь наших гор и скал!
Как объяснить, что все пели эту песню с таким воодушевлением? Студенты вдохнули в нее свой молодой пыл, нашли в ней идеал, о котором мечтали. Сердца рабочих были преисполнены гордости, потому что все население Корчи — и христиане и мусульмане — приняло участие в их мужественном почине. А старикам эта песнь напомнила о годах чужеземного ига и острее заставила почувствовать бедствия народа. Пели все — и студенты и рабочие; старухи отирали слезы, старики в такт песне размахивали шапками.
— Мы требуем освобождения наших товарищей! Свободу арестованным демонстрантам! — звучали лозунги из сотен уст.
— Хлеба! Хлеба! Хлеба! — требовали демонстранты.
И снова звучали слова песни:
Вперед, товарищи, вперед!
Албанцы, свергнем гнет!
Должны мы, братья, победить!
Довольно в подлом рабстве жить!..
И вдохновенно повторялся припев:
Свобода будет с нами
Средь наших гор и скал!
— Свобода! Свобода! Товарищи! Товарищи! — раздавалось со всех сторон, словно это грохотали вспененные валы бушующего моря…
А в это время префект, господин Люмемази, дрожал как осиновый лист. У него не хватило духу показаться на глаза этой гневной толпе. Он лишь отважился подойти к окну своего кабинета, приподнять край опущенной шторы и украдкой бросить взгляд на улицу. Но тут же быстро опустил штору и, смертельно побледнев, будто его ужалила змея, бросился в кресло. Вид толпы, все это пение, все эти грозные выкрики привели его в ужас. Он снова схватился за телефонную трубку и в двадцатый раз за каких-нибудь полчаса вызвал к себе начальника жандармерии, господина Юрку. Несмотря на его призывы, господин Юрка все еще не являлся. А префект даже не успел еще и пообедать. После разгона утренней демонстрации он заперся у себя в кабинете и принялся составлять план доклада министру внутренних дел относительно событий этого утра; в докладе надо было и себя и своих приближенных выставить в наиболее выгодном свете, а все население Корчи представить как опасных бунтовщиков.
За составлением этого доклада его и застала весть о новой демонстрации.
Начальник жандармерии господин Юрка — коренастый, остролицый, с кошачьими глазами — только что успел вернуться домой и собирался было отдохнуть от пережитых волнений, как зазвонил телефон. Ничего не поделаешь, пришлось сразу же направиться к префекту. Но, поскольку начальник жандармерии боялся идти мимо толпы, он отправился обходными путем, по пустынным уличкам, и поэтому задержался. Пробираясь вдоль стен, он через боковую калитку проник во двор префектуры и в подавленном настроении, красный от досады и возбуждения, вошел в кабинет префекта.
Господин Люмемази в эту минуту сидел на диване, скрестив по-турецки ноги и сложив на груди руки; он печально покачивал головой, и лицо его при этом напоминало лик египетской мумии.
— Что же я теперь сообщу в Тирану? — растерянно пролепетал он.
Начальник жандармерии молчал.
— Вы только выгляните в окно, посмотрите, что там делается! — пробормотал префект.
Господин Юрка подошел к окну и, словно это было чрезвычайно опасно, приподнял штору.
— Вот они! Хорошенько бы по ним из пулеметов! — угрожающе прошипел он, опуская штору.
— Из пулеметов! — как эхо, откликнулся господин Люмемази. Он и сам не мог отдать себе отчета, испугало ли его это слово или возбудило в нем надежду.
А начальник жандармерии между тем решительным тоном продолжал:
— Господин префект! Надо немедленно отдать приказ о разгоне демонстрации любыми средствами, не останавливаясь перед применением оружия. — Он немного подумал, и его вдруг осенила счастливая мысль: — А лучше всего применить пожарный брандспойт, тогда демонстрация рассеется сама собой.
Префект одобрительно кивнул головой, и начальник жандармерии, не дожидаясь дальнейших распоряжений, взялся за телефон и приказал своему заместителю двинуть против демонстрантов вооруженных жандармов, вызвать пожарную команду и, если понадобится, открыть стрельбу.
Со стороны бульвара к префектуре подходили все новые колонны демонстрантов. Положение представителей власти становилось все более затруднительным.
— Что же я теперь сообщу в Тирану?.. — еще раз вздохнул господин Люмемази, забившись в угол дивана.
А с улицы в тысячный раз звучали крики:
— Требуем освобождения арестованных!
— Хлеба! Хлеба!
— Долой! Долой!
И эти крики перекрывались пением революционной песни, которая звучала, как гимн людей, решивших порвать цепи рабства, жаждущих свободы.
В это время жандармы, окружавшие демонстрантов, получили подкрепление и перешли в наступление. Они врезались в толпу и принялись разгонять ее дубинками и прикладами. Но толпа сомкнулась еще плотней, крики не смолкали, пение продолжалось.
На улице появилась городская пожарная машина и вплотную подъехала к демонстрантам. Пожарные принялись поливать из брандспойта толпу. Демонстранты расступились, машина, охраняемая пятью жандармами, въехала в самую гущу толпы и остановилась перед зданием префектуры. Но едва шофер затормозил, как несколько студентов и молодых рабочих набросились на жандармов. Одного схватили за мундир, другого — за ногу, и в одно мгновение пятеро жандармов очутились на земле, а на их месте на подножках машины оказались демонстранты, и оттуда зазвучал боевой призыв:
Эй, крепите, крепите ряды,
Вместе с нами — вперед!
И толпа откликнулась на него словами революционной песни:
Взвейся выше, красное знамя!
День борьбы настал!
Свобода будет с нами
Средь наших гор и скал!
Несколько рабочих взобрались на пожарную машину и овладели брандспойтом. Тогда начальник отряда жандармов отдал приказ:
— Огонь!
И снова, как утром, закипел ожесточенный бой. На удары дубинок демонстранты отвечали дубинками, на удары кулаков — кулаками. Женщины и дети в страхе скрывались в боковых уличках. Жандармы преследовали их, колотили прикладами. Над головами демонстрантов засвистели пули…
И снова Корча приняла вид города, захваченного свирепым врагом. На каждом углу — жандармы, по всем улицам — патрули. К четырем часам пополудни улицы словно вымерли, все двери — на запоре.
— Эдакие скоты! — выругался начальник жандармерии, входя в кабинет префекта, чтобы сообщить ему о принятых против демонстрантов мерах. Его кошачьи глаза сверкали гордостью победителя; короткая, коренастая фигура словно стала выше. Не дожидаясь предложения префекта, он взял из лежавшей на столе коробки сигару и закурил. Затем с раздражением сказал:
— Никому нельзя верить. Эти прохвосты мусульмане присоединились к грязным гяурам! Что за поганый народ!..
Но префект не слушал его. За все время он так и не сдвинулся с места: все в том же положении, со скрещенными руками и ногами, сидел на диване и в сотый раз задавал себе вопрос:
— Но что же я сообщу в Тирану?..
* * *
Как только Гьика переступил порог дома, куда его позвала незнакомая девушка, за ним сразу же захлопнулась дверь. Он взглянул на девушку. Она была высокого роста, большеглазая, с широким лбом и чуть припухлыми губами; длинные волосы достигали ей до плеч. Одета она была в черное платье с белым воротничком — обычная одежда студентки.
— Сюда, сюда, скорее! — с тревогой в голосе сказала она, и лицо ее залилось румянцем. Взглянув на ладонь крестьянина и увидев, что с нее стекает кровь, девушка испуганно вскрикнула: — Ты ранен!
На минуту она растерялась, не зная, чем ему помочь.
— На нас напали жандармы… — начал было рассказывать Гьика, но тут его перебил голос старухи, донесшийся из кухни:
— Что там такое, дочка? Кто к нам пришел?
— Сейчас увидишь.
И девушка провела Гьику на кухню. Старуха, увидев окровавленную руку крестьянина, проговорила:
— Где это тебя так отделали, сынок? Тебе надо идти к врачу, здесь у нас докторов нет.
Девушка нахмурила брови. Гьика закусил губу.
«Старуха-то не из гостеприимных… Но как же я теперь пойду?» — с отчаянием подумал Гьика.
— Пока что он должен остаться здесь, а к доктору пойдет потом, — возразила девушка.
— Видите, в чем дело, матушка… На рынке жандармы разгоняют народ: они бьют нас, мы бьем их, но у них ружья, на ружьях штыки, и… вот сами видите, ранили меня…
Не дав ему договорить, старуха завопила.
— А-а-ай! Там и мой сын! Горе мне, ведь они убьют его!.. Я пойду, а ты перевяжи рану, — обратилась она к девушке и выбежала на улицу.
— Ты тоже принимала участие в демонстрации? — спросил Гьика у девушки.
Ей почему-то не хотелось признаться в этом раненому крестьянину. А ведь и в самом деле она вместе со своими двумя подругами участвовала в демонстрации: они выкрикивали лозунги и пели революционные песни. Но, когда началась свалка и послышались первые выстрелы, она вместе с другими пустилась бежать куда глаза глядят. И все же одно доброе дело ей удалось совершить: спрятать у себя в доме раненого крестьянина.
Между тем кровь из руки незнакомца продолжала сочиться и пол у него под ногами покрылся красными пятнами. Девушка осмотрелась и, очевидно, не найдя здесь того, что ей было нужно, позвала крестьянина и провела его в соседнюю комнату.
Здесь оказалось все необходимое для перевязки, и девушка принялась за дело. Гьика подставил ей ладонь. Рана оказалась глубокой: жандармский штык оставил после себя страшный след. Девушка содрогнулась, взглянув на изуродованную руку, и, вся дрожа, промыла и перевязала рану. Гьика плотно стиснул зубы и сжал в кулак здоровую руку, чтобы не закричать от боли. Вдруг он ощутил острую жажду.
— Прошу тебя, дай мне напиться.
Только теперь девушка догадалась, что гостю следовало бы предложить поесть. Она поставила на огонь джезве
[26] и принесла кружку воды. Пока готовился кофе, она исподлобья рассматривала своего гостя. Ей понравилось лицо молодого крестьянина, такое доброе и благородное, но усталое и изможденное. А как он бедно одет! Сплошные заплаты… Когда она подала кофе, он поблагодарил и
заметил:
— Стоило ли готовить для меня кофе? Мы к таким лакомствам не привыкли. Не для нас они!
Девушка села напротив и, улыбаясь, спросила:
— Можешь теперь рассказать, что там с тобой произошло?
— Не во мне дело. Это касается всей Корчи, всех ее жителей, которые вышли требовать хлеба.
Девушка сделала вид, что не понимает, о чем он говорит:
— Требовать хлеба? Как это так?
Сидя у горячего очага с чашкой кофе в руке и слушая мягкий голос хозяйки, Гьика успокоился.
— Неужели ты так ничего и не знаешь? Но вот твоя старушка, кажется, поняла все с первого слова…
— А дело в том, что я… я не здешняя, я сюда приехала из… — и девушка запнулась.
Но Гьика не обратил на это внимания и продолжал:
— Ну, так я тебе расскажу, милая девушка, все как есть. Там, на площади, собрались рабочие, к ним присоединились мы, крестьяне, и стали требовать хлеба, потому что у нас дети мрут от голода. Однако власти, вместо того чтобы дать нам хлеба, начали стрелять в нас из ружей. Вот каково наше правительство, наши власти!
И Гьика продолжал говорить о том, как измываются над крестьянами бей и его кьяхи, начальник общинного управления и инспектор жандармерии, как притесняют здесь, в городе, рабочих… И крестьянам и рабочим приходится одинаково плохо.
В то время как Гьика с такой простотой и вместе с тем с такой впечатляющей силой говорил о страданиях народа, перед глазами девушки возникали картины крестьянских и рабочих восстаний, забастовок, демонстраций, о которых упоминал их учитель на уроках истории. И то, что оставалось неясным на этих уроках, теперь, после слов крестьянина, становилось понятным и бесспорным.
Крестьянин говорил с воодушевлением, и оно передавалось слушательнице.
Эта девушка была студенткой женского института в Тиране, звали ее Анной. Подруги называли ее уменьшительным, ласкательным именем — Аннушка. Родом она была с юга страны, но выросла в Тиране и поэтому считала себя коренной жительницей столицы. Несмотря на безработицу и экономический кризис, положение ее семьи было достаточно прочным: ее отец служил чиновником и неплохо зарабатывал.
Анна приехала в Корчу погостить у своей старшей замужней сестры. Желание повидаться с сестрой и взглянуть на Корчу, где она родилась, заставило Анну пуститься в путь и провести здесь две недели вынужденных каникул, потому что их институт был на это время закрыт из-за эпидемии гриппа.
И сейчас, слушая Гьику, Анна сопоставила две Албании: мир зажиточных людей — с одной стороны, и мир людей, которым суждено только страдать, денно и нощно работать, никогда не имея возможности досыта наесться, мир людей, которые не знают, что такое спокойный сон, — с другой… А люди, принадлежащие к миру богатых, только и знают, что едят и пьют, смеются, развлекаются и совсем не работают!
Сколько раз ей приходилось видеть на улицах Тираны представителей мира бедняков, но эти встречи не производили на нее впечатления. И люди эти никогда не переступали порога их дома. То, что они существуют, представлялось ей вполне естественным, и никогда она не задавалась вопросом, почему, собственно, они ходят оборванные, разутые, голодные…
Но вот около полутора лет тому назад ей довелось прочитать одну переведенную на албанский язык книгу — «Мать» Максима Горького. Эта книга потрясла Анну, заставила ее взглянуть на мир по-новому: с необычайной ясностью увидела она пропасть между богачами и бедняками. С тех пор она часто спрашивала себя: к какому из двух лагерей ей примкнуть? И часто обжигал ей душу и другой вопрос: «А что сделала я сама для того, чтобы помочь этим несчастным людям?..» — и тут же спрашивала себя: «А чему меня учили в институте? Учили ли меня тому, как помочь этим людям?»
А истина заключалась в том, что в институте среди ее подруг (здесь учились девушки со всех концов Албании) не было ни одной, которой уроки и объяснения учителей помогли бы понять и разобраться в том, что происходит в стране. И подруги ее тоже делились на бедных и богатых. Бедные — таких было меньшинство — мечтали о том, чтобы как можно скорей закончить образование и начать зарабатывать, помогать родителям и, если посчастливится, найти себе хорошего мужа. Богатые — они составляли большинство — тоже только и думали о том, чтобы поскорее окончить институт и отдаться светским удовольствиям и развлечениям, а затем… тоже выйти замуж, но, разумеется, за человека своего круга, с достатком и положением.
Однако никто — ни бедные, ни богатые — не задумывались над главным вопросом: «Чем мы можем послужить своему народу?»
А народ, как стало ясно Анне после книги Горького, — это рабочие и крестьяне, которые всю жизнь трудятся и терпят лишения и страдания от голода.
«Но чему же все-таки нас учили в институте? Что мы сделали для народа? Что сделала я сама?» — снова и снова задавала себе эти вопросы Анна.
И вот она вспоминает уроки истории… миллионы людей гибли в кровопролитных войнах, а героями и победителями оказывались цари и короли. Она вспоминает уроки педагогики, но и на этих уроках готовились верные слуги класса имущих, обладающих деньгами, землями, властью. Она вспоминает уроки литературы… Чему их учили? Из иностранных авторов проходили только Данте и Петрарку, но и о них учитель рассказывал в таком банально напыщенном тоне, что талант этих поэтов, гармония их искусства в его изложении исчезали: от них оставались какие-то выжимки, в ученицах зарождалась ненависть и к Данте с его Беатриче, и к Петрарке с его Лаурой за то, что они только затем и родились на свет божий, чтобы бездарные учителя докучали ученицам своими скучными рассказами о них.
К выжимкам из иностранной литературы добавлялись выжимки из отечественной литературы о Бузуке и Богдане
[27], — на этом курс заканчивался. В институте не преподавалось ни одного иностранного языка, и окончившие его девушки выходили с крайне поверхностными знаниями о истории и литературе.
Смышленая, развитая и любознательная, Анна принадлежала к числу лучших студенток. По собственному почину она с четырьмя подругами взялась за изучение итальянского языка. Когда же овладела им в достаточной степени, перед ней в книгах открылся новый мир. Теперь она поняла, что Данте и Петрарка — великие поэты, и только черствый учитель был виноват в том, что у нее возникло отвращение к этим замечательным художникам слова.
Анна много читала, сначала без разбора все, что попадалось ей на глаза, но мало-помалу научилась находить хорошие книги. Ей очень понравился «Дон-Кихот» и совершенно потряс «Гамлет». Близок был ей и мрачный мир героев Достоевского: их мучения заставляли мучиться и ее. У Анны было слишком мягкое сердце, и даже вымышленные страдания литературных героев она переживала, как свои собственные. Это в ней подмечали и подруги и посмеивались над ней.
Это свойство характера проявлялось и в ее отношениях с подругами; если какая-нибудь из них делилась с ней своим горем, Анна переживала его, как свое собственное. Если ей случалось с кем-нибудь поссориться и даже с неделю не разговаривать, она первая шла на примирение. Всегда охотно предлагала подругам помощь в приготовлении трудных уроков, объясняла, чего они не понимали.
На Анну произвели большое впечатление «Оды» Парини
[28]; его «Дни» заставили ее возненавидеть итальянскую аристократию. Но больше всего девушку привлекали персонажи романов Льва Толстого. Она прониклась симпатией к Пьеру Безухову, который сначала показался ей немного глуповатым. Но впоследствии Безухов сделался ей близким именно за то, что его не удовлетворяла жизнь для самого себя, что он стремился сделать что-нибудь хорошее для других. Читая «Войну и мир», Анна часто отождествляла себя с Наташей Ростовой: вместе с ней страдала и радовалась. Она полюбила Наташу, словно та была ее закадычной подругой. Все нравилось в ней Анне: и живость, и веселость, и доброта, и отзывчивость к страданиям другого, готовность помочь ему, и душевное благородство, и ее пение — словом, все. Герои Толстого были ей близки и потому, что, будучи выходцами из мира богатых, обманщиков и лицемеров, они стремились порвать с этим миром, пытались обрести «мир души», не противясь злу злом, стараясь уподобиться простым крестьянам, стать такими же, как они.
Эти идеи добра и милосердия постепенно преобразили душу Анны. Ее не удовлетворяло общество, в котором она жила; большую часть времени она проводила в одиночестве, мечтая о счастливом мире, основанном на принципах равенства людей. Их учитель педагогики, упоминая о Руссо, вскользь коснулся идей Великой французской революции. Но счастливый мир будущего должен быть создан на основе сострадания друг к другу — так думала тогда Анна. И для этого, считала она, люди должны духовно очиститься и простотой образа жизни уподобиться бедному крестьянину.
Анну охватывала печаль, когда, преисполненная этой идеей сострадания, она задумывалась над сущностью общественного строя своей родины.
Покуда есть нищета, жизнь лишена радости, идеалов и любви. Вот почему Анна искала одиночества, в котором она могла мечтать и утешаться чтением книг в духе учения Толстого.
В таком настроении она прожила около двух лет, пока не прочла книги Горького «Мать». Горький сразу разрушил в ней это толстовское мировоззрение непротивления злу. От ее сентиментальности не осталось и следа, и теперь она ясно видела правду.
Ее подруги просматривали газеты только затем, чтобы полюбоваться фотографией очередной модной знаменитости во фраке, заснятой где-нибудь на торжественном обеде, или снимком, на котором были изображены студентки института в праздничной одежде, торжественно дефилирующие по улицам столицы. Мало кто из девушек понимал, насколько пусты и ничтожны все эти помпезные снимки, насколько пусты и ничтожны темы, на которые писали столичные журналисты.
Как-то случилось, что Меримея, ближайшая подруга Анны, вытащив из сумки газету, показала снимок, изображавший учеников лицея на параде перед дворцом. Анна выхватила у нее газету, разорвала на мелкие клочки и гневно воскликнула:
— Мало того, что этими глупостями интересуются другие, — и ты туда же!
Испуганная Меримея поспешно подобрала обрывки газеты и молча вошла в класс. Она решила промолчать, не желая ссориться с подругой.
Хотя Анна теперь явственно отличала правду от лжи, нередко ее охватывали сомнения: «Такие люди, как Павел Власов, возможны только за пределами наших границ; у нас в Албании их нет».
И вот сейчас она увидела перед собой именно такого человека: этот оборванный крестьянин, с ладонью, окровавленной ударом штыка, который говорит так решительно и уверенно, заставил Анну впервые поверить в народ родной страны.
«Вот он, наш Павел Власов! Да, это албанский Павел Власов!» — подумала она.
— Правительство, беи, эфенди обрекли нас на непосильный труд… Мы работаем, будто подъяремные волы, и как скоты, дохнем с голоду. Мы пришли просить хлеба, а взамен получили пули… — продолжал Гьика, проникнувшись доверием к девушке.
Анне казалось, что крестьянин говорит настолько хорошо, словно окончил лицей. Она понимала: это оттого, что он говорит от имени всех рабочих, всех крестьян, от имени народа.
— А ведь можно спокойно жить в кругу своей семьи, среди хороших людей, честно зарабатывая себе на хлеб! Но разве нам это позволят? В деревне говорят: «Злосчастная наша жизнь!» — Гьика проговорил эти слова с особенным ударением и потом добавил: — И тем не менее я, каким ты меня видишь, в рваной одежде и дырявых опингах, хочу жить и буду жить несмотря ни на что. Потому что я люблю жизнь!..
Последние его слова прозвучали для Анны, как песня, как самая прекрасная песня на свете. Ее пленила эта несокрушимая воля к жизни. Он любил жизнь и боролся за нее, а она, как и все ее близкие — студентки института, культурные девушки, — никогда не задумывались над тем, чтобы сделать жизнь лучше. Оборванный крестьянин собирался преобразовывать жизнь, а она, обладая гораздо большим, ни разу не задумалась над тем, как бы облегчить страдания своих ближних.
Прочитав «Мать» и другие книги, она поняла, что личное счастье состоит в том, чтобы делать счастливыми других. Но когда она вспоминала, что живет в угнетенной Албании, это желание в ней погасало, как пламя свечи под сильным порывом ветра. Однако сейчас оно вспыхнуло с новой, невиданной силой — пламя горело ярко и уверенно. Утренняя демонстрация во многом походила на демонстрацию, описанную Горьким; незнакомый крестьянин, раненный в руку, говоривший так вдохновенно и убедительно, походил на персонажей Горького, боровшихся за создание нового мира. И Анна почувствовала небывалый прилив оптимизма, любви к жизни. Она была горда, что ей выпало на долю и самой принять участие в сегодняшнем выступлении масс во имя новой жизни. Как много она теперь, возвратившись в Тирану, расскажет подругам! Этот крестьянин вырастал в ее глазах и овладевал всеми ее помыслами.
Анна не знала, как угодить гостю. Что бы она для него ни сделала, все ей казалось мало. Угостила чем могла; потом села рядом и участливо принялась расспрашивать его о жене, о детях, о жизни села. Поговорили они и о сегодняшней демонстрации, вспомнили разные ее эпизоды. Гьика, умолчав о том, при каких обстоятельствах его ранили, поведал о схватке его товарищей с жандармами. Анна в свою очередь рассказала ему, как торговцы, еще в самом начале демонстрации, поспешно закрывали ставни на окнах своих лавок и прятались, как испуганные мыши. Рассказала и о том, что на рынке видела огромное количество дров, привезенных крестьянами для продажи. Но стоило начаться схватке с жандармами, как на площади не осталось ни одного полена: все расхватали демонстранты, и все поленья полетели в головы жандармов!
Так, сидя рядом и беседуя, Анна и Гьика почувствовали, что мыслят почти одинаково.
Вскоре вернулась домой сестра Анны с мужем.
— Ах, милая Аннушка! Если бы ты видела, что творилось на рыночной площади! Что творилось! Этого и рассказать нельзя! — заговорил зять, едва войдя в комнату. — А-а-а!.. У нас гость!
— Да, это мой друг! — откликнулась девушка и, отведя зятя в сторону, что-то шепнула ему на ухо.
Хозяин дома повернулся к Гьике и сердечно его приветствовал. Затем заговорил о демонстрации:
— Сколько сегодня жертв! Но ничего не поделаешь: сила на стороне правительства. У них ружья, штыки…
Он сел рядом с Гьикой и вступил с ним в разговор. Между тем боль в руке Гьики не проходила, кровь не переставала сочиться. Тогда позвали Ракьи, соседского мальчика, который служил в аптеке, и он сделал новую перевязку. Скоро возвратилась и тетушка Вана. Это была та самая старушка, которая, едва увидев окровавленного Гьику, сразу же бросилась разыскивать своего сына. Возбужденная тетушка Вана вошла в комнату.
— Пропади они пропадом! Народ умирает без хлеба, а у них полные амбары! Ах, негодяи! — и, повернувшись к Гьике, спросила: — Ну, а как ты, несчастный? Рука еще болит?
Тетушка Вана чувствовала себя героиней, потому что и ей пришлось принять участие в «катавасии» (так она называла демонстрацию), потому что и она участвовала в схватке с жандармами.
— Ну и показали мы сегодня этим разбойникам!.. Долго будут нас помнить!.. А мой Печо, вот молодец! Славно стукнул одного жандарма!..
— А где же Печо, матушка? — спросил хозяин дома.
— Пошел с товарищами…
Тетушка Вана прожила тяжелую жизнь. Когда родился Печо, ее муж уехал на заработки на чужбину. Проходили недели, месяцы, а о нем не было ни слуху ни духу. Трудно ей пришлось с малышом на руках: ходила стирать на чужих людей, чтобы прокормить себя и сына. Но вот, наконец, муж заявил о себе и начал регулярно присылать деньги. Понемногу она смогла кое-что скопить и даже приобрела небольшой домик. Шли годы, мальчик подрос. Пришло извещение из Америки о смерти мужа. Сводить концы с концами становилось все труднее, и тетушка Вана была вынуждена взять мальчика из школы и отдать в подмастерья к портному. Комнатки своего дома она сдавала внаем, а сама вместе с сыном лето и зиму ютилась в чулане при кухне.
Анна слушала старуху, и ей казалось, что та говорит тем же языком, что и крестьянин. А Гьика снова с воодушевлением заговорил о событиях сегодняшнего утра и выражал при этом горькое сожаление, что не смог принять участия в новой демонстрации.
Ракьи снова перевязал ему рану и наказал сделать перевязки в полночь и на следующее утро.
Гьика собрался, но его уговаривали остаться, даже предлагали переночевать. Однако ему очень хотелось узнать, что сталось с его друзьями — со Стири, с Зенелом, с учителем Мало, с односельчанами, которые вместе с ним примкнули к демонстрации. Кроме того, завтра ранним утром ему необходимо быть у себя в Дритасе. Ракьи советовал ему остаться дня на четыре в Корче, пока не затянется рана. «Зачем мне создавать неудобства для гостеприимных хозяев?.. — думал Гьика. — И как быть с семьей и с домом? А кроме того, ведь у меня в кармане всего-навсего десять леков!»
Когда он вышел на улицу, уже стемнело. Радушные хозяева все его провожали. Анна дошла с ним до угла.
— Благодарю за все, что ты для меня сделала. Не забудь, что нам очень нужна школа. Передай об этом там, в Тиране, — сказал ей Гьика на прощанье.
С минуту они постояли молча. При свете электрического фонаря благодарно взглянули друг другу в глаза, Затем, соединив руки в прощальном пожатии, Анна проговорила то, что подсказало ей сердце:
— Будь счастлив, Гьика! Я никогда тебя не забуду! Знай, что вы у себя в деревне — не одни! — И в первый раз в жизни она на мгновение почувствовала себя по-настоящему счастливой, по-настоящему гордой.
VIII
Дядя Коровеш нарядился как нельзя лучше. Белая как снег, длинная, засунутая в штаны рубашка плотно облегала тело; поверх нее был надет вышитый цветной жилет с черной каемкой; на ногах полосатые обмотки; талия перехвачена красным поясом с кожаным кармашком. Он чисто выбрился и сразу помолодел на целых двадцать лет, как, смеясь, сказала его старуха.
Коровеш потрогал поясной кармашек, проверил, на месте ли коробка с табаком, трут и кремень. Сунул в карман нож, потуже затянул шнурки опингов и взял в руки палку.
— Ну, дорогие мои, ухожу! А вы, женщины, уж постарайтесь: приготовьте угощение на славу! Ничего не жалейте! Слышишь, старуха? — покручивая седые усы, давал он последние наставления.
— Не беспокойся, муженек… Только ты не забудь всех пригласить, чтобы потом не срамили нас в селе, — ответила жена, перемывая в ведре говяжьи потроха.
Старик улыбнулся, что-то пробормотал и отправился в путь.
Время уже близилось к закату. Косые лучи солнца ласково освещали селение, молодую весеннюю листву, спокойные воды озера. Все село уже знало радостную новость: завтра дядя Коровеш женит своего младшего сына Или. Наконец-то судьба смилостивилась над ними! Сын выздоровел, они немного заработали на добыче угля, и теперь можно сыграть свадьбу.
Еще рано утром о предстоящей свадьбе всем возвестили двое маленьких внуков Коровеша. Чистенькие и нарядные, пошли они по селу с торбой, в которой находились калачи и кувшин вина. Заходили в каждый дом и, обращаясь к главе семейства, просили его отведать калача и запить глотком вина.
— Окажите нам честь и пожалуйте сегодня вечером на свадьбу! — говорили мальчуганы, и личики их сияли.
В ответ их благодарили:
— Непременно, непременно придем к вам на свадьбу…
Так дети обошли все село и к обеду возвратились домой с пустой торбой и пустым кувшином.
Теперь пошел приглашать односельчан и сам старик. Покашливая, ходил он от дома к дому, стучал палкой в дверь и весело спрашивал:
— Принимаете друзей?
— Входи, дядя Коровеш, сделай милость, входи! — отвечали ему все в один голос, распахивали двери, усаживали у очага на набитой соломой подушке. Домочадцы старались всячески угодить гостю. Тотчас же на горячих углях кипятили в джезве кофе.
— Желаю, чтоб в вашем доме всегда была полная чаша! — говорил старик перед тем, как приняться за кофе.
— Дай бог твоим молодым долгой и счастливой жизни! — отвечали хозяева.
Хотя старик и торопился закончить приглашения, разговор затягивался, касаясь повседневных сельских дел и забот.
— Говорят, бей на тебя сердится, а за что? Разве ты не угождал ему во всем? — спрашивали старика хозяева.
— Пропади он пропадом, что мы можем против него поделать? — вздыхал дядя Коровеш.
— Говорят, он собирается приступать к постройке новой башни. Так ли это, дядя Коровеш?
— Ей-богу, не знаю, но не думаю, что так. Правда, оба кьяхи отправились к нему в Корчу, но что из этого получится, одному богу известно!
— На днях один из кьяхи, потирая от радости руки, говорил Гьергу: «Скоро пожалует к нам из Тираны бей. Как он приедет, сразу начнем постройку новой башни. С воскресенья и приступим». А когда Гьерг им сказал, что в воскресенье Коровеш справляет свадьбу сына, они только оскалили зубы и промолчали.
— Ну, друзья мои, тут ничего не поделаешь! Земля бея, и мы, наши тела и души, тоже принадлежим ему. Нет у нас ничего своего, кроме рубахи на теле, — ответил старик и добавил: — Оставим лучше этот разговор — завтра у нас свадьба, а вы пожалуйте к нам с вечера, дорогие гости. Желаю всяческих благ вашему дому!
И, взяв палочку, старик отправлялся дальше и уже стучался у следующих дверей и снова звал на свадьбу. Ему сейчас ни о чем другом не хотелось думать, кроме как о свадьбе сына, а между тем… все озабочены, встревожены предстоящим приездом бея.
Получить документы, необходимые для женитьбы сына, оказалось не таким простым делом. Четырежды ходил он в Шён-Паль, в общинное управление, и ничего не добился. В первый раз глава общин велел ему прийти в другой день, так как теперь он занят. Во второй раз ему сказали, что нет секретаря. В третий раз не оказалось на месте метрических книг: их затребовали в Корчу. В четвертый же раз не нашлось гербовых марок. После всего этого с дядей Коровешем лучше было не заговаривать: так он рассердился.
— Эх, и тут выматывают из нас душу! Четыре раза таскались мы туда с невестой, и никакого проку! — жаловался старик всему селу.
Жалобы эти услышал и Рако Ферра. Он усмехнулся:
— Так и быть, дядя Коровеш, помогу тебе! Научу, как нужно поступать. Пошли им в Шён-Паль чего-нибудь жирненького да побольше раки, и все уладится само собой.
Только теперь старик понял, на какую ногу хромал его осел!
«Где наше не пропадало! Куда ушло девяносто девять, пусть уходят и все сто!» — решил он и, не долго думая, в один прекрасный день со своим старшим сыном послал главе общинного управления в подарок жирную овцу и несколько бутылок раки. И все сразу уладилось: не пришлось больше таскаться в Шён-Паль, не понадобилось ни метрических книг, ни гербовых марок, ни свидетелей. Со всеми формальностями было покончено в два счета.
Одна забота с плеч долой, но появились другие. С распустившимися весной почками пожаловал к крестьянам их милостивый бей. Он решил исполнить то, что задумал еще несколько месяцев тому назад: заставить всех крестьян Дритаса строить ему новую башню на холме Бели, где пока еще стояла хижина Ндреко. И такую прекрасную, чтобы равной ей не было во всей округе Корчи! А Ндреко пусть убирается вниз, в лощину, к самому ущелью, и устраивается, как хочет. Какое дело бею, что там не только теленка некуда выпустить, но и рогожку расстелить негде? Что поделаешь?
«Нет у нас ничего, кроме рубахи на теле», — повторил про себя Коровеш и снова начал думать о предстоящей свадьбе сына — на это его натолкнула веселая песня, донесшаяся с крыльца его дома. Там было полно девушек. Они пели и, как того требовал старый обычай, разламывали и крошили «калач жениха». Старик весь ожил: точь-в-точь так было и перед его свадьбой… будто возвращалась его молодость!
Усталый, он вернулся домой и прилег у очага. Жена напоила его горячим раки с сахаром. Невестка, жена старшего сына, хорошенько натерла ему спину. До прихода гостей старик успел отдохнуть.
— Смотри, муж, будь сегодня весел и приветлив, не забудь, женим последнего, младшего сына, — говорила ему старуха.
— Ты права, жена, нам уже больше не придется женить своих детей, — отвечал Коровеш, потягивая раки, и добавил: — Пошли им бог счастливой жизни, пусть невеста принесет нам в дом счастье!
Все три комнаты дома Коровеша были застланы новыми рогожами. Вдоль стен лежали подушки, набитые соломой. В очаге потрескивали сухие поленья. С потолка, черного от копоти, еще утром смели паутину и хлопья сажи. Комнаты освещались неровным пламенем двух керосиновых ламп. Оно то вспыхивало, то еле мерцало.
Постепенно комнаты наполнялись гостями. Все семейство дяди Коровеша встречало их во дворе. Первыми пожаловали приглашенные из дальних деревень. Кто на лошади, кто пешком, кто один, кто с женой. Каждый явился с торбой подарков. Кто принес большой пирог, кто немного рису, кто сушеной рыбы. Члены семейства Коровеша все принимали с благодарностью. Затем вводили гостей в дом и усаживали на рогожи. Издалека доносились песни и приветственные возгласы. Это новые гости извещали о своем прибытии. На крыльце играла музыка, и не какая-нибудь, а целый оркестр из четырех человек. На волынке играл Голи — большой искусник, который нередко своей игрой приманивал девушек из соседних деревень. В кларнет дул Кутини, непременный завсегдатай всех пирушек и свадеб. Его музыка могла и мертвеца воскресить. В барабан бил Гули, да так сильно, что эти звуки походили на пушечную стрельбу. Скрипача Пили, сына Кьирко, прозвали в селе цыганом. Какой это великий чародей! Его скрипка то плачет, то смеется. Он быстро взмахивает смычком, и мелодия получается у него похожей то на трели соловья, то на свист ветра, то на рокот прибоя. Крестьяне говорили, что, не будь он цыганом, никогда не смог бы так чудесно играть на скрипке.
Вслед за гостями из соседних деревень стали подходить и односельчане. Все наряжены, все приносят торбы с пирогами и подарками. А две семьи принесли даже по овце — самая большая честь, какую можно было оказать хозяевам.
Дядя Коровеш всех приветствует, всех благодарит, всех угощает раки.
— Добро пожаловать, дорогие гости! Спасибо вам! Чтобы у вас в домах была полная чаша! — говорит он, прикладываясь к раки.
Бутылка переходит из рук в руки, от уст к устам. Постепенно все заметно веселеют.
— Пейте, дорогие гости, пейте и веселитесь! — улыбаясь, говорит старик, выпуская из трубки клубы дыма.
Разные люди собрались на свадьбу к дяде Коровешу, но у всех на лицах отпечаток какой-то тревоги. Прикладываясь к бутылке, они бросают взгляды на дверь — не покажутся ли кьяхи? Дядя Коровеш пригласил на свадьбу и кьяхи, даже послал им в подарок раки и хороший бюрек. Но их внезапно вызвал в Корчу бей, приехавший из Тираны. Какие новости привезут с собой кьяхи — одному богу ведомо!
— Пейте, друзья, пейте да веселитесь! — повторял старик, а из головы у него не выходила мысль о бее, о кьяхи, и он украдкой посматривал на дверь.
Бутылок с веселящим напитком было предостаточно: по одной на четверых. Крестьяне выпили, развеселились. Бандил из Горицы — человек маленького роста, с большой головой и черными усами — заерзал на месте, точно его кололи иголкой. Уж очень ему хотелось рассказать о том, что с ним случилось этой зимой. А случилось с ним вот что. Бандил заметил, что два волка подкрадываются к загону. Он быстро скинул с себя бурку, в одну руку взял двустволку, в другую топор и пошел прямо на зверей.
Рассказывая, Бандил выл и лаял, подражая то волкам, то сторожевому псу. Значит, было так… Он подкрался к волкам, но не стрелял, боясь попасть в собаку, которая не отходила от зверей. Ночь была такая темная, что ни зги не видать. В конце концов он решил выстрелить в воздух. В горах откликнулось эхо. Что-то большое прыгнуло прямо на него. «Волк», — подумал он и бросился на животное с топором. Ударил раз, ударил два, и мертвый волк свалился к его ногам.
— Молодец, Бандил, молодец! — одобряли его слушатели, продолжая попивать раки и закусывать. А Бандил так переживал воспоминания о темной февральской ночи, что весь раскраснелся, словно только что расправился со страшным волком, посягнувшим на его овец.
Раки прогоняло печаль, помогало забыть повседневные заботы. Зарче, сидя за софрой и подперев ладонью лицо, затянул песню:
О горы, вы снегом покрытые горы,
Мою вы оплачьте печаль!..
Нуни из Пустецы стал ему подпевать. Подтянули и другие. Песня зазвенела так громко, что ее было слышно по всему селу и звуки ее донеслись до вод озера, до темного леса, до дальних гор.
— Молодец, Зарче, молодец!
— Поет от всего сердца, — похвалили запевалу старики.
— Дядя Коровеш! Пошли бог новобрачным счастливой жизни, пусть невеста принесет тебе в дом счастье! — чокаясь, повторяли свои пожелания гости.
— Пошли бог счастье и вам! — отвечал каждому старик.
Гьика до сих пор молчал. Он, как и другие домашние, ухаживал за гостями, вовсю угощал их. Друзья развеселили его; он почувствовал неожиданный прилив радости. Сбросил с себя пиджак, расстегнул рубашку и несколько раз приложился к бутылке. Затем огляделся по сторонам, наморщил лоб и покосился на дверь.
— Пойте, веселитесь, пляшите, друзья! — И тут же затянул песню таким громким голосом, словно хотел, чтобы его было слышно и в лесу, и в горах, и по всей округе:
Едет бей к нам, полный чванства;
Как блестит его убранство!
Захватил он для крестьян
Револьвер и ятаган!
Это была новая песня, которую еще никому не приходилось слышать; она всем очень понравилась.
— А ну, Гьика, спой-ка еще разок! — попросили его гости.
Едет бей к нам, полный чванства;
Как блестит его убранство!.. —
снова запел Гьика, и крестьяне подтянули ему:
Захватил он для крестьян
Револьвер и ятаган!
Зарче, пошатываясь, подошел к Гьике:
— Эй, друг, поднимайся, давай станцуем! Давай станцуем деволицу!
Деволица — любимый танец албанских крестьян. Его танцуют и на помолвках, и на свадьбах, и на любой пирушке. Танцуют его и дома, и во дворе, и посередине сельской улицы, и в поле — везде и всегда. Деволица словно освобождает от ржавчины повседневных забот, помогает забыть угрозы кьяхи и гнет бея.
— Деволицу, Гьика! Зови музыкантов! — раздались возгласы.
— Я готов, — ответил Гьика, выходя на середину комнаты.
Зарче снял келешэ и крикнул:
— Музыку, музыку сюда!
Образовался круг. Гьика, в расстегнутой рубашке, с лихо закрученными усами, вел танец.
— Тетя Ката, дай-ка мне платок, чтобы лучше вести танец, — обратился он к жене Коровеша и, не дожидаясь согласия, сорвал у нее с головы платок. Посмотрел на товарищей, взглянул на потолок, взял Зарче за руку, другой рукой взмахнул платком и пошел.
Заиграла музыка. Гьика танцевал сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, он извивался всем телом, размахивал платком, кружился на правой ноге, падал на колено и тут же вскакивал.
Все, захваченные этой неистовой пляской, захлопали в ладоши. Пол дрожал под ногами танцующих. Вовсю играли музыканты на волынке, кларнете и скрипке. Громко кричали гости.
— Бум, бум, бум! — в последний раз прогремел барабан, и музыка смолкла. Гьика, весь в поту, принял из рук дяди Коровеша бутылку раки и осушил ее до дна.
— Дай бог новобрачным счастливой жизни! — крикнул Гьика, и все гости повторили это пожелание.
— Молодец, Гьика, дай тебе бог никогда не состариться! — пили за здоровье Гьики гости.
* * *
Веселье продолжалось долго, далеко за полночь. В самой большой комнате расположились на отдых гости. Догоравшие в печке поленья освещали пустые горшки и бутылки. Тут же дремала кошка. Все уснули, только Гьику не брал сон. Может быть, потому, что слишком много выпил; голова у него отяжелела, во рту был неприятный привкус. Он то и дело ворочался под буркой, старался заснуть, но никак не мог. В конце концов не выдержал, скинул с себя бурку, перелез через спящих гостей, отворил дверь и вышел во двор. Здесь ему стало немного легче.
Небо было чистое, на нем мерцали звезды, из-за горных вершин показалась луна. По селу перекликались петухи, возвещая, что скоро наступит утро. Все выше поднималась луна, все светлее становилось вокруг. Осветила она и холм Бели. На вершине холма чернел дом Ндреко.
Гьика невольно бросил туда взгляд и сразу же протрезвел — перестала болеть голова, исчез противный привкус во рту, но зато ему показалось, будто пущенный с размаху острый камень рассек его грудь. На этом холме родились и прожили всю свою жизнь его отец, дед и прадед. На этом холме, в этой хижине, родился и он. Там провел свое детство, там женился на Рине, и там же, немногим больше года тому назад, бог послал ему ребенка. Можно сказать, что именно там корни его жизни. И вот, на этом холме, таком красивом при лунном свете, Каплан-бею вздумалось построить себе башню. Вот почему бей и приехал из Тираны в Корчу. Вот почему вызвал к себе кьяхи. Весна — самое подходящее время для постройки. И Гьика должен покинуть дом, который ему так дорог, который — камень за камнем — строили его дед, отец и он сам.
Гьика тяжело вздохнул и поднялся. Но стоило ему встать, как опять заболела голова и во рту снова появился противный привкус. Гьике захотелось пить; он нашел под навесом кувшин с водой, приложился к нему и пил до тех пор, пока не выпил до дна. Стало совсем легко, но о сне нечего было и думать. Ему захотелось увидеть жену и сына; они вместе пришли на свадьбу, но за все время пира Гьика их так и не видел — они находились в разных комнатах. В сарае мерцал свет. Гьика медленно подошел, заглянул в щелку; там возилась тетя Ката.
— Здравствуй, тетя Ката! — приветствовал ее Гьика и вошел в сарай.
Старушка сначала удивилась, но, узнав его, улыбнулась:
— Гьика! Ты тоже не спишь? Ну что ж, заходи!
На время свадьбы сарай был превращен в кухню, потому что в комнатах негде было стряпать — всюду полно гостей. Старуха успела немножко поспать и уже хлопотала по хозяйству. Развела огонь, поставила горшки с мясом и фасолью: гости, перед тем как поехать за невестой, должны подкрепиться: до Шулина далеко.
— Садись у огня, Гьика. Я вижу, ты совсем не спал. А твоя жена и сын здесь, со мной, — сказала старуха, подстилая ему рваную рогожу.
Гьика подошел к колыбели сына, за которую держалась рукой его дремлющая жена, и поднял краешек одеяла. На него взглянули блестящие глазенки, и пухлый ротик что-то пролепетал.
— Да он не спит! — обрадовался Гьика, вынул ребенка из колыбели, прижал к груди и поцеловал.
— А женщины так крепко спят, что их можно даже похитить — и не заметят, — пошутил он и сел у огня, держа на коленях сына.
Жена его по-прежнему дремала и продолжала покачивать пустую колыбель.
— Гьика, ты, видать, соскучился по своему Тирке, — сказала старуха. — Смотри, как он тебе строит глазки, как косится на лампу… Эдакий козленок — всю ночь не давал матери спать!
— Да, тетя Ката, это мое сокровище, ради него я и работаю. Не так ли, сынок? — проговорил Гьика, еще раз целуя малютку.
А тот сосредоточенно смотрел на огонек лампы, висевшей на стене. Гьике не хотелось говорить со старухой о своих невзгодах: сегодня все должны радоваться свадьбе ее младшего сына, должен радоваться и он.
— Тетя Ката, у меня голова болит — должно быть, слишком много выпил.
— Как я обрадовалась, племянник, когда ты сорвал с меня платок! Мне показалось, будто я опять молодая и вот-вот пущусь в пляс. Ты говоришь, что у тебя голова болит? Выпей-ка кофе — все пройдет. Есть у меня и мясо, закуси немножко, а то, гляди, потом некогда будет: то с Или, то с гостями — и не спохватишься. И еще вот что, племянник: прошу тебя, вразуми ты моего Или, чтобы он много не болтал, не смеялся, не пел, не глазел по сторонам: ведь он жених и должен держать себя степенно, — говорила тетя Ката, помешивая в джезве ячменный кофе.
— Что ты, тетя, пусть поет, смеется и радуется, ведь раз в жизни женится человек, — возразил Гьика.
От громких голосов проснулась Рина. Заглянув еще сонными глазами в колыбель и увидев, что она пуста, испуганно вскрикнула:
— Тетя, тетя, где же мальчик?
— Ты так крепко спишь, что не только сына, но и тебя можно похитить, — смеясь, обратился к ней муж.
Рина растерянно протирала руками глаза и, когда увидела мужа с Тиркой на руках, успокоенная, улыбнулась.
— Ах, моя радость, мама и не заметила, как ты от нее убежал! — прошептала она, беря на руки ребенка. А малыш тянулся к ней ручками и лепетал: «Мам, мам, мам…»
— И Рина меня порадовала, — сказала тетя, наливая Гьике кофе, — танцевала, как русалка, а какая красивая, какая нарядная!
Муж и жена посмотрели друг на друга и улыбнулись. Гьика погладил ее по волосам. Молодая женщина опустила глаза и принялась ласкать ребенка.
Сказать по правде, Рина была одной из самых красивых женщин в селе. Ее длинные каштановые косы спускались на плечи, мечтательные голубые глаза оттенялись густыми черными бровями. Когда она смеялась, то обнажались ослепительно белые зубы, похожие на блестящие прибрежные камушки. Ее стройная фигура напоминала отлитую из серебра статуэтку. Рина отличалась не только внешней красотой, но и красотой души: тихая, приветливая, благородная, трудолюбивая. Гьика очень ценил эти качества жены. Они помогали ему в трудные минуты жизни. Рина никогда не осуждала мужа, никогда не бросала на него косых взглядов, всегда улыбалась ему. И сейчас, услышав похвалу тети, она ласково посмотрела на мужа, и в этом взгляде сказалась вся ее любовь.
Рассвело. Первые лучи солнца, скользнув сквозь щели сарая, упали на колыбель Тирки. Гьика поцеловал сына, погладил по волосам жену и вместе с тетей Катой вышел во двор.
А у дома уже возобновилось веселье. Опять заиграла музыка и девушки затеяли танец провожания жениха. Танец вела Вита — сестра Гьики. Казалось, что она не касается ногами земли, а парит над ней. Влюбленный Бойко не спускал с нее глаз. Вот так бы в самый разгар танца схватить ее и умчать!.. Но он находился далеко и мог только любоваться ею. Рядом с ним стоял Петри Зарче и высматривал среди девушек свою Василику, которую не видел вот уже несколько месяцев. Отношения его с Ферра обострились, и об этом знало все село. Но Петри все еще не терял надежды, что Василика станет его женой. Кто осмелится отнять у него любимую? Он никому ее не уступит.
Для жениха и сватов седлали лошадей, покрывали седла разноцветными веленджэ, прилаживали уздечки, стремена.
Наконец на пороге показался жених. Он был очень взволнован, губы его дрожали, на лице выступили капли пота. Он был нарядно одет и всем показался очень красивым.
Девушки прервали танец и окружили жениха. Звонко зазвучала приветственная песня. Растроганный Или поставил ногу в стремя и вскочил на коня. Выпрямился в седле, натянул поводья, дал коню шпоры.
Песня девушек зазвучала еще громче, еще веселее:
Жениху прекрасному привет!
Как красиво он одет.
Весь горит, что маков цвет.
Равных не было и нет!
Золотой его наряд,
Жемчуга на нем блестят.
Подпоясан кушаком,
Что сверкает серебром.
Так пели девушки, а тетя Ката с серьезным видом попрыскала жениха вином и посыпала рисом — на счастье.
Следом за женихом тронулись в Шулин и другие пастухи — там Или ждала невеста.
Проводив жениха, тетя Ката вернулась в дом и принялась помогать женщинам, которые стряпали и убирали комнаты. Она была сама не своя; то забудет, куда поставила тарелку, то куда положила ложку. И без умолку говорила о свадьбе, без конца хвалила красоту своего сына.
Так незаметно в хлопотах прошел день. Когда солнце склонялось к закату, в конце сельской улицы показался верхом на лошади один из сватов. Он размахивал бутылкой с вином и кричал:
— Гей! Хорошие вести!.. Гей! Едет невеста! Невеста едет! — Лошадь его была вся в мыле, у рта у нее выступила пена.
— Я моего коня во весь дух гнал, — хвалился сват, соскакивая на землю.
Через полчаса показался длинный свадебный поезд. Впереди ехал жених, за ним несколько всадников, потом невеста на белом коне, ее родичи и гости.
Все остановились у дома Коровеша, и снова начались песни, танцы и музыка.
— Пошли вам бог счастливой жизни! — первой поздравила молодых тетя Ката.
Старик Коровеш улыбался и покручивал усы.
— Аминь! Хорошую сын взял себе невесту, получше, чем остальные мои сыновья. — И он засмеялся, обнажая беззубый рот.
Вокруг невесты столпились мужчины и женщины, парни и девушки. Некоторым не терпится — они приподнимают платок, которым закрыто лицо невесты, и заглядывают. Первой поздоровалась с ней будущая свекровь. Обняла ее, поцеловала и подала красиво вышитую рубашку. Потом подошел жених и поднес невесте букет цветов.
— Дай вам бог счастливой жизни! Дай вам бог!.. — кричали гости.
Тогда невеста вынула из кармана «яблоко счастья» и оглянулась, куда бы его лучше бросить. Десятки глаз с нетерпением следили за ней.
Каждому хотелось схватить его. Но невеста хитрая: она не торопится.
— Бросай же яблоко, невеста! Бросай! — кричали нетерпеливые гости.
Невеста улыбнулась, подняла руку и бросила яблоко за спину. Гости кинулись за яблоком, началась веселая суматоха, возня, хохот. А над ними на белом коне, словно молодая царица, восседала невеста.
И вот среди этого шумного веселья вдруг раздалось цоканье подков, свист хлыстов и громкая ругань:
— Дайте же дорогу, свиньи! Не видите, что едет бей? — кричали кьяхи, отвешивая направо и налево удары хлыстами.
— Бей, бей приехал! — пронеслось в толпе.
— Бей, бей! — повторяли в смятении крестьяне.
Бей, сопровождаемый обоими кьяхи, подъехал на коне в ту самую минуту, когда невеста бросила яблоко счастья. Крестьяне заметили бея лишь после того, как услышали грубые голоса кьяхи и свист взвившихся у них над головами хлыстов. Борьба за яблоко счастья сразу прекратилась. Все в душе проклинали так не вовремя пожаловавшего немилого гостя.
Бей подъехал к невесте и остановил коня. Он кривил губы, лицо его было нахмурено. За его спиной кьяхи грозили крестьянам хлыстами. Из толпы вышел Рако Ферра.
— Добро пожаловать, бей, добро пожаловать! — приветствовал он Каплан-бея. Тот улыбнулся ему, но не протянул руки.
— Добро пожаловать, бей, добро пожаловать! — приветствовали его
вслед за Рако еще несколько крестьян.
Но бей и не думал слезать с коня. Он бросал мрачные взгляды на невесту, на жениха, на людей, которые его приветствовали, и на тех, кто, боясь подойти, держался поодаль.
— Чью это сегодня свадьбу справляют? — спросил он.
— Сына Коровеша, бей! — поторопился ответить Рако Ферра. — А разве тебя, милостивый господин, не приглашали? — хитро спросил он.
Бей не ответил. Шелковым платком отер пот со лба, стиснул зубы и стеганул хлыстом по сапогам.
— О, приехал бей! Добро пожаловать, бей! Добро пожаловать к нам! Как мы рады тебя видеть! Как ты меня обрадовал, что приехал! Ребята, подержите коня, помогите слезть бею, — без умолку говорил выбежавший во двор дядя Коровеш.
Перед этим он, вернувшись со свадебным поездом, хотел было передохнуть и выпить кофе, покуда не окончится обряд с яблоком счастья, но, как только ему сказали, что приехал бей, он оставил недопитый кофе и бросился во двор приветствовать знатного гостя.
— Брось эти штуки, меня не проведешь! — грубо ответил старику бей, метнув на него злобный взгляд.
Дядя Коровеш опешил. Ему показалось, что небо обрушилось на голову, что он провалился сквозь землю.
— Уже час, как я в Дритасе, а до сих пор ты не соблаговолил меня пригласить, — сказал бей.
— Рако, я остановлюсь в твоем доме. Принимай меня! — Бей натянул поводья и, бросив презрительный взгляд на молодую пару, дал шпоры коню и поехал со двора. Впереди, словно охотничья собака, бежал Рако Ферра. Сзади ехали надменные кьяхи.
— Наступит наше время; не найдется норы, куда бы ему спрятаться! — сказал один из парней, стоявший рядом с Петри.
— Будь что будет! — прошептал дядя Коровеш и обратился к гостям: — Ну, чего вы стоите, будто каменные? Ведь у нас сегодня свадьба, давайте же веселиться!
Но окончание свадебного обряда больше походило на похороны. Гости скоро разошлись. Во дворе остались лишь несколько девушек. Среди них была и Шпреса, дочка Голи. Со слезами на глазах она показывала подругам длинный рубец на правой щеке — след от хлыста кьяхи.
Скоро двор совершенно опустел, и только посередине его лежало яблоко счастья, раздавленное и растоптанное конем бея.
* * *
Каплан-бей сидел на веленджэ, постланном у очага. Он уже снял сапоги и расстегнул пиджак. На ремне поблескивала серебряная рукоятка револьвера. Рядом с беем восседали кьяхи; а чуть в стороне — Рако Ферра. Гости пили раки и с аппетитом закусывали.
— Что за дрянной народ! До сих пор я слишком мягко обращался со своими крестьянами, но теперь покажу им; они увидят, что здесь единственный, полновластный хозяин — это я и никто другой, — грозился бей, жуя золотыми зубами крылышко жареной курицы.
— Проживи столько, сколько стоят наши горы, бей! На тебя грешно жаловаться: ты слишком мягок, бей, — поддакивал Рако Ферра и для пущей убедительности даже приложил руку к сердцу.
— Сколько хорошего я сделал для этого Коровеша! Не требовал с него спахилека, смотрел сковозь пальцы на то, что он заготовлял себе дрова на зиму, сколько хотел. Недаром говорит Кара Мустафа, что, где прошелся топор Коровеша, там лес совсем оголен.
— Станет он жалеть лес! Ведь это не его собственность, — снова поддакнул Рако Ферра.
— С разбойниками нельзя поступать по-хорошему, — продолжал бей, — а этот Коровеш — сущий разбойник! — И бей еще раз приложился к бутылке.
— Ты был слишком милостив к Коровешу, бей, — сказал Рако. — Благодаря твоей доброте у него сейчас больше шестидесяти голов овец. А какие у него виноградники! И чем он тебе отплатил? Бей пожаловал к нему на свадьбу, а он даже не встретил его как подобает!
Рако Ферра и сам кипел яростью против Коровеша. На свадьбу деньги нашлись, а заплатить долг он не может!.. Сколько раз ему Рако говорил: «Коровеш, отложи свадьбу, сначала уплати мне долг». Но Коровеш не послушался и сделал так, как ему советовал этот разбойник Гьика, который натравливал его и против бея и против Рако Ферра: «Не плати долг, наступит день, когда мы всех богатеев превратим в пепел». И вот старик послушался молодого разбойника и не платит долг. Но я ему покажу! Отниму у него все стадо. Он думает меня обвести вокруг пальца — не на такого напал!..
Только Рако Ферра услышал вчера первую свадебную песню в доме Коровеша, как сразу же поклялся забрать у него в покрытие долга все стадо. Теперь же он решил использовать раздражение бея против своего должника. Неплохо, если Каплан-бей захочет отнять у Коровеша виноградники и отдать ему, Рако Ферра, думал он.
Бей, сердито вращая глазами, с жадностью поедал жареную курицу. Он уже много выпил. Раки распалило его, и злоба против старого крестьянина, не оказавшего ему подобающего почтения, усиливалась с каждой минутой. Сколько месяцев его здесь не было!.. Зиму он провел в столице. А теперь, с наступлением весны, приехал в Корчу и в свое поместье специально, чтобы начать постройку новой башни… Для разнообразия из Корчи до поместья поехал не в автомобиле, а верхом. Правда, это дольше, но как приятно было ехать среди полей и мечтать о вилле, которую он здесь построит, и вдруг этот старый разбойник испортил ему все настроение.
— Он меня еще узнает! — с угрозой повторил бей.
— Он заодно со своим племянником — наглецом Гьикой Ндреко; во всем помогает ему, а с нами держит себя так, словно не ты, а он наш бей, — продолжал распалять своего высокого гостя Рако Ферра.
— Знаешь, что он говорит? — вступил в разговор уже изрядно выпивший Леший. — Зачем, говорит, понадобилось бею выселять Ндреко и строить на месте его дома башню? Пусть бы выстроил ее лучше возле ущелья. Как я это услышал, не вытерпел и сказал ему напрямик: «Не твоего ума это дело, дядя Коровеш! Милостивому бею лучше знать, где ему строить башню. А ты, смотри у меня, не болтай лишнего, не то повыщиплю тебе все усы по одному волоску».
— Славно ты его отбрил, молодец, Кара Мустафа, — похвалил его Рако.
— Коровеш на все село ругал бея, говорил, что у крестьян, кроме рубахи, на теле ничего нет. А все остальное — собственность бея, — вставил свое слово до этого молчавший пойяк.
— А ты бы послушал, бей, какую песню на свадьбе пел его племянник, этот разбойник Гьика! — сказал Рако Ферра.
— Что за песня? А ну-ка, расскажи, в чем дело! — заинтересовался бей и даже не допил раки.
— Я не дружу с Коровешем и потому не пошел к нему на свадьбу, а послал своего сына. Он и рассказал мне об этой песне, и я возмутился. Бей кормит этого разбойника, а он лает на него, как бешеный пес, и норовит его укусить, подумал я.
— Как? Он сложил про меня песню? А ну-ка, позови сюда сына, — и озлобленный бей даже вскочил с места.
— Эй, Нгело, иди-ка сюда, спой нам песню, которую ты слышал вчера на свадьбе, — приказал Рако сыну.
Нгело подошел и смущенно молчал.
— Спой, я хочу послушать, — приказал ему бей.
Тогда Нгело вполголоса запел:
Едет бей к нам, полный чванства;
Как блестит его убранство…
И так он спел вчерашнюю песенку Гьики.
— Так, так… Хороша песенка… — бормотал бей, слушая певца.
Когда Нгело кончил, бей погрузился в глубокую задумчивость. Выражение «полный чванства» соответствовало важности бея — таким ему и полагалось быть. Упоминание о блестящем убранстве, о револьвере и ятагане тоже льстило его самолюбию. И, конечно, ятаган «захватил он для крестьян»! В общем, совсем не плохая песенка… А если бы ее сочинитель упомянул имя Каплан-бея, то увековечил бы и его власть, и его величие. Одним словом, песенка бею понравилась. Гордо покручивая усы, он улыбнулся и поблагодарил певца:
— Молодец! Хорошо спел!
Рако, ожидавший нового взрыва гнева со стороны бея, был немало озадачен. Кьяхи в недоумении переглядывались между собой. В эту минуту у самых дверей дома Рако заиграла музыка и раздалось пение. Что могло бы это означать? Но не успели присутствующие и слова сказать, как комната наполнилась людьми: первым вошел, опираясь на палку, дядя Коровеш, за ним жених, державший кувшин с вином, потом сваты, крестьяне и музыканты.
Остановившись в нескольких шагах от бея, дядя Коровеш низко поклонился ему и проговорил голосом, напоминавшим звук надтреснутой трубы:
— Умоляю тебя, бей, прости мою оплошность. Не нарочно я это сделал! Устал с дороги, сидел у себя в горнице, ничего не зная о твоем прибытии. Но как только мне об этом сказали, сейчас же бросился встречать тебя. Это сущая правда, бей, клянусь тебе! Прошу, смени гнев на милость и пожалуй к нам сегодня вечером на свадьбу!
Бей выслушал его, кривя губы в злобной улыбке. Когда старик кончил, он насмешливо прищурился и сказал:
— Мне не нравится, что ты торчишь передо мной!
— Бей!.. — смущенно попытался продолжать дядя Коровеш.
— Вон отсюда, вон! Чтоб я тебя больше не видел! — заорал бей во всю глотку.
Ему не пришлось повторять свой приказ: дядя Коровеш и его гости, оскорбленные, вернулись к себе.
Свадьба продолжалась. Дядя Коровеш сидел на самом почетном месте и старался казаться веселым, но только что полученная обида все время напоминала о себе. И он поминутно бормотал:
— Кровопийца он, дьявол! До чего злопамятный! Если рассердится на кого, так уж надолго! Как его ни улещивай, все равно не поможет… Боюсь, погубит он теперь и меня и сыновей.
А бей тем временем сидел в доме Рако Ферра и, довольный тем, что нанес старику оскорбление, пил, закусывал и благодушно беседовал с хозяином и своими кьяхи. Потом заснул спокойным, глубоким сном.
На следующее утро он сразу вспомнил о какой-то песне, которую сложил про него Гьика, но никак не мог припомнить ни одного слова из нее. Как будто песня ему понравилась, но почему же, однако, когда сын Рако пел, кьяхи делали гримасы и у Рако было какое-то странное выражение лица? Бей призадумался: нет, здесь что-то не так! Наверно, раки помешало ему как следует понять песню. Надо бы послушать еще разок. Племянник Коровеша, должно быть, сложил про своего бея озорную песню!
Подумав об этом, бей беспокойно заерзал на веленджэ.
Вокруг очага сидели, тихо беседуя, Рако, кьяхи и несколько почтенных стариков, явившихся приветствовать бея. После вчерашней выпивки у бея болела голова, настроение было мрачное. Он поднялся с веленджэ и подошел к очагу. Хмуро ответил на приветствие стариков. Из головы все не шел дядя Коровеш. «И вот эти старики, что сейчас окружили меня и с таким почтением приветствовали, такие же оборванцы, такие же коварные лисицы, как и тот», — думал он.
— Бей, всем передано твое приказание: явиться сегодня с утра на холм Бели, — сказал сельский староста.
— Должны явиться все без исключения — и мужчины и женщины. Башню нужно построить быстро! — ответил бей.
— От каждого дома выйдет по одному человеку, бей. Разве этого мало? — спросил староста.
— По одному человеку от каждого дома?.. Да ты что, в своем уме?.. На работу должны выйти все крестьяне поголовно! Кто ослушается, пусть пеняет на себя! — заорал бей.
Старики испуганно переглянулись.
— Эй ты, Мустафа! Прихвати с собой этих баранов и ступай возвести всему селу мою волю: чтобы всем, до единого человека, явиться на холм Бели! Я так приказываю!
Кьяхи быстро собрался, надел патронташ, закинул за плечи ружье и пошел, сопровождаемый старостой и стариками. Бей остался с Яшаром и Ферра.
— Рано! — неожиданно мягко проговорил бей, заканчивая вторую чашку кофе.
— Слушаю, бей, приказывай!
— Поверь мне, что никого в моем имении я не ценю так, как тебя, и никому не доверяю больше, чем тебе! Лучшего слуги мне не надо…
Рако навострил уши.
— Я всем сердцем люблю и почитаю тебя, бей, — ведь ты наш господин, наш отец!
— Этот старикашка Коровеш — опасный смутьян! Это я знаю. Но скажи мне, нет ли у вас в селе еще других бунтовщиков? Всем этим смутьянам давно бы следовало свернуть шею! Ну? Что ты мне ответишь?
Рако расцвел в улыбке:
— Еще бы у нас не водились смутьяны, бей! Конечно, водятся! Коровеш ничто по сравнению с Гьикой, сыном Ндреко Шпати! Вот это опасный, очень опасный человек! Удивляюсь, что его выпустили из тюрьмы. Ведь он так поносил правительство! Не он ли вместе с другими оборванцами расхаживал по улицам Корчи и орал: «Хлеба! Хлеба!» Об этом я до сих пор никому еще не говорил, даже жандармскому инспектору: все надеялся, что он одумается и угомонится. Но куда там! В последнее время от него совсем житья нет: всех баламутит. Нужно бы его сослать куда-нибудь подальше. Поверь мне, бей, это самый опасный человек, а Коровеш перед ним — безвредная букашка: стоит на него цыкнуть, он станет тише воды, ниже травы. Но с Гьикой — совсем иное дело. Особенно дерзок он стал с той поры, как снюхался в Корче с оборванцами. Чего он только не нашептывает крестьянам! И что дни владычества беев сочтены, и что скоро бедняки расправятся с ростовщиками, и что налогов больше платить не надо, и мало ли что еще болтает этот негодяй — откуда мне, бедному, знать? Ходит теперь с перевязанной рукой. Не говорит, где ее повредил, а сдается мне, что его ранили во время той кутерьмы в Корче.
— Да такому крамольнику и впрямь надо бы отрубить голову! Но о какой кутерьме в Корче ты говоришь? — в недоумении спросил бей.
— Как? Милостивому бею ничего об этом не известно? Неужели в Тиране не знают, что два месяца тому назад произошло в Корче? Поднялась вся городская голытьба — оборванцы, подмастерья; к ним примкнули и наши деревенские босяки, вроде этого Гьики. Подняли шум на всю Корчу! Ругали правительство на чем свет стоит, честили всех порядочных людей, требовали хлеба. Неужели слух об этом не дошел до Тираны? — в свою очередь недоумевал Рако.
Только теперь бей понял, что Рако имел в виду большую демонстрацию рабочих Корчи в феврале этого года.
— Еще бы не дошел, ведь они пытались подорвать основы нашей государственности! — невольно вырвалось у бея, но тут же он сделал вид, будто события двадцать первого февраля не так уж его интересуют, и спросил гораздо более спокойным тоном:
— Значит, и этот Гьика принимал участие в бунте?
При мысли о том, что яд бунтарства просочился и в его поместье, бею стало не по себе. Как знать, может быть, в один злосчастный день не он им, а они, эти разбойники, свернут ему шею! Выходит, что они не одни! Но ничего! Ведь он тоже не один! На его стороне правительство, все богатые люди — ему не страшны эти оборванцы! Он не один! Богачи тоже объединены — и это могучая сила!
Бей стукнул кулаком по колену и крикнул:
— Мы сильны, Рако!.. Клянусь тебе, мы живо свернем головы этим бунтовщикам!
Только теперь Рако догадался, насколько встревожили бея февральские события в Корче. Сам же Рако обладал крепкими нервами, ничто его не трогало.
— Чтобы помешать им поднять голову, надо выступить против них, пока они еще не успели объединиться. Иначе эти бунтовщики станут опасными, — глубокомысленно заметил первый богатей Дритаса.
— Ты прав! Надо начинать с ними борьбу, пока они еще разобщены! — согласился бей.
Эту мысль он и сам уже не раз высказывал своим друзьям. Говорил об этом и за карточным столом и в кулуарах парламента. Разбойники становятся все более дерзкими. Вслед за чернью Корчи взбунтовалась и голытьба Кучовы: потребовали, чтобы им платили столько же, сколько итальянским рабочим, присланным дуче! И все, с кем бы ни заговаривал на эту тему бей — беи, ага, депутаты, министры, — все с ним соглашались: пора привести к повиновению этих разбойников, посягающих на порядок и благоденствие, царящие в албанском королевстве! И мало об этом говорить — пора действовать! Взяться за рабочих и подмастерьев в городах, за крестьян в деревнях!
Государственные мужи, сидя в дорогих ресторанах и чокаясь бокалами шампанского, поклялись, не откладывая, приняться за дело. И клятву свою сдержали. В правительстве, в парламенте, в городских муниципалитетах, в общинных управлениях, в органах полиции и жандармерии — всюду развернулась бешеная кампания против «разбойников». В парламент были внесены законопроекты о закрытии средних школ в провинции: хватит одной Тираны, где учатся сыновья и дочери беев и эфенди, а детям бедняков грамота ни к чему!
Министерство финансов распорядилось о взыскании с крестьян всех недоимок — никаких льгот и отсрочек! Долг есть долг, и его надо платить! Совсем другое дело — задолженность государству со стороны беев и богатых коммерсантов: правительство позаботилось, чтобы они не потерпели ущерба, и издало специальный закон о снижении им размера налогов и списании недоимок. Убытков на этом оно не потерпело, так как недостающие суммы были покрыты займами, которые великодушно предоставлял правительству Зогу его верный союзник — фашистский дуче.
Бей приехал из столицы под впечатлением всех этих мероприятий, направленных против албанской бедноты. В таком же духе он намеревался поступить и со своими крестьянами. Да, он согнет их в бараний рог! И если он сам вовремя не позаботится о защите интересов албанского королевства в своем собственном имении, кому же тогда об этом заботиться? Вот почему слова Рако особенно пришлись ему по душе.
— Молодец, Рако! На тебя можно положиться! — проговорил бей, кладя руку на плечо своего верного приспешника, и продолжал: — Вот я выгоню Ндреко из его дома, заставлю всех крестьян построить мне новую башню — разве это плохо для начала?.. Для борьбы против духа крамолы?
— Ты прав, бей! Но с Гьикой следует бороться иначе: надо прибегнуть к помощи властей и убрать его отсюда! Не подумай, господин мой, что я наговариваю на него по злобе, потому что мы с ним в ссоре. Говорю так, только заботясь о благе твоей милости. Гьика все время поносит бея, ругает правительство. А кроме того, бей, он еще и распутник. Дочка нашего Шоро — эдакая сука! — забрала детей, ушла из дома мужа и возвратилась к отцу. И из-за чего, как бы ты думал? Из-за пустяка! Муж ее пропадает где-то в Австралии, а она повздорила со свекровью и ушла! Пусть бы хоть сидела смирно в отцовском доме, так нет же! Напоказ всем разгуливает по селу! Но и этого мало: снюхалась с Гьикой, и теперь они неразлучны. А когда Шоро сидел в тюрьме, так они даже вместе и в поле работали — Гьика вспахивал их участок, честное слово! Уже и тогда у меня возникли подозрения, и я не раз говорил нашим крестьянам: «Смотрите, неровен час — скоро дочка Шоро рожать будет…» И вот недели две тому назад встретил я ее на улице, а живот у нее вот какой! Эге, подумал я, это уж непременно от Гьики! Говорил и старосте, и нашим старикам, что это стыд и срам для всего села; об этом надо бы заявить в Шён-Паль, в общинное управление, но староста будто боится. Скажи мне, господин, разве можно терпеть такое безобразие?
Бей внимательно выслушал Рако.
— Ты прав, Рако! Обо всем этом нужно довести до сведения общинного управления. Если этого не сделает ваш староста, сделаю я! Не потерплю в своем имении подобного разврата! Не потерплю!
Рако Ферра обрадовался: теперь он наконец утолит так долго переполнявшую его ненависть против Гьики. Сам бей поможет ему расправиться с заклятым врагом! Вот это хорошо, вот это славно! Сегодня Гьику выгонят из дома, завтра вызовут в общину и обвинят в распутстве, припомнят ему и крамольную болтовню, и тогда этот разбойник узнает, против кого он смел восстать!
— Только не будем забывать, Рако, что он не один! Среди крестьян найдутся такие, что его поддержат. Надо укротить и их. Вот хотя бы, к примеру, этот Коровеш — его тоже следовало бы хорошенько проучить! — сказал бей.
— Старый Коровеш в моих руках! — засмеялся Рако, — он у меня в долгу как в шелку, а устроил такую богатую свадьбу! А когда спрашиваю с него долг, все отвечает: «Нет у меня денег».
— Зачем же ты дал ему столько денег? — опросил бей, желая выказать сочувствие обиженному кредитору.
— Эх, давно это было, лет семь тому назад. Сын его уезжал на заработки в Австралию. У Коровеша, разумеется, не на что было отправить сына — ни у кого из наших крестьян не водилось столько денег, чтобы купить билет на пароход в такую далекую страну, как Австралия. Коровеш обращался к ростовщикам в Корче. А у меня в то время были с ним неплохие отношения, вот я и подумал: сделаю доброе дело, услужу человеку! И отсчитал ему наличными шестьдесят золотых наполеонов. Сделку произвели честь по чести в Корче у нотариуса. По нашему условию Коровеш был обязан возвратить мне через год сто двадцать наполеонов. Но сыну его в Австралии не повезло. Прошел год, и Коровеш выплатил только сорок наполеонов. Стало быть, долг остался за ним прежний: сто двадцать наполеонов, потому что эти сорок пошли в счет процентов второго года. Истек и второй год, и третий, и вот уже идет седьмой. А Коровеш так и не возвращает мне долг; только ежегодно выплачивает проценты — иногда сорок, а иногда только тридцать наполеонов. И вот уже два года, как он и проценты перестал платить! Теперь мы в ссоре: не дарить же мне ему свои кровные денежки! А Гьика ему нашептывает: «Не плати больше Рако, ты и так давно с лихвой вернул ему его шестьдесят наполеонов!» И этот старый дурак слушается!..
— А почему ты не пойдешь в суд?
— Все надеялся, что он в конце концов образумится. Но теперь лопнуло мое терпение!
— А есть у него какое-нибудь имущество?
— Еще бы не быть! И имущество есть и стадо овец.
— Так возьми у него за долг стадо! — сразу разрешил вопрос бей.
— Если только милостивый господин мне в этом поможет…
— Как вернусь в Корчу, переговорю и с нотариусом и с адвокатом. Ты только заяви претензию, а остальное доделаю я! — пообещал бей и, принимаясь за третью чашку кофе, продолжал: — А что до этого разбойника Гьики, то я заставлю старосту сообщить о нем в общинное управление. И сам туда напишу, и жандармскому инспектору напишу! Пусть они хорошенько разберутся. Не допущу, чтобы в моем поместье творились такие безобразия!..
Неожиданно Рако показалось, что он, желая отомстить Гьике, зашел слишком далеко… Прикажет бей старосте — и поволокут Гьику вместе с дочкой Шоро в общинное управление. И, конечно, Гьика сразу догадается, кто все это подстроил, и любыми средствами постарается отомстить Рако! Ему ничего не стоит сказать Рако Ферра в глаза: «Прихвостень бея! Палач! Подлец!»
От этих мыслей Рако настолько взволновался, что даже выронил изо рта сигарету. Но ему не хотелось показаться трусом перед своим благодетелем — беем. Сколько хорошего сделал и еще собирается для него сделать бей! И своей доли урожая с него не требует, и предоставил ему лучшее поле, и всегда приветливо с ним обходится, и вот теперь готов помочь ему получить давнишний долг с Коровеша! И если Рако Ферра, родившийся в бедной семье, ныне первый богатей на всю округу, этим он всецело обязан своему бею, дружбе с корчинскими ростовщиками и представителями власти. Крепко он с ними связан, и дело у них общее. Он не ошибся, избрав этот путь: доказательства тому — огромные стада, обширные поля, золото, спрятанное так надежно, что к нему никакой змее не подползти! От полноты верноподданнических чувств Ферра осушил до дна бутылку раки за здоровье бея, который так близко принимал к сердцу интересы верных ему людей.
Подали обильный завтрак. Пока бей ел, Яшар, сидя напротив, жадно облизывался. Стоило бею отодвинуть блюдо, как Яшар хватал его и доедал остатки.
Позавтракав, бей отер губы, поднялся и подошел к окну. Отсюда открывался красивый вид на селение и его окрестности. Все это его исконные владения! Распаханные и засеянные поля, рощи, а за ними — горы с густыми лесами и пастбищами, где пасутся стада. Лицо бея просветлело, и он улыбнулся: гордость собственника овладела им. От своих отцов и дедов унаследовал он столько пашен и лугов, столько лесов и гор!.. Как неограниченный властелин, повелевает он людьми и царит на этих землях!
Бей вытащил из кармана серебряную табакерку, захватил двумя пальцами щепотку нюхательного табаку, поднес ее к носу и понюхал, закинул вверх голову, будто молился, и так громко чихнул, что на глазах у него даже слезы выступили. Отерев шелковым платком лицо, он еще раз посмотрел в окно по направлению к холму Бели. И почувствовал новый прилив гордости: то, чего не сделали ни его дед, ни отец, сделает теперь он сам! Пройдет немного времени, и на этом холме будет возвышаться прекрасная новая башня — символ его неограниченного могущества! Впредь, приезжая в Дритас со своими аристократическими друзьями на охоту или для веселого времяпрепровождения с избранницами своего сердца, ему не придется больше краснеть перед ними за свою ветхую уродливую башню и принимать их в близком соседстве от курятников и хлевов мужичья! Новая вилла удовлетворит самому требовательному, самому изысканному вкусу!
И бей представил себе, что будут говорить проезжие и прохожие, еще издали увидев со стороны шоссе новую башню:
— Что за прекрасное имение у Каплан-бея! Какая великолепная вилла высится на холме!
И имя Каплан-бея прогремит далеко вокруг, как имя образцового помещика, как имя человека, который умеет жить! Вилла эта останется памятником его величия. Не какая-то жалкая башня, унаследованная от предков, а роскошная современная вилла. Он завещает ее своим наследникам; а они, живя в ней в свое удовольствие, помянут Каплан-бея добрым словом и скажут:
— Мир праху его! Да дарует бог вечное блаженство Каплан-бею за то, что он выстроил для нас такую замечательную виллу!
— Да! Сделаю то, чего не сделали ни мой дед, ни отец! — решительно сказал бей.
— Проживи столько, сколько стоят наши горы, бей! Твой приказ исполнен. Всем крестьянам велено явиться на холм Бели, — вывел бея из мечтаний голос Кара Мустафы.
Кьяхи и староста вернулись сообщить своему господину, что все идет как по маслу. И тут бей увидел из окна множество крестьян; с кирками и лопатами, с топорами, подгоняя лошадей и волов, возвращались они в село. Бей понял, что все они с утра отправились на работу, а теперь, по его приказу, вынуждены возвращаться. Улыбка злобного удовлетворения скользнула по его губам. Потом, будто о чем-то вспомнив, он обратился к старосте:
— Эй, ты, подойди-ка сюда!
Старик медленно подошел и в почтительной позе остановился перед беем:
— Что прикажешь, милостивый бей?
— Послушай! Мне рассказывали, что у вас в селе творятся постыдные вещи. Будто этот разбойник, сын Ндреко Шпати, обесчестил дочку Шоро. Правда это или нет?
Староста смутился, побледнел и не нашелся, что ответить.
— Отвечай же! Зачем хочешь скрыть чужой позор! — грозно прикрикнул на него бей.
— Ну, скажи правду, староста! Что-то уж очень стал ты милостив к Гьике Шпати! — понукал его и Рако Ферра.
— Откуда нам знать, что делают двое, когда остаются наедине? Говорят, что она… что она… — и староста не осмелился закончить свою мысль.
— Ага! А какие меры принял ты, староста? Почему не отправил их в общинное управление? Если ты завтра же этого не сделаешь, я сообщу туда сам, и тогда арестуют не только их, но и тебя возьмут за шиворот и посадят за решетку! И ты вздумал покрывать разбойников, а? Так вот, запомни: чтобы завтра же с утра отправить их в управление!
Нагнав на старосту страху, бей взглянул на свои золотые часы, проверил, заряжен ли револьвер, и вышел на улицу.
Неспокойно было в это утро в селе. Отряженные старостой люди возвращали крестьян с полей, из леса, куда те направились за дровами.
— Неужели бею мало по одному человеку от каждого хозяйства? — негодовали крестьяне.
— Как можно! На холме Бели затевается такое важное дело, и все село должно принять в нем участие! — мрачно шутили некоторые.
— А зачем там понадобились женщины?
— Таков приказ бея! Должны явиться все поголовно — и мужчины и женщины.
Дядя Постол вернулся с пахоты и распряг волов. Привязал их у конюшни, дал им свежескошенной травы. Плуг поставил под навес. Отряхивая с опингов комья черной земли, он сокрушенно бормотал:
— Вымотает он из нас душу, черт его забери! Я уже успел состариться и за всю свою жизнь не помню ни одного счастливого дня. Не забыл я и старого бея — он был не лучше нынешнего. Всем им только бы глумиться над нами! И правильно делают, раз мы все терпим, как бессловесные скоты!
Завязывая тесемки на опингах, дядя Постол так сильно их натянул, что они порвались.
— Не везет мне! С самого утра не повезло, так и весь день пойдет, — горестно вздохнул Постол, стараясь связать порванные тесемки.
— Эй! Дядя Постол! Что ты сегодня так рано кончил пахать? — насмешливо крикнула ему жена Шумара, круглолицая веселая старушка.
— Тебе-то можно шутить! Твой Шумар успел вовремя вспахать поле, ему и горя мало, если бей продержит нас на холме Бели целый день на привязи, словно псов, — мрачно откликнулся на шутку старик.
— Эх, Постол! Сколько раз я твердила и своему муженьку и всем вам: вы, мужчины Дритаса, — вовсе не мужчины! Если бы бею вздумалось, как это бывало в старину, забрать у вас жен и запереть в свой гарем, никто из вас даже и не пикнул бы!
— Правильно говоришь, но что поделать, если у него в руках вся власть? — уныло ответил Постол.
В эту минуту к ним подошел и сам Шумар:
— Ну и прыткая стала моя Шумарица! Вчера весь вечер жужжала, что бей — палач, что кьяхи больше нельзя терпеть, что все мы не мужчины, а тряпки и что единственный настоящий мужчина в селе — это Гьика Ндреко. Ну что ж! Раз ты такая храбрая, поднимись-ка на холм Бели и поговори с беем! Послушаем, что ты ему скажешь!
Подшутив таким образом над женой, дядя Шумар продолжал:
— А что у нас сегодня творится! Пили поехал было на мельницу, его догнали и вернули с дороги! Гьерг отправился в лес за дровами и никак не хотел возвращаться, так у него отобрали топор! Я собирался починить развалившийся забор и только взялся за первый кол, как, гляжу, идет ко мне пойяк. «Дядя Шумар! Бей приказал всем собраться на холме Бели, иди!» — сказал он мне. — «Милый человек, за меня пошел мой Таро, он все сделает лучше. Оставь меня в покое!» — упрашивал я. Куда там! Заставил меня бросить работу. А как было не послушаться? Ведь тому палачу все станет известно.
— Хорошо вам тут разговаривать, а кто пахать будет? — насмешливо спросила Постолица, выходя из хлева с корзиной навоза в руках.
— Довольно, бабы, подтрунивать над нами! Сваливай навоз и ступай вместе с Шумарицей! Вы рады бы здесь целый день зубоскалить! — цыкнул на жену дядя Постол.
Обе пары вышли на улицу. Здесь стояла группа крестьян и слушала дядю Коровеша:
— Ей-богу, дорогие мои, я не виноват! Приехал уставший, слез с коня, едва держусь на ногах… Войду-ка, думаю, в дом и, пока молодежь гоняется за яблоком счастья, прилягу, передохну малость да подкреплюсь кофе. Рина приготовила мне кофе, но не успел я сделать и глотка, как сказали, что приехал бей. Я забыл про кофе, тотчас же вскочил и бросился его встречать, но получилось совсем не так… Обидел меня бей, кровно обидел. Оскорбил перед всем народом, перед невестой сына, которая еще не успела слезть с коня! Но что поделать? Мы в его власти!.. Захочет — и душу у нас отнимет!
Старик чувствовал себя жестоко оскорбленным. За свадебной софрой он после этого не спел ни одной песни. Стыдно было ему перед гостями, перед невестой. Коровешу случалось и раньше выслушивать брань бея, но не на свадьбе же родного сына, не в присутствии же всего села! Честь старика была поругана.
Крестьяне выражали Коровешу свое сочувствие:
— Испортил тебе свадьбу лиходей!
— Ни за что ни про что так оскорбить старого человека!
— Пойдем послушаем, какую песню нам сегодня затянет бей, — предложил Шумар.
— Будто мы не знаем какую! Запряжет нас всех, как волов, и заставит строить башню! — ответил Шоро.
— А пахать будем в мае, когда придет время сеять?
— Урожай получим такой, что зимой придется побираться от дома к дому! — предсказал кто-то из крестьян.
— А что до этого бею! — прошептал один из стариков.
— А вот и Нуневица — только ее и недоставало! А ну-ка, тетя Нуневица, расскажи, как Рако Ферра отнял у тебя кастрюльку! — со смехом обратился Шумар к подошедшей старухе.
— Почему тебе и не подшутить надо мной, если сам ты не испытал такой напасти, а может, испытал, да позабыл! — ответила Нуневица.
— Правда, тетя Нуневица, расскажи нам, как было дело с кастрюлькой! — начали ее просить со всех сторон.
Старуха долго отнекивалась, но потом уступила уговорам и, полусмеясь, полуплача, рассказала:
— Как-то в базарный день продала я в Корче рыбу, которую наловил мой сын. Были у меня еще кое-какие денежки, как раз хватило на кастрюлю, — ведь дома у нас варить не в чем, не в чем воду вскипятить. Купила кастрюлю, обрадовалась и возвращаюсь на постоялый двор. И вот, надо же случиться такой беде: у дверей натыкаюсь на Рако Ферра. «Эй, Нуневица! Что это у тебя? Никак, новая кастрюля?» — спрашивает он, а морда злющая-презлющая. — «Да, купила сейчас, — ведь нам не в чем даже похлебку сварить…» — отвечаю, а у самой сердце так и заколотилось. — «На кастрюльку деньги нашлись, а на уплату мне долга денег нету? Стыдно, стыдно… Бог тебя за это накажет. Я два года жду, когда ты вернешь мне долг, а ты новые кастрюли покупаешь!.. Значит, денежки-то у тебя водятся?.. Чтоб ты пропала со всем своим родом!» — И тут принялся меня ругать и поносить, а я стою, словно окаменелая, и сжимаю в руке кастрюлю. Потом все-таки собралась с духом и отвечаю: «Я должна тебе, Рако, три наполеона, а кастрюля стоит всего-навсего полнаполеона… к тому же вещь эта необходимая в хозяйстве»… Тогда он совсем озверел, вырвал у меня из рук кастрюлю и заорал: «Как ты сказала? Полнаполеона стоит? А мне должна три! Выходит, на мои деньги купила кастрюлю!» Еще раз обругал меня и пошел прочь с кастрюлей под мышкой. Как ни умоляла я его вернуть кастрюлю, не отдал… так и осталась я, горемычная, без кастрюли!..
Закончив свое печальное повествование, Нуневица расплакалась. Потом, подняв с земли свою корзину, добавила:
— Уж так он меня обидел, так обидел — накажи его за это бог!..
— Рако Ферра больше лютует, чем сам бей, чем его кьяхи! Правильно говорит Гьика, что от Рако нам приходится терпеть больше, чем от них! Да, плохо мы прислушиваемся к словам Гьики! — заметил Селим Длинный.
— Эй, вы! Идите зюда, зюда! Не то позалуюзь на ваз блею! — завизжал косноязычный дурачок Ламе. — Сказу болею, ей-богу, сказу! Совсем ваз не боюз!..
— Э, Ламе! Уж не бросил ли тебе сегодня бей со своего стола обглоданные кости, что ты так разлаялся? — спросил юродивого внучек Коровеша, стоявший у калитки двора.
— Дзыц, безенок! — припугнул его Ламе и продолжал созывать крестьян: — Эй, ты! Который с черными узами! Зюда! Зюда!
— Нечего сказать! Дожили до того, что и Ламе нами командует! — горько усмехались крестьяне.
А Ламе все манил крестьян рукой и грозил кулаком. Рако Ферра и Кара Мустафа поручили ему созывать крестьян на холм, и Ламе старался изо всех сил: торопил, ругал, грозил. В сотый раз выкрикивал одно и то же:
— Зюда, зюда! Блей велел! Зюда!
— Ну, раз зовет Ламе, надо слушаться! — решил дядя Тушар, и все гурьбой стали подниматься на холм. Ламе постоял немного, подумал и, строя гримасы, пошел вслед за ними.
С другой стороны поднималась на холм еще одна группа крестьян. Они оживленно разговаривали и размахивали руками:
— Бей обозлился на дядю Коровеша, что тот его не встретил как следует, и теперь вымещает обиду на нас всех! — говорил приземистый крестьянин.
— Это еще только начало! — сказал Петри. — Сегодня бей выгоняет Ндреко из его дома, завтра выгонит меня, послезавтра — тебя, и так всех по очереди. Всю свою жизнь прожил Ндреко на холме, и вот на старости лет ему приходится все бросать и переселяться в какой-то овраг, в папоротники и колючий кустарник! На что же это похоже?
— А что мы можем поделать, Петри, против бея? Он наш господин и поступает с нами, как хочет! — хриплым голосом возразил Нгьело. Его замечание никому не пришлось по душе. Все промолчали. Но Нгьело продолжал молоть свое, как испорченный мельничный жернов, пока у Петри не лопнуло терпение и он не прикрикнул:
— Замолчи, а не то дам тебе по морде!
— Подумаешь, какой герой объявился! Очень я тебя испугался! — огрызнулся Нгьело, но все же спрятался за спины крестьян.
— Прав Петри! — заговорил дядя Эфтим. — Дней десять тому назад был я на базаре в Корче. На постоялом дворе, где я остановился, встретил одного крестьянина из Опары. Он все добивался, где ему разыскать Кара Мустафу, который — как ему сказали — находился в Корче. Тили, сынишка Стефо, — сущий дьяволенок! — подошел к нему и говорит: «Вы, господин, ищете Кара Мустафу, нашего эфенди? Если хотите, провожу вас до дворца бея — Кара Мустафа там». Незнакомец обрадовался, и Тили повел его ко дворцу. Дорогой — эдакий хитрый мальчишка! — всячески старался выведать у пришельца, зачем ему понадобился Кара Мустафа. И знаете, что тот ему сказал? Будто, еще находясь в Тиране, Каплан-бей пообещал ему выделить пахотной земли и пастбищ у нас в Дритасе. У них там, в горах Опары, овцы дохнут с голоду. И многие семьи с радостью перебрались бы в наши края. Вот что рассказал мне Тили. Он, правда, сорванец, но такого сам не мог выдумать. И, как видно, бей теперь только ищет повода, к чему бы придраться. Вот придрался к дяде Коровешу. Сегодня выгонит его, а завтра, как правильно сказал Петри, и до других доберется.
— Может, все оно и так, как ты говоришь, но мне что-то не верится. Захотел бы Каплан-бей нас выгнать, взял бы да и выгнал без лишних разговоров, как это сделал Малик-бей у себя в Горице. Будет он еще думать, как подкопаться под Коровеша, под меня, под тебя! Незачем ему это! Решит прогнать — и прогонит, а мы и пикнуть не посмеем! Охотники на эту землю всегда найдутся. Наш господин, наверное, поругался со своей бейшей и срывает злобу на нас! — высказал свое мнение Топче, и нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит.
— Ей-богу, попал в самую точку, — засмеялся старый Трени и продолжал: — Я-то помню, какая ведьма была его первая жена. Лет десять тому назад мы с Зарче ходили к бею в его дворец внести часть годового оброка. Принесли и сыру и масла. Арап, который служил у бея сейменом, прежде всего свел нас в погреб, где мы и сложили наши дары. Поднимаемся мы из погреба и тут же на лестнице нос к носу сталкиваемся с бейшей; она, в танком платье из чего-то вроде белой марли, показалась нам совсем голой. Увидела нас, попятилась, а спрятаться некуда. Тогда она заревела, как взбесившаяся телка, и выплеснула нам на головы из серебряного кувшина кипяток. А сама побежала вверх по лестнице, да еще ругается: «Разбойники! Негодяи! Кроты слепые!»
У нас от страха поджилки затряслись. Бросились мы обратно в подвал.
— Зенел эфенди, скажи нам, за что так рассердилась госпожа? — спросил я арапа. А он мне в ответ: «Тсс, молчи! Вы сами виноваты. Нужно было раньше посмотреть, есть ли кто на лестнице, а потом уже выходить. Ой, ой, ой! Что вы наделали!» — восклицал арап и колотил себя кулаком по лбу.
Через некоторое время мы потихоньку выбрались, уже не помню, через какую дверь. Но с этим арапом после того случая подружились. Я его часто угощал раки, и уже после первого глотка язык у него развязывался, и он выкладывал мне все: сказывал, что и самому бею нередко доставалось от этой ведьмы. А когда она несколько лет тому назад умерла, бей, вместо того чтобы носить по ней траур, устроил пир — праздновал вовсю освобождение от этой змеи подколодной! Впрочем, говорят, что и от теперешней жены ему здорово достается!
— А сколько жен у нашего бея? — простодушно спросил Козма.
— Сколько? А кому же это известно? — засмеялся в ответ старый Трени.
Разговаривая таким образом, дошли они до холма Бели.
— Эй, дядя Коровеш! Вчера всем селом женили твоего Или, а сегодня женим бея! — пыталась пошутить никогда не унывающая Шумарица, заметив старика, направлявшегося в дом Ндреко.
— Ох, Шумарица!.. Боюсь, не мы его женим, а он нас! — отшутился Коровеш и, пригнувшись в дверях, вошел в дом.
Ндреко сидел у очага и молча размешивал тлеющие головешки; по щекам его изредка скатывались скупые слезы. Ему казалось, что сегодня холодно, по телу пробегала дрожь.
У окна стояла грустная Рина и слегка покачивала колыбель, в которой спал сынишка.
— С добрым утром, племянница! — поздоровался Коровеш, входя и вглядываясь в лицо молодой женщины. В тишине голос старика прозвучал неожиданно громко.
— Добро пожаловать, дядя, добро пожаловать! Как хорошо, что ты пришел! — обрадовалась Рина.
— А, Коровеш, иди сюда! — приподнялся ему навстречу Ндреко.
— И ты дома? А я зашел поздороваться с племянницей да пощекотать усами вот этого маленького чертенка! — сказал старик, усаживаясь на веленджэ, которое поспешила расстелить для него Рина. — А почему ты дома — ведь все село собралось. Выходи, чего сидишь, будто в темнице! — посоветовал он Ндреко.
— А зачем? Говоришь, все село собралось? Это они пришли копать мне могилу. Куда я пойду? Где мне искать защиты? — скорбным голосом откликнулся Ндреко. Потом достал коробку с табаком и протянул ее гостю.
— Ах, как хорошо, что ты пришел, дядя! — повторила Рина и принялась раздувать в печи огонь. — Свекор всю ночь не спал и до самого твоего прихода ни с кем слова не вымолвил.
Ндреко бросил на нее исполненный страдания взгляд и проговорил:
— Я уже прожил свою жизнь, не во мне дело. Но сердце мое разрывается, когда я думаю о вас — о Гьике, о тебе и о Тирке… Где вы будете жить? А Гьика ведь такой вспыльчивый, мало ли что может натворить сгоряча!
— Вот что тебя тревожит! — сказал Коровеш, — но ведь тебе и самому давно известно, что вся эта земля — собственность бея и он может поступать с нами, как ему заблагорассудится, может прогнать нас, когда ему захочется. Такова уж наша крестьянская доля. Вот теперь ему взбрело в голову на месте твоего дома выстроить себе башню. Видно, тут ему очень понравилось, Попробуй, скажи ему: «Не уйду отсюда! Не отдам тебе этот клочок земли!» Он тебе тут же свернет шею, как жалкому цыпленку! Ведь это палач! И упрямством ты ничего не добьешься. Попробуй с ним поговорить по-хорошему, пусть позволит тебе построить дом у рощи. Сунем что-нибудь кьяхи, может, и они замолвят за тебя слово перед беем. А уж если, на худой конец, он не согласится, то и место около ущелья, которое он тебе предназначил, все-таки лучше, чем ничего! Раз мы родились на свет, надо жить, Ндреко, а не сдаваться. Живыми в могилу мы не ляжем!
— Все это так, все это верно… — соглашался с ним Ндреко, печально покачивая головой. — Но кто даст мне хлеба, когда у меня его не будет? Куда я бы ни обратился, никто меня не защитит. Сегодня бей выгоняет меня из дома, где я родился, где жили мой отец и дед: забирает весь мой участок с огородом, с пастбищем. Ты сам знаешь, как я здесь
трудился, сколько здесь пролито моего пота. И вот бей лишает меня всего этого и отправляет на край села, к ущелью. Завтра ему вздумается, и он отнимет у меня последнее поле, которое я обрабатываю, и моей семье только останется умереть с голоду. А ты советуешь не сдаваться, на что-то надеяться! Какая может быть для меня надежда?
Рина варила кофе и время от времени незаметно от свекра смахивала слезу.
— Нет, отец! Прав дядя Коровеш: не надо отчаиваться. Бог даст, с голоду не помрем! — вмешалась в разговор молодая женщина, и от этого у старика будто полегчало на сердце.
Ндреко продолжал, обращаясь к гостю:
— Сегодня утром ввалились к нам сеймены. Орут, ругаются, совсем озверели. Перепугали невестку и внука. Рине показалось, что они уже явились выбрасывать наши вещи. А они только велели дожидаться прибытия бея и с криками и руганью ушли. Что мы могли поделать с этими негодяями? Нет у нас никакой защиты!
— И Гьика, как на грех, задержался на пастушеском стане. Уж давно пора ему возвратиться, — проговорила Рина, наливая в стакан ячменный кофе.
— Скрутим еще по одной! — предложил дядя Коровеш и угостил хозяина свои табаком. — Лучше бы Гьика не приходил, пока здесь эти разбойники! Неровен час — вспылит, не вышло бы беды!
— Выпей, пожалуйста, кофе, дядя! — и Рина протянула старику чашку, затем щипцами достала из очага уголек и подала свекру закурить.
Попивая кофе и покуривая, старики продолжали разговор, а Рина подошла к окну. Она увидела вдалеке верхом на конях бея и его кьяхи, которые въезжали на холм. Сердце ее дрогнуло. Она отпрянула от окна и вскрикнула:
— Бей едет! Бей!
— Пожаловал, значит? Поднимайся, Ндреко, выйдем ему навстречу, — сказал дядя Коровеш, и оба старика, тяжело вздохнув, встали.
— А ты, племянница, оставайся с Тиркой здесь. Нечего тебе смотреть, что там будет делаться! — наказали они Рине и вышли.
Холм Бели был полон крестьян. Некоторые сидели прямо на земле, сложив по-турецки ноги; другие стояли, прислонившись к забору. Женщины жались ближе к дому.
По двору спокойно разгуливали петух и несколько кур. Время от времени петух взмахивал крыльями и громко кукарекал. У кучи навоза, при входе во двор, стояла свинья и мордой рылась в навозе, откуда поднимался теплый пар.
Бей, выйдя из дома Рако Ферра, сел на коня и проследовал через все село. Когда он достиг холма Бели и въезжал во двор Ндреко, в нос ему ударил тяжелый запах навоза. Приложив к носу шелковый платок, он повернул коня и рысью погнал его в другую сторону — к заброшенной мельнице Нуни, находившейся напротив холма Бели.
Когда бей в сопровождении кьяхи и сейменов доехал до мельницы, небо, бывшее с утра безоблачным, покрылось тучами. Селение утонуло в тумане, а холм неожиданно показался бею мрачным.
Каплан-бей захотел отсюда полюбоваться холмом и представить себе на нем новую башню, которую он собирался воздвигнуть. Но он остался недоволен: под небом, затянутым тучами, ландшафт показался ему унылым, и он погнал коня обратно к холму Бели. Настроение у него испортилось: раздражали тучи, туман, стлавшийся над селом.
Крестьяне уже давно ждали бея. Мрачный и хмурый, въехал он во двор Ндреко. Староста и старики вышли его встречать. Но на беду их опередила свинья Ндреко. Испугавшись лошадей, она заметалась между беем и крестьянами. Конь бея в свой черед испугался свиньи и встал на дыбы. Бей едва усидел в седле; еще мгновение — и он свалился бы на кучу навоза. Изо рта у него выпал янтарный чубук, из руки — хлыст. Испуганный, бледный как полотно, бей левой рукой натягивал поводья, а правой выхватил револьвер, привстал на стременах и… выстрелил три раза кряду. Свинья пробежала несколько шагов и рухнула в навоз.
— Эх, что натворила эта свинья! — говорили одни.
— Бедный Ндреко! Вот еще стряслась над ним беда! — сочувствовали другие.
— И на кой черт свинья бросилась встречать бея! — качали головами третьи.
Бей слез с коня. Губы его дрожали, и от злобы он ломал себе пальцы. К нему подбежал Рако Ферра и подал оброненные чубук и хлыст. Подошли и спешившиеся сеймены. Кара Мустафа заметил среди стариков Ндреко и бросил на него грозный взгляд.
— Живи столько, сколько стоят наши горы, бей! Умоляем тебя, милостивый бей, не обращай внимания на этот прискорбный случай. Ведь это — скотина… испугалась, заметалась… — успокаивали бея в один голос старики.
Ндреко ежился от страха и прятался за спинами женщин.
— Несчастный я, несчастный! Нет у меня больше свиньи! — лепетал он.
Этот случай произвел тягостное впечатление. Все жалели Ндреко. Некоторые опасались, как бы теперь бей не обозлился еще больше и не выдумал для всего села еще чего-нибудь похуже. Женщины в тревоге перешептывались. Рина и Вита, видевшие все из окна, громко плакали. Кто-то в толпе проговорил:
— Хорошо, что здесь не было Гьики, а то, кто может знать, что бы произошло!
Слова стариков несколько смягчили разгневанного бея. Сопровождаемый кьяхи, он направился к крестьянам, которые пятились и расступались. Бей остановился перед толпой и обвел ее грозным взглядом. Стегнув хлыстом по сапогу, он спросил:
— Все явились?
— Все, милостивый бей! Все до одного!
— Слушайте! — начал свою речь бей. — Вы сожгли мою старую башню и поэтому должны построить новую: большую, высокую, красивую, крепкую — чтобы равной ей не было во всей округе. Вот здесь, — он начертил хлыстом на земле большой круг, — к середине мая должен быть заложен фундамент. Пятнадцатого апреля из Корчи приедет архитектор, и вы все начнете работать: мужчины будут таскать камни, рубить лес, заготовлять строительные материалы, гасить известь, а женщины — расчищать землю, таскать хворост для гашения извести, воду и все, что понадобится. Всем будут распоряжаться архитектор и два моих кьяхи, Кара Мустафа и Яшар. Если вы не будете повиноваться им, это значит, что вы не повинуетесь мне, и тогда берегитесь! Никто не смеет уклоняться от работы! Хорошенько запомните эти слова! Ясно?
Крестьяне стояли, опустив головы, и молчали. Тишина была такая, что казалось, будто никто и не дышит.
— Поняли, что я сказал? Чтобы все работали, все без исключения! Понятно?
Опять молчание.
— Чтобы все! Все! — закричал бей, рассерженный упорным молчанием крестьян.
— Как же, бей! Это наша святая обязанность! — послышался наконец голос Рако Ферра.
— Как ты прикажешь, бей, так и будет! — поддержал его староста.
Крестьяне продолжали стоять с нахмуренными лицами, сжимали кулаки, покашливали, но никто не заговаривал. И вдруг раздался чей-то женский голос:
— Говорят Рако да староста, но они-то сами работать не пойдут, а погонят других! И зачем вмешивать в это дело женщин? Разве мало у нас своих забот? Мы и с детьми своими никак не можем управиться, где уж нам строить башню для эфенди-бея! Это работа не наша, а мужская.
Все переглянулись. Многие поднимали головы, стараясь увидеть, кто осмелился открыть рот, чтобы вымолвить такие дерзкие слова.
Бея охватила ярость. Кьяхи взялись за ружья.
— Кто это сказал, кто? — крикнул бей, взмахивая хлыстом.
Опять молчание.
— Пусть та сука, которая осмелилась здесь лаять, выйдет вперед! — приказал бей.
Кое-кто узнал говорившую по голосу. Это была жена Шумара, тетя Мара. У нее внутри все кипело от возмущения: почему все боятся и молчат? И она решила заговорить сама, чтобы пристыдить малодушных мужчин за их скотскую покорность произволу бея. И, когда бей в третий раз потребовал, чтобы говорившая вышла из толпы, она набралась мужества и вышла вперед.
— Вот я перед тобой, бей!
— Молодец баба! — восхитился кто-то.
— Какая дурища! — определил другой.
У всех захватило дыхание. Что-то теперь будет? А дядя Шумар опустил голову, как будто перед ним разверзлась пропасть:
— Безумная, погубила ты нас! — прошептал он.
Бей выронил хлыст. Леший тотчас же поднял его и, вытаращив глаза, смотрел на нее, как на диковинного зверя.
— Не обращай на нее внимания, бей, она не совсем в себе… — шепнул ему Рако.
А бей все смотрел на эту женщину и, не зная, как поступить, заскрежетал в гневе зубами и во все горло заорал:
— Сука! Ведьма! Прочь с моих глаз!
Все облегченно вздохнули. Буря разразилась, но молния не поразила храбрую тетю Мару.
— Стыдно нам, трусам! — сокрушались некоторые из мужчин.
А бей продолжал свою речь:
— Башня должна быть построена быстро. Кости здесь свои сложите и вы и жены ваши, а башню воздвигнете! Я здесь господин, все здесь мое и все люди здесь в моей власти! Запомните это раз и навсегда!
Бей сделал небольшую паузу, закурил сигарету и, несколько смягчившись, заговорил уже другим тоном:
— Но я господин милостивый, душа у меня добрая, и я жалею крестьян. Даю Ндреко десять дней сроку, чтобы разобрать дом, взять свой скарб и спуститься вниз, туда, где я ему отвел участок: пусть строится заново.
Затем бей указал, где закладывать амбары, где конюшни, где разбить сад, насадить виноградники. К нему вернулись гордость и самодовольство. Он прошел сквозь расступившуюся толпу и шагнул через порог дома Ндреко. За ним последовали старики.
Увидев бея, Рина выхватила из колыбели младенца и вместе с Витой забилась в угол. Ребенок испугался и заплакал. Не говоря ни слова, бей подошел к окну, бросил взгляд на село, расстилавшееся внизу, на дорогу, ведшую в Корчу, на все свои владения. Какой великолепный вид открылся ему отсюда! Какое прекрасное место выбрал он для своей виллы!
Бей отошел от окна и направился к выходу. У порога оглянулся на Рину, державшую на руках ребенка. Она показалась ему очень красивой; он долго не мог отвести от нее глаз. Рина смутилась.
— Кто эта женщина? — тихо спросил бей у Рако.
— Жена Гьики.
— Ах, вот как! Не забудь приказать старосте, чтобы он завтра же отправил этого Гьику в общинное управление. Завтра же! — проговорил бей, выходя из дома.
Однако почему этот дерзкий разбойник Гьика сегодня даже не пикнул? Наверное, испугался! То, что он опасный крамольник, об этом говорили многие: первым предупредил его Рако, то же подтвердили кьяхи; говорил об этом и жандармский инспектор; да и сам бей прошлым летом убедился в неслыханной дерзости Гьики. Но тут в его мыслях образ Гьики потускнел перед образом его красавицы жены. И в городе редко встретишь такую! Бей жадно оглянулся назад, проглотил слюну и вышел во двор.
Сеймен поддержал стремя, и бей вскочил в седло. Наказав старосте зайти вечером к Рако за последними приказаниями и метнув напоследок злобный взгляд на столпившихся вокруг крестьян, он уехал.
Точно тяжелый груз свалился с плеч крестьян, они свободно вздохнули и громко заговорили.
Слава богу, все обошлось довольно благополучно. Только свинья Ндреко поплатилась жизнью! — насмешливо заметил Карагьоз.
— А разве мы держали себя, как подобает мужчинам? Никто не осмелился возразить бею ни одного слова, кроме женщины, — сказал дядя Коровеш и добавил: — А Гьики не было.
— И хорошо, что не было, а то с его буйным нравом дело могло закончиться кровопролитием! — сказал Селим Длинный.
— А тетя Мара молодчина! Мы все не стоим ее мизинца, — заметил Ташко.
— Лучше умереть, чем жить такой жизнью! — послышался чей-то голос в неожиданно замолкшей толпе.
IX
Воскресный день. Девушки одна за другой идут к колодцу. Они в праздничных платьях с нарядными оборками. На расшитых бусами поясках отражаются лучи заходящего солнца. Солнечные блики играют на щеках девушек. Опинги украшены красными кисточками. В длинные косы вплетены разноцветные ленты.
Девушки не опешат: воскресный вечер принадлежит им. Они свободны от работы и могут вдоволь наговориться у колодца и за поливкой огородов.
По очереди подходят они к колодцу и опускают в него ведро. Несколько глубоких всплесков, они тянут веревку, у сруба появляется ведро, наполненное свежей водой. Они выливают воду в принесенные с собой бочонки и лейки. Некоторые поставили свои бочонки на землю и, дожидаясь, пока наступит их очередь, собираются группами, разговаривают и пересмеиваются.
— Ленка, вон идет Гьерг. Он нарядный, как жених! — шутит Шпреса, нежно дотрагиваясь до плеча подруги.
— Мой-то хорош, но краше твоего нет во всем селе! — улыбаясь, отвечает ей Лена.
— Смотрите, как жених Дины надвинул феску на самые глаза, — вступает в разговор Настасия, дочка Селима Длинного.
— А твой заткнул василек за ухо; так и ходит!.. — откликается Дина.
— Почему ты не посоветуешь своему Васо выпускать из кармана кончик вышитого платочка?
— А твой милый держит вышитый платок напоказ, даже когда рубит дрова.
Девушки рассмеялись.
— Очень они вас любят, очень вы им милы, чтобы вас черт побрал! — грубовато-шутливо заметила девушкам пожилая женщина, жена Кьирко. — Чтоб все вы провалились в преисподнюю! Совсем закружили ребятам головы своими вышитыми платками, которыми вы их одарили, — закончила она и отошла от колодца.
Но ее слова ничуть не смутили девушек: не впервые приходится выслушивать подобные нравоучения.
— А вот и молодая невестка дяди Коровеша, — проговорила дочка Нуни.
И действительно, жена Или сегодня впервые после свадьбы вышла к колодцу поговорить с девушками. Ее сопровождали Рина и Вита.
Молодка подошла с кувшином в руке. Она была статная, круглолицая, с большими, немного удивленными глазами. Одета она была наряднее Рины и Виты. Венецианские серьги, пояс с серебряной отделкой, расшитое золотом платье, новенькие опинги — все это только подчеркивало ее красоту. Все ее окружили, осматривали наряд, дотрагивались до серег, до пояска. И каждая как бы хотела сказать: «До чего же ты красивая!»
Молодка улыбалась.
— Вот вышла ей незадача, бедняжке! Испортил свадьбу, палач, — прошептала Дрита, передавая ведро Дине.
— Нет, ты жалей не молодку дяди Коровеша, а пожалей лучше несчастную Рину: вид у нее сегодня, как у скорбной богородицы. Опозорили ее… Разве ты не знаешь, что вчера произошло? — И Дина, наклонившись к самому уху Дриты, шепотом продолжала: — Вчера вызывали в общинное управление ее мужа, Гьику, и Велику Шоро. Я знаю почему. Мне мама рассказала, а она узнала от отца. Их вызывали, потому что… Велика спуталась с Гьикой и теперь… беременна! — Дина закусила губу.
От удивления Дрита выронила ведро, и вода разлилась у ее ног.
— Что ты говоришь? Возможно ли такое дело?
— Рина еле держится на ногах. Будь я на ее месте, я бы такого позора не пережила.
— Как она, должно быть, страдает, бедняжка!
— Главное — перенести горе, а со временем все сглаживается. Человек крепче камня, как говорит мой дед.
— Плакать хочется. Неужели Гьика не мог жить спокойно? Ведь в деревне нет женщины красивее его Рины! А вот как он с ней поступил…
— Мама говорит, будто это неправда: не мог Гьика пойти на такое дело, да и Велика не из таких женщин. Должно быть, все это козни Рако Ферра и бея. Ненавидят они Гьику… Чем все это кончится?
И обе девушки отошли от колодца.
Понемногу расходились и остальные. Шли на огороды с бочонками и с лейками. Ушли и Рина, и жена Или, ушла Вита с Леной, дочерью Эфтима.
Сельские огороды разделены изгородями. Они невелики — у каждой семьи две-три грядки с луком, чесноком и другими овощами. У изгороди девушки обычно сажают цветы. Весной они поливают грядки каждое утро и воду для этого берут из озера. По воскресеньям поливают только вечером, таская воду из колодца. А к колодцу идут потому, что здесь можно вволю наговориться и пошутить.
— Так нас тянет к колодцу, будто в нем не вода, а мед, — смеясь, говорят девушки.
Поливая огороды, они что-нибудь напевают, рвут цветы, делают небольшие букетики и прикрепляют их к груди. Молодая листва огородов, покрытая жемчугом капель воды, словно сияет и улыбается.
За поливкой девушки проводят воскресный вечер. Когда темнеет, к ним робко прокрадываются молодые парни — каждый к огороду избранницы своего сердца.
Украдкой, притаившись за изгородью, бросают они девушкам небольшие букетики цветов. Бросают цветы и своим невестам, с которыми уже помолвлены, и тем девушкам, которым еще не успели даже сказать о своей любви…
Девушки делают вид, будто поглощены поливкой и не замечают падающих к их ногам цветов; но на щеках у них ярче разгорается румянец, они ниже склоняются над грядками, чтобы скрыть улыбку. Эта игра продолжается довольно долго.
К огороду Ндреко пробираются жених Лены Гьечо и влюбленный в Виту Бойко. Первый только что возвратился из Горицы, где добывал уголь, второй спустился из пастушеского стана. Ни тот, ни другой не решаются перелезть через изгородь и, оставаясь по другую сторону, заводят с девушками шутливый разговор:
— Вита! До чего твоя подруга старается… И какая она сегодня нарядная!.. — начинает Гьечо.
Тем временем Бойко незаметно просовывает сквозь изгородь свой пастуший посох и старается его изогнутым концом захватить ручку лейки Виты. Наконец это ему удается, и он начинает осторожно тянуть к себе лейку. Девушка, не заметив, в чем дело, подумала, что лейку берет у нее из рук подруга:
— Оставь, Лена! Я сама схожу за водой! — говорит она.
— Нет, за водой схожу я! Зачем тебе напрасно утруждать себя! — откликается влюбленный Бойко и хватает ее за руку. Теперь ей становится ясно, кто тянул у нее из рук лейку, но уже поздно: лейка у Бойко.
— Бойко, перестань! Люди увидят, нехорошо… — останавливает его Лена.
А Гьечо, влюбленный жених, молит ее:
— Посмотри на меня хоть разок, подними голову… Дай заглянуть тебе в глаза… Не будь такой суровой…
Лена улыбается, но продолжает обращаться к Бойко:
— Бойко, милый брат! Оставь шутки, отдай Вите лейку…
Сама же Вита молчит; ей приятна ловкость, с которой любимый завладел ее лейкой. «Недаром говорят, что он — сущий черт!» — думает она с гордостью. Выпалывая с гряд сорняки, она вспоминает свою первую встречу с Бойко.
Хотя они еще не помолвлены, но все считают их женихом и невестой. Каждое воскресенье Бойко спускается с горных пастбищ и весь день проводит в селе, а вечером его не оторвешь от изгороди огорода Ндреко. Весной он приносил Вите пышные букеты горных колокольчиков в память их первой встречи. Эти букеты вместе с какой-нибудь безделушкой он передавал своей любимой через подруг. Но сегодня Бойко решил поднести ей букет сам. Сначала собирался передать ей цветы через изгородь, но это оказалось невозможным: по дороге мимо огородов проходили крестьяне. Потом они стали бы рассказывать, что видели здесь Бойко.
Но от своего намерения он не отказался. Во что бы то ни стало сам передаст ей цветы! Вот для этого-то он и завладел лейкой Виты. Прикрепил к ручке лейки букет колокольчиков и, снова надев ее на кончик посоха, вернул в огород Ндреко. Вита, увидев привязанный к ручке лейки букет, улыбнулась, но, не желая выказать свою радость, не дотронулась до лейки.
— Ловко он это сделал, — проговорила Лена.
В это время через изгородь перелетел какой-то блестящий предмет и упал у ног подруги — это оказалось маленькое карманное зеркальце, которое бросил Лене ее жених.
— Лена, Вита, скоро вы? — послышался голос с дороги.
Это были Рина и молодая жена Или.
— Сейчас идем, — крикнула в ответ Вита.
— Не пожаловали ли к вам женихи? — откликнулась Рина, заметив у изгороди Гьечо и Бойко.
— Разве так поступают с женихами? Сколько мы ни просили нарвать нам цветов, они не соглашаются, — ответил Гьечо.
— Как, даже в этом отказали? Ну, погодите, я им покажу, — сказала Рина. — Невесты, видите этих двух парней? Быть им вашими женихами!
Жена Или, застенчиво улыбаясь, подошла к парням и поздоровалась.
— Нет у вас сердца; почему вы не дали парням цветов? — упрекнула Рина девушек. — Нарвите, не отказывайте им.
Девушки послушались, нарвали цветов и с румянцем смущения на щеках передали их юношам. Те поблагодарили Рину за содействие, попрощались с девушками и ушли, напевая песенку. Пройдя несколько шагов, оглянулись назад.
— Рина — золото! — сказал Гьечо.
— По красоте, по уму, по обхождению ей нет равной не только в селе, но и в самой Корче, — согласился Бойко.
— Да и Гьике нет равного.
— Что и говорить, Гьика молодец! А как говорит, как умеет убеждать! Сам Рако Ферра его боится и все хотел бы под него подкопаться. Вот старался он со старостой, старался и в конце концов добился своего: приходится теперь семейству Гьики убираться с холма Бели и переселиться вниз, к ущелью. Там и для хижины места нет, а о сарае, коровнике и думать нечего. А даже если бы и нашлось место, из чего все это построить? Что можно сделать голыми руками? Ндреко уже стар, кто Гьике поможет? Да… свалилась на него беда…
— До чего жаден бей! На что ему дворец в Дритасе? Мало у него их в Корче и в Тиране? — стиснул зубы Гьечо.
— Мы в его руках.
— Знаешь, Ндреко должен был уйти из дома еще в среду, но до сих пор не двинулся с места, не вынес ни одной вещи. Кто знает, что с ним за это сделают псы-кьяхи? Позавчера они грозили ему.
Гьечо промолчал. История с холмом Бели возмутила его до глубины души. Крестьяне покорны бею, стоят перед ним на коленях, а он заставляет их самих копать себе могилы! Когда же придет этому конец?
Те же мысли тревожили и Бойко. Вот теперь Ндреко должен ставить новый дом, а он еще беднее, чем прежде. Ему теперь не до свадьбы. Значит, Вита по-прежнему останется только невестой Бойко. Когда же наконец она станет его женой? Невеста — это будущая жена, но можно ли быть в этом вполне уверенным? И не бывало ли, что невеста так и не становилась женой? Вот, например, случай с Петри, сыном Зарче. Ведь Василика совсем уже ускользнула от него. Или со Ставри, сыном Ванго: пять лет любил он Нину, дочку Лави, и считался ее женихом. Уже была назначена свадьба, и вдруг в одно прекрасное утро по селу распространилась весть: Нину похитил и увез к себе Соко, сын Пили из Шулина. И остался бедный Ставри всем на посмешище, ни при чем. Ведь то же самое может случиться и с ним, с Бойко, хоть он и уверен в любви Виты и в обещаниях, которые давал ему Гьика. А все-таки страшно: не украли бы у него невесту…
Бойко оглянулся назад: у колодца и на огородах теперь уже никого не было; на душе у него стало тревожно. Он крепче сжал букет, словно боялся, что у него и цветы отнимут.
Слова Гьечо только опечалили его:
— Вчера вечером встретил я Петри Зарче, и знаешь, что он мне сказал? Рако и староста по наущению бея донесли на Гьику в общинное управление, будто он бесчестит чужих жен. Донесли они и на Велику, будто она забеременела от Гьики. И вот их обоих — Гьику и Велику — вчера вызвали в Шён-Паль.
— Что ты говоришь? Не может этого быть! — возмутился Бойко. — Кого? Гьику? Да чище и честнее его не найти человека! И Рина у него красавица и умница… Ведь придумали же такую подлость, негодяи!
— То же говорит и Петри: живым, говорит, за Гьику в огонь брошусь. Гьика чист как кристалл. Но эти подлецы хотят убрать его отсюда, хотят опять посадить в тюрьму. И вот придумали такую клевету! Будь Велика шлюхой — впрочем, Петри в это не верит, — так она, наверное, спуталась бы с кем-нибудь другим, но не с Гьикой. И я утверждаю то же самое. Петри с Гьикой, как суббота с воскресеньем, как родные братья, и Петри знает, что говорит, когда готов за Гьику в огонь броситься.
— Чем же все это кончилось? — опросил Бойко.
— Они еще не возвращались. А Рако Ферра и старосту следовало бы хорошенько избить.
— Избить, говоришь? Их не избить надо, а насмерть зарубить топором!
Так они дошли до площади Шелковиц, расположенной неподалеку от озера.
У крестьян Дритаса был обычай весной выезжать на озеро ловить рыбу. В этих рыбалках принимали участие почти все мужчины. Разбившись на две группы, бились об заклад, у кого будет больший улов. С вечера, накануне, все вместе ужинали на берегу. В двух огромных котлах варились рыба и фасоль. Расходы раскладывали поровну на всех. И еще до того, как солнце показывалось из-за вершины Сухой горы, крестьяне садились в лодки и выплывали на озеро.
Вот и сегодня вечером те, кто собирался на рыбную ловлю, ужинали на берегу. К ним присоединились старики и молодежь, спустившаяся с пастбищ.
Коровеш задумчиво перебирал свои турецкие четки из самшита. Шоро, зажав между коленями опинг, шилом чинил его. Шумар стругал дощечку, из которой собирался смастерить ложку для своего маленького внучка. Тушар оселком натачивал топор, а Цазо старательно вырезал ножом какой-то узор на ручке пастушьего посоха. Селим Длинный занимался каким-то странным, на первый взгляд бессмысленным делом: втыкал в землю маленькие прутики.
— Что ты делаешь? — спросил у него Тилька, брат Рако Ферра.
— Строю для бея новую башню, — не задумываясь, ответил Селим Длинный.
— Я тебя серьезно спрашиваю, а ты мне какой-то вздор городишь, — обиделся Тилька.
Гьерг держал в руках дощечку с зарубками и пытался доказать Бойче, что в прошлом году, в апреле, их овцы давали больше молока, чем в нынешнем, а Бойче никак не хотел с этим согласиться:
— Ты выучился грамоте и счету, вот и возгордился, думаешь, что все знаешь. А мне-то и без твоей грамоты хорошо известно, сколько молока давали наши овцы.
Другие крестьяне, разбившись на группы, мирно беседовали о том о сем. В стороне несколько мальчишек пробовали новую свирель, которую сделал племянник дяди Калеша. Малыши играли в чижика, а другие, постарше, прислушивались к разговорам взрослых.
Коровеш молчал, думая о чем-то своем. Он вслушивался в неторопливую беседу и время от времени выпускал изо рта и из носа густые клубы дыма. Его восьмилетний внук, сидя у него на коленях, то и дело теребил дедушку за усы и просил рассказать сказку. Но какую же сказку можно рассказывать, сидя со взрослыми? А малыш настаивал: подай ему сказку, да и только! Несколько ребят, уже почти взрослых, тоже стали просить старика что-нибудь рассказать. Всем захотелось послушать старого Коровеша: уж очень складно он говорил. В конце концов старик уступил их просьбам, бросил взгляд на вершины гор и начал:
— Это случилось еще во времена турецкого владычества. Я тогда был пойяком. В начале мая мы ждали, что к нам в село спустится с гор отряд Чечо
[29], а за ним македонский отряд Груева. Албанские и македонские повстанцы должны были договориться, как сообща бороться против турок.
За день перед этим к нам в деревню пришел Хеким — так звали у нас Михаля Грамено
[30] — упокой, господи, его душу! Что это был за человек! Какой образованный, умный, все он знал! Остановился он у Зарче. Надо сказать, что наш бей был заклятым врагом повстанцев, потому что они служили другому знамени, хотели другой власти, а он, как и все беи, поддерживал турецкого султана. Кто-то ему донес, что в нашей округе появился отряд албанских повстанцев, который должен соединиться с македонским отрядом. Это известие бей передал турецкому наместнику. И вот мы увидели, что по дороге к нам в село движется отряд аскеров
[31]. Мы сразу поняли, что туркам все известно. Куда же спрятать Хекима? Как предупредить албанских и македонских повстанцев, чтобы они сюда не шли?
Мы совсем было растерялись! Я вместе с Калешем — вот он здесь, живой, перед вами, пусть скажет, что это не так, — рассказал Хекиму о грозящей опасности. «Должно быть, нас выдал какой-то предатель, — хладнокровно сказал он. — Знай мы тогда, кто предатель, и попадись он нам, мы разорвали бы его на месте». Пока мы разговаривали с Хекимом, турецкие солдаты окружили село. Хеким посмотрел в окно и сказал:
— Нельзя больше терять времени. Дядя Зарче, дай какую-нибудь старую одежду, ну, рваную бурку, что ли, и пару стоптанных опингов. Нагрузи осла углем, да живее! Я сейчас же отправляюсь в Корчу, ведь там завтра базарный день.
Мы с Калешем удивленно переглянулись. Вскоре Зарче принес одежду. Но его и без того бледное лицо стало совсем восковым.
— Скорей, чего задумались! Нельзя терять ни минуты! — торопил нас Хеким.
И тут же на наших глазах он превратился в бедного крестьянина, который своим видом мог вызвать только сострадание. Однако под рваную бурку он надел патронташ, спрятал глубоко за пояс револьвер и нож, положил в карманы ручные гранаты, а в одном из мешков с углем спрятал автомат. Потом намазал лицо сажей и, взяв в руки палку, погнал нагруженного углем осла.
— Ты иди впереди. И будь уверен: если они меня узнают, я не сдамся и не умру, пока не убью дюжину турецких собак. Если что случится, ты во чтобы то ни стало доберись до отряда Чечо и передай, что нас предали.
Я взял с собой охотничье ружье и пошел вперед. За околицей меня окружили турецкие аскеры. Принялись обыскивать и не хотели пускать дальше.
— Эфенди мои, я здешний пойяк. На наши поля спускаются с гор медведи и шакалы и пожирают кукурузу. Община приказала мне взять ружье и сторожить посевы, — сказал я туркам.
— А нет ли здесь у вас в деревне бунтовщиков? — спросил один из аскеров.
— Нет, эфенди, нет. У нас и для себя хлеба не хватает; станем мы кормить разбойников!
Они мне поверили и пропустили.
Но главное было в Хекиме. Удастся ли ему обмануть турок? Я спрятался за скалой и, дрожа всем телом, ждал, что вот-вот услышу взрыв гранаты, которую бросит Хеким в турок, дорого продавая свою жизнь. Я был почти уверен, что аскеры станут его обыскивать, и тогда ему конец! Но, слава богу, вскоре я увидел Хекима. Хромая, он шел вслед за своим ослом, и солдаты пропустили его. Я не верил своим глазам.
Через некоторое время мы с ним сошлись в ущелье Каменицы. Я бросился ему на шею и попросил рассказать, как все произошло. Поправив патронташ и вытащив из мешка с углем автомат, он, улыбаясь, сказал:
— Вот я и спасся; нечего этому удивляться, Коровеш! На то мы и горцы!.. «Иди, иди!» — подгонял я осла, а сам кутался в бурку и прихрамывал так, что еле волочил по земле ногу. В общем — жалкий вид. «Эй, куда идешь?» — остановил меня аскер. «Иду, эфенди, в Корчу на базар, продать вот этот уголь, дома дети остались без хлеба», — ответил я ему жалобным голосом. «А почему это ты на ночь глядя собрался на базар?» — спросил другой аскер. «До Корчи далеко, а я хочу добраться к утру, чтобы продать уголь, купить муки и к вечеру вернуться домой. Дети сидят голодные…» Тут подошел еще один, судя по его важному виду, их начальник, и спрашивает: «Эй, ты, а бунтовщиков-разбойников у вас в селе нет?» «Разбойников? — пробормотал я. — Ах, милостивый эфенди, у меня дети умирают без хлеба, мне не до того, чтобы думать о разбойниках. Нету у нас никаких разбойников, даже не знаю, какие они, эти разбойники!» — ответил я и изо всех стеганул осла. «Иди, иди же, проклятый! Опоздаем мы с тобой! Вот уж ночь, а мы все никак из села не выберемся!» Турки посмотрели мне вслед. «Дурак», — фыркнул их начальник.
Все это Хеким рассказывал так спокойно, словно произошло это не с ним, а с кем-то другим. К рассвету добрались мы до отряда Чечо. Мне и раньше приходилось видеть Чечо, но в то утро он показался мне настоящим львом. Высокий, стройный, как тополь, весь обвешан гранатами, через грудь — патронташ, а на голове — белое келешэ, на нем вышит красно-черный орел, и над орлом надпись: «Свобода или смерть!» Это мне прочитал Хеким, когда я его спросил, что там написано. Походил Чечо на святого Георгия, икона которого есть у нас в церкви. Он был готов убить и разорвать на куски любого дракона.
Чечо с Хекимом отошли в сторону и о чем-то стали совещаться.
— Сегодня вечером мы должны занять проход в ущелье Завери. Наши лазутчики доносят, что турки непременно должны там пройти. Нам помогут македонские друзья, — сказал атаман Чечо, потом обратился ко мне и приказал: — А ты с Заманом передай об этом воеводе македонцев Груеву. Они ждут у колодца Разбойников.
И мы с Заманом глубокой ночью отправились выполнять его поручение.
Какие мужественные люди были эти македонские повстанцы! Не уступали нашим! А что за воевода у них был: высокий, широкоплечий, глаза, как у ястреба, и борода до пояса!
Вскоре оба отряда соединились у прохода Завери; я был их проводником. Целый день прождали мы, спрятавшись за скалами. Вечером из-за поворота дороги, которая вела из Каменицы, показались турки. Они возвращались в Битолью. Наше село они разграбили и опустошили.
Мы разделились на два отряда. Один занял позицию у моста над ущельем, а другой — внизу у прохода. Сверху — горы, под нами — пропасть. Я находился с теми, кто занял позицию у моста. Мы подождали, пока все аскеры пройдут через мост, и тогда подали сигнал. Раздался взрыв. Моста больше не существовало, путь к отступлению был отрезан. Закипел бой.
Турки не ожидали нападения и растерялись; у них не было времени ни построиться для боя, ни защищаться. Повстанцы, как львы, устремились на аскеров с криками «ура». Честное слово, я своими глазами, ребята, видел, как летели в пропасть турецкие аскеры, в каком ужасе бросали они оружие и сдавались в плен, крича:
— Аллах, аллах! Куртар яраби!
[32]
Вначале мне было немного страшно, но потом и я расхрабрился. Посмотрели бы вы на меня, как я тогда дрался! После боя меня похвалили и албанцы и македонцы. Сражался я с автоматом, который получил из рук самого Чечо.
Турецкий отряд был разгромлен. Одних перебили, другие свалились в пропасть, третьи сдались в плен. Только очень немногим удалось спастись бегством. А с нашей стороны пали всего один албанец и два македонца. Пленных мы обезоружили и отпустили на все четыре стороны.
Подняли наших троих убитых, понесли в Мализонью и там выкопали им могилы. Повстанцы выстроились перед телами, отдали им последние воинские почести. Над головами убитых развевались албанские и македонские знамена. И на них были вышиты слова: «Свобода или смерть!» — это опять мне прочел Хеким. Каждый подходил к героям и целовал их в лоб. А когда их зарыли, все опустились на колени и поцеловали черную землю их могилы. Потом наши повстанцы запели албанскую песню. И македонцы спели свою боевую песню.
Эх, если бы вы слышали, как разнесло эхо эти две песни по лесам и холмам, как подняло их к самым вершинам гор, будто это господь бог с ангелами спустился с неба и они затрубили в свои трубы.
Затем воевода Груев и атаман Чечо обнялись и сказали:
— Так, вместе проливая кровь, мы укрепляем братство и дружбу между нашими порабощенными народами, которые стремятся к свободе.
— Да здравствует свобода! — воскликнули все повстанцы.
Через три дня я, гордый и печальный, вернулся к себе в село. Гордый потому, что и мне довелось принять участие в этой битве храбрых, потому, что я прожил три дня среди этих прекрасных, замечательных людей; а печальный потому, что жалко было с ними расставаться, не хотелось от них уходить. Как я ни упрашивал повстанцев позволить мне остаться, они не согласились.
— Ты нам нужен в селе, мы должны иметь там своих верных людей, — сказал Чечо, похлопывая меня по плечу.
Так и расстался я с ними там, высоко-высоко, в Мализонье. Больше я никого из них не видел. Уже потом мне рассказывали, какие подвиги совершил Чечо, как была взята Битолья. И вот теперь каждый год, в последний день мая, я хожу туда, наверх, на могилы македонских и албанских повстанцев, зажигаю свечу и молюсь за этих героев, имен которых не знаю. Одно только знаю — они умерли за нас, за то, чтобы мы дожили до счастливых дней…
Дядя Коровеш еще раз посмотрел на далекие вершины Мализоньи, потом опустил голову, на глазах у него выступили слезы, и он сказал:
— Да, это были герои!
Рассказ дяди Коровеша произвел сильное впечатление на молодежь. Некоторое время все молчали и только смотрели на вершины гор. Только теперь стало понятно, почему уже много лет подряд, ежегодно в конце мая дядя Коровеш в бурке на плечах уходил в горы и пропадал там целых два дня. Никто не мог этого понять. Одни говорили, что он уходит на пастбища, другие предполагали, что он высматривает поляны, где трава лучше всего для покоса, и только сегодня он сам рассказал правду.
Видимо, снова открылась в душе старика старая рана, проснулась прежняя гордость. В разговорах с племянником перед ним снова ожила правда, и он сильнее почувствовал всю тяжесть угнетения. Теперь, как и Гьика, Коровеш, знал истинную цену всем этим беям, эфенди и кьяхи. Разряженные воры разгуливают на свободе, и никто их не трогает! А кто сегодня знает имя Чечо? Где сегодня ценят честных людей? Когда дядя Коровеш обо всем этом думал, ему хотелось плакать. Утешение он находил только в беседах с Гьикой. В последнее время он начал выказывать расположение и к Петри Зарче. Но больше всех его утешил и пробудил в его старой груди надежду тот таинственный гег, что приходил к ним прошлым летом покупать скот.
— Да, будь побольше таких людей, как тот гег, мы раздавили бы разряженных воров, которые с гордым видом прохаживаются по улицам и дерут с крестьян столько шкур, сколько им вздумается! Недавние события в Корче — это ведь дело нешуточное, — подбадривал себя дядя Коровеш, когда у него бывало тяжело на душе.
— А что же было потом? — спросил сын Шемо.
Но старик устал и не мог уже больше говорить. Вместо него ответил дядя Терпо:
— Что было потом? То, чего хотели беи. Опять пришли турецкие аскеры, сожгли половину села, перебили наших стариков. Вот тогда-то и были убиты отцы Таико, Тушара, Шумара, Ничо…
Молодежь знала, что село их когда-то было сожжено турками, которые тогда перебили много крестьян. Знали они также, что в Мелизонье один из курганов так и назывался «Курганом повстанцев», но подробностей, которые сообщил сегодня дядя Коровеш, они никогда еще не слыхали. Дядю Коровеша все очень почитали за ум, за честность, за великодушие. И вот, оказывается, он еще и герой!
— Значит, наши беи всегда были такими? — со злостью спросил Нечо, сын Гьеро.
— Всегда, сынок, яблоко от яблони недалеко падает, — сказал Терпо. — Из рода в род были беи такими.
— Эх, ребята, у вас еще молоко на губах не обсохло, и вы еще не знаете хорошенько, какими были в Албании беи! Сейчас-то они стали чуть помягче, а прежде, эх!.. — Но Шумар не успел закончить: один из присутствующих перебил его громким возгласом:
— Посмотрите, посмотрите, что делается там, наверху, у дома Ндреко!
Все с удивлением посмотрели на холм Бели и увидели, что на крыше дома Ндреко стоят двое и поспешно разбирают кровлю, а по двору мечутся и громко кричат женщины.
— Наверное, явились кьяхи, — предположил Коровеш, поспешно поднимаясь с места.
— Надо скорее туда пойти, посмотреть, что там делается. Нельзя оставлять Ндреко в беде одного, — предложил кто-то из крестьян.
Молодые люди тут же побежали на холм Бели. За ними поплелись старики. А многие разошлись по домам. На площади Шелковиц остался только Рако Ферра с несколькими своими приспешниками.
— Зачем нам вмешиваться в эту историю и портить отношения с беем? — пробормотал низкорослый крестьянин.
— Это нас не касается. А Ндреко давно должен был освободить дом. Милостивый бей проявил к нему столько великодушия. И место ему отвел для нового дома, — сказал Рако, закуривая сигарету. — Нельзя силой брать себе чужую землю. Ндреко захватил чужое добро, и еще хорохорится. Ей-богу, бей поступает правильно!
— Бей ждал долго. Но ведь эта земля принадлежит ему, и мы ничего не можем поделать, если он решил забрать ее обратно. Бей еще слишком мягко с нами обращается, — подобострастно продолжал низкорослый крестьянин.
— Конечно, он эту землю унаследовал еще от своих прадедов, а Ндреко с Гьикой хотят показаться умнее его. «Я здесь вырос, здесь мой очаг, не уйду отсюда!» — говорят они. Что же, бею им уступать? Вот и накликали себе беду на голову, — разглагольствовал Рако Ферра с важным видом, покуривая через мундштук.
Когда крестьяне добрались до холма Бели, они застали дом Ндреко уже почти разрушенным. Половина крыши была разобрана, входная дверь сорвана с петель, на дворе валялись разные домашние вещи, выброшенные из окон: осколки посуды, кувшины, ложки, тарелки, веленджэ и прочее… Тут же, по двору, кудахча, метались куры и петухи.
Что же, собственно, произошло?
Кьяхи уже не раз и не два приказывали Ндреко перенести свой скарб из дома на новое место, предоставленное ему по милости бея. Но Ндреко ни за что не хотел расстаться со своим очагом. Здесь он родился, здесь прожил жизнь и здесь решил умереть:
— Пусть делают, что хотят, но я отсюда не уйду. Здесь стояла моя колыбель, здесь поставят и мой гроб.
Прошло пять дней, прошло десять… Прошло еще пять дней после последнего срока, установленного беем, а Ндреко так и не двигался с места. Целыми днями сидел он у своего очага, закутавшись в веленджэ. Многие крестьяне, хорошо к нему расположенные, советовали Ндреко уходить подобру-поздорову, потому что бей не знает жалости и может поступить с ним еще более жестоко. Но старик никого не хотел слушать.
Кьяхи дали знать об этом бею в Корчу. И тот пришел в ярость. Тут же он отправил в село двух своих сейменов передать Ндреко последний приказ. Но одновременно обратился с жалобой к префекту, а тот тотчас же позвонил в Шён-Паль жандармскому инспектору и начальнику общинного управления и обругал их за то, что они не оказали Каплан-бею нужной поддержки. Из Шён-Паля инспектор срочно послал в Дритас на помощь кьяхи четырех жандармов. И вот сегодня вместе с несколькими беспрекословно повинующимися бею крестьянами, среди которых был и сын Рако Ферра, Нгело, они пришли и стали разрушать дом Ндреко.
Старика они застали сидящим у очага. Потребовали, чтобы он вышел из дома и вынес свои вещи. Но тот так и не пожелал сдвинуться с места и продолжал сидеть. Гьики в это время дома не было, потому что два дня тому назад его вызвали в следственные органы в Корчу по поводу Велики. Дело это в общинном управлении не закончилось и было передано в суд, хотя Велика клялась, что ей и в голову не приходила мысль изменить мужу с Гьикой.
— А брюхо кто тебе нарастил? — спрашивали некоторые крестьяне, в сомнении покачивая головами. Может быть, Гьика и не виноват, но она то, во всяком случае, не без греха. Так думало большинство. И вот теперь суд, тащись в Корчу — позор и стыд!..
Гьику ждали еще вчера, но он не вернулся.
Рина верила в честность Гьики, но все-таки, когда оставалась одна и вспоминала, какие по селу шли толки, не могла удержаться от слез. А теперь вот к этой беде прибавилась другая, еще более горькая.
Когда Ндреко отказался подчиниться, жандармы и кьяхи, особенно Леший, взбесились. Не стали больше церемониться и вместе с послушными им крестьянами принялись за работу: одни выбрасывали во двор вещи, другие срывали с петель двери и били стекла, третьи разрушали
крышу, а сам Леший, вооружившись киркой, принялся даже подкапывать фундамент дома.
Вита с криком ужаса выбежала во двор. Рина схватила из колыбели ребенка и спряталась на гумне. Обе женщины рвали на себе волосы, слезы ручьями текли по их щекам, и они даже не подумали о выброшенных на двор вещах.
— Отец, отец, умоляем, выходи скорее! Выходи, отец!
— Гьика, где ты? Гьика, горе нам!
Кьяхи бросали вещи, обрушивали крышу, а рыжий Кара Мустафа ревел, как разъяренный бык:
— Все превратим в прах и пепел! Пусть знают, что имеют дело с самим Каплан-беем!
При виде всего этого крестьяне ужаснулись. Некоторые сжимали кулаки, другие громко ругались.
— Мерзавцы! Палачи!
— Кровопийцы!
— Нет у вас жалости. Если когда-нибудь попадете к нам в руки, дорого поплатитесь за все!
— Эй, вы! Что стоите как вкопанные? Давайте хоть вещи соберем, — предложил кто-то поблагоразумнее.
— И Гьики, как на грех, нету! Нужно же им помочь. Ведь нас целое село; не можем ведь мы оставить в беде семью! — поддержал его другой.
И некоторые из крестьян принялись собирать вещи.
Дядя Коровеш подошел к Вите и Рине. Старался хоть немного их подбодрить и утешить, ласкал маленького Тирку.
— Погибаем мы, дядя! Смерть наша пришла! Умоляем, спаси отца, вытащи его оттуда! — сквозь слезы говорили женщины.
Коровеш в сопровождении двух крестьян вошел в дом. Дверей и окон уже не было — все разрушено. Кьяхи и их подручные с кирками и топорами в руках продолжали крушить крышу. Вниз летели бревна, куски штукатурки. С пола поднималось густое облако пыли. Сквозь это облако они увидели у очага какую-то закутанную в черное фигуру. Это был Ндреко. Он упал ничком и не двигался. Нельзя было понять, жив он или мертв.
— Эй, Ндреко, разве ты не видишь, что творится? Поднимайся и выйдем отсюда, а не то тебя здесь бревном пришибет!
Ндреко чуть приподнял голову, бросил на них взгляд, полный отчаяния и ярости, и, ухватившись обеими руками за очаг, выкрикнул:
— Нет, нет, здесь прошла моя жизнь, сюда придет и моя смерть! Не выйду я из моего дома!
Крестьяне пытались оторвать его от очага, но не смогли: Ндреко будто прирос к нему.
— Что ты, Ндреко, опомнись, возьми себя в руки, нельзя же так!..
В это время сверху на Коровеша свалилась балка. Он со стоном упал. Двое крестьян подняли его и вынесли во двор. Тотчас же распространился слух:
— Ндреко убит!
— Нет, это дядю Коровеша ранило, — говорили другие.
— Отец, отец! Несчастный отец! Несчастный дядя! — крикнули Рина и Вита, подбегая к раненому.
— Коровеш, что ты наделал? Без тебя мы все погибнем! — громко кричала тетя Ката.
Через минуту выяснилось, в чем дело. У Коровеша оказалась перебитой левая рука; он совершенно не мог ею пошевельнуть. Крестьяне отнесли его домой.
— Выведите же Ндреко из дома! И скажите кьяхи, чтобы они перестали ломать крышу, а то убьют человека, — посоветовал один из крестьян.
— Эй, остановитесь, перестаньте, если вы люди, если верите в бога! Ведь вы засыплете живого человека! — кричали крестьяне, обращаясь к кьяхи, стоявшим на крыше.
— Отца!.. Спасите отца! — рыдали Рина и Вита.
К Вите несмело приблизился Бойко. Он видел, как она страдает, и, жалея ее, хотел хоть чем-нибудь помочь ей.
— Вита, Вита! — тихо позвал он.
Она повернула к нему голову, стараясь овладеть собой, но это ей не удалось, и она еще пуще разрыдалась. В эту страшную минуту Гьики нет рядом, и Бойко сейчас для нее самый близкий человек. Она обратилась к нему:
— Умоляю тебя, Бойко, спаси моего отца!
Бойко с тремя товарищами вбежал в дом. Крыши уже не было, торчали только черные балки, а под ними колебался плотный занавес из пыли и сажи. Ндреко уже почти не было видно. Он лежал, засыпанный осколками штукатурки и мусором. Бойко и товарищи силой подняли его.
— Конец нам, конец! Дайте мне по крайней мере хоть умереть здесь, у родного очага; здесь меня и закопайте! Не хочу я больше жить, оставьте меня! Лучше похороните меня живым! — умолял Ндреко.
— Стыдно плакать, у тебя есть сын, он выстроит новый дом, лучше этого, — утешали его крестьяне, пытаясь вытащить старика во двор.
— Где ты, Гьика? Где ты, мой сын? Опозорили нашу честь, обездолили нас! Будь ты здесь, ты бы расправился с этими извергами! — кричал уже совершенно обезумевший старик.
— Бедный Ндреко, до чего его довели!..
— Остался на старости лет бездомным, и его еще с ума свели! — сокрушались крестьяне.
Но вот снизу прибежал запыхавшийся Петри Зарче. Он находился далеко от села, когда до него дошла весть о том, что происходит на холме Бели. Что же он увидел? От дома Ндреко остались одни развалины!
— Что же вы стоите? Как вы это допустили? Хватайте этих разбойников за горло! — закричал Петри крестьянам.
— Правильно говорит Петри! Взять этих душегубов за шиворот, сбросить с крыши, да так, чтобы они больше не встали! — поддержал его Бойко.
— Не очень-то расходитесь — как бы не вышло еще хуже! — предостерег Стаси.
— Верно сказал Стаси! А то явятся жандармы, и тогда не миновать кровопролития. Не надо доводить до этого, — присоединился к мнению благоразумного Стаси Шемо.
Некоторые крестьяне уже были готовы броситься на кьяхи, другие пытались удержать их от этого. В это время с киркой в руке появился сын Рако Ферра, Нгело, и принялся разрушать заднюю стену дома.
— Можно ли это стерпеть? Негодяй, собака, подлый палач, как и его отец, у нас на глазах разрушает дом Ндреко! — закричал Петри и, не в силах больше сдерживаться, бросился на Нгело. Схватил его за горло и швырнул на землю. Подоспели и другие — принялись бить его кулаками и топтать ногами. Шемо и еще двое крестьян пытались их разнять.
— Ой, убивают, убивают! — вопил Нгело, стараясь вырваться от противников.
— Кругом столпились крестьяне, одни старались прекратить драку, другие подзадоривали:
— Бейте негодяя!
На помощь Нгело поспешили его друзья, и тогда схватка стала общей. Били друг друга кулаками, ногами, палками. Постол и Стаси старались разнять дерущихся, уговаривая их:
— Перестаньте же, ребята! Дракой делу не поможешь. Если вам и впрямь жалко Ндреко, давайте лучше подберем его добро и унесем отсюда. А потом общими усилиями выстроим ему новый дом. Это самое лучшее, что можно сделать!..
Но побоище продолжалось. Петри и Бойко дрались вовсю. Они схватили Нгело за руки и за ноги и так швырнули, что он покатился вниз по склону холма, а сами убежали. В это время на холме появились жандармы и принялись стрелять в воздух.
Нгело остался лежать у подножья холма. Лицо у него было разбито в кровь, правая нога вывихнута. Встать он не мог.
— Дорого они за это поплатятся! — пообещал Леший, наблюдавший за побоищем с крыши разрушаемого дома.
— Искалечили меня, все кости переломали!.. Ой, умираю!.. — стонал Нгело, пока друзья поднимали его с земли.
Все быстрее работали кирки, все чаще летели балки, и стены постепенно разрушались.
На каждый удар кирки Ндреко откликался глубоким стоном и проклятиями:
— Чтоб они сдохли! Чтоб превратились в прах и пепел! Чтоб проклятый бей и в могиле не нашел себе покоя!
Рина и Вита опухли от слез, но сумели взять себя в руки и старались хоть немного утешить старика, приникшего телом к порогу своего разрушенного дома.
— Что случилось, того не поправишь, отец! Встань, и пойдем отсюда. Слезами и воплями ты только радуешь наших лиходеев, — уговаривала его Рина.
С помощью подошедших Коровеша, Ндони и Гьеро ей удалось оторвать отца от порога. Старик устал сопротивляться, встал с земли, с тоской посмотрел на невестку и, припав к ее груди, разрыдался:
— Гьика! Где ты, сын мой Гьика? Почему тебя нет здесь в такой страшный для нас день?.. Выбросили нас на улицу! Где мы преклоним голову, дочка?..
— Ты в руках бея, Ндреко, и он может поступить с тобой еще хуже. С него все станется, — проговорил Гьеро.
— Сделанного не поправишь! Перестань понапрасну убиваться, пойдем к нам! — предложил Коровеш.
Но Ндреко ни за что не хотел уходить от развалин своего дома. В сотый раз повторял он в отчаянии:
— Здесь я прожил всю свою жизнь, здесь хочу и умереть! — и снова цеплялся за родной порог.
Пришлось тащить Ндреко силой. А он оглядывался на свой разрушенный дом, и ему казалось, что у него из груди вырывают сердце. Долго еще раздавались его проклятия:
— Палачи разрушили мой дом, мой очаг! Так будь же ты проклят, бей, со всем твоим родом!
Шоро, Селим Длинный и еще несколько крестьян собрали разбросанные по всему двору вещи и сложили их в сарае.
* * *
Когда Гьика вернулся из Корчи, от его родного дома ничего не осталось. Кровь отхлынула у него от сердца при виде этих развалин. Но осталось у него одно утешение: попытка бея и Рако Ферра осрамить его не удалась. Велику освидетельствовали в Корче врачи и официальной справкой подтвердили, что у нее нет беременности: ее неестественная полнота была результатом болезни — нарушения обмена веществ. Прокуратуре пришлось отказаться от обвинения. Честь Гьики была восстановлена.
Едва эта новость распространилась по селу, как односельчане поспешили к Гьике.
— Никто не сомневался в твоей порядочности. Все мы были уверены, что дело кончится ничем, — говорили все они.
Рина, узнав об этой новости, позабыла и о разрушенном доме и обо всем на свете. Радовалась за своего мужа, в чьей честности она ни минуты не сомневалась.
Гьика постарался не выказать своего огорчения при виде развалин, чтобы не дать Рако Ферра и кьяхи лишнего повода позлорадствовать. Теперь он был не один, он знал, что большинство крестьян на его стороне. И скоро жизнь ему это доказала.
— Вон видишь, Гьика, там, внизу, пустующую хижину? Она мне не нужна — завтра же ее снесу, а весь материал отдам тебе для постройки нового дома, — пообещал ему Сефи, указывая на старую хибарку в конце села.
— И я тебе отдам всю древесину, которую заготовил, — добавил Селим Длинный.
— Бревнышко за бревнышком, камешек за камешком, и построим тебе новый дом! Для чего ж нам руки даны? — сказал Леко.
— Не беспокойся, Гьика. Мы позаботимся, чтобы Рако Ферра не пришлось долго торжествовать, он еще у нас лопнет со злости! — говорили крестьяне.
И действительно, сразу же закипела работа по постройке нового дома для Ндреко. Каждый день крестьяне по собственному почину доставляли на место стройки камни, кирпичи, бревна. Один сломал свой курятник, другой снял со своей крыши лишние перекрытия, третий пожертвовал припасенную им древесину. Каждое утро и каждый вечер сменялись здесь строители, чтобы работа не прекращалась и ночью. Молодые пастухи спускались с пастбищ к Скалистому ущелью, чтобы положить хоть один камень в фундамент нового дома Ндреко.
Совсем иначе обстояло дело с постройкой башни для Каплан-бея: здесь работа почти не двигалась.
Бей уехал из села преисполненный радужных надежд: крестьяне будут работать у него задаром и быстро возведут прекрасную виллу по проекту итальянского архитектора. Бей еще находился в Корче, когда получил известие, что Ндреко уже выселен, дом его снесен и заложен фундамент нового здания. Поэтому он совершенно спокойно уехал в Тирану, уверенный в том, что будущим летом уже сможет принимать на новой вилле своих аристократических друзей.
Итальянский архитектор раза два в неделю приезжал из Корчи на место стройки. В Шён-Пале нанял пятерых опытных строительных рабочих — они под руководством архитектора и с помощью прихвостней Рако Ферра заложили фундамент здания. Но для продолжения работы требовались камень, бревна, глина, известь… Все это должны были поставлять крестьяне, не получая за это никакой платы. Бей был уверен, что так оно и будет. Но за последнее время крестьяне словно переменились: не только молодежь не вышла на строительные работы, но и большинство стариков решили больше не работать на бея ни одного дня.
— Довольно с нас! Пора этому положить конец! Чаша нашего терпения переполнилась! — так отвечал Селим Длинный всякий раз пойяку, когда тот являлся звать его на работу.
— Теперь другие времена! Мы лучше своему брату бедняку поможем, чем будем работать на своих врагов! — с веселой злостью говорил Шоро.
— Не Ндреко выкопаем могилу, а бею! Честь по чести выкопаем! Мы не одни, нас миллионы! — твердил, потрясая кулаком, дядя Эфтим, только что возвратившийся из Дурреса, где он работал грузчиком.
В Дурресе на пароходе, который грузился углем, был кочегар, молодой болгарин лет двадцати с небольшим, по фамилии Явков. Он говорил по-албански, так как несколько лет тому назад у себя в Болгарии общался с албанскими переселенцами. Своими вдохновенными речами он поднял дух албанских грузчиков, как они сами потом говорили, спас их от отчаяния. Две недели простоял пароход в порту, и каждый день Явков встречался с ними. И о чем только он им не говорил! Когда пароход снимался с якоря, молодой болгарин, прощаясь со своими албанскими друзьями, повторил им в последний раз слова, которые неустанно твердил в течение этих двух недель:
— Никого не бойтесь. Близится день нашей победы, победы бедняков всего мира. Мы победим, потому что мы не одни, нас миллионы!
Эти слова так глубоко вошли в сознание грузчиков, что каждый из них, возвращаясь в свое родное село, принес их как некий пароль, как боевой лозунг. И дядя Эфтим любил повторять эти слова в беседах с односельчанами, когда заходила речь о работе на бея.
Как и дядя Эфтим, думали почти все крестьяне, и, когда Кара Мустафа со старостой и пойяком дважды в день стучались во все дома, требуя хоть по одному человеку на работу для бея, требуя коня с телегой, им каждый раз отворяли дверь либо какая-нибудь дряхлая старуха, либо ребенок и неизменно отвечали:
— Никого нет дома!
И это была правда, так как крестьяне уже на заре уходили в поле и возвращались только поздним вечером.
Кара Мустафа кусал кончики усов, бесился, но ничего не мог поделать. А староста растерянно твердил:
— Видать, наши мужики совсем рехнулись!
Так проходили недели, а на строительстве башни ничего не менялось.
Несколько раз наезжали в Дритас представители власти и пытались уговорить крестьян работать на бея.
— Вы сожгли башню, вы и должны всем селом построить новую! — увещевали представители власти.
Но и это не давало никаких результатов. Пойяку, звавшему их на работу, крестьяне отвечали так: «Надоело нам слушать твою болтовню!», — поворачивались к нему спиной и шли по своим делам.
Из семи крестьян, которых Рако Ферра удалось заставить работать на бея, четверо, проработав всего лишь пять дней, исчезли из села: ушли на добычу угля в Горицу. Двое опытных каменщиков, чтобы не трудиться задаром на бея, ушли на заработки в Корчу, где всегда нужны хорошие строители. И оказалось, что над фундаментом новой башни трудилось всего лишь пятеро приезжих рабочих из Шён-Паля и трое местных крестьян, у которых теплилась надежда, что им когда-нибудь заплатят.
Но вот пошли сильные дожди, место стройки покрылось лужами настолько, что, как шутили сами строители, там можно было свободно купать волов.
* * *
Несколько недель прожил Ндреко в доме Коровеша и ни разу не вышел на улицу. Но вдруг ему захотелось взглянуть на старое пепелище. О том, как подвигается постройка нового дома у скалы, ему не хотелось даже и спрашивать.
— Пойду к родному очагу, на родную землю! — сказал он Коровешу и пошел на холм Бели.
— Эх, дядя Ндреко! Зря себя утруждаешь, вернись-ка лучше домой, ведь ты старый человек, устанешь!.. — говорили ему встречавшиеся по дороге женщины.
— Вернуться домой? Именно к себе домой я и отправляюсь! — отвечал Ндреко.
И крестьянкам казалось, что он говорит это в бреду.
Через полчаса Ндреко взобрался на вершину холма. Подошел к тому месту, где раньше был забор.
— Как здесь все вытоптали козы! — сокрушенно прошептал он.
Ему казалось, что сейчас раннее утро и скот еще не скоро вернется с пастбища. Прошел дальше туда, где раньше был огород, поправил сломанный кустик и дошел до места, где когда-то лежала навозная куча, в которой вечно копались куры и рылась мордой свинья. И вот теперь он ясно видит и слышит: по-прежнему лежит здесь навоз, кудахчут куры, кукарекают петухи, свинья глубоко уткнулась мордой в навоз, откуда поднимается теплый удушливый пар — противный запах, который ему так приятно сейчас вдыхать.
— Цып, цып, цып! — принялся он созывать кур, собираясь угостить их полной миской мякины, как это он делал каждое утро.
Накормив кур, он имел обыкновение обходить свои владения. Здесь подправлял жердь в изгороди, там подтыкал кол под кустом, отбрасывал в сторону камешек, любовался своим маленьким мирком и радовался ему.
Когда Гьика пахал в поле, отец подходил к нему и показывал, насколько глубоко надо вонзать плуг в землю и как очищать его от прилипших комьев. Рине и Вите давал советы, как лучше косить траву, как собирать колосья, как делать это, как делать то…
Ндреко огляделся по сторонам, снял с головы келешэ, и на лице его отразилось полное удовлетворение. Поле такое зеленое, такое нарядное, будто праздничное бархатное платье Рины. Он радостно улыбался; ему хотелось обнять все, что сейчас он видел перед собой: и луг, и рощу, и огород. Как это умудрился забраться в огород осел? Ведь он может здесь все вытоптать… А рядом, на поляне, для него да и для вола столько свежей травы!
— Эх, Балаш, Балаш! — обратился он к воображаемому ослу, — шел бы ты на поляну, там травы сколько хочешь! — И он не зло, а в шутку погрозил палкой.
Ндреко еще раз удовлетворенно улыбнулся и пошел направо, к гумну. Тут уже успели вырасти сорняки, а столб почему-то валяется на земле. А вот и грушевые и сливовые деревья, под тенью которых он любил отдыхать в зной во время молотьбы. Сколько раз он здесь спал, обнявшись с маленьким внуком! Как он счастлив, что снова увидел свой дом, свою землю, свое поле…
— Эй, старый разбойник! Как ты думаешь, хорошее место выбрал для своей башни бей? — грубо подшутил над Ндреко один из кьяхи, схватил его за рукав и хорошенько встряхнул.
Старик вздрогнул, будто просыпаясь от сладостного сна. Удивленно огляделся вокруг и застыл на месте. Нет, ничего нет! Все сровнено с землей — вот она, жестокая правда. И дома больше нет, и сарая нет, и курятника нет. Все разрушено, снесено, вытоптано… Где же куры, свинья, осел Балаш, козы, вол?.. Нет, ничего нет!
И тут он все вспомнил: вспомнил, что бей застрелил свинью, выгнал его из дома, а дом снес с лица земли. И ничего у него не осталось — все отнял бей, ненавистный бей! От прилива гнева и отчаяния он задрожал всем телом, как дрожит под порывом ветра осенний лист.
— Эй, вы, там! Работайте, не спите стоя!.. А ты, старик, убирайся отсюда, не путайся под ногами! — снова услышал Ндреко грубый окрик кьяхи.
Но старик не сдвинулся с места. Теперь Ндреко ясно видел перед собой фундамент башни. Он слышал удары кирки и стук молотков, и ему казалось, что все кирки и все молотки держит только одна рука — рука бея. И все удары эта рука направляет лишь в одно место — в грудь. Пробита грудь, вырвано сердце, брошено на землю и растоптано тяжелыми сапогами бея!
— Убирайся, Ндреко! — опять заорал кьяхи и толкнул его.
У старика искривилось лицо, потемнело в глазах. И представилось ему, что на вершине холма стоит виселица, сооруженная из бревен, оставшихся от его разрушенного дома. На виселице покачивается веревка. Бей забрасывает Ндреко петлю на шею и подтягивает его кверху. Ндреко извивается всем телом, и вот он уже повис в воздухе. Все сильней стягивает петлю бей, а кьяхи смотрят на это зрелище и хохочут до упаду. Бей разевает огромный, как пасть зверя, рот, на губах его выступает пена, он в последний раз изо всех сил тянет веревку, она лопается, и Ндреко, как мертвый, подает на землю…
Что было дальше, Ндреко не узнал и никогда не узнает. Его разбил паралич. Онемела вся правая половина тела. Он лежал в доме у Коровеша и время от времени в бреду повторял:
— Дом, мой дом, земля моя! Чтоб ты сдох, проклятый бей, чтоб ты превратился в прах и пепел!
И все в селе решили, что дни Ндреко сочтены.
* * *
У Скалистого ущелья с каждым днем все выше возводятся стены нового дома.
Несмотря на то, что крестьяне уставали, день-деньской работая в поле, все же каждый старался хоть как-то принять участие в постройке дома Ндреко: кто приходил работать, кто давал строительные материалы, кто предоставлял свою лошадь для подвозки камня. Особенно старались Петри Зарче, Ндони Коровеш, Бойко, Терпо, Шоро, Стефи, Селим Длинный. Многие из них работали даже ночью.
— Дом Ндреко обязательно надо выстроить раньше башни бея! — дали они друг другу зарок и работали изо всех сил.
Петри, Бойко, Ндони заботились о доставке материалов. Часто тайно от кьяхи они пробирались ночью в лес, похищали там древесину, заготовленную днем для башни бея, и доставляли ее к Скалистому ущелью. Дело это было и трудным и опасным. Они разрывали на себе одежду, пробираясь сквозь колючий кустарник, спотыкались о корни деревьев и падали. Возвращались из леса измученными, но удовлетворенными.
Бойко месил глину с соломой. Рина и Вита таскали ему с озера воду. Как-то раз за этой работой Бойко и Вита остались наедине. Он размешивал палкой мокрую глину, она подливала из ведра воду.
— Вот скоро и дом закончим, Вита! Я думаю, ты довольна? — спросил он девушку.
— Боюсь, что беды наши еще не скоро кончатся. Отцу с каждым днем все хуже, — печально ответила она, прикусив кончик головного платка, будто хотела помешать самой себе говорить дальше. Зачем говорить о бедах, когда она наедине с Бойко?
Недавно им случилось вместе возвращаться ночью из леса, куда они ходили за хворостом. Бойко и Вита шли впереди, а Гьика, Рина и двое других крестьян несколько отстали. Бойко и Вита выбрали уединенную, густо заросшую с обеих сторон тропинку. Ночь была безлунная. На крутых спусках им приходилось хвататься за ветки, чтобы не упасть со своим грузом. Они шли и молчали. Вита была смущена. Как это вышло, что она темной ночью оказалась наедине с Бойко? Что могли подумать Гьика, Рина и остальные? Когда они вышли на поле, Бойко сбросил вязанку на землю и предложил Вите немного отдохнуть. Она продолжала стоять на некотором расстоянии от него.
— Разве ты не устала, Вита?
— Нет… Я расцарапала руку о ветку.
Юноша подошел к Вите и нечаянно дотронулся до ее груди. Она вся вспыхнула.
— Пойдем! — порывисто сказала она.
— Подожди, Вита… дай немного отдышаться!.. — умолял Бойко.
— Нет, лучше пойдем, уже поздно, а не то остальные вернутся раньше нас, — торопила она.
И они пошли. Всю дорогу молчали. На душе у Виты было тревожно. Сложив ношу, Бойко стал с ней прощаться, а она не нашлась, что ему ответить, и чуть успокоилась, только когда подошли остальные. Но потом Вита ругала себя за то, что так сурово обошлась с Бойко. Ведь она его любила всем сердцем! Находясь вдали от милого, только о нем и думала, а вот посчастливилось остаться с ним наедине — и растерялась.
Так и сейчас! Вместо того чтобы сказать ему что-нибудь радостное, она говорит о печальном, о бедах.
— Не беспокойся, Вита, все беды минуют! — старался он ее подбодрить.
Ей хотелось бы на это ответить: «Все беды минуют, когда я выйду за тебя замуж», но не хватило у нее смелости выговорить такие слова, и она только пробормотала:
— Может быть, может быть… — И пролила воду мимо.
— Я не размешиваю глину, ты проливаешь воду, — с горьким смехом заметил Бойко.
— Это потому, что мы с тобой думаем не о работе, а совсем о другом, — прошептала она.
— Это ты хорошо сказала! — радостно воскликнул Бойко.
— Эй, Бойко! Сходи с Витой на озеро, принесите нам еще воды! — послышался голос Гьики.
Бойко чуть не подпрыгнул от радости: вместе с Витой идти ночью на озеро и при этом без груза.
— Ну, Вита! Готова?
Девушка вздрогнула и с минуту оставалась в нерешительности.
— Хорошо, пойдем! — и взяла в руку ведро.
Бойко захватил кувшин и палку, чтобы на обратном пути вместе с Витой нести на ней наполненное водой ведро.
По ночному небу быстро скользили облака. Луна то показывалась из-за них, то скрывалась. Все село спало глубоким сном. Внизу серебристой сталью поблескивала поверхность озера.
— Как хорошо, Вита! Стены уже почти готовы, скоро будет и крыша, глядишь — и дом выстроим!
— Какие вы все добрые; если бы не вы, нам самим и за десять лет не построить себе дом! — отвечала Вита.
Бойко улыбнулся и почувствовал себя смелее.
— Мы должны помогать друг другу… а в особенности я должен помогать вам, потому что…
Он не договорил: его прервал крик Виты, которая поскользнулась и чуть не упала. Бойко поддержал ее, но она тут же выскользнула из его рук, и они пошли дальше, непроизвольно замедляя шаг.
Вита прекрасно поняла, чего не успел договорить Бойко, что хотел он сказать. Она смутилась, боясь, что он опять заговорит о том же… и в то же время ей мучительно хотелось, чтобы он заговорил об этом.
И Бойко хотелось высказаться до конца. Когда они подошли к озеру, он поставил ногу на камень, нагнулся якобы для того, чтобы получше завязать тесемки опингов, и, не поднимая головы, проговорил:
— Знаешь, что я хотел тебе сказать дорогой? Я говорил, Вита, что мы должны помогать друг другу, и в особенности я должен помогать тебе, потому что… потому что люблю тебя…
Не легко было Бойко выговорить эти слова. А у Виты от этих слов кровь ударила в голову, стало горячо на сердце.
— Я так люблю тебя! — повторяли и листья на деревьях и трава под ногами; и луна, выглянув из облаков и улыбнувшись им, повторила эти слова; повторило их и дремлющее озеро…
Вита не знала, что ответить, не знала, что сделать. Ее привел в себя голос Бойко:
— Что же ты молчишь, Вита? Не веришь мне?
— Подай мне кувшин, — ответила она.
Но юноша вместо этого схватил ее за руки и с силой притянул к себе.
На освещенной лунным светом поверхности озера заколебались две тени, слившиеся в одну.
— Люблю тебя, Вита!
Долго задержались они у озера. А когда возвращались, им обоим казалось, что у них выросли крылья и на крыльях этих можно лететь сквозь любую бурю, вознестись к самому солнцу!..
* * *
Наступил день святого Георгия. Крестьяне больше прежнего были возмущены беем, кьяхи и Рако Ферра, которые никак не могли примириться с тем, что так бесславно для них закончилось поднятое ими против Гьики и Велики дело. Наверное, нашелся там какой-то негодяй врач, которого удалось подкупить, иначе они бы так легко не отделались! А этот разбойник, сын Зарче, которого Рако собирался сделать своим зятем! Осмелился чуть ли не до смерти избить его сына! Нет, Рако не может с этим примириться! Правда, не один Петри бил его сына, ему помогали и другие, но Петри был зачинщиком. И теперь Рано на всю жизнь возненавидел Петри. Дочку свою выдаст замуж куда угодно, хоть в дальнее село, за кого угодно, хоть за безродного цыгана, но только не за этого Петри, обесчестившего его семейство!
В день праздника святого Георгия в селе произошло два неожиданных события.
Когда девушки по старинному обычаю танцевали в роще на берегу озера, к ним незаметно подкрались несколько парней из соседнего села, бросились в круг, схватили Василику и исчезли. Впоследствии стало известно, что Василику, с согласия самого Рако Ферра, похитили для сына Гого из Шулина.
Когда Рако сообщили о похищении дочери, он только сказал: «Вот и отлично!» Однако жена его принялась кричать и плакать.
— Замолчи, не то разобью тебе башку! — пригрозил Рако жене. — За сопливого сына Зарче все равно никогда ее не выдам! — и он начал угощать кьяхи, принесших эту весть.
В тот же день судьба доставила ему и вторую радость: по распоряжению прокуратуры явились жандармы, прошли на стан дяди Коровеша, забрали все стадо и отдали его Рако Ферра. Пастух поспешил к старику рассказать о случившемся; за ним бежали собаки, которым стало нечего сторожить.
— Сколько раз я ему говорил: не хочешь платить долг, придется расстаться со стадом! Я в этом не повинен! Я оказал ему услугу, а он и в ус не дует, не спешит возвращать долг. Это нечестно. Вот пусть теперь расплачивается! — посмеиваясь, говорил Рако своим друзьям кьяхи.
На Коровеша это событие подействовало, как удар грома среди ясного неба. Никогда в жизни не приходилось ему подвергаться такой обиде! Рако Ферра и стадо у него забрал и за свои шестьдесят наполеонов давно получил процентами много больше! Где же после этого справедливость?..
— Не прощу я этого Рако Ферра! Как вернулись пастухи, как рассказали мне, что жандармы забрали стадо, как заплакали женщины и дети, почудилось мне, будто в доме у меня покойник. Эх, Рако! Рассчитаюсь я с тобой, как ты и не ждешь! — Старик скрутил себе цыгарку и, обращаясь к домашним, сказал: — Что вы там плачете? Будем живы — наживем себе другое стадо! А слезами вы только врагов тешите. Своими трудами и потом нажил я это стадо и надеюсь, что скоро получу его обратно; не придется Рако Ферра радоваться нашим овцам. Запомните мои слова!
И впрямь от слов старика всем как будто полегчало.
Когда Петри узнал о похищении Василики, им овладело отчаяние. Он верил в ее любовь, не сомневался, что все подстроил ее коварный отец. Но теперь она потеряна для него навсегда. Насильно выдали ее замуж за чужого. По слухам, достигшим Дритаса, Василика ни с кем не говорила ни слова, ничего не ела.
Вот какие две новости распространились по селу в день святого Георгия. Большинство крестьян осуждало Рако Ферра, только одни открыто, а другие втихомолку, продолжая бояться первого богатея на селе.
…Шло время, а башня бея так и не строилась. Зато в одно прекрасное утро кьяхи и Рако Ферра увидели, что новый дом Ндреко покрыт кровлей. Это их вконец взбесило.
— Подумать только! Мужики дом Ндреко построили, а для башни бея ни одного камня не доставили! Сколько раз я повторял: надо выслать этого смутьяна Гьику! Это он перепортил нам все село. Где это видано, чтобы крестьяне не повиновались своему бею, а действовали по указке какого-то босяка? — старался Рако Ферра натравить на Гьику кьяхи, бросая злобные взгляды на новый чистенький домик, как по волшебству выросший у Скалистого ущелья.
— Дай срок, мы им покажем! — ответил ему Леший. — Говорят, что у Ндреко не было разрешения на постройку. Мы еще скрутим их в бараний рог!
— Позор для всего села. Стыд и позор! Я бы не хотел оказаться на месте нашего бея, который допускает, чтобы мужики садились ему на шею! В его руках власть, и он должен ею воспользоваться! — продолжал разоряться Рако Ферра.
— Правда, на этот раз им удалось обмануть нас, но не забывай, что скоро сюда приедет сам бей, и тогда мы им покажем! Всех запряжем и в два счета заставим построить башню! А не то будет с ними, как было с горичанами! — заверял его Леший.
Развязка не заставила себя долго ждать. Как-то ранним утром, когда добровольцы-крестьяне, заканчивавшие постройку дома Гьики, расходились после ночной работы, к Скалистому ущелью явились окружной полицейский инспектор, начальник общинного управления господин Лако, староста, Рако Ферра и три жандарма. По их виду сразу можно было заключить, что они явились для серьезного дела.
Так оно и было: долгожданный приказ сверху был получен. Он обязывал крестьян Дритаса приступить к постройке башни. В случае неповиновения местным властям разрешалось применить силу.
Как обрадовались этому приказу кьяхи, как обрадовался Рако Ферра! Ночью в его доме представители местной власти разработали план действий. Было решено захватить крестьян, работавших у Скалистого ущелья ранним утром, чтобы никто из них не успел удрать. Остальных должен был оповестить по домам пойяк вместе с жандармом: всем собраться на сходку у Скалистого ущелья.
— Строить дом для Гьики у вас время находится, а возить камни для башни бея вам некогда? Всем оставаться на месте! — приказал инспектор крестьянам, которых захватил на постройке дома Ндреко.
Крестьяне переглянулись и остались. Пока собирались остальные, оповещенные пойяком, полицейский инспектор задал Гьике лукавый вопрос:
— А где у тебя разрешение на постройку дома?
— Разрешение должен достать бей, который выгнал меня из старого дома и разрушил его! — спокойно ответил Гьика.
— Предъяви разрешение, или за самоуправство отправлю тебя в тюрьму! — повысил голос инспектор и топнул ногой.
— Бей убивал меня, но не добил. Что ж! Добивай ты! Для вас это привычное дело! — ответил Гьика.
— Так вот тебе! — крикнул инспектор и прикладом ударил Гьику в грудь.
У Гьики потемнело в глазах, закружилась голова, но он собрал все свои силы, бросился на инспектора и вцепился ему в горло.
— Палачи, палачи! — дико закричал он.
За ним ринулись Петри, Бойко, Ндони, Селим Длинный и даже старый Шоро. Через минуту вся толпа бросилась на жандармов.
— Вот вам! Вот вам! Мерзавцы! Кровопийцы! — кричал Гьика и раздавал удары направо и налево.
— Огонь! — только успел выкрикнуть инспектор, оказавшись в самой гуще драки.
Кара Мустафа услышал приказ, но стрелять по толпе не решился — ведь в ней находились и его люди. Для острастки он выстрелил в воздух.
Этот выстрел переполошил село. Все устремились к Скалистому ущелью.
В представителей власти летели камни, кирпичи, комья земли.
— Кроме жизни, у нас отнять нечего! — воскликнул Гьика, и фуражка полицейского инспектора полетела в глину.
— Придет время, так поступим со всеми, со всеми! — крикнула старуха — жена Шоро, растаптывая фуражку. — А вы еще собирались обвинять мою дочь!
Со всех сторон сбегались крестьяне. Полицейский инспектор перепугался:
— Ой! Эти бандиты перебьют нас! — кричал он, не зная, как ему вырваться из рук Гьики.
Крестьяне и крестьянки тем временем палками, кирками и лопатами лупили жандармов.
Кара Мустафа решил, что настало время спасать полицейского инспектора. Еще раза два выстрелил в воздух и бросился к нему на помощь. Но Бойко, уже давно следивший из толпы за Лешим, подбежал, подставил ногу, и Леший со всего размаху хлопнулся на землю. Его окружили крестьяне и принялись избивать. Он ревел, как свинья, которую режут, а крестьяне били его и приговаривали:
— Леший, проклятый Леший! Подлая тварь! Долго ты нас терзал! Вот тебе! Вот тебе еще раз! И еще раз!
Начальник общинного управления господин Лако и Рако Ферра, увидев, какой скверный оборот приняло дело, пустились бежать что есть мочи.
— Ого, ого! Ату его, ату! — заулюлюкали им вслед крестьяне, а Ндони и еще двое парней погнались за ними.
Объятый страхом, господин Лако бежал, размахивая руками, как взмахивает крыльями недостреленная утка. На пути ему попался забор, он хотел через него перелезть, но зацепился полой пиджака за кол. Рванувшись изо всех сил, он наконец перемахнул через забор, но оставил на нем свой разорванный пиджак, который торчал, как пугало.
Ндони настиг Рако Ферра.
— Подожди, скотина! Нам еще надо с тобой посчитаться! — крикнул Ндони.
— Что я, бедный, сделал вам дурного, что я сделал?.. Сам бог мне свидетель… — дрожа от страха, залепетал Рако, показывая пальцем на небо. Но не успел он договорить, как Ндони сбил его с ног.
— Что ты сделал? Тебе нужно об этом напоминать? — со злостью крикнула Вита, тузя его палкой.
— В яму, в яму палача! Окунуть его в грязную воду! — крикнул кто-то.
Рако схватили и бросили в яму с водой.
— Ой, тону! Ой, захлебнусь! Боже, о боже! — орал Рако.
А юродивый Ламе прыгал у края ямы, хлопал в ладоши и громко хохотал:
— Ой, Фелла! Блуф! Ой, Лака Фелла!
Бледный как полотно староста подошел к Гьике с просьбой помочь прекратить драку и больше не трогать жандармов, иначе всему селу придется за это дорого расплачиваться! Но Петри, который в это время лупил жандарма, ногой ударил старосту в живот, и тот покатился, как бочка, и плюхнулся в ту же яму с водой, где уже барахтался Рако. Толпа захохотала.
Старуха Шумарица протиснулась через толпу с криком: «Дайте и мне вырвать хоть клок из шкуры этих палачей!» Схватила полицейского инспектора за воротник и порвала на нем мундир от шеи до пояса.
Как в конце концов угомонились крестьяне, даже и понять нельзя.
— Посмотрите на этих храбрецов! — послышались женские голоса.
По шоссе, без винтовок, без фуражек бежали оборванные, исцарапанные, все в синяках полицейский инспектор и его жандармы, а за ними Кара Мустафа.
— Мы вам покажем! Мы вас за это живьем сожжем! — грозились они, а сами продолжали бежать.
А Рако Ферра и староста барахтались в яме, как две недорезанные свиньи.
— Грязные псы, теперь вы на своем месте! — плюнул на них Гьика, и толпа с ненавистью продолжала глумиться над ними.
— Посмотрите, как плавают в луже эти волы!
Ребятишки окружили юродивого Ламе и, надрываясь от смеха, в один голос вместе с ним кричали:
— Блуф, блуф! Ой, Лака Фелла! Ой, сталоста!
Дом Гьики красовался своей новенькой крышей, а на холме Бели торчал только фундамент так и не выстроенной башни бея.
— Недалек день, когда мы тебе построим дом вон там! — обратился Гьика к Петри, показывая на холм правой рукой, с которой свисал оборванный рукав.
— А вот здесь будет стоять дом Рако! — добавил Бойко, глядя на разрушенную хибарку Стефо, который отдал свой строительный материал Гьике.
— Все так и будет, все сделаем, мы не одни! Нас миллионы! — с гордостью повторил дядя Эфтим слова болгарского матроса Явкова.
— Папа, папа! — послышался голос маленького Тирки; он только проснулся, и Рина вынесла его к отцу. Гьика, измученный, окровавленный, весь в поту, радостно посмотрел на сына.
— Папа, папа! — повторил малютка и протянул ручонки к отцу.
— Сынок! — улыбаясь, произнес Гьика, взял ребенка на руки и поднял его. Лучи солнца, поднявшегося из-за горных вершин, озарили лицо ребенка; от их яркого света на глазах у него выступили слезы.
Восходит солнце! Наступает утро!
И все крестьяне во главе с Гьикой Шпати, хотя и ждали приближения грозной бури, почувствовали, что в глубине их сердец наступило солнечное утро.
Солнце восходит!
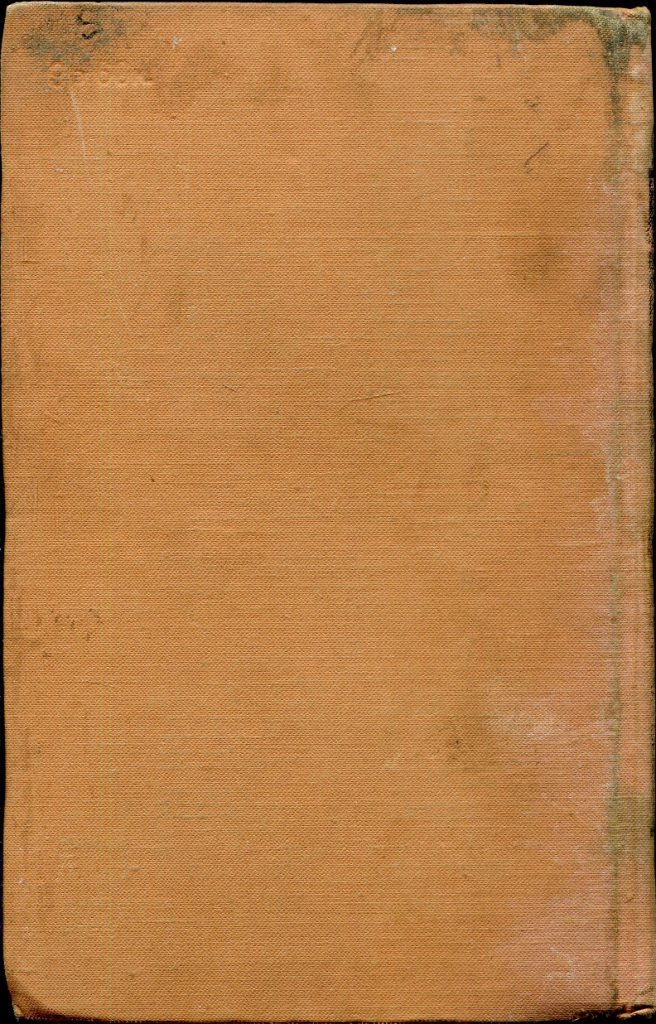 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Келешэ — албанский головной убор из белой шерсти, вроде фески. —
Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)
2
Беями называли в Албании крупных помещиков.
(обратно)
3
Софра — низкий круглый стол, вокруг которого сидят на полу.
(обратно)
4
Эфенди
(турец.) — господин.
(обратно)
5
Ага
(турец.) — богатый человек.
(обратно)
6
ОпИнги — обувь, напоминающая сандалии, которую носят албанские крестьяне.
(обратно)
7
Кьяхи — надсмотрщики, доверенные лица бея.
(обратно)
8
Раки — албанская фруктовая водка, чаще, всего виноградная.
(обратно)
9
Лек — албанская монета, равная 8 копейкам.
(обратно)
10
Сеймен
(турец.) — телохранитель, воин.
(обратно)
11
Бюрек
(турец.) — многослойный пирог с рубленым мясом и сыром.
(обратно)
12
Веленджэ
(турец.) — домотканое одеяло, заменяющее ковер.
(обратно)
13
Арманджилек
(турец.) — один из видов государственного натурального налога на крестьян в старой Албании.
(обратно)
14
Ок — мера веса, равная приблизительно 1,5
кг.
(обратно)
15
Пойяк — полевой сторож, подручный кьяхи.
(обратно)
16
Шиник — мера зерна, равная примерно одному пуду.
(обратно)
17
Талаган — крестьянская верхняя одежда с длинными рукавами.
(обратно)
18
Меджитэ — старинная турецкая монета.
(обратно)
19
Спахилек — один из видов натурального налога с крестьян в старой Албании.
(обратно)
20
Арнаутистан — турецкое название Албании.
(обратно)
21
Гег — житель Северной Албании, в отличие от тоска — жителя Южной Албании, где происходит действие романа.
(обратно)
22
Байрактар — первоначально вождь племени или рода на севере Албании, в описываемое в романе время — богатый помещик.
(обратно)
23
Дритас — по-албански хлеб. —
Прим. автора.
(обратно)
24
Баклава
(турец.) — сладкий слоеный пирог.
(обратно)
25
Имеется в виду период непосредственно после окончания первой мировой войны.
(обратно)
26
Джезве
(турец.) — специальный кофейник для приготовления кофе по-турецки.
(обратно)
27
Бузук и Богдан — родоначальники албанской литературы, поэты XVII века.
(обратно)
28
Джузеппе
Парини (1729–1799) — знаменитый итальянский поэт.
(обратно)
29
Чечо — албанский патриот, возглавивший в начале XX века народную борьбу против турок.
(обратно)
30
Михаль Грамено (1872–1931) — писатель и политический деятель, борец за освобождение Албании от турецкого ига.
(обратно)
31
Аскер — турецкий солдат.
(обратно)
32
Куртар яраби
(турец.) — пощадите!
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
ОНИ БЫЛИ НЕ ОДНИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
*** Примечания ***



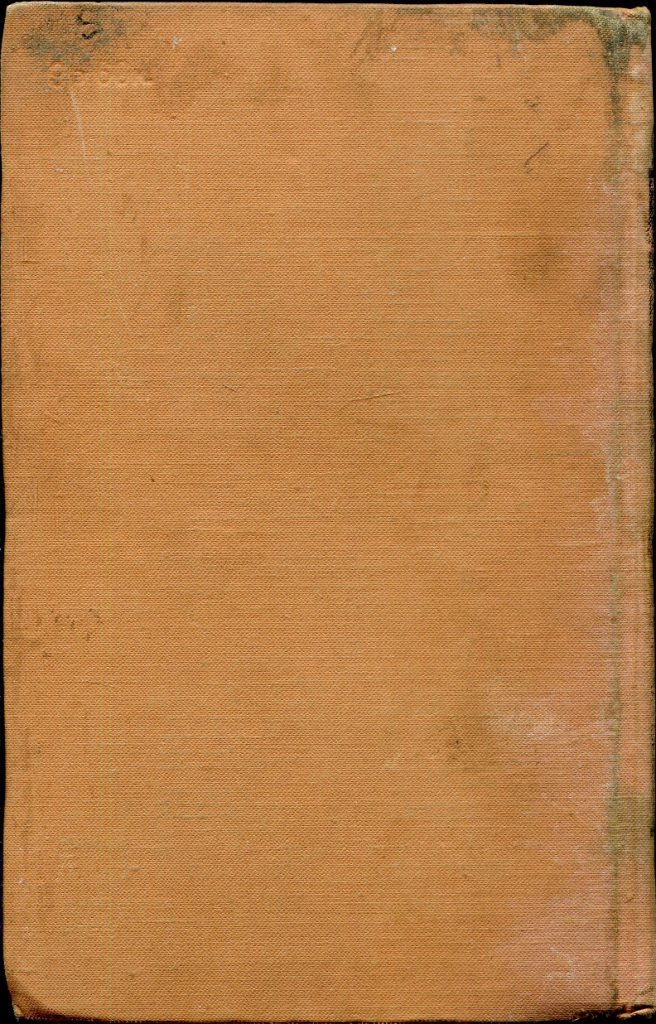 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.