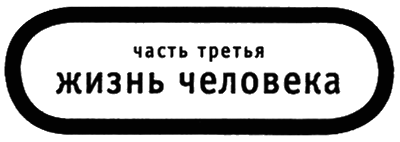Кодзиро Сэридзава

Классик японской литературы, председатель национального ПЕН-клуба Кодзиро Сэридзава соединил культурные традиции Востока и Запада, многие современники видели в нем духовного наставника. Его книги переведены на несколько десятков языков, за роман «Умереть в Париже» он был выдвинут на Нобелевскую премию.
Во время учебы в Париже Сэридзава заболел туберкулезом и после чудесного исцеления пережил внутренний переворот, осознав себя писателем, призванным «выразить в словах неизменную волю Бога». Будучи приверженцем религиозного учения Тэнри, он создал в последние годы жизни трилогию о Боге — удивительный сплав романного вымысла, дневника, мемуаров и мистических прозрений.
«Книга о Человеке» — второй (после «Книги о Боге») том этой необычной трилогии, где повседневные мелочи и актуальные политические события помогают автору-персонажу познать сверхчувственный мир, основанный на мистическом опыте писателя.
Издательство Иностранка
Предисловие: «Книга о Человеке»
После того как Кодзиро Сэридзава создал обобщающее все его литературное творчество автобиографическое произведение «Человеческая судьба», ему предстояло выполнить только одну задачу — раскрыть самую важную в жизни человека тему, то есть решить проблему Бога.
Сэридзава, для которого заниматься литературой значило «облекать в слова волю Бога», никак не мог пройти мимо этой проблемы. Однако в поисках Бога ему пока что не удавалось сделать еще один, решающий шаг, тем более что к религии (вернее, к религиозным организациям) он привык относиться скептически и даже отрицательно.
Но вот в восьмидесятидевятилетнем возрасте, когда он, потеряв жену Канаэ и сам испытывая полный упадок физических сил, целыми днями занимался тем, что приводил в порядок собственные дела, готовясь к смерти, с ним случилось нечто чудесное. Специалист по сравнительному религиоведению Кодайра знакомит его с юношей Юкинагой Ито (впоследствии Тэруаки Дайтокудзи), который, являясь ясиро — вместилищем — передает людям слова Бога. Ито часто навещает Сэридзаву и, взяв на себя роль посредника в его беседах с «живосущей госпожой Родительницей» (Основательницей учения Тэнри Мики Накаяма), требует, чтобы он своим творчеством оказал содействие Богу-Родителю в деле Спасения Мира. Сначала позитивист Сэридзава был настроен весьма скептически. Но вскоре его отношение изменилось. «Впервые живосущая Мики беседовала со мной через юношу Ито 9 октября 1985 года. С тех пор до начала февраля нынешнего года я слышал ее голос двадцать раз и каждый раз записывал его на пленку, чтобы потом можно было послушать снова. В конце концов я попросил своих близких перенести записанное на пленке на бумагу. Беседы с Мики многому научили меня, о многом заставили задуматься… Я поверил, что говорила со мной именно живосущая Родительница, иначе говоря — воскресшая Мики». «Сердцем чувствуешь звучание голоса, интонации, ритм речи… когда слушаешь речи живосущей Мики… то ощущаешь всю ограниченность учения Тэнри». Речи Родительницы были исполнены мощи Великой Природы, о которой когда-то во Франции Сэридзаве говорил его друг Жак.
И тогда он пришел к выводу: «Мой бог — это Великая Природа». Удостоверившись в существовании Бога, он снискал его расположение, и потекли дни жизни рядом с Богом.
Почувствовав себя совершенно здоровым, писатель начинает публиковать свое крупномасштабное произведение, продвигаясь вперед с поразительной быстротой: каждый год он выпускает по одному тому.
Вслед за «Книгой о Боге» появилась на свет «Книга о Человеке», которую он написал, свободно следуя собственной воле.
Исполнив великое трехступенчатое послушание, назначенное ему Богом-Родителем Великой Природы, писатель обрел способность свободно перемещаться между земным миром, или Миром явлений, и потусторонним миром, или Миром истинным.
Это означает, что, сохранив ощущения и сознание, свойственные человеку земного мира, он смог познать сверхчувственный «божий» мир, неведомый большинству людей. Мне представляется, что приблизиться к Богу Кодзиро Сэридзаве мешало то, что он был пленником своей «совести», мешали стереотипы мышления, бессознательно и вместе с тем упорно выстроенные им же самим.
Если главной темой «Книги о Боге» был Бог (три ее части уподоблены трем произведениям Иоанна Богослова — Евангелию, Посланию и Откровению), то главной темой «Книги о Человеке» становится жизнь человека, размышления о том, как должно жить человеку.
Первая ее часть называется «Счастье Человека» — тема полностью соответствует названию. Об этом вполне определенно говорится во второй части, озаглавленной «Воля Человека»: «…твоя книга, которую ты писал с надеждой сделать людей счастливее…»
В «Счастье Человека» действуют несколько групп персонажей, которые живут счастливо, следуя воле Бога. Одни персонажи — реально существующие, другие — вымышленные.
В центре повествования — прекрасные, умные женщины, некое олицетворение счастья, — Фуми Суда и Хидэко Накамура. Оба эти образа выписаны с такой достоверностью, настолько живо, что тут же возникает мысль о реальных прототипах, но на самом деле это вымышленные персонажи. В чем можно убедиться, читая книгу «Читатели, дети мои», в которой Macao Ямамото опубликовал свою переписку с Сэридзавой.
В своем письме от 18 августа 1989 года Ямамото высказывается вполне определенно: «В девятой главе я нашел воплощение того плана, о котором Вы мне говорили: „На этот раз я собираюсь сделать своими героинями двух никогда реально не существовавших женщин, обе они католички и ужасно счастливы“». Автор раза два бывал у Сэридзавы и, очевидно, имел возможность беседовать с ним о его творческих планах.
Фуми Суда — лингвист, она преподает в университете французский язык и языкознание. Хидэко Накамура — специалист по французской литературе и тоже преподает в университете. Обе счастливы в браке: муж первой — доктор медицины Дзюндзи Суда, второй — специалист по французской литературе Кадзуо Накамура. Обе они живут счастливо потому, что вслед за мужьями, «отбросив себялюбие, всю жизнь усердно выполняют свою работу, как веление Божье… бессознательно живут как люди Истинного мира».
Есть в книге и еще один персонаж — Итиро Кавада. Это глубоко верующий и вполне счастливый юноша, который в течение нескольких лет писал исследование на тему «Английский романтизм и Бог». «С головой уйдя в английскую литературу, он почти совсем перестал читать японскую, особенно современные романы. Но однажды, прочитав во влиятельной газете статью одного литературного критика о литературных новинках, в которой разбирался мой роман, он, по его словам, как будто прозрел». Ведь «он был убежден, что среди японских писателей нет таких, которые бы серьезно трактовали Бога».
Кавада немедленно купил «Улыбку Бога», прочел и пришел в такой восторг, что, дочитав, тут же взялся за «Человеческую судьбу», книгу, которую полагают наиболее значительным произведением Сэридзавы. Когда юноша прочел и ее, ему показалось, что «впечатление от прочитанного… дало ему ключ к решению уравнения под названием „жизнь“, так что отныне „Человеческая судьба“ и еще две книги, посвященные проблеме Бога, стали его Библией».
Небесный сёгун — одно из действующих лиц книги — произносит незабываемые слова: «Когда общаешься с людьми Истинного мира, старайся смирять свое сердце…» «…Общаясь с теми, кто услышал о пути Бога, с твоими читателями, ты должен стараться сделать все, чтобы приблизить их к Истинному миру».
В мысли о том, что надо смирять свое сердце, и заключен ключ к счастливой жизни. Будь скромен, воздержан, живи, преисполненный благодарности и радости, — вот что это значит.
И еще одно. «Счастье не зависит от обстоятельств, его нужно добиваться самому».
Из персонажей, имеющих реальные прототипы, можно назвать Я. из Окаямы. Это тот самый Macao Ямамото, о котором говорилось выше. «Он… является моим давним почитателем… его лицо как будто лучится, а слова западают в душу… наши души оказались настроены на одну волну». Сэридзава описывает его счастливую жизнь с женой. Видя в этой супружеской паре пример счастливых людей, Сэридзава пишет: «Каждый раз они представлялись мне образцом супружеской пары: жена верит только словам мужа, все другое пропускает мимо ушей, идет туда, куда ее ведет муж, и в этом видит свое счастье, а муж лелеет жену, как свою половину, относится к ней со всей искренностью и благодаря этому преуспевает в работе и обретает чувство собственного достоинства».
К счастливым людям, наверное, можно отнести и супругов Сэридзава.«…Моя жена в свое время решила, отбросив свои интересы, стать мне опорой, в результате чего у нас сложился счастливый брак». В этой сдержанной фразе проявляется благодарность писателя к своей жене, Канаэ.
Вот что сказала однажды автору госпожа Родительница: «Пребывая в Мире явлений, ты получил доступ в Истинный мир, единственный, кому за последние сто лет довелось испытать подобное… Это ли не чудо!» И я вполне с этим согласна. Не будет преувеличением, если я назову автора Сведенборгом XX века, имея в виду его мистический опыт, почерпнутый в Божьем мире и описанный в его творении о Боге.
В конце книги «Счастье Человека» помещено письмо, полученное автором от писателя Кэндзабуро Оэ 1 января 1989 года. В нем говорится, что он, Кэндзабуро Оэ, в литературе стремится к тому же, к чему всегда стремился Кодзиро Сэридзава.
Темой второй части — «Воля Человека» — является человеческая воля как таковая. В ней автор призывает людей быть стойкими и не отступаться от единожды поставленной цели.
«Ты сейчас собираешься писать? Это и есть проявление человеческой воли. Человек либо принимает решение и следует ему, либо пытается нащупать, в чем его призвание, понять, чего хочет от него Великая Природа, и в конечном счете жертвует своей волей. То есть прежде всего надо решить вопрос о том, как воля человека соотносится с его призванием».
Я процитировала слова, которые Сигэо Гото
[1] непосредственно слышал от самого Сэридзавы. Он посетил его в 1990 году, в пору, когда магнолия только-только покрылась нежной листвой, трепетавшей на весеннем ветру. Вот каким предстал тогда Сэридзава взору Гото:
«Войдя в комнату, я увидел сэнсэя. На нем были очки в желтой черепаховой оправе, волосы, совсем недавно еще бывшие серебряными, теперь, миновав эту стадию, отливали золотом. Как человек может быть прекрасен в старости — подумал я. В человеке, который способен так стареть, есть что-то сверхчеловеческое. И я это увидел». «Сэнсэй говорил тихим, спокойным голосом, — продолжает Гото, — и у меня возникло ощущение, будто и Бог и Будда сидят рядом со мной, будто все мы собрались здесь для беседы, причем я не видел в этом ничего странного. Такого состояния можно достичь, только живя в едином ритме с Природой и космосом».
Но, наверное, не каждый человек способен красиво стареть. Это дано только таким, как Кодзиро Сэридзава, тем, кто способен растрогать Бога своим любящим сердцем, своим смирением и ответственным отношением к человеческой жизни.
В своей книге Сэридзава рассказывает о людях, по-разному проявляющих свою волю. Это Ёсабуро, уроженец Ганюдо, выпускник Токийского университета, который становится служащим банка М., писатели Симадзаки Тосон и Ясунари Кавабата, а также названый брат автора, Гэнго Хякутакэ.
С Кавабатой Сэридзава был связан общей работой во Всемирном ПЕН-клубе: в 1957 году он был его президентом, а Кавабата — вице-президентом, тогда-то, через сорок лет после окончания Первого лицея, они и возобновили дружеские отношения. По словам самого Сэридзавы, его дружба с Кавабатой отчасти послужила стимулом к написанию «Человеческой судьбы». «Я преисполнился решимости стать писателем, достойным дружбы этого гения, и тогда же, осознав, что журналистика меня убьет, наотрез отказался от заказной работы и принялся писать роман „Человеческая судьба“». Так ли это было или нет, эти слова дают хотя бы примерное представление о настроении Сэридзавы того времени. В самом деле, когда у человека есть достойный соперник, он и сам начинает стремиться к совершенству.
«Всякий человек рождается, получив одно уникальное призвание от Великой Природы. В чем именно оно состоит, он начинает чувствовать еще в детстве. Но даже если работа выбрана с бухты-барахты, коль скоро сам человек считает ее своим призванием и выполняет с удовольствием, словно при осознанном выборе, он непременно добьется успеха и прославится в своей области. И напротив, если даже выбранная тобой работа суждена тебе Великой Природой, но делаешь ты ее без удовольствия, обязательно потерпишь неудачу, сломаешься посреди пути и умрешь молодым».
Так, сопоставляя себя, пораженного тяжелой болезнью, с гениальным Кавабатой, Сэридзава объясняет, почему человеку следует проявлять волю и добиваться своей цели.
Вспоминая же о Гэнго Хякутакэ, ставшем в Париже его названым братом и помогавшем ему в самых разных жизненных обстоятельствах, Сэридзава пишет: «Это не было с его стороны сиюминутным капризом, такова была его воля, и он ее осуществил, назвав меня своим братом». Он возвращается к этому снова и снова: «Я хотел показать на своем опыте, что, осуществив до конца свою волю, — чем бы мы ни руководствовались, любовью, правдой или просто искренним желанием сотворить чудо, — возможно сделать счастливыми двух совершенно чужих друг другу людей, различающихся и происхождением, и обстоятельствами жизни».
И еще, передавая людям желания Бога, он пишет:
«Бог, Родитель живущих в этом мире людей, независимо от того, добрые они или злые, верующие или неверующие, всех любит как Своих чад, знает все о каждом и страстно желает, чтобы все люди. Его чада, обрели счастье. Религия тут ни при чем. Достаточно возвыситься душой…»
Делается же это чрезвычайно просто. «…B условиях, когда в жизни существуют неравенство, неудовлетворенность, несчастье, — обратиться к Небу, поведать обо всем Богу-Родителю, помолиться, и упования исполнятся и жизнь каждый день будет в радость». И тогда «люди, живущие в Мире явлений, смогут жить так же спокойно и счастливо, как, люди в Истинном мире».
«…Необъятная, безграничная воля Великой Природы пронизывает всю многовековую историю…» «Все люди, хоть и не всякий это осознает, живут благодаря Великой Природе, более того, каждому Великая Природа дает свое особенное предназначение. Выполнить его возможно только трудом всей жизни. Если слово „предназначение“ кажется слишком напыщенным, можно сказать проще — профессия. Какая бы ни была у человека профессия, если он осуществляет ее на протяжении всей жизни, у него обязательно наступает чувство умиротворения, а это и есть, пусть неосознанное, удовольствие от исполненного предназначения. Поэтому, выбирая профессию, следует предпочесть любимое дело, а однажды избрав, ревностно отдавать ему все свои силы и знания. В этом и проявляется человеческая воля».
Именно в этих словах, как мне кажется, и сосредоточена главная мысль «Воли Человека».
В «Жизни Человека» автор постоянно возвращается к теме ценности жизни, которую человек получает в дар от Великой Природы. Жизнь дарована не только человеку. Всё — и деревья, и авторучка, и розовый куст наделены и жизнью, и чувствами, и душой.
В начале книги автор выражает свою радость по поводу падения 11 ноября 1989 года Берлинской стены, разделявшей Германию на Восточную и Западную. Сэридзава полагает, что это было событие, равное по масштабу мировой революции, и к тому же видит в нем приметы новой жизни, дарованной человеку Великой Природой.
Затем следует рассказ о том, как сам он, Кодзиро Сэридзава, получил от Бога новую жизнь. «В 1986 году я, накануне своего девяностолетия, лежал на смертном одре… и серьезно готовился к смерти… В это время на помощь мне пришла живосущая Мики Накаяма — госпожа Родительница. Она поведала мне… что если я силой своего пера буду содействовать Спасению Мира Богом, Он вернет мне здоровье, которое я имел в восемьдесят лет».
Кисть Сэридзавы запечатлела его и таким, каким он стал в январе 1990 года. «…C нынешнего года я почувствовал в себе перемену, как будто воспрял духом». «И однажды в начале марта с радостью осознал, что это значит — жить так, как живут люди в Истинном мире».
Далее автор описывает жизнь деревьев, растущих в его саду. И подробно рассказывает о самшите, которого до сих пор как-то не замечал. Этому самшиту более четырехсот лет. «Обычно деревья платят за благодеяния природы распускающимися весной цветами, принося осенью плоды. Самшит не может похвастаться плодами, зато его всегда густая листва выделяет большое количество кислорода, помогая жизни окружающих деревьев, — так он старается отблагодарить природу».
«Однако, с наступлением эпохи Хэйсэй, точно так же как в мире мыслящих людей произошла духовная революция, растительный мир возвращается к истинной природе, и заслуги самшита в моем саду получили всеобщее признание, более того, в природе установился порядок, и деревья стали почитаться в соответствии со своим возрастом». И каждое дерево «знает, что оно от природы получило свою жизнь».
Позволю себе добавить: считается, что самшит радует не только деревья, но и работающих в саду людей. Рядом с ним, говорят, легче дышится. Описывая характер разных деревьев, Сэридзава точно улавливает сущность самшита.
В третьей главе появляются Минору Айта и Митико Нобэ, которых можно считать главными героями книги.
Студента Токийского университета Минору Айту, который, прочтя роман «Человеческая судьба», отказался от мысли кончить жизнь самоубийством, Сэридзава называет своим духовным сыном.
Считается, что прототипом Митико Нобэ является писательница и христианская деятельница Мицуко Абэ.
В 1934 году Митико впервые посетила дом Сэридзавы, после чего ему приходилось время от времени читать рукописи этой женщины, мечтавшей стать писательницей. «Прочитав ее рукопись, я понял, что это не Итиё, но не мог бы утверждать, что девушке напрочь заказан путь в литературу». Постепенно Сэридзава стал открывать в Митико многочисленные достоинства, но ему так и не удалось помочь ей выдвинуться и стать писательницей. «Самым горестным было то, что я ничем не мог ей помочь в тогдашнем ее положении». Потом Митико вышла замуж за старшего сына японского представителя всемирной христианской организации, и на ее долю выпало немало мытарств, но «в Митико Великая Природа вдохнула новую жизнь, дав возможность начать жить по-новому».«…Может быть, жизнь, отданная вере и проповеди, скрадывает годы…» — пишет Сэридзава, видя в Митико человека, идущего в ногу с Богом.
Когда читаешь эпизоды, где Митико непосредственно ощущает присутствие Бога, это ее ощущение настолько передается тебе, что невольно душа твоя очищается.
Сэридзава был поражен, узнав от пребывающего в Истинном мире Жака, что Минору Айта — очень известный в Америке лингвист. Айта не очень высоко ставит литературный талант Митико Нобэ, возможно, такого же мнения придерживается и сам Сэридзава. Однако, что бы ни ощущал сам человек, великодушная «природа каждому дает подходящую ему роль».
Айта вскоре получает место профессора филологии в американском университете С. Он, так же как и Сэридзава, знает: «Чтобы сделать жизнь долгой, надо отбросить своекорыстие и эгоизм».
Ясиро, юноша Ито, наделен многочисленными способностями — он мог бы заниматься музыкой, живописью, каллиграфией, чайной церемонией, танцами, но его предназначение — работать на Бога. Именно этому его и обучают. «Когда он пришел в начале июля этого года, я, едва увидев его, был потрясен до глубины души, насколько возмужал его характер».
23 ноября 1990 года Бог дает юноше Ито новый дом в Югаваре — «Небесную хижину» — и новое имя: Тэруаки Дайтокудзи.
Одно из самых ярких мест в книге — эпизод, когда Тэруаки Дайтокудзи, облачившись в лиловое кимоно, говорит о своей решимости жить жизнью Бога: «Пока не пресеклась душа, пусть даже погибнет плоть… буду трудиться ради всеобщего блага вместе с госпожой Родительницей». Это что-то вроде тайного ритуала, и то, что он с такой страстностью описан автором, свидетельствует о большой любви, связывающей Бога-Родителя с Сэридзавой.
При этом писатель предостерегает: «Ужасно, если ясиро — Тэруаки Дайтокудзи сделают объектом поклонения и будут относиться к нему как к особенному человеку потому, что он выполняет работу Бога». Эти строки говорят о том, что Сэридзава не утратил ни своей холодной рассудительности, ни чувства меры, с этим у него по-прежнему все в порядке.
Духовный рост наблюдается и у самого Сэридзавы. Прочитав начало десятой главы, ощущаешь единство между его душой, обретающей все большую легкость, и Космосом. «…Ясная, чистая лазурь — кажется, что именно в такой цвет окрашено мироздание». «Чудилось, что небесная лазурь вот-вот поглотит меня».
Вероятно, такого рода глубокие ощущения непременно возникают у человека, проникшего в тайну, в истинную суть мироздания. «Наконец-то ты уничтожил свое „я“. Возрадуйся!» — так реагирует на это Великая Природа.«…Что это было — высшее блаженство или творческий восторг? При всем своем желании я бы не мог ни с кем поделиться тем, что испытывал», — пишет Сэридзава.
В двенадцатой главе появляется некая госпожа Г., жена крупного промышленника. Она терзается, считая себя виноватой в том, что ее старший сын попал в Америке в автокатастрофу. Не случайно эта женщина оказалась в доме Сэридзавы. Она пришла за утешением, которое может дать ей госпожа Родительница: «…путь страданий уже закончился, дальше будет только хорошее!» Глубоко сочувствуя госпоже Г., Сэридзава констатирует: «Ныне я, подобно Великой Природе, только безмолвно изливаю солнечный свет». Вот вам истинная любовь как таковая — безмолвная и бескорыстная. Уничтожив все, что относилось к его «я», Сэридзава достиг тех пределов, когда можно просто радоваться тому, что живешь, и воссылать благодарность за это.
И конечно, невозможно не упомянуть описание четырех розовых кустов в конце книги. Эти кусты в течение тридцати с лишним лет весной и осенью радовали обитателей дома прекрасными цветами, однако «последние несколько лет они заметно постарели… В конце прошлой осени я подумал, что розы уже не будут больше цвести, и скрепя сердце решил их срубить, но неожиданно два куста распустились чудесными алыми цветами, крупнее и прекраснее прежних. Это на прощание… Я был глубоко тронут мужеством роз, на глаза навернулись слезы, я приблизил лицо к алым цветам и напоследок насладился их ароматом».
Четыре розовых куста, которые цвели из последних сил, стараясь исполнить свое предназначение, и сила любви Кодзиро Сэридзавы, сумевшего это понять, — эти строки невозможно читать без слез.
В саду Сэридзавы, главой которого является самшит, сохранен мир и порядок, за что обитатели его преисполнены глубокой благодарности к Богу-Родителю Великой Природы.
Норико Нономия
КНИГА О ЧЕЛОВЕКЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Счастье Человека

Глава первая
Начало нынешнего года (1988) выдалось теплым. Ни разу не подморозило, и казалось, вот-вот холода отступят окончательно.
Завершив «Замысел Бога», последний том давно обещанной Богу-Родителю трилогии, работа над которой сильно затянулась, я смог наконец вздохнуть с облегчением. После долгого перерыва я вышел днем в сад. В шерстяном свитере на солнце было жарко, точно весной.
Я направился к магнолии, чтобы полюбоваться первыми побегами сурепки, растущей под ее сенью.
Однако передо мной был пустырь и никаких признаков растительности. Невольно я обратился к магнолии:
— Послушай, что случилось? Ведь в эту пору здесь всегда так красиво пускала побеги сурепка!
Ответа не последовало.
— Старшина сада! Нынче стоят на редкость теплые дни. Почему же не цветет сурепка, занесенная в мой сад завирушками?
И вновь — нет ответа.
Похлопав толстый ствол магнолии, я еще раз воззвал:
— В чем дело? Неужто ты задремала, пригревшись на солнышке?
Рассмеявшись, я присел на камень, наслаждаясь припекающими лучами. Справа зимняя камелия стыдливо прятала в листве красные цветы. И вдруг я вспомнил. Осенью позапрошлого года я уже обращался к старшине сада. Вот что я тогда сказал ей:
«Прежде, заходя в сад, я часто болтал тебе всякий вздор, ты уж извини, всему виной моя неврастения. Спасибо, что не чуралась моей компании, но, видать, неврастения перекинулась и на тебя!.. Теперь же, когда я наконец выздоровел, выходя в сад, я больше не буду делать вид, что беседую с деревьями, а потому и тебе, ставшей вновь обыкновенным деревом, не след заговаривать со мной…»
Вспомнив об этом, я вновь подошел к магнолии и, запрокинув голову, сказал:
— Когда-то я предложил прекратить наши беседы, достойные неврастеников. И я держался почти полтора года… Но поскольку мы оба обрели душевное здоровье, не возобновить ли нам наше безмятежное общение?.. Скажи, разве не пришла пора пускать побеги сурепке, семена которой каждый год заносят сюда завирушки?
Произнеся это как можно проникновенней, я замолчал, но ответа так и не дождался. И вдруг я с удивлением заметил странную вещь. Прежде листва магнолии была столь густой, что закрывала все небо, сейчас же, точно по ним прошлись садовыми ножницами, листья поредели, открывая взору небесную синеву. Неужели магнолия больна? Я немного продрог и направился обратно в свой кабинет, решив, что магнолия отмалчивается неспроста. Но когда я уже подходил к дому, меня окликнула старая алая слива:
— Сэнсэй, можно с вами поговорить?
— Не только можно, я буду очень рад.
— Магнолия обиделась, поэтому и не отвечает.
— Обиделась?.. На кого?.. Почему?.. Когда?..
Слива некоторое время молчала в нерешительности, но потом, точно собравшись с духом, сказала:
— Начну с самого начала. Прошлой осенью, на третий день после того, как садовник закончил работу, магнолия сказала мне: «Наш сад уже не тот, что раньше. Не вижу, какой смысл мне оставаться старшиной сада, вот только жаль других деревьев, поэтому прошу тебя, стань старшиной вместо меня…» Я старше магнолии и готова исполнять обязанности старшины сада, но все же спросила, что ее так разобидело. Выслушав, я поняла, что обида ее вполне обоснованна, и, сочувствуя, вняла ее просьбе, так что и поныне я старшина…
— Но объясни, в чем суть обиды?
— Это не так просто, боюсь, вам не понять. То, что для магнолии жизненно важно, вам может показаться пустяком.
— Извини за настойчивость, но не расскажешь ли без всяких околичностей?
— Прошлой осенью во время садовых работ, как я слышала, вы запретили садовнику подстригать деревья в заднем саду, велев оставить их в естественном виде. Это правда?
— Да, я распорядился ничего не делать в заднем саду — из экономии.
— Узнав об этом, магнолия, бывшая тогда нашей старшиной, возрадовалась. Думаю, вам не трудно понять, что для деревьев нет большего счастья, как расти естественно, согласно своей природе. Поэтому у нас появилась надежда, что и с деревьями в переднем саду отныне будут обращаться иначе…
Сказав это, слива немного задумалась, но потом вновь продолжила свой длинный рассказ. Она напомнила о том, что, когда я, отстроив этот дом на пепелище, занялся садом и позаботился, чтобы в нем высадили магнолию и сливу, всем этим, по счастью, занимались садовники, отец и сын, которые знали толк в садовом искусстве, хорошо понимая душу природы и деревьев.
Когда по прошествии двух лет отец внезапно скончался, сын принял на себя его обязанности и, что бы ни случилось, будь то ураган или ливень, тотчас спешил в сад, чтобы всячески позаботиться о деревьях. Благодаря ему одряхлевшая слива, хоть и стала трухлявой от корня до ствола, не падала, напротив, точно возродившись, пустила множество новых боковых ветвей, распускавшихся цветами. Во всей Японии было не сыскать таких замечательных садовников, но, увы, вскоре безвременно скончался и сын… С той поры сменилось немало садовников, но все как один оказались дилетантами, деревья хирели. И вот наконец появился нынешний молодой садовник. Он только недавно окончил специальный садоводческий колледж, и потому деревья, хоть и не без некоторых опасений, все же питали надежду, что теперь-то для них настанет новая эра.
Однако молодой садовник со своим подручным за весь год появился в саду лишь дважды — в сентябре и в середине зимы. В сентябре он за пять дней обработал деревья, а зимой за два дня внес удобрения… Деревья пришли в ужас от его методов, совершенно не похожих на то, как с ними обращались прежде. Этот молодой господин для ухода за деревьями вместо садовых ножниц пользовался электропилой. Вечнозеленые деревья точно побывали в парикмахерской. Не успели они опомниться, как их оболванили, подкорнав ветви с листьями. Только магнолия и старый дуб в восточной части сада избежали общей участи, и то потому, что из-за их высоты трудно было достать электропилой верхние ветки. Все другие вечнозеленые деревья, как только на них набрасывались с электропилой, не могли сдержать горестных слез. В результате с приходом нового садовника все эти деревья через пару лет утратили свой прежний вид, приняв шарообразную форму. Может быть, для человеческого взора это и красиво, но для сада — прискорбно и противоестественно. А вот о деревьях, сбрасывающих зимой листья, таких как сливы, садовник не слишком заботился, предоставив их своему подручному, человеку старой школы, благодаря чему они избежали электропилы и сберегли свой прежний вид.
Что касается зимних удобрений, то в прежние времена никто этим не занимался, когда же появились садовники, они для деревьев, нуждающихся в подпитке, готовили компост из прелых листьев и сорняков в специальной яме на заднем дворе. Но теперешний господин совершенно пренебрегает компостом и без разбора щедро наваливает деревьям всякую гадость, называемую химическими удобрениями. Завершив садовые работы, он посыпает землю сильнодействующими химикалиями, уничтожающими сорную траву, разбрасывает яд, убивающий насекомых. Будучи старшиной сада, магнолия всякий раз тревожилась, считая это противоестественным, и делилась своими опасениями с другими деревьями. Но они успокаивали магнолию, говоря, что садовник — знаток своего дела, беспокоиться не о чем.
Прошлой осенью, узнав о моем распоряжении не трогать деревья на заднем дворе и дать им расти естественным образом, магнолия возрадовалась. Она решила, что я осознал благость природы и отныне, избегая искусственных методов, позволю деревьям в переднем саду развиваться естественно. Все другие деревья также были рады, но методы садовника отнюдь не претерпели изменений. Едва деревья вздохнули с облегчением, решив, что его работа закончилась, как на следующий день он вновь явился со своим подручным, приставил к магнолии длинную лестницу и, не имея возможности пользоваться электропилой, безжалостно срезал ножницами и ручной пилой ее ветки и один за другим ее великолепные листья, точно обрил наголо. На следующий день та же участь постигла старый дуб.
— Какое уж тут возвращение к природе! Не зря магнолия затаила обиду! — воскликнула слива и спросила меня напрямую: — Признайтесь, было ли это сделано по вашему распоряжению?
— Да нет… Я привык во всем полагаться на специалистов, вот и в уходе за садом я во всем доверился специалисту-садовнику…
— Значит, вы здесь ни при чем.
— В то время я с головой ушел в работу над третьим томом трилогии и даже ни разу не вышел в сад, когда там был садовник. Жаль, что так получилось с магнолией.
— Вы меня успокоили. Что ж, возвращайтесь в свой кабинет и приходите в сад вечером. Я за это время поговорю с магнолией и постараюсь ее утешить. Надеюсь, и вам тогда, как в прежние годы, удастся найти с ней взаимопонимание. Иначе нам всем неспокойно.
— Хорошо, будьте так любезны, — сказал я и вернулся в свой кабинет.
Из окна его виднелась магнолия — облысевшее дерево выглядело печальным и несчастным. Я был полон раскаяния, понимая, что виной его несчастья моя подлая натура бедняка.
Прошлой осенью садовник явился через два дня после того, как моя младшая дочь отправилась в Судан. Ее мужа перевели в Судан по службе, и перед отъездом они, вместе со своей единственной дочерью, моей внучкой, почти месяц прожили в моем доме. Пока я проводил лето на даче в Каруидзаве со своей третьей дочерью, супруги, живя у меня, перестроили ванную и озаботились ремонтом дома, но, разумеется, платить за все пришлось мне, а для старика со скудными доходами это довольно тяжелое бремя. Накануне прихода садовника я получил от властей района Накано благотворительную пенсию. Деньги хоть и небольшие, но я был рад, поскольку никак на них не рассчитывал.
Однако на следующее утро, когда я увидел садовника, при мысли, что почти половину этой суммы придется отдать ему, во мне взыграла моя врожденная скупость. Разве позволительно мне, старику, получающему от государства пенсию, тратиться на благоустройство сада? Вот почему, в целях экономии, я попросил садовника не трогать деревья в заднем саду, оставив их расти так, как им дано от природы. Надо было прямо сказать ему: я на мели и вынужден экономить на излишествах, но, по своей склонности пускать пыль в глаза, я этого не сделал.
По словам садовника, в Токио остается все меньше домов с садом, поэтому, дорожа клиентурой, он составил годовой план, назначив для каждого дома свой срок, и следует ему неукоснительно, чтобы никого не беспокоить понапрасну. В моем саду он наметил работать в течение пяти дней начиная с десятого сентября. Коль скоро я велел ему не трогать деревья в заднем саду, на все про все ему понадобилось от силы три с половиной дня, после чего он не знал, чем заняться. В результате, чтобы не сидеть полтора дня сложа руки, он обкорнал магнолию и старый дуб.
Словом, моя скупость, моя отвратительная склонность к показухе привели к тому, что величественные деревья превратились в жалких лысых уродцев. Известно, что магнолия особенно гордится своей красотой. Недаром в знаменитом американском романе «Унесенные ветром» с ней сравнивают главную героиню Скарлетт О’Хару. И действительно, крупные белые цветы магнолии, издающие тонкий аромат, славятся благородством и изяществом. Но и само дерево с большими глянцевыми листьями выглядит величественно, поэтому его так любят в Америке и высаживают в парках. Посадив магнолию в переднем саду, я втайне ощущал самодовольство и, выделяя ее среди прочих деревьев, обращался с ней как со старшиной сада. Так что не зря гневалась магнолия, когда ее унизили, обрив наголо наподобие жалкого кустика. Глядя на нее из окна кабинета, я испытывал угрызения совести.
Вечером я вышел в сад. Только спустился с крыльца, как меня весело окликнула старая слива:
— Сэнсэй, не беспокойтесь. У магнолии улучшилось настроение.
— Я рад. Спасибо.
— Если позволите, я бы хотела вам еще кое о чем рассказать, — добавила слива многозначительно.
Я невольно остановился.
Магнолии не понравилось то, что садовник подстриг все вечнозеленые деревья под одну гребенку, придав им шарообразную форму. Слива упомянула об этом еще утром, сейчас же она остановилась на этом подробнее. До войны слива росла на заднем дворе графской усадьбы, расположенной в километре отсюда, на холме Касюэн, и все вечнозеленые деревья в обширном графском саду были, как и здесь, подстрижены шарообразно. Отец графа в начале эпохи Мэйдзи
[2] ездил учиться в Европу и был потрясен красотой французских садов. Вернувшись на родину, он решил разбить у себя сад на французский манер и, после долгих трудов, добился желаемого и очень гордился своим успехом. Во время войны графская усадьба сгорела в результате бомбардировок, а после войны и прекрасный обширный сад был распродан на отдельные участки.
Так вот, слива втайне гордилась тем, что мой сад в его нынешнем виде, хоть и не велик, напоминает тот былой графский сад, так сказать, щеголеватый графский сад в миниатюре, а создать его смог именно нынешний садовник, который окончил специальный колледж и владеет техникой западного садового искусства. К тому же я и сам долго учился во Франции, и такого рода сад должен был прийтись мне по вкусу, поэтому магнолия боялась, что, если выкажет неудовольствие, ее изгонят из сада. Все как будто разъяснилось, но слива еще добавила, что магнолия умоляла обратить мое внимание на то, что даже в графском саду большие деревья вроде магнолии и дуба не стригли наголо, нынешний садовник допустил очевидную оплошность, которую в будущем повторять не следовало бы. И еще. В графском саду такими, как слива, цветоносными деревьями особенно не дорожили, поэтому она, слива, никак не смеет претендовать на то, чтобы быть старшиной сада, и готова уйти в отставку, чтобы, отбросив тревоги, старшиной вновь стала магнолия и я, как прежде, мог вести с ней беседы. Магнолия согласна, так что никаких проблем не предвидится.
— Вот как? Спасибо тебе, — сказал я и направился к магнолии.
Подойдя, я запрокинул голову и сказал:
— Прошу прощения, я виноват — недоглядел.
— Я вижу, слива вам обо всем рассказала, так что давайте с этим покончим.
— Ладно, только больше не грусти.
— Сэнсэй, посмотрите на растущую рядом камелию. Еще до войны, окруженная заботой, она цвела здесь во всей своей красе. Во время бомбежек она сильно пострадала, и все были уверены, что погибнет, но в последующие годы она точно воскресла, пустив новые побеги из засохшего корня. К тому времени, когда вы начали строить свой дом на пепелище, ее высота уже достигала трех метров. Поскольку она мешала рабочим подвозить строительные материалы, они хотели ее срубить, но сделать это оказалось не так просто, в результате только изрядно ее помучили… Когда дом был построен, вы занялись садом и пересадили меня сюда, на камелию невозможно было смотреть без жалости. Впрочем, я и сама в то время была не намного счастливее, так что нам оставалось лишь делиться сочувствием и подбадривать друг друга. Нам повезло. Тогдашние садовники, отец и сын, принадлежали к старой японской школе. Благодаря им мы смогли набраться сил, разрастись, достигнуть великолепной формы и распускаться прекрасными цветами. Особенно цветы камелии, белые, с бледно-розовым оттенком, притягивали взоры людей. Гости, приходившие в пору цветения, едва войдя в ворота, все, как один, пораженные красотой камелии, ахали от восхищения… Небеса даровали нам двадцать лет покоя, когда все мы были счастливы, но вот отец и сын умерли… Явился этот высокообразованный юноша, разбирающийся в западном садовом искусстве, и первым делом подстриг вечнозеленые деревья, придав им на иностранный манер щеголеватую шарообразную форму. К сожалению, он и камелию изуродовал, неосмотрительно срезав у нее ветви, дающие цветы. А ведь бедняжка так гордилась своей красотой! Теперь же, захиревшей, потерявшей способность цвести, в пору цветения ей остается только одиноко плакать. И никому до этого нет дела…
— Вот, значит, как все было… Понятно. Но теперь, когда тебя уже остригли наголо, я могу лишь попросить прощения.
— Не будем больше об этом, вы уже все обсудили со сливой. Я бы только хотела задать вам один вопрос. Можно?
— Ну конечно, задавай.
— Мы, деревья, живем благодатью природы. Поэтому мы хотим, чтобы садовник обращался с нами, следуя природе. Прежние садовники, отец и сын, может, и были старомодными, но нас они устраивали, ибо понимали природу. Напротив, новый садовник, при всей своей образованности и «продвинутости», предпочитает искусственность и пренебрегает природой. Нет, не подумайте, я его не осуждаю. В прошлом сентябре он по вашему распоряжению не стал трогать сад на заднем дворе, оставив его расти в соответствии с природой. И я прошу вас, в нынешнем сентябре, прежде чем придет садовник, сравните естественно растущий задний сад с искусственно ухоженным передним. Этой зимой садовник наверняка опять будет вносить удобрения, хотя год выдался необыкновенно теплым. Прошу вас, остановите его. Не позволяйте ему сыпать химикалии и разбрызгивать яд! Химические удобрения все равно что лекарства, которыми врачи пичкают людей. Они только наносят вред своими побочными эффектами.
— Да, согласен.
— Вы меня успокоили… Посмотрите, сэнсэй. После того как нас с дубом обстригли, перестали прилетать птицы. Наверняка из-за того, что на ветвях не осталось листьев, и им некуда прятаться. Мы с дубом всячески зазывали их, но даже воробьи и те нас гнушаются. Сегодня утром вы подошли узнать, не появились ли побеги сурепки… Но в этом году завирушки не прилетели и не принесли в своем помете семян, поэтому никаких побегов и нет.
— Вот оно что… Видно, впредь мне следует внимательней прислушиваться к твоим советам. Надеюсь, ты, как прежде, станешь старшиной сада.
— Дело вот в чем. Слива старше меня по возрасту, поэтому ей подобает быть главной, но наши друзья воспротивились, они считают, раз слива не пострадала от рук нового садовника, ей не понять наших проблем. Я и в прошлый раз стала старшиной сада после долгих уговоров сливы и заручившись общим согласием. Ну так вот, я прошу вас до сентября понаблюдать за передним и задним садом. Быть может, тогда вы осознаете, как важно следовать природе.
— Хорошо, хорошо, согласен, — сказал я и отошел от магнолии, впервые задумавшись, сколь похож мир деревьев на мир людей.
Несмотря на данное обещание, я бы вряд ли нашел в себе силы постоянно наблюдать за садом, выходя для этого из дома.
Впрочем, любоваться передним садом можно было с террасы, которая находится на втором этаже за большой стеклянной дверью, с южной стороны кабинета. А через широкое окно в северной части кабинета, даже не вставая из-за стола, можно видеть задний сад. Так что я без особых хлопот мог созерцать одновременно оба сада.
Вообще-то задний сад был довольно тесен, но казался обширным благодаря прилегающим землям соседнего запущенного имения, отделенного от нас невысоким земляным валом.
Соседнее имение принадлежало семье маркиза с большими связями при дворе императора.
Во время бомбежек дом сгорел, после войны имение пошло с молотка, и, когда упали цены на недвижимость, кто-то приобрел его по дешевке. Однако уже больше сорока лет имение почему-то пустовало. Примерно год назад участок вдоль шоссе, немного благоустроив, превратили в автостоянку. Но земли, прилегающие к моему заднему саду, не тронули, и вскоре они заросли диким кустарником, отчего мой сад и стал казаться шире. У самого шоссе стоит огромный старый дуб, из моего окна его не видно. Дуб этот уцелел во время бомбардировок и ныне, простирая могучие ветви, взирает сверху вниз на проезжающие по шоссе машины и пешеходов.
Этот дуб — мой задушевный друг. Вот уже четыре года, как, возвращаясь с прогулки, я прохожу через ворота заброшенного участка и слушаю рассказы старого дерева о его долгой жизни и истории этих мест, начиная с эпохи Токугава
[3]. Я даже обещался написать рассказ под названием «Беседы поэта и древнего дуба», но пока не доходят руки. В ветвях старого дерева охотно отдыхают и звонко щебечут стайки разных пичужек. Прежде, отдохнув, они перелетали на магнолию, растущую перед моим домом. Я догадался, что и стайки завирушек, приносивших семена сурепки, вначале садились на ветви старого дуба, после чего, рассудив, что сурепке вольнее будет расти в моем саду, перелетали на магнолию.
Таким образом, не выходя из кабинета, рассеянно поглядывая то на передний, то на задний сад, я должен был признать справедливость жалобы магнолии: птицы не садились на ее ветви из-за того, что с нее состригли листья.
В тот же вечер позвонил садовник: мол, пора вносить удобрения, но зима выдалась теплая… Ухватившись за его слова, я с легким сердцем ответил, что в этом году можно обойтись без удобрений. А в мыслях у меня было — хорошо, что я смог-таки угодить магнолии!..
На следующий день я выглянул из окна кабинета в сад. Прежде всего в глаза бросались два наголо обстриженных дерева, но я заметил, что и весь сад выглядит как-то особенно уныло. Может, из-за того, что не прилетают птицы, подумал я и тотчас заметил, что даже обычных воробьев и тех не видать. Только одичавшая толстая кошка с бурой шерстью, пригревшись на солнцепеке, спала, свернувшись, на садовом камне.
На электропроводах, протянутых над шоссе, сидели какие-то две птицы, покрупнее воробьев. Они явно рассматривали мой сад, и у меня невольно забилось сердце при мысли, что они собираются перелететь на ветви магнолии. Но увы, одна птица вскоре куда-то упорхнула, а вслед за ней скрылась и другая. Надеясь, что они полетели звать своих сородичей, я долгое время продолжал вглядываться в ожидании, но птицы так и не вернулись.
Ближе к вечеру, выйдя в сад, я подошел к магнолии и сообщил ей о своем разговоре с садовником по поводу зимних удобрений. Увидев, что магнолия обрадовалась, я как бы между прочим добавил:
— Брось печалиться, что тебя обстригли. Лучше попытайся как-нибудь приманить птиц. Может быть, ты знаешь, как это сделать?
Ответ последовал не сразу. Я уж было подумал, что магнолия все еще сердится, но она все же ответила решительным тоном:
— Сказать по правде, птицы меня уже не волнуют. Мне не до них. Меня тревожит, смогу ли я в своем нынешнем виде украситься великолепными белыми цветами. Густая сочная листва, покрывавшая мои ветви, призывала на меня небесную благодать, распускавшуюся пышным цветом. А теперь, когда меня сделали лысой, эта жалкая листва, похожая на реденькие волосенки, разве достойна небесной благодати? Вот что меня заботит днем и ночью, об этом я беседую со своими натруженными корнями, это меня мучит, это тревожит, а вовсе не какие-то там птицы.
— Не стоит все воспринимать так трагически! Такое могучее дерево!..
— Сэнсэй, в этих белых цветах вся моя жизнь! Если они не распустятся, мне лучше умереть.
— Если они и впрямь не расцветут в этом году, подождем до следующего. Глядишь, к тому времени и листья вновь отрастут, тогда уж наверняка и твои прекрасные белые цветы распустятся. Не надо впадать в отчаяние. Ведь ты моя гордость.
С этими словами я удалился, но решил, что лучше не волновать понапрасну старое дерево, и, выходя в сад, старался обходить его стороной.
И все же мне было грустно, что воробьи перестали залетать в сад, поэтому, попросив у домашних хлеб, я рассыпал крошки на лужайке перед столовой.
В нынешнем году зима поначалу была теплой, но вдруг дохнуло холодом и установились довольно студеные дни. Родичи опасались, что для меня, девяностодвухлетнего старика, простуда могла оказаться смертельной, да и меня самого не особенно тянуло на холод, поэтому я совсем перестал выходить в сад, ограничиваясь прогулками по дому. Мои сказали, что воробьи охотно слетаются на хлебные крошки, поэтому как-то раз после обеда я подошел к стеклянной двери в столовой и посмотрел через стекло на лужайку.
В самом деле, прямо передо мной несколько воробышков энергично клевали хлебные крошки. Присмотревшись, я заметил, что две птицы — судя по их размерам, родители — клевали не так усердно, а вот четверо других, их милые детки, делали это с каким-то самозабвением.
Тем временем воробьиха выступила вперед и что-то сообщила птенцам, но птенцы остались возле хлебных крошек. Вскоре воробьиха, громко щебеча, вспорхнула, и два птенца, взмахнув крылышками, последовали за ней. Было видно, что они еще не вполне научились летать, но все же, не отставая, улетели вместе с ней. Взрослый воробей озабоченно расхаживал вокруг оставшихся птенцов, но вдруг и он, встрепенувшись, приготовился взлететь.
Все произошло очень быстро. Бурая дикая кошка, до сих пор спавшая на садовом камне, пригревшись на солнышке, возле сливы, внезапно сцапала одного птенца.
От удивления я затаил дыхание и онемел. Дикая кошка, одним махом проглотив птенца, лениво потягивалась как ни в чем не бывало. Между тем воробей-отец, видимо, успел позвать оставшегося птенца и заставил его взлететь, потому что они уже сидели в безопасности на проводах, протянутых над шоссе, и смотрели в сторону садового камня.
Не в силах оставаться безучастным, я отворил стеклянную дверь и с криком: «Ах ты убийца!» — бросился вперед. Дикая кошка, только что на моих глазах съевшая птенца, метнувшись, убежала на задний двор. Взглянув на провода, я заметил, что и воробьи уже улетели.
Дочь была так поражена моим яростным порывом, что мне пришлось вкратце рассказать ей о том, что я видел.
— Разве в этом состоит закон природы, называющийся борьба за существование, — заключил я, возмущенный. — Я еще допускаю, что когда кошка ловит и съедает мышь, это — закон природы, но питаться воробьями — против природы!
Тогда дочь напомнила мне события двадцатилетней давности. В соседних разрушенных домах осталось много брошенных хозяевами кошек, родившиеся от них котята одичали и стали забредать в наш сад, ставя нас в трудное положение. Никто из моих домашних не любит кошек, и забредавших животных мы неизменно прогоняли. Однако как-то раз кошка демонстративно уселась на ступенях главного входа с большой крысой в зубах, мол, взгляните, какая я молодчина. Обнаружившая ее третья дочь принялась кричать, но та, положив крысу, не двигалась и не убегала. На крики вышла жена. Она похвалила кошку, зарыла трупик крысы в углу сада, но все же не стала ее прикармливать. После этого ни у кого из нас не прибавилось любви к этим животным, но поскольку в соседних пустующих домах развелось множество крыс, дикие кошки нам особенно не досаждали. Через какое-то время крысы в округе, по-видимому, повывелись, да и люди прекратили бросать кошек, так что о них в нашем доме стали забывать. Однако, с тех пор как Япония стала слыть богатейшей в мире страной, в нашем саду вновь начали появляться бездомные кошки, и, по словам дочери, сейчас у нас, точно по своим владениям, бродят две особи — бурая и белая. Дочь говорит, что крыс теперь нет и в помине, в каждом доме кухонные отбросы помещают в специальные контейнеры, которые забирают городские мусоровозы, так что кошкам опять нечем поживиться, поэтому, по идее, они должны быть тощими, чего не скажешь ни о белой, ни о бурой, довольно упитанных. Из этого дочь сделала вывод, что они появляются в нашем саду, когда уходят в загул, убегая от своих хозяев.
Или же эти две все-таки бездомные и растолстели, пожирая воробьев… Тогда ничего странного в том, что в последнее время воробьев в саду поубавилось. Найдя объяснение, я на том успокоился.
Но можно ли считать естественным, отвечающим пресловутому закону борьбы за существование тот факт, что кошки ради своего выживания поедают воробьев? Никак не могу этого ни понять, ни принять…
Глава вторая
Начиная с двадцатого января неожиданно похолодало, в феврале продолжали стоять холодные дни, однако слива перед домом зацвела довольно рано.
Я корпел над последними страницами «Замысла Бога» и, опасаясь холодного воздуха, из дома не выходил, поэтому и не знал, что слива уже расцвела. Но как-то раз, выглянув из окна гостиной, вдруг обратил внимание на цветущую сливу и поспешил в сад посмотреть поближе.
— Наконец-то заметили? А я уже дня четыре как расцвела. Все предвкушала тот миг, когда вы соизволите на меня взглянуть. У нас, у деревьев, нет голоса, мы не можем закричать: «Эй, посмотрите, я цвету!»
— Я не обращал внимания, уверенный, что в такие холода слива не цветет, но сейчас вижу, что именно в эту холодную пору, когда для цветов еще рано, твои благоуханные цветы как нельзя кстати!
— Шесть лет назад я расцвела в это же время. Тогда тоже стояли ясные холодные дни. После полудня ваша супруга неожиданно вышла из дома, подошла к садовому камню и, подняв глаза на мои ветви, сказала то же самое, мол, как мило, что, несмотря на холод, распустились эти прекрасные цветы… Я была польщена, взволнована. И когда она через три дня за обедом скоропостижно скончалась, мы, деревья, все опечалились. Провожая ее в день похорон, мы старались цвести изо всех своих сил… Да, с тех пор время как будто побежало быстрее.
После того как немногословной старой сливе удалось успокоить разобиженную магнолию, наши сердца точно раскрылись навстречу друг другу, мы часто задушевно беседовали. Но сейчас я помалкивал, весь превратившись в слух.
— Вы, наверно, помните, как однажды ночью, после смерти супруги, вы стояли одиноко в саду, шумящем под порывами северного ветра…
Супруга ушла
В тот день, когда алая слива
Раскрыла цветы,
В саду стою одиноко.
Дует северный ветер…
Разумеется, эти стихи не ваши. Это я, глядя на вас, от нахлынувшей скорби перевоплотившись в вас, сочинила что-то вроде пятистишия. Раз уж мне довелось жить в саду писателя, я всеми силами старалась хоть немного набраться образованности…
— Сэнсэй, — продолжала слива, — хоть я нынче и покрылась цветами, соловьи что-то не прилетают, а в тот год на седьмой день после похорон вашей супруги прилетел соловей и уселся на ветке. Я было обрадовалась, что своим сладостным пением он утешит вас, но ожидания оказались напрасны, он так и не запел. Я несколько раз его окликнула, но он, скорбя, улетел. Тогда, вновь перевоплотившись в вас, я сложила жалобную песню:
На алую сливу
Соловей опустился и медлит,
Не спешит улетать.
Верно, скорбит, узнав
О кончине супруги…
Расчувствовавшись, я молча вернулся домой.
Действительно, моя жена умерла шесть лет назад в возрасте семидесяти девяти лет. За несколько дней до смерти она звонила нашей внучке, живущей за границей, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она тревожилась, что внучке на чужбине приходится несладко, поэтому, услышав, что в американской школе учитель похвалил ее за то, что она владеет английским языком лучше своих американских сверстников, моя жена успокоилась. «Пора мне умирать… На свете нет никого меня счастливее…» — повторяла она, а я в шутку говорил ей: «Погоди, рано тебе говорить такие слова, вот поднаберешь еще годков, тогда посмотрим!» После ее смерти я никак не мог привыкнуть к тому, что ее со мной нет, ни с кем не заводил о ней разговоров и ничего не писал о ней.
Но вот полгода назад ко мне в дом вошла госпожа Родительница и под конец разговора сказала: «Благоверная твоя была кристальной души человек!» И добавила: «Ныне она помогает Богу, да и мне тоже. И сегодня она здесь вместе со мной и преисполнена радости…»
Эти слова были для меня столь неожиданны, что я в ответ только промолчал, но в следующий раз рассказал ей о том, что нашла моя младшая дочь, когда прошлым летом, во время каникул, присматривая в мое отсутствие за домом, вздумала прибраться. В первый раз я заговорил о своей жене.
Наводя порядок в библиотеке, уцелевшей после бомбардировок, младшая дочь нашла на первом этаже в углу полки, заполненной посудой для гостей, маленький бумажный пакет. Внутри вместе с другими бумагами хранились два длинных письма, которые я послал своей жене еще до того, как мы поженились. Сам я уже совершенно не помнил об этих двух письмах, но почерк и стиль были точно мои. По содержанию — портрет идеальной женщины, с которой я хотел бы сочетаться браком. Сейчас уже стыдно перечитывать. Но вместе с этими старыми письмами лежал новенький конверт. Без адреса. Не запечатан. Внутри — несколько листков почтовой бумаги. Пробежал глазами — ее почерк!
«Ваши послания, дражайший супруг, великолепны, как альпийские вершины, но за все эти годы, как ни старалась, я не смогла приблизиться даже к их подножью. Сколько раз уже была я готова смириться с тем, что мне это не по силам, и все же, полагая, что Вы будете довольны мной лишь в том случае, если я поднимусь на вершину Альп, десятилетиями я продолжала карабкаться вверх. Увы, все тщетно. Глядя издалека на сияющие вершины, я подгоняла себя, но увы…
Во время долгих мучительных военных и послевоенных летя впервые, отказавшись от посторонней помощи, взяла на себя все заботы о семье, благодаря чему у меня не оставалось времени на праздные терзания, я засыпала, радуясь: день прошел, и слава Богу, и на следующее утро просыпалась радуясь — солнышко светит для нашей семьи — и с этой мыслью принималась за дела. Работая весь день не покладая рук, не ожидая помощи со стороны, а потому и без какого-либо стеснения, размеренно, с удовольствием, я не замечала, как пролетало время, как проходил день. Да что там день, годы проходили незаметно. На протяжении этих лет в семье случилось многое, но и эти события проходили чередой, как дни и годы. Одно лишь оставалось неизменным — мои молитвы, обращенные к Богу, каждодневная радость от того, что Бог приходит мне на помощь…
Я утаила от Вас, но подлинное Божье вспомоществование пришло в конце сорок четвертого года. С тех пор на нашу долю выпало немало страданий, но, несмотря на трудности, обе наши старшие дочери обрели счастье в браке. Для меня нет ничего дороже наших дочерей, и я не противилась, когда наша третья дочь пожелала уехать во Францию изучать музыку. Когда же и четвертая дочь, следуя примеру третьей, уехала учиться за границу, Вы построили на пепелище новый дом, о котором я могла только мечтать.
Сколько раз я возводила свой взор на Вас, как на вершины Гималаев, отчаиваясь, подбадривая себя, но никогда не было во мне уверенности, что я смогу доставить Вам радость.
Младшие дочери, вернувшись из заграницы, выбрали каждая свой путь и счастливо устроили свою жизнь. Поэтому в последнее время, понимая, что и Бог радуется за нас, я воссылала Ему благодарность и вдруг осознала, что уже преодолела треть пути к вершинам Гималаев… Эта мысль была внушена мне Богом, и у меня на глазах навернулись слезы. Я хотела честно поведать об этом Вам и, вернув два Ваших письма, поблагодарить Вас и попросить прощения. Но, несмотря на свое страстное желание, застыдилась и не смогла.
Мне кажется, что Вам все известно, хоть Вы и не говорите, поэтому и мне нет смысла заводить об этом разговор. Лучше уж я сохраню два этих драгоценных письма у себя, чтобы когда-нибудь дочь или внучка, прочитав, задумались. Оставляю их здесь, сопроводив своими неумелыми строками…»
Прочитанное меня поразило. Судя по дате, эти строки были написаны за пять лет до ее смерти. Получается, что жена со дня женитьбы постоянно держала при себе эти два моих письма, разумеется, и во время нашей жизни за границей, пронесла их через все мытарства и время от времени перечитывала, подбадривая себя. Это открытие не столько воодушевило меня, сколько наполнило невыносимой тоской.
Вот почему, когда слива неожиданно заговорила со мной об обстоятельствах смерти жены, я так сильно расчувствовался и поскорее вернулся в кабинет. Но сердце не успокаивалось, я не мог приняться за работу. Сами собой в памяти всплыли письма, сбереженные женой и обнаруженные младшей дочерью в углу библиотеки. Я погрузился в горькие раздумья.
Не знаю, сколько прошло времени, но очнуться меня заставил донесшийся из-за двери робкий голос домработницы:
— Сэнсэй!..
Я открыл глаза и прислушался.
— Сэнсэй, соловей поет. Слышали?
— Нет… Наверно, его привлекли цветы сливы.
— Уселся на ветке камелии за домом. Из окна кабинета, наверно, видно.
Я поднялся и посмотрел в окно на камелию. Вероятно, благодаря тому, что в прошлом году я попросил оставить ее расти в естественном виде, ветви у нее вытянулись, листва стала густой, так что маленькой птички было не углядеть.
— Вот заливается! — воскликнула домработница.
Я пожалел, что так стар и из-за своей глухоты вряд ли смогу уловить какие-то звуки. И в ту же минуту услышал чудный голос.
Затаив дыхание, я устремил глаза туда, откуда доносилось пение. Дважды соловей рассыпался руладами, прежде чем я наконец сумел разглядеть его силуэт. Прелестная птичка! Впервые я видел соловья. Я хотел открыть окно, чтобы получше его рассмотреть, но не решился. Прошло немного времени, ветвь колыхнулась, соловей упорхнул.
Открыв дверь кабинета, я крикнул находившейся на нижнем этаже женщине:
— Соловей улетел! Может быть, он перелетел на сливу перед домом… Скажите мне, если запоет там.
— Слушаюсь.
Часа через три я спустился в гостиную обедать.
— Я была все это время начеку, — сказала домработница, — но соловей на сливе так и не появился. Чтоб в эту пору пел соловей — такая редкость! Я так обрадовалась!.. Простите, что вас потревожила.
— Напротив, это тебе спасибо. Если б ты мне не сказала, я бы не обратил внимания… Благодаря тебе я впервые увидел соловья… И голос у него чудесный… Говорят, что соловья приманивает благоухание цветущей сливы, поэтому надеюсь, он еще прилетит в наш сад.
— Вот была бы радость!
После этого разговора мы целыми днями ждали, прислушиваясь, но соловей так и не вернулся. А я про себя подумал, что соловей залетел в задний сад потому, что предпочитает дикую природу.
С того дня, как слива заговорила о моей жене, меня не оставляло беспокойство. Я вспомнил еще об одной неожиданной находке младшей дочери. Случилось это на следующий день после того, как она наткнулась в углу библиотеки на бумаги матери, укладывая в старый комод платья, которые хотела взять с собой в Судан…
А дело было так. Через несколько дней после смерти матери три дочери разделили между собой оставшуюся от нее одежду, так что комод пустовал, но когда младшая дочь решила уложить свои платья в выдвижной ящик, она заметила, что под толстой бумагой, устилавшей дно, что-то лежит. К своему удивлению, она достала четыре пакета с разложенными в них банкнотами в тысячу и десять тысяч иен. На всех свертках было написано мое имя. Дочь принесла их ко мне в кабинет.
— Папочка, — сказала она, передавая мне находку, — вы бы поостереглись хранить деньги в таком месте!
— Что это? — удивился я.
Но сколько ни ломал голову, не мог вспомнить.
Дочь объяснила, как нашла деньги, но это не помогло мне вспомнить.
— А может, это были мамины заначки? Только почему она надписала ваше имя?.. Вероятно, собиралась вернуть вам какой-то долг… Это на нее похоже.
Внезапно я вспомнил и, смеясь, сказал дочери:
— Это деньги, отложенные твоей матерью на помощь нуждающимся.
— Знала бы, что у нее такие большие благотворительные фонды, тоже бы обратилась за помощью! Жаль, теперь поздно. Как бы то ни было, это ваши деньги, поэтому спрячьте их в безопасное место.
Сказав это полушутливым тоном, дочь быстро ушла.
Прошел час, и дочь, освободившись, попросила меня, если я не занят, рассказать, что это были за «деньги для нуждающихся». Меня самого занимали мысли об этом, поэтому я охотно пустился в рассказ.
После нашего переезда в новый дом, в конце того месяца, когда младшая дочь уехала учиться во Францию, как-то за ужином жена сказала, что отныне хочет иметь свои карманные деньги.
Наш семейный бюджет был целиком в ее ведении, поэтому я не мог взять в толк, чего она хочет.
— Можешь тратить на себя сколько угодно, — ответил я. На что жена сказала, что все потраченные деньги она записывает в книгу домашних расходов, но бывают случаи, когда ей бы не хотелось указывать, на что они пошли, для того ей и нужны свои ежемесячные карманные деньги, в которых не было бы необходимости отчитываться.
— Ну, коли так, — рассмеялся я, — бери сколько хочешь и ни в чем себе не отказывай.
Жена была человеком педантичным и на протяжении всех лет день за днем вела книгу домашних расходов. Разумеется, я ни разу ее не проверил. В конце каждого месяца за обедом она в общих чертах сообщала, сколько денег потрачено. Чем больше было расходов, тем меньшую сумму она брала себе. В те месяцы, когда я получал много гонораров, ее карманные деньги также увеличивались, о чем она пунктуально мне докладывала. Все это как-то выветрилось у меня из головы.
Вспомнил, это было в шестидесятом году. Ко мне из деревни приехал младший брат Д., с которым мы виделись крайне редко. Он работал в провинциальной автомобильной компании, но был призван в армию и все четыре года, пока шла война, тянул лямку простого солдата. После войны, вернувшись на родину, не стал работать на прежнем месте, а подвизался в церкви нашего отца (она называлась Гакутодай) и в конце концов стал миссионером в Тэнри. В церкви он занимался делами молодежи, а сейчас, с верховного благословения, приступил к организации небольшого местного прихода в соседнем городке А. Его жена устроилась в этом городке завучем в школе и содержала семью, но, для того чтобы организовать новое отделение церкви, надо было, кроме прочих расходов, отсылать пожертвования в Центр Тэнри. Деньги требовались немалые. Вот он и приехал за помощью.
У меня совсем не оставалось времени до сдачи обещанной рукописи, а он так навязчиво приставал со своими просьбами, что я не выдержал и сказал напрямую:
— Я — неверующий, более того, я противник Тэнри, поэтому ни о каких пожертвованиях с моей стороны речи быть не может! Моя религиозность заканчивается на том, что, построив дом, в котором ты сейчас живешь, я отпраздновал новоселье в соответствии с принятыми обычаями… А теперь извини, я занят.
После этого я вернулся в свой кабинет.
Спустившись в столовую к обеду немного раньше обычного, я обнаружил, что брат, как ни в чем не бывало, уже опустошил миску риса и находится в веселом расположении духа.
— Брат, как видно, очень занят, — сказал он, видно заметив выражение моего лица. — Я только мешаю… Все равно, спасибо за все. Поеду-ка я, пожалуй, сразу домой, не заезжая к другому брату. Мои небось уже волнуются, куда я пропал.
Он поднялся и, несколько раз поклонившись моей жене, ушел.
Обед у нас простой, жена быстро накрыла на стол, и мы приступили к еде, но я никак не мог взять в толк, почему Д. ушел такой довольный. Между тем жена, не прерывая еды, сказала небрежно:
— Не помню, говорила ли я тебе о своем фонде помощи для нуждающихся?
— Нет, что это?
— Вот уж три года, с того месяца, как младшая наша дочь уехала в Париж, я получаю ежемесячно карманные деньги… На себя я ничего не трачу, так что кое-что накопилось. Сразу после нашего переезда я постаралась отблагодарить всех, кто в трудную минуту пришел нам на выручку, а сейчас решила сама, по своей личной инициативе, создать фонд помощи нуждающимся.
— И из этих денег ты выделила Д. на пожертвования, так надо понимать?
— После того, что ты сказал Д., не будь у меня моих отложенных денег, я бы не посмела выдать ему из семейного бюджета… Вначале я боялась, что сумма нужна большая, но оказалось, что моих денег как раз хватает. Он ушел такой довольный, теперь и у меня на душе спокойно, — улыбнулась она.
— Значит, все это время ты экономила на нарядах, на косметике и все деньги откладывала в свой «фонд»?.. Послушай, сейчас уже не послевоенные годы! Ты должна следить за своим внешним видом, как делала это до войны. А то, когда дочки вернутся из Парижа, они будут тебя стыдиться.
— Разве мне, жене батрака, к лицу румяна?
— Жена батрака? Что ты несешь!
— Забыл? А я хорошо помню… В январе сорок шестого, в десятых числах… Мы наконец-то смогли тогда снять хорошую квартиру в Сэтагая. И вот на следующий день ты сказал: «У нас нет ни гроша. Отныне, чтобы прокормить семью в шесть человек, я, как крестьяне-арендаторы, которых я инспектировал в бытность свою чиновником, буду от рассвета до заката пером возделывать рукопись, страницу за страницей…» И с тех пор, день за днем, ты работал, запершись в темной каморке на втором этаже, неделями не выходя из дома. В результате подорвал себе здоровье. Глядя на тебя, я поняла, что должна стать женой батрака, но ой как непросто это было! Мне все пришлось делать самой, помощи ждать было неоткуда. Мать умерла во время войны, отец был жив, но плясал под дудку молодой сожительницы и разорвал все отношения со своими прежними родственниками. У меня не осталось никого, кроме тебя… И все, что я могла, — это стать женой батрака… Извини, что-то я заболталась.
Застыдившись, жена замолчала и торопливо принялась за еду. Я ждал, что она продолжит рассказ, но когда мы перешли к чаю, она поставила на стол фрукты и собралась уходить.
Я поспешил ее удержать:
— Не знаю, когда еще будет случай продолжить наш разговор, поэтому, прошу тебя, расскажи все до конца.
Немного поколебавшись, жена вернулась к столу и, сдирая с мандарина кожуру, продолжила:
— Рассказать все… Да чего еще рассказывать-то… Мне, такой капризной, стать женой батрака было нелегко… И тут я вспомнила о своей покойной матушке. Однажды мать решила, что отныне ей надлежит быть не изнеженной женушкой, а хозяйкой дома. С этого времени она перестала наряжаться и прихорашиваться, весь день ходила в простой одежде, с утра шла в кухню и была на дружеской ноге со служанками, всех привечала, со всеми разговаривала. Запаздывал ли отец или вообще ночевал вне дома, она делала вид, что ничего не замечает… Одним словом, совершила в себе самой революцию. К многочисленным внебрачным детям она стала относиться не как к отпрыскам своего мужа, а как к детям, дарованным ей свыше, и с сердечной искренностью заботилась о них, как о своих собственных… В ту пору сразу за передними воротами нашего особняка располагалась адвокатская контора. В юные годы отца бывший при нем чем-то вроде мальчика на побегушках Н. сдал экзамен на адвоката и начал заниматься адвокатской практикой, претендуя на то, чтобы стать преемником отца. Кроме него в этой конторе работали служащие-практиканты, ученики, а также личный секретарь отца. Этот секретарь, некто С., жил неподалеку от виллы очередной отцовской пассии. Он ведал финансами адвокатской конторы и нашим семейным бюджетом. Матушка сообщила ему о своем решении и попросила объяснить, как следует вести домашние расчеты, поскольку, по ее мнению, это должно было входить в обязанности хозяйки дома. С. сочувствовал матушке, был чрезвычайно рад, что она приняла такое решение, и не только дал ей необходимые разъяснения, но и передал ей контроль над семейным бюджетом, научив, как с ним обращаться, при этом посоветовал ей, когда он будет докладывать отцу, делать вид, что она ни о чем не в курсе. Досконально разобравшись в наших семейных доходах и расходах, матушка первым делом в пять раз увеличила, начиная с С., зарплату служившим у нас людям. Как сказал ей как-то С., в доме сразу точно посветлело. Но в сравнении с матушкой мое положение можно считать вольготным, ведь, даже став женой батрака, я могла ни от кого не зависеть.
— Мне казалось, ты не догадывалась о тяготах, выпавших на долю матери…
— Да, тогда не догадывалась, а сейчас, на старости лет, я очень хорошо понимаю, что ей пришлось претерпеть.
— Но, подводя итог нашему разговору: я уже не батрак, а состоявшийся писатель. Так что и ты, как подобает супруге писателя, должна следить за собой и не пренебрегать косметикой, согласна?
Не стерпев, я рассмеялся.
— Моя матушка, — продолжала жена, — была высокая, красивая женщина. Даже без косметики, одеваясь в простую домашнюю одежду, она поражала благородством и изяществом своего облика, она пользовалась всеобщим уважением, и не только потому, что была супругой главы компании… А я вся в отца — ни ростом не вышла, ни осанкой, да и красотой лица похвастать не могу. Сколько ни наряжайся, все без толку — на писательскую жену я не потяну. Уж не обессудь, лучше я, как прежде, все свое время буду посвящать нашему дому. Придется тебе смириться и принимать меня такой, какая я есть. Я самая настоящая жена батрака, нет мне большей радости, чем хранить наш домашний очаг. В этом мое счастье, мой земной рай…
Продолжая улыбаться, жена начала убирать со стола. Это был редкий случай, когда она заговорила о себе, и, может быть, именно это доказывало, что она и вправду счастлива.
Когда младшая дочь спросила меня о «фонде в пользу нуждающихся», я вкратце изложил ей то, о чем написал выше.
Дочь слушала меня внимательно, а под конец сказала:
— Спасибо за рассказ. Хоть я и не могу тягаться с мамой… В Судане меня наверняка ждет немало трудностей и испытаний, но я буду всякий раз вспоминать то, о чем ты рассказал, и не падать духом… Почему же ты ни разу не написал об этом в своих книгах?
— Незачем выставлять перед людьми то, что касается только нас двоих.
— Мамочка была против?
— Против — мягко сказано. Когда было напечатано мое первое произведение, она поклялась, что не будет читать ничего из написанного мной. И за всю жизнь ни разу не нарушила слова.
— Но почему? Что это значит?
— Ничего не значит.
Дочь молчала и глядела на меня недоверчиво, поэтому я поспешил с разъяснением:
— Если бы она прочла написанное мной, то в следующий раз, когда я начал бы писать, стала бы невольно оказывать на меня влияние. Но она не читала, поэтому мы с ней и не обсуждали того, что я пишу, следовательно, она была избавлена от необходимости в качестве жены писателя заниматься еще и литературой. Нас обоих это устраивало.
Тогда дочь попросила, поскольку она через день уезжает в Судан, уделить ей еще немного времени и, если я не устал, рассказать ей об обстоятельствах нашей женитьбы.
Будучи женой дипломата, она встречалась за границей со множеством японских политиков и предпринимателей, некоторые заговаривали с ней о ее дедушке и бабушке со стороны матери, выражали радость, что встретились с их внучкой, но обычно она пропускала эти замечания мимо ушей, ведь бабушка умерла еще до ее рождения, а дед умер, когда она училась в третьем классе, так что видела она его всего два-три раза. Но в период прежней службы ее мужа в Канаде она повстречалась с младшим двоюродным братом матери. Он работал в торговой фирме в Торонто, несколько раз навещал ее в резиденции консула и подробно рассказал ей о дедушке с бабушкой. То, что она узнала об их жизни, ее поразило. О моих бабушке и дедушке она знала достаточно много, поскольку во время учебы в университете в Токио жила рядом с домом моего старшего брата. Ей было любопытно, каким образом я, ее отец, чуть ли не изгнанный из семьи, смог жениться на единственной дочери крупного промышленника из Нагои, а кроме того, с возрастом у нее, видимо, пробудилась потребность в самоутверждении, и, преодолевая смущение, она для начала захотела узнать, каким образом поженились ее родители.
До сих пор я ни разу не писал в том, что предназначалось для публикации, об обстоятельствах своей женитьбы. Вовсе не потому, что я хотел сделать из этого тайну. Просто не было подходящего повода. Я дотянул до девяноста двух лет, живя литературным трудом, какие уж тут тайны личной жизни! Тем более когда спрашивает родная дочь. Я ответил без каких-либо внутренних затруднений:
— Ты ведь знаешь про моего названого отца из Адзабу…
— Да, и мама мне рассказывала, и ты об этом писал…
— Так вот, он дружил с отцом твоей матери, они были однокурсниками в Токийском университете.
Постараюсь теперь изложить все, что я, не таясь, рассказал дочери.
Отец из Адзабу и мой будущий тесть закончили юридическое отделение Токийского университета в самый разгар японо-китайской войны. В то время студентов было не много, и после окончания однокурсники продолжали поддерживать дружбу, встречаясь по нескольку раз в году. Поэтому, когда моя будущая жена, закончив женскую гимназию и поступив в английское училище Цуда, переехала в столицу, мой названый отец снял для нее и приставленной к ней старой служанки дом поблизости от себя и всячески опекал ее, а поскольку он выступал в роли поручителя, то, естественно, мне часто доводилось встречаться в нашем доме с ней и с ее отцом.
Поступив в университет, я нашел приют в доме названого отца, в Адзабу. Он обращался со мной как со своим собственным сыном, заботился о моем образовании, и я относился к нему как собственному отцу и любил как отца. Это были счастливые дни. Когда я отслужил три года в министерстве, он предложил мне, коль скоро у меня есть желание и пока я еще не вышел из подходящего возраста, съездить на учебу за границу. Он взялся сам договориться в министерстве и выхлопотать мне отпуск. Поскольку, разумеется, все расходы на учебу ложились на него, я обсудил его предложение с самым уважаемым мною человеком в министерстве — начальником департамента сельского хозяйства Исигуро. Начальник департамента сам в молодые годы брал двухгодичный отпуск для учебы в Англии, поэтому он одобрил мои намерения и обещал договориться в министерстве, чем немало меня успокоил.
Воспользовавшись случаем, мой благодетель, желавший, чтобы я официально стал его приемным сыном, побуждал меня для начала исполнить то, что требовалось с моей стороны, а именно выписаться из регистрационных списков моей семьи и оформить боковую ветвь рода. После этого он собирался, ни на кого не оглядываясь, официально зарегистрировать меня, ставшего формально сиротой, своим приемным сыном.
Но вот что произошло приблизительно за полгода до этого.
Мой будущий тесть через моего благодетеля обратился ко мне с предложением стать мужем его дочери. Я отказался. С ходу и наотрез. Впитав в себя дух эпохи Тайсё
[4], я исповедовал в то время чистейший идеализм, и для меня была унизительной мысль связать себя родством с человеком без стыда и совести, имеющим множество любовниц и внебрачных детей. Я слишком хорошо знал о его порочных наклонностях из рассказов моего благодетеля.
Среди однокурсников моего благодетеля был господин Хамагути, впоследствии ставший премьер-министром. Мой будущий тесть и господин Хамагути были близкими друзьями, окончили один колледж, а во время учебы в Токийском университете некоторое время жили в одном пансионе и даже в одной комнате. Мой будущий тесть по его примеру после окончания учебы также возжелал стать политиком, вернулся в свой родной город Гифу и, занимаясь адвокатской практикой, начал готовиться к политической карьере.
В Гифу его семья славилась своим богатством, даже район, в котором находился его особняк, был назван его родовым именем, и все дома, сдаваемые в аренду в этом районе, принадлежали его семье. Для того чтобы стать политиком, надо было первым делом собрать голоса избирателей и стать депутатом, но одним богатством голосов не завоюешь. Избиратели должны тебя уважать и доверять тебе, но этого за один день не добьешься. Он решил подыскать себе супругу из семьи с безупречной репутацией.
Между тем семья моей будущей тещи славилась в Гифу не только своей родовитостью. Во время сильного землетрясения они раскрыли свои зернохранилища и раздали все свои запасы риса, заслужив благодарность горожан. Одну из дочерей в этой семье молва сравнивала с легендарной красавицей Комати, и он стал за нее свататься. Но ей едва исполнилось шестнадцать, и единственное, что ее занимало, были японские традиционные танцы да те искусства, которыми, как тогда считалось, обязана владеть любая приличная барышня. Он получил отказ. Тогда он лично посетил ее родителей и попросил руки их дочери, уверяя, что будет только рад, если она и после замужества продолжит свои занятия танцами. Отца девушки впечатлила столь безрассудная страсть, да и противостоять соблазну иметь своим зятем «ученого», первого в Гифу выпускника Императорского университета, он не мог и в конце концов дал согласие. Когда они поженились, ему было двадцать четыре года, ей — шестнадцать. Он с предвкушением ждал первого этапа в своей карьере политика — выборов депутатов, но в итоге провалился, проиграв основному сопернику. Голосовали в то время исключительно мужчины с высоким уровнем доходов, и все равно во время предвыборной кампании приходилось заискивать перед избирателями, втайне скупая голоса. Отчаявшись, он отбросил мечту стать политиком и тотчас переселился из Гифу в Нагою, решив заняться адвокатской практикой, чтобы в дальнейшем посвятить себя предпринимательской деятельности. Ко времени нашего знакомства он, заручившись поддержкой Момоскэ Фукудзавы, слывшего финансовым королем Нагои, уже преуспел в железнодорожном и электроэнергетическом бизнесе этого региона.
Моя жена была его единственной законной дочерью. У нее был младший брат А., в то время учившийся в школе, а кроме того, больше десятка внебрачных братьев и сестер. Один из внебрачных братьев, старше ее возрастом, учился в университете Кэйо и жил с ней в одном доме, но отец даже не думал представить его моему благодетелю. По рассказу старой няньки, внебрачная сестра жены, одногодка, одновременно с ней сдавала вступительные экзамены в английское училище Цуда, но не прошла, и сделала это намеренно, чтобы остаться в доме и, помогая законной супруге своего отца, завоевать ее любовь. Эти внебрачные дети были от разных женщин, кроме того, любовница, живущая в Гифу, рожала чуть ли не каждый год и, как только дети достигали школьного возраста, под предлогом, что им необходимо учиться, посылала их в Нагою, да и других своих отпрысков, причинявших ей хлопоты, в конце концов под разными благовидными предлогами старалась сбыть матери моей жены. В результате на ее попечении постоянно находилось несколько внебрачных детей мужа, и она относилась к ним как к своим собственным.
Будучи наслышан о беспутном поведении главы семейства, я, — не задумываясь, отверг его предложение жениться на дочери. Спустя полгода я совсем забыл об этом…
Официально запросив на службе отпуск, я подал прошение в Министерство иностранных дел на получение паспорта и уже вздохнул облегченно, как вдруг через три дня мой будущий тесть является с визитом к моему благодетелю и сообщает ему, что его дочь бросила учебу в колледже и оформляет документы, чтобы ехать в Европу, в связи с чем он хочет отправить ее на одном со мной корабле. Он пришел, чтобы получить мое согласие. Я не придал всему этому значения, так как я направлялся во Францию, а она — в Англию, изучать английский язык. Вскоре ее отец вновь посетил моего благодетеля, чтобы сообщить, что она получила паспорт. В то же время между ним и моим названым отцом вновь зашел разговор о возможности нашего брака. Позвали меня, я с ходу отверг эту идею и вернулся к себе, чтобы собрать вещи к отплытию.
По словам моего названого отца, его тревожило, как бы я не вернулся из поездки в Европу с «голубоглазой» невестой, и мне пришлось решительно поклясться ему, что этому не бывать, но я сильно подозревал, что настойчивое желание поженить меня как-то связано с его планами официально оформить мое усыновление.
Вечером того же дня, когда мы весело ужинали втроем, я и мои названые родители, обычно сдержанная матушка вдруг заговорила со мной серьезным тоном:
— Мне кажется, ты так решительно отказываешься от брака с К. только потому, что совсем ее не знаешь. Она старается выглядеть счастливой, а в действительности очень несчастна. Но я уверена, несчастья только закалили ее характер.
Наверно, мое лицо выражало такое изумление, что матушка рассмеялась и в обычном своем тоне светской болтовни поспешила объясниться. Вот вкратце ее рассказ.
Мать К. со слезами на глазах призналась ей, что лишь недавно впервые осознала несчастное положение родной дочери. Она во всем винила себя, как будто совершила что-то постыдное. По ее словам, К. не была ее первым ребенком, у нее были еще двое — мальчик и девочка, но оба умерли сразу после рождения. Вдобавок к этому горю развратное поведение мужа причиняло ей такие страдания, что она не раз помышляла утопиться в колодце. Но, в конце концов, нашла успокоение, обратившись в веру секты Нитирэн, а вскоре у нее родилась К. Видя, как ее муж, который всегда чурался детей, родившихся на стороне, любит свою законную дочь, как целует ее, уходя на работу, она от души радовалась, а когда через три года у них родился сын, муж сказал: «Я признаю своими только детей, родившихся от тебя, и только их зарегистрировал в качестве законных наследников. Все прочие дети — дармоеды, выблядки, висящие у меня на шее!»
Услышав это, она впервые задумалась о своем положении в семье. И решила, что отныне будет не столько женой при муже, сколько хозяйкой дома, хранительницей домашнего очага. Вместе с тем она постарается любить, как своих собственных, отданных на ее попечение детей, которых муж считает дармоедами и презрительно называет выблядками. Воспитывая под одной крышей своих и внебрачных детей, близких по возрасту, она, следуя принятому решению, должна была с особой строгостью относиться к собственным детям. При этом не задумывалась о том, как это ранит сердца ее родных чад. И только теперь, приехав в Токио в надежде отговорить дочь уезжать за
границу, она впервые прислушалась к ее чувствам. И была потрясена, поняв, насколько та по ее вине несчастна и измучена и что в ней, матери, заключена главная причина, подсознательно побуждающая девушку ехать в Европу. Дочь не хотела уподобляться матери и потому поступила в английское училище. Она стремилась самоутвердиться как человек, принадлежащий западной цивилизации, чтобы избежать участи, уготованной японской женщине. И понимала, что учеба за границей, реальная жизнь среди людей западной культуры и есть скорейший способ приобщиться к этой культуре.
Все это обиняками поведала мне за ужином матушка, после чего к разговору присоединился мой благодетель.
— Ты уверен, что не хочешь жениться на К.? — спросил он.
— А вы, папа, хотели бы видеть ее моей невестой?
— Тебе решать. Теперь, когда ты в какой-то мере знаешь человеческие качества этой девушки, может быть, скажешь честно, что ты об этом думаешь?
— У меня, разумеется, есть свое представление об идеальном браке, но сейчас распространяться об этом ни к чему… Есть несколько условий, чтобы как-то разрешить нынешнюю ситуацию.
— Что за условия?
Я не имел времени все хорошенько обдумать и все же рискнул высказать свои соображения. Девушка желает учиться за границей, чтобы избежать участи, уготованной в наше время японской женщине, чтобы самоутвердиться и воспитать в себе независимый характер, свойственный европейцам. Это прекрасно. Я еду за границу, чтобы пополнить свое образование в области экономики, но, если честно, также и для того, чтобы, беря пример с французов, самоутвердиться и избежать участи, уготованной мужчине в нашей отсталой стране, более того, я надеюсь внести свой вклад в строительство новой эпохи. Поскольку в стремлении самоутвердиться и стать независимыми людьми наши желания совпадают, может, мы поклянемся, что, сочетавшись браком, не изменим своим убеждениям? В соответствии с клятвой каждый будет самостоятельно отвечать за свои денежные расходы и не вмешиваться в дела другого (разумеется, по возвращении в Японию я, как и подобает мужчине, буду отвечать за семейный бюджет). Еще одно важное условие. Может ли ее отец поклясться мне, что прекратит свое развратное поведение, не будет впредь иметь содержанок и совершать грязных поступков? В противном случае, даже если все прочие условия будут выполнены, я не женюсь. И наконец, если все-таки с женитьбой будет улажено, поскольку мне надо многое успеть сделать перед отъездом — никаких свадебных церемоний, никаких приемов и тому подобных бессмысленных мероприятий! И еще. За сорок пять дней плавания у нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга, и если она примет решение учиться самостоятельно, будем считать, что никакой женитьбы не было. Поэтому официальное объявление о нашем браке должно совпасть с сообщением о начале нашей заграничной учебы, то есть после того, как мы прибудем в Париж и определимся с жильем. И последнее. Поездка на учебу за границу мало чем отличается от переезда на учебу из деревни в столицу, поэтому не надо устраивать пышных проводов. Ну а я поеду в Иокогаму или Кобе один и там сяду на пароход «Сираяма-мару».
Записав мои разглагольствования, отец в тот же вечер составил текст клятвы и на следующее утро, за завтраком, показал его мне. Руководствуясь принципом «куй железо, пока горячо», он сразу же после завтрака отправился к невесте. В десять часов мой будущий тесть пожаловал с дочерью. Он, как само собой разумеющееся, зачитал мне и моим родителям текст клятвы по пунктам, сказал, что он и его дочь со всем согласны, в доказательство чего оба расписались и скрепили текст именными печатями…
Вот так мы и поженились.
Все это я вкратце рассказал своей младшей дочери, отвечая на ее вопрос, но, заметив недоверие на ее лице, пояснил:
— Припоминаю. Два письма, которые ты нашла в библиотеке, мы написали друг другу сразу после клятвы.
И добавил, смеясь:
— Вот так-то. Чего только в жизни не бывает!
Перед самым моим возвращением из Европы я неожиданно получил письмо от любовницы тестя, проживавшей в его доме в Гифу. Письмо, судя по всему, было написано под ее диктовку. Ей стало известно, что мой тесть завел себе новую содержанку — молодую девушку, живущую неподалеку от железнодорожной станции А., и, чтобы разведать, насколько это серьезно, она скрепя сердце переоделась и зашла в ее дом под предлогом, что ищет подходящую семью, в которой ее дочь, студентка столичного университета, могла бы месяцок отдохнуть. Та, судя по всему, изнывала от скуки, она провела гостью в гостиную, где они проболтали не меньше часа. За это время посетительница смогла хорошенько осмотреться и обнаружила в комнате кое-что из личных вещей моего тестя. По слухам, новая любовница, которой едва исполнилось восемнадцать, работала под именем Онобу служанкой в находящейся поблизости от его особняка гостинице с дурной репутацией. Пусть бы еще она была красавицей — какое там! Плюгавая девчонка с хитрой кошачьей мордочкой! Влюбиться в такую ну никак не возможно, не иначе как старика облапошили. Если срочно не вмешаться, девчонка причинит немало горя детям и всей семье. Она обращалась с этим к моему тестю, но он пропускал ее жалобы мимо ушей. Она обратилась к «главной госпоже», но и та не стала ее слушать. Тогда она вспомнила, что, когда я женился, мой тесть похвалялся, что дал клятву отказаться от развратных привычек. Она была уверена, что, если я возьмусь усовестить тестя, он расстанется с мерзавкой. «Вы единственный, — писала она, — кого он боится. Умоляю вас… и т. д.».
У меня не было желания влезать во все это, я просто вложил полученное письмо в конверт и, ничего от себя не добавляя, под своим именем направил на адрес тестя в Нагою. Не прошло и недели после того, как он прочел письмо, ему пришла телеграмма от моей жены, в которой она сообщала, что я болен туберкулезом. Позже я узнал, что тесть при этом впал в тоску и смятение и в ярости обвинял свою любовницу в том, что ее письмо, заставившее страдать мою чистую натуру, послужило причиной моей тяжелой болезни.
Через два с половиной года, когда я вернулся на родину, мой тесть перестал показываться в своем доме в Гифу, поселив девицу Онобу в особняке в Симмаико. Девица величала себя его супругой и заставляла называть себя так всех, кто к ним приходил, но, по слухам, никто из гостей к ней так не обращался. Эта злодейка после войны, когда тесть скончался, еще долгое время оккупировала особняк, изводя всех родных…
Вечером следующего дня, накануне отъезда дочери в Судан, явилась госпожа Родительница и обратилась ко мне со словами поддержки. Затем она спросила, нет ли у меня к ней каких-либо вопросов.
Я сказал, что никаких особых вопросов у меня нет, рассказав при этом о найденных письмах, которые бережно хранила жена, и о пачках купюр из ее фонда помощи нуждающимся. Было жаль, что я не знал об этом при ее жизни, а то бы непременно похвалил ее за прекрасные помыслы и постарался доставить ей побольше радостных минут. Но при ее жизни моя голова была забита работой, теперь же я чувствовал вину за то, что не раскрыл свое сердце навстречу ее сердцу, и хотел бы попросить у нее прощения.
На это госпожа Родительница сказала:
— Твое раскаяние мне по душе. Думаю, твоя жена рада твоим словам… Прекрасный она была человек! После войны, когда ты заявил, что будешь батраком, возделывающим пером свои рукописи, и трудился день и ночь, запершись в кабинете, твоя жена постаралась стать настоящей женой батрака… Так и пошло. За несколько лет батрацкой жизни из-за недоедания, из-за непосильного труда у тебя развилась мучительная астма. Все это время жена твоя усердно воссылала Богу молитвы: «Если муж сейчас свалится, дочерям придется плохо, поэтому я готова пожертвовать своей жизнью, лишь бы Ты помог мужу…» Бог рассудил, что, если свалится жена, придется плохо тебе, поэтому переложил на нее половину твоей болезни. Ты, наверно, не догадываешься, но благодаря тому, что жена молча сносила страдания, ты, тяжело болея, смог успешно справиться со своей работой… Тебе, вероятно, известно, как жила твоя теща. Страдая от развратного поведения мужа, она тем не менее не уставала заботиться о благополучии служащих фирмы и о семьях рабочих. Все видели в ней живое воплощение богини милосердия Каннон. Не заботясь о своей внешности, отказавшись от косметики, она носила простые платья и проявляла ко всем сердечное участие. И впрямь живое воплощение богини Каннон! И в том, что твой тесть в течение многих лет блестяще справлялся с должностью главы компании, прежде всего заслуга ее добродетели. И то, что твоя жена, став «женой батрака», смогла закалить свой характер, — заслуга ее добродетели… Через несколько лет после того, как вы построили этот дом, твоя жена обратилась к Богу со словами благодарности… «Боже, спасибо! Две старшие дочери вышли замуж, две младшие, как и мечтали, учатся музыке в Европе. Оставшись одна с мужем, я вновь смогла оценить, какой он замечательный человек. Спасибо!» Теперь она каждый день радостно благодарила Бога. Поистине твоя жена была чистейшей души человек. Эта чистота более всего угодна Богу. Ныне она служит подле Бога-Родителя и мне помогает, сопровождая меня. И в этот дом она частенько заходит и, увидев, что все счастливы, возрадовавшись, возносит благодарения Богу.
После этого госпожа Родительница, подозвав младшую дочь, сказала:
— Тебе, наверно, известно, какими были твоя мать и твоя бабка. Какими бы ни были их мужья, они усердно им служили, закаляя свой характер. Их добродетель будет драгоценна Богу до скончания времен… Благодаря им вы и по сей день живете счастливо… Кровь этих прекрасных женщин течет в тебе. Ты должна постоянно помнить об этом. Должна иметь в себе уверенность и чувство ответственности. Твой муж сейчас выполняет тяжелую миссию в бедствующем Судане. И тебе надлежит быть с ним всегда рядом, служить ему так, чтобы он смог преуспеть в возложенном на него деле. Я уже не раз говорила, и Бог и я охраняем тебя, так что можешь ни о чем не беспокоиться. Тебя тревожит, наверно, что ты расстаешься со своей дочерью, но ей уже пятнадцать лет, она остается в твоем родном доме, на попечении твоего отца и старшей сестры, так что не волнуйся… И завтра со спокойной душой, с улыбкой на лице отправляйся к мужу.
Госпожа Родительница не раз говорила мне, что она — не Мики Накаяма, что она Мать всего человеческого рода, Мать всего сущего, объемлющая всех людей материнской любовью, и, слушая ее напутствие моей дочери, я был растроган до слез силой ее материнской любви.
Глава третья
Стояли очень холодные дни, и я, опасаясь простудиться, не решался выходить в сад. Так прошло дней пять, когда ко мне в кабинет вошла дочь и сообщила, что внизу меня ждет какая-то дама по имени Фуми Суда, которая желает непременно со мной поговорить.
Я поинтересовался, не пришла ли вместе с ней Хидэко Накамура, но оказалось, что посетительница была одна. Я попросил провести ее в гостиную и сам спустился вниз, но был чрезвычайно удивлен, недоумевая, почему она, вопреки своему обыкновению, пришла одна, к тому же без предупреждения.
— Простите меня пожалуйста, — заговорила она, от смущения не поднимая головы. — Вы, наверно, очень заняты и, явившись без приглашения, я мешаю вашей работе. Еще раз прошу меня простить.
— Да нет, что ты, — рассмеялся я, спеша ее успокоить, — я рад, что ты пришла. В последнее время, как бы ни был я занят, визит гостей доставляет мне огромное удовольствие. Меня только удивило, что ты не захватила с собой Хидэко.
— Мой муж дал мне полезный совет. Если, говорит, тебе действительно нужна эта встреча, лучше иди без предупреждения и побеседуй с глазу на глаз. Тогда сэнсэй сможет разобраться в твоей проблеме… Я рада, что так и поступила.
Немного успокоившись, она перешла к цели своего визита. Впервые она со своей подругой Хидэко посетила меня, когда жена еще была в полном здравии, лет десять тому назад. Обе закончили знаменитый католический университет, поступили в аспирантуру и, пройдя все ступени ученой карьеры, защитили докторские диссертации. Она по специальности была лингвистом, в совершенстве владела греческим, латинским, французским, немецким и преподавала на старших курсах французский язык и лингвистику. Хидэко была специалистом по французской литературе и читала лекции на младших курсах. Выглядела она довольно моложаво и отличалась простодушием, ну прямо-таки студентка какого-нибудь женского университета.
Как только они заговорили о цели своего визита, я с удивлением осознал: «Вот оно, новое поколение!» Обе рассказывали о себе откровенно, нимало не стыдясь, без недомолвок и экивоков, точно речь шла о ком-то постороннем.
Поводом их визита стало то, что Хидэко прочитала мой первый роман «Буржуа» и теперь желала обсудить со мной свое впечатление от книги. Но прежде мы успели поговорить на множество самых разных тем.
Хидэко выбрала для своей диссертации французского писателя Андре Жида. Когда диссертация была уже на девяносто процентов готова, ее научный руководитель дал ей совет хотя бы раз встретиться с молодым ученым Накамурой, который изучал французскую литературу, живя во Франции, к тому же был знатоком творчества Андре Жида. При встрече оказалось, что Накамура весьма молод, и вел он себя с нею не как важный ученый, а скорее как коллега. Проникшись к нему доверием, она попросила его прочитать почти готовую рукопись ее диссертации. Он спросил, на каком языке она написана — на французском или на японском? На японском. Он сказал, что читать у него нет времени, лучше пусть она перескажет ему главные мысли. Потея от напряжения, она излагала их в течение получаса. Он слушал внимательно, задал по ходу несколько вопросов и, наконец, сказал:
— Думаю, для докторской диссертации этого вполне достаточно. Вот только вы пишете, что Жид был протестантом, а его жена, старше его по возрасту, католичкой и что это стало причиной мучительного разлада их семейной жизни, а после смерти Жида его друзья, оправдывая его, распространили лживые слухи о том, что он якобы имел внебрачного сына от другой женщины. Вы пишете также, что эта личная драма никак не отразилась в его творчестве, но должен вам сказать, что этот сын был законным ребенком! Разумеется, для вашей диссертации это не имеет особого значения, но научная ценность вашего исследования и доверие к нему возросли бы, если бы вы разыскали письма Жида, адресованные сыну и другим близким людям, и сравнили почерк, чтобы убедиться, что они написаны одним человеком.
— Но как разыскать эти письма?
— Все они сосредоточены в руках одного человека, и если вы готовы немедля вылететь в Париж, чтобы сфотографировать нужные вам письма, я передам ему просьбу от своего имени.
— Я была бы вам благодарна. Сроки подачи диссертации поджимают, но думаю, я могла бы управиться за один день. Во время летних каникул я три недели изучала материалы для своей диссертации во Франции, с тех пор не прошло еще и года, так что с паспортом проблем нет. Я могу выехать немедленно.
Через четыре дня Хидэко, взяв в университете отгул на три дня, вылетела в Париж, имея при себе рекомендательное письмо к коллекционеру А. Она прибыла в Париж в десять утра. Позвонила А. Тот сказал, что уже все для нее приготовил, поэтому она сразу направилась к нему. А. показал ей три коротких письма Жида, адресованных его жене, дяде — экономисту Шарлю Жиду и сыну. С первого взгляда было видно, что все три письма написаны одной рукой, рукой Андре Жида. Коллекционер позволил ей переснять письма. Она тут же, на месте, проявила снимки и, убедившись, что все три получились, показала их А., поблагодарила его и заверила, что, немного обработав письма по возвращении в Токио, сможет ими воспользоваться. А. заинтересовался фотоаппаратом и стал вертеть его так и сяк, бормоча при этом: «Удобная штука. Наверняка сделано в Японии! Поразительно!» На что Хидэко сказала, что если ему так понравился фотоаппарат, она с радостью ему подарит — в Японии они продаются на каждом углу.
А. с радостью принял подарок, но все же, чувствуя некоторую неловкость, сказал, что в благодарность преподнесет ей одну редкую вещицу. Он вышел и вернулся с книгой, написанной японцем и переведенной на французский язык.
Во французском ПЕН-клубе, объяснил он, существует традиция — в конце каждого года писатели, опубликовавшиеся в прошедшем году, распродают в помещении клуба свои книги с автографами, а вырученные деньги отдают в фонд ПЕН-клуба. В 1953 году известный художник Фудзита выступил в роли представителя одного японского писателя и надписал на книгах: «По поручению автора — Фудзита». Цена книг тотчас подскочила в три раза. Кроме того, Фудзита на титульном листе пяти экземпляров нарисовал тушью картинку в японском стиле и назначил цену, превышающую первоначальную в десять раз. Однако было так много желающих, что пришлось тянуть жребий. «К счастью, — сказал А., — мне повезло, один экземпляр оказался у меня, и я им очень дорожу. Кажется, недавно об этой книге вновь заговорили, но поскольку ее давно не переиздавали, достать ее невозможно. Дочь попросила знакомого букиниста, и тому понадобилось восемь месяцев, чтобы ее разыскать. Эта книга издана в Бельгии в 1954 году. С тех пор ее цена возросла в тридцать раз…»
Получив в подарок книгу японского писателя, Хидэко прямиком направилась в туристическую фирму на Елисейских Полях, чтобы купить билет на ближайший рейс в Токио. Свободное место нашлось в самолете «Аэрофлота», вылетавшем через день и державшем курс над Сибирью. Уладив дела с отлетом, она успокоилась. В соседнем кафе выпила кофе с круассаном, потом позвонила мадам Симон в Пасси, с которой познакомилась во время весенних каникул, и спросила, нельзя ли у нее остановиться на два дня. Мадам Симон сказала, что ее комната до сих пор пустует и можно ею воспользоваться, вот только сама она в два часа уходит на работу, поэтому если Хидэко не успеет, она оставит ключ у консьержки. Хидэко сразу же поймала такси и приехала без пятнадцати два. Мадам Симон встретила ее радушно. Хидэко, чувствуя себя как дома, извинилась, что ужасно хочет спать, и, пообещав после обо всем поговорить, как подкошенная свалилась в постель и заснула.
Совершив перелет над Сибирью на советском самолете, Хидэко через семь дней была уже в Токио. Она сразу же позвонила профессору Накамуре, извинилась, что из-за поджимающих сроков сдачи диссертации не может лично выразить ему свою благодарность, и, пообещав при встрече рассказать подробно о результатах своей поездки, с головой ушла в диссертацию. Разумеется, она переписала последнюю часть, добавив снимки с трех писем Жида, но и остальной текст потребовал доработки. Как бы то ни было, в срок она уложилась.
Покончив с диссертацией, Хидэко посетила профессора Накамуру и рассказала о том, как прошла ее встреча с А. Накамура остался доволен. Тогда она достала из сумочки французскую книгу, которой так дорожил А., и выложила ее на стол.
— Неужто «Умереть в Париже» Кодзиро Сэридзавы? — удивился профессор, беря в руки книгу. А увидев на титульном листе рисунок Фудзиты, радостно воскликнул: — Вы не представляете, как я рад! Я коллекционирую книги Сэридзавы, но об этой до сих пор знал только понаслышке. Я готов был за нее заплатить сколько угодно, но нигде не мог отыскать. Спасибо!
Она не решилась сказать, что эту книгу А. подарил ей.
— Разумеется, вы читали «Умереть в Париже»? — спросил Накамура.
— Нет, не читала.
— А что-нибудь другое из его книг?
— Ничего. Я вообще японскую беллетристику как-то…
Накамура отложил книгу и с удивлением, пристально посмотрел на нее. Последовало неловкое молчание.
— Как можно изучать французскую литературу, тем более Андре Жида, и при этом не читать японских авторов? — пробормотал он.
— Я только что закончила диссертацию, на подготовку которой у меня ушло много лет, и теперь собираюсь почитать что-нибудь из современной японской литературы. Начну, пожалуй, с романов Сэридзавы. Так как называлась его первая книга?
Профессор, видно уйдя в свои мысли, некоторое время молчал. Хидэко ерзала на стуле, не зная, куда деваться от смущения. Наверно, он выпроваживает меня, думала она в отчаянии.
Но в этот момент профессор внезапно рассмеялся:
— Ну конечно! Всякий хоть немного интересующийся японской литературой знает, что первый роман Кодзиро Сэридзавы называется «Буржуа». Вот только вышел он почти полвека назад, так что достать его не так-то просто. Сделаем так. Завтра утром я оставлю его у ассистента, а вы прочтете и потом расскажете мне о своих впечатлениях. Таким образом проверим ваш литературный вкус. Если вам не понравится, расстанемся навеки, если вы не безнадежны, обещаю стать вашим вожатым по творчеству Сэридзавы. Этот писатель в юности почитал Жида и даже вроде бы встречался с ним в Париже, но он давно превзошел Жида, стал выдающимся писателем, и вам просто необходимо познакомиться с его творчеством. Правда, если не знаешь учения Тэнри, кое-что в его книгах может показаться непонятным, в этом отношении «Буржуа» будет попроще… Читайте быстрее и приходите. Мне интересно узнать ваше мнение.
С этими словами он поднялся.
— Профессор, позвольте… — Хидэко, радостно воспрянув, достала из сумочки бумажный сверток и, заметив на лице профессора недоумение, выпалила: — На третьем курсе я, по совету своего научного руководителя, во время летних каникул прожила шесть недель в доме мадам Дебель в окрестностях Виши и, кроме уроков французского языка, изучала французские обычаи и этикет. Сейчас, возвращаясь из Парижа, я думала, как бы выразить вам свою признательность… На обратном пути самолет приземлился в Москве, где мне пришлось ждать в аэропорту три часа до отлета, я изнывала от скуки и вдруг заметила сувенирный киоск. Там было выставлено множество красивых ожерелий из янтаря… Вы, наверно, знаете, янтарное ожерелье — мечта всякой француженки. Они верят, что янтарь приносит счастье. Вспомнив об этом, я выбрала подходящее и попросила положить в красивую подарочную коробку. Но в России сувениры кладут в бумажные пакеты с напечатанным на них названием товара, так что не взыщите. Вот, примите, это для вашей супруги.
— Благодарствуйте… Но только я не женат. Ну ничего, — добавил он, смеясь и провожая ее, — если когда-нибудь женюсь, порадую
ma femme.
Хидэко вышла из его служебного кабинета на седьмом небе от счастья. От радости она не видела, куда ее несут ноги. Может быть, это и называется любовь? — подумала она. И в Париже, и по возвращении стоило ей подумать о нем, как ее захлестывала волна страсти, и, что бы она ни делала, все давалось ей на удивление легко. Но ее мысли постоянно сопровождала темная тень — а ну, как он уже женат? Если так, решила она, надо отбросить всякие надежды и никогда больше с ним не встречаться.
И вот профессор сам сказал ей, что он холост. Темные тучи мгновенно рассеялись, небо прояснилось, несмотря на зиму, душа, точно весной, кипела и полнилась музыкой. Что бы ни ждало ее завтра, сегодня она будет в одиночестве наслаждаться блаженством любви…
На следующий день, перед тем как идти в университет, она зашла в его служебный кабинет и взяла у ассистента упомянутого «Буржуа». Издание, вышедшее в дешевой серии «Новинки литературы», стоило в свое время всего лишь тридцать сэнов!
Что касается учения Тэнри, она еще накануне решила расспросить о нем Фуми, закончившую с нею в один год факультет языкознания и преподававшую ныне в университете. Когда она зашла на кафедру, Фуми была занята чтением.
— Послушай, ты знаешь этого писателя? — спросила Хидэко, показав «Буржуа».
— Лично нет, но восхищаюсь им как писателем.
— Он последователь учения Тэнри?
— Не столько последователь, сколько критик и ниспровергатель. Читая его книги, я стала такой, какая я есть сейчас, поэтому считаю себя в каком-то смысле обязанной ему своей жизнью, но…
Она вопросительно посмотрела на Хидэко.
Та коротко рассказала, как к ней в руки попала книга. Глаза Фуми просияли.
— Мне кажется, тебе стоит прежде посетить самого Сэридзаву, послушать, что он выскажет по поводу твоих впечатлений от прочитанного, а уж потом, выслушав мнение из первых уст, идти к Накамуре.
— Но возможно ли с ним встретиться?
— Эта встреча будет иметь важнейшее значение в твоей судьбе, поэтому надо постараться сделать все, чтобы она состоялась… Я уже много лет мечтаю о такой встрече, но у меня не было конкретной цели, да и одна я идти не осмеливалась… Но теперь у нас есть важная цель — решается твоя судьба, к тому же вдвоем идти не так страшно. Пока ты будешь читать «Буржуа», я постараюсь найти способ, как нам встретиться с Сэридзавой… Ой, мне уже пора на лекцию!
Фуми торопливо вскочила и убежала.
Вот так и получилось, что Хидэко Хамаи и Фуми Суда вдвоем пришли ко мне в гости. Это было во второй половине холодного дня. Я удивился, поскольку в последнее время ко мне редко захаживают читатели. Обе девушки были намного моложе моей младшей дочери и, как это, по-видимому, присуще новому поколению, были предельно откровенны и, не стесняясь, рассказывали о себе то, что в наше время принято было скрывать. Они будто явились в мое жилище из другого мира. Разговор получился интересный, для меня даже в чем-то поучительный. И жена, принеся сладости к чаю, присела и с интересом стала прислушиваться к нашей беседе.
Договорились, что их визит продлится час, а просидели мы три с половиной часа. Девушки, извиняясь, поспешили откланяться, и, провожая их до порога, я поймал себя на мысли, что смотрю на них то ли как на старых друзей, то ли как на своих давних учениц, о которых знаю всю подноготную.
Взять, к примеру, Фуми. Когда она, дочь известного деятеля Тэнри, закончила школу, родители настаивали, чтобы девушка поступила в университет Тэнри, но она относилась к учению Тэнри с осуждением, длившиеся с утра до вечера религиозные обряды казались ей нелепыми и только мешали учебе. Спасаясь от Тэнри, она уехала в Токио, поступила в университет С. и там на филологическом факультете стала изучать лингвистику.
В Токио функционировало влиятельное отделение церкви Тэнри, при содействии которого она смогла поселиться недалеко от университета. Семья, в которой проживала Фуми, была из числа прихожан. Но она игнорировала это, всецело погрузившись в учебу, и даже во время летних каникул не поехала домой. На пятый день каникул ее посетил глава токийского отделения и передал ей приказ отца: тот позволил ей поехать в Токио с условием, что в первые же летние каникулы она три недели проживет в Центре Тэнри, выполняя религиозные предписания, и примет божественный дар, так что ей следует немедленно исполнить обещанное. Отец и сам уже дважды звонил ей, положение было безвыходное, и все же Фуми нашла в себе смелость сказать, что обязательно выполнит обещанное, но лишь после того, как окончит университет. Она попросила главу отделения уговорить отца подождать до этого времени. Тот долго поучал ее, убеждал покориться воле отца, но она сидела понурив голову, так и не вняв его наставлениям.
На следующее утро за завтраком хозяйка дома обратилась к ней:
— Госпожа Фуми, вам бы все-таки следовало съездить домой. Если будете своевольничать, папаша перестанет высылать вам деньги на учебу, ведь он меня предупредил: «Коли такое случится, гоните ее без смущения…»
— Не беспокойтесь, как бы ни грозил отец, он ни за что так не поступит! — рассмеялась Фуми и, несмотря на каникулы, отправилась в университет к научному руководителю.
По дороге она вдруг задумалась. Все идет к тому, что отец в конце концов лишит ее наследства, и к этому надо готовиться уже сейчас. Все ее сокурсники подрабатывали в свободное от учебы время, вот и ей следует устроиться на работу и копить деньги. Может быть, посоветоваться с научным руководителем? — подумала она.
Ее научным руководителем был француз, всемирно известный лингвист патер Б.
Надо заметить, что она со школьной скамьи питала сильнейший интерес к человеческой речи, можно даже сказать, что человеческая речь приводила ее в недоумение. Почему японцы говорят на японском языке, а англичане и американцы — на английском? В чем причина того, что и японский язык, и английский так видоизменились за несколько веков?.. Такого рода вопросы не давали ей покоя. Она пробовала выяснить это у школьного учителя, но он не смог сказать ничего вразумительного. Когда она поступила в колледж, то узнала, что молодой преподаватель английского — выпускник университета С. и, кажется, готовится поступить в аспирантуру Киотоского университета. Набравшись смелости, Фуми учинила ему форменный допрос. Учитель, выпучив от удивления глаза и уставившись на нее, сказал, что такими проблемами занимается специальная наука — лингвистика. Результатом этого разговора стало то, что он с усердием взялся обучать ее греческому, латинскому и французскому языкам. Через два года, уже перебравшись в Киото, он продолжал в письмах давать ей указания, а когда она поступила в университет С., переслал ей рекомендательное письмо к профессору-лингвисту Б.
Когда она с этим письмом, по совету учителя, пришла, трясясь от страха, к профессору, проживавшему в университетском кампусе, он встретил ее радушно и заговорил по-японски:
— А, вот вы какая! Ваш учитель И. много писал мне о вас. Фуми — девушка-вундеркинд!
Усадив ее, он просмотрел рекомендательное письмо.
— Он пишет, что взрастил ростки вашего дарования, а теперь хочет, чтобы я помог распуститься цветам, но я бы вам посоветовал не задаваться и не слушать, что другие говорят о вашем даровании или уме, а скромно заняться своим образованием, имея в виду свое личное, женское счастье…
От этих слов она покрылась испариной, пропустила мимо ушей все, что он сказал потом, и опомнилась, только когда вышла от профессора и смогла немного перевести дух.
В квартире профессора располагался его научный кабинет, в котором были собраны всевозможные учебные материалы и справочники. Он позволял ими пользоваться всем студентам по будням с десяти до пяти часов, в свободное от занятий время. Но реально там работал только один аспирант, а Фуми получила доступ в знак особого расположения. В своем кабинете профессор требовал говорить по-французски, и это помогало ей овладевать французской разговорной речью. Неудивительно, что, решив подыскать себе временную работу, она прежде всего посоветовалась с профессором.
Он рекомендовал ей зайти в субботу в два часа на кафедру патологии Государственного медицинского университета и обратиться к ассистенту Дзюндзи Суде, обещая предварительно переговорить с ним. Придя на кафедру в назначенное время, она познакомилась с общительным молодым человеком, который вручил ей специальный французский журнал, попросил прочесть одну статью и кратко пересказать ее содержание. Она пробежала глазами текст — язык простой, но тема столь узкоспециальная, что пересказать статью ей явно не по силам.
— Может, вам проще перевести ее письменно? За сегодняшний день успеете?
— Думаю, за час управлюсь! Мне только надо где-нибудь примоститься, чтобы текст, написанный по-европейски слева направо, переписать по-японски — сверху вниз.
Взяв бумагу, она присела за стол в углу и принялась за перевод. Выуживая специальные термины в карманном французско-японском словаре, она справилась с работой меньше чем за час. «Готово!» — сказала она. Ассистент Суда, сидевший за микроскопом, тотчас подошел к ней, и она шепотом прочла перевод. Он слушал стоя, скрестив руки на груди, иногда кивал, иногда, казалось, хотел что-то спросить, когда же она закончила читать, сказал:
— Все понятно. Спасибо. Эти бумаги я забираю. Я не приготовил гонорар за сегодняшнюю работу, выдам в следующий раз. Будете приходить каждую субботу, но на следующей неделе кафедра по расписанию будет закрыта, поэтому жду вас через неделю.
Он собрался ее проводить.
— Если я буду работать у вас постоянно, — поспешно заговорила она, — я бы хотела немного познакомиться с этой научной дисциплиной. От профессора Б. я слышала, что вы работаете до пяти…
— Лаборантка уходит в пять, вы можете оставаться до этого времени, но, по правде сказать, наша наука не из легких. Впрочем, попробуйте почитать другие статьи в этом журнале.
Подозвав лаборантку, он сказал:
— Девушка хочет познакомиться с общим направлением нашей работы, пожалуйста, покажите ей материалы, которые могут ей помочь.
Сказав это, он вернулся к своему микроскопу.
Просмотрев его научные статьи, принесенные лаборанткой, Фуми с удивлением поняла, что он не просто профессор медицины, а выдающийся ученый.
Она была рада, что получила работу и сможет скопить денег на будущее. Теперь Фуми каждую неделю приходила на кафедру. Кроме всего прочего, ей предстояло меньше чем за полгода перевести на французский язык научный труд ассистента. Постепенно она начала постигать, что такое наука, что такое научное исследование. И почувствовала себя членом научного коллектива. Через полтора года, к тому времени, когда исследование Суды было опубликовано во Франции и удостоилось похвальных отзывов, а сам он получил звание доцента, они настолько сдружились, что она могла уже без стеснения говорить с ним обо всем на свете.
Подошла к концу учеба в университете. Фуми втайне от родителей подала заявление в аспирантуру, и львиная доля ее накоплений пошла на вступительный взнос. Рассказывая об этом Суде, она сболтнула, что отец надоедает ей требованиями совершить трехнедельный курс духовных упражнений в главном храме Тэнри и получить божественный дар и она не знает, как поступить. Он посоветовал ей исполнить свой дочерний долг и отдохнуть три недели на природе: в любом месте можно почерпнуть для себя что-то полезное. Она поехала в город Тэнри, провела там три недели, приняла божественный дар и поспешила обратно в Токио. Фуми и предположить не могла, что эти три недели перевернут ее судьбу.
Ей позвонил отец и радостно сообщил, что сразу же после ее трехнедельного послушания влиятельный иерарх Тэнри, служивший в главном храме, решил посватать за нее своего старшего сына. Во время ритуала принятия божественного дара его старший сын влюбился в нее с первого взгляда, и отец, хорошо все взвесив, одобрил его выбор. Отец Фуми почел это предложение за большую честь и, разумеется, согласился не раздумывая. Он строго потребовал расплатиться с хозяйкой квартиры и срочно вернуться домой.
Перед тем как идти в университет, она зашла на квартиру к Суде и сообщила о звонке отца.
— Значит, вы скоро уезжаете… Но ведь я обещал помогать вам в вашей научной работе… Вот что, поеду-ка я с вами вместе… А поскольку у меня нет никаких сомнений… Прежде надо решить… Короче, не выйдете ли вы за меня замуж?
В это мгновение у нее в груди как будто разорвалась бомба, слезы хлынули из глаз, и она уже не слышала, что еще он говорил ей.
А говорил он вот что. Как только устроятся ее дела с аспирантурой, они публично объявят о своем браке и постараются наладить совместную жизнь так, чтобы поддерживать друг друга в научной работе. Но зарегистрировать брак надо немедля, если юридически они станут мужем и женой, ее отец уже будет бессилен что-либо изменить. Суда прописан в районе Бункё. До начала занятий он узнает в районной управе все, что нужно, о регистрации и в половине третьего, после окончания лекций, будет ждать ее в своем кабинете. «Не забудь свою именную печать!» — напомнил он под конец.
Расставшись с ним, она припомнила весь разговор. Его слова: «Не выйдете ли вы за меня замуж?» — наполнили ее таким счастьем, что она будто впервые осознала, как сильно его любит.
В половине третьего со своей именной печатью она была в кабинете. Казалось, что и он, и все вокруг изменилось. Они отправились в районную управу. Все документы уже были подготовлены, ей оставалось только приложить печать. В половине четвертого она стала законной женой Дзюндзи Суды. А через десять дней отец не только лишил ее права наследования, но и, разгневанный ее непослушанием, разорвал с ней все родственные связи.
Это было за десять лет до того, как Хидэко (ее девичья фамилия Хамаи), прихватив дешевое издание моего первого романа «Буржуа», вместе с Фуми пришла ко мне в гости. От своей подруги она узнала о том, что из себя представляет учение Тэнри и что я выступаю его бескомпромиссным критиком. По ее мнению, сказала она, я выбрал местом действия романа «Буржуа» туберкулезный санаторий потому, что туберкулез — страшная сила, перед которой бессильна медицина, — подобен страшной силе под названием «учение Тэнри». Хотя все попытки излечиться бесполезны, необходимо продолжать борьбу и подвергать учение Тэнри серьезной критике.
Я постарался убедить ее, что в моей книге нет и намека на учение Тэнри. В действительности в швейцарском городке Ко нет туберкулезного санатория, более того, в гостиницах висят объявления, запрещающие останавливаться в них больным туберкулезом. Когда я писал эту книгу, то намеренно сделал местом действия Ко, так что швейцарцы небось до сих пор на меня в обиде.
Выслушав мое шутливое объяснение, она неожиданно сказала:
— Мне кажется, в этом-то и выразилось ваше критическое отношение к учению Тэнри.
Я не знал, что на это возразить, но в этот момент Фуми Суда, вероятно не стерпев, вмешалась в разговор и пустилась рассуждать о стилистическом своеобразии моего романа, о том, что для стиля японских прозаиков вообще характерна некая туманность, невнятность, а вот мой стиль, как у французских писателей, ясный и точный, избегающий всяких прикрас.
— Хоть это и была ваша первая книга, — сказала она, — в ней уже отчетливо проявляется ваш зрелый стиль. Просто чудо эти короткие фразы, нанизанные точно трехстишия хайку!
Хидэко стала с жаром поддерживать подругу, и вот так незаметно за разговорами пролетели три с половиной часа.
Через три месяца подруги пришли с моей книгой «Умереть в Париже». Видимо, за это время Фуми, будучи моей преданной читательницей, успела ввести Хидэко в суть моего творчества, целый час они задавали вопросы по существу, вытягивали из меня мои собственные суждения и ушли удовлетворенные. С тех пор подруги, всегда вдвоем, стали заходить каждые три-четыре месяца. Всякий раз они приносили с собой какую-нибудь из моих книг, и мы обсуждали ее в течение часа. То «Книгу о любви и смерти», то «Возвращение к жизни», в другой раз — «Супружество», потом — «Любовь, мудрость и скорбь», «Человеческую судьбу»…
Эти визиты продолжались регулярно на протяжении нескольких лет. Скончалась моя жена. Как-то раз я занялся уборкой в доме, устал и присел отдохнуть, размышляя о том, что мне уже как-никак восемьдесят пять, пора готовиться к смерти. В этот момент и пришли подруги. Они принесли давно не переиздававшуюся «Вероучительницу». Несмотря на усталость, я спустился в гостиную, и эта книга сразу бросилась мне в глаза. Я вдруг почувствовал, что должен как можно скорее написать о Жаке…
Хидэко с ходу заговорила о своем впечатлении от книги. По ее мнению, это была не столько биография основательницы вероучения, сколько великолепно написанная история жизни замечательной японской женщины Мики Накаяма. Особенно мне удалось, по ее словам, передать неизбывную печаль, вообще присущую женщине. Приведя несколько примеров, она с жаром заявила, что такого замечательного произведения, несравненного по стройности композиции, по силе словесного выражения, нет даже во французской литературе.
Я с трудом дождался, пока она закончит, и спросил у Фуми, читала ли она эту книгу. Она ответила, что не читала, поскольку ее не интересует основательница учения Тэнри, но ей любопытно, почему я, будучи критиком Тэнри, взялся за написание этой биографии. Долгая история, но раз я еще не написал о Жаке, то решил хотя бы вкратце рассказать ее моим посетительницам.
Позже я подробно изложил все это в «Улыбке бога». Итак, полвека назад, находясь на учебе во Франции, я заболел туберкулезом легких, который в то время считался неизлечимым, и был направлен в высокогорный санаторий. Директор санатория профессор М. свел меня с молодым, но уже довольно известным ученым-естественником, французом. Этот молодой ученый проходил курс лечения совместно с двумя другими французами, так же, как и он, выпускниками университета, и директор санатория распорядился, чтобы они взяли меня в свою компанию. Это спасло мне жизнь. Мы жили в отдельных комнатах, но все четверо, объединенные близостью смерти, по пять часов в день проходили обязательный курс физиотерапии и совершали трехчасовую прогулку, более того, и обедали и ужинали за одним столом. Через полгода мы уже хорошо знали друг друга и настолько сроднились, что нас связывали почти братские чувства. А примерно через год ученый-естественник настоятельно стал советовать мне бросить науку и заняться писательством.
Сила Великой Природы (а это и есть Единый Бог), сотворившая и приводящая в движение Вселенную, послав в этот мир людей, определила каждому его предназначение, хотя большинство людей даже не догадывается об этом. Но в тех случаях, когда о своем истинном предназначении не догадывается особо одаренный человек. Бог по Своей милосердной любви просвещает его, наслав на него туберкулез. Осознав это, ученый-естественник Жак и два других пациента решили воплотить в своих делах высшую волю, и стоило им обратиться к Богу, как их здоровье пошло на поправку, так что — как и обещал им профессор М. — на Пасху они уже смогли вернуться к нормальной жизни. Жак старался убедить меня, будто и мне Бог посредством болезни указывал, что мое истинное призвание не экономика, а литература. Он с жаром призывал меня принять решение, ведь литература — это благородное, не всякому доступное занятие, суть которого в том, чтобы облекать в слова неизреченную волю Бога.
Я не был столь убежден в существовании Бога — Силы Великой Природы, как Жак и оба его товарища, но, борясь со смертью вместе с этими молодыми французскими интеллектуалами-позитивистами, ежедневно общаясь с ними, участвуя в их духовной жизни, не мог остаться равнодушным к их вере. В конце концов, поставив на кон свою жизнь, я последовал совету Жака. Когда на следующий день, во время утренней обязательной прогулки по заснеженному высокогорью, мы вчетвером поднялись на возвышенность, которую они называли своим храмом, я сообщил Великому Богу о своем решении и вознес благодарственную молитву. В этот момент, посреди сияющего заснеженного высокогорья, под
ясной лазурью небес, даже я, безбожник, был взволнован молитвами и священными гимнами трех моих товарищей. Возможно, именно благодаря этому через четыре месяца, на Пасху, мне, как и моим товарищам, было позволено вернуться к нормальной жизни. Более того, несмотря на то что все были уверены — после выписки из санатория я еще несколько лет не смогу вернуться на родину (путь в Японию морем длился тогда сорок пять дней), уже зимой того же года мне позволили отплыть туда на французском судне.
Когда в конце года я прибыл в Кобе, популярный журнал, словно по наущению Бога, присудил мне премию за мой роман. Без всякой посторонней помощи я шаг за шагом вошел в литературу, стал профессиональным писателем и худо-бедно смог существовать на писательские гонорары. В Японии я вновь стал вести легкомысленное существование, не задумываясь ни о Силе Великой Природы, ни о Боге. Но к концу войны на Тихом океане, когда нравственные страдания усугублялись житейскими невзгодами, я все чаще и чаще вспоминал о своих товарищах и задумывался о Божьем величии… Поэтому, когда после окончания войны издательство «Тэнри» обратилось ко мне с просьбой написать биографию основательницы учения, я, после нескольких категорических отказов, наконец решил лично удостовериться, действительно ли всемогущий Бог сошел на Мики Накаяма, и дал согласие. Мне понадобилось десять лет, чтобы написать эту книгу.
Выслушав мой рассказ, Фуми Суда неожиданно спросила:
— Значит, вы удостоверились, что это правда?
— Решать читателям… Но тогдашние читатели, кажется, сочли мои аргументы убедительными. Руководство Тэнри учило, что основательница от самого своего рождения была Богом, а я заявлял, что это не так и что она смогла стать основательницей учения после трудных духовных испытаний, следуя указаниям сошедшего на нее Бога-Родителя. Руководство Тэнри решило, что многие, кто не читал официальных жизнеописаний, прочтя мою книгу, сочтут, что в ней рассказывается истинная жизнь основательницы, и поспешило, договорившись с издательством, прекратить издание… Наверное, потому, что у приверженцев Тэнри есть об этом свое, готовое мнение. А тебе, Хидэко, как простой, непредвзятой читательнице, замысел автора кажется убедительным?
— Слушая ваш рассказ о том, что побудило вас взяться за написание столь необычной книги, я внезапно кое-что поняла. Мики Накаяма, услышав, как ей почудилось, голос Бога, на следующий же день отказалась от всех домашних забот, заперлась в амбаре, зажгла курения и погрузилась в молитвы. Она провела там три года, внимая словам Бога. Когда я прочитала об этом, то не могла сдержать слез. Будь на ее месте мужчина, он бы наверняка выбросил из головы эти дикие фантазии и занялся своей повседневной работой. Именно потому, что она была женщиной, в избытке наделенной женской сердечностью и женской печалью, она смогла отринуть все житейское и искренно последовать за словом Божьим. Она приняла божественное откровение, но мне кажется, это в корне отличалось от того, как понимаются в христианстве отношения Иисуса и Бога-Отца. Мне стало ясно это только сейчас, во время вашего рассказа… Я твердо намерена жить как свободомыслящий человек, но в глубине души у меня сохранилось что-то от католического воспитания, поэтому, читая вашу «Вероучительницу», я невольно вновь становилась католичкой… Дело в том, что мои родители — ревностные католики, сразу после рождения меня крестили и позже старались привить мне правила веры. В старших классах я перестала посещать церковь и отдалилась от религии, но поскольку толком не знала католических догматов, то и не осуждала их…
Она посмотрела на часы и торопливо добавила:
— Честно говоря, я бы хотела выразить признательность вашей супруге и сообщить ей кое о чем. Вы не могли бы передать?..
— Что именно?
— Я уже давно была влюблена в Накамуру, но в конце концов смирилась с мыслью, что мне не суждено стать его женой, и решила незаметно от него отдалиться. И вдруг, в начале февраля, к моему удивлению, он сам предложил мне выйти за него замуж. Первая моя мысль была вежливо отказаться, но тут я вспомнила вашу супругу… Если бы я смогла, как она, постоянно на почтительном расстоянии следовать за выдающимся учителем, быть неизменно счастливой, излучающей радость, я бы тоже, наверно, не стала помехой в его личной жизни… Я честно призналась Накамуре в своих мыслях, и он обрадовался… Мы обручились… А все благодаря вашей супруге, вот я и собиралась рассказать ей обо всем и выразить свою благодарность…
— Что ж, поздравляю. Моя жена будет рада!
— И вот еще что. Накамура строит дом неподалеку от вас, в конце следующего месяца строительство будет завершено, и тогда, выбрав благоприятный день, мы соберем в новом доме самых близких родственников и объявим о нашей женитьбе. Прошу и вас вместе с супругой пожаловать к нам.
С этими словами она собралась уходить.
Мне пришлось сказать, что жена умерла еще в начале февраля. Согласно ее последней воле, мы никого не извещали об этом и на похоронах присутствовали только ближайшие родственники. Обе подруги разрыдались. Я не знал, что и делать, когда Фуми Суда попросила, чтобы я позволил им поклониться духу усопшей. Я проводил их в бывшую комнату жены. Девушки сели перед установленным в нише алтарем и отдались слезам.
С тех пор моя плоть ослабела, я много дней проводил в постели, по-настоящему готовясь к смерти, но и в это время подруги продолжали навещать меня. Книг они не приносили, просто приходили проведать. Несколько раз я получал от них письма, но не отвечал. Когда была издана «Улыбка Бога», они пришли меня поздравить с букетом цветов и, увидев, что я выгляжу здоровым, обрадовались этому, как чуду. Они сказали, что, по их мнению, «Улыбка Бога» по стилю и композиции превосходит даже «Человеческую судьбу», чем немало меня смутили. Я был тогда в процессе писания «Милосердия Бога», Бог велел мне: «Пиши, не тратя времени на встречи с людьми!» Поэтому, надев красную рабочую куртку — хантэн — и внушив себе, что я узник, пребывающий под надзором Бога, я сказал подругам, что не могу ни с кем встречаться прежде, чем по велению Бога не напишу три книги, и выпроводил их.
И вот, когда я дописывал последнюю фразу третьей книги, «Замысел Бога», неожиданно пришла Фуми Суда, одна. Но теперь я уже мог встречаться с кем угодно, поэтому спустился в гостиную. Она сразу сама заговорила о цели своего визита, и, к моей радости, мне оставалось только слушать.
— Прочтя две ваши книги, посвященные Богу, я загорелась желанием непременно повидать юношу Ито, о котором вы пишете… Я была заинтригована, поскольку мне показалось невероятным, что вероучительница Тэнри вошла в двадцатилетнего юношу и начала вещать через него… Я попыталась уговорить Хидэко. Но она отказалась, заявив, что все это, конечно, любопытно, но ей сейчас не до того. Одной пойти у меня не хватает духу, так что в конце концов пришлось от этой мысли отказаться… Но хоть я и рада, что освободилась от учения Тэнри, видно, вероучительница, о которой я столько слышала в детстве, поселилась где-то в глубине моей души, и теперь, вы уж меня извините, я никак не могу избавиться от сомнений: возможно ли такое, чтобы через сто лет после смерти госпожи Родительницы она устами двадцатилетнего юноши возвещала истинный путь?
— Извиняться не за что. Возможно, именно твое сомнение станет для тебя началом нового пути.
— Так вот он какой — ваш пресловутый позитивизм! Сказать по правде, запутавшись в своих мыслях, я ничего не сказала мужу, но он, верно, что-то почувствовал и, к моему удивлению, сам заговорил со мной. «Вот ты так увлеклась творчеством Сэридзавы, — сказал он, — а знаешь ли ты, что он — позитивист? В своей последней книге он сам трижды именует себя позитивистом. Разумеется, не в том смысле, что вера должна непременно опираться на неопровержимые доказательства. Все не так просто. Вновь и вновь возвращаясь к этой главной проблеме, он сам разъясняет свою позицию. На твоем месте я бы не стал докучать ему своими сомнениями. Ты только понапрасну тратишь его драгоценное время, которого ему отпущено уже не так много!..» Совет мужа открыл мне глаза, и я решилась во что бы то ни стало сама повидать юношу Ито. Я разузнала, что его можно посещать и слушать его речи трижды в месяц, по числам с восьмеркой… И вот двадцать восьмого числа прошлого месяца я разыскала «Хижину небесного завета» в Кавагути. Утром у меня были лекции в институте, поэтому я добралась только к двум часам…
По названию — «Хижина небесного завета» — я воображала бог знает что, поэтому была поражена, когда оказалось, что это всего лишь квартира в небольшом одноэтажном доме. Внутрь было не войти. Человек сорок мужчин и женщин толпились на подступах в узком проулке, напряженно вслушиваясь в голос, доносившийся из репродуктора. Долетавшие слова и в самом деле своим архаичным выговором напоминали речь древней старицы. Некоторое время я слушала, как вдруг ко мне обратился стоявший рядом господин: «Вы, я вижу, здесь в первый раз. Сегодня он заканчивает в два часа, поэтому вам стоит попытаться войти внутрь и обратиться к нему непосредственно…» Этот господин провел меня ко входу, и после некоторых усилий я смогла пробраться в дом.
Маленькая комната с отодвинутой перегородкой была набита людьми так, что яблоку упасть некуда. В задних рядах люди жались, сидя на полу, я еле протиснулась на освободившееся место. В глубине под домашней божницей сидел некто, по виду мужчина, но одетый в алое женское кимоно, подвязанное алым кушаком. Обращаясь к собравшимся, он старушечьим голосом изрекал старинные слова. Трудно было поверить, что это и есть двадцатитрехлетний Ито. Глаза провалились, рот старчески сморщился, только волосы были черные и подстрижены, как у юноши. Это было просто невероятно! Он говорил с каждым не дольше одной, самое большее трех минут. Выслушав, человек с взволнованным лицом отходил, уступая место следующему. Набившиеся в комнату люди затаив дыхание вслушивались в слова, обращенные к другим, как будто надеялись почерпнуть в них нечто важное для себя… Вдруг люди вокруг зашептали, обращаясь ко мне: «Ваша очередь!», я с трудом пробралась сквозь толпу и села перед человеком в алом наряде. Вот, приблизительно, что он сказал:
«Наконец-то пришла! А я уж заждалась… Ты была занята научной работой, усердие твое похвально… Счастливый ты человек, и муж у тебя замечательный… Сколько уже лет прошло, а ты ни разу не высказала мужу ни недовольства, ни жалобы, всю себя посвятила ему, стала ему опорой. И другим о своем муже дурного слова ни разу не молвила. Бог это одобряет. Какой все-таки у тебя прекрасный муж! Все силы отдает такой трудной науке — патологии, ради спасения людей… На весь мир прославился своими исследованиями, но не возгордился, помогает товарищам по работе, продолжает исследования… Не иначе Бог дал твоему мужу эту миссию… А ты незаметно ему помогаешь, поддерживаешь его, какие же вы оба счастливые!.. К тому же твой драгоценный супруг никогда не был стеснен в деньгах, это ли не счастье! Во всей Японии такой счастливой пары не сыскать!.. Одно нехорошо, такой счастливый брак скрываешь от своих родителей… Можешь сказать, не виновата, мол, они сами тебя изгнали из дома, но давай подумаем вместе. Разве могли родители поступить иначе?.. Поверь, они на тебя зла не держат. Когда тебе будет дарована прелестная дочка и сама ты станешь матерью, сразу поймешь чувства родителей. Они ждут не дождутся, когда ты принесешь им внуков. Разве можно держать их в неведении?.. До следующего раза обдумай все это хорошенько. Буду тебя ждать. А теперь прощай…»
Уступив свое место следующему, я выскочила на улицу. Мне было так страшно, что я решила поскорее забыть все, что со мной произошло, и ничего не стала рассказывать мужу. Слова, обращенные ко мне странным существом в алом наряде, слишком соответствовали действительности и именно потому казались чем-то невероятным. Шло время, но меня продолжали терзать вопросы. Неужели это странное существо и есть юноша Ито? Правда ли, что его устами говорит дух Мики Накаяма, а сам Ито — только медиум, поэтому, когда дух старицы начинает говорить, он так странно преображается… Восьмого числа этого месяца я решила вновь отправиться туда. Это был рабочий день, я взяла отгул и пришла в «Хижину небесного завета» в половине десятого. Я слышала, что беседы начинаются в десять, но в тот день собралось много людей, пришедших накануне из дальних мест и прождавших всю ночь, поэтому беседа началась с девяти… Я сразу же прошла в гостиную, там уже было человек двадцать, внимавших поучение. Я попросила о личной беседе, и меня усадили поближе, слева от человека в алом кимоно. Я была рада, что со своего места могу, не вставая, наблюдать за происходящим. Сидевшая справа от меня женщина записывала имена собравшихся и, видимо, выполняла роль помощницы… Между тем уже набралось человек сорок. И тут вдруг… тот, что был в алом кимоно, со словами: «А вот и ты! — взял меня за руку и заговорил ласково: — На любое изыскание потребно время, а потому торопиться и тужиться не след. Уймись! В прошлый раз увещала я тебя сообщить родителям о счастье твоем семейном, но ты не вняла. А о сегодняшней нашей беседе всенепременно супругу расскажи. На душе полегчает. Изгнали тебя из семьи не потому, что ты дурная. Дурен — твой отец… Потому и изгнал… Ты невзлюбила учение Тэнри, не так ли? Однако небось и ведать не ведала, в чем истинного учения Тэнри суть. В больших религиозных организациях среди поставленных наверху завсегда найдутся люди, что не ведают божественной стези и не радеют укреплять дух свой в делах веры, все свои помыслы обращают они исключительно на попечение о сохранности уставов и установлений, личная выгода и власть развращают умы, постепенно разъедая изнутри… А ведь ты, еще прежде чем это произошло, прияла божественный дар… Чистым сердцам благословение на пользу… Вот оно как. А если б ты тогда и впрямь стала невесткой высокого церковного чина и прогнившие насквозь люди тебя б не отвергли, как пить дать, не прошло бы и года, слегла бы ты от телесной немочи. Понимаешь ли, что в то время твой супруг тебя спас? Задумывалась ли, почему он смог тебя спасти? А все потому, что Бог-Родитель воспринял истинность веры родителей твоих до скончания времен. И то, что ты родилась такой одаренной, и то, что ты повстречалась со столь прекрасным мужем, все благодаря тому, что Бог признал истинной веру родителей твоих. Посему надлежит тебе ныне исследовать, что из себя представляет подлинное учение Тэнри и кто я такая… Торопиться не след. Твоя главная миссия, как и прежде, служить опорой мужу, помогая ему завершить его научные изыскания. А к тому, что тебе предстоит исследовать, отнесись как к развлечению, как к игре… И ко мне приходи всегда веселой, будто для развлечения. Все усвоила? Прощай».
Сказанное напрямую затрагивало мою жизнь, настолько, что у меня в душе вновь все перевернулось и я долго не могла прийти в себя. Между тем, число пришедших за поучением все росло, дом был переполнен, сесть было негде, в задних рядах уже теснились стоя, вероятно, и на прилегающей улице столпился народ… Все же я не покидала места, внимательно наблюдая за происходящим. Один за другим люди подходили к одетому в алое кимоно, он брал каждого за руку и в течение двух-трех минут произносил свои увещевания, после чего человек со взволнованным лицом отходил, но с одного взгляда было видно, что он доволен и счастлив. Содержание бесед с мужчинами и женщинами всех возрастов было на удивление разнообразным. Некоторые ограничивались пожатием руки. Одна женщина со словами: «Уж так вы мне помогли!» — уткнулась лицом в циновки и зарыдала. «Отриньте тревоги, я всегда за вашей спиной!» — звучал ласковый голос… Между тем наступил полдень, раздали коробки с едой, стоящие и сидящие в задних рядах, продолжая прислушиваться к речам, открывали коробки, но я решила, что не притронусь к еде, пока облаченный в алое кимоно не начнет есть…
Через некоторое время он неожиданно поднялся. Я подумала, что на сегодня увещеванья окончены, но сидевшая рядом со мной женщина, записывавшая имена посетителей, объяснила, что он вышел переодеть пропотевшее кимоно. И в самом деле, вскоре он вновь появился в свежем алом кимоно и продолжил вещать. Через какое-то время облаченный в алое кимоно тихо хлопнул в ладоши, низко поклонился и поблагодарил собравшихся:
«Всем спасибо».
Но когда он поднял голову, в его лице не осталось уже ничего от древней старухи. Это вновь был юноша. Он тотчас вышел. Было около половины пятого.
В комнате сразу стало шумно, многие двинулись к выходу, но я, просидев почти семь часов, не могла подняться. Моя соседка шепнула, что сегодня было триста семьдесят пять человек. Я не могла поверить, что здесь могло уместиться так много людей, и вновь окинула взглядом комнату. Я заметила, что многие из присутствующих хорошо знают друг друга и беседуют по-приятельски. Невольно прислушиваясь, я поняла, что здесь есть и те, кто приехал издалека — с Хоккайдо, из Осаки, с Сикоку. Я хотела о чем-то спросить, но в это время показался тот, кто прежде был облачен в алое кимоно. Сейчас на нем был обычный черный пиджак. Красивый молодой человек лет двадцати пяти. Так вот он какой — «юноша Ито»… Прибывшие издалека люди бросились к нему со своими вопросами, но он устало молчал. Наконец сказал, что ему пора идти — «опаздывает на работу»… Я вам так подробно обо всем рассказываю потому, что вы как-то вскользь упомянули, что не бывали в «Хижине небесного завета». А почему вы туда не пошли?
— Мне это ни к чему.
— Не хотите послушать, как он вещает?
— Меня не интересует, что говорит этот юноша… Когда живосущая госпожа Родительница желает мне что-либо сообщить, она приходит сама. И беседуем мы не три минуты, а много дольше, так что я могу полностью вникнуть в смысл ее слов. Иногда она спрашивает, нет ли у меня к ней вопросов, так что я могу спросить ее о том, что меня волнует.
— Вы один ее слышите?
— Нет, все, кто находятся в это время в доме, к тому же она обращается с речами к каждому.
— И я могла бы услышать?
— Разумеется. Только никогда не известно, когда именно она явится. А уходит она минут через сорок, так что я бы не успел вас позвать. Но по своему опыту я знаю, что когда госпожа Родительница пожелает с вами встретиться, она заранее вызовет вас сюда.
— По вашему мнению, этот юноша — медиум? Я спросила у мужа, он сказал, что кто-то из его друзей-ученых проводил исследования и выяснил, что даже самый сильный медиум после нескольких сеансов теряет свои способности, поэтому вряд ли его можно назвать медиумом… Он сказал, что без медицинского обследования трудно определить, насколько это болезненное явление… Удивительный все-таки феномен!
— Вот и исследуйте, чтобы знать наверняка. Как только добьетесь каких-либо результатов, обязательно сообщите мне.
— Какое там исследование! Я ведь и об основательнице Тэнри толком ничего не знаю. Давеча взяла у Хидэко «Вероучительницу» и начала читать… Поняла, что ничего не знала об учении Тэнри, и теперь спешу наверстать.
— Вы еще молоды, спешить вам некуда. Изучайте не торопясь. А об успехах сообщайте мне. Я еще лет двадцать-тридцать протяну.
— Вы так хорошо выглядите, каждый раз, навещая вас, я не верю своим глазам. Вы как будто еще помолодели с тех пор, как я впервые пришла к вам. Хидэко тоже удивилась… Она была так рада! Встреча с вами так ее приободрила!
— Ну уж, ну уж… Видно, я уже начал впадать в детство, — рассмеялся я, провожая Фуми.
Я решил не совать нос в чужие дела и не стал советовать ей поскорее связаться с родителями.
Глава четвертая
Однажды утром, только я сел за свой рабочий стол, собираясь заняться срочной корректурой «Замысла Бога», как домработница сообщила, что Фуми Суда стоит на пороге и желает меня видеть.
Она уже приходила в этом месяце десятого числа рассказать о своем визите в «Хижину небесного завета», поэтому, догадываясь, что нынче она явилась доложить о своем третьем визите восемнадцатого числа, я спустился вниз. Стоя во дворе, Фуми была явно смущена, поэтому я обратился к ней шутливым тоном:
— Доклад о посещении юноши Ито?
— Нет, на это пришлось бы потратить целый день, — улыбнулась она и решительно прошла в гостиную.
Присев, она заговорила:
— Я много размышляла о том, является ли Ито медиумом или же это болезненное отклонение. И вот о чем я подумала. На слух мне показалось, что облаченный в алое женское кимоно употреблял устаревшие выражения — возможно, именно так изъяснялась при жизни Мики Накаяма.
— Я тоже об этом подумал…
— Но может быть, юноша просто выучил эти слова? Вот что надо разузнать перво-наперво! Муж тоже посоветовал мне, как лингвисту, прежде всего разобраться с этим… Но я занималась только иностранными языками, а в японском — полный профан. К счастью, я вспомнила, что профессор И., лингвист, помогавший мне, когда я училась в старших классах, и, как я слышала, недавно ставший преподавателем в университете К., — специалист по японскому языку. Я позвонила ему и попросила помочь. Он сказал, что не занимался специально диалектами района Нара, но обещал мне всяческую помощь. Это меня приободрило и успокоило… Я вам все это рассказываю, а вы, наверно, думаете, что я занимаюсь всякими пустяками.
— Напротив, я тебе благодарен. О результатах обязательно сообщи мне. Тут и в самом деле надо быть лингвистом, чтобы разобраться что к чему! Действительно ли на таком языке изъяснялась сто лет назад госпожа Родительница? Принадлежат ли эти слова духу, вещающему посредством юноши Ито? Мне не терпится получить от тебя ответ.
— Вот поэтому у меня к вам просьба. Я всего два раза ходила в «Хижину небесного завета» и не записала разговор на пленку, а вы, я знаю, записывали у себя дома речи госпожи Родительницы…
— Начиная со второго ее посещения. Дочь должна знать, сколько там всего набралось.
— Не могли бы вы одолжить мне хотя бы три пленки? Я перепишу, это поможет мне в моем исследовании.
— Пленки хранятся у дочери, как только она вернется с занятий, я тебе пришлю… А кстати. Дочь перепечатала все, что записано на пленках. Может быть, с текстом тебе было бы удобнее работать?
— Мне необходимо услышать ритм речи, особенности произношения, интонацию… Вот если бы вы одолжили мне пленку… Обещаю никому ее не давать. Только перепишу и тотчас верну.
— Я передам дочери, чтобы она тебе сразу послала. К сожалению, у нее сегодня занятия, ее нет дома…
— Большое спасибо! Еще раз извините за вторжение и такую наглую просьбу.
Поднявшись, она собралась уходить. Я поспешил ее удержать:
— Если у тебя есть свободное время, я хотел бы тебя кое о чем расспросить. О твоем муже. Не могла бы ты немного рассказать…
— О муже? — удивилась она, присаживаясь.
Некоторое время она молча глядела на меня.
— Мой муж… — наконец заговорила она. — Знаете, в обычном понимании слова он мне не муж.
— Что? Ты сказала — не муж? Как же так, ты замужем, у тебя есть ребенок… Может быть, я как-то не так выразился, извини, ведь я не лингвист.
— Дело не в этом, я вовсе не шучу. Понимаете, я ни разу не подумала об этом человеке как о своем муже. Он больше, чем муж. Для меня этот человек все равно что солнце. Он для меня — бог. Он один мне нужен для счастья, кроме него, мне ничего в жизни не надо.
— Да ты, как я погляжу, живешь по старинной заповеди семейного счастья: жена, чти мужа яко бога.
— Ничего не знаю про другие, обычные семьи. То, что часто происходит у людей, живущих вместе, — постоянные ссоры, порывы разойтись, — все это не имеет ко мне никакого отношения… Просто я знаю, что мое счастье в этом человеке, и всей душой радуюсь этому…
— Это замечательно. Отрадно слышать, когда жена говорит влюбленно о своем муже.
— Не смейтесь! Я много раз повторяла в душе эти слова, но еще никогда никому не поверяла их. Вы меня спросили, я вам и ответила начистоту. Вот только одно меня смущает… Признаться, меня порой тревожит, нет ли какого недоразумения в том, что я, женщина своенравная, облагодетельствована таким счастливым браком? Я хочу знать, что вы думаете. А вдруг наш брак — всего лишь недоразумение?
Она вновь пристально взглянула на меня. Я невольно посерьезнел.
— Когда я впервые пришла к вам вместе с Хидэко, она, представляя меня, рассказала вам о том, как меня принуждали выйти замуж за сына функционера из Центра Тэнри и как Накамура, желая меня спасти, заключил со мной фиктивный брак. Ни тогда, ни после я не рассказывала вам о том, что произошло потом… Когда мы, подав заявление, вышли из районной управы, он сказал: «Дней через пять твои родители узнают обо всем, но до того тебе лучше где-нибудь спрятаться. Хотя бы переехать куда-нибудь, чтобы не сразу могли разыскать. Вот что. Лучше всего, если ты поживешь у меня на квартире, в гостиной. За два дня я все там приготовлю для тебя, поэтому на третий день скажи хозяевам, что возвращаешься домой и вещи отправляешь вперед. Эти вещи мы перевезем ко мне, а ты, попрощавшись, уедешь. Разыграем маленький любительский спектакль…» Я была тогда как во сне, просто шла за ним и готова была делать все, что он скажет… Как он сказал, так я и поступила.
У него была прекрасная квартира недалеко от университета, где он работал. Она занимала весь третий этаж и включала его рабочий кабинет, спальню, столовую с примыкающей кухней, ванную и гостиную. Было решено, что я на правах его подруги поселюсь в гостиной. На третий день, к моему приезду, он все в ней переделал, поставил для меня кровать, стол, полку для книг, платяной шкаф… Постепенно я обвыклась. Утром он завтракал на французский манер или сам готовил себе что-нибудь простое и, ничего не убирая за собой, уходил на работу, затем появлялась пожилая домработница, она прибиралась в комнатах, готовила ужин. То, что надо разогревать, оставляла у электропечи, остальное убирала в холодильник и уходила. Холодильник и всевозможные бытовые электроприборы были под рукой в столовой. Ах да, в первый же день он сказал мне следующее. «Мы зарегистрировали брак, но это всего лишь формальность, чтобы спасти тебя из безвыходной ситуации. Давай сразу условимся, что мы не женаты. Я сказал в доме, что ты работаешь у меня на кафедре, тебе негде жить и я тебя приютил на время, поэтому с завтрашнего утра нам будут готовить еду на двоих. Можешь вставать когда угодно, завтракать и идти в колледж или куда пожелаешь по своим надобностям. И вечером, когда захочешь, ужинай и ложись спать в удобное для тебя время». Так мы и начали жить, как он сказал.
Через несколько дней он меня предупредил: «Хозяйка твоего пансиона уже наверняка начала искать, куда ты пропала, поэтому будет разумнее какое-то время не посещать колледж». Я обратилась с просьбой к завучу, переговорила с патером Б. и, перестав ходить на занятия, целыми днями не покидала квартиры. Дней через десять позвонила Хидэко. К ней в колледже подошли хозяйка пансиона и какой-то господин и пытались посулами и угрозами выведать, где я прячусь. Но она твердо заявила, что ничего не знает. На пятый день пришло срочное письмо от патера Б. «Посылаю вам по просьбе ваших родных», — говорилось в короткой записке. В конверт были вложены два письма — от отца и главы местного прихода. Письмо от главы прихода, как водится, состояло из сплошных увещеваний, я не стала обращать на него внимания, но написанное отцом пронзило меня до глубины души и больно ранило.
«Твой поступок — большой грех против Бога. Я изгоняю тебя из дома, порываю с тобой родственную связь с тем, чтобы вымолить у Бога-Родителя прощение. Отныне для меня ты возродилась (т. е. умерла). Однако, как любящий отец, оставляю тебе последнюю надежду. Нет сомнения, что твоя непочтительность к родителям и грех против Бога вызовут божественный гнев и навлекут на тебя кару: твой полюбовник тебя бросит и ты падешь на дно бед. И вот когда ты осознаешь, что возродилась, и решишь стать проповедницей учения, посвятить свою жизнь Богу, и я, и твоя мать примем тебя со всей родительскою любовью…»
Вот что он мне написал. Но скажите, разве Бог карает людей?
— Карает ли Бог? Разумеется нет. Он жалеет и блюдет людей как Своих возлюбленных чад. И все-таки твой отец великолепен!
— Вы меня успокоили. При всей нашей гордыне, в сущности, мы такие слабые создания… Итак, я вновь стала ходить в колледж. Отныне я помогала Суде и с английским и с немецким, теперь уже и по четвергам с двух часов я работала на его кафедре, мои заработки возросли. В конце месяца я хотела отдать ему плату за жилье, столько, сколько платила в пансионе, но он только рассмеялся и со словами: «Думаю, ты не будешь против» — передал все деньги пожилой домработнице. Так мы прожили почти полгода. За это время я лучше узнала его и ясно осознала, что совершенно недостойна быть его женой. Я решила считать себя всего лишь его сотрудницей по работе на кафедре и вести себя соответственно.
Вы родились в эпоху Мэйдзи, поэтому наверняка слышали о человеке по имени Дзюмбэй Суда, принадлежавшем к одному из влиятельных финансово-промышленных кланов. Отец моего благоверного был его старшим сыном и унаследовал его состояние, но после поражения Японии оккупационные войска распустили финансово-промышленные кланы, произошла своего рода революция. Его отец имел много неприятностей, но сумел сохранить свое состояние. Зная на примере своего отца и деда, сколь гнусные нравы царят в политике и бизнесе, мой благоверный мечтал заняться каким-либо достойным делом. Он поступил в университет, на физико-математический факультет, но вскоре понял, что по окончании учебы ему придется вращаться все в том же гнусном кругу, и через два года, когда его отец скончался, перешел на медицинский, решив посвятить себя изучению материи на мельчайшем, невидимом для глаза уровне и постараться хоть немного способствовать тому, чтобы жизнь человека была бы счастливей. Вот так он стал специализироваться в патологии. Исследования он ведет очень сложные, я и сейчас с трудом представляю, чем именно он занимается. Уже в то время, когда я впервые встретила Суду, его несколько раз приглашали за границу на международные симпозиумы, и результаты его исследований получили высокую международную оценку. Меня восхищало, с каким энтузиазмом работает Суда и его молодые коллеги. Громадным счастьем было уже то, что я могу дважды в неделю приходить к нему на кафедру, а о том, чтоб стать его женой, я даже не мечтала.
Прошло около года. Однажды воскресным утром он вошел ко мне в комнату и сказал, что нам надо серьезно поговорить. Это было так необычно, что я встревожилась…
«Моя мать беспокоится по поводу наших отношений, поэтому я принял решение жениться. Формально ты зарегистрирована как моя жена, и у тебя имелось достаточно времени, чтобы определиться, поэтому если ты не хочешь быть моей женой, будет лучше, для нашего взаимного блага, подать заявление на развод. Надеюсь, что и после этого ты, как прежде, будешь помогать мне в моей работе. Если же ты думаешь, что можешь, не принося в жертву своей научной карьеры, быть моей женой, предлагаю отныне начать жить как муж и жена».
Я не знала, что сказать. Я была готова разрыдаться.
Наконец, выдавила из себя:
«Видеться с вами дважды в неделю на кафедре патологии стало для меня смыслом существования. Если так будет продолжаться всю мою жизнь, я уже буду счастлива… Разумеется, для меня было бы величайшим блаженством жить с вами как жена с мужем, но теперь, когда я так близко узнала вас, я понимаю, что брак между нами невозможен. Об одном прошу, позвольте мне всю жизнь работать рядом с вами на кафедре!»
«Все понял. Нам надо жениться по-настоящему. Даже если супружеская жизнь немного повредит твоим ученым занятиям».
«Моя работа в лингвистике не так важна, дело в другом. Если б вы были в таком же бедственном положении, как я, с какой радостью я бы пошла за вас замуж! Но людям, увы, не дано то, чего они более всего желают».
«Ну что ж, раз с этим все решено, поедем вместе к моей матери».
«К вашей матери? Зачем?»
«Объявим ей. И мать, и все родственники уже замучили меня, требуя, чтоб я женился. Декан Н. давно уже порывается стать моим сватом. Пригласим самых близких тебе и мне друзей, выполним по-быстрому все положенные формальности и отпразднуем это событие. Как тебе мой план? Но прежде всего надо объявить о нашем браке моей матери».
«Это невозможно! Как только вы заговорите об этом со своей матерью, я умру со стыда, упаду в обморок. Начнем с того, что у меня нет приданого, у меня вообще ничего нет».
«Я уверен, что твои гениальные познания в лингвистике стоят намного больше любого состояния».
«К тому же меня выгнали из дома родители, родственники от меня отказались. Я теперь всего лишь бродяжка без роду и племени. И мне — выйти за муж за такого, как вы…»
«Вот так все прямо моей матери и скажи. Если мать будет против нашего брака, я смирюсь и поступлю по твоему желанию».
Мы еще долго препирались, но в конце концов он отвез меня на своей машине к матери. Я была так напугана, что совершенно не помню дороги. Мы подъехали к большому загородному особняку, расположенному прямо в лесу. Проведя меня в просторную гостиную, он ушел позвать мать.
— Я так все подробно рассказываю… — рассмеялась Фуми. — Мне стыдно, что я отнимаю у вас время.
— Рассказывай все, как было, — ответил я, — это очень поучительно.
Она с жаром продолжила рассказ, может быть надеясь, что когда-нибудь точно так же она будет рассказывать обо всем своим родителям.
Итак, мать Дзюндзи Суды вместе с сыном вошла в гостиную.
— Госпожа Фуми Судзумото, рада вас видеть, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома, — сказала она радушно и, присев, ласково продолжила: — Мой сын только что сообщил мне, я очень рада, наконец-то я могу успокоиться.
Фуми не поднимала головы и, не зная, что за женщина мать Суды, вся трепетала от страха.
— Дзюндзи, надо поторопиться со свадьбой… Все так волновались за тебя. Но и то спасибо, наконец-то я буду за тебя спокойна. Только где все лучше устроить?..
Услышав эти слова, Фуми удивленно подняла глаза, взглянув в его сторону. Он невозмутимо попивал то ли чай, то ли кофе.
Поспешно поднявшись, она отвесила глубокий поклон, извиняясь за свой внезапный визит.
— Я работаю вместе с вашим сыном на кафедре, и он позволил мне немного пожить у него. Сегодня утром он впервые уговорил меня вместе выйти на прогулку, сегодня ведь воскресенье, без предупреждения посадил в машину и привез сюда. Еще раз от всей души приношу вам свои извинения.
— Что вы! Дзюндзи всегда приезжает неожиданно, но я рада, когда он застает меня врасплох. Давайте без церемоний, поговорим по-свойски.
Ласково поглаживая Фуми, мать усадила ее.
— Он и на кафедре так строг со всеми? — спросила она. — Вы уж его простите…
— На кафедре все по-другому. Он там точно солнце, когда его нет, все ходят унылые и вялые. Я работаю на кафедре только два раза в неделю, но постоянно думаю, как была бы я счастлива, если б могла быть со всеми ежедневно…
— Вы меня успокоили. Дзюндзи, возвращаясь к нашему разговору, конечно, тебе решать, но я все-таки хочу обсудить, где ты будешь справлять свадьбу.
— Думаю, я бы мог подготовить две комнаты в моей квартире.
— Можно, конечно, и так, но дом в Ёёги уже почти достроен, а там одной залы хватило бы на всех. Что скажешь?
— Сколько это займет времени?
— Раньше чем за неделю вряд ли управятся, но если ты так решишь, можно и поторопить. К тому же всем будет интересно посмотреть на дом, где вы будете жить.
Слушая их разговор, Фуми не выдержала и, собравшись с духом, выпалила:
— Госпожа, вы изволили упомянуть о свадьбе… Но о нашей женитьбе не может быть и речи!
— Значит, вы не в курсе того, о чем только что говорил Дзюндзи?..
— Он сообщил мне сегодня утром, но мне никак невозможно выйти замуж за вашего сына!
— Почему? Не стесняйтесь, объясните, в чем дело.
— Во-первых, у нас разное социальное положение…
— Социальное положение?.. Ну, милочка, до войны это действительно могло служить препятствием, но сейчас у нас эпоха демократии и, по счастью, ценятся прежде всего личные достоинства. Тебе, наверно, это известно?
— К тому же меня выгнали из дома родители, родственники не хотят со мною знаться, так что я стала фактически бездомной сиротой…
— На тебе женится Дзюндзи, твои родители и родственники здесь ни при чем.
— Но для женитьбы у меня нет даже приданого, у меня вообще ничего нет, в моем нынешнем бедственном положении выходить замуж было бы безумием.
Фуми с трудом сдерживала слезы.
— Приданое — это, как правило, никому не нужное барахло. Мой сын женится на такой, какая ты есть. Или, может быть, Дзюндзи тебе противен?
— Противен?.. Я не раз помышляла, ради счастья вашего сына, потихоньку отдалиться от него, но не смогла. С моей стороны это было бы безответственно. Хоть и ничтожно мало, я все же помогаю ему в его работе, дважды в неделю приходя на кафедру. Он обещал, что в будущем я смогу стать полноправным членом коллектива, тогда я буду счастлива каждый день…
— Я уже давно убеждаю Дзюндзи жениться, но он все отнекивался. А теперь он еще и часто ездит за границу на международные симпозиумы… Я уж начала тревожиться, что он там подцепит себе какую-нибудь голубоглазую невесту… Конечно, и невесте с голубыми глазами, раз уж таков выбор моего сына, я была бы рада, но Дзюндзи у меня единственный. Вот я и надеялась, что жена Дзюндзи станет мне вместо дочери. А голубоглазая-то, она, поди, и по-нашенски не понимает, и как там разберешь, что у нее на уме… Вот я и тревожилась… Но примерно год назад он вдруг впервые заговорил со мной о девушках. Я, говорит, познакомился с гениальной девушкой. Я хорошо помню наш разговор. Удивительно одаренная, говорит, девушка: только что окончила школу — и уже студентка университета, вот-вот поступит в аспирантуру. Я тогда посмеялась, но он и после время от времени заводил со мной разговор о «гениальной девушке». Имени ее не называл, но когда я в лоб спросила: «Ты что, влюбился?» — он ответил: «С первого взгляда!» — «Почему же тебе в таком случае, говорю, на ней не жениться?» А он мне: «Женитьба — дело взаимное, одного моего желания недостаточно, все не так просто». — «У нее что, спрашиваю, какое-нибудь наследственное заболевание?» — «Нет», — говорит и рассказал мне о твоей беде, о которой ты только что упомянула. Ну, тут я на него напустилась: «Почему ты не ценишь выгод нашего демократического времени! Как только не стыдно перед девушкой ссылаться на такие нелепые доводы!» — «Ну, раз ты так считаешь…» — говорит Дзюндзи. Разумеется, он как-никак ученый, все должен тщательно обдумать. «Ты будешь рада, если я на ней женюсь?» — спрашивает. «Конечно! Если она чувствует себя несчастной, обездоленной, я постараюсь ее утешить, как собственную дочь». — «Теперь я спокоен», — сказал Дзюндзи и впервые назвал мне ваше имя — Фуми. С тех пор я с нетерпением ждала, когда же он вас представит мне, и вот наконец-то сегодня мы встретились. Я много чего воображала, думая о «гениальной лингвистке», но, увидев вас своими глазами, поразилась. Такая молоденькая… Такая милая, такая красивая, такая любезная и в то же время такая простая девушка! Желаю вам вместе прожить долгие годы в любви и счастье…
Прижимая к лицу платок, Фуми сдерживала набегающие слезы, но в горле стоял комок. То, что она услышала, не укладывалось у нее в голове. Тут заговорил он:
— Мама, хватит. Мне кажется, ты ее только смущаешь…
Фуми поспешно утерла слезы, подняла голову и сказала, обращаясь к матери:
— Простите меня. Я ужасно неловкая… Матушка, я так счастлива. Никогда прежде я не слышала таких ласковых слов.
Ее вновь начали душить слезы, но и мать Дзюндзи в свою очередь всхлипнула и сказала:
— А я так счастлива, что ты назвала меня матушкой!
Некоторое время все трое молчали.
Наконец, мать Дзюндзи уже спокойным голосом сказала:
— Фуми, я должна извиниться перед тобой, равно как и перед сыном. Выслушайте меня оба. Впервые узнав от него твое имя, я радовалась, предвкушая то, что случилось сегодня… Конечно, задним числом это можно объяснить материнской любовью, но, каюсь, я совершила, втайне от Дзюндзи, ужасный поступок…
Она замолчала и некоторое время пребывала в глубокой задумчивости, после чего продолжила:
— Даже если бы свадьба устраивалась через сватов-посредников, наверняка наши взбалмошные родственники проявили бы любопытство. Особенно дядя Дзюндзи, прозванный «папаша из Сибуи». Он задался целью во что бы то ни стало разузнать о происхождении Фуми. Для того чтобы иметь возможность ходатайствовать за вас, если с его стороны возникнут какие-либо претензии, я, после некоторых колебаний, решила сама обратиться с просьбой о расследовании в агентство, услугами которого обычно пользуется дядя. Через два месяца мне представили отчет. Фуми, ваша характеристика была выше всяких похвал. В детстве — девочка-вундеркинд, ныне — надежда науки, обещающая стать лингвистом мирового уровня. И что меня больше всего поразило, по отзывам ваших преподавателей и друзей, будучи специалистом в столь мудреной науке, вы вовсе не высоколобый сухарь, вы любите читать книги Кодзиро Сэридзавы, любите музыку, у вас красивое сопрано… Что до ваших родителей, они из старинных родовитых семей, хотя по своим религиозным убеждениям они отреклись от своих благородных корней, однако батюшка ваш ныне глава одного из местных приходов Тэнри, и все отзываются о нем с большим уважением, короче, — ни одной отрицательной черты. Одно только, что вас изгнали из семьи… Это произошло из-за того, что вы отвергли веру родителей. Но ведь у нас ныне каждому гарантирована свобода вероисповедания. И я уверена, вы поступили так не из-за дурного нрава или непочтения к родителям, а исходя из своих высоких принципов. Да и ваш батюшка осерчал на свою любимую дочку только потому, что всю свою жизнь он посвятил своим религиозным убеждениям. Я была потрясена глубиной его веры. Мне не только не пристало заступаться за него, я могу им гордиться. И ты, Дзюндзи, должен попросить прощения у Фуми за это мое расследование.
— Мама, наверно, уже хватит…
— Ну хорошо. Сегодня пообедаем у нас. Отпразднуем втроем, по-родственному, вашу помолвку.
Она торопливо поднялась.
Стараясь не смущать Фуми, мать Дзюндзи устроила тут же, в гостиной, обед на троих. Сама разлила старое вино в бокалы и объявила тост в честь молодоженов, но Фуми, точно все это
было во сне, не запомнила, чем ее угощали, как она отвечала на вопросы… Когда подали десерт, мать попросила молоденькую служанку позвать госпожу Судзу. В вошедшей Фуми узнала женщину, убиравшую у них в квартире, и тут только очнулась от своих грез. Мать представила их друг другу:
— Это — невеста Дзюндзи, Фуми Судзумото, а это — бывшая няня Дзюндзи, вы всегда можете обращаться к ней за помощью…
Ужасно смущенная, Фуми вежливо поклонилась, почувствовав, как по спине у нее ручейком катится пот; она смогла немного прийти в себя, только когда Дзюндзи заговорил с матерью о том, как организовать свадебную церемонию.
Все, кто работал с ним на кафедре патологии, начиная с ассистентов, неделями трудились не покладая рук, но раз в месяц собирались вечером в своем маленьком кругу, чтобы попеть песни, поиграть на музыкальных инструментах и стряхнуть с души накопившуюся пыль. В сущности, и свадебную церемонию можно было бы свести к этой дружеской вечеринке, только еще пригласить близких друзей Фуми. Обещал заглянуть на минутку и декан Н. с супругой, выступить в роли свата, формально объявив о свершении брака, и тотчас удалиться, чтобы не смущать гостей. Из уважения к декану свадьбу решили сыграть, как и хотела мать Дзюндзи, в новом доме в Ёёги. Через полтора месяца все произошло так, как обговорили в тот день. Свадьба прошла весело и непринужденно…
— Так когда вы все-таки поженились? — спросил я напрямую.
Фуми ответила, слегка замявшись.
По ее словам, за десять дней до свадьбы, утром в четверг, она нашла на своей двери записку с просьбой прийти в этот день на работу в половине первого. Когда она в указанное время пришла на кафедру. Суда уже ждал ее. Он сказал секретарше, что они уходят вдвоем и до вечера уже не вернутся. Он посадил ее в свою машину, ничего не объясняя. Выехали на скоростную трассу. Куда мы едем? — недоумевала она. И вдруг он сказал:
— Сегодня хорошая погода, в самый раз для бракосочетания.
Она спросила, будут ли сваты — супруги Н. Он сказал, что сватовство — пустая формальность. Как-то летом, в студенческие годы, ему довелось побывать на университетской водной станции в Идзу, и там, живя в деревушке на берегу моря, он познакомился с великим учителем.
— Я обратился к нему с просьбой так, как простой человек может обращаться к Богу: «Даруй мне спутницу, которая была бы мне опорой в жизни! Когда же придет мне пора жениться, у тебя буду просить благословения!..» Вот к нему мы и направляемся, чтобы он скрепил наш союз. Это и будет нашим свадебным ритуалом…
На кафедре Суда никогда не говорил с таким пафосом. Она была озадачена, но решила, что он шутит, чтобы скрасить путь, и, отказавшись от дальнейших расспросов, закрыла глаза. Задремав, она слышала сквозь сон, как он бормочет себе под нос:
— Хорошо, что не конец недели, машин мало…
Наконец он воскликнул:
— А вот и Готэмба! Какое это чудо — Фудзи!
Вскоре доехали до Нумадзу и свернули со скоростного шоссе. Тут только она поняла, что они держат путь в Идзу.
Примерно через полчаса приехали. Оставив машину, пошли пешком. По узкой тропинке спустились к морю. И тут перед их взором высоко над морем в небесной лазури величественно вознеслась увенчанная сияющим снегом Фудзи. От неожиданности у Фуми перехватило дыхание. Вокруг, куда ни глянь, простиралось зеленоватое море.
— Мы на мысе Одзэдзаки, — пояснил Суда.
Фуми сказала, что где-то читала о синтоистском храме Одзэ, охраняющем от бедствий рыбаков, промышляющих в заливе Суруга.
— Наверно, та крошечная молельня, мимо которой мы только что прошли, — сказал он. — Удивительное место. Там есть маленький пруд с чистейшей водой…
Он подвел ее к утесу, обращенному к Фудзи, и сказал с торжественным выражением на лице:
— Вглядись внимательней в Фудзи. Это и есть великий Учитель, равный Богу, о нем я тебе говорил в машине! Мой благодетель, мой всегдашний источник вдохновения. Каждый раз, когда у меня выпадает свободное время, я посещаю Фудзи. Я смотрел с разных сторон, но с этого места она выглядит особенно великолепно.
— А восхождение ты совершал?
— Карабкаться на своего благодетеля, попирая его тело? Что за нелепость! Как я и просил, благодетель выбрал мне в спутницы жизни тебя. Поэтому я хочу здесь свершить наш свадебный обряд, чтобы по обету моей студенческой юности мой великий благодетель связал нас на веки вечные. Ты согласна?
С этими словами он сделал шаг вперед. Она последовала за ним. Оба низко поклонились, после чего он взял ее за руку и, обращаясь к Фудзи, сказал:
— Беру в жены Фуми Судзумото и клянусь жить с ней до скончания моих дней.
Затем она сказала, что клянется до скончания дней своих служить мужу своему Дзюндзи Суде. Они подняли руки, не разжимая их, и поклонились.
— Великий благодетель! Ради такого случая я приберег бутылку шампанского. Этим шампанским совершим обряд троекратного обмена чашей!
С этими словами он достал из пакета бутылку шампанского, штопор, стакан и вытащил пробку. Раздался хлопок, пробка взвилась ввысь, брызнула пена. Он налил шампанское в стакан и, стоя лицом к Фудзи, взмахнув мокрой от пены рукой, сделал глоток и передал ей. Она, отпив, передала ему. Завершив обряд троекратного обмена, он, вновь обратившись к Фудзи, поднял бутылку.
— Великий благодетель, изволь и ты отведать в честь нашей свадьбы, — сказал он и вылил остатки шампанского на скалу.
Затем нежно обнял Фуми.
Она впервые оказалась в объятиях мужчины и вся затрепетала, на седьмом небе от счастья. Внезапно ее слуха коснулся его шепот:
— На этом свадебная церемония оканчивается. Нашу первую ночь проведем в гостинице на горячих источниках, в которой я останавливался еще студентом, это совсем недалеко, а что касается свадебного путешествия, я должен вскоре поехать на научный конгресс в Америку, отложим до этого времени. Мы сможем вдвоем совершить увлекательное путешествие по Америке.
Пораженная, она отстранилась и сказала:
— В нашу первую ночь… Я хочу, чтобы мы с тобой были одни во всей Вселенной. Твоя квартира лучше всего подходит для этого. Там у нас ни в чем не будет недостатка, с девяти часов полнейшая тишина, никого нет, только ты да я. Одни во всей Вселенной. Там я, ничего не страшась, смогу стать с тобой одной плотью…
— Понимаю, — сказал он, беря ее за руку. — В таком случае нам надо поспешить.
Они поднялись по тропе. Он насвистывал Свадебный марш Вагнера. Вскоре они вышли к машине.
— Зимние дни коротки, — сказал он. — Посмотри, как радушно провожает нас великий благодетель!
Снеговая вершина величественной горы алела в лучах заката. Они вновь отвесили глубокий поклон и сели в машину. Он правил, насвистывая мелодии свадебных маршей известных композиторов, и вдруг сказал:
— Однако славная ты у меня женка! Вовремя напомнила, а то я совсем запамятовал. Старая Судзу готовит нам сегодня ужин. Я забыл предупредить ее, что сегодня не нужно… И вот еще что. Мы начинаем отныне супружескую жизнь, и раз уж мы будем в нашей квартире, завтра утром отправимся на работу в одно время, я — на кафедру, ты — в институт, так обоим удобнее. Заранее спасибо…
— Чудесно! — Преисполненная благодарности, она невольно запела вполголоса сопрано «Аве Мария».
Когда она закончила, он попросил ее спеть «Аве Мария» Шуберта. Смутившись, она сослалась, что не помнит слов, тогда он запел тенором. И она тихо начала подпевать…
— Не знала, что ты такой музыкальный!..
— Я — музыкальный? В таком случае у нас на кафедре все — заправские музыканты. Ты сама убедишься на свадебной вечеринке: все играют на каком-нибудь инструменте, все поют. Сразу видно, с ранних лет, чтобы голова хорошо работала, усердно занимались музыкой.
— Я что-то слышала об обучении одаренных детей игре на скрипке, кажется, по методу Судзуки. Ты случайно не играл на скрипке?
— Я с четырех лет играл на пианино. На предстоящей вечеринке буду твоим аккомпаниатором.
— Вот это да! — воскликнула она.
В этот момент машина остановилась перед цветочной лавкой. Он ушел и вернулся с букетом цветов.
— Кто-то сегодня ночью получит в подарок цветы! — сказал он весело, продолжая вести машину.
Проехали Мисиму. Вот уже и город Нумадзу остался позади. Вскоре потянулось скоростное шоссе. Но ей, захмелевшей от счастья, казалось, что все происходит не наяву, а во сне. Только когда они вошли в квартиру, вернулось чувство реальности. Было двадцать минут восьмого. К этому времени уличный шум уже затих, и они в квартире были словно одни во всей Вселенной. Фуми вздохнула. Она устала, ведь они провели почти восемь часов в дороге без еды. Как бы там ни было, она приготовила ванну и, пока он мылся, отходя от долгого вождения, занялась обустройством первой брачной ночи. Она решила не ставить цветы в вазу одним букетом, а разбросала их на полу в кухне и в его комнате, когда же взялась за подготовку праздничного ужина, обнаружила еду, оставленную для них старой Судзу. В глаза бросился огромный карп, сваренный с хвостом и головой. Ее порция была чуть поменьше, но тоже цельный карп. Она обрадовалась тому, что все вокруг желают ей счастья. В ту ночь они не только были одни на всем свете, она словно побывала в райских кущах и, став в его объятиях единой с ним плотью, почувствовала себя богиней.
Я заслушался, счастливый, как если бы речь шла о моей собственной дочери, но, заметив, что она взглянула на часы, поспешно спросил:
— Сколько с того времени прошло лет?
— Сколько лет? — ответила она. — Каждый день я счастлива так, как была счастлива в тот первый день, поэтому даже не задумывалась об этом.
— У вас есть ребенок, сколько ему? — спросил я.
— Учится в третьем классе.
Значит, прошло десять лет.
— Ну хоть раз-то вы наверняка ссорились, были между вами обиды, — сказал я шутливо.
— Ни разу, — улыбнулась она.
— Не очень-то ты разговорчива, когда речь заходит о твоей супружеской жизни, — стал я ее подначивать.
Она ответила мне с серьезным лицом:
— Как лингвист, я много размышляла о словах. «В начале было Слово», — говорится в Священном Писании. Когда Великая Природа создавала мир, она даровала речь только человеку, но не для того, чтобы люди, с помощью слов высказывая друг другу неудовольствия и обиды, враждовали, а для того, чтобы признавались в любви, ободряли друг друга и стремились ввысь. Я изучила этот вопрос и убедилась, что так оно и есть. Обиды и неудовольствия, если не высказывать их с целью уязвить партнера, сами собой незаметно исчезают. Что касается меня, я вам уже не раз говорила, что просто не знаю, что такое обиды и неудовольствия, а потому счастлива.
— Ну хорошо, с тобой понятно, а что муж?
— Этот вопрос меня тоже волнует. Конечно, и я прилагаю усилия, но у него как-то совершенно естественно не возникает ни обид, ни неудовольствия… Разумеется, нам случается негодовать и печалиться, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, но тогда мы вместе обсуждаем, разбираем, что произошло, пока дурные чувства не уйдут сами собой. Если все же в душе остается неприятный осадок, он сам собой исчезает, когда коллеги по кафедре раз в месяц устраивают вечер отдыха, на котором, музицируя, мы как бы самоочищаемся. Так что я каждый день счастлива. К тому же и мне и ему повезло с работой, с жизненными условиями… Я так счастлива, что каждое утро от всего сердца благодарю нашего великого благодетеля…
— Я поздравляю тебя от всей души. Твоя супружеская жизнь — идеал, уготованный Великой Природой для человека.
— Иногда я даже испытываю беспокойство, не слишком ли я счастлива, не покарает ли меня за это Бог. В конце концов, я была настолько непочтительна к родителям, что меня выгнали из дома.
— Разве может карать Бог-Родитель? Он радуется за тебя и благословляет.
— Люди живут, связанные друг с другом неведомыми узами, и по своей воле разорвать эти узы — большой грех. Но какими бы ни были укоры родителей, не разорви я в то время с ними отношения, разве была бы я сейчас так счастлива? Я чувствую себя виноватой за то, что счастье далось мне слишком легко… Простите, что своим длинным, бесстыдным рассказом отняла ваше драгоценное время. Прошу вас, не забудьте о пленке.
Она поклонилась.
— Я получил огромное удовольствие. Твое счастье как будто омыло мою душу, я сам почувствовал себя счастливым… Точно сроднился с тобой. Прошу тебя, и впредь рассказывай мне о своих семейных делах. Глядишь, и мужа когда-нибудь ко мне заманишь.
— Вы мне льстите, большое спасибо. Я ваша давняя почитательница, но муж восторгается вами еще сильнее, говорит, если сэнсэй заболеет, буду выхаживать его, как родного отца. Как же его обрадуют ваши слова! Если у вас найдется свободное время, сообщите, и мы мигом прилетим.
На том мы и расстались.
Я сразу же поднялся в кабинет, но никак не мог взяться за срочную корректуру «Замысла Бога». Я был глубоко захвачен мыслью о том, что такая простая вещь, как полное взаимодоверие супругов, делает жизнь обоих счастливой, более того, счастье супругов приносит счастье всем окружающим людям. У меня две замужние дочери, много старше Фуми, но ни та, ни другая, даже при жизни матери, ни разу ничего не рассказали мне о своей супружеской жизни. Полагаю, не хотели признаваться в своих невзгодах и неприятностях. Из-за того ли, что были несчастливы? Или от застенчивости? А то, что Фуми так смело поведала мне о своем счастье, свидетельствует ли о ее врожденной искренности или это примета нового времени?..
В конце концов, не главное ли условие человеческого счастья, чтобы супруги доверяли друг другу и бережно относились к произносимым словам? — подумал я, улыбнувшись.
Глава пятая
Дело было во второй половине ясного, теплого весеннего дня 1988 года.
Я работал над присланными мне накануне из издательства гранками «Замысла Бога». Рукопись была настолько неряшливой, что даже я, автор, мог с трудом ее разобрать, но теперь, благодаря усердию сотрудников издательства, она была отпечатана, явные ошибки исправлены, так что корректура не требовала от меня особых усилий. Я мог вздохнуть с облегчением. В это время неожиданно пришла Фуми Суда, сказав, что ей надо непременно меня увидеть. После прежнего визита она заходила пару раз — вернуть пленки, вручить мне свои заметки о прочитанном, но, передав домработнице, уходила, не переступая порог.
На этот раз я с радостью спустился в гостиную. Погода была прекрасная. Я открыл стеклянные двери, выходящие в сад, и передвинул стулья так, чтобы видеть сад перед собой. Солнечные лучи дотягивались как раз до ножек стульев, настроение у меня было отличное. Фуми, излучая радость, сразу же заговорила о цели своего визита.
Профессор И. из университета К., которому она послала пленку с речами Родительницы, тотчас приступил к изучению диалекта, на котором сто лет назад говорили жители района Саммайдэн в нынешнем городе Тэнри, откуда была родом Мики Накаяма, но еще не пришел к окончательным выводам. Он посещал стариков, давал им послушать пленку, спрашивал, так ли век назад говорили старики в их местах, но нашлись и те, кто признавал сходство, и те, кто таковое отрицал. Беседовать со стариками было интересно, но толку никакого. И вдруг он вспомнил о любопытном случае, было это три года назад, когда он изучал особенности осакского диалекта.
В Осаке пользовались популярностью актеры, исполняющие свои номера на осакском диалекте, но особый восторг у знатоков вызывало то, что некий актер якобы изъясняется на языке трехсотлетней давности. Профессор И. решил изучить и этот «трехсотлетней давности» диалект.
Но как он ни бился, проблема не давалась в руки. Наконец, зайдя в тупик, он обратился к самому артисту, умоляя объяснить, как тот овладел старинным наречием. Ответом было, что это профессиональная тайна, не подлежащая разглашению. Несмотря на столь категоричный ответ, профессор продолжал посещать его, разъяснял свой научный статус и задачи научного исследования, посылал щедрые денежные подарки, пока наконец актер, взяв с него клятву ни в коем случае никому не говорить об этом, со смущением признался, что «трехсотлетней давности» язык — его собственное изобретение.
«Что вы хотите, я же актер!» — рассмеялся этот человек, когда профессор выразил сомнение в возможности столь искусной подделки. Потом, сделавшись серьезным, признался, что и в самом деле на создание такого языка его натолкнуло одно событие. Рассказ его был чрезвычайно интересен.
Этот актер в школе изучал английский язык. Больше всего мучений и учителю и ученикам доставляло произношение. Они читали вслух английский текст, чрезвычайно медленно выговаривая слова. В таком темпе никто не говорит. Однажды он случайно подружился с американским подростком, который владел как английским, так и японским языком. Показал ему английскую книгу и попросил прочесть фразы, которые они проходили в школе. К его удивлению, тот без всяких усилий произнес такие трудные для японца звуки, как «R», «L», «ТН» и «N». Тогда он прочел американцу эти фразы так, как их натаскивал читать учитель. На что тот заявил: «Это японский английский!» Все более удивляясь, он попросил американского друга почитать еще, помочь ему освоить правильное произношение, а на уроке английского, когда учитель вызвал его, бегло прочел отрывок, легко произнося злополучные «R», «L» и «ТН». Его товарищи были поражены, но учитель попенял ему за неверное произношение и заставил прочесть несколько раз слова так, как сам считал правильным. Набравшись смелости, мальчик сказал, что американский друг научил его настоящему английскому произношению, но учитель только отругал его, заявив, что все это его собственные выдумки.
С этого времени учитель уже не доверял ему чтение вслух, но он, с помощью друга-американца, стал учить английский самостоятельно. Наступило время экзаменов. В совете по образованию вдруг озаботились состоянием обучения английскому языку в его школе и прислали с инспекцией англичанина, преподававшего в одном из университетов. Тот попросил почитать вслух нескольких учеников из его класса, считавшегося лучшим, и сделал множество замечаний. Собравшись с духом, мальчик поднял руку. «Объясните мне, пожалуйста, — попросил он, — настоящий это английский или мой собственный?» И, не заботясь о произношении, одним духом прочел то, что его одноклассники читали, вымучивая каждое слово. Почтенный преподаватель, улыбаясь, ответил по-японски: «Твой собственный и есть настоящий!» Никогда ему не забыть охватившей его в ту минуту радости.
Когда настала пора определяться с профессией, он, в соответствии со своим давним желанием, стал актером-рассказчиком, но в этом искусстве много заслуженных мастеров, пробиться нелегко, к тому же самые популярные актеры говорят на осакском диалекте, а в его семье, хоть он и родился в Осаке, все говорили на «стандартном» японском, как тут перещеголять заслуженных мастеров? Все это его ужасно мучило. И тут он вспомнил, как в школьную пору почтенный англичанин похвалил его за то, как хорошо он говорил на
своем собственном английском. Это натолкнуло его на мысль создать свой собственный осакский диалект, он долго изучал, что именно в осакском диалекте забавляет зрителей, и в результате напряженной работы ему удалось наконец выработать свой собственный язык. Объявив, что так говорили триста лет назад, он устроил представление, и, как и ожидал, зрители были в восторге…
Рассказ актера, о котором вспомнил профессор И., натолкнул его на мысль, что и юноша Ито, подобно тому актеру, в результате долгих тренировок научился говорить так, как говорят женщины, живущие в районе Ямато. Он решил разузнать побольше о характере актера, особенно о его школьных годах. Трудно сказать, в какой мере это было научным исследованием, но профессор выяснил, что актер отличался общительностью, отзывчивостью, пользовался любовью как одноклассников, так и учителей. По отзывам хорошо знавших его людей, он охотно рассказывал о себе, но никогда не позволял себе ничего, что могло бы оскорбить товарищей. Английский язык — единственный предмет, в котором он отличился, по всем остальным успевал неважно.
Профессор И. сообщил обо всем этом Фуми Суда с тем, чтобы она навела справки о характере юноши Ито и о его поведении в школе. Ради этого она посетила знаменитую миссионерскую школу, в которой учился Ито, поговорила с учившими его преподавателями и расспросила их о его школьных годах. Учитель, бывший у него классным руководителем, первым делом заявил, что сам поражен сегодняшним Ито: «Просто катастрофа какая-то!»
Вот его рассказ.
Ито был отличником по всем дисциплинам, кроме английского, который ему совершенно не давался. Это часто мешало ему окончить год с отличием. По натуре он был слабохарактерный, пассивный, этакий незаметный тихоня. Никогда не совершал ничего из ряда вон выходящего, так что нельзя сказать, чтобы учителя и одноклассники его любили или не любили: так, самый обычный, заурядный школьник. У него был хороший голос, и его ценили в хоре, он всегда страстно исполнял христианские религиозные гимны, но мечтал стать буддийским священником. Короче говоря, прямая противоположность осакского актера!
Фуми сообщила обо всем профессору И., а тот, еще не зная о результатах ее поисков, прислал ей письмо. Он встретил на одном ученом собрании известного религиоведа и заговорил с ним о юноше Ито. Религиовед сказал, что этот случай не представляет никакой загадки для изучающих шаманизм. В древности шаманизм был широко распространен на Дальнем Востоке. В Японии собрано много фактического материала и выработаны точные методы изучения, поэтому раскрыть феномен юноши Ито не составит особого труда…
Сообщив мне все это, Фуми Суда добавила:
— Так что не извольте беспокоиться, совсем скоро мы сможем во всем разобраться.
Лицо ее выражало уверенность.
— Вот как? Спасибо за труд. Но, честно сказать, для меня это не составляет проблемы. Я всегда прислушивался не к тому, что вещает юноша Ито, а к тому, что говорит Бог… Особенно с тех пор, как полгода назад мне каждую ночь стал являться Небесный сёгун собственной персоной, я многому научился и осознал, что мир Бога не только реально существует, но и неразрывно слит, как две стороны одной медали, с миром человека.
— Что? О чем это вы?.. Что еще за Небесный сёгун?
— Твое удивление вполне законно, но когда ты прочтешь намеченный к выходу в августе «Замысел Бога», над корректурой которого я сейчас работаю, ты поймешь… Силе Великой Природы, единому Богу, наравне с Мики Накаяма, Иисусом и Буддой, служат десять Небесных сёгунов, из которых один, взяв надо мной опеку, постоянно является мне. Он называет мир Бога Истинным миром, а общество людей из плоти и крови — Миром явлений. Пока люди живут в Мире явлений, они пребывают на лоне Великой Природы, когда же дарованная Богом плоть выходит из строя, они умирают, уходя в мир смерти, но мир смерти — это мир Бога, Истинный мир, в нем пребывают в лоне Бога-Родителя… Когда я заявил Небесному сёгуну, что не верю в существование «мира Бога», Истинного мира, он сказал, что в этом нет ничего удивительного, поскольку я — позитивист, а в Истинный мир уходят после смерти, освободившись от плоти, попасть туда во плоти, с тем чтобы убедиться в его существовании, довольно затруднительно. «Все это — казуистика», — возразил я. «Ну хорошо, — сказал Небесный сёгун, внезапно посуровев, — чтобы во плоти попасть в Истинный мир, требуется тяжелая подготовка, подобная смерти, готов ли ты к этому?» — «Разумеется!» — ответил я. И вот на следующий день в час ночи я был разбужен и до половины четвертого упражнял свой дух. Это продолжалось каждый день в течение почти трех месяцев.
— Тяжело же вам пришлось, будучи к тому же позитивистом!.. Но в чем заключались упражнения?..
— Долго рассказывать, прочти лучше в «Замысле Бога», — сказал я и вкратце рассказал, как я был перенесен в мир Бога, о чем подробно описано в «Замысле Бога». Поскольку у меня были к ней вопросы, я поспешил перевести разговор в другое русло: — Честно говоря, я хотел тебя кое о чем расспросить и ждал нашей встречи. Ты не торопишься?
— О чем же?
— В прошлый раз я выспрашивал тебя о вашем супружеском счастье и, радуясь за вас, сам невольно почувствовал себя счастливее… После я много думал об этом, испытывая радость оттого, что ваш брак — идеал счастья, уготованный Великой Природой человеку. Но, в сущности, ваша супружеская жизнь не ограничивается вами двумя, есть еще ребенок, свекровь, есть родственники, тень свекра, умершего, когда твой муж учился в школе, вообще все трагическое прошлое, когда его отец и мать в результате поражения Японии в войне и великих реформ потеряли и свое общественное положение, и свое состояние… Все это наверняка оказывает влияние на вашу повседневную жизнь, но до сих пор ты ни словом не упомянула об этом. Если б можно было узнать, каким образом вы вдвоем все это преодолели, чтобы обрести счастье, ваша счастливая жизнь была бы еще более поучительным примером для других.
— Вы так думаете?.. — спросила Фуми и некоторое время молчала.
Я тоже молчал в ожидании.
— Вы меня поставили в затруднительное положение, — заговорила она наконец. — Мы с мужем ни разу этого не обсуждали… Но вот уже десять лет, как я приняла фамилию мужа и вошла в его семью и, разумеется, за это время узнала сама и с чужих слов много для меня неожиданного. Не уверена, смогу ли удовлетворить вашему любопытству, но постараюсь рассказать все, что знаю.
Передаю суть ее рассказа.
Среди того, что на первых порах удивляло ее в жизни семьи Суда, был восьмидесятилетний старик, приходивший с визитом раз в неделю, чтобы обсудить со свекровью домашний бюджет. Этот старик при жизни свекра служил в их семье управляющим, а ныне, по его словам, в порядке благодарности за оказанные ему в прошлом милости, безвозмездно исполнял должность экономического советника свекрови. Иногда он консультирует и мужа Фуми, но все важные дела в семье решаются только с согласия «дяди из Сибуи» и «дяди из Синагавы».
С того времени, как Фуми вышла замуж, семью более всего беспокоит проблема налога на наследство, который придется выплатить после смерти свекрови. Когда умер свекор и наследницей выступала его жена, цена на землю была низкой, соответственно и налог на наследство невысок, но с каждым годом цена на землю растет бешеными темпами, значит, когда ее сын вступит в наследство, налоги будут гигантскими, вот вся родня и беспокоится, что он останется совсем без средств. Поэтому главная семейная проблема — как минимизировать сумму налога, которую в будущем придется выплачивать мужу Фуми, над ней-то и бьется старый управляющий.
Во-первых, есть старый особняк в Сэтагая. После поражения в войне он был реквизирован оккупационными властями, в нем поселился высокий американский военачальник, а семье Суда отвели флигель приказчика, куда они и перебрались. Даже после заключения американо-японского мирного договора особняк по каким-то причинам считался реквизированным и только спустя восемь лет был возвращен прежним владельцам. В эпоху, когда благодаря оккупационным войскам в стране происходили поистине революционные изменения в политике, экономике и всех других областях общественной жизни, только чудом удалось избежать того, чтобы их дом не исчез в черной дыре так называемой национализации. Однако, когда все уладилось, семье оказалось не по карману вновь поселиться в своем особняке из-за высокой стоимости содержания и обслуги.
Когда Фуми выходила замуж, торопились с постройкой нового дома в Ёёги, что, по замыслу старого управляющего, должно было уменьшить сумму налога на наследство.
Семья Суда совсем забыла об этом земельном участке в Ёёги, записанном на имя мужа Фуми. Когда он родился, его подарила ему бабушка в праздник «седьмой ночи», а поскольку участок был покрыт лесом, налоги с него взимались минимальные. Старый управляющий обрадовался, узнав о существовании участка, и придумал план построить на нем дома для мужа Фуми и ее свекрови, взяв кредит на имя мужа. Согласие двух дядьев было получено. Свекровь, смеясь, рассказывала Фуми о бабушке и праздновании «седьмой ночи»:
— Подумать только, подарила новорожденному участок леса! Мы все тогда потешались, мол, бабка совсем свихнулась, но теперь понятно, она проявила мудрость, нажитую долгими годами. Поистине замечательная была бабка!
Когда Фуми вышла замуж, строительство обоих домов еще только завершалось. Все это время молодожены безмятежно жили у себя в квартире, но и после того, как свекровь уже переехала в новый дом, продолжали жить там, проводя в Ёёги выходные с вечера субботы до утра понедельника.
В тот же день, когда свекровь переехала на новое жилье, супруги приехали в Ёёги, чтобы отпраздновать новоселье.
Войдя, Фуми направилась к ней вслед за мужем. Отодвинула перегородку и обомлела. Лицо у свекрови было влажным, как будто она только что плакала.
— Фуми, раздели мое счастье, — сказала она, вытирая слезы. — Наконец-то я сбросила с плеч столько лет тяготившее меня бремя, стала обычной женщиной в демократической стране, и вот с утра все плачу от радости. Ну что ж ты, поздравляй меня!..
Войдя в комнату, Фуми извинилась, что не могла помочь с переездом, и муж, чтобы разрядить атмосферу, начал расхваливать дом — как в нем светло, как много солнца… Только через два года она узнала, что свекровь плакала вовсе не от счастья, а от горькой обиды.
Оба дома на участке в Ёёги — и дом молодоженов, построенный на европейский манер, и традиционный японский дом матери — были оборудованы всевозможными бытовыми приборами вроде кондиционера, что матери представлялось ненужным расточительством. Разумеется, она была рада, что строительный проект европейского дома был в ведении ее сына, а проект японского дома доверили ей, но, по ее мнению, оба дома выглядели нищенски, как в прежние времена жилища приказчиков, и ее печалило, что дома эти стали наглядным символом упадка их рода. И это еще не все. При переезде в новый дом близкие и в прошлом служившие в их семье люди постоянно приходили помочь ей и работали не покладая рук, поэтому накануне вечером она пригласила всех помогавших, чтобы отблагодарить их, устроив в новом доме что-то вроде банкета. И вот, когда разносили саке, один старик поднялся и, поблагодарив от имени всех хозяйку, сказал:
— Вы, госпожа, изволили выразиться в том смысле, что чувствуете облегчение, поскольку ныне стали сама себе хозяйка и никому ничего не должны, можете жить, никого собой не обременяя, но как это печально, как незаслуженно! Не проиграй мы войну, разве жили бы вы сейчас в таком бедственном положении!.. — вскричал он, и скупые мужские слезы потекли по его лицу.
Сидевшие здесь же женщины до сих пор сдерживались, но теперь, подстегнутые слезами старика, заголосили. Молодая служанка вышла вперед и, пав ниц перед хозяйкой, уткнувшись лицом в циновку, пролепетала:
— Госпожа, мне ничего не нужно, позвольте только прислуживать вам денно и нощно.
Словом, банкет неожиданно превратился в вечер скорби и ламентаций.
На следующий день мать мужа, вспоминая печальный вечер накануне и с грустью думая о нынешнем оскудении рода, невольно расплакалась. Но, увидев сына и его жену, сделала вид, что это слезы счастья.
— Фуми, — воскликнула она, — раздели мою радость! С сегодняшнего дня я, как и ты, стала женщиной-демократкой!
И пустилась в признания.
С малых лет она постоянно жила в окружении прислуги и наверняка казалась всем беззаботно-веселой, но в действительности в ее жизни было много тягостного и мучительного. Даже в разговорах с собственной матерью ей приходилось следить за тем, чтобы не сболтнуть лишнего и не навредить приставленной к ней челяди… Она давно мечтала о том, как было бы вольготно жить одной, никого не утруждая, и вот наконец ее желание осуществилось! Когда строился этот дом, она радовалась, что отныне сможет жить без помощи служанок… Сегодня — первый день. Бремя упало с плеч, она свободна, может говорить все, что вздумается, может говорить
искренне.
— И тебя, — обратившись к Фуми, добавила она, — я прошу о том же.
У Фуми наконец отлегло от души. Почти два часа протекала неторопливая беседа мужа с матерью. Время от времени она присоединялась к ней. Затем молодожены отправились на кафедру, где их ждала срочная работа. Хотя в тот день свекровь заявила, что отныне будет жить одна, отпустив всех своих слуг, две служанки почтенного возраста, Тама и Судзу, сославшись на то, что им некуда податься, остались при ней. Тама подвизалась в доме свекрови, а Судзу — в доме молодоженов. Свекровь сказала, что теперь она спокойна, только просит позаботиться в будущем об этих двух женщинах. Обе все равно что семейное достояние, поэтому после ее смерти обходиться сними должно по-родственному, а придет время — похоронить в фамильной могиле рода Суда.
По-правде сказать, выходя замуж за Дзюндзи Суду, Фуми в душе поклялась, что отныне главная цель ее жизни — не изучать лингвистику, а быть образцовой женой. Ради этого она договорилась в университете, чтобы, кроме самых необходимых занятий и лекций, с нее сняли всю дополнительную нагрузку, оставив четыре часа лекций в неделю. Разумеется, подготовка к лекциям и занятия любимой наукой отнимали немало времени, но уже от мысли, что, за вычетом четырех часов в неделю, она полностью сможет посвятить себя семье, ей становилось легко на душе и все домашние хлопоты были в радость.
Что касается работы на кафедре, она сразу решила, что все должно остаться так, как было до замужества. По-прежнему приходила по четвергам и субботам, по-прежнему получала оплату и никак не демонстрировала другим сотрудникам, что она жена Суды. Разумеется, это помогало ему в работе, но она не переставала думать, как бы помочь ему больше.
До сих пор, переводя важные статьи, опубликованные в иностранных журналах, она быстро писала от руки и отдавала мужу рукопись. После него рукопись читали ассистенты и другие сотрудники, она пачкалась, терялась, вновь находилась, словом, сохранять ее в первозданном виде было практически невозможно, а переписывать набело время не позволяло.
Конечно, хорошо было бы печатать на электронной пишущей машинке, но, зная сколько времени понадобится, чтобы научиться быстро печатать текст, Фуми от этой мысли сперва отказалась. Все же по случаю годовщины свадьбы она приобрела машинку, установила ее в своей комнате и, как только выпадало свободное время, тренировалась работать с клавиатурой; через три месяца она уже смогла печатать под диктовку. Даже муж был удивлен ее сноровке.
Как-то в четверг утром, уходя на работу, он попросил ее перевести статью из французского журнала прямо на машинку. Во второй половине дня она пришла на кафедру с машинкой и поставила ее на свой стол в углу. Затем, читая про себя статью, побежала пальцами по клавишам. Времени это заняло вполовину меньше, чем если бы она писала от руки. Сброшюровав листы. Суда передал перевод ассистенту. Тот похвалил результат, а работавший рядом за микроскопом ассистент О. заметил с одобрением, что в таком виде не только читать проще, но и хранить удобнее. Она спросила, не мешает ли другим стук клавиш.
— Никоим образом, — ответил О.
Она успокоилась и с тех пор полностью перешла на электронную машинку.
— Поскольку теперь переводы можно хранить, мы должны повысить тебе жалованье, — сказал ее муж.
— Не надо, — сказала она, — я рада уже тому, что еще какое-то время для меня найдется у вас работа.
Для всех, кто был при этом, ее ответ прозвучал абсолютно искренне…
Так продолжалось почти три года. Затем заведующий кафедрой ушел на пенсию, на освободившееся место назначили ее мужа, а ассистентом профессора стал О. После этого все переменилось. О. стал заниматься текущей работой, и муж теперь редко показывался на кафедре, в результате и она оказалась не у дел.
И это еще не все. О., став ассистентом профессора, мечтал снять квартиру, в которой они с мужем жили, поскольку, по его уверениям, никак не мог найти жилье, удобное для его научной работы. Платить за наем он был не в состоянии и потому предложил выплачивать проценты с кредита, взятого мужем на постройку нового дома в Ёёги. Муж не мог отказать его настоятельной просьбе, и они решили переехать в Ёёги. Таким образом, через три с половиной года после замужества она впервые стала жить бок о бок со свекровью.
До сих пор они приезжали в Ёёги субботним вечером и оставались до утра понедельника, называли воскресенье «днем почитания родителей» и всячески старались развлекать свекровь. Если позволяла погода, они катали ее на автомобиле, что ей очень нравилось, иногда свекровь заранее покупала билеты, и они все вместе посещали концерт какого-нибудь знаменитого иностранного музыканта или наслаждались оперой. Если муж был в воскресенье занят или в плохую погоду Фуми с удовольствием проводила день в доме свекрови, болтая с ней о том о сем и помогая по хозяйству.
Поэтому она со спокойной душой, даже с радостью переехала в новый дом, получив возможность жить по соседству со свекровью и в то же время отдельно от нее. Оба дома обслуживала пожилая опытная служанка, но все прочее было раздельно. Фуми каждый день заходила справиться о здоровье матушки, и, хотя из-за большой своей занятости не имела возможности долго с ней разговаривать, она была уверена, что обеих такое положение устраивает.
После того как муж стал профессором, помимо лекций, которые он должен был читать, у него появилось много административной работы, он уже не мог часто появляться на кафедре патологии, но науку не бросал. В результате ему понадобилось больше помощи с ее стороны, и свои прежние обязанности — перевод статей из иностранных журналов и перевод его работ на иностранные языки — ей пришлось отныне выполнять дома. Иностранные статьи она переводила прямо на машинку и, после того как он их просматривал, к радости О. и других сотрудников, отдавала на кафедру. К этому времени она уже стала немного разбираться в патологии, у нее зародился интерес к этой сложнейшей научной дисциплине, и даже дома она многие часы проводила в кабинете.
На третий год после переселения в новый дом она неожиданно сделала неприятное открытие.
При первой встрече со свекровью та ей сказала: «Давай обо всем говорить прямо и доверять друг другу». После она несколько раз повторила свое пожелание. И Фуми по любому поводу искренне, без обиняков и намеков, высказывала все, что думает. Соответственно и слова свекрови она всегда принимала за чистую монету, но как-то раз вдруг почувствовала в сказанном какой-то иной, ускользающий от ее понимания смысл и даже вздрогнула от удивления. Но что в действительности имела в виду свекровь, она, сколько ни ломала голову, понять не могла. Фуми спросила себя, не вкладывает ли она сама бессознательно в свои слова какой-либо скрытый смысл, но ничего такого не обнаружила. Обсудить это с мужем она не решалась и мучилась в одиночку, теряясь в догадках. В конце концов Фуми пришла к выводу, что опыт шестидесятилетней женщины, в жизни которой было много как радостных, так и горестных событий, невольно накладывает своеобразный отпечаток на все, что она говорит. Фуми стало совестно, что, в сущности, ей ничего не известно о свекрови, и она решила непременно разузнать о ее прошлой жизни. Время от времени Фуми принималась расспрашивать мужа. Тот охотно рассказывал, и у нее открылись глаза. Теперь она знала, что свекровь, которую она считала счастливейшей из смертных, в действительности была глубоко несчастной, измученной женщиной. Почему же рассудительная, ни в чем не обделенная природой свекровь теперь казалась ей такой несчастной? Ответ был прост — она испытала на себе все беды, выпавшие в течение ее жизни на долю Японии. Свекровь сама прекрасно сознавала это, оттого-то при первой их встрече и сказала: «Я, как и вы, молодые, стала нынче демократкой, а потому давай сразу договоримся обо всем говорить начистоту». И после часто повторяла, что теперь она — независимая демократка.
Фуми привыкла со всеми говорить открыто, поэтому, разумеется, и со свекровью говорила без обиняков, без всякой задней мысли, но не задевала ли она тем самым, пусть и невольно, чувства свекрови? Вот что ее теперь беспокоило… Один недавний пример, казалось, служил тому подтверждением.
В Токио открылась научная конференция по проблемам патологии, в ее работе принимало участие множество ученых со всего мира, а также многие из молодых друзей мужа и ассистента О. В последний день конференции муж пригласил участников к себе и организовал что-то вроде вечера отдыха. Сотрудники кафедры во главе с О., изрядно уставшие еще в период подготовки конференции, откликнулись с готовностью, кроме того, приглашение приняли пятеро иностранных ученых. У жены О. не оказалось приличного для такого случая вечернего платья, поэтому она решила прийти в кимоно и настоятельно попросила Фуми последовать ее примеру. Фуми, придя в шутливое настроение, согласилась, подумав, что будет забавно хоть раз нарядиться в кимоно.
Когда она выходила замуж, у нее не было ни одного кимоно. На следующий день после того, как свекровь переехала в Ёёги и они с мужем пришли ее поздравить, свекровь, поговорив о том о сем, сказала:
— Фуми, ты как-то призналась, что тебе стыдно быть бесприданницей, но я этому только рада. Когда меня выдавали замуж, то навалили столько добра, что хотя, овдовев, я и раздарила многое знакомым, желая порадовать их еще при своей жизни, мне так и не удалось ото всего избавиться… Я, не спросившись, поставила в твоей комнате два комода. Вначале хотела отдать в антикварную лавку, но это такие замечательные вещи, к тому же память о родителях, — рука не поднялась. В комоды я положила наряды, которые носила в молодости, теперь это все твое, носи на здоровье. Если подаришь мне внучку, все достанется ей… До войны и шелк и краски были просто чудо.
На втором этаже нового дома для Фуми была устроена комната в японском стиле, в ней и стояли два великолепных комода из павлонии, но, даже переехав в новый дом, Фуми не заходила в эту комнату и не примеряла кимоно. Однако для вечеринки, на которую пригласили иностранцев, она решила надеть что-нибудь из подаренного свекровью. В назначенный день жена О. пришла пораньше в кимоно с длинными рукавами, помогла ей выбрать в комодах вроде бы подходящее яркое кимоно и надеть его как положено.
Вечер выдался на славу, иностранные гости остались довольны. Все они были люди
музыкальные и не только сыграли на принесенных лаборантами инструментах, но и пели соло, на два голоса и хором. Супруга немецкого ученого оказалась первоклассной пианисткой. Она исполнила несколько пьес и аккомпанировала всем желающим, собравшиеся наслаждались музыкой, много пили, беседовали, так что время пролетело незаметно. Когда спохватились, было уже близко к полуночи, поэтому иностранных гостей поспешили проводить до отеля.
На следующее утро Фуми первым делом отправилась к свекрови, чтобы поблагодарить за прошедший вечер. В самом начале этого вечера свекровь, принарядившись, появилась поприветствовать иностранных гостей, после чего ушла, передав бразды правления сыну и невестке. Поблагодарив ее, Фуми собралась уже уходить, когда свекровь обратилась к ней:
— Фуми, ты вчера надела кимоно…
— Наряды вашей молодости, которыми вы, матушка, меня одарили, очень меня выручили. Все расхваливали, как красиво я одета.
— Наверно, я давеча должна была тебе подсказать… хозяйке дома Суда следовало надеть что-нибудь поскромнее. Там в комодах можно было подобрать.
— Я в этом полная невежда… А супруга О. — знаток того, как одеваться по-японски, она сказала, что выбрала для себя кимоно с длинными рукавами, и мне подобрала такое же и помогла надеть… Я виновата, что не посоветовалась с вами.
— Это мой подарок, поэтому ты вольна надевать что вздумается. Вот только, видишь ли, вчерашние гости — младшее поколение тех, кто воевал на стороне союзников. Их старшие братья, их отцы во время войны принесли Японии неисчислимые страдания, а после, как оккупанты, захватили Токио и уничтожили наш клан. Эти иностранцы, вернувшись домой, расскажут своим отцам и старшим братьям… Мол, финансово-промышленный клан Суда, прежде кичившийся своим могуществом, ныне ютится в маленьком, убогом домишке и опустился настолько, что молодая жена, пригласив иностранцев, расфуфырилась, как какая-нибудь гейша… Я давно хотела тебя предупредить. Хоть мы и разорились, ты все же должна осознавать и нести ответственность за то, что ты хозяйка дома Суда.
Дойдя до этого места, Фуми Суда замолчала и пристально взглянула на меня глазами, полными слез.
— Когда вы предложили мне, — сказала она, — взглянуть на мой счастливый брак шире, включив и других членов семьи, вы, наверно, заподозрили что-либо подобное?
— Но разве ты стала от этого несчастливее? Рассудительную, сноровистую свекровь сделали несчастной беды, обрушившиеся на Японию. Можно только посочувствовать ей… Так сказать, жертва истории. Не расскажешь ли мне поподробнее о бедах, выпавших на ее долю?
Некоторое время она раздумывала, но потом вытерла платком глаза и начала неторопливо рассказывать.
Об этих бедствиях она слышала от мужа и других людей, поэтому имеет общее представление… Свекровь была единственной дочерью старого графа В., воспитывали ее как принцессу из волшебной сказки, к примеру, до самого окончания женской гимназии ее повсюду сопровождала служанка. Как случилась, что она, будучи единственной наследницей графа, к тому же всеми признанной красавицей, вышла замуж за отца ее мужа, Фуми толком не знает. Хоть свекровь и по сей день называет семью Суда финансовым кланом, в действительности никакого клана не было, просто их предки были крупными промышленниками, богачами, преуспевшими во многих областях. Свекрови едва исполнилось восемнадцать, когда без всяких смотрин, осенью 1937 года, она вошла невестой в семью Суда. В особняке в Сэтагая при ней состояли две служанки, переданные ей графом, а поскольку ее свекровь умерла за год до этого, она никого не стесняла. Тридцать седьмой год… В этом году кончилась Маньчжурская кампания и началась Китайская… Страшное было время, но клан Суда, на протяжении поколений занимавшийся промышленностью, сблизившись с военными кругами, переключился на производство вооружений и достиг невиданного процветания. А в последующие десять лет — Китайская кампания, война на Тихом океане, затем поражение, послевоенный хаос… Я слышала, что все японцы тогда голодали и жили в страшной нужде, но свекровь как-то раз призналась: «В нашей семье ничего подобного не было. Военные зачислили нас на спецснабжение, мы жили по тем временам роскошно». Она не была обременена особыми заботами, разве что приходилось навещать семьи работников, отправленных на фронт, да раздавать им сахар, полученный в качестве пайка. В мае сорок пятого вражеская авиация подвергла Токио ужасающей бомбардировке, Токио лежал в руинах, но их особняк не пострадал. Свекровь верила, что японская армия ждет, пока вражеские войска высадятся на территории Японии, чтобы нанести решающий удар и уничтожить их. Один высокий военачальник рассказывал ей как великую тайну, что наши войска с тысячами самолетов выжидают, спрятавшись глубоко в горах. В семье говорили — надо запастись терпением. Поэтому, даже услышав пятнадцатого августа по радио декларацию императора о поражении, она не поверила своим ушам. Через несколько дней военный грузовик в три захода доставил им продовольственные припасы и амуницию, которые разместили у них на складе. Зашедший в это время знакомый капитан по секрету сказал свекрови, что после высадки оккупационных сил все это добро будет конфисковано, поэтому его и раздают. «Теперь это все ваше, — сказал он, — можете пользоваться по своему усмотрению!» Только тогда свекровь поверила, что Япония проиграла в войне…
Но прошло еще три-четыре года, прежде чем она на себе почувствовала все страшные последствия поражения. Эти четыре года лихолетья были годами неисчислимых бед и лишений. В Японии, оккупированной союзными войсками, американцы насильственно насаждали общественное переустройство. Оккупационная администрация реквизировала особняк свекрови, вынудив семью переселиться во флигель, прежде занимаемый приказчиком, хотя проблемы, связанные с реформой землевладения и налогообложения, ее мужу и управляющему удалось кое-как уладить, на складе хранилось вдоволь съестных припасов и предметов первой необходимости, так что свекровь, бывшая в неведении относительно угрожавших семье бедствий, кажется, особых тягот не испытывала.
Разумеется, ее не могло не печалить то, что семья ее отца, графа В., лишилась своих титулов, а главное, в результате политических реформ вся ее недвижимость была национализирована, и они были разорены настолько, что им пришлось искать кров у родственников в Киото. В довершение после роспуска промышленно-финансовых кланов у семьи Суда были отобраны все принадлежавшие им предприятия, а отцу и деду, как каким-нибудь преступникам, было запрещено участвовать во всех областях их прежней предпринимательской деятельности, даже близко приближаться к конторам своих бывших компаний им не разрешалось. Узнав, что премьер-министр Хирота, которого он весьма почитал, арестован как военный преступник, дед испугался, что и ему, на протяжении многих лет снабжавшему армию, грозит смертный приговор международного трибунала, и в результате скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Из страха перед оккупационными войсками и общественным мнением его не смогли даже похоронить как полагается, закопав в землю как ничего не стоящие отбросы. Все это не могло не причинять свекрови глубоких душевных страданий.
До поражения Японии отец мужа был очень занят и редко показывался дома, а после войны, став безработным, почти не выходил, но при этом с женой практически не разговаривал, она же была счастлива уже тем, что может хоть чем-то ему услужить. Но вот однажды он неожиданно позвал ее в свой кабинет, как он сказал, для серьезного разговора. Такое случилось впервые за все время их супружества, поэтому она была очень удивлена. Муж, предложив ей сесть, сказал:
«Наверно, ты не раз слышала по радио, что Япония стала демократической страной и отныне муж и жена могут поступать каждый по своему усмотрению, как совершенно независимые, свободные люди. Еще студентом, на лекциях по истории Европы, я узнал о том, как Великая французская революция, сто с лишним лет назад, после неисчислимых народных страданий, учредила демократическое государство, а теперь и Япония благодаря долгой войне и горестному поражению стала демократической страной, избежав при этом гражданской войны. Для японцев произошла великая социальная революция. Так же как когда-то французы благодаря Великой революции создали новое общество, японский народ ныне благодаря социальным реформам вступил в новое светлое будущее. К счастью, мы еще молоды, поэтому, приложив некоторые усилия, можем перевоспитать себя для новой Японии и начать новую жизнь».
Придя к такому выводу, отец мужа принял для себя решение, продвигаясь наугад, ощупью, начать жить по-новому. Отныне главное — учиться. Он пообещал жене всяческую поддержку, если она согласится последовать его примеру, и дал ей пять дней на раздумье, предложив ответить на несколько вопросов.
Во-первых, была ли у нее в юности какая-то мечта, от которой ей пришлось отказаться по причине того, что она женщина, к тому же связанная браком. Во-вторых, не обучалась ли она какому-нибудь «женскому» искусству, которое могла бы развить до уровня мастерства, позволяющего обеспечить свою жизнь. В-третьих, не попробовать ли ей себя в каком-нибудь женском занятии: шитье, кулинарии, вязании? Прежде она этим пренебрегала из-за своего благородного положения, но теперь могла бы заняться профессионально. В-четвертых, поскольку годы позволяют, нет ли у нее желания поступить в университет и получить образование. В-пятых, нет ли у нее собственных идей. В-шестых, она привыкла заглядывать в газетах лишь в раздел происшествий, а следовало бы, поскольку они выписывают всего одну газету, «Асахи», прочитывать ее всю, от корки до корки, включая объявления, и если что-то непонятно, спросить у домашних. Если вести себя с работающими в доме людьми на равных, они охотно ответят на любой вопрос, и общение с ними может быть весьма поучительным…
По-правде говоря, свекровь опасалась, что муж заведет речь о разводе, поэтому, успокоившись, она внимательно обдумала его заботливые советы. По первому пункту ответ отрицательный. По второму: конечно же, она занималась икебаной, чайной церемонией, игрой на старинных музыкальных инструментах, но сомнительно, чтобы она могла сделать это своей профессией. Третье: наблюдая за работой служанок, она не находила ничего такого, чем хотела бы заняться. Четвертое: в ее возрасте стать студенткой немыслимо. Словом, только шестой пункт она могла осуществить, хотя целого дня не хватит, чтобы прочесть все, как советовал муж, к тому же в газете было слишком много сложных статей, а она не представляла, к кому обращаться за разъяснением. Однако этот шестой пункт ее несколько успокоил — она могла хоть что-то ответить мужу.
На пятый день она честно во всем ему призналась. Муж сказал, что ей еще следует подумать, авось появится какой-нибудь замечательный план, и дал ей срок в десять дней. Но и в течение этих десяти дней, сколько ни ломала голову, она не смогла придумать себе никакого занятия по душе. Так она и сказала мужу. Тот великодушно дал ей еще десять дней на раздумья. В эти десять дней она не столько думала, сколько страдала и в результате пришла к выводу, что она совершенно никчемная женщина. В стране утвердилась демократия, мужчины и женщины отныне имели равные права, стали самостоятельными гражданами, а она мало того что не могла быть самостоятельной, но и вообще не была способна ни к какому делу и только доставляла хлопоты состоявшим при ней служанкам. При этой мысли у нее навертывались слезы. Итак, к концу последних десяти дней ей пришлось честно признаться мужу, что она никчемная несчастная женщина и искренне в этом раскаивается. Муж, посмотрев на нее с жалостью, сказал:
«Тебе не в чем раскаиваться. Это твоя беда. Ты называешь себя никчемной, но в этом нет твоей вины… Виноваты эпоха и среда, в которой ты воспитывалась».
«Нет, это я такая глупая».
«Теперь уже слезами делу не поможешь. Если хочешь возродиться для новой эпохи, придется учиться, пытаться найти в себе нераскрытые таланты».
«Какие могут быть нераскрытые таланты у такого бесполезного человека, как я?»
«Наверняка есть. Просто до сих пор ты о них не думала… Лично я, пройдя чреду испытаний, как будто ожил, каждый день приободряю себя надеждой раскрыть в себе новые способности, начать новую жизнь».
«Ты предлагаешь мне учиться, но чему может научиться бесталанная женщина?»
«Разве не научилась ты за эти двадцать пять дней читать газеты по-новому?.. Главное, не падай духом! Сходи для пополнения образования на публичные лекции, послушай, о чем там говорят. Их посещают люди, которые, подобно тебе, настрадались за время войны и теперь не знают, как строить свою жизнь в будущем, даже одно общение с ними пойдет тебе на пользу. Для начала сходи на лекции в нашем районе, без служанок, одна… А когда вернешься, расскажешь мне о том, что услышала».
Перспектива ходить на лекции не слишком увлекала свекровь, но последние слова мужа ее убедили. Обычно она почти не беседовала с ним, но теперь, после лекций, у нее появится возможность с ним поговорить. Вскоре жителям района объявили, что в конференц-зале районной управы выступит американка с лекцией «Демократическое образование в США». Свекровь пошла. Она впервые вышла на улицу одна, впрочем, помогавшая ей одеться служанка, сославшись на то, что госпожа не знает дорогу, проводила ее до половины пути. Лекция — с переводчиком — продолжалась почти два часа. Она мало что поняла, но зато за ужином ей было о чем поговорить с мужем.
Свекровь трижды посещала районные лекции, после чего муж предложил ей сходить на лекции, которые читаются в центре города. Он смог уговорить ее, сказав, что ему самому надо в ту сторону по своим делам. Впервые после войны она оказалась в центральной части города. Она увидела разрушенные дома, трудности с транспортом, но в то же время ее поразил вид пестрой толпы, бродить по городу было интересно. В результате за год она прослушала несколько общегородских лекций. Среди выступавших были университетские профессора, женщины-ученые, журналисты, писатели, музыканты, они рассказывали о политике, об экономике, о положении женщин, просто о жизни людей. Слушать их было интересно и, вероятно, поучительно, но это нисколько не помогало ей открыть в себе хоть какие-то способности. Свекровь была в отчаянии. Но вот на одной из лекций она услышала рассказ о воспитании музыкантов-вундеркиндов.
Если детям, даже из семей, далеких от музыкальной культуры, с раннего детства давать слушать музыку, а начиная с трех-четырех лет учить игре на скрипке и если мать со своей стороны будет ласками поощрять эти занятия, ростки музыкального дарования в сердце ребенка раскроются и разовьются сами собой, открывая путь к мастерству. В доказательство на сцену пригласили пятерых детей от пяти до девяти лет, предложив каждому сыграть на скрипке. По очереди выступили дети, занимавшиеся полтора, два, три и четыре года. Публика была потрясена их успехами.
Слово взял музыкант. Вовсе не обязательно, что все эти дети станут профессиональными музыкантами, сказал он. Если в них дремлют другие задатки, они обязательно получат развитие, раскроются и в дальнейшем будут определять интересы ребенка. Но и в этом случае обучение музыке с ранних лет полезно тем, что способствует развитию умственных способностей, к тому же вырабатывается привычка к усердию, так что в будущем дети смогут добиться успеха в любой области. В качестве живого примера на лекции присутствовали несколько бывших воспитанников, школьники и студенты, которые уже успели прославиться своими талантами в математике, физике и иностранных языках. А дети, проявляющие исключительно музыкальные дарования, со временем, по словам докладчика, могут стать музыкантами, исполнителями, подлинными виртуозами. Он привел в пример одного из своих воспитанников по имени Кодзи Тоёда. После окончания войны он потерял его из виду, но позже нашел в деревне, тот влачил жалкое существование в ужасной нищете. Когда японское государство позволит выезжать за границу, он обязательно пошлет его в Европу совершенствовать свой талант.
Итак, заключил музыкант, воспитание музыкальных вундеркиндов не ставит целью непременно вырастить гениального музыканта, главное — открывать в детях ростки дарований, развивать их способности, чтобы в будущем они внесли вклад в новую мировую культуру. Лет через тридцать в любой культурной стране будет без счета одаренных малышей, пиликающих на маленьких скрипочках. В завершение он рекомендовал публике Кодзи Тоёду как виртуозного скрипача и объявил сольный концерт Баха. Насколько прекрасным было исполнение, она поняла из восторженной реакции пестрой публики, почти трех сотен человек…
Но покинула собрание свекровь с чувством отчаяния. Задатки дарований, задатки способностей следует обнаружить в детстве и планомерно развивать, а она в свое время этим не озаботилась. Даже если в ней и были скрыты таланты, сколько бы она теперь ни училась, какие бы усилия ни предпринимала, в ее возрасте уже ничего не раскроется, побеги засохли, все тщетно. Уже пять лет она замужем, а все еще не родила ребенка. Зная, как страдают муж и тесть, она прибегала к различным ухищрениям, следуя советам родственниц и близких подруг, но все безрезультатно. Как женщина она оказалась ни на что не способной, а теперь, из лекции профессора Судзуки, воспитывающего вундеркиндов, она поняла, что и во всех других отношениях ни на что не годится… Домой она вернулась на пределе отчаяния.
В тот же день за ужином свекровь поведала мужу о своем горе, но он не стал ни утешать ее, ни подбадривать, казалось, он весь ушел в свои мысли. Дело в том, что сам он в это время начал изучать электротехнику, каждый день был загружен занятиями и сильно уставал… Из-за безразличия мужа она потеряла желание учиться, перестала усердно читать газеты и ходить на лекции. Казалось, она утратила все жизненные силы.
Так прошло почти четыре месяца, она стала плохо себя чувствовать, ее часто рвало после еды. По тому, что она вычитала в газетах, она заподозрила у себя рак желудка. И решила: если диагноз подтвердится, она покончит с собой. Отправившись втайне к незнакомому врачу, свекровь описала ему свое состояние и прошла обследование.
«Это рак желудка? — спросила она в страхе».
«Тошнота, говорите… Да вы, матушка, беременны».
«Неужели? Я уже десять лет в браке и никак не понесу, вы уверены?»
«Радуйтесь. Месяцев через пять, поскольку вы совершенно здоровы, родите замечательного малыша. Тошнота скоро пройдет. Лекарств не принимайте, приходите на осмотр раз в месяц…»
Пожилой врач, излучавший уверенность, надавал ей массу советов.
Она все еще не могла поверить, но из больницы вышла с чувством, что ей удалось выбраться из пучины смерти. Тут в глаза ей бросилась ранее не замеченная большая вывеска: «Родильный дом». И она наконец поверила, что беременна, и обрадовалась, что ей дарован ребенок.
Свекровь колебалась, как сообщить эту радость мужу, но вечером, когда он вернулся и, переодеваясь, снял пиджак, она шепнула:
«Не удивляйся… Я зачала ребенка. Вот радость-то… Сказали, через пять месяцев… Ты рад?»
«Значит, можешь родить?»
«Да, десять лет я этого ждала».
«Ну и чем здесь гордиться? И собаки и кошки умеют рожать. Между прочим, чтобы стать достойной матерью, тоже надо учиться, а ты в последнее время, ссылаясь на свою никчемность, бездельничаешь, даже газеты перестала читать. Так нельзя!..»
Никогда в жизни не испытывала она такой горести, как от этих слов мужа: «Даже кошки умеют рожать».
Дойдя до этого места своего рассказа, Фуми Суда с чувством сказала:
— Вот какую несчастную жизнь прожила свекровь, испытав на себе все тяготы своего времени! После того как я узнала это — что бы мне ни говорила свекровь, как бы ни было мне тяжело, я старалась делать все, чтобы ее утешить, ибо она достойна всяческого сострадания. И — удивительное дело! — в какой-то момент свекровь как будто ушла из моей жизни, из нашей с мужем жизни, перестала доставлять мне беспокойство. С другими родственниками все было много проще… В том, что я рассказала, вообще-то нет ничего особенного, я только ответила на ваш вопрос об отношениях в нашей семье…
— Спасибо, я вполне удовлетворен.
— Между прочим, мой муж, прочтя две ваши книги о Боге, сказал, что в его научной работе, несомненно, претворяется великий Божий замысел. С верой в то, что он ведет исследование не для удовлетворения собственного любопытства и не ради славы, а на благо всего человечества, словно вкушая блаженство в каком-то желанном незримом мире, он обрел свое счастье… Я тоже радуюсь каждый день и испытываю удовлетворение от сознания того, что в меру своих сил помогаю мужу в его трудах. Поэтому я и назвала нашу жизнь счастьем.
— Ваше счастье, как я уже вам говорил, и есть «жизнь, полная радости», идеал, предписанный человеку Богом-Родителем. Храни вас Господь.
— Недавно я почувствовала, что у меня отпала необходимость посещать «Хижину небесного завета» и слушать наставления. Ведь в душе я ненавижу Тэнри, из-за этого меня изгнали из дома. К счастью, я, кажется, уже не нуждаюсь в помощи юноши Ито, для меня это словно пройденный этап.
— Вполне достаточно и того, что ты уже услышала. Если вдруг возникнет какое-либо сомнение, твой муж непременно получит указание от Великой Природы.
— Да, я совсем забыла… Не могли бы вы встретиться с моим мужем, ведь он вас считает своим духовным отцом… Он очень этого хочет.
— Всегда к вашим услугам. Я и сам жду этой встречи.
— Большое спасибо. Я вас, наверно, утомила… Простите меня.
С этими словами она ушла. Облитая яркими лучами солнца, она показалась мне в эту минуту посланницей из Истинного мира.
Глава шестая
Проводив Фуми Суда, как посланницу Истинного мира, я невольно задумался о том, как поживает ее подруга — Хидэко Накамура. Она тоже уверяла меня, что, как и Фуми, счастлива в семейной жизни. Но мне почему-то казалось, будто, отвечая на мои расспросы, она в первую очередь хочет успокоить себя. Говорила, что счастлива, но в чем именно — не уточняла.
Я радовался, слушая рассказ Фуми о ее семейном счастье, и в то же время беспокоился, так ли уж счастлива Хидэко, ведь обе эти девушки уже сроднились с моей душой. Я решил порыться в памяти и припомнить все, что Хидэко рассказывала мне о своей супружеской жизни.
Однако, поднявшись в кабинет, где меня ждала последняя корректура «Замысла Бога», я своего намерения не осуществил. Мне предстояло в течение нескольких дней, сосредоточившись, вести тяжелую борьбу с нею, выискивая опечатки, фактические ошибки и грамматические огрехи. Издание было намечено на середину июля, поэтому, чтобы успеть в срок, надо было спешить. Когда я закончил работу и отдал корректору в редакцию, наконец-то освободившись от нее, в саду расцвела глициния.
Глядя, как растущая у входа в дом глициния гордо распустила сотни своих роскошных лиловых соцветий, я вдруг вновь вспомнил о Хидэко Накамура. Ведь и она до замужества, подобно этой глицинии, цвела в роскошных условиях, которыми могла гордиться…
Ее отец, богатый промышленник, был глубоко верующим католиком. Когда она училась во втором классе, родители вместе с ней и ее братом, который был старше ее на четыре года, по делам государственной службы переехали во Францию, где прожили четыре года. Эти четыре года жизни во Франции оказали благотворное влияние не только на родителей, но и на будущее их детей.
Вернувшись в Японию, и она и брат учились в Токийской французской школе, затем брат поступил на юридический факультет Токийского университета, а она — на филологическое отделение Католического университета, посвятив себя изучению французской литературы. По окончании университета брат пошел работать в компанию отца, а она, поступив в аспирантуру, продолжила свои научные занятия. Все это время родители полностью доверяли детям и ни разу не пытались ограничить их свободу. Они не только не пытались устроить ее замужество, но и, поскольку это было необходимо для ее занятий, четыре раза отпускали во время летних каникул учиться во Францию, не ограничивали в средствах и всячески поощряли. Темой для диссертации она взяла творчество Андре Жида и в связи с этим случайно познакомилась со специалистом по французской литературе Кадзуо Накамурой, полюбила его и вышла за него замуж…
Припоминая наши беседы, я заметил, что она рассказывала мне исключительно о своей жизни до замужества и почти ничего о том, что было после. И о ее муже я знал лишь то, что она рассказывала мне о нем, будучи еще незамужней.
Кадзуо Накамура рано потерял родителей и вместе со старшей сестрой Марико воспитывался в особняке деда в Сибуе. Учился на юридическом факультете, окончив его, стал государственным служащим, но вскоре дед умер, и он, сменив направление, отправился учиться во Францию в качестве своекоштного студента. В этом, как он уверял, сказалось влияние моих книг. Действительно, в их семье к ним относились благосклонно, настолько, что его покойная мать, с юности почитательница моего творчества, дочь свою назвала Марико, по имени героини моего романа «Умереть в Париже». Потому и он был знаком с моими книгами еще со школьной скамьи.
Пока он учился во Франции, старшая сестра Марико вышла замуж за чиновника Министерства финансов. Супруги поселились в особняке в Сибуе, но благодаря большому состоянию семьи Накамура это никак не сказалось на его финансовом положении. О средствах на обучение можно было не беспокоиться, сестра не переставала поощрять брата, надо, мол, учиться, пока молод. Живя в Париже, Кадзуо изучал французскую литературу, в то же время стараясь вобрать в себя все многообразие французской культуры. Незаметно пролетели четыре года. И вдруг он ощутил в себе желание стать писателем.
Как-то раз он признался в своем тайном желании молодому литературному критику М., бывшему одновременно его наставником и закадычным приятелем. Тот с радостью его поддержал. Но, чтобы стать японским писателем, надо писать на японском языке, а Кадзуо уже довольно долго прожил во Франции, поэтому М. настоятельно советовал ему вернуться в Японию и уже там совершенствоваться в писательском мастерстве. Последовав этому совету, Кадзуо вернулся на родину. Дома он объявил сестре, что намерен стать писателем, отныне посвятив себя этой работе, и попросил ее отнестись благосклонно к его решению. Сестра была чрезвычайно рада, усмотрев в этом ниспосланную из другого мира помощь покойных родителей, и сразу же предложила, чтобы я был его наставником. «Когда ты напишешь произведение, в котором сам будешь уверен, — сказала она, — обратимся к этому писателю за поддержкой». — «Для меня это будет стимулом к работе», — ответил он. Среди близких друзей их семьи был мэр Токио, человек прогрессивных взглядов. Случайно узнав о решении Кадзуо стать писателем, он предоставил ему для занятий свой дом, и теперь Кадзуо являлся туда как на службу, не ленился писать ежедневно и одновременно усердно штудировал мои старые книги…
Хидэко вышла за него замуж осенью того года, когда умерла моя жена, следовательно — почти семь лет назад. С того времени она не раз навещала меня вместе с Фуми, но не могу припомнить, чтобы она рассказывала мне что-либо о своем муже и семейных делах. Значит ли это, что она несчастлива в браке? Перед замужеством Хидэко читала в своем институте лекции по лингвистике и французской литературе, но, выйдя замуж, как я слышал, решила, что главное для нее теперь — наука человеческого общежития, поэтому отказалась от лекций по лингвистике, продолжая два раза в неделю вести курс французской литературы. Когда у нее родился ребенок, ее мать, женщина богатая и живущая одна, вызвалась помогать ей, но Хидэко сказала, что любит детей и сама справится с воспитанием. Ее девочке уже должно быть три года… Но все это я знал со слов Фуми Суда.
Я рассеянно думал обо всем этом, когда неожиданно на пороге появилась Хидэко Накамура собственной персоной. Пораженный, я потерял дар речи.
— Сэнсэй, я потрясена. Мы не виделись два года, а вы так прекрасно выглядите, точно помолодели…
— Только что, глядя на эти цветы глицинии, я вспоминал о тебе.
— Я услышала, что вы вновь принимаете гостей, и сразу же примчалась. Это правда, я вам не помешаю?
— Я охотно вижусь со всеми. Как тебе глициния?
— Хороша… А я не поверила, думала, что вы ужасно заняты, и все-таки рискнула отнять у вас немного времени. Мы уже два года не виделись… У меня накопилось к вам много вопросов…
Она словно бы и внимания не обратила на красоту цветущей глицинии. Но эта ее безоглядная устремленность и составляла ее прелесть. Улыбаясь, я провел ее в соседнюю гостиную и приготовился выслушать ее вопросы. В отличие от большинства японок, рассыпающихся в любезностях и лепечущих о всяких пустяках, она, как обычно, сразу же перешла к главному.
— Сэнсэй, — спросила она, едва присев на стул, — гений Жак, о котором вы пишете в «Улыбке Бога», — вымышленный персонаж или реальный человек?
— Реальный человек.
— Я так и полагала… Появление в вашей книге гениальной личности, как мне кажется, — огромный шаг вперед в вашем творчестве, меня это поразило, еще когда я читала «Милосердие Бога», и с тех пор Жак, словно живой человек, продолжает постоянно влиять на меня… Правда же, этот гений, как оживший Иисус, необычайно притягивал вас? Я много думала об этом, но потом поняла, что мне необходимо спросить у вас…
— О чем же?
— Вы общались с Жаком в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах. Верно? А ваша первая книга вышла весной тридцатого года, и после в течение полувека вы опубликовали немало произведений, но этот удивительнейший человек ни разу не появился на ваших страницах… Нет его даже в тех книгах, действие которых происходит в швейцарском санатории… Я подумала, может быть, причина в том, что во время вашего прощания в Отвиле вы поклялись встретиться через двадцать пять лет, а до тех пор как бы умереть друг для друга, не общаться, продвигаясь каждый по своему избранному пути… Но и позже, в вашей автобиографии «Человеческая судьба», которую называют самым значительным вашим произведением, гений Жак не появляется. Так вот что я хотела спросить: сознательно ли вы умалчивали о нем, была ли для этого какая-то причина?
— Не писал о нем просто по рассеянности… Ты, может быть, не поверишь, но это именно так. Я сам заметил это только недавно и пришел в замешательство. Я предполагал, что мои читатели непременно спросят, почему я до сих пор ни строчки не посвятил Жаку, о котором написал год назад в «Улыбке Бога»… Ты — первая, — добавил я, смеясь. — Я много об этом думал и в конце концов должен признать, что причина — в недостатке у меня таланта. Правда, если бы я напрямую написал о Жаке в течение почти двадцати лет после выхода моей первой книги, читатели сочли бы его сумасшедшим и не смогли бы адекватно воспринять мое произведение. Ведь даже друзья, жившие вместе с ним, Жан и Морис, подсмеивались над ним, называя его слова бреднями. Но за прошедшие пятьдесят лет общество сильно продвинулось, и никто из читавших «Улыбку Бога» не увидел в нем сумасшедшего. Новая эпоха побудила меня написать о Жаке, хотя то, что я пишу в соответствии с запросами времени, говорит о моей бесталанности, и мне стыдно перед Жаком…
— Вот оно что… Я понимаю, что вы хотите сказать. И еще обдумаю на досуге, но… То, что вы избрали писательскую стезю, последовав совету этого гениального юноши, мне известно, но не потому ли это произошло, что и вы уверовали в то, во что верил он, — в Бога как единую силу, приводящую в движение Вселенную?
— Все то, что он так страстно говорил о единой силе Вселенной, я понимал на уровне слов, но сущность постичь не мог, поэтому не скажу, что уверовал. Хотя в той искренности, в той убежденности, с которой он вещал о Боге, чувствовалось что-то выше слов, невозможно было внимать ему равнодушно. Короче говоря, его вера меня захватила, но сути ее я не понимал… После года совместной борьбы с недугом Жак дал мне один важный совет… Каждый человек рождается с единственным предназначением, данным ему от Бога, но люди зачастую не догадываются об этом и ведут ошибочную жизнь. Из сострадания к ним Бог, дабы они осознали свое истинное предназначение, насылает на них неизлечимую болезнь — туберкулез. Если больной прозреет и изменит направление своей жизни, чтобы исполнить данное Богом предназначение, он обязательно вылечится от туберкулеза. И в самом деле, и Жак, и его собратья по несчастью — Жан и Морис, прозрев, вылечились настолько, что на Пасху смогли вернуться к нормальной жизни. В течение года Жак много слышал от меня о позитивистской экономии, которую я тогда изучал, особенно о теории денежного обращения, и сам сильно продвинулся в этой области, но, как он признался, его не покидали сомнения. Позитивистская экономия — новая наука; даже если я посвящу ей всю свою жизнь, я вряд ли добьюсь результатов, которые могли бы принести весомую пользу человечеству. Так он убеждал меня, приводя множество гениальных доводов, а под конец сказал; «Ты занимаешься этой наукой без удовольствия, а это доказывает, что тебе назначено Богом другое».
Пока я все это рассказывал Хидэко, события и переживания того времени так отчетливо возникли у меня перед глазами, что мне стало трудно продолжать… За год нашей жизни в санатории Жак понял, как страстно я влюблен в литературу. Он знал о том, что мой школьный учитель убеждал меня стать писателем, знал причину, по которой я выбрал социальную экономию. Мы так сильно сблизились за это время! И вот что он сказал, как бы подводя итог: «Стать писателем — это твое предназначение, дарованное Богом. Поклянись Богу, что немедленно бросишь науку и будешь следовать своему предназначению. Завтра утром, когда мы все пойдем в храм снега, поклянись! Иначе на Пасху мы скрепя сердце, проливая слезы, уйдем отсюда втроем, оставив тебя одного в этих горах».
— Значит, на ваше решение стать писателем повлияла вера Жака? Получается, вы все-таки уверовали в единого Бога?
— Ну да, такой я слабохарактерный человек… Но я не столько уверовал в Бога, сколько решил заключить пари, которое возможно только раз в жизни.
— Заключить пари? — удивилась Хидэко, но я не смог толком ей объяснить.
В то время я, помимо обязательных прогулок, целыми днями усердно выполнял все врачебные предписания, чтобы убежать от смерти, но ни одно лекарство не помогало, и я уже начал отчаиваться. Если решение бросить науку и стать писателем мне поможет, это будет как спасительный канат, спущенный с небес, думал я тогда. Если не поможет, что ж, хуже уже не будет. Вот в таком легкомысленном настроении я ухватился за канат.
— В результате благодаря помощи Всемогущего Бога вы в тот же год, на Пасху, все четверо, смогли спуститься с высокогорья Отвиль. А господин Жак по этому случаю поминал о Всемогущем Боге?
— Ну… Мы вчетвером в последний раз взобрались на холм, который называли нашим храмом, и все вместе вознесли Всемогущему Богу благодарственную молитву…
— Разве это не означает, что вы уверовали во Всемогущего Бога?
— Три моих друга — верили, я же так и не смог признать существование Бога. Поэтому, когда я вернулся в Париж, решимость стать писателем во мне ослабла. После полугода, проведенного в швейцарском санатории, вылечившись, я должен был вернуться в Японию.
— Вы вернулись в Японию и увидели объявление о том, что заканчивается срок приема заявок на литературный конкурс журнала «Кайдзо». Когда я прочла об этом, меня потрясло, насколько явным был знак благодати со стороны Всемогущего Бога. И больше того — благодаря Его всемогуществу вы выиграли конкурс. Но даже это не подвигло вас признать существование Бога?
— Когда я выиграл конкурс?.. В тот момент мне было не до Бога.
— Несчастный человек! Вы и о господине Жаке не вспомнили?
— Ну почему же… Через несколько дней, прочитав в газете «Асахи», что знаменитый своей придирчивостью влиятельный критик Масамунэ Хакутё выбрал меня, я вдруг ощутил сильное желание еще раз увидеться с Жаком… Помню, весь тот день я бессознательно беседовал с Жаком.
— Эта беседа, наверно, и придала вам решимости писать новые книги?
— За два дня до того издательство «Кайдзося» обратилось ко мне с предложением заключить договор на второй роман, и тогда я действительно стал думать о том, чтобы посвятить себя литературе… Я говорил об этом с Жаком, но… В горах Отвиля он, советуя мне бросить науку, убеждал меня, что литература — благородное занятие, поскольку облекает в слова неизреченную волю Бога. Он говорил, что, если я одарен способностью к этому, мне следует непременно избрать литературное поприще… Если меня отвращает слово «Бог», вместо Бога можно говорить о Великой Природе… Постичь промысел Великой Природы и воплотить его в словах, чтобы передать людям, детям Великой Природы… Он терпеливо разъяснял мне свое понимание Бога и Великой Природы…
— И всю последующую жизнь вы, посвятив себя литературе, двигались в избранном тогда направлении. Разве не благодаря излившемуся на вас свету веры вашего гениального друга?
— Возможно.
— Но почему же вы так и не смогли признать существование Бога, без которого вера мертва? Почему не пытались обрести Его?.. Может быть, виной ваша позитивистская психология? Я постоянно размышляю об этом…
— Не пытался обрести? Да после расставания с Жаком я только и делал, что пытался обрести Бога! И позитивистская психология тут ни при чем. Трое моих друзей в Отвиле тоже были адептами позитивизма, и это не помешало им признать существование Бога. Должно быть, в моем способе мышления был какой-то изъян. Я часто мечтал вновь встретиться с Жаком, чтобы он разрешил мои недоумения, а порой готов был махнуть на все рукой, мол, все равно я — человек, лишенный благодати. Умри я четыре года назад, я был бы несчастным человеком, чья жизнь оборвалась на середине пути…
Запнувшись, я молча посмотрел на Хидэко. Она сидела опустив голову.
— Как тебе известно, я не только признал существование Бога, но даже встретился с Богом-Родителем — с той единой Силой Великой Природы, о которой толковал Жак, и благодаря Его водительству написал трилогию… Теперь я твердо знаю, во-первых, что в этом мире нет ничего случайного. Во-вторых, что все события в общественной жизни наравне со всевозможными феноменами Вселенной происходят согласно воле Бога-Родителя — Великой Природы. И все, что случалось в моей жизни начиная с рождения, есть не результат осуществления моей воли, а результат осуществления божественного замысла. Обретя это понимание, я оглядываюсь на свое прошлое, и все события моей жизни предстают передо мной в новом свете, осененные ласковой улыбкой Бога. И это придает мне сил… Вот почему я каждый день радуюсь, видя в этом идеал счастливой жизни, уготованный Богом-Родителем.
— Значит, вы не только признали существование Бога, вы теперь живете с Богом… Это потрясающе, но, честно говоря, есть еще одна важная вещь, о которой я хотела вас спросить. Позвольте отнять у вас еще немного времени? Вы не очень устали?
— В последнее время я не знаю, что такое усталость. Спрашивай, что хочешь.
Немного подумав, она сказала:
— Через несколько месяцев после того, как я прочитала «Милосердие Бога», Фуми Суда стала уговаривать меня посетить юношу Ито. У нее были свои причины, она хотела выяснить для себя, есть ли правда в учении Тэнри, есть ли правда в том, чему учила основательница. Меня это не слишком интересовало, я отказалась, но после задумалась. Я вспомнила один отрывок в «Улыбке Бога», где вы говорите, что взялись писать «Вероучительницу» с целью понять, сошел или нет на Мики Накаяма тот Всемогущий Бог, о котором говорил Жак. Это правда?
— Правда.
— Когда я решила познакомиться с учением Тэнри и прочла вместе с Фуми вашу «Вероучительницу», меня поразил масштаб проделанного вами труда, но личность Мики Накаяма оставила меня равнодушной. Однако когда Фуми стала уговаривать меня посетить юношу Ито, я вспомнила одно место в «Улыбке Бога», мне захотелось более внимательно перечитать «Вероучительницу», и я взяла книгу из библиотеки мужа, издание «Дзэмпонся». И вот о чем я хочу у вас спросить… Может быть, потому что я была как-то подготовлена, я перечитала это место с огромным интересом, более того, читая, не могла сдержать слез, меня мучили сомнения, и, наконец, если честно, я совсем пала духом и погрузилась в глубокие раздумья… Сэнсэй, когда вы писали «Вероучительницу», почему так внезапно приняли решение, о котором говорится в этом месте?
— Я упоминал уже, что всю жизнь бессознательно искал Бога, так что какая уж тут внезапность! Просто решил, что время настало. Если бы я не пришел к этой мысли, то в тогдашнем моем состоянии не смог бы написать об основательнице учения Тэнри.
— Только и всего? Значит, меня подвела моя впечатлительность? Мне-то казалось, что вы начали писать книгу с убеждением, что Бог-Родитель сошел к вероучительнице… Разве не так? Разве с самого начала это не было исповеданием веры? Ведь если вы ставили задачу исследовать, действительно ли Бог-Родитель сошел к Мики Накаяма, надо было начинать с объяснения, что именно мы понимаем под Богом-Родителем, а если это — исповедание веры, читателю не нужно никаких объяснений, он погружается в чтение, освещенный лучами вашей веры, увлеченный истиной веры. Разве не так? Так вот, большую часть книги, примерно три четверти, я проглотила одним духом. Но оставшуюся треть, то ли оттого, что стиль стал менее энергичен, то ли потому, что мое внимание рассеялось, никак не могла одолеть. Вот я и решила, что в какой-то момент вы утратили веру, с которой начинали писать… Скажите, не произошел ли у вас тогда какой-то душевный перелом?
— Видишь ли, «Вероучительницу» я завершил тридцать лет назад, в пятьдесят седьмом году. На ее написание ушло почти десять лет… Наверняка за это время мое умонастроение менялось много раз, сейчас уж и не припомню.
— Простите, что затеяла этот разговор… Понимаете, я, как и вы, сторонница французского позитивизма, поэтому считаю, что, говоря с вами обо всем напрямую, я выражаю свое к вам уважение… Я долго размышляла обо всем этом, и… не знаю почему… меня вдруг осенило: «Да ведь учитель был в то время одержим демоном!»
— Что? Демоном? — Я невольно рассмеялся.
— В Японии в подобных случаях понятие «демон» не
используется, но первохристиане верили, что такое бывает… Простите.
— Что значит — был одержим демоном?
— Это долгий и сложный разговор, пожалуйста, прервите меня, когда вам наскучит.
Она помолчала, немного подумала, потом заговорила.
По ее словам, перечитывая «Вероучительницу» в издании «Дзэмпонся», она обнаружила написанный мной сопроводительный текст под названием «История издания». Из него она впервые узнала, что, печатая книгу в «Вестнике Тэнри», я на протяжении нескольких месяцев в качестве предисловия рассказывал читателям о тех трудностях, с которыми столкнулся, собирая материал. Номер за номером сообщая о своих мытарствах, я никак не приступал к жизнеописанию вероучительницы, что, естественно, вызывало беспокойство у редакции «Вестника» и разочарование у многих читателей. Я отдавал себе в этом отчет, но, сказать по правде, решил, что если за время печатания вводной части я приду к выводу, что Бог-Родитель на Мики Накаяма не сходил, то прямо напишу об этом и публично заявлю, что у меня нет желания писать биографию основательницы учения. Однако, в одном из летних номеров «Вестника» за сорок седьмой год, в первой главе собственно «Вероучительницы», в моей книге впервые появилась Мики Накаяма. Начиналась глава с двадцать шестого октября 1838 года, в день, когда на Мики Накаяма сошел Бог.
Прочитав об этом, Хидэко удивилась, но, после некоторых размышлений, поняла, что в обычной биографии, разумеется, естественно было бы начать с рождения, но поскольку это — исповедание веры, то и начинается оно с момента схождения Бога. Стало очевидно: чтобы понять причину, по которой я, будучи неверующим, в процессе работы над предисловием к «Вероучительнице», решил все же писать исповедание веры, она должна его прочесть. Хидэко попыталась найти это предисловие, но нигде в моих книгах его не было. Оставалось поискать номера «Вестника Тэнри», предшествующие лету сорок седьмого года. Она обратилась с запросом в библиотеку Тэнри, не сохранились ли в их фондах старые номера «Вестника». Ей обещали поискать и просили позвонить дня через три. Выяснилось, что журналы с предисловием имеются. Она хотела было попросить какого-нибудь студента переписать его, но так как это оказалось довольно хлопотно, сама как-то утром на скоростном поезде отправилась в город Тэнри и вскоре уже сидела в библиотеке, внимательно читала предисловие и делала выписки. В ту же ночь она вернулась домой.
Рассказав об этом, Хидэко добавила:
— Я очень много почерпнула из вашего предисловия к «Вероучительнице». Прежде всего, до глубины души прониклась вашим гневом, но в какой-то момент вы, так сказать, сменили гнев на милость и даже на благодарность, и я подумала, не есть ли это результат веры? Но об этом в другой раз… Скажите, когда глава церкви Сёдзэн Накаяма, именуемый Столпом Истины, посетил вас летом сорок девятого года, спустя два года после публикации, и заявил, что ему нравится ваш подход к книге и он хотел бы стать вашим другом, вы к этому времени уже завершили писать первую главу? С какими чувствами вы его встретили?
— Давние дела… Разумеется, я был поражен. Мой дом сгорел во время бомбардировок, после войны я снимал лачугу в районе Сэтагая, едва спасавшую от непогоды. И вот он подкатывает туда на личной машине, да еще со свитой… А в ту пору большинству японцев казалось, что им никогда в жизни не доведется ездить на автомобилях. И вот в мою темную каморку, как ни в чем не бывало, входят двое…
— Это ужасно!.. Вам так не кажется?
— Почему — ужасно?
— Я прочла у вас же, что, обращаясь к вам с настойчивой просьбой написать «Вероучительницу», издатели «Вестника» предупредили, что у них нет никаких материалов, все материалы находятся в распоряжении главы церкви. Вы сами отправились к главе церкви, но вас к нему даже не допустили! Уже одно это возмутительно! Вы вправе были сильно обидеться, но вы предприняли отчаянные усилия, чтобы встретиться лично с главой церкви, а когда наконец такая встреча состоялась, прием был оказан довольно холодный, вы услышали из его уст, что уже есть биография, составленная его отцом, поэтому писать новую нет надобности. Вы сослались на то, что существует несколько жизнеописаний Иисуса Христа, и всячески убеждали главу Тэнри, что ничего плохого, если и у основательницы учения будет несколько биографий. Ваш собеседник вынужден был с вами согласиться. Вы тотчас попросили его о материалах. Оказалось, что никаких материалов нет. Вы спросили о биографии, написанной его отцом, и, узнав, что ее нет в свободной продаже, попросили одолжить вам на несколько дней. Тут вас точно обухом огрели — это невозможно, книга слишком ценная, чтобы выносить ее из дома… И вот проходит два с половиной года, и этот господин является к вам, хвалит ваш «подход» и предлагает дружбу! Любой бы на вашем месте возмутился. А вы, как ни в чем не бывало, беседуете с ним несколько часов… Вам что, больше нечем было заняться?
— Не говори ерунды! После войны я остался без гроша. Чтобы прокормить семью из пяти человек, я мог полагаться только на свое перо. Как батрак, целыми днями сидел, запершись, в своей каморке и вспахивал листы… Порой по несколько дней не выходил из дома. И это продолжалось не один год. Я брался за любые заказы, тяжелое было для меня время. И вдруг жена говорит: «К тебе пожаловал Столп Истины!» Я почувствовал себя в своей лачуге бедным крестьянином, к которому пришел его барин. Так оробел, что не мог понять, чего он от меня хочет…
— Я прочитала, в какой нищете вы жили в то время. Не хватало продуктов питания. Рисовых пайков не было, ничего купить невозможно, все доставали на черном рынке… Ваша супруга, выставив на стол драгоценный сахар, заварила чай, но гости не ушли ни в двенадцать, ни в час, она стала лихорадочно соображать, что приготовить на обед. Риса в запасе не было, дочери подсказали ей испечь хлеб из муки, которую сбывали на черном рынке из запасов оккупационной армии, она так и сделала, приготовила омлет, салат, наконец, подала гостям чай и даже водителя автомобиля не оставила вниманием. После обеда гости собрались уходить, вы с женой проводили их до машины. Высокий гость, садясь в машину, сказал: «Ох, совсем забыл про вино» — и продемонстрировал вам бутылку… Когда я об этом читала, то была уверена, что он отдаст эту бутылку вам, но не тут-то было, он так с ней и уехал.
— Ничего этого не помню.
— Наверно, хорошо, что вы забыли все относящееся к той печальной эпохе, но… Через несколько месяцев глава церкви сообщил, что вернулся из вояжа по Европе, сказал, что хотел бы взглянуть на вашу библиотеку, уцелевшую после пожара, и прибыл к вам на автомобиле вместе с господином Я. из магазина «Марудзэн». Вы по своей наивности повели его на пепелище, открыли библиотеку, показали книги. «Вы стали писателем, — сказал он, — поэтому вам уже не нужны книги по политике и экономике, уступите их мне!» Он приказал Я. вынести отобранное им, радуясь, что, мол, в таком неожиданном месте без дела валяются старые книги, которых он не мог отыскать в букинистических лавках Лондона и Парижа. Я. сказал, что точную цену можно определить, только доставив книги в фирму, но по первой прикидке вырученных денег хватит, чтобы построить на пепелище новый великолепный дом. Как бы там ни было, все книги погрузили на машину и отвезли в «Марудзэн». Через десять дней от Я. доставили точный прейскурант, вы его заверили, и при посредничестве Я. сделка была совершена. Книги перевезли в библиотеку Тэнри, а деньги финансовый отдел Тэнри должен был выплатить в течение месяца продавцу. Такова была процедура, которой придерживался Я.
Сумма, значившаяся в прейскуранте, присланном Я., была невероятно огромной, поэтому и вы, и особенно ваша супруга, обрадовавшись, обратились за советом в строительное агентство, строившее сгоревший дом, и вам сказали, что за эти деньги можно построить дом из железных балок, которому никакие пожары не страшны. Супруга часто обсуждала с вами планы строительства, убеждала, что сможет управиться без прислуги, поэтому лучше всего построить небольшой домик во французском стиле. Но прошел месяц, прошли полгода, а деньги все не приходили, вы напомнили о себе через Я., вам ответили, что немедленно вышлют деньги непосредственно вам, но денег все не было… Это повторялось несколько раз… И вы в конце концов с этим смирились?
— Срок давности давно истек… Ты ведь хотела поговорить о вопросах веры?
— Это и есть вопрос веры. Я хотела сказать, что этот человек стал для вас злым демоном, и дружба его была не чем иным, как демонской уловкой. В самое экономически трудное для вас время он притворился, будто хочет купить библиотеку, собранную с таким трудом за многие годы, а вместо этого отнял ее… Более того, сам навязался вам в друзья… Ну разве это не повадки злого демона?
— Если и был злой демон, то это моя глупость, достойная осмеяния. Вместо того чтобы радоваться, что библиотека уцелела во время бомбардировок Токио, превращенном в сплошное пепелище, когда погорельцы ютились в вырытых землянках, я возмечтал с помощью библиотеки построить европейский дом!.. Что ж, продолжай свой великодушный рассказ!
— Так вот, этот господин после всего, что случилось, наведываясь в столицу, всякий раз извещал вас. И всякий раз вы шли в назначенное место, встречались с ним, беседовали об основательнице учения, о вере, даже спорили о чем-то. Когда я узнала, что за этим скрывалось, я была потрясена… Оказалось, все это время он составлял «Рукописную биографию основательницы Тэнри»… Вам стало об этом известно, кажется, лишь два года спустя. Он сблизился с вами только потому, что занимался биографией! Позже, прочитав, вы были ошеломлены ее глупостью. Эта пропагандистская книжонка утверждает, что основательница с самого рождения была Богом. Ему понадобилось несколько лет, чтобы состряпать ее руками своих сподвижников из Центра. Вы же, исходя из глубокой веры, написали в «Вероучительнице», что основательница учения Мики Накаяма была всего лишь женой мелкого землевладельца в провинции Ямато, и, несмотря на это, на нее сошел Бог и, следуя указаниям этого Бога, она, в одиночестве перенося все испытания, укрепляла сердце, совершенствовала свой дух и жила по заповедям Бога. Все это было главе Тэнри поперек горла, поэтому он, задавшись целью разрушить вашу веру, так настойчиво встречался с вами и старался вас переубедить. И вот вам доказательство. Я высчитала месяцы, когда вы часто встречались с этим господином, и внимательно перечитала ту часть «Вероучительницы», которая была написана в это время… И что же? Меня поразило, что именно в этой части тон книги постепенно теряет теплый свет веры, становится холодным, рассудочным, точно пишет сторонний наблюдатель. Под влиянием злого демона померкла сияющая вера в то, что на эту женщину сошел Бог, которого господин Жак называл Великой Природой, вы потеряли желание продолжать и только из чувства долга человека, живущего литературным трудом, через силу дописали до конца… Я рыдала, читая о том, как эта женщина сократила на двадцать пять лет свой жизненный срок и поднялась на небеса для того, чтобы спасать мир в качестве живосущей Родительницы. Мне кажется, я плакала оттого, что сильно прочувствовала — в действительности началась ее новая жизнь, хотя она и стала для нас незримой. Я надеялась, что далее вы сможете изобразить основательницу в ее новой жизни, но вы, однако, потеряли желание писать о новой Мики и, решив, что пора отложить перо, наскоро закончили свой монументальный труд. Сейчас я понимаю, что мои слезы в то время были слезами гнева, ведь этот человек стал злым демоном не только лично для вас, но и для вашей веры…
— Я бросил перо, не стал писать о живосущей основательнице исключительно по своему безволию… Я потратил на этот труд столько лет и порядком устал, хотелось кончить побыстрее, поэтому, завершив смертью основательницы, я чуть ли не вздохнул с облегчением.
— Когда вы закончили писать, вы верили, что на основательницу действительно сошел Бог?
— Верил.
— И несмотря на это не верили в учение Тэнри?
— Сейчас мне это очевидно, а тогда я просто испытывал неприязнь — к Тэнри…
— Сейчас очевидно?
— Ты поймешь мое отношение к проблеме религии и веры, когда прочтешь выходящий сейчас «Замысел Бога»… Что касается нынешнего учения Тэнри, официальная доктрина состоит в том, что основательница от рождения была Богом. Ее преемники, Столпы Истины, не сделали и сотой доли того, что совершила она за сорок лет следования гласу Божьему, а со своей паствой обращаются так, будто сами являются богами. Кажется, это уже не религия Тэнри — Небесного закона, а религия семьи Накаяма. Как она, должно быть, печалуется! Как страдает от того, что ее возлюбленные чада всерьез верят в эту чепуху! При этой мысли у меня всегда щемит сердце… Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мне тоже есть о чем тебя спросить, может быть, остальные твои вопросы отложим до следующего раза?
— Хорошо… А о чем вы хотели спросить?
— Не хочу совать нос в чужую жизнь, но после твоего замужества, хотя прошло уже столько лет, ты ни разу не говорила мне о своем муже. Господин Накамура, кажется, ко мне не безразличен, мне бы хотелось хоть разок с ним увидеться…
— Вот он обрадуется! Ведь он называет вас своим духовным отцом.
— Духовным отцом? Это меня-то?
— Настолько он вас почитает. Я предлагала ему пойти к вам со мной, но он говорит, что еще недостаточно уверен в себе, чтобы встречаться с вами.
— Если я его духовный отец, то он мне — духовный сын получается. У меня нет своего сына, а в моем возрасте хотелось бы пусть и с духовным сыном иногда встречаться и набираться от него ума-разума.
— Ваши слова очень его обрадуют, я думаю, он обязательно вас навестит.
— Спешки не надо… Вот выйдет мой «Замысел Бога», я вам сразу пошлю, а вы сообщите, когда сможете поделиться своим мнением. Автору обычно никто не высказывает искренне своих впечатлений, а сын должен прямо сказать, что он думает.
— Договорились. Я так у вас засиделась, что, наверно, утомила вас. Простите, что я говорила бестолково и не по сути, но благодаря вам я получила пищу для новых размышлений. Большое спасибо.
С этими словами Хидэко низко поклонилась. Я вышел проводить ее до ворот. Она задержалась перед цветущей глицинией и, взглянув на меня, смущенно сказала:
— Вы где-то написали, что деревья — сама искренность. Глициния своим цветением возвещает, что скоро ваш день рождения, а я, к своему стыду, забыла вас поздравить.
— В моем возрасте дней рождения уже нет, точнее сказать, каждый новый день — как день рождения. Глупая глициния!
Я засмеялся.
Глава седьмая
Слова Хидэко Накамура, сказанные перед уходом: «Муж называет вас своим духовным отцом» — неожиданно глубоко запали мне в душу.
А вот что произошло за два месяца до этого в одно из воскресений. Дочь ушла в десять часов на свадьбу выпускницы и должна была вернуться к четырем. Перед уходом она приготовила обед для нас с внучкой, чтобы мы, как обычно, в час могли поесть вдвоем.
Отец моей внучки — дипломат, ее родители год назад уехали на работу в Африку, а она перешла в Токийскую американскую школу и стала помогать мне по дому. Внучка учится во втором классе школы верхней ступени, и в этот день на утро у них в школе было назначено собрание, поэтому она тоже ушла, сказав, что вернется в час. Таким образом с десяти утра я был в доме один.
Ходячие торговцы, разносчики писем, распространители религиозной литературы то и дело трезвонили в парадную дверь, и поскольку мне было хлопотно каждый раз спускаться из кабинета, я сел с книгой в столовой на первом этаже, выходящей окнами в сад.
Без пяти двенадцать вновь зазвенел звонок. Что еще мне хотят всучить? — подумал я, открывая дверь. На пороге я увидел молодого щеголя.
— А, сам господин Сэридзава! — заговорил он смущенно. — Прошу прощения. Я приехал в Токио на научную конференцию, сегодня она завершилась, и я должен вернуться домой, но прежде мне захотелось засвидетельствовать вам свое почтение. Наверно, мой внезапный визит может показаться полным безрассудством… К тому же я не сразу смог найти ваш дом, поэтому явился так поздно, вы уж меня извините. Не могли бы вы уделить мне пару минут?..
Он протянул мне визитку, на которой значилось — Итиро Кавада, университет К., факультет английской литературы, доцент.
— Не только пару минут, но если у вас есть время, можете не торопясь рассказать, с чем вы пришли.
Я впустил его в дом и провел в гостиную.
— Вы, наверно, в это время обедаете?
— Сегодня я один в доме. В час должна прийти внучка и разогреть обед. Так что я не могу вас угостить даже чаем, простите меня великодушно.
Я усадил его напротив себя. Это был цветущий молодой человек лет тридцати с небольшим. Пристально вглядываясь в собеседника, я вдруг почувствовал странный толчок.
Такое со мной случается редко, но лет десять назад уже было нечто подобное. У меня вошло в обычай дважды в год, весной и осенью, выступать перед своими читателями в моем родном городе Нумадзу, в посвященном мне литературном музее. В ту весну на мое выступление в тесном зале собралась почти сотня человек, от волнения мне было трудно говорить, и, вдобавок ко всему, мне сразу же бросилось в глаза внимательное лицо господина в первом ряду, которое так поразило меня, что я внезапно потерял дар речи.
Я поторопился продолжить свое выступление, но, завершив его, спросил у директора музея, кто этот господин. Оказалось, что утром он посетил музей, и когда после осмотра экспозиции ему сообщили, что в час состоится мое выступление, он страшно обрадовался, сказав, что ему крупно повезло. «Я обязательно приду, а пока успею подкрепиться». Судя по всему, он был из Окаямы.
В прошлом мне доводилось испытывать такой же душевный толчок, означающий, что мое сердце настроилось на одну волну с собеседником. Однако раньше такое случалось только после обстоятельной беседы, в данном же случае мы даже словом не обмолвились. Я подумал было, что это результат моих духовных упражнений, но тотчас усомнился и решил, что виной всему мое самомнение.
Однако осенью того же года мне позвонил некто Я. из Окаямы.
Он сказал, что является моим давним почитателем, а этой весной случайно оказался на моем выступлении в музее. Сейчас же он приехал в столицу в командировку по служебной надобности и непременно хочет меня посетить. Мы условились встретиться в удобный для него день. При встрече выяснилось, что он и есть тот господин, что сидел на моем выступлении в первом ряду. Наша встреча продолжалась не более часа, но во время беседы я заметил, что его лицо как будто лучится, а слова западают в душу. Содержание нашего разговора было не слишком интересным. Он в основном рассказывал о себе. Работает в полиции Окаямы. Рано потерял отца, мать семидесяти лет жива и здорова. С юных лет она была страстной поклонницей учения Тэнри, и он школьником придерживался ее веры, но сейчас он приверженец буддизма, занимается дзенской медитацией. Есть младший брат и трое детей. Брат окончил медицинский факультет университета Окаямы, стал помощником профессора Н., потом его ассистентом, женился на дочери профессора и вместе с женой проходит стажировку в ФРГ. Все дети учатся в средней школе. Жена несколько лет назад стала глохнуть, прошла курс лечения у знаменитого университетского профессора, совершила обряд покаяния в соответствии с учением Тэнри, но ничто не помогло, и сейчас она почти совсем потеряла слух… Во всем этом не было ничего особо впечатляющего, но поскольку рассказчик был явно взволнован, я не мог внимать его словам равнодушно. В то время я объяснил это тем, что наши души оказались настроены на одну волну. Возможно, поэтому я выслушивал его занудные рассказы о работе в полиции с тем же вниманием, что и рассказы о его детях.
После, месяца через четыре, он вновь нанес мне визит, сказав, что приехал в Токио на два дня по казенной надобности, но на этот раз его сопровождала жена. При нашей прошлой встрече весь его облик, и выражение лица, и жесты источали свойственную полицейским суровость, на этот же раз не осталось и следа от прежней жесткости, на лице играла улыбка, весь его облик был исполнен мягкости. Было очевидно, что поведение его обусловлено заботливым отношением к жене, и я внимательнее присмотрелся к ней.
Жена была молода, даже не верилось, что у нее сын учится в старших классах, красива, к мужу относилась с редкой для жен нежностью. И он искренне отвечал ей взаимностью. В гостиной они уселись рядком на диване, он достал заготовленный блокнот и стал отвечать на мои вопросы, при этом быстро записывая обращенные к нему слова, и так же кратко — свои ответы. Жена, заглядывая в его блокнот, кивала, поднимая на меня глаза, а когда решала, что ее очередь говорить, вставляла слово от себя…
Голос у нее был красивый, чистый, целомудренный, его без всякого преувеличения можно было бы назвать ангельским. Но особенно чудесны, необычны были интонации, манеры выражаться, я просто заслушался. Наша беседа продолжалась почти полтора часа, а когда закончилась, лица обоих супругов сияли неподдельным счастьем. Они собрались уходить. Я испытывал умиление, глядя на то, как он нежно заботится о своей жене, как она, точно любящая дочь, обихаживает его. Я проводил их до самых ворот и долго глядел им вслед, чувствуя в груди волнение.
Потеряв несколько месяцев назад слух, став совершенно глухой, она не разучилась говорить. По ее словам, пока она видит, она не испытывает неудобств, поскольку может поддерживать общение, если собеседник кратко записывает свои слова. Но легко вообразить ежедневные муки этой молодой женщины, на которой лежит воспитание детей. Можно представить муки, неудобства, усилия ее мужа…
«Папочка (так она называла мужа) стал моими ушами, да что там — частью меня!» В ее словах чувствовалось искреннее счастье. Она рассказала, что, когда остается одна, читает мои книги, излюбленное чтение ее мужа, черпая в них жизненные силы, и благодаря этому они каждый день наслаждаются счастьем семейной жизни. Я видел, что истинность ее слов подтверждает нежное, заботливое участие, которое демонстрирует ее муж. Но я, человек эгоистичный, еще больше расчувствовался при мысли, каких душевных терзаний ему стоило, чтобы в результате духовного подвига возникла их сегодняшняя идеальная супружеская любовь, и при этом, в своем благодарственном письме, посланном мне после возвращения домой, он называл меня своим «духовным отцом»!
С тех пор прошло больше десяти лет, но, безо всякого повода с моей стороны, он продолжал почитать меня своим духовным отцом и приблизительно дважды в год непременно навещал меня, через раз беря с собой жену. Обычно он приезжал в Токио по делам службы, соответственно возрасту своему и положению держался со все большим достоинством, она же делалась все краше и привлекательнее, похожая на чистого, безмятежного ангела, несущего радость.
Каждый раз они представлялись мне образцом супружеской пары: жена верит только словам мужа, идет туда, куда ее ведет муж, и в этом видит свое счастье, а муж лелеет жену, как свою половину, относится к ней со всей искренностью и благодаря этому преуспевает в работе и обретает чувство собственного достоинства.
И вот в прошлом году, дослужившись до начальника полицейского управления Окаямы, он по возрасту вышел на пенсию, но одновременно получил новую хорошую работу и начал вторую жизнь. Прежде чем приступить к новой работе, он взял месячный отпуск, чтобы, как он выразился, «пожить по-человечески» и, «по следам своего духовного отца, побывать во Франции и Швейцарии, где тот провел свои молодые годы». Только бы его ангелу, прелестному, но непривычному к путешествиям, это не было в тягость…
В связи с Итиро Кавадой я вдруг вспомнил об этом Я. и несколько отвлекся. Рассудив, что и этот чистый юноша, вероятно, ведет прекрасную жизнь…
Между тем Кавада продолжал. С головой уйдя в английскую литературу, он почти совсем перестал читать японскую, особенно современные романы. Но однажды, прочитав во влиятельной газете статью одного литературного критика о литературных новинках, в которой разбирался мой роман, он, по его словам, как будто прозрел.
Этот критик, доходчиво разъяснив суть книги, в заключение добавил: «Мы имеем дело с философией жизни, предстающей как подлинное откровение. Мысли человека, прожившего девяносто лет, кажутся естественными и убедительными. Словом, этот роман, главная тема которого — Бог, заключает в себе уникальную философию жизни маститого старца, можно сказать, его исповедание веры. Чтение этой книги пробуждает удивительное чувство чуда, окрыляющего душу…»
Поскольку Кавада уже в течение нескольких лет писал исследование на тему «Английский романтизм и Бог», слова литературного критика его поразили. Он-то был убежден, что среди японских писателей нет ни одного, кто бы серьезно трактовал идею Бога, поскольку они считают Бога суеверием. Кавада немедленно пошел в книжный магазин, купил книгу, по счастливой случайности услышал, что в магазин только что поступил дополнительный тираж «Улыбки Бога», и решил сразу же купить и эту книгу. Вернувшись домой, он прочитал обе книги залпом, за один день, и был потрясен. Интересно, какое произведение этого писателя считается наиболее значительным? Он поспешил в книжный магазин, но там не оказалось других книг этого автора. Тогда он обратился к хозяину магазина, и тот объяснил, что самое значительное произведение — «Человеческая судьба», но книга давно разошлась, так что приходится постоянно отказывать покупателям, впрочем, можно спросить в букинистическом магазине неподалеку. Он отправился к букинисту и увидел четырнадцать томов, выстроившихся на полке.
Кавада решил купить первый том, но ему сказали, что все четырнадцать томов продаются в одном комплекте. Делать было нечего, он купил все четырнадцать и притащил их домой. Решил пролистать хотя бы один том, но, едва начав читать, так втянулся, что не заметил, как перешел ко второму, и, пока не прочитал все четырнадцать, забросил даже подготовку к лекциям, дни напролет не отрываясь от книг.
Впечатление от прочитанного, сказал он, дало ему ключ к решению уравнения под названием «жизнь», так что отныне «Человеческая судьба» и еще две мои книги, посвященные проблеме Бога, стали его библией.
В это время в Токио, в университете А., проходило заседание ученого общества, посвященное английской литературе. Он представил доклад под названием «Английский романтизм и идея Бога», а после во время свободной дискуссии рассказал собравшимся коллегам о моих книгах. Ему возразили: тут, мол, какая-то ошибка, этот писатель уже умер — и в доказательство привели тот факт, что вот уже несколько лет его произведения нигде не публикуются. Кто-то спросил, не встречался ли он с этим писателем лично. Тут-то у него и возникла идея хотя бы раз повидаться со мной и убедиться, что я еще жив.
— И вот причина моего внезапного визита, — сказал он, принося свои искренние извинения.
Я от души посмеялся его рассказу. Слушать его было одно удовольствие. Мы успели еще о многом потолковать, как встретившиеся после долгой разлуки отец и сын, прервала нас возгласом: «Извини, что опоздала!» — вернувшаяся внучка. Было десять минут второго.
Он поспешил уйти, а я, точно и впрямь проводив собственного сына, еще долго стоял на пороге. Через пару дней от него пришла открытка. «Простите, что давеча нанес Вам столь бесцеремонный визит, я искренне Вам благодарен за радушный прием. Ваши слова каждой своей буквой врезались в мою душу. Я чувствую, что Бог стал мне еще ближе» и т. д.
Его чистый образ не выходил у меня из головы, я корил себя, что даже не угостил гостя чаем. Беседа с ним меня просветила и порадовала. Наверно, потому, что у меня нет ни сына, ни внука, я размечтался: «Вот если бы у меня был такой сын!» — и испытал удивительный прилив родительской любви, мне хотелось обнять его, хотелось помогать ему идти по жизни. Я решил в ответном письме хоть как-то попытаться выразить свои чувства, но все ленился изложить мои мысли на бумаге и, заваленный работой, никак не мог осуществить задуманное.
Только спустя три недели я торопливо и, как мне казалось, на обороте открытки с изображением посвященного мне музея написал несколько строк. Прежде всего извинившись за то, что не предложил ему чаю, я кратко изложил свои соображения и добавил, что, если ему случится оказаться в столице, пусть непременно заходит в гости, а если в будущем возникнет какая-либо нужда, чтобы обращался ко мне без всякого стеснения. Уже вкладывая открытку в конверт, я заметил, что вместо открытки с изображением музея я взял открытку с моим портретом, сделанным, когда мне было семьдесят шесть лет, и с напечатанной на полях фразой: «Литература призвана облекать в слова неизреченную волю Бога». Хотел переписать свое послание на открытку с музеем, но стало лень, так и бросил в почтовый ящик.
Он сразу же откликнулся, вновь прислав в ответ открытку, в которой обращался ко мне: «мой духовный отец». «Неожиданно получив Ваш портрет и добросердечные слова, переполнен чувствами… Если состоится намеченная на ближайшее время моя заграничная учеба (в Гарварде), я надеюсь, что смогу познакомить там всех, кто имеет сердце, с вашим замечательным творчеством. От всей души желаю вам здоровья!» Вот почему, узнав, что Кадзуо Накамура, муж Хидэко, любяще называет меня своим «духовным отцом», я тотчас вспомнил юного Итиро Каваду, не так давно обратившегося ко мне подобным же образом. Но если с Кавадой мы общались непосредственно, духовно сближаясь, то с Накамурой я даже ни разу не встречался, он был всего лишь моим читателем и назвал меня своим духовным отцом под впечатлением от прочитанных книг. Это различие невольно подтолкнуло меня сравнить их.
Что касается отношений между писателем и читателем, у меня на сей счет есть стойкое убеждение — я всегда пишу свои книги, заботясь о читателе. Те из них, кто духовно воспитан на произведениях любимого писателя и считает его своим духовным родителем, непременно хотят еще и встретиться с автором и поговорить с ним лично. Среди них довольно много неработающих жен, не знающих, чем заняться. Спустя какое-то время они, как у нас заведено, начинают присылать гостинцы под Новый год.
Я же полагаю, что отношения писателя и читателя должны осуществляться исключительно посредством книг, поэтому обычно не отвечаю на письма читателей и, разумеется, избегаю личных встреч и разговоров. Но за мою почти шестидесятилетнюю писательскую карьеру случались исключения, со многими людьми я близко сошелся. И многие из них, независимо от их возраста и пола, стали моими друзьями. И они также, следуя дурному японскому обычаю, шлют мне под Новый год подарки. Я же, вернувшись на родину после долгих лет, проведенных во Франции, стараюсь жить рационально и не посылаю даже ответных даров. В моем возрасте все, чем я могу их отблагодарить за дружеские чувства, — это помолиться об их благополучии, а еще я уверен, что вскоре, перейдя в Истинный мир (мир Бога), смогу их охранять.
И все-таки почему меня так живо тронуло, что один из моих читателей, а именно Кадзуо Накамура, назвал меня своим духовным отцом? Потому что само это выражение — духовный отец — очень много для меня значит.
Припоминаю, что впервые я осознал это в апреле 1919 года, вскоре после того, как, закончив Первый лицей, поступил в Токийский университет. Брошенный родителями в трехлетнем возрасте, претерпев множество бед, вырвавшись из уготованной мне участи стать рыбаком и прозябать в нищете, я поступил в среднюю школу и в течение восьми лет перебивался со дня на день, голодая, чтобы сэкономить деньги на учебу, всячески пресмыкаясь и унижаясь. С февраля 1919 года фонд одного благотворителя стал выплачивать мне ежемесячный кредит в двадцать одну иену, и, получив глоток кислорода, в начале апреля я поступил в Токийский университет. Как-то я решил съездить на один день в родную деревню Нумадзу, навестить бабушку и вернуться тем же поездом. На станции Нумадзу я встретил своего друга — однокурсника Хатано, который тем же поездом возвращался в Токио. Я ехал третьим классом, он — вторым.
Когда поезд миновал станцию Мисима, он пришел ко мне в вагон третьего класса, сказал, что господин И., принадлежавший к одному с ним клану Набэсима, попросил его привести меня, и, не слушая возражений, взял мой багаж и повел во второй класс. Элегантный вельможный старик тотчас заплатил кондуктору, обменяв мой красный билет на зеленый, и мы трое вступили в оживленную беседу. В тот момент элегантный старик произвел на меня странное впечатление. Он рассказал, что в свое время учился и в Первом лицее, и в Токийском университете, проговорил почти час и вдруг, улыбаясь, сказал:
— Ты, наверно, не помнишь, но когда тебе было лет пять, мы уже встречались, впрочем, я вскоре потерял тебя из поля зрения. Признаться, удивил ты меня! Впрочем, недаром говорится, какова душа ребенка в три года, такова и в сто лет. Вижу, ты славный парень, образованный, я очень рад.
В ответ на это я шутливо обратился к Хатано:
— Знаешь, я был на редкость диким ребенком. Если б все так пошло дальше, быть мне сейчас неучем, рыбаком или крестьянином, но благодаря прогрессу современной цивилизации я теперь могу водить дружбу аж с самим сыном министра двора, так что считаю своим долгом приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в новую эпоху. Впрочем, характер у меня по-прежнему дикий…
Я рассмеялся, а сам все поглядывал на И. и спрашивал себя, не он ли мой духовный отец?
Хатано, который, по-видимому, не воспринял сказанное И. всерьез, сменил тему разговора и спросил, почему я выбрал в университете экономический факультет, объяснил, почему сам он пошел на политическое отделение юридического факультета и как он рад, что, став студентом, может наконец избавиться от вынужденной жизни в общежитии при Первом лицее…
Но я не слишком следил за его рассказом. Я всматривался в И. и припоминал.
Действительно, когда мне было пять лет, как-то жарким летним утром я, вместе с теткой, вышедшей замуж прошедшей осенью, пройдя почти три километра по проселочной дороге, побывал в усадьбе этого самого господина. Тетка несла в ведерке с водой живого морского карася, выловленного моим дедом. У ворот нас дожидалась жившая неподалеку ее мать, которая провела нас в усадьбу. Она первым делом подвела нас к колодцу на краю сада и заставила смыть пот со всего тела. Меня поразил увиденный впервые колодец с насосом, и, вместе со своей двоюродной бабкой опуская и поднимая рычаг, я веселился, глядя, как бьет струя воды. В этот момент и появился этот господин. Он был одет в белое юката
[5]…
За колодцем был сад со всевозможными цветами. За ним начинались мандариновые посадки. Господин о многом меня расспрашивал, но, отвечая ему, я был больше занят цветами, поэтому разговор помню смутно. Ах да, вспоминаю, на вопрос, как меня зовут, я ответил, что столичный учитель зовет меня Петит. Петит? — переспросил он. Я объяснил, что соседний парень постарше, Сэйити, учится в храме, а я все время увязываюсь за ним, и приехавший из Токио учитель прозвал меня Петит, а его — Цицеро. Помню, как он смеялся, повторяя: «Петит и Цицеро?» «И чему же вас учат в храме?» — спросил он, и помню, как я гордо продекламировал ему из «Луньюй»
[6]. Тогда он меня обнял, приподнял высоко двумя руками и, сказав: «А ты, однако, тяжеленький!», поставил на землю. «Дяденька, может, возьмете меня в сынишки? — спросил я. — Дяденька, вы, наверно, мой папа!» — «С чего это ты взял?» — «От вас папой пахнет!» — «Папой пахнет?» — улыбнулся он.
Было жарко, и, испросив разрешения, я разделся. Снял верхнюю одежду, оставшись в одном исподнем, — у детей в то время это было что-то вроде короткого фартучка. Когда я в таком виде отвечал на вопросы господина, появилась женщина невиданной красы, не то ангел, не то оборотень, я смутился, а она, приблизив ко мне смеющееся лицо, сказала: «С утречка стручок торчком!» — и пальцем подбросила мой маленький член. Испугавшись, я пробормотал: «Мне пора домой!» — и побежал к стоявшим в стороне теткам. Стоя у колодца, они, по-видимому, внимательно наблюдали за происходящим и сразу бросились меня одевать, а господин подошел к ним и заговорил с моей двоюродной бабкой.
Когда пришло время уходить, он сказал: «Ну что ж. Петит, в следующий раз встретимся как папа с сыном!» — и сунул мне в ладонь мешочек с гостинцами. Я громко сказал: «Угу!» — и кивнул.
Деда и бабушку обрадовал рассказ тетки. По ее словам, господин из усадьбы скоро придет для формальных переговоров об усыновлении. Особенно радовалась моя бабушка, решившая, что теперь мне обеспечено счастливое будущее. Но не прошло и десяти дней, как пришла двоюродная бабка и сообщила, что от господина пришло письмо, в котором он извещал, что дело с усыновлением отменяется, поскольку его любовница против. «Этим столичным господам нельзя верить!» — возмущался дед. Двоюродная бабка решила отказаться от должности управляющей усадьбы, и эта история с несостоявшимся усыновлением постепенно забылась… Обо всем этом я узнал, уже повзрослев.
Прошло восемь лет, я окончил младшую школу и страстно мечтал поступить в среднюю, но никто не хотел оплачивать мою учебу. Я был в отчаянии. И тут вспомнил, точно давний сон, про хозяина усадьбы, сказавшего: «Будь моим сыном!» Я подумал, что, если это не было сном, он непременно даст мне денег. И вот как-то раз, набравшись смелости, я на обратном пути из школы решился заглянуть в усадьбу.
Оказалось, что усадьба и впрямь — не сон. Я толкнул маленькую калитку возле главных ворот, она открылась. Я прошел к колодцу. Вот он, насос с ручным приводом. Надеясь, что сейчас покажется господин, я некоторое время стоял в ожидании. Наверно, меня заметили из дома — оттуда вышла старуха с обезьянкой на руках. «Что тебе нужно?» — спросила она. Обезьянка, казалось, вот-вот вцепится в меня. Я бросился бежать…
Все-таки это был сон! — думал я в отчаянии.
Прошло еще восемь лет, и вот в токийском поезде, в вагоне второго класса, передо мной сидит этот господин — вельможный старик. Возможно ли такое? — дивился я про себя, рассеянно слушая разглагольствования Хатано.
В то время дорога от Нумадзу до Токио занимала почти четыре часа. Хатано и господин И. сошли в Симбаси, но перед этим И. сказал, вручая мне визитную карточку:
— Если не сможешь найти жилье по своему вкусу, милости прошу ко мне. Могу предложить флигель, думаю, тебе понравится. Будешь жить, как у себя дома. Так что жду. Позвони с утра и приходи!
Я сошел на Токийском вокзале и переночевал в общежитии Первого лицея. В эту комнату уже переехали трое из новых третьекурсников, поэтому надо было как можно скорее освобождать помещение. На следующее утро, подыскивая жилье, я обошел частные пансионы в районе Хонго, но везде плата превышала двадцать иен в месяц. Я решил посетить господина, давшего мне визитку.
Через четыре дня после того, как мы расстались в Симбаси, я позвонил ему утром по телефону. «Жду», — был ответ. Я дошел пешком до железнодорожной станции Отя-но мидзу, затем доехал до Синаномати, пересел на поезд, идущий до храма Тэнгэндзи, и сошел у больницы Красного Креста. Если я поселюсь во флигеле, таким будет мой ежедневный путь в университет, подумал я.
Дом был расположен на восточном склоне, за больницей, почти половину участка занимал лес. Я поразился его размерам, но сам дом был невысоким двухэтажным строением в японском стиле. Я позвонил у главного входа, вышла служанка, а за ее спиной уже стоял, улыбаясь, сам хозяин, — в пиджаке. Он провел меня в комнату в японском стиле, сказав:
— Вот здесь мы с женой обедаем и отдыхаем, располагайся, чувствуй себя как дома!
Стеклянная дверь веранды, выходящей на юг, была открыта, лучи солнца заливали комнату. Я втайне боялся, что сейчас появится страшная красавица из того давнего сна — не то ангел, не то оборотень, но вошла невысокая, изящная дама:
— Добро пожаловать.
— Моя жена, — представил ее хозяин и обратился к ней: — Наконец-то он пришел, мой
внебрачный ребенок, о котором я тебе столько рассказывал. Будь с ним поласковей.
— Вы знакомы с Макото Ёкоямой? — спросила дама. — Он учится с вами на одном курсе и говорит, что вас знает…
— В Первом лицее он учился на юридическом факультете в группе немецкого языка, а я на том же факультете во французской группе, так что, разумеется, мы знакомы, но не могу сказать, что мы дружим.
— Отец Макото — управляющий в компании мужа, а я дружу с его матерью, и она постоянно похваляется передо мной его успехами, а теперь и мне будет чем похвастать. Ну же, — обратилась она к мужу, — давай покажем ему флигель.
Флигель был виден из комнаты, в которой мы сидели, — маленький домик на противоположной стороне сада. Окна обращены на юг, так что внутри, должно быть, всегда светло. Циновки сменили только накануне. Можно было даже не смотреть. Я спросил, предоставят ли мне питание. Утром и вечером, в этой самой комнате, вместе с супругами, подавать будут то же, что им. Наконец, набравшись мужества, я спросил об оплате.
— Об этом не беспокойтесь! — засмеялась дама.
— Разумеется! — смеясь, подтвердил хозяин.
— Но я не хочу быть для вас обузой! Допустим, десять иен вас устроят?
— У тебя есть постоянный доход?
— Я получаю из кредитного фонда ежемесячно двадцать одну иену.
— Разве можно на эти гроши вести полноценную студенческую жизнь?
— Кроме того, когда я поступил в университет, из департамента договоров Министерства иностранных дел на юридический факультет лицея пришел запрос: отобрать из французской группы четырех отличников, склоняющихся к дипломатической карьере, для сверки японского перевода французского текста мирного договора. Я оказался в их числе и получил приказ о зачислении в штат Министерства иностранных дел. После окончания лекций в университете я каждый день буду примерно около часа проводить на службе с жалованьем тридцать иен в месяц. Этого мне вполне достаточно.
— Будет лучше, если ты обсудишь это потом, на досуге, с женой… Сможешь ли ты стать моим Петитом?
— Петитом?
Я не понимал, что он имеет в виду.
— Твой приятель Цицеро, что с ним сейчас?
И тут я вспомнил… Моего соседа Сэйити, когда я учился в младшей школе, призвали в армию, и он погиб в русско-японскую войну.
— Раз уж так случилось, он не обидится, что я стал вместо него Цицеро. Дружба Цицеро и Петита — это отношения отца и
сына, которые не прервутся вовек. Тогда ты сказал, что я пахну папой… Ты не представляешь, как я обрадовался! А сейчас ты говоришь о плате за жилье так, как будто я тебе совсем чужой. Кстати, от меня пахло тогда табаком.
Вот так шутливо он говорил, сохраняя серьезное выражение лица, а у меня невольно наворачивались слезы. В тот момент я подумал, что он мой духовный отец, и это выражение — духовный отец — впервые тогда утвердилось в моем сознании.
Он настаивал, чтобы я переехал в тот же день, я собрался тотчас же ехать в лицей за вещами, он тоже поднялся, сказав, что выйдет вместе со мной, и вид у него был счастливый, как у отца, выходящего из дома с сыном. Жена его тоже радовалась и проводила нас со словами:
— Сегодня вечером мы сможем поужинать втроем.
И. проехал со мной до станции Отя-но мидзу, где мы расстались. Все время пути мы весело беседовали, так что и я в конце концов расчувствовался, и мне уже казалось, что мы и впрямь любящие отец и сын, которые встретились после многолетней разлуки.
Со временем у нас сложились по-настоящему близкие отношения, я стал звать господина И. на французский манер папа, а его жену — маман, полюбил их как истинных родителей, и оба они обращались со мной как со своим единственным сыном и бывшему главе клана маркизу Набэсиме представили меня как внебрачного сына, но главное — сам И. полностью посвятил себя тому, чтобы стать моим отцом.
Все же мне думается, я с такой преданностью почитал И. как своего духовного отца прежде всего потому, что был с рождения глубоко несчастлив.
А муж Хидэко — Кадзуо Накамура, хоть и был поклонником моего творчества, лично со мной ни разу не встречался, поэтому я заподозрил, что и он стал звать меня своим духовным отцом по причине какого-то душевного разлада, и постарался вспомнить все, что о нем рассказывали Хидэко и ее подруга Фуми Суда. Но ничто вроде бы не подтверждало мое предположение…
Тут у меня в кабинете неожиданно появился Небесный сёгун.
— Кодзиро! Ты что, забыл слова Бога-Родителя?
Я удивился. Прежде он никогда не являлся днем, да еще в моем кабинете.
— Люди — все чада Божьи, поэтому ко всякому гостю должно относиться как к брату и встречать радушно. Забыл слова Бога? Почему ты с таким предубеждением относишься к своему преданному читателю?
— Ничего подобного. Я ко всем своим читателям отношусь в равной степени уважительно.
— Перестань оправдываться! Разве ты только что не делил их на тех, с кем ты на одной волне, и на всех прочих?
— Это не имеет отношения к читателям. Проблема в человеческих отношениях, порожденных совершенно естественными эмоциями людей, наделенных плотью.
— Думаешь, я не знаю элементарных вещей? Слушай внимательно. Я, Небесный сёгун, отныне и навсегда буду рядом с тобой, чтобы охранять тебя. Как только возникнет необходимость, я буду являться перед тобой. Понял?
— Да.
В тот же миг Небесный сёгун исчез. Но я остался неудовлетворенным. Я не мог понять, почему он таким образом остерег меня. Обычно, когда я пробуждался в половине второго ночи. Небесный сёгун не только долго наставлял меня, но и обстоятельно отвечал на все мои вопросы. Он был строг, но доброжелателен. А днем он только коротко отругал меня, чтобы предостеречь. И не стал ничего растолковывать, как будто все вопросы были излишни.
Может быть, он хотел сказать, что из того, что Итиро Кавада и Кадзуо Накамура назвали меня своим духовным отцом, вовсе не следует, будто они несчастны, как я в юные годы? Только я подумал это, как вновь явился Небесный сёгун.
— Что ты все никак не угомонишься! Почему бездельничаешь и не берешь в руки перо? Бог-Родитель с нетерпением ждет, что еще ты напишешь… Разве ты забыл, что пишешь по указанию Бога-Родителя, тем самым возмещая оказанное тебе благодеяние?
— Все понимаю.
— Отлично. Чтобы ты мог спокойно работать, рассказываю. Слушай внимательно. Называющий тебя духовным отцом юный Кавада, вопреки твоим фантазиям, отнюдь не несчастен. Это глубоко верующий, счастливый юноша. Точно так же как и Кадзуо Накамура. То же касается и Дзюндзи Суды, мужа Фуми. Все трое, пребывая в Мире явлений, живут как люди иного. Истинного мира. Теперь тебе понятно? Ты с детства рос точно в человеческом аду. Претерпел бессчетно бед и невзгод. Из-за этого в тебе постоянно присутствует чувство сострадания. А как тебе известно, в душе многих людей, живущих в Мире явлений, заключен ад, хотя они, возможно, даже не подозревают о том. Именно поэтому эти люди находятся в плену всевозможных зол — корыстолюбия, эгоизма, жажды власти, борются друг с другом, воюют и, в результате, — несчастны. Видя это. Бог, исполненный сострадания, из родительских чувств старается помочь людям — Своим возлюбленным чадам. Ведь ты прекрасно знаешь, чему Бог-Родитель учит людей. Это простой, легкий путь. Коротко говоря, живите так, как живут люди в Истинном мире.
— Что? — невольно вскрикнул я. — Как люди в мире Бога?
— Глупец, чему ты удивляешься? Вспомни себя в последние два года. Разве не потому каждый день твой был исполнен благостного покоя, что ты держался пути, предначертанного Богом? Это и значит — жить как люди в Истинном мире. Теперь понятно? Ты родился в несчастье, поэтому тебе понадобилось так много времени, чтобы дойти до этого, но есть люди, которые, отбросив себялюбие, всю жизнь усердно выполняют свою работу как веление Божье. Все они живут жизнью людей Истинного мира. А есть и такие, кто, будучи счастлив от рождения, бессознательно живет как люди Истинного мира. Кавада, Кадзуо Накамура, Дзюндзи Суда из их числа.
— Ах вот в чем дело!
— Ты же, сверх того, по доброте сердечной стал непосредственно слышать голос Бога. Тебе следует ясно сознавать это. И еще, прошу тебя, когда общаешься с людьми вроде тех троих, то есть с людьми Истинного мира, не стесняйся, спрашивай их обо всем. Тогда обязательно откроешь, сколько в них чистой радости и веселья. Осознай, что это и есть «жизнь, полная радости», идеал, предписанный человеку Богом. И, общаясь с теми, кто услышал о пути Бога, с твоими читателями, ты должен стараться сделать все, чтобы приблизить их к Истинному миру. Это моя. Небесного сёгуна, к тебе просьба. И причина того, что Бог торопит тебя: «Пиши, пиши!» — в Его родительской любви, желании посредством твоих книг создать таких людей быстрее и побольше. Понимаешь?
— Утвердить себя вместе с людьми, живущими как люди Истинного мира, этакими идеальными демократами…
— Вижу, ты понял… Ну а теперь хочу поведать тебе еще кое-что. Господь Бог позволяет людям космические путешествия. От Него исходит повеление, чтобы отныне многие могли совершать космические полеты. Но и это только затем, чтобы люди побыстрее научились жить, как люди Истинного мира… Ты знаешь, что сейчас трое японцев проходят в США тренировки, готовясь к космическому полету. Уже благодаря одним этим тренировкам у всех троих и душа, и образ жизни изменились к лучшему. Скоро их пригласят на время в Японию, тогда слушай внимательно, что они будут говорить… Ну вот, и ты должен воспринимать свои писания как тренировку к космическому путешествию и не лениться. Понятно?
С этими словами Небесный сёгун исчез.
Выходит, мое писательство — тренировка к космическому путешествию? Осознав это, я еще ревностнее взялся за труд.
Примечание. 28 января 1989 года в десять часов вечера в течение часа радио NHK передавало репортаж о возвращении троих японских стажеров-астронавтов в Японию для продолжения тренировок. Услышанное меня взволновало, я невольно поежился, вспомнив мой разговор с Небесным сёгуном, и вновь убедился в его правоте.
Глава восьмая
Устроившись в кабинете, как обычно, я приступил к работе над книгой, но примерно через час неожиданно пришла Фуми Суда. Когда домработница сообщила мне об этом, я невольно почувствовал досаду: в одиннадцать часов у меня как раз самое плодотворное время, но делать нечего, я отложил перо, спустился в гостиную, и в ту же минуту досада исчезла без следа.
Настолько облик ее был ясен, вся она как будто источала яркий свет. Я спросил без обиняков, что случилось. Она заговорила оживленно:
— Как я рада! Я боялась, что если позвоню по телефону, то получу отказ, хоть и говорят, что в последнее время вы принимаете всех, кто к вам приходит. Мой муж виной моему внезапному визиту.
— Что-нибудь случилось с вашим мужем?
— Он сам хотел с вами поговорить, но сегодня у него лекция и множество других дел в университете, он никак не мог вырваться, поэтому послал меня, чтобы я рассказала обо всем. Профессор Суда, — продолжала она с улыбкой, — вчера вечером наконец выкроил время и начал читать «Замысел Бога», но так увлекся, что не мог прерваться, пока на рассвете не дочитал до конца. Ему хотелось немедленно поделиться с вами своим восторгом, но он не мог пропустить работу, поэтому за завтраком и до самого своего ухода не отставал от меня и упрашивал пойти вместо него и передать вам его впечатления.
Она сразу оговорилась, что у нее вряд ли достанет красноречия, чтобы передать все сказанное мужем, наизусть его слов она не запомнила, за точность не ручается и постарается передать только самую суть. По мнению мужа, «Замысел Бога» великолепно выполняет роль заключительной части трилогии, написанной по велению Бога, и вообще одна из лучших моих книг. Благодаря ее совершенству предыдущие части — «Улыбка Бога» и «Милосердие Бога» — получили новое освещение и по-новому открываются читателю. Поистине чудесная, удивительнейшая книга!.. Благодаря ей люди, подобно ему жившие вне Бога, смогут ясно удостовериться в подлинности бытия Бога-Родителя…
— Сэнсэй, муж еще много чего говорил в самых восторженных выражениях, извините, что не могу передать всего дословно. — Она вздохнула и поспешила добавить: — Да, вот еще, что он сказал. Вы с детских лет искали Бога в одиночку, но тщетно. В зрелые годы вы приняли решение стать писателем потому, что уверовали: призвание писателя — облекать в слова неизреченную волю Бога. И с этим убеждением вы стали вести жизнь писателя, служа Богу, воздающему по заслугам, хотя немало тех, кто сомневается в Его существовании по причине того, что Он пребывает невидим. Бог-Родитель признал праведным ваш выбор, как исполнение предвечной истины, более того, Ему ведомо о Его чадах (ваших читателях), обретших спасение благодаря вашим книгам, поэтому Он, решив, что исполнились сроки и настала пора спасать мир, стал помогать вам в ваших литературных трудах. И прежде всего явственно известил вас, что дарует вам жизнь и силы. Это укрепило вашу веру, и именно вера наделила вас несокрушимой творческой мощью, благодаря вере посвященная Богу трилогия, особенно «Замысел Бога», стала столь уникальным произведением, не похожим на все то, что мы привыкли считать изящной словесностью…
И вот еще что он сказал. Эта книга свободно, непринужденно воплощает смысл вашего девяностодвухлетнего жизненного опыта. Во всем, что происходит в этом мире, нет ничего, что не отвечало бы замыслу Бога-Родителя: цивилизация, культура, войны, голод, революции, стихийные бедствия — все предначертано Богом. Но, увы, люди не догадываются об этом, ибо очи и сердца их замараны
пылью. И вот еще что важно — Бог-Родитель, будучи един, является различным образом в зависимости от эпохи, культуры, природной среды, народности. Словом, и буддизм, и христианство, и магометанство, и учение Тэнри суть всего лишь различные Его проявления. И задача литературы — выразить замысел незримого Бога. Так рассудив, вы осознали себя, писателя, писцом Бога. Это отчетливо выражено в вашей трилогии и кажется совершенно естественным для вас, прожившего девяносто два года, в этом убеждающая сила вашей жизненной философии.
Слова профессора Суды меня порадовали, но, заметив, что моя собеседница смущается, я решил немного приободрить ее шуткой:
— Фуми, ты же лингвист и постоянно переводишь своего мужа с японского на французский, почему же сейчас не передала его слова по-французски? Думаешь, я уже забыл французский язык?
— Ой, простите! — засмеялась она.
— Я бы хотел расспросить Суду о его впечатлении непосредственно, при личной встрече, а сейчас было бы любопытно узнать твое мнение. Ты читала «Замысел Бога»?
— Прочитала, десять дней назад.
— Ну так покритикуй что-нибудь.
— Какая может быть критика! Словно ночь озарилась рассветом, теперь это моя настольная книга на всю оставшуюся жизнь, а я даже не удосужилась вас поблагодарить…
— Ночь озарилась рассветом?.. Вот оно что. То-то мне показалось, будто вся ты облечена в сияние… Ночь озарилась рассветом, говоришь… Ну-ка, расскажи поподробнее.
— Не знаю, с чего и начать… Я уж позабыла, но лет десять назад по настоянию Суды, как бы в шутку, я посетила Центр Тэнри и приняла «божественный дар». Курс духовного воспитания, так, кажется, это у них называется. Я там провела две недели, изучала доктрину. Честно говоря, все это я терпела только потому, что муж настаивал: я обязана выполнить долг перед родителями. Забавно, но именно в это время мои родители официально объявили, что изгоняют меня из дома и прерывают со мной родственные связи за то, что я убежала к своему нынешнему мужу, отвергнув предложение, исходившее от высокопоставленного учителя этого самого Центра. «Тебя непременно настигнет Божья кара, которая повергнет тебя в бездну несчастий, и тогда, если надумаешь посвятить свою жизнь Богу, приходи вымаливать прощение». Вот их слова… Как родственники главы церкви, из уважения к Центру и верующим они, наверно, поступили вполне естественно…
— Несколько лет назад я все это уже слышал в подробностях от тебя или от Хидэко… В результате ты смогла выйти замуж за Суду. И ты всегда говорила, что теперь живешь в радости, все твои дни исполнены счастья на зависть окружающим, но раз ты говоришь о рассвете, значит, в душе у тебя была какая-то мгла?
— Из-за свалившегося на меня счастья бывали мгновения, когда я опасалась Божьей кары… Нет, Бога не существует, убеждала я себя, пытаясь унять беспокойство. Разве не поэтому отвергла я Тэнри и стала такой, какая я есть? Но хоть я и обвиняла себя в безволии и считала себя безбожницей, все же учение Тэнри, с которым я, естественно, соприкасалась в детстве, укоренилось где-то в глубине души, и я страшилась Божьей кары… Вот почему, прочитав «Улыбку Бога», я захотела втайне от мужа посетить «Хижину небесного завета». Услышав обращенные ко мне слова живосущей Родительницы, я признала их правоту, и однако, вместо того чтобы поверить в реальность Родительницы… я продолжала сомневаться в боговдохновенности юноши Ито и очень мучилась, пытаясь решить для себя… Мой дух был в жалком состоянии, точно погрузился во мрак.
— А в предыдущие свои общения с ним ты такого не испытывала, да?
— Я не могла рассказать никому, даже мужу. С тех пор, как вышла замуж, это единственный случай, когда я что-то скрыла от мужа. Но от этого мне было еще мучительнее, тьма еще темнее.
— И ты хочешь сказать, что тьма рассеялась благодаря «Замыслу Бога»?
— Простите, сэнсэй, мне трудно судить о литературных достоинствах вашего произведения, одно скажу: читая, я едва удерживалась, чтобы не вскрикнуть, так я была потрясена. В тот день я встретила вернувшегося из университета мужа, заливаясь счастливыми слезами. «Эта книга меня спасла», — сказала я, показывая ему «Замысел Бога». Все мы, люди, живем, взлелеянные в лоне Великой Природы, Бог любит всех людей, как Своих чад, поэтому-то Его и называют Богом-Родителем. Вот что я впервые поняла. Более того, я впервые поняла, что этот Бог-Родитель не только в нашем мире, но и во всей Вселенной — единый Бог, других богов не существует. Поправьте меня, если я неправильно поняла.
— Нет, все верно.
— Я перечитывала, пытаясь понять, чего же Бог-Родитель хочет от людей, и со смиренным чувством прозрела. Мы оба не знали о существовании Бога-Родителя, но благодаря тому, что муж по-настоящему сильный человек, мы жили так, будто изо дня в день следовали Божьему замыслу, потому нас и осеняло такое счастье. Может быть, у меня слишком большое самомнение…
— Поскольку ты искренно прозрела, тебя не должно это тревожить.
— Спасибо. Я уже убедилась в существовании Бога-Родителя, и Божий замысел мне стал более-менее внятен, поэтому отныне, прилагая энергичные усилия, я смогу радовать Бога-Родителя… Это всего лишь малая часть того, что я усвоила из чтения «Замысла Бога», но уже одно это совершило во мне великую революцию, вот почему я сказала, что ночь озарилась рассветом. Обратившись к небу, я громко рассмеялась — какая же я была глупая, что боялась Божьей кары из-за своего непомерного счастья. Вот только в одиночку моя радость была неполной… Я вас еще не утомила?
— Нисколько.
— Причина того, что родители изгнали меня как непочтительную дочь, говоря по правде, лежит в Тэнри, но теперь, зная, что Бог-Родитель, в которого я наконец уверовала, сошел с небес на Мики Накаяма, основательницу учения Тэнри, я подумала, что должна со своей стороны приложить усилия, чтобы утешить родителей. Размышляя, как это устроить, я вспомнила о том, чему меня учили на курсах духовного воспитания. Нам постоянно твердили, что через сто лет после своей кончины основательница вероучения вновь придет спасать мир как живосущая Родительница и что Бог Тэнри (Бог-Родитель) через сто пятьдесят лет после сошествия на основательницу учения в назначенный срок сам придет спасать мир. Но как раз в позапрошлом году праздновался столетний юбилей основательницы, а в прошлом году исполнилось ровно сто пятьдесят лет со дня основания учения. Осознав это, я вся затрепетала, не в силах сдержать нахлынувших чувств. Ведь в вашей книге ясно написано, что и Родительница и Бог-Родитель ныне спасают мир… Набравшись мужества, я первым делом отправилась к тете Кумэ, у которой жила в студенческие годы и с которой не виделась больше десяти лет. Тетя — прихожанка церкви, находящейся под началом моего отца. Увидев меня, тетя бросилась меня обнимать со словами: «Фуми, девочка, ты жива!» — и разрыдалась. Я была поражена. Она сильно состарилась и поседела, но была еще крепка. По ее словам, поскольку я нигде не показывалась и от меня не было никаких известий, все решили, что меня постигла Божья кара и я умерла в несчастье… Я рассказала ей, как я счастлива, более того, что я глубоко уверовала в Бога-Родителя. Тетя возрадовалась и сказала, что глава местного прихода М. больше других беспокоился обо мне, поэтому надо немедленно с ним встретиться…
На следующее утро — я как раз собиралась идти читать лекцию по литературе — к нам пожаловал глава местного прихода М. с тетей Кумэ. «Мы вас обыскались, нигде не могли найти! — сказал он и, внимательно осмотревшись, стал всем преувеличенно восторгаться: — Кто бы мог подумать, что вы живете в таких великолепных хоромах!» Мне нужно было срочно идти в университет, поэтому я сразу извинилась, что не смогу оказать должного приема, но гость сказал, что, услышав от Кумэ, как счастливо я живу, не мог поверить и пришел убедиться собственными глазами. «Как видите, — засмеялась я, — у меня каждый день „жизнь, полная радости“». — «Жизнь, полная радости? — удивился он. — Раньше из твоих уст я таких слов не слышал. Правда ли, как говорит Кумэ, что ты вернулась в лоно Тэнри?» Он взглянул на тетю Кумэ и продолжал: «Все были уверены, что, обреченная быть непочтительной дочерью, ты, в плоти своей или в судьбе прияв Божий суд, нашла погибель, ты же, оказывается, счастливо устроила свою жизнь!.. А все благодаря добродетели родителей. Ведь ты не кто-нибудь, а дочь настоятеля Великой церкви. И сама теперь признаёшь, что вернулась к учению Тэнри, которое прежде так ненавидела, ибо в нем заключено счастье. Слышал, ты еще не сообщила об этом отцу…» Он спросил, в какую церковь я теперь хожу. Я ответила, что ни в какую… «Ну ладно, — сказал он, — в твоей семье еще, наверно, не начали славить Бога, но обещаю обо всем позаботиться…» В этот момент старая Судзу напомнила, что я опаздываю в университет, я заторопилась, мои гости наконец поднялись, высказав намерение вновь прийти вечером, но я сказала, что буду дома завтра с часу до половины второго. На том и расстались.
На следующий день ровно в час пришли оба. Накануне вечером я все обсудила с мужем и решила, что буду не столько слушать их, сколько расскажу им о своей вере, поэтому, когда они заговорили о том, чтобы устроить в нашем доме маленькое святилище, я перевела разговор на живосущую Родительницу. Рассказала о «Хижине небесного завета». Мой собеседник попытался меня переубедить: «Разве мыслимо, чтобы госпожа основательница учения явилась в безвестном двадцатилетнем, да еще и неверующем юнце из деревни, как там ее, Кавагути! Она должна явиться в одном из достопочтимых столпов учения Тэнри или в ком-либо из ее кровных потомков». Я ответила, что живосущая Родительница пришла для того, чтобы спасти весь мир, а не только приверженцев учения Тэнри, потому и явилась в человеке, не имеющем отношения к Тэнри. Знаменитый религиовед профессор Кодайра много раз встречался с юношей и подтвердил, что в нем явилась живосущая Родительница… Наконец, я привела в пример вас… Уже почти три года вы не только примерно раз в десять дней слышите речи живой Родительницы, но и по велению Бога-Родителя изволили написать трилогию, посвященную Богу, и благодаря вашим книгам, беседам с вами и я, и мой муж вступили на путь живосущей Родительницы и научились жить в счастье и радости. «Только что вышла третья часть, „Замысел Бога“, — сказала я. — Я вам дарю, прочтите. Думаю, тогда вы поймете, что нам с мужем, глубоко уверовавшим в
путь госпожи Родительницы, нет нужды устраивать в доме святилище и вообще нет необходимости в церкви…» Как только я заговорила о вас, они оба присмирели и… заторопились домой. Они взяли вашу книгу и, думаю, все подробно скажут отцу. Как бы там ни было, прошло уже десять дней. Я бы сама хотела о многом расспросить вас по поводу «Замысла Бога», но сегодня пришла рассказать вам о впечатлении, какое эта книга произвела на мужа… Я и так уже успела вам надоесть, вы уж простите меня великодушно.
Высказав свои извинения, Фуми Суда поспешно ушла.
Ты — перевоплощение святого Иоанна, и подобно тому как Иоанн написал во славу Иисуса три книги, так и ты должен написать три книги во славу Бога-Родителя. Так мне было сказано, и в течение трех лет я, как узник Бога, облачившись в красную рабочую куртку, отказавшись от свободы, дни и ночи напролет корпел над трилогией о Боге, но вот наконец успешно завершил последнюю часть — «Замысел Бога», книга поступила в продажу, я снял робу узника и вкушал радость освобождения.
Меня совершенно не заботило, хорошей или плохой получилась книга.
Но после того как муж Фуми, профессор медицины, специально прислал жену передать мне свои восторженные впечатления, я решил перечитать то, что я понаписал, в печатном виде и сам оценить достоинства и недостатки. Однако стоило взять книгу в руки, как тотчас ее содержание вспомнилось настолько отчетливо, что пропала всякая охота перечитывать. Поистине, это не мое произведение, я же всего лишь писец Бога! — иронизировал я над собой.
В это время явилась госпожа Родительница, точно заждавшись, когда я спущусь в японскую комнату, и обратилась ко мне со словами воодушевления:
— Кодзиро, возрадуйся! Я пришла к тебе по повелению Бога-Родителя сообщить, что он весьма доволен твоей прекрасной книгой.
Я даже не пытался что-либо сказать, ожидая продолжения.
— И Бог-Родитель и я радуемся твоему успеху, почему же у тебя такое постное выражение на лице? Бог-Родитель призывает тебя не расслабляться и, не откладывая, начать писать четвертую книгу, пятую, сколько захочешь. Господь Бог больше не будет тебе указывать. Пиши сколько душе угодно… Уж небось четвертая книга на подходе?
— Я считаю трилогию творческой удачей, более того, хотя мне казалось, что серьезная литература ныне не продается, трилогия была тепло встречена публикой, что стало неожиданностью даже для издательства… И это потому, что все три книги — произведение Бога-Родителя, а я всего лишь Его писец. Когда же ты говоришь, что отныне мне дозволено свободно писать все, что вздумается, я трепещу, не надеясь на успех…
— Об этом я и хотела с тобой побеседовать. В первой главе «Замысла Бога» ты пишешь о том, как уверовал, что следует развивать себя, поднявшись над совестью, и как ты старался достичь этой цели… Одобрив твои усилия, Бог-Родитель из десяти Небесных сёгунов, иначе говоря — десяти богов, пребывающих под Его началом и составляющих Его мощь, выбрал одного и послал к тебе, чтобы он стал твоим вожатым. Впрочем, обо всем этом ты хорошо знаешь и без меня. Ведь Небесный сёгун подверг тебя множеству суровых духовных упражнений…
— Да уж, знаю.
— Благодаря упражнениям ты стал полностью независим от совести… Пребывая в Мире явлений, ты получил доступ в Истинный мир, единственный, кому за последние сто лет довелось испытать подобное… Это ли не чудо! Тебе это понятно?
— Да-да, спасибо.
— А вот когда ты впадал в уныние, как нынче, ты втайне мечтал о том, чтобы тебе явился Дзиро Мори. Но того Дзиро Мори, который был для тебя воплощением совести, уже не существует, для тебя он все равно что умер. Короче говоря, друзья, которые с ранних лет тебя воодушевляли, все перешли в Истинный мир. Это печально, но тебе Бог-Родитель судил распространять знание по миру, так что… ты должен радоваться.
Я только кивнул.
— И наконец, вот еще о чем хотела тебе сказать. Ты принял решение стать писателем лет шестьдесят назад, по совету господина Жака, уверовав, что предназначение писателя — облекать в слова неизреченную волю Бога. С этой верой ты на протяжении шестидесяти лет создавал свои книги. Несмотря на то даже, что все эти годы ты не был уверен в существовании Бога… Посему всякий раз, отдавая рукопись в печать, ты сомневался в том, что исполнил свое предназначение, беспокоился, страдал… Отсюда твои многочисленные недуги. Жалея тебя, Бог-Родитель неотступно тебя опекал. Бог-Родитель знал, что, читая твои книги, многие Его чада (твои читатели) спасли свою жизнь… Поэтому, решив, что исполнились сроки и Ему пора впервые сойти на Землю и спасти мир, Бог-Родитель, памятуя о твоей добродетели, год назад, когда я пришла в мир как живосущая Родительница, повелел мне перво-наперво разыскать тебя и убедить в существовании Бога… Знай же! Именно ради этого попросила я тебя написать божественную трилогию… В результате ты смог непосредственно на себе ощутить, что Бог-Родитель сошел в мир, чтобы спасти его, и окончательно удостоверился в Его существовании… Что до твоей трилогии… Ты говоришь, это творение Бога, а вовсе не твое. Неправда. Когда ты писал трилогию, тебе впервые было явлено существование Бога, поэтому ты был спокоен; сравни, разве с таким настроением ты писал свои прежние произведения? Отличная у тебя получилась книга, перечитай на досуге!..
И вот еще что. В ноябре месяце я, как обычно, трижды появлюсь в «Хижине небесного завета», восьмого, восемнадцатого и двадцать восьмого, но только один день я посвящу индивидуальным беседам, в два других буду держать речь перед всеми об истинном Пути. Речь о Пути, другими словами — о Боге. Надеюсь, найдется человек, который затем сможет сказанное мною отредактировать так, чтобы ясен стал промысел Божий, а в этом и есть суть божественного писания… Однако для людей божественное писание труднодоступно… Поэтому многие через твои книги обретают кратчайший путь, ведущий к нему. В этом непреходящее значение твоих книг до скончания времен… К тому же теперь, будучи вместе с Богом, ты можешь творить со спокойной душой и написать еще четвертую книгу, пятую, десятки книг. Для этого Бог сделал тебя пятидесятилетним и удвоил твои силы. Ты теперь силен как бык. Трудись и не унывай!
Госпожа Родительница удалилась, а я еще какое-то время сидел неподвижно. Мне вовсе не хотелось перечитывать божественную трилогию. На следующий день я сел за стол, но работа застопорилась. Делать нечего, решившись внять совету Родительницы, принялся перечитывать «Замысел Бога».
Впервые я читал печатный его текст, и, вопреки ожиданиям, он не только легко читался, но и был во всех смыслах моим, а никак не произведением «писца Бога». Своего рода роман-исповедь, в котором главный герой — я. Проглотив книгу за полдня, я был просто ошеломлен.
Скрепя сердце взялся за «Улыбку Бога». Читал до глубокой ночи — самый настоящий исповедальный роман, более того, из всех моих романов самый сильный, самый впечатляющий. Я убедился, что совершенно не вправе утверждать, будто это не мое произведение.
На следующий день всю первую половину дня читал «Милосердие Бога» и пришел к тем же выводам. Вечером вновь перечитал «Замысел Бога». И преисполнился радостью.
В девяносто лет, в девяносто один и девяносто два года я публиковал в год по новой книге, и все это, как я смог убедиться, прекрасные произведения, которых можно не стыдиться. Вследствие долгожданной встречи с Богом я смог начать вторую писательскую жизнь. Мне хотелось кричать, что я напишу не только четвертую книгу, но сколько угодно книг, буду писать, писать, сколько хватит жизни…
Прошло несколько дней. На литературной странице газеты «Нихон кэйдзай симбун» литературный критик Томохиса Такэда опубликовал превосходный разбор «Замысла Бога». Я был приятно удивлен и воодушевлен.
Признаться, меня сильно беспокоило, что два тома моей трилогии о Боге не вызвали никаких откликов в прессе. Неужели я уже умер как писатель? Неужели две эти книги не воспринимаются как произведения художественной литературы? Или в моем возрасте не стоит вообще ждать интереса со стороны литературного истеблишмента?
Поэтому меня так удивило, что третья книга неожиданно удостоилась пространной статьи во влиятельной газете, более того, к моей вящей радости, литературный критик назвал ее превосходным произведением.
В последние десять лет я не участвовал в заседаниях ПЕН-клуба и Союза литераторов, не посещал никаких литературных собраний, да и в своей обычной жизни не встречался ни с кем из литературного истеблишмента, поэтому не знал не только этого критика, но и вообще никого из молодых писателей. Я был рад, что незнакомый мне человек взялся написать о «Замысле Бога», исходя исключительно из своих эстетических оценок.
Читая его рецензию, я был более всего тронут искренностью его подхода и ясностью выводов, благодаря чему каждое слово буквально врезалось в душу. Он настаивал, что именно вера в Бога стала источником моей неувядающей творческой силы и «без сомнения, сделала „Замысел Бога“ литературным произведением, не знающим аналогов». Подробно разобрав содержание, он заключал: «Будучи творением человека, прожившего девяносто лет, книга обладает естественностью и убедительностью. Короче, книга, озаглавленная „Замысел Бога“, заключает в себе уникальную философию жизни маститого старца, можно сказать, его исповедание веры. После чтения еще долго остается удивительное чувство чуда, окрыляющего душу».
Рецензия Такэды стала для меня радостным потрясением. Мой дебютный роман «Буржуа» в свое время был встречен молчанием, и тогда слывший безжалостным литературным критиком Масамунэ Хакутё в литературной колонке газеты «Асахи симбун» написал обо мне много лестных слов, поставив мое произведение выше прославленного перевода Мори Огая «Жалость»
[7]. Сейчас я испытал не меньшую радость.
Нет, в самом деле, за всю свою жизнь я так радовался лишь дважды!
Оглядываясь на прошедшую жизнь, я понимаю, что та давнишняя статья Масамунэ дала мне пропуск в большую литературу. Теперешняя статья господина Такэды дала мне пропуск в литературу во второй раз. С этим убеждением я послал Такэде благодарственное письмо.
Вскоре вновь пришла Фуми Суда. Она рассказала, что на четвертый день после ее визита ко мне в половине второго к ней в дом пришел настоятель местного прихода М. с тетей Кумэ. Они объявили открывшей им старой служанке, что явились по поручению отца Фуми. Удивленная, она их впустила. Обливаясь потом, но с торжествующими лицами, они втащили тяжелый багаж.
Пройдя в гостиную, глава церкви М. присел и сказал, учащенно дыша:
— Вчера только вернулся домой и сразу позвонил в Великую церковь. К счастью, настоятель оказался на месте. Я доложил ему, что виделся с его дочерью, госпожой Фуми, он выразил свое удовольствие, тогда я передал все как есть, все, что мы от вас услышали и что видели собственными глазами, чему он премного обрадовался.
— Ну раз папа так сильно обрадовался, значит, он теперь снимете меня проклятье. Большое спасибо за ваше участие.
— Разумеется, но… После этого ваш батюшка изволил звонить каждый вечер и обсуждал ваше дело, но особенно он рад тому, что вы вернулись в веру Тэнри. То, что такая упрямица, сказал он, наконец изменилась, несомненно даровано родителям свыше.
— Раз папа так рад, мне больше ничего не нужно, остается только еще раз поблагодарить вас двоих.
— Поскольку вы — дражайшая дщерь Великой церкви, я полагал, что вы состоите непосредственно в ее приходе, но ваш батюшка настаивает, раз уж вы навсегда поселились в Токио, чтобы я взял вас в наш местный приход М. Сколько я ни отнекивался, он за вас поручился.
— Вы хотите сказать, что я теперь состою в приходе М.?
— Таково настойчивое желание вашего батюшки… Но если вам так уж хочется состоять непосредственно в приходе Великой церкви…
— Вообще-то мне совершенно все равно, что Великая церковь, что ваш местный приход, никакой разницы.
— В таком случае, в согласии с пожеланием вашего батюшки, настоятеля Великой церкви, вы вольетесь в наш приход.
— Какие обязанности у прихожанина?
— Поскольку вы уже получили божественный дар, нет, наверно, необходимости объяснять вам все по пунктам, но… Как глава местного прихода, я требую от моих прихожан справлять праздник святилища. По этому поводу я получил у вашего батюшки ручательство…
Переглянувшись с тетей Кумэ, настоятель прихода продолжил:
— Я вижу, вы спешите, позвольте нам по крайней мере выбрать в доме подходящую комнату, чтобы устроить святилище и подготовить принадлежности, необходимые для совершения ритуала.
Тут выяснилось, что все необходимое — небольшое святилище и ритуальные принадлежности — они принесли с собой.
Тетя Кумэ тотчас развязала узел и выставила святилище и столик для подношений. От изумления Фуми лишилась дара речи.
— Что вы собираетесь делать? — наконец обратилась она к главе филиала.
— Если вы соизволите мне показать ваше жилище, я бы смог определить подходящую комнату, во всем остальном положитесь на меня…
— Но у нас нет комнаты, чтобы устраивать святилище.
— Если вы проведете меня по комнатам, я смогу определить, где можно устроить церемонию, а в случае каких-либо неудобств попросим плотника из наших верующих все исправить, так что не беспокойтесь.
Тут вступила тетя Кумэ:
— Можешь во всем на него положиться. Но лучше, чтобы это была комната в японском стиле.
Поняв, что ее неправильно поняли, Фуми поторопилась разъяснить ошибку:
— Я вам уже говорила, что благодаря столетнему юбилею живосущей Родительницы и стопятидесятилетию основания веры в Бога-Родителя я под водительством Родительницы и Бога-Родителя познала истинный путь и научилась жить каждый день в радости, но поймите, это не имеет никакого отношения к религиозной организации под названием Тэнри!
— В Тэнри, в связи со столетним юбилеем живосущей Родительницы и стопятидесятилетием основания веры в Бога-Родителя, все, и высшие чины, и простые верующие, в трепете ждут сошествия великой Родительницы и Бога-Отца для Спасения Мира. Даже вы, отвергнувшая учение Тэнри и десять лет назад исторгнутая из-под родительского крова, благодаря милосердию Родительницы вернулись в веру и ведете «жизнь, полную радости». При этой вести все наши возрадовались, убеждаясь, что сроки исполнились… Как же можно говорить, что это не имеет отношения к Тэнри?
— Мне был указан путь Родительницы, и этому пути мы с мужем следуем каждый день, живем счастливо, и, право, это не имеет никакого отношения к нынешнему Тэнри. Чтоб вы это поняли, я дала вам почитать «Замысел Бога». Поэтому ваше святилище и ритуальные принадлежности в моем доме не нужны… Честно говоря, мне уже пора на работу в институт, я могу вас подвезти на машине.
Она помогла собрать в узелок предметы, выложенные тетей Кумэ, вывела из гаража машину, посадила их, довезла до дома Кумэ, высадила и поспешила в институт.
Вечером за ужином, как обычно, рассказывая своему мужу события прошедшего дня, она упомянула о визите главы прихода М. и тети Кумэ, и муж отнесся к этому вполне добродушно.
— Стоило бы, — сказал он, — заплатив, принять это святилище и ритуальные принадлежности. Сказать, что мы после вдвоем справим ритуал.
— Как, ты хочешь справлять ритуал?
— Нет. После сожгли бы где-нибудь в углу сада. С этими господами нельзя серьезно, они сразу лезут в бутылку, проще прикинуться дурачком. — Он рассмеялся от чистого сердца.
На следующий день у нее были две двухчасовые лекции в университете С., но послеполуденная лекция по каким-то причинам была отменена, и в связи с этим ей вдруг захотелось навестить меня и поговорить о событиях этих дней. Еще и потому, что ее взволновали слова мужа…
Она вошла в мою гостиную и, присев, с ходу заговорила о происшедшем накануне, спрашивая мое мнение, правильно ли она поступила, попросив унести святилище и ритуальные принадлежности.
Увидев, что у нее остались сомнения в правильности ее поступка, я ответил:
— Ты права. У каждого человека в сердце пребывает богоданный дух Божий, который надлежит изощрять, поэтому я в своем доме никаких религиозных обрядов не совершаю. Это всего лишь глупое идолопоклонство!..
По-видимому, соглашаясь со мной, она передала слова, сказанные мужем за ужином после того, как они вместе посмеялись над происшедшим, и спросила мое мнение. Я ответил со всей серьезностью:
— Профессор Суда вновь оказался на высоте. Ты попросила унести святилище. Это правильно, но тем самым ты отрезала от себя людей. Они наверняка в ярости, вполне вероятно, что ты порвала с ними всякую связь, и еще неизвестно, к каким это может привести осложнениям. А вот ответ твоего мужа, напротив, связывает людей. Они бы ушли удовлетворенные, а если бы потом наведались к вам, вы могли бы сказать этак непринужденно, что превосходно вдвоем справляете службу…
— Получается, верно сказал муж, что я излишне строга. В научном исследовании чем строже подход, тем лучше, но в вопросах обыденной жизни, как ни пытаюсь я быть шутливой и легкомысленной… Чуть коснулось проблемы веры — напрочь отрезала от себя людей.
Потом Фуми перешла к проблеме языка в Истинном мире.
То, что она узнала об этом из «Замысла Бога», натолкнуло ее как лингвиста на множество размышлений. В частности, на такое: поскольку Истинный мир и Мир явлений составляют, как две стороны одной медали, единое целое, то научные исследования, прогресс, развитие, происходящие в Истинном мире, неотвратимо влияют на Мир явлений, поэтому усовершенствование языка в Истинном мире вскоре должно проявиться и в Мире явлений. А так как это непосредственно касается ее как лингвиста, она, все обдумав, займется исследованием этого вопроса.
В связи с этим Фуми заметила, что многому ее научили и заставили о многом задуматься исследования мужа. Ее помощь ограничивалась переводом его научных работ. Она ровным счетом ничего не понимала в патологии, бывшей предметом его исследований. За время долгого сотрудничества она не уставала удивляться, с каким рвением он относится к своей науке и какое она приносит ему удовлетворение. Исподволь она пыталась понять причину этого. И вот, когда они, поженившись, начали вести совместную жизнь, она, помогая мужу, принялась самостоятельно изучать патологию. В результате больших усилий она с недавних пор стала кое-что понимать, и ей стало ясно, что радость мужа вызвана тем, что каждое новое, дающееся с таким трудом открытие позволяет найти новый способ помощи больным людям, и еще его убежденностью в том, что он вносит вклад в счастье человечества. Теперь она в полной мере могла разделить и радость его, и убежденность, и это переполняло ее безмерным счастьем. В лингвистике ей ни разу не довелось испытать такой радости, такого счастья, но теперь, когда муж был особенно доволен тем, что она помогает ему, постигнув суть его исследований, Фуми наконец осознала, что вместе с ним счастлива и она…
Читая «Замысел Бога», продолжала Фуми, она впервые прояснила для себя, какой образ жизни человека угоден Богу… Ее поразило, что образ жизни ее мужа, человека неверующего, был, как ни странно, именно таким, угодным Богу. Она вдруг поняла, что именно благодаря этому она, свекровь и ребенок живут в здравии и счастье, хранимые Богом, и, молитвенно сложив ладони, мысленно поблагодарила мужа. А все потому, что муж избрал делом своей жизни увлекшую его область науки и продвигался в ней убежденный, что исполняет призвание, данное ему Великой Природой.
Переведя дух, она под конец сказала:
— Сэнсэй, вы хвалили меня за то, что я посмела отвергнуть учение Тэнри, но из вашей книги я узнала о нем много нового. Вы пишете, что Бог действительно явился 8 видимом образе Кунико Идэ. Мне стыдно, но я была поражена, когда узнала об этом в «Человеческой судьбе»! И еще, спасибо вам за то, что вы так оценили вчерашние слова моего мужа. Моя излишняя строгость и упрямство приводят к разрыву связей с людьми… А потому, обдумав… Если бы я написала родителям письмо, в котором, примешав юмор к нежным чувствам, сообщила бы, что я счастлива, что у меня есть ребенок, что мы с мужем живем в полном здравии… может быть, я смогла бы восстановить связь, разорванную родителями? Как вы считаете?..
— Превосходно! Так и поступи.
— Спасибо. Это и есть главный вывод, который я вынесла из чтения вашей книги. Явилась к вам без приглашения, наболтала всякой ерунды, но для меня это такая радость!
Воодушевленная, Фуми Суда отправилась домой, но и я, раздумывая после ее ухода о том, что ответят родители на ее письмо, пришел в веселое расположение духа.
Глава девятая
Провожая глазами уходящую в приподнятом настроении Фуми Суда, я, естественно, подумал о Хидэко Накамура.
Обе девушки в юности многие годы посещали меня обычно вместе, и
я долго не мог научиться их различать. Обе красивые на загляденье, в возрасте, внешнем облике, одежде, манере говорить — почти полное сходство, обе молоды, на вид — студентки, хотя и читают лекции в университете Т.
В конце концов, выйдя замуж, девушки стали приходить по отдельности, но кто бы из них ни посещал меня, под конец беседы я обязательно справлялся, как обстоят дела у другой. И каждая рассказывала о своей подруге подробно и с участием, так что мне было покойно, как будто я пообщался разом с обеими. Но в тот день рассказ Фуми затянулся, и я не спросил, как дела у Хидэко.
Вот почему, проводив ее, я невольно вспомнил о Хидэко. Поразмышляв, я решил, что раз уж профессор Суда пришел от «Замысла Бога» в такой восторг, что прислал свою жену, допустимо предположить, что и муж Хидэко, Кадзуо Накамура, прочел мою книгу… Мне не терпелось узнать о его впечатлениях.
О Кадзуо Накамуре я знал из рассказов подруг так же хорошо, как и о муже Фуми.
Окончив юридический факультет Токийского университета, он поступил на государственную службу, но вскоре, после кончины деда, занимавшего пост заместителя министра, подал в отставку и на собственные средства поехал учиться во Францию, затем, вернувшись на родину специалистом по французской литературе, по просьбе своего близкого друга мэра М. взялся помогать ему в муниципальной работе. Не прошло и года, как срок мэрских полномочий истек, все горожане были уверены, что М. пойдет на второй срок, но он, посчитав, что с него довольно, не стал участвовать в выборах и уступил свое место нынешнему мэру, завоевав своим поступком симпатии в общественном мнении. В создавшейся ситуации Накамура тоже, разумеется, подумывал оставить свой пост, к тому же он получил настойчивые приглашения от трех университетов, государственных и частных, стать профессором французской литературы.
За неполный год службы в муниципалитете Накамура свел знакомство с Т. До того, как стать мэром, М. был профессором в государственном университете и стал мэром по настоянию научной общественности, зарекомендовав себя передовым ученым и прекрасным организатором, и тогда же он пригласил на работу в муниципалитет Т., профессора факультета экономики, который стал его правой рукой.
Едва познакомившись с Т., Накамура почувствовал с ним душевное сродство и, общаясь с ним, многое понял. Оказалось, что своей громкой славой мэр М. всецело обязан самоотверженному усердию Т. Сам Т. об этом и словом не обмолвился, но в работе мэрии все самые неблагодарные и сложные дела ложились на его плечи, он все брал на себя, а М. был как бы выше этого. Т. уподобился уходящему глубоко под землю корню, благодаря которому пышным цветом цвела слава мэра. Более того, цветы оставались безразличны к трудам и усилиям корня и только красовались у всех на виду…
Поняв, что ему пришлось соприкоснуться, увы, с одним из непреложных законов человеческого существования, Накамура все больше сходился с Т. А Т. не только взвалил на себя все текущие проблемы, но, будучи ученым, не афишируя, обдумывал, каким должен быть современный город, проводил исследования и трудился над созданием научной дисциплины, которую можно было бы назвать «новый урбанизм». Накамура был в курсе, поскольку Т. неоднократно с ним делился.
Итак, когда М. снял с себя полномочия, Т. решил не уходить со своего поста и помогать новому мэру С. Последовав примеру Т., Накамура также остался. Между тем его замужняя сестра настойчиво уговаривала его либо вновь уехать за границу учиться, либо принять предложение Токийского университета и стать профессором на кафедре французской литературы. Он, однако, не принимал окончательного решения, поскольку еще не прояснил для себя, чего он, собственно, хочет. В этом он признался сестре.
В Париже Накамура опубликовал в специальном журнале часть своих исследований по французской литературе, которые не остались незамечены. Если бы он хотел навсегда осесть во Франции, стать французом, ему следовало бы продолжать свои исследования, но постоянно жить во Франции он не собирался, а потому перед ним встал простой вопрос — каково его призвание как японца. Чтобы разобраться в этом, он решил на некоторое время вернуться в Японию. Вернувшись, он много общался со своими старыми друзьями. В результате ему стало ясно, что у него нет ни желания, ни разумных оснований посвятить всю свою жизнь французской литературе. Зато он почувствовал, что в душе его живет жажда самовыражения. Но как утолить эту жажду? Он решил, что самое чистое, самое свободное средство самовыражения — это музыка, и загорелся мечтой стать композитором.
В детстве его заставляли играть на пианино, и для любителя он мог неплохо исполнить Шопена или Баха, но, увы, абсолютного слуха у него не было. И с каким бы удовольствием он ни слушал музыку, особого душевного волнения при этом не испытывал. Если я примусь сам сочинять музыку, думал он, мне не удастся, сколько бы я ни тщился, полностью выразить то, к чему взывает моя душа. И он отказался от мысли стать композитором.
Затем ему пришло в голову, что можно выражать себя с помощью красок, но, поскольку у него не было никакой склонности к живописи, это тоже оказалось невозможным.
Оставалось одно — выражать себя с помощью слов, и, разумеется, на родном языке.
Но с помощью языка передавать душевные волнения сложнее, чем с помощью звуков и красок. Звуки и краски могут выразить даже смутные чувства, а слова — лишь то, что ясно осознано. Именно в этом заключалась главная трудность.
Накамура пристально анализировал себя и наконец пришел к выводу: чтобы понять своих соотечественников, необходимо общение с возможно большим числом людей. Поэтому-то он и принял предложение мэра М. и стал помогать ему в работе и в то же время ради изучения японского языка начал собирать и перечитывать мои книги, бывшие его излюбленным чтением со школьных лет.
Таким образом, несмотря на смену мэра, он, как и Т., остался работать в мэрии.
«Т. стал корнем, уходящим глубоко в землю, ради того, чтобы расцвели цветы новой науки, исследующей современный город, — говорил он себе, горько усмехаясь, — вот и я, дабы в будущем расцвели цветы моих совершенных творений, отдаю всего себя работе, прозябая, как корень, под землей…»
Именно в это время он познакомился с Хидэко, желавшей получить консультацию по французской литературе. Она подробно расспрашивала его об Андре Жиде, которого выбрала для докторской диссертации. Выслушивая его советы, она прониклась уважением к его обширным познаниям и человеческим качествам, замечая, что каждая встреча с ним наполняет ее радостью, заставляет трепетать ее сердце. Она поняла, что это любовь, но смотрела на него снизу вверх, как на неприступно высокую гору, и продолжала скрывать свои чувства, страдая в одиночестве…
В то же время она стала посещать меня вместе со своей подругой Фуми. Обе охотно рассказывали о себе, и, естественно, я, между прочим, узнал многое о Кадзуо Накамуре.
Незадолго до этого Т. стал профессором Токийского экономического университета и ушел из мэрии. Накамура также колебался, не прекратить ли работу в мэрии, воспользовавшись случаем.
За время своей службы Т. объездил и подробно изучил в свете своих научных интересов множество больших городов по всему миру, после чего обнародовал результаты в докладе, возвестившем о созданной им новой научной дисциплине, посвященной изучению современного города. Доклад получил высокую оценку в стране и за рубежом, от Т. ожидали больших свершений, видя в нем не столько экономиста, сколько ученого, который самостоятельно разрабатывает новую область науки. Накамура решил, что пришла пора и ему осуществить задуманный труд и выразить с помощью родного языка свои душевные устремления. Впрочем, некоторое время, полагал он, можно совмещать это с работой в мэрии.
Таким образом, он каждый день восемь часов, с девяти до пяти, проводил на службе, исполняя свои обязанности не как специалист по французской литературе, а просто как общительный человек, получающий удовольствие от встреч с самыми разными людьми…
Когда Хидэко получила от Накамуры предложение выйти за него замуж, она была на седьмом небе от счастья, но, стыдясь своего ничтожества в сравнении с его выдающимися человеческими качествами, никак не могла решиться. Она страдала молча, но когда Накамура вновь потребовал дать ответ, она вспомнила о том, как моя жена в свое время решила, отбросив свои интересы, стать мне опорой, в результате чего у нас сложился счастливый брак, и с мыслью во всем походить на нее дала согласие. После этого она с Фуми навестила меня, чтобы выразить благодарность моей супруге, и пригласила нас на свадьбу, сказав, что вместо официального банкета они собирают близких людей в новом доме в Сибуе на скромную вечеринку по случаю новоселья.
Как я уже писал, это было приблизительно через три месяца после кончины моей жены. До сих пор у меня ноет сердце при воспоминании, как опечалились они, узнав, что ее не стало…
Но у меня в голове не укладывалось, что Хидэко приняла решение выйти замуж за Накамуру, ставя себе идеалом мою жену и вознамерившись брать с нее пример в исполнении своих супружеских обязанностей. И Хидэко и Фуми бывали у меня много раз, но никогда не говорили непосредственно с моей женой. Когда они приходили вдвоем и беседовали со мной с присущей им веселостью и живостью, моя жена, по-простому накрыв на стол, присаживалась у меня за спиной и только слушала, не вступая в разговор. В отсутствие домработницы она встречала их, вела в дом, а когда они уходили, неизменно провожала, но что могла извлечь для себя Хидэко из такого общения, я не мог взять в толк.
Давно это было… После поражения Японии, когда при бомбардировках мы потеряли и дом, и все наше имущество, остались без гроша и единственным средством спасти от голодной смерти четырех дочерей было зарабатывать на жизнь моим пером, я, запершись на втором этаже лачуги в Сэтагая, работал дни и ночи, по многу дней не выходя из дома. В результате я заработал себе астму и болезнь желудка, но ни дня не выпускал пера из руки. Тогда же и жена решила, что ей отныне надлежит жить, как подобает жене батрака, и произвела революцию в своем образе жизни. Прежде мы нанимали несколько слуг, теперь же она, разумеется, делала всю домашнюю работу сама, отказалась от косметики, даже сняла обручальное кольцо и носила самую простую одежду. С эвакуированным имуществом вернулось много дорогой одежды, но она даже не притронулась к ней и без всякого сожаления выменяла на еду. Более того, к моему счастью, я никогда не слышал от нее ни жалоб, ни нытья.
Вскоре моя батрацкая жизнь стала полегче, но жена согласилась с моим планом: «барщину», которую я прежде выплачивал «землевладельцу», откладывать, чтобы иметь возможность удовлетворять запросы наших дочерей: двум старшим, коль они пожелают выйти замуж, обеспечить приданое, а двум младшим, мечтавшим об учебе за границей, я до самого их возвращения высылал деньги на содержание. Все это время жена по своему образу жизни продолжала оставаться женой батрака.
Прошло тринадцать лет со дня окончания войны, мы наконец собрались построить дом на пепелище, и жена выставила условие, подобающее жене батрака. А именно — дом должен быть попроще, вроде тех, что мы видели во Франции, чтобы можно было обойтись без помощи слуг и не делать каждый день уборку. В соответствии с ее желанием и был построен этот небольшой домик в европейском стиле. Но даже став хозяйкой — «мадам» — в этом доме, жена так и осталась женой батрака. Всегда в самой простой одежде, никакой косметики. Конечно, у нее были и кольца, и кое-какие другие драгоценности, но она их не надевала. Кроме того, кем бы ни был посетитель, она встречала его радушно, без различия к званию, стараясь во всем угодить. Мне же ни разу не высказывала не только жалоб и ропота, но и просто того, что было у нее на сердце.
Вероятно, проницательная Хидэко, понаблюдав поведение моей жены — жены батрака, решила, что секрет идеального брака в том и состоит, чтобы женщина, умалив себя, во всем стала опорой мужу, и со спокойной душой вышла замуж за Накамуру.
И вот, выйдя замуж, первое, что она узнала от Накамуры, — это то, что ее взгляд на брак был ошибочен.
Муж поощрял ее исследования в области французской литературы и требовал, чтобы она продолжала читать лекции в университете Т. Поскольку сам Накамура, женившись, ушел из мэрии и занятия французской литературой бросил, он обещал, предоставив в ее распоряжение все свои знания, помогать ей в научной работе и приложить все усилия к тому, чтобы если не он, так она добилась успеха. Разумеется, добавил он, французская литература останется его хобби, поэтому он просит ее рассказывать ему о том новом, что она узнает, сам же он, наконец-то определившись с тем, что ему предназначено совершить в этой жизни, займется творчеством, а посему просил ее быть к нему снисходительным. Что касается семейного бюджета, то он подробно разъяснил ей, что беспокоиться не о чем.
Он рассчитывал на новый дом, построенный на участке, прилегающем к главному дому в Сибуе; Хидэко была как нельзя более довольна: из главного дома приходила экономка, к которой она уже успела привыкнуть, так что она была освобождена от домашних хлопот и могла три раза в неделю ходить на работу в университет.
Если не было дождя, Накамура в десять утра надевал старый пиджак и уходил на прогулку, часа в три возвращался и запирался в кабинете на втором этаже.
Кабинет был просторный. На полках — книги по французской литературе. В глубине — его большой стол, ближе к двери — ее, так что оба могли заниматься в кабинете в любое удобное для себя время. Час за завтраком и три часа за ужином были отведены для непринужденной беседы.
Что ее удивило, так это рояль, стоявший на первом этаже в зале, который служил гостиной, и то, что муж время от времени играл на нем. Как-то вечером, когда они были в гостях у ее матери, он, зная, что теща рисует, попросил показать ему ателье, и когда его туда провели, он заметил висящую на стене у входа скрипку и удивленно спросил:
— Великолепная вещь! Уж не Страдивари ли это? Чья она?
— Моя, — улыбнулась мать.
Он стал ее расспрашивать, и она смущенно призналась, что ее родители были страстными любителями музыки, и она с раннего возраста училась играть на скрипке по методу Судзуки. По просьбе родителей знаменитый иностранный скрипач, приехавший в Японию, давал ей уроки, и при его посредничестве они купили эту знаменитую скрипку. Но после замужества, когда пошли дети, супруг, не терпящий шума, попросил ее, если уж она питает такую склонность к искусству, заняться чем-нибудь, от чего не страдает слух, вот она и переключилась на живопись… Овдовев, она достала несчастную скрипку, но, боясь, что ее пиликанье возмутит дух покойного мужа, повесила ее на стене при входе в ателье, чтобы та могла беззвучно говорить с ней языком музыки…
Рассказ тещи взволновал Накамуру. Вдохновленный, он стал дважды в месяц, по субботам, устраивать в своем доме, в зале с роялем, вечера отдыха, на которые приглашал друзей — любителей музыки, чтобы сообща, веселясь, стряхнуть
пыль, накопившуюся в душе. На вечера захаживала и его старшая сестра с мужем, приглашали и супругов Суда, в конце концов и мать Хидэко появилась со своей скрипкой и под его аккомпанемент сыграла сложную пьесу Баха. В тот вечер Хидэко, в студенческие годы вместе с Фуми певшая в хоре по классу церковных гимнов, порадовала гостей, исполнив партию сопрано, но этим дело не закончилось. Теперь она нередко, вернувшись усталая после занятий, упражнялась в пении, и это возвращало ей силы…
Таким образом, супружеская жизнь Хидэко была непрерывным, изо дня в день продолжающимся, превосходящим всякое воображение счастьем, и, посещая меня, она каждый раз без стеснения подробно рассказывала об этом, неизменно добавляя, что такое возможно исключительно благодаря выдающимся человеческим качествам ее мужа.
Как-то раз, выслушав ее, я сказал:
— Скорее это твоя благодарная душа приносит вам счастье.
На это она ответила, посерьезнев:
— Что же еще в моих силах, кроме благодарности?
Как бы там ни было, счастливые супруги произвели на свет ребенка, после чего ее мать переселилась к ним, и втроем, помогая друг другу, они приступили к новому виду творчества, каковым является воспитание ребенка (к примеру, по настоянию мужа, чтобы воспитать у ребенка абсолютный слух, ему с самого рождения стали включать классическую музыку), это принесло им новое счастье, впрочем, и собственные творческие замыслы ее мужа начали осуществляться, поэтому он, как рассказала недавно Хидэко, обрел в себе уверенность и радостно сообщил, что наконец-то готов посетить меня…
Вот, стало быть, почему сразу по уходу Фуми я вспомнил о Хидэко Накамура.
Прошло три дня, и ко мне пожаловала сама Хидэко.
Она сказала, что муж обнаружил в старом журнале прекрасный рассказ, вышедший из-под моего пера и напечатанный сразу после окончания войны, он снял фотокопию, которую она и принесла. В то же время она пришла в качестве посланника мужа, чтобы передать, что он прочел «Замысел Бога», находится под сильнейшим впечатлением и считает, что это самая выдающаяся из всех моих книг.
Муж посоветовал ей прочесть книгу, отбросив все предубеждения, и, перечитав, она, действительно, извлекла для себя немало существенных идей, особенно касательно религии.
Учтиво выразив благодарность, Хидэко, подумав, сказала:
— Наверно, то же можно отнести и к двум предшествующим книгам, но мне кажется, «Замысел Бога» как-то особенно очищает дух. Теперь я глубже поняла сущность моего мужа: он явно наделен человеческими качествами, которые высоко ценит Бог-Родитель — Сила Великой Природы… Капитал, завещанный родителями, он не стал использовать ни на достижение власти, ни на удовлетворение своих эгоистических желаний, не употребил он его и на дела, причиняющие вред другим людям, нет, он сделал его корнем нашей жизни… Со смирением он заботился, чтобы наша жизнь распустилась цветами. Продолжая эту метафору, можно сказать: несмотря на то что сам он достиг расцвета как специалист по французской литературе, он не возгордился этим и, получая от многих университетов предложения стать профессором и передать цветы своих знаний ученикам, убедившись, что не это составляет смысл его жизни, без всякого сожаления зарыл цветы в землю — сделал удобрением для корня — и приступил к новому творчеству. Он никогда не верил ни в какую религию, но разве не следует он в сердце своем Силе Великой Природы, делая счастливым всякого, кто к нему приближается?..
— И все же я бесчестный человек! — продолжала она. — Когда, подобно мужу, я смывала с себя пыль, читая две первые книги о Боге, в сердце или, лучше сказать, в душе моей отчетливо проявилось смутившее меня, забытое влияние католицизма. Муж приободрял меня, уверяя, что моя борьба с католическим влиянием послужит хорошим примером для приверженцев других религий, но… Когда я приступила к чтению «Замысла Бога», он, советуя мне отбросить предубеждения, наверно, имел в виду — искоренить в себе влияние католицизма. Я стала читать так, как советовал муж, и все прояснилось, точно занялся рассвет, и я успокоилась, поняв, что надо жить просто, как чадо Бога-Родителя. В этом отношении ваша книга — муж прав — настоящий шедевр, и я хотела бы вместе с радостью выразить вам свою благодарность.
После этих слов ее лицо погрустнело, и она сказала, что должна поделиться со мной своими сомнениями, надеясь получить от меня совет.
— Вы утверждаете, что Бог сошел на Иисуса, на Шакьямуни, на основательницу Тэнри, и тот же самый Бог-Родитель любит, как Своих чад, таких ничтожных людей, как я… Конечно, это внушает радость и изумление, но из-за моего католического воспитания мне представляется, что Иисус — единственный сын Бога-Отца, и люди почитают Иисуса как Бога… Но что этот Бог, сошедший к Иисусу, любит и меня, недостойную, как Своего ребенка, — я просто не могу в это поверить! Чтобы я для Бога была таким же ребенком, как Иисус, — это, это…
— Во всей Вселенной существует лишь Сила Великой Природы, иначе говоря — единый Бог, а люди, так же как и все живые существа, суть Его чада, поэтому Его и называют Богом-Родителем. Если ты, исходя из представлений, внушенных католичеством, противишься истине, проясненной в моей книге, тебе следует освободиться от своих предубеждений посредством собственных духовных усилий, духовных упражнений. Я уверен, тебе это по силам, поскольку у тебя есть такой замечательный помощник, как Накамура, который всегда придет на подмогу. После обязательно расскажи мне. Это будет прекрасным примером для приверженцев других религий. И не падай духом!
— Конечно, обязательно расскажу… И еще. В вашей книге меня удивило то место, где говорится, что мир смерти следует называть вратами в Истинный мир. Я верю, что это так и есть, но говорить, будто мир смерти такой веселый, такой беззаботный… не породит ли это эпидемию самоубийств?
— Профессор Кодайра также предостерег меня. Честно говоря, я написал это с единственной целью — сообщить, что люди как при жизни, так и после смерти пребывают в лоне Бога (Великой Природы). Мой друг Кадзуо Накатани радостно поведал мне о том, как он в бане на горячем источнике смывает пыль, накопленную в Мире явлений, а ведь шел уже восьмой месяц после его смерти. Если даже такой образцовый человек принужден в течение восьми месяцев ежедневно смывать с себя пыль, духовные упражнения и испытания в мире смерти не такая легкая вещь, вот что я почувствовал… После того как профессор Кодайра привлек мое внимание к этой проблеме, я спросил у госпожи Родительницы, и вот что она мне сказала: «Когда человек умирает, „божественный дух“, который есть в сердце каждого, подводит его к порогу смертной обители. У входа его встречает стражник, и покойный в соответствии с поступками, совершенными в Мире явлений, принимает огненные муки, но поскольку самоубийство — поступок, более других противный Богу, самоубийца тут же, у входа в смертную обитель, принимает огненные муки и только после этого может пройти далее. Поэтому, хоть смерть и беспечальна, это не значит, что надо торопиться попасть туда».
— И еще вы пишете, что к умершему приставлен ангел, который о нем заботится, но есть ли у ангелов крылья, как нам говорили?
— Никаких крыльев. Те ангелы, которых я видел, все были на вид обычными мужчинами в белых халатах, как врачи.
— Я думала, что ангелов не так много, но сколько же их должно быть, чтобы хватило на каждого умершего!
— По словам Небесного сёгуна, девятьсот миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот. Столько было первых мужчин и женщин, сотворенных Великой Природой на этой земле, и после смерти все они превратились в ангелов.
— Вы пишете, что в Истинном мире встретились с Кадзуо Накатани и Жаком, и, по всей видимости, оба имели тело, но разве после смерти человек сохраняет свою плоть?
— Встретившись с ними, я разговаривал совершенно естественно, так что даже такого вопроса не возникало, но после, задумавшись об этом, я удивился и спросил у Небесного сёгуна. Он сказал, что умершие при жизни получили свое тело от Бога-Родителя, и точно так же, умерев, получают его от Него… Вот только это не то же самое тело, а, так сказать, духовное тело.
— Духовное тело? Но вы не почувствовали, что оно в чем-то отличается от обычного тела?
— Да нет. Может быть, я туповат, но, встретившись с ними, я беседовал, совершенно не чувствуя, что они умершие.
— Судя по их словам, каждый говорит на своем родном языке, а собеседник слышит их на языке своей страны, так?.. Как это здорово! Не могли бы вы еще подробнее написать об Истинном мире?
— Последнее время все посещающие меня читатели просят меня об этом, но я не знаю, что и сказать… Истинный мир и Мир явлений суть единое целое, как две стороны одной медали, они влияют друг на друга… Поэтому в жизни самых обычных людей, если присмотреться, можно уловить то, что относится к Истинному миру… Кстати, я хотел тебя расспросить, вот только стесняюсь. Если ты мне расскажешь, я, в благодарность, расскажу тебе еще об Истинном мире. Идет?
— О чем вы хотите меня спросить? Я с радостью вам отвечу…
— Ты уже не раз мне рассказывала, как счастливо живешь в браке с Накамурой, но вот тайна этого счастливого брака… То есть я бы хотел от тебя услышать более конкретно… Например, ты рассказывала, что вы беседуете по-семейному час за завтраком и три часа за ужином, а в остальное время занимаетесь каждый сам по себе, как независимые друг от друга люди… Но удовлетворяет ли вас обоих то, что вы общаетесь только четыре часа в день? И потом, о чем вы разговариваете? Случалось ли мужу ругать тебя? И каким образом вы помогаете друг другу в занятиях?.. Расскажи обо всем, о чем хочешь.
Рассмеявшись, Хидэко стала рассказывать.
На протяжении семи лет брака темы их бесед, разумеется, менялись, но оба всегда вставали из-за стола удовлетворенные. Утром они главным образом говорили о том, что предстоит в этот день, за ужином — о том, что произошло за день… Обычно они избегают проявлений чувств в разговоре, потому никаких упреков, никакого недовольства или сердитого слова от мужа она ни разу не слышала. За ужином она часто советуется с мужем по вопросам французской литературы, и он исполняет роль заботливого учителя.
Что же касается их индивидуальных занятий, муж не оставляет усилий сделать из нее первоклассного специалиста по французской литературе. Благодаря ему она смогла недавно опубликовать в одном французском научном журнале, в котором у него есть связи, свое исследование «Стиль Анатоля Франса». Она не вмешивается в занятия мужа и только с участием наблюдает со стороны, но это ведь естественно… Муж мечтал стать композитором, но отказался от этой мысли, поняв, что у него нет к этому способностей, и все же недавно он сочинил музыку для скрипки, ее мать исполнила эту пьесу под его аккомпанемент, и он был искренне рад, что смог потрафить своему пристрастию. Муж долго не мог решить, какому роду творчества посвятить свою жизнь, но недавно определился и написал книгу, напоминающую «Опыты» Монтеня, уже идет речь об ее издании, а теперь он приступает к работе над романом…
Дойдя до этого места, Хидэко, точно опомнившись, воскликнула, обратив на меня смеющийся взор:
— Ой, разве ж в этом тайна счастливого брака?
— Неужто больше ничего? — рассмеялся я в свою очередь.
— Ну… Кажется, много чего, а как подумаешь, вроде бы и рассказать не о чем. Странно, да?
— Судя по тому, что ты только что рассказала, не в том ли потаенная причина вашего семейного счастья, что Накамура, в отличие от большинства японских мужей, не ругает тебя, признает в тебе независимую личность да еще и всячески помогает тебе в научной работе? И ты, со своей стороны, уважаешь Накамуру, ценишь его человеческие качества, а кроме того, как хорошая жена, умеешь, не лебезя, не вмешиваясь, смиренно служить ему… Может быть, в этом все дело?
— Вы думаете? Я сказала, что мы проводим за беседой четыре часа в день, но кроме того, когда мы оба дома, нам случается перекинуться словами о ребенке, о домашнем хозяйстве. Конечно, это что-то вроде делопроизводства и собственно к супружеской жизни имеет мало отношения, но… Да, забыла сказать, наше семейное счастье было бы невозможно без помощи нашей старой домработницы и моей матери…
— С ними вам, конечно, повезло, но собственно к счастью вашего брака они отношения не имеют. Для тебя счастье брака состоит в том, что твой муж Накамура, как ты и предполагала, и даже сверх того, замечательный человек, вот, собственно, и все. А для Накамуры — в том, что ты оказалась такой разумной, почитаешь мужа, как своего наставника, окружая его любовью и уважением. Разве не так?
— Нет. Вы уже говорите не о нас. Вы перешли на разговор об Истинном мире.
— Не ты ли сама только что рассказывала мне о Накамуре? Я-то с ним не знаком, знаю все лишь с твоих слов… Ты говоришь, что, несмотря на свою молодость, он смог стать первоклассным знатоком французской литературы, однако не захотел посвящать этой специальности всю свою жизнь и довольно легко отказался от нее. Но в таком случае какой смысл для него представляло изучение французской литературы?
— Напрямую я не спрашивала, но кажется, целью его тогдашней поездки во Францию было прикоснуться к чуждой культуре, усвоить ее. Ради этого он погрузился в музыку, живопись, театр — во всевозможные области культуры — и в каждой добился удовлетворявшего его результата… А все благодаря своим умственным способностям. Он приписывает это тому, что его с ранних лет заставляли играть на фортепьяно. Так или иначе, ум у него в самом деле неординарный. Изучение французской литературы, в отличие от меня, далось ему без особого труда. Наверно, поэтому он бросил это на полпути без какого-либо сожаления…
— Ты говоришь, сейчас он приступил к делу своей жизни, но что ему помешало читать при этом лекции по французской литературе в университете? Напротив, будь он профессором Токийского университета, его труду наверняка были бы обеспечены благосклонные отзывы. Такие соображения не приходили ему в голову?
— Кажется, нет.
— Может быть он просто разлюбил французскую литературу?
— Скорее, потерял к ней интерес.
— Потерял интерес? Гм… Может, все дело в проблеме веры?
— Изучая французскую литературу, он наверняка много размышлял о проблемах религии и Бога и о католичестве знает намного больше меня, но… Сам он неверующий. И при этом его повседневные поступки и образ мыслей более достойные, чем у верующего… Может быть, это прозвучит странно, но моя мама говорит, что он подобен Господу Богу.
— Ого! Господу Богу? В таком разе муж Фуми Суда, с которым я лично не знаком, но о котором много слышал и от тебя и от Фуми, и подавно Господь Бог.
— Да, если уж кто бог, так это профессор Суда. Вам надо поскорее с ним встретиться.
— И тебе и Фуми крупно повезло, что вы вышли замуж за людей, подобных Богу, бывают же такие счастливицы!
— Не смейтесь! Лучше расскажите мне поскорей об Истинном мире.
— Хорошо, будь по-твоему. Но сперва позволь спросить еще об одной вещи… Ты когда-нибудь задумывалась, каким образом Накамура стал человеком, подобным Богу?
— Ну, мне казалось, это произошло само собой, таким уж он уродился.
— А с Фуми ты не обсуждала, в чем причина, что ее муж подобен Богу?
— Нет, скорее, и она никогда об этом не задумывалась. Только всегда с благодарностью говорит о его человеческих качествах…
— Ну и ну… Чтобы такие умные девушки, как вы с Фуми, не задумывались о столь важной вещи — ну и ну…
— Может быть, я что-то пропустила, но что вы имеете в виду?
— Поскольку это очень важно, слушай внимательно. Ваши мужья освободились от эгоизма благодаря тому, что смогли так или иначе удостовериться в своем предназначении и посвятить ему все свои силы. Возможно, сами они об этом даже не задумываются. Каждый человек, рождаясь, получает предназначение от Великой Природы. Если он отчетливо распознает свое предназначение и постарается сделать его своей работой, своей профессией, Великая Природа возрадуется и будет ему помогать, в результате он обязательно добьется успеха. Иначе говоря, такие люди, даже если они об этом не подозревают, пребывая в этом мире, получают помощь от Бога и, как будто уже обитают в Истинном мире, естественным образом избавляются от корыстолюбия, живут в радости и становятся богоподобными… Это относится не только к Накамуре и Суде. Часто можно встретить людей, которые живут в радости, видя в своей работе свое призвание, и при ближайшем рассмотрении оказывается, что все они — бескорыстные, богоподобные люди… Ты не замечала?
— У нас в Католическом университете был служитель — старичок, который всегда добросовестно следил за храмом, очень благожелательный со всеми студентами и гостями. Он постоянно улыбался, из-за чего кое-кто из студентов считал его маразматиком, но когда в прошлом году этот старичок умер, выяснилось, что он завещал, не афишируя, оказывать помощь нуждающимся студентам из оставленных им сбережений… Я была потрясена. Этот человек наверняка верил, что работать служителем — его призвание, поэтому он всегда с таким довольным видом убирался в храме, выполняя свои обязанности.
— Во Вселенной существуют Истинный мир и Мир явлений, но оба мира составляют одно, как две стороны одной медали, благодаря чему люди, живущие в обоих мирах, можно сказать, естественно влияют друг на друга… Такие люди, как Накамура и этот старик, живя в Мире явлений, в действительности своим образом жизни ничем не отличаются от людей Истинного мира. Ты же постоянно живешь с ним вместе, неужели ты не убедилась в этом на собственном опыте?
— Признаться, я как-то не задумывалась…
— Но разве не ты сама сказала, что он подобен Богу? А ведь к этому выводу ты пришла, наблюдая за его жизнью. И в самом деле, Накамура, сам не осознавая, проживает каждый день так, как если бы он жил в Истинном мире. Вот ты меня настойчиво просишь, чтобы я побольше написал, побольше рассказал об Истинном мире… Но ведь твой муж ежедневно живет в нем! И теперь, зная об этом и набравшись смирения, ты, живя с мужем, будешь шаг за шагом непроизвольно постигать, что из себя представляет Истинный мир. Единый всемогущий Бог-Родитель с 1987 года шествует по миру, спасая его ради Своих возлюбленных чад, и Он не требует от них ничего сложного, все, чего Он хочет, — это чтобы Его чада жили на этой земле так, как если бы они жили в Истинном мире. В последнее время многие прислушиваются к тому, что говорит госпожа Родительница, и размышляют о новой вере в Бога-Родителя, но, по правде сказать, все очень
просто… Отложим этот разговор о вере на другой раз, а пока поговори с Фуми и через жизнь своего мужа выведай об Истинном мире. Все, что узнаешь, непременно расскажи мне… Извини, что сегодня так долго тебя задерживал.
Улыбнувшись, я встал. Хидэко тоже поднялась с задумчивым видом.
— Сложную задачу вы мне поставили, но я все обдумаю, поговорю с Фуми и с мужем… и тогда к вам приду, уж не обессудьте.
С этими словами она ушла.
Глава десятая
Как-то раз, в начале осени 1988 года, меня вдруг одолели сомнения.
После того как я убедился в подлинном существовании Бога-Родителя, у меня установились тесные отношения с Небесным сёгуном, одним из десяти богов-столпов, служащих Богу-Родителю.
С начала лета прошлого года, чаще всего в половине второго ночи, он в течение двух-трех часов принуждал меня к духовным упражнениям. Были они весьма тяжелы и обременительны, но, с другой стороны, извергнув из себя все, что накипело, что не давало покоя моим мыслям, после откровенных споров с ним, я испытывал к нему прилив дружелюбия. В результате, еще при моей жизни. Небесный сёгун сводил меня в мир Бога (Истинный мир), где я смог вновь встретиться со своим благодетелем Жаком, которого не видел шестьдесят лет, и умершим восемь месяцев назад моим близким другом Кадзуо Накатани.
Об этом я написал в «Замысле Бога», напечатанном в том (1988) году, но и после Небесный сёгун являлся каждую ночь с наставлениями. Не скажу, что эти продолжительные ночные беседы проходили легко.
Иногда мне хотелось спросить, за что мне выпала такая участь. Продолжая меня учить, Небесный сёгун сказал об этом так:
— В первой главе «Замысла Бога» ты написал о необходимости прилагать усилия, чтобы подняться над совестью. Не только написал, но и путем духовных упражнений смог это осуществить. Доказательство тому — Дзиро Мори, это воплощение совести, перестал тебе являться. Он умер. Ты в конце концов добился того, чтобы стать ясиро — вместилищем Бога. Храмом, в котором непосредственно слышен голос Бога-Родителя. Возрадуйся! Ныне тебе предстоит новое испытание. Ты должен исполнить все, что я. Небесный сёгун, тебе скажу. Вдумайся!
Конечно, все это было приятно слышать, я не мог не радоваться. Хоть из семи часов сна каждую ночь отнимались два-три часа, я не чувствовал усталости и никакой помехи для своей обычной жизни…
Никто другой не мог мне дать того, чему он меня учил, и среди всех имеющихся в моем распоряжении книг, сколько ни ищи, ничего этого не вычитаешь, поэтому интерес мой был беспределен.
Но однажды я кое-что заметил.
Вот уже несколько дней я хорошо спал, не просыпался рано утром и поэтому чувствовал необыкновенную легкость. К чему бы это? — удивлялся я, но не мог понять, и вдруг как-то днем моего слуха коснулся некий голос. В нескольких словах он предостерег меня от излишнего благодушия. Очевидно, это был голос Небесного сёгуна, и его предостережение пришлось как нельзя кстати.
Вообще-то надо сказать, что Небесный сёгун в необходимых случаях неизменно обращался ко мне с коротким поучением. Не в качестве духовного упражнения, а для того чтобы мне помочь. Поэтому я всегда возносил ему благодарность, избегая называть пугающим именем «Небесный сёгун» и подбирая вместо этого что-нибудь поласковее да поблагороднее, вроде «Святого ангела».
Так вот, в начале осени я обратил внимание, что вот уже больше двух недель не слышу его голоса. Я пристально всматривался в себя, молился, ждал, но тщетно — голос не раздавался.
Мне стало не по себе.
Не было ли общение с Небесным сёгуном, длившееся почти полтора года, всего лишь галлюцинацией? Принимать галлюцинацию за реальность — симптом старческого слабоумия, вещь постыдная. Окружающие примечают это, но только и могут, что пожалеть старика и смотреть на такое сквозь пальцы… Я никому не признавался в своих сомнениях, но терялся в догадках и никак не мог приступить к работе.
В этот момент меня изволила навестить госпожа Родительница — живосущая Мики Накаяма. Она стала побуждать меня писать поскорее, поскольку Бог ждет четвертую книгу. Затем ласково спросила, нет ли у меня к ней вопросов.
Тут-то у меня и вырвалось:
— В последнее время ко мне перестал приходить Небесный сёгун, но не были ли мои прошлые отношения с Небесным сёгуном галлюцинацией, моей фантазией, или все же это происходило в действительности?
Родительница рассмеялась, как будто я сморозил глупость, и ответила мне очень просто:
— Небесный сёгун у тебя в животе. Не чувствуешь?
— В моем животе? С каких это пор?
— А вот уже неделю… По распоряжению Бога Небесный сёгун у тебя в животе производит очищение.
И затем соизволила объяснить.
По ее словам, Бог-Родитель приказал Небесному сёгуну произвести в моем животе очищение, чтобы омолодить мое тело до пятидесяти лет. Кроме того, Он велит мне всякого приходящего ко мне, кто бы он ни был, встречать как родного брата. Конечно, бывают и неприятные визитеры, но, находясь в моем животе, Небесный сёгун окажет им должный прием, поэтому я могу быть спокоен. Если я внимательно присмотрюсь к себе, мне станут очевидны результаты очищения.
С этими словами она ушла.
После ее ухода я взглянул на свои ладони и удивился. С годами на ладонях проступают старческие пятна, помню, как, в бытность мою во Франции на учебе, дед хозяйки, у которой я снимал комнату, извинялся, что пожимает мне руку, не снимая перчатки, вот и у меня к восьмидесяти годам на обеих руках высыпали темные пятна.
Однако на этот раз, присмотревшись к своим рукам, я изумился. На левой руке темный крап вовсе исчез, ладонь стала совсем чистой. На правой руке остались всего три бледных пятнышка, точно следы от грязи. Неужели, как и сказала госпожа Родительница, это результат очищения, которое Небесный сёгун производит у меня в животе? Я с недоумением разглядывал ладони.
Дня через три, ближе к вечеру, в самый разгар моей работы, меня посетил некий юноша. Я торопился написать свою четвертую книгу, времени было жалко, но поскольку Родительница велела мне встречать любого приходящего как родного брата, я спустился в салон.
Юноше было лет двадцать шесть — двадцать семь, вид у него был цветущий, одет в пиджак. Он сразу же представился и рассказал о цели визита. Уроженец города Ф., расположенного неподалеку от моего родного Нумадзу, он окончил Сидзуокский университет и теперь помогал в работе своему отцу. Отец владел в Ф. единственным в своем роде заводом, производящим сложную электронную аппаратуру, имел неплохой доход, и предполагалось, что юноша станет его наследником. Однако десять месяцев назад на него неожиданно сошел Бог, который, сокрушаясь о смуте современного общества, призывал его идти спасать людей и учил истинному пути. Два месяца назад юноша наконец решился и, следуя указанию Бога, отправился в Токио, чтобы спасать людей. Но когда он пришел в место, указанное Богом, и приступил к делу спасения, он не то что кого-то спасти, но даже ни одного собеседника не смог найти — никто не хотел его слушать. Прежде чем покинуть родные места, он прочел мою трилогию о Боге, поэтому и пришел ко мне за советом.
— Наше общество, — заявил он, — внешне кажется благополучным, но на поверку оно охвачено смутой, очевидно, что души людей исполнены страдания. В этой ситуации один человек, как бы часто Бог ни сходил на него, бессилен помочь всем, поэтому необходимо, наверно, использовать ресурсы какой-нибудь мощной организации, такой, например, как Тэнри. В последнее время было создано великое множество новых религий, к какой из них лучше примкнуть, чтобы спасать людей?..
Я был в недоумении, не знал, что и сказать, наконец спросил:
— А ты врачу не показывался?
— Я здоров.
— Но ведь ты сам сказал, что уже десять месяцев, после того как на тебя сошел Бог и проповедовал, ты испытываешь душевные муки.
— Вы считаете меня сумасшедшим?
— Пожалуйста, не сердись! Просто подумал, как бы я поступил на твоем месте. Когда со мной происходит что-нибудь из ряда вон, я всегда обращаюсь к врачу. Я вовсе не считаю, что у тебя психические отклонения. Просто, отвечая на твой вопрос, я задумался, как бы сам поступил на твоем месте.
— И что бы вы сделали? Какую бы религию вы выбрали?
— Лично я не стал бы вступать ни в какую религиозную организацию. Вступить — значит стать приверженцем этой религии и выполнять все ее предписания. Дозволяет ли сошедший на тебя Бог придерживаться именно этих религиозных воззрений? И этот твой Бог — кто он? Бог риса Инари или еще кто, почем я знаю? То, что мы зовем Богом, — это Сила Великой Природы, единый во всей Вселенной Бог-Родитель, а это не шутка!
— Вы пишете, что веруете в Бога-Родителя. Не могли бы вы объяснить, какой он из себя?
— Какой из себя? Не знаю.
Могу лишь посоветовать, каким образом тебе прозреть.
— Прошу вас, скажите мне.
— Перво-наперво отправляйся домой. Усердно трудись на отцовском заводе и постарайся стать полноценным членом общества. Если в семье кому-либо понадобится помощь, с радостью спеши оказать ее, умаляя себя, с правдой в сердце. Встречаясь с работающими на заводе, обходись с ними как с родными братьями, помогай им с любовью, это и есть та помощь людям, о которой тебе вещал Бог… Сейчас ты устал от токийской жизни, обессилел. Куда тебе помогать людям, когда ты сам нуждаешься в помощи! Только доставляешь беспокойство своим родителям! Как хочешь, а будь я на твоем месте, я бы вернулся домой и прежде всего извинился перед родителями… Приходи ко мне лет этак через пять. Мне будет девяносто семь, и, если все будет в порядке, я с радостью выслушаю, как ты обрел счастье и как помогаешь другим.
Юноша с готовностью кивнул, сказал:
— Сделаю, как вы сказали, — и ушел.
Впрочем, я как-то не почувствовал, что моим разговором с этим юношей управлял сидящий у меня в животе Небесный сёгун.
А вот что произошло на следующий день.
Как было заранее условлено по телефону, моя знакомая, госпожа И., посетила меня, приведя Итиро Цунэоку из «Тюсин». Едва завидев в гостиной лицо Цунэоки, я почувствовал у себя в животе Небесного сёгуна.
Итиро Цунэока — в прошлом член палаты советников, издатель журнала «Тюсин», владеет под Киото обширным имением «Горная вилла Тюсин», построил множество социально значимых объектов — детских садов, домов для престарелых, церквей, гостиниц, ведет активную общественную деятельность, знаменит на религиозном поприще как приверженец Тэнри, много преподает — короче, нет нужды представлять его моим читателям.
В конце тридцатых — начале сороковых годов я по просьбе Цунэоки выступал со вступительным словом к его лекциям в обществе «Тюсин» и трижды имел с ним непринужденную беседу. На все последующие его просьбы я отвечал отказом, но однажды — прошло уже много времени, — когда я летом работал на своей даче в Каруидзаве, он специально приехал ко мне, чтобы сообщить, что организует лекции «Тюсин» в Нагано, и просит меня обязательно сказать несколько слов, и я вновь выступил, предваряя его лекции. После этого мы, кажется, не встречались.
Честно говоря, прежде чем с ним познакомиться, я был наслышан о нем и втайне питал к нему интерес. Вернувшись с учебы за границей, я, борясь с туберкулезом и кое-как перебиваясь, занимался писательством, когда узнал о трех молодых людях, возглавивших реформаторское движение в Тэнри. Мой родной отец и вся моя родня положили жизнь за учение Тэнри, поэтому я продолжал питать искренний интерес к учению и, разумеется, заинтересовался тремя молодыми реформаторами.
Один из них, Цунэока, в двадцать два года из-за легочного туберкулеза оставил учебу в университете Кэйо и стал горячим приверженцем веры отца, и я, как и он, страдавший туберкулезом, проявлял к нему наибольший интерес. Второй, молодой миссионер по имени Касиваги, и третий — болезненный интеллектуал Окадзима — работали в издательском отделе в Центре Тэнри. Как я познакомился с ними лично, по прошествии полувека точно уже не припомню. Болезненный Окадзима вызывал у меня уважение как истово верующий, но из троих он раньше всех, сразу после войны, «возродился» (умер).
Касиваги вел успешную деятельность в Корее, но затем бросил работу, вернулся в Токио, стал миссионером и, кроме того, помогал студентам — выходцам из деревни, и когда господин Кадокава, основатель издательства «Кадокава сётэн», настоятельно попросил меня отдать в его издательство «Вероучительницу», печатавшуюся тогда в журнале, делал он это исключительно в знак благодарности к Касиваги.
Однако я лично встретился и имел беседу с Касиваги позже, уже после того как была построена Великая церковь. Все удивлялись, как одному миссионеру единолично удалось построить Великую церковь, но когда я с ним поговорил, мне показалось, что он стоит на истинном пути, и я всегда с сожалением думал, какое развитие получил бы Центр Тэнри, если бы встал на путь Касиваги! Этот удивительный вероучитель ныне также ушел от нас.
О Цунэоке у меня осталось не столь сильное впечатление, как от двух других. Когда я услышал по телефону, что он собирается ко мне, я стал размышлять, почему в прошлом так категорически отказал ему в просьбе прочесть лекцию, и в конце концов с горькой усмешкой вспомнил о своей босяцкой закваске.
В то время мне было очень трудно в одиночку зарабатывать на жизнь высокохудожественной литературой, борясь к тому же с болезнью. Я уже сказал, что выступал с вводным словом к лекциям Цунэоки, но готовиться к этому мне приходилось как к собственной лекции — по меньшей мере дня два. День выступления тоже считай пропадал. Притом я должен был еще и выслушать его лекцию. В первый раз он заранее меня предупредил, что после лекции хотел бы не спеша поговорить. Когда она закончилась, члены общества окружили его и стали спрашивать советов о своем житье-бытье. И только после этого он повел меня в столичный ресторан. Угостил чудесными фугу
[8], чему я был рад. Хозяин заведения все это время не отходил от нас, всячески стараясь нам угодить, но он был последователем Цунэоки и прислуживал своему учителю из благодарности, я же не мог не чувствовать себя всего лишь нахлебником.
В следующий раз все повторилось. Ресторан был другой, но и на этот раз я стыдился услужливого хозяина, к тому же второе выступление мне не оплатили. Будь я членом «Тюсин», это было бы вполне естественно, но я не входил в организацию и не видел в этом необходимости, поэтому от следующих лекций отказался. В результате наши отношения с Цунэокой прервались.
Прошло время, и даже до меня, не покидающего свой кабинет, стали доходить известия о деятельности Цунэоки. Например, то, что через несколько лет после войны, заручившись поддержкой верующих Тэнри, он был избран в палату советников. Что он несколько злоупотреблял своими сенаторскими полномочиями. Что он купил большой участок земли на месте Международной выставки в районе Осаки, построил на нем различные сооружения, назвал «Горной виллой Тюсин» и вел активную общественно-благотворительную деятельность. Что пропагандистский журнал «Тюсин», выходивший с тридцать пятого года, после войны, когда число читателей увеличилось, стал печатать каждый месяц исключительно писания самого Цунэоки… Лет десять назад кто-то начал регулярно присылать этот журнал моей младшей дочери, поэтому и я на досуге его просматривал.
Слово «Тэнри» — «Закон Неба» — в нем не встречалось ни разу. И слова «Бог» тоже было не сыскать. Но поучения основательницы и путь излагались доступным и ясным языком. Вполне вероятно, это было не только приятное чтение для людей, взыскующих веры, но и вело многих к спасению.
Кажется, в июньском номере журнала за 1988 год был опубликован прочувствованный некролог, сообщающий о том, что скончалась жена Цунэоки, бывшая на протяжении пятидесяти лет совместной жизни его самоотверженной помощницей и чуть ли не принесшая себя в жертву его новой работе. Из некролога я узнал, сколь обширны масштабы «Горной виллы Тюсин» и что деятельность ее чрезвычайно успешна. Кроме того, я узнал, что Цунэока купил на берегу озера Кавагути в префектуре Яманаси огромный участок земли в сто тысяч гектаров, вложил в него большие деньги, несколько сот миллионов иен, и приступил к организации второй «Горной виллы Тюсин».
По всему было видно, что как предприниматель он добился больших успехов, и я вчуже желал ему всяческих благ, но в то же время попытался представить, в чем секрет его преуспеяния. В результате я понял, что он один к одному использовал приемы, благодаря которым Центр Тэнри, начиная со второго Столпа Истины, став «религией семьи Накаяма», добился громадных успехов в качестве религиозной организации, но, воплотив в своей работе дух и практику Тэнри, Цунэока отбросил слова «Тэнри» и «Бог» (здесь не место вдаваться в подробности).
Я порадовался его деловой хватке, но перестал заглядывать в «Тюсин». Какой номер ни возьми, все он да он — на разные лады талдычит одно и то же…
И вот однажды госпожа И. позвонила мне, чтобы сообщить, что Цунэока хотел бы со мной встретиться и послушать мой рассказ о госпоже Родительнице и Боге-Родителе, и попросила назначить удобный день. Выходит, Цунэока не только предприниматель! — втайне обрадовался я.
Когда служанка сказала, что оба они пришли, я поспешно спустился из кабинета в гостиную. Цунэока и госпожа И. сидели на диване.
Из-за того ли, что с нашей последней встречи прошло десять лет, но когда я увидел, как он постарел, у меня стеснилась грудь, и, отбросив формальности, я просто сказал:
— Добро пожаловать! Вы ведь на два года меня моложе… Но забудем о нашем почтенном возрасте, главное — не падать духом…
Улыбаясь, я сел перед ними.
По счастью, госпожа И. сразу же подвела нас к сути дела.
Я стал говорить о том, что поскольку мой гость — ученик Тэнри, он прекрасно знает, что основательница учения Мики Накаяма к столетнему юбилею своей кончины вновь приступила к трудам в качестве живосущей Родительницы и что на стопятидесятую годовщину основания учения Бог-Родитель явился в наш мир, чтобы его спасти, впрочем, убедиться в этом может каждый. Столетний юбилей пришелся на 1986 год, а стопятидесятая годовщина — на 1987-й, тем самым сбылось пророчество, и теперь Основательница учения и Бог-Родитель совместно действуют в реальном мире. Я рассказал, как несколько раз встречался с живосущей Родительницей и каким образом она мне помогла. Рассказал, в чем проявляется деятельность Бога-Родителя по Спасению Мира, и о конкретных фактах, демонстрирующих связь между случившимися в этом году событиями и работой Бога-Родителя…
Госпожа И. слушала с большим интересом. Я говорил не меньше часа, и все это время мой гость молчал, видимо тоже слушая, впрочем, он, должно быть устав, откинулся головой на спинку дивана, и я не мог разглядеть выражение его лица. Если у него есть желание услышать речи живосущей Родительницы, подумал я, было бы неудобно тащить его в «Хижину небесного завета», можно пригласить юношу Ито ко мне домой и организовать с ним встречу… Но в тот же момент сидевший у меня в животе Небесный сёгун внезапно заговорил моими устами:
— Вы проделали столь долгий путь сюда, наверно, у вас ко мне какое-то дело?
Я сам оторопел от того, что сказал, но гость, подняв голову, наконец прервал молчание:
— Люблю я Фудзи, вот и на обложке «Тюсин» помещаю всегда изображение этой горы, кстати, такой она выглядит из гостиницы на озере Кавагути. Я ведь купил эту гостиницу. Ради этого заплатил несколько сот миллионов, непросто было раздобыть такие деньги… Перестроил гостиницу, организовал все на высшем уровне. А что, если бы вам поработать не здесь, а в моей гостинице, созерцая Фудзи? Еду я вам обеспечу, все, что пожелаете…
— Я тоже с громадным почтением отношусь к горе Фудзи как к своему благодетелю, поэтому, глядя на нее, не смог бы написать ни строчки…
— Честно говоря, дело вот в чем. Я построил «Вторую горную виллу Тюсин» с центром в этой гостинице и в качестве практической базы движения «Тюсин» открыл университет для пожилых людей, университет здоровья, хочу создать этакий земной рай, но моя ближайшая советница, моя жена, скончалась, дети заняты другими делами, помощи не дождешься… Вот я и подумал, вы бы могли работать в гостинице и в то же время помогали бы мне советом…
— Я на такое не способен, — слетело у меня с языка.
На лице гостя изобразилось разочарование, он поднялся. Небесный сёгун из живота приказал мне проводить его.
Госпожа И. поддерживала моего гостя, пока он шел к воротам, но, сойдя по ступеням и едва выйдя на улицу, он, оступившись, упал. И. бросилась его поднимать, все обошлось благополучно. Я успокоился, но голос в животе твердил:
— Провожай так, как провожают в последний путь…
Я думал, их поджидает машина, но нет. Видя, как госпожа И. обеими руками поддерживает гостя, я предложил ей подождать, пока я вызову такси. Она сказала, что им удобнее на электричке, и они медленно зашагали. Я следовал за ними чуть поодаль до самого шоссе, повинуясь голосу, твердившему мне:
— Провожай!
С тяжелым сердцем вернулся я в кабинет, сел за стол. И тут Небесный сёгун обратился ко мне:
— Если ты веришь тому, что говорил о Боге-Родителе, то должен понимать: тот, кто, используя Бога, старается удовлетворить свои корыстные и властные амбиции, вряд ли сможет услышать речи Родительницы. Бедняга! Но если он хоть немного покается перед Богом, в конце концов сможет встретить Его без страданий, в душевном покое.
После этого ни от госпожи И., ни от Цунэоки не было никаких вестей, время от времени я, вспоминая слова Небесного сёгуна, тревожился за самочувствие моего гостя. Но поскольку отсутствие новостей — хорошая новость, я стал об этом забывать.
Как и предсказывала госпожа Родительница, в эту пору меня посетило множество докучливых персон, но Небесный сёгун, управляя разговором, помогал мне. За каких-то два месяца ко мне наведались трое, назвавшихся вероучителями, и больше десятка пришли жаловаться на то, что их облапошила одна из новых религиозных сект.
Называли себя вероучителями две женщины из Кюсю и Сикоку и мужчина из района Кансай, всем троим было около шестидесяти, их сопровождал верующий мужчина. Вероучители из Сикоку и Кансая принадлежали к эзотерическому буддизму, женщина с Кюсю сказала, что она слышит голос Бога через темечко, как если бы у нее там была антенна. Зачем явились ко мне эти трое? Сказали, что прочли мою божественную трилогию, но все равно цель их визита была мне непонятна. Я терялся, не зная, о чем с ними говорить.
Однако Небесный сёгун удивительно ловко обошелся с этой троицей. Он ничего не спрашивал об их вере, заводя конкретный разговор о том, как они помогают людям и как их благодарят за помощь, в результате ему удалось исподволь выяснить, что в действительности они, используя людские беды, удовлетворяли свою корысть. Больше того, он наставлял троицу, что их деятельность не только не угодна Богу или Будде, но скорее огорчает их и вовсе не соответствует их учению, и обстоятельно объяснял, что этим троим не только не следует требовать от несчастных людей вознаграждения, но самим нести ответственность за их несчастья.
Мужчина, сопровождавший этих моих гостей, судя по его виду, был в ярости, мне казалось, что он готов вот-вот на меня наброситься, но сами «вероучители», произнеся несколько туманных фраз, удалились.
Интересно, сколько еще таких вероучителей? В современной Японии новые религии вошли в моду, их просто прорва, но больше десятка людей жаловались мне, что потерпели от них ущерб, и я мог только недоумевать, почему в такой экономически развитой, считающей себя цивилизованной стране процветают всяческие суеверия.
Вот забавный пример.
Как-то раз меня посетил мой земляк С. У него был озабоченный вид. Год назад он был начальником отдела в министерстве, ушел в положенный срок на пенсию и, навестив меня четыре месяца назад, сказал, что радостно начал вторую жизнь. Теперь же этот счастливый господин связался со странной религиозной сектой и пришел спросить, каково мое мнение.
У него в семье возникла какая-то проблема. Конкретно в чем суть проблемы, он не стал говорить, но жена настояла, что проблему можно решить, если он обратится к вероучителю из некой секты, имеющей множество последователей в Иокогаме. Близкая подруга его жены была из числа последователей и как-то раз водила ее к вероучителю. Жена посоветовалась о возникшей проблеме с этой подругой, и та, выказав сочувствие, немедленно отправилась к вероучителю в Иокогаму и молвила за нее слово. Вероучитель ответил, что если супруги С. явятся к нему и попросят Бога, все разрешится. Вот как получилось, что С. и его жена пришли к вероучителю в Иокогаме.
Прежде всего, С. поразила роскошь и размеры храма. Поскольку они пришли по рекомендации подруги жены, их сразу же пропустили в покои вероучителя. Вероучителем оказалась элегантная пожилая дама. Жена в качестве подарка, в соответствии с временем года, приготовила коробочку с великолепной клубникой, которую и поднесла вероучительнице. Та положила коробочку с клубникой на находившийся в комнате алтарь и долго молилась, сложив руки.
Закончив молиться, вероучительница взяла коробку, села перед ними и сказала:
— Я знаю об обстоятельствах вашего дела от вашей подруги и усердно молила Бога. Бог велел передать вам, что можете быть спокойны, проблема скоро разрешится. Ну вот и отлично. Какая чудесная клубника! Спасибо…
С этими словами она раскрыла коробку.
— Ой, да тут жемчужина!.. Госпожа, Бог даровал вам прекрасную жемчужину! Наверняка в знак того, что все устроится…
С этими словами она вынула из коробки с клубникой жемчужину и положила на ладонь жены С. Жена с изумлением рассмотрела жемчужину и, взволнованная, передала мужу.
— Можно ее взять? — спросила она.
— Конечно можно, — ответила вероучительница.
Таким образом, по всей видимости, проблема была разрешена, и, как ей советовала подруга, жена без околичностей спросила, сколько с нее на подношение Богу.
— Двести тысяч, — и глазом не моргнув ответила вероучительница.
Жена приготовила деньги для подношения, но их оказалось недостаточно, поэтому она сказала, что принесет завтра, и, сильно смущенная, взяв жемчужину и поблагодарив вероучительницу, ушла вместе с мужем. В тот же день жена зашла в банк, сняла двести тысяч и отправилась в Иокогаму, а муж, вдруг вспомнив о моих книгах о Боге, пришел ко мне за советом.
Я молча слушал его рассказ, как вдруг сидевший у меня в животе сказал:
— Ты хорошо наблюдал за этой вероучительницей, когда она клала коробку с клубникой на алтарь?
— Мы оба очень внимательно следили за всем, что она делает, стараясь ничего не упустить. К тому же ее комната не такая большая, все проходило у нас на глазах.
— И ты думаешь, что эту жемчужину ниспослал Бог?
— Иначе и быть не может.
— А тебе не кажется, что ее подбросила вероучительница?
— Каким образом?.. Когда мы покупали во фруктовой лавке клубнику, жемчужины в коробке быть не могло, как ни крути, она появилась в тот момент, когда коробка стояла на алтаре, поэтому, хоть это и удивительно, ничего другого не остается, как считать, что ее даровал Бог…
— Удивительного в этом ничего нет. Сама вероучительница и подложила… Не надо быть вероучительницей, это проще простого для любого фокусника. Когда я был чиновником, один мой подчиненный на какой-то вечеринке ради развлечения ловко показывал фокусы, ты расспроси, может, и в твоем отделе есть мастак на подобные трюки.
— Фокусы?..
— Ну ты особо не страдай, считай, что купил жемчужину за двести тысяч, хоть и дороговато получается. Не знаю, в чем суть твоей проблемы, но если Бог тебе поможет и разрешит ее, Он будет доволен, Ему не надо никаких подношений. Разумеется, Бог не занимается вымогательством. А эта дама — уж не грабительница ли она, пользующаяся простонародными предрассудками?
С. ушел, но, судя по выражению лица, мне не поверил. Прошло две недели, раздался звонок.
— Я бы хотел извиниться перед вами за давешний постыдный разговор. В моем бывшем отделе нашелся один старый чиновник, дока в фокусах, я спросил по поводу той жемчужины, так он сказал, что это сделать — раз плюнуть. Спасибо вам. Как бы там ни было с нашей проблемой, жена, дорого заплатив за урок, прозрела по поводу этих новых религий… Небесный сёгун в животе часто наставляет меня в том, какими должны быть взаимоотношения с мелкими, подручными вещами.
В каждой вещи есть жизнь, постоянно твердит он, а поскольку есть жизнь, с вещами надо обращаться бережно и, пользуясь ими, благодарить их от всего сердца.
Я каждый день бреюсь безопасной бритвой, так вот он посоветовал, чтобы я, обращаясь к бритве, говорил про себя: «Будьте сегодня так любезны!..» Тогда у бритвы поднимется настроение и она будет лучше брить, мало того, она и прослужит дольше. Ты только попробуй! — убеждал он. До сих пор я менял лезвие каждые пять дней, но последовав его совету, я смог пользоваться одним лезвием целых тридцать дней. Я сам удивился. Небесный сёгун засмеялся:
— Ну что, убедился, что в вещах есть жизнь? Если будешь пользоваться ими с благодарностью, даже такие мелкие вещи возрадуются и будут стараться послужить тебе подольше.
С тех пор как в мой живот вселился Небесный сёгун, я всякий день бодро, забыв о своем возрасте, с радостным рвением занимаюсь трудом, составляющим цель моей жизни. Может быть, это и называется «жизнью, полной радости»?
Глава одиннадцатая
Закончив писать десятую главу этой книги, которую, пожалуй, можно было бы назвать «писанием Бога», и приступая к одиннадцатой, я вдруг задумался над тем, что мне сказал — впрочем, скорее в шутку — один близкий человек.
Многие из нынешних людей настолько ненавидят Бога, что, увидев в книге слово «Бог», не хотят ее читать. Так, может, заменить это слово каким-нибудь другим, по сути выражающим идею Бога и понятным любому?
Восприняв его замечание как шутку, я не придал ему значения, сказав со смехом: «Ненавидящий Бога обойдется без моих книг!» Однако сейчас, вспомнив давний разговор, подумал, что самой подходящей заменой будет, пожалуй, понятие Великая Природа. Впрочем, все это не так важно…
Я уже объяснял, что Бог-Родитель — это единая сила, приводящая в движение Вселенную, иными словами, Бог — это Сила Великой Природы. Когда строишь фразы, чем всякий раз повторять: «Сила Великой Природы», удобнее писать «Бог», что я и делаю. В разговоре можно вообще опустить слово «Бог». Но люди, ненавидящие Бога, не учуют ли и в словах «Сила Великой Природы» ненавистного им Бога?
Размышляя таким образом, я испытал странное чувство.
Слова «Бог» и «Сила Великой Природы» воспринимаются мной по-разному. В своей повседневной жизни я следую пути — учению Бога-Родителя, руководствуюсь наставлениями госпожи Родительницы, получаю помощь от находящегося внутри меня Небесного сёгуна и в результате каждый день живу счастливо, однако в моем изложении не выглядит ли все это ужасно претенциозно? Мне самому как-то неловко думать, что все описанные мною явления происходят благодаря Силе Великой Природы, а следовательно, ей я всецело обязан своим счастьем, как же мне донести свои мысли до собеседника?
Прежде я не задумывался над этим, скорее всего из-за присущей мне склонности к самообольщению: неискоренима во мне эта гордыня, надменная убежденность в том, что я Божий избранник. Стыдно и непростительно перед Богом. Не стоит вообще рассказывать другим о Небесном сёгуне, да и вообще о божественной благости. Ибо каждый человек — дитя Божье и испытывает на себе благодать Бога…
Вот так я в одиночестве блуждал, мучился, когда неожиданно пришла Хидэко Накамура.
Я с трудом поднялся из-за стола, спустился в салон, но при виде ее, с ног до головы овеянной счастьем, у меня от души отлегло.
— Я пришла потому, что подумала — вы будете мне рады. — Она улыбнулась.
— Да, когда человек счастлив, это отражается во всем его облике, — улыбнулся и я, поддавшись ее обаянию, но поскольку она никак не приступала к разговору, я сказал, смеясь: — Неужто пришла сказать, что впервые поссорилась с мужем?
— Какая ссора? Напротив, удостоилась его похвалы… Не знаю, как и начать… Ну а если сразу перейти к выводу — я тоже наконец убедилась, что я чадо Бога или, правильней сказать, стала по-настоящему свободным счастливым человеком. И все благодаря вашему «Замыслу Бога»! Я живо ощутила, что ваша книга, как говорит мой муж, шедевр, перед которым никто не может устоять…
Она опустила глаза.
— Ну хорошо, это вывод, но я что-то плохо понимаю, к чему ты клонишь. И вообще, то, как ты говоришь, на тебя не похоже, — сказал я шутливо.
— Мне и самой, кроме вывода, мало что понятно… Но надеюсь, вы все поймете, если я расскажу, стараясь быть последовательной, о душевных терзаниях, предшествовавших этому выводу… Я обязательно должна вам рассказать… Заранее извиняюсь, если рассказ будет слишком долгим. Вы готовы меня выслушать?
Я молча кивнул. Хидэко начала свой рассказ, и, если его слегка упорядочить, вот, примерно, его содержание.
В свой прошлый визит Хидэко уже упоминала, что, прежде чем она приступила к чтению «Замысла Бога», муж дал ей совет. А именно — читать, отбросив предубеждения. Прочитанное потрясло ее, стало для нее откровением, точно выпустило ее на волю, и она была от души признательна и автору и мужу. И однако, у нее остался один серьезный вопрос.
Когда она прочитала, что все авторитетные ученые, исходя из своих основанных на фактах исследований, приходят к выводу, что Бог-Родитель, будучи единым Богом, сходил и на Будду, и на Иисуса, и на Магомета, и на Мики Накаяма и наставлял их на путь истины, а потому все мировые религии, по сути, учат одному и тому же и путь Бога — один, она, пораженная, невольно воскликнула: «Как же это прекрасно!»
Но в этот момент в ней, вероятно, сработала оставшаяся на сердце ржа католической выучки — насчет Иисуса она усомнилась. Иисус — единственный сын Бога, а мы, люди, поклоняемся Иисусу как Богу и тем самым обращаем к Богу истинную веру. Невозможно вообразить, чтобы люди, каждый по отдельности, были детьми Бога, это просто нелепо… Вот какие серьезные сомнения ее обуревали.
Когда она призналась в своих сомнениях мужу, он сказал, что именно поэтому советовал ей отбросить предубеждения. Хотя она и не посещает церковь и не считает себя адептом католицизма, осадок религиозных догм, внушенных ей в детстве, остался на дне души и препятствует ей свободно мыслить, поэтому он пожелал ей избавиться от этого осадка как можно быстрее.
— Конечно, абсурдно цепляться за старые догмы, поскольку я не являюсь верующей католичкой, — продолжала Хидэко, — но как я ни старалась освободиться, ничего не получалось, поэтому я поняла, что должна серьезно подойти к этой проблеме и попытаться самостоятельно ее разрешить. Учитывая, что в мире сотни миллионов верующих католиков, я обязана найти решение ради этих людей, иначе придется считать, что ясная истина, которую вы излагаете в своей книге, ошибочна. И вот на протяжении почти двух месяцев я билась с этой проблемой, отдавая этому все свои силы.
Часто обсуждала ее с мужем. Говорила с мамой — верующей католичкой. Несколько раз даже обращалась за разъяснением к знаменитому патеру Б., преподающему в университете. Рылась в специальной литературе. Сама много размышляла. Записывая все свои сомнения, оттачивала мысль… Пока наконец не пришла к выводу, который меня удовлетворил.
Я верила, что Иисус — единственный сын Бога, и я не ошибалась в том, что он — сын Божий. Все люди — дети Божьи, и я — Его дитя. Более того, пред лицом Бога я должна жить в истине так же, как Иисус. Если я на такое не способна, я — не дитя Божье. Как только это меня осенило, тотчас усвоенное мною в детстве учение Иисуса обрело новый смысл, взывая непосредственно ко мне, и во мне вскипела радость от желания шаг за шагом воплощать его на практике. С этого времени я начала жить новой духовной жизнью, и каждый мой день озарялся счастьем.
Не могу в двух словах рассказать обо всем, что я передумала и испытала прежде, чем на меня сошло озарение, но я все записывала и решила привести свои записи в порядок, изложить доступным языком и опубликовать. Меня вдохновляла дерзкая надежда — какое было бы счастье, если бы католики по всему миру задумались над этим! Но прежде я бы хотела, чтобы вы прочли…
Она глубоко вздохнула и с серьезным лицом добавила:
— После того как я все это осознала, многое мне видится по-новому. Во-первых, муж… Я оказалась совершенно его недостойна…
— Кажется, раньше ты говорила, что он подобен Богу. Теперь ты в нем видишь Будду, так, что ли?
— Ну что вы такое говорите!.. Не знаю, как лучше объяснить. Я его недостойна. Именно так. Когда он сделал мне предложение, я втайне его любила, но именно из-за того, что любила, хотела, ни слова не говоря, удалиться от него, исчезнуть. Но в тот момент я вспомнила о вашей супруге и решилась выйти замуж. В результате, рядом оказался человек, которого я недостойна, за что поныне возношу благодарность духу вашей супруги, и все же…
— Слыша тебя, моя жена наверняка радуется. Славной женой она была!..
— Я тоже хочу стать такой же. Но послушайте, я раньше думала, что муж бросил изучать французскую литературу оттого, что осознал пределы своих возможностей… Но в действительности это не так, ему до сих пор от французских ученых приходят просьбы опубликовать его статьи в научных журналах… И я, каждый день получая от него помощь в своей работе, поняла, какой он выдающийся ученый. И тут я также оказалась его недостойна. Хотя, конечно, стараюсь шаг за шагом, как говорит мой муж, овладевать глубокими познаниями в моей области, чтобы стать первоклассным специалистом… Взять хотя бы то, что я пишу, обращаясь к приверженцам католицизма… Если я не стану первоклассным специалистом, я не смогу убедить людей…
— Отлично сказано!
— С некоторых пор я стала новыми глазами смотреть на мою матушку, живущую сейчас с нами. Когда у нас родился ребенок, она стала помогать, взяла на себя заботу о его воспитании и в конечном итоге прижилась у нас. Я была рада этому, и все же порой возникали проблемы. Но когда муж сказал, что хочет развить у ребенка абсолютный слух и, едва он родился, стал пичкать его классической музыкой, мама первой поддержала мужа, мол, именно потому, что моя дочь и старший сын с детских лет учились музыке по методу Судзуки, из них вышли такие прекрасные люди… Найдя взаимопонимание, они с мужем на пару занялись воспитанием ребенка… Кроме того, мама любит домашнее хозяйство и с помощью домработницы умело ведет его, поэтому я могу беспрепятственно посвящать себя науке, и все же до сих пор я замечала у мамы в основном недостатки, даже самые мелкие, но в последнее время, напротив, вижу в ней исключительно хорошие стороны, так что самой удивительно. Более того, погружаясь в сладостные воспоминания о том, как она нас с братом растила в детстве, я все больше проникаюсь мыслью, какая она замечательная мать! Вы как-то сказали, что если, общаясь с человеком, вообразить, каким он был бы в Истинному мире, сразу поймешь его с лучшей стороны. И что именно в этом счастье…
— Правда? А я и забыл… Ныне ты достигла «жизни в радости», угодной Великой Природе. И без твоих слов весь твой облик свидетельствует о счастье.
— И все это благодаря вам!.. И вот еще что. Болтаю о себе одной и запамятовала… — Она торопливо достала из сумки сверток и выложила на стол толстую книгу ин-кварто. — По правде говоря, я пришла к вам, чтобы по просьбе мужа передать эту книгу. А сама пустилась в объяснения, от счастья совсем потеряла разум… Вы уж простите меня.
Внушительный, прекрасно изданный том. Озаглавлен — «Раздумья», автор — Кадзуо Накамура.
— Так это книга твоего мужа?
— Кажется, я уже вам говорила, что муж, мечтая о встрече с вами, сказал, что прежде сам должен заложить для этого прочное основание, поэтому уже давно, собравшись с духом, он начал писать.
С этими словами она открыла титульный лист. Посередке было напечатано: «Моему духовному отцу и учителю К. С. этот труд посвящаю».
— Ого! — невольно вырвалось у меня, и я благоговейно осмотрел книгу. Она вышла в знаменитом издательстве И. и выглядела поистине великолепно. — Спасибо. Хочется сразу же начать читать. Как только разделаюсь с рукописью, сразу и возьмусь, так ему и передай! И все же удивительно! Чтобы издательство И. выпустило книгу безвестного Накамуры…
— Дело в том, что в издательстве уже давно просили мужа дать им книгу о французской литературе… Когда он завершил эту книгу, то решил, что в условиях нынешнего издательского кризиса вряд ли кто-нибудь возьмется ее печатать, поэтому сперва подумывал выпустить ее за свой счет, но тут вспомнил о давнем предложении от издательства И. и отправился к ним посоветоваться, а они взяли с радостью… И так роскошно издали! Я сама удивилась.
— А я назвал Накамуру безвестным… Совсем отстал от жизни. Он, оказывается, еще как знаменит! Чтобы такое издательство приняло его книгу… Чудесно! Я очень рад.
— А муж-то как рад! Сказал, что теперь, когда у моего учителя есть моя книга, я смогу, если мне когда-нибудь доведется с ним встретиться, минуя всякие формальности, поговорить с ним как со своим духовным отцом. Если вы — его духовный отец, то и мне приятно чувствовать себя в какой-то степени вашей родственницей…
— А мне-то как приятно, что Накамура называет себя моим духовным сыном! У меня и дети и внуки все сплошь девочки, ни одного мальчика. Я нередко думал, вот был бы у меня сын, мы бы с ним по-мужски воодушевляли друг друга… А теперь у меня и впрямь сын родился. Я много слышал о Накамуре и от тебя и от Фуми, как же мне не радоваться, что мне послан такой замечательный сын.
— Кстати, профессор Суда, муж Фуми, тоже считает вас духовным отцом. И знаете, наши мужья так крепко подружились, совсем как кровные братья — неразлейвода. Мы с Фуми даже шутим, это, мол, потому, что они дети одного духовного отца…
— Вы, кажется, говорили, что ваши мужья подобны Богу… Выходит, мне повезло, что таких вот людей я получил в духовные сыновья! Скажу больше, это прибавляет мне сил — ведь я теперь должен стараться быть родителем, достойным таких сыновей. Вот только в моих летах этого не так-то легко добиться, мне перед ними стыдно… А что, Хидэко, по такому случаю можно тебя спросить о моем сыне?
— Что вас интересует?
— Пустяк, но я еще толком не расспрашивал тебя о муже… Не хотелось сплетничать о незнакомом человеке, но теперь нам, возможно, случится когда-нибудь встретиться и поговорить по душам, и я боюсь, как бы при этом не попасть впросак, ведь он — мой сын, к тому же сын, знающий об отце всю подноготную, а я, отец, в сущности, ничего о своем сыне не знаю.
— Все, что хотите, пожалуйста, спрашивайте!
— Ну хотя бы что он думает о современном состоянии Японии? Живя вместе, ты наверняка что-то слышала от него, расскажи.
Немного подумав, Хидэко заговорила. Ее ответ оказался для меня полной неожиданностью.
По ее словам, в конце этого лета, когда муж закончил корректуру «Раздумий», он решил, что пора немного отдохнуть, и они отправились вдвоем в гостиницу на горячих источниках Хосино в Каруидзаве. Он знал, что к востоку от гостиницы, выше в горах, расположена моя дача, и они задумали невзначай навестить меня, надеясь порадовать внезапным визитом. Оказывается, за два года до отъезда во Францию Накамура вместе с семьей провел лето в старой Каруидзаве и тогда ходил к моему домику; заговорить со мной не решился, но внимательно все осмотрел и хорошо запомнил окрестные места.
И вот через много лет, вновь очутившись в гостинице на источнике, он, немного передохнув, поднялся вместе с Хидэко по тропинке, огибающей гостиницу, и добрался до моей дачи. Однако все ставни были заперты, никого не было. Они решили, что я куда-нибудь вышел, но в этот момент из соседней старой дачи вышла пожилая женщина и сказала, что я накануне вернулся в Токио.
— Выходит, я недостаточно духовно упражнялся, раз не могу встретиться со своим духовным отцом, — улыбнулся он Хидэко, скрывая расстройство, но не переставал вздыхать, бродя с нею по склонам вокруг домика.
— Я и представить не могла, что природу вокруг так загубили. Возле вашей дачки понастроили домов, как в Токио, сосны в вашем просторном саду, наверно, засохли и погибли… Понятно, почему вы так рано оттуда уехали!
С ностальгией вспоминая лето, проведенное некогда в старой Каруидзаве, Накамура водил Хидэко по тем местам и при виде того, как основательно уничтожена природа, расстраивался еще больше, чем в те давние годы у моего домика. Они собирались провести в гостинице у источника пять дней, но не выдержали и уехали на день раньше.
Главной причиной уничтожения природы стало строительство бесчисленных площадок для гольфа. В прежние времена такие площадки тоже были — так называемая старая, расположенная в черте города, небольшая, всего на шесть лунок, и новая. На старой площадке могли играть как знаменитые люди — члены клуба, так и те, кто в клубе не состоял, причем плата для обычных людей была невысока, и никто не смотрел на них с презрением. Новая площадка с большим количеством лунок не была благоустроена, поэтому пользовались ею редко.
Во время своего последнего посещения они увидели, что новая площадка тщательно ухожена, все бы ничего, если бы вся окружающая природа, все луга и рощи старой Каруидзавы не подверглись при этом коренному «благоустройству». Все пространство вокруг теперь больше походило на парк и было отведено под бесчисленное множество площадок для гольфа. Судя по путеводителю, только на одной из них можно было играть, не состоя в клубе… Они пошли туда — цена за вход оказалась запредельной. В прежние времена на старой площадке клюшки для игры давали напрокат, но здесь на их просьбу сухо ответили отказом, в результате они ушли, сэкономив на немыслимой входной плате… На многих площадках в течение всего года используют ядохимикаты, чтобы трава оставалась зеленой. Местные жители высказывали недовольство, возмущались, что наносится непоправимый вред природе, но были бессильны что-либо изменить.
Супруги вернулись в Токио и провели остаток отпуска на вилле, построенной отцом Накамуры, на южном берегу залива Татэяма, в префектуре Тиба. И здесь сразу же вновь столкнулись с конфликтом, тоже вызванным площадкой для гольфа.
На следующее утро после их приезда на виллу к ним пришли двое представителей местных крестьян и предложили подписать, если они согласны, протест против планов устройства в окрестности площадки для гольфа. Крестьян поразили данные, приводимые несколькими известными специалистами. Информация о том, насколько опасны химикаты, которыми орошают дерн на площадках для гольфа, была просто пугающей. К тому же их удивило, что в префектуре Тиба, где уже имеется почти сотня таких площадок, подано заявок еще на восемьдесят семь участков.
Представители крестьян рассказали, что химикаты, которыми удобряют площадки для гольфа, настолько отравляют производимые в префектуре овощи, что они стали вредны для здоровья, поэтому крестьянам волей-неволей пришлось отказаться от овощеводства и переключиться на разведение декоративных цветов…
Накамура не любит спорт, никогда им не занимался и только для гольфа делал исключение: неторопливо ходить по траве, подбирать белые мячи — все это приводит в умиротворенное состояние духа, поэтому, отдыхая в Каруидзаве, он часто хаживал на старую площадку для гольфа, а в Токио — площадку, расположенную вдоль кольцевой линии городской железной дороги. Учась в Париже, он как-то предложил своему французскому приятелю, с которым близко сошелся, поиграть в гольф, но тот отказался, сославшись на то, что в окрестностях Парижа нет площадок для гольфа. Впрочем, сказал он, есть одна, не слишком благоустроенная, но парижские интеллектуалы ею не пользуются и даже не знают о ее существовании. Позже Накамура, путешествуя на машине, объездил всю Францию вдоль и поперек, но нигде не видел ничего похожего на площадки для гольфа. На третий год учебы за границей он два месяца провел в Швейцарии, и один швейцарец откровенно ему сказал: «Мы в Швейцарии заботимся об охране природы, поэтому устройство площадок для гольфа считаем глупостью!»
А вот в Японии в одной только префектуре Тиба несколько сот площадок для гольфа! Ну не безумие ли? Накамура не мог в это поверить. Работая в муниципалитете Токио, он, чтобы развеять свои сомнения, навел справки. Посетил компании, вложившие деньги в их устройство, расспросил служащих, — ответ был один и тот же. Площадки для гольфа используется для переговоров и заключения сделок несколькими топ-менеджерами, а персонал не имеет к ним никакого отношения. Он спросил, играют ли в гольф сотрудники уровня начальников отдела и выше. В принципе, могут играть по субботам во второй половине дня и по воскресеньям, но поскольку плата слишком велика, мало кому это по карману. Случается, они получают приглашение на игру — примерно раз в год, не чаще. Короче говоря, сотрудники компаний площадками не пользуются.
Накамура посетил множество площадок для гольфа и убедился, что на этих спортивных сооружениях, даже в воскресные дни редко где заметишь людей, всюду тишина и покой. Он каждый день просматривал спортивные страницы в газетах, и что же? О гольфе пишут лишь в связи с выступлением спортсменов-профессионалов. Кто с каким счетом сыграл, какой получил гонорар, имярек за год заработал сто миллионов иен, вот, собственно, и все… Пустейшие заметки. Словом, площадки для гольфа в Японии существуют ради горстки профессиональных спортсменов. И впрямь самое настоящее безумие!..
— Заводя разговор на эту тему, муж часто сетует на то, что японцы так равнодушно разрушают свою родную природу… И я с ним полностью согласна… Но что делать? Нам остается только рассмеяться, сказать: «Слава богу, у нас своих дел хватает!» — и уйти с головой в свою работу.
— Забавно…
— Был у нас еще один интересный разговор. Во всем мире считают, что Япония — самая богатая в мире страна, страна богачей, но мы, японцы, каждый по отдельности никакие не богачи, так где же те наши громадные деньги, которым дивятся иностранцы? Я как-то задала мужу этот детский вопрос, и его ответ кажется мне чрезвычайно любопытным.
«После окончания войны, — сказал он, — Либерально-демократическая партия бессменно стояла у власти, ни разу не уступив оппозиционным партиям, поэтому все это время она правит в нашей стране практически монопольно. Из-за этого политики, как в правящей партии, так и в оппозиции, разложились, по сути перестали быть политиками. Ведь что такое политик? Человек, который, отказавшись от собственной выгоды, от собственных интересов, постоянно печется о народном благе, о том, чтобы люди были счастливы, образованны, жили в мире. В развитых странах Европы и Америки таких политиков много, а в современной Японии днем с огнем не сыскать…
Деньги, которым изумляется мир, полагая, что Япония стала невероятно богатой, минуя карман трудящихся, скапливаются в нелепейших местах и взывают: тратьте нас! Ну, конечно, политики сразу же положили на них глаз. „Так и быть, будем тратить!“ — и, подлащиваясь
к деньгам, набивают ими свои карманы… Вначале они отравили себя, потом отравили политику, наконец, отравили и народ…»
Смеясь, он добавил, что больше полугода сотрясающий всю страну коррупционный скандал с фирмой «Рекрут» — яркий тому пример.
«Сейчас благодаря телевидению, — продолжал он, — стало возможно вблизи наблюдать лица политиков. И что? Какие же у всех японских политиков алчные, похотливые рожи! Ты, наверно, сама заметила, среди них нет ни одного, с которым бы хотелось познакомиться. Посмотри на лица европейских и американских политиков! Как много среди них людей с благородной, привлекательной внешностью… Японские политики и близко не стояли. А почему? Потому что душа прогнила. Деньги, деньги, одни только деньги — вот что ими движет, они забыли, каково назначение политика. Огромные, несметные деньги бездарно растрачиваются ради личной корысти и эгоизма и тем самым пятнают все общество. Вот уже несколько месяцев, как, превысив все мыслимые пределы, всплыл скандал с фирмой „Рекрут“ и изумил не только Японию, но и весь мир. Но бесстыдство позиции, которую заняли по отношению к нему наши политики, настолько возмутительно, что просто нет слов. Часто говорят, что низы подражают верхам. Когда верхи только и алчут денег, денег, денег, люди внизу хором подхватывают: денег, денег! И вот мы читаем в газетах, как из-за денег сын убил родителей, жена лишила жизни мужа. Неужто и впрямь настали последние времена? Печально, если мир катится в пропасть».
Сказав это, он горестно вздохнул.
«Но что может исцелить духовно оскудевших японцев?» — спросила я.
На это муж сказал:
«Революция».
«Революция? Ты имеешь в виду социальную революцию?» — спросила я.
«Разумеется. Революция, которая сделает людей равными, каждый получит возможность самоутверждения, люди будут взаимно уважать друг друга, жить в мире и счастье…»
После этого он напомнил мне о Великой французской революции. Сказал, что сейчас одна только Франция принимает беженцев отовсюду, независимо от их цвета кожи. Рассказал о конкретных фактах, чему был свидетелем во время учебы. Он больше привязан душой к друзьям-французам, сказал муж, и больше доверяет их дружбе, чем дружбе с соотечественниками.
— Вы ведь тоже долго жили за границей, вы согласны в этом с моим мужем?
— Ну… Мои друзья и там и здесь все поумирали… Но я испытал то же, что Накамура. Таких друзей, как Жак и умершие за последние два года Морис и Жан, которым бы я всецело доверял и которые бы оказали на меня столь благотворное влияние, в Японии раз-два и обчелся.
— Вот как?.. Муж утверждает, что это результат Великой французской революции… Мол, вот если бы в Японии произошла Великая революция… В следующем году во Франции будут справлять двухсотлетие революции как государственный праздник; муж полагает, что Япония в своем культурном развитии отстает от Франции как раз на двести лет. Когда я с ним не согласилась, он, смеясь, предложил вместе съездить на этот праздник во Францию, чтобы я убедилась собственными глазами. А вы как думаете, нужна ли Японии социальная революция?
— Нужна ли Японии социальная революция? Это сложный вопрос.
— Я сказала, что если произойдет революция, мы первые будем ее жертвами, на что муж заявил: «Мы не будем ни жертвами, ни палачами. Для этого надо учиться, учиться и еще раз учиться». Рассмеявшись, он поднялся, развел широко руками, сделал глубокий вдох и приступил к своим занятиям. Вот я и гадаю, шутил он или говорил всерьез!..
После этого Хидэко извинилась за свой долгий визит и собралась уходить.
— О революции не беспокойся! — сказал я. — И ты, и Накамура, и супруги Суда осознали, что вы являетесь детьми Великой Природы, и, как я уже говорил, именно благодаря этому обрели счастье, воплотив в себе идеал Великой Природы. Но с 1987 года Сила Великой Природы приступила непосредственно к Спасению Мира, поэтому наверняка в скором времени появится немало таких, как вы, ее любимцев. Если народится много любимцев Великой Природы, общество достигнет счастья мирным путем, не понадобится никакой революции. Успокойся и в следующем году отправляйтесь во Францию — в запоздалое свадебное путешествие.
Через несколько дней неожиданно пришла Фуми Суда.
Спускаюсь в гостиную — сидит Фуми, как и Хидэко, со счастливым видом. Взглянув на меня, она сказала с улыбкой:
— Зашла, надеясь, что вы будете мне рады.
Только я сел, она достала из сумочки письмо и положила на стол:
— Письмо от отца. Столько лет прошло с тех пор, как он решил считать меня умершей, и вот — получила ответ.
Радостно сообщив об этом, она объяснила, как было дело.
В свой прошлый визит, после нашей долгой беседы, уже собравшись уходить, она объявила о своем решении написать отцу письмо и искренно рассказать ему все, как есть, попытавшись по своей инициативе восстановить связь, прерванную не по ее вине, но она не могла и предположить, что так быстро получит столь благоприятный ответ. Поскольку Фуми написала по моему наущению, она попросила меня прочесть ответное письмо.
Пришлось это сделать. Вот оно, размашисто написанное кистью письмо:
Прочитал письмо от неведомой мне женщины по имени Фуми Суда, поскольку пришло оно заказной почтой. Раз прочел. Ничего не понимаю. Второй раз прочел, третий, и тут до меня постепенно начало доходить, что это письмо от Фуми Судзумото. Я-то уже отмечал десятую годовщину, как Фуми Судзумото, отвернувшись от Бога и от родителей, скончалась в несчастье, чтобы возродиться, но поскольку в этом письме приводятся милостивые слова живосущей Родительницы, меня вдруг осенило, что это моя непочтительная Фуми переродилась… Слезы хлынули из глаз, так что я не мог продолжать чтение.
Все приверженцы Тэнри твердо верят в то, что на столетний юбилей живосущая Родительница явилась, чтобы спасти мир. После столетнего юбилея прошло три года. И в то время, как верившие в явление Родительницы полагали, что так оно и есть в принципе, из письма я узнаю, что живосущая Родительница не только в принципе, но и в действительности творит дела спасения. Как тут не разрыдаться от счастья! Ведь та самая Фуми, сердце которой закоснело в неверии, благодаря ласковым словам госпожи Родительницы переродилась…
Фуми! Возблагодарим судьбу за то, что тебе дарован такой прекрасный супруг, как профессор Суда, что ты живешь в счастье и благополучии. Как говорит госпожа Родительница, все это благодаря любви Божьей. Будь мужу преданной женой! Ты меня утешила. Могу ли я не радоваться, что ты поверила в Бога-Родителя и посвятила жизнь вере!
Я ни на минуту не расстаюсь с письмом переродившейся Фуми. Оно доказательство того, что Родительница действительно живет и трудится на наше благо, такое от него исходит благоухание.
Жду не дождусь дня, когда по предопределению Божьему смогу увидеть богоподобного профессора Суду, любезного внука и, конечно, мою переродившуюся Фуми.
— Прекрасное письмо! Твой отец действительно рад. Как хорошо… Хотелось бы прочитать, что ты написала отцу. Если у тебя есть копия, покажи.
— Никакой копии нет. Я ведь не писала ничего особенного. Только обращенные ко мне слова госпожи Родительницы и то, как я счастлива, то, как я живу и что все это по милосердию Бога-Родителя и благодаря тому, что отец свою жизнь посвятил Богу. Вот и все, что я написала.
— Ты сказала, что по своей инициативе восстановила связь, не по твоей вине прерванную, но, как видишь, связь вовсе и не прерывалась.
— Читая письмо отца, я вновь подумала, как же мне повезло с мужем! Не приди он в то время мне на помощь, я бы наверняка умерла с горя. Чем дольше я с ним живу, тем лучше понимаю гармонию и красоту наших отношений, а потому постоянно счастлива… Последнее время он сблизился с мужем Хидэко, они подружились, стали как братья, теперь и «вечера очищения» вместе организуют… И все, работающие на кафедре мужа, видят в Накамуре своего коллегу.
— Это замечательно.
— Давеча случилась интересная вещь. Дело в том, что не так давно в журнале немецкого научного общества опубликовали статью мужа в моем переводе на немецкий, получившую высокую оценку, и вот пришло письмо о том, что будущей весной во Фрайбургском университете в Западной Германии открывается европейский научный конгресс по патологии, и они хотят, чтобы он прочел доклад на тему своей статьи и ответил на вопросы… Муж ничего не слышал о Фрайбургском университете, поэтому позвонил Накамуре, но того не было дома. Однако на следующее утро Накамура пришел с утра пораньше, до того, как муж ушел на работу, принес карту и справочники и рассказал все, что ему известно об этом университете. Покончив с делами, Накамура между прочим, говоря о вас, назвал вас своим духовным отцом. Муж был изумлен: «Что? Ты тоже его духовный сын? И я тоже… Не знал, не знал! Вот оно как… Значит, мы с тобой братья!» На что Накамура рассмеялся: «Так вот почему у нас так много общего! Только, чур, я старший брат!» Тогда муж: «Кто из нас старший, надобно спросить у сэнсэя, думаю, он скажет, что мы с тобой — близнецы!» Вот так они подшучивали друг над другом… Но, глядя на них со стороны, я остро почувствовала, что все мы так счастливы благодаря вам. Спасибо!
— Не стоит меня благодарить. Ведь все люди — дети Великой Природы. Осознав этот факт, понемногу исправляя сердце, каждый по ее милости может стать счастливым. И у тебя, и у Хидэко, и у меня в доме царит счастье. Поэтому все мы, наверно, любимцы Великой Природы. Но не мы одни. С прошлого года Сила Великой Природы приступила непосредственно к Спасению Мира, поэтому, хоть мы их и не знаем, наверняка повсюду уже живет в счастье множество любимцев Великой Природы. Среди них не бывает раздоров, они умеют жить в мире и радости, в согласии с идеалом Великой Природы, и мы все вместе должны прилагать силы к тому, чтобы таких людей стало как можно больше…
Говоря это, я вдруг вспомнил, что после войны, в июне 1951 года, участвуя в качестве японского делегата на Всемирном конгрессе ПЕН-клубов, открывшимся в швейцарской Лозанне, я провел один день во Фрайбургском университете.
— Вспомнил! Тридцать семь лет назад я участвовал в Международном конгрессе ПЕН-клубов в Лозанне, и на один день заседание перенесли во Фрайбургский университет. Это тихий, красивый город, прекрасный университет.
— Вот как! Вы там были!
— Плохо помню, но мне понравился и тихий университет, и сам город… Когда Суда поедет туда, обязательно поезжай вместе с ним.
— Как замечательно! Муж тоже обрадуется, когда узнает, что вы бывали во Фрайбургском университете.
С этими словами Фуми убрала письмо в сумку и, поднявшись, сказала:
— Вот еще что. Два ваших сына обсуждают: когда у отца появится свободное время, не выбраться ли куда-нибудь всем вместе… А когда вы закончите рукопись четвертой части?
— Я должен сдать ее в издательство в конце февраля будущего года.
— Получается март… Думаю, сыновья будут ждать с нетерпением.
Улыбнувшись на прощание, Суда ушла, а я провожал ее до ворот, думая, какая же великая вещь — счастье!
Глава двенадцатая
На исходе 1988 года и в начале следующего, 1989 года одно за другим произошли события, равных которым мне не доводилось переживать за всю мою долгую жизнь. Я был в полном замешательстве.
Чуть раньше жившая под моим присмотром внучка заявила, что приближающиеся новогодние каникулы она хочет провести с родителями в столице Судана, где работает ее отец, и поедет туда одна.
То, что пятнадцатилетняя девочка, ученица Американской школы, собралась ехать одна в малоразвитую африканскую страну, вполне объяснимо тем, что она впервые жила без родителей. Но для этого надо было пройти сложную бюрократическую процедуру, а ни я, ни моя дочь ничем не могли ей помочь и пребывали в замешательстве.
— Да ладно вам, я все устрою сама! — сказала девочка беспечно, но и в самом деле, не прибегая к посторонней помощи, сама позвонила в МИД, во время школьных переменок несколько раз съездила в министерство и получила загранпаспорт.
Чтобы добраться до Хартума, столицы Судана, надо лететь до Парижа и там пересесть на самолет «Эр Франс», следующий в Судан через Египет, другого пути нет. И вот как-то вечером внучка сообщила мне, что, изучив расписание, она выяснила: чтобы попасть на самый удобный рейс, ей придется провести ночь в Париже.
— Что ж, хорошо, — сказала моя дочь. — Остановишься у Хисако, она тебя встретит в аэропорту…
— Мне было бы проще переночевать в гостинице.
— Позвони маме и посоветуйся с ней. Мама наверняка скажет, чтобы ты обратилась к Хисако, да и Хисако будет рада.
Хисако, чтобы было понятно, — старшая дочь моей старшей дочери. Она окончила Парижскую музыкальную школу, вышла замуж в Париже, преподает игру на скрипке и ведет концертную деятельность. Моя внучка вместе со своей матерью уже как-то раз встречалась с ней в Париже.
В тот же вечер внучка позвонила матери. «Я не смогу встретить тебя в Париже, позвони Хисако», — таков был ответ. Внучка сразу же перезвонила в Париж и договорилась с Хисако.
Наблюдая со стороны за действиями пятнадцатилетней девочки, я втайне радовался. Собирая вещи перед отлетом, она ни к кому не обратилась за помощью, сама достала и набила громадный чемодан, в день отлета рано утром закончила сборы, сама обратилась в международный отдел Министерства иностранных дел, сама вызвала машину, чтобы доехать до Хакодзаки… Я волновался, что никто ее не провожает до аэропорта, и, чтобы меня успокоить, она сказала, смеясь:
— Доехать до Хакодзаки — все равно что уже сесть в самолет. Поэтому, дедушка, не переживай!.. Я воспитана в американском духе — самостоятельной, все будет хорошо!
Когда приехала машина, она сама отнесла свой громадный, неподъемный чемодан и, крикнув: «Пока-пока!», укатила.
Немного обеспокоенный, я сел за стол, но работа не спорилась. В час, как обычно, мы сели обедать, и домработница вздохнула: «Где-то сейчас ваша внучка летит…» Прошло полчаса, мы еще сидели за столом, когда позвонила внучка:
— Вылет самолета запаздывает, но скоро уже полетим. Случайно оказалось, что этим же рейсом летит моя подруга, одноклассница, у нее родители в Лондоне. За болтовней не успеем заметить, как окажемся в Париже, так что, дед, не волнуйся!
И впрямь волноваться было не о чем, и все же я никак не мог успокоиться. В свое время она сама решила, что будет смотреть телевизор только раз в день, полчаса после ужина, то были сплошь идиотские мультяшки, и поначалу я подумал, что пятнадцатилетняя девочка стала жертвой их примитивных жизненных установок, но когда дошло до дела, она, сославшись на присущий ей американский дух самостоятельности, повела себя великолепно, как какая-нибудь юная леди. Наступила новая эпоха, мне остается только наблюдать со стороны, подумал я и решил выкинуть все из головы.
На четвертый день вечером раздался звонок.
— Дед, благополучно прилетела. Папа и мама здоровы. Думала, будет жарища, но здесь прохладно, как летом в Каруидзаве. Передаю трубку маме…
Вот и весь разговор.
У дочери в консерватории также начались зимние каникулы. Наконец-то мы могли вдвоем, отец и дочь, встретить окончание года в тихой и спокойной обстановке. Вот уже четыре года я, к стыду своему, не рассылал никому новогодних поздравлений. Кое-кто уже считал меня умершим. Я решил, что на этот раз обязательно пошлю новогодние открытки. Но в это время был болен император, по радио и в газетах с утра до вечера передавали подробные сводки об ухудшении его состояния, согласно им положение было критическим, император мог скончаться в любую минуту. Если несчастье случится накануне Нового года, не покажутся ли неуместными мои новогодние поздравления? Поэтому я заготовил около трехсот открыток, избегая в тексте слов «поздравляю», «радуюсь» и т. п.
Вспоминая одного за другим дорогих мне людей, я надписал адреса к тремстам открыткам, но оставалось еще несколько десятков адресатов.
Дочь предложила вместо меня надписать открытки с уже напечатанным текстом, но я решил, что с меня хватит, пусть кому-то это и покажется невежливым, и вздохнул с облегчением. Это было тридцатого декабря, во второй половине дня. И вдруг в этот момент Небесный сёгун приказал мне:
— Срочно вышли Кэндзабуро Оэ «Замысел Бога»!
— Что, сейчас? Когда уже отпечатан седьмой тираж? Два года назад, когда вышла «Улыбка Бога», я, как обычно, собирался послать книгу Оэ, но передумал, решив, что с моей стороны было бы нехорошо принуждать его читать книгу о Боге. И вот теперь посылать третью часть… Как-то глупо… Даже неприлично…
— Что ты там бормочешь! Повеление Бога! Твое дело — выполнять его. Живей!
Как быть? Я выложил на стол экземпляр «Замысла Бога», присланный из издательства три дня назад.
— Надпиши и сразу пошли по почте! И приложи трехстишие:
Новый год!..
Дотянул худо-бедно
До девяноста трех.
Понял?
— Что ты такое говоришь! Ну что это за трехстишие!.. Ерунда какая-то… ты издеваешься надо мной!
— Уши заложило, не слышишь, что тебе говорят?
— Новый год!..
Дотянул худо-бедно
До девяноста трех.
По форме это, разумеется, трехстишие, но уж больно никудышное. Лучше объясни, почему Бог велит мне в такое время, когда и без того хлопот не оберешься, срочно посылать Оэ «Замысел Бога»?.. Новый год на носу, Оэ наверняка сильно занят, еще подумает, что я хочу обратить его в какую-то веру, обидится… Ведь Бог — это не что иное, как Великая Природа, а ей нет дела до каких-то там религий. Такой мудрый человек, как Оэ, наверняка способен своим умом дойти до того, что требует от нас Великая Природа…
— Ладно, объясняю… Господь Бог верит в него и охраняет, как никого другого из молодых японских писателей. Твой друг Жак из Истинного мира также старается оказать ему поддержку. Видишь ли, его посреди дороги постигла беда. Обычный человек, случись с ним такое несчастье, проклял бы свою участь и всю жизнь провел в страданиях, а он сумел принять выпавшее на его долю несчастье как свой удел, ободрил жену и отчаянным усилием воли обратил свою несчастную судьбу в счастливую. Это напряженное усилие оказало благотворное влияние на его творчество и воодушевляет читателей. Бог-Родитель всегда сочувствовал и споспешествовал его подвигу. Утешение, ободрение, во всем этом проявляется родительское милосердие Великой Природы. Понял? Так что выполняй веление Бога. И побыстрей!
Я раскрыл книгу, собрался надписать на титульном листе посвящение, но сразу не смог. Дело в том, что почти шестьдесят лет я возделывал свои рукописи с помощью толстой перьевой ручки «Монблан», из-за чего верхний сустав на указательном пальце моей правой руки искривился вправо, я потерял возможность пользоваться любимой ручкой и уже два года как перешел на обычную шариковую ручку, но из-за того, что все эти шариковые ручки слишком тонкие, я постоянно испытываю затруднение при написании иероглифов. И вот, решив, что будет невежливо надписывать книгу в подарок шариковой ручкой, я отыскал в ящике стола свой старенький «Монблан», но он был не заряжен чернилами. Я вспомнил, что для этой ручки требуются особенные чернила, порылся в других ящиках, там обнаружился красивый пузырек, наверно подаренный мне по какому-то поводу, но чернила высохли, и набрать ничего не удалось. Два года назад я хотел купить новые чернила в ближайшем магазине канцелярских товаров, но мне там сказали, что этот импортный товар они больше не заказывают, и мне волей-неволей пришлось перейти на шариковую ручку. Другого выхода не было, как надписывать книгу шариковой ручкой, но как я ни давил на нее, линии выходили бледные. Сгодится ли? — засомневался я.
— Чего медлишь. Поторапливайся! — продолжал понукать меня Небесный сёгун.
В конце концов, я вывел на титуле:
Уважаемому Кэндзабуро Оэ,
Новый год!..
Дотянул худо-бедно
До девяноста трех…
Кодзиро Сэридзава.
Ручка писала так бледно, что я втайне надеялся — пока книга дойдет до Оэ, надпись сотрется…
Я попросил дочь побыстрее отправить книгу бандеролью, но ближайшее почтовое отделение было уже закрыто, поэтому пришлось отложить на завтра.
Тридцать первое декабря мы с дочерью провели совершенно беззаботно. Я знаю, что предновогодние хлопоты всегда плохо сказываются на здоровье и лучше не менять издавна установившегося жизненного уклада. Двадцать девятого, как и каждый год, мои читатели-земляки любезно прислали мне новогодние лепешки. В первый день нового года на обед я решил съесть мое любимое новогоднее блюдо — бульон с овощами и клецками. На ужин, как и в прошлом году, госпожа Родительница приготовила новогоднюю собу
[9] и, пожелав мне счастливого Нового года, удалилась.
Первый день нового года для нас обоих был самым обыкновенным днем. Господин Г., который каждый год заходил в одиннадцать, возвращаясь с празднования Нового года у его высочества наследного принца, в начале декабря слег в больницу и был в плохом состоянии. Наши юные друзья супруги А., всегда приходившие к нам вечером с новогодними поздравлениями и проводившие с нами несколько часов за неторопливой веселой беседой, прислали поздравительную открытку, извинившись, что не смогут зайти из-за траура в семье. Поэтому я, пролистав утренние газеты, поднялся в свой кабинет и, по велению Великой Природы, начал корпеть над рукописью.
Но вечером неожиданно вместе с пачкой новогодних открыток принесли письмо и посылку от Оэ.
Не думая, что это могло быть благодарственное письмо за посланную накануне книгу, я решил, что у него какое-то дело ко мне, и поспешил открыть. От удивления у меня сперло дыхание. Я был растроган до слез. За всю мою долгую писательскую жизнь из писем, адресованных мне японскими писателями, так же сильно меня растрогало только одно — пришедшее несколько лет назад письмо Синъитиро Накамуры. Письмо Оэ было коротким, уместившись на одной странице.
Обычно я не привожу в своих произведениях адресованных мне писем, но по долгом размышлении я решил, поскольку этот, четвертый том, написанный по наущению Великой Природы, должно считать не столько моим произведением, сколько произведением Великой Природы, привести это драгоценное письмо все целиком. Надеюсь, Оэ не будет на меня в обиде.
1 января 1989
Уважаемый Кодзиро Сэридзава!
Спасибо за «Замысел Бога». То, что Ваше выдающееся, своеобразное, но при этом не претендующее на внешний эффект произведение было хорошо принято вдумчивыми читателями, удивило меня, обрадовало, ободрило.
Я читаю Ваше продолжающееся сочинение по мере выхода новых томов. Я тоже в последние десять лет, в связи с Блейком и Данте, исподволь склоняюсь к мистицизму. Я говорю «исподволь», потому что хотел бы постигать трансцендентное, оставаясь верным реализму, обусловленному миром действительности.
В Ваших книгах реальность свободно сообщается с тем, что ее превосходит, и это более всего меня в них привлекает. Меня всегда пленяло в Вашем творчестве то, как Вы черпаете внутри себя и вовне знание мельчайших подробностей индивидуальной человеческой жизни.
В прошлом году, после кончины Сёхэя Ооки, единственное, что могло разогнать гнетущую меня тоску и подать мне хоть какую-то надежду, — это мысль о том, что ныне здравствуют мои старшие современники — Сэридзава и Ибусэ. Вероятно, мое настроение передалось Вам, раз вы прислали мне «Замысел Бога», во всяком случае, я воспринял это как приятное и естественное событие.
Еще раз примите мою благодарность. Желаю Вам здоровья,
Кэндзабуро Оэ.
Это короткое письмо так сильно взволновало меня прежде всего потому, что оно пришло невероятно быстро. Бандероль, которую я отправил тридцать первого, в самый последний день года, пусть и скоростной почтой, по словам почтовых служащих, должна была прибыть по назначению первого числа, поэтому даже если допустить, что она была доставлена тридцать первого, это могло произойти только поздно ночью. Между тем письмо помечено сегодняшним, первым числом, и пришло оно в два часа дня, поэтому можно предположить, что Оэ написал и отослал его рано утром.
Этот факт еще раз дал мне остро почувствовать искренность, любовь, прямоту, великодушие Оэ. Каким сердцем одарила его Великая Природа! И благодаря ему я с раскаянием осознал, насколько я, напротив, вял и ленив в своих сердечных побуждениях.
Кроме того, я не мог не испытывать признательности за то, что, хотя я и не стал посылать ему трилогию, он прочел ее по собственному побуждению.
Когда, перевалив за девяносто, я написал и опубликовал трилогию, я был убежден, что тем самым начинаю свою вторую литературную жизнь. Даже если кто-то отнесется к моей трилогии пренебрежительно, как к произведению выжившего из ума старика, я писал ее, поощряемый Великой Природой, питавшей меня, точно корни в зимнее время. Благодаря ее поддержке я смог за последние три года опубликовать этот объемистый труд, заканчивая в год по книге, и сейчас пишу четвертый том, а ведь даже в самый плодотворный мой период, когда мне было сорок-пятьдесят лет, я на такое был не способен. Невозможно передать, какого тяжкого уединенного труда мне это стоило, мне, перевалившему за девяносто! Вот почему меня так тревожит результат. Ведь я чувствую свою огромную ответственность перед людьми и Всемогущей Природой!
И вот Оэ, которому из всех молодых японских писателей я более всего доверяю, в своем коротком письме говорит о моей трилогии с пониманием и одобрением. Ну как тут не растрогаться?..
Взволнованный, я некоторое время пребывал в рассеянной задумчивости, как вдруг:
— Отлично! Расцени это как еще одно проявление Истинного мира!
Голос Небесного сёгуна заставил меня вздрогнуть, но сам он не показался, и тут мне на глаза попала пришедшая от Оэ большая посылка, которую я все еще не открыл.
Я поспешил развернуть ее. Тонкая, большого формата книга. На обложке, под крупными черными буквами «Мицу Оэ», набрано рыжевато-бурым шрифтом: «Сочинения для фортепьяно». Что же это такое?
Открываю. Издано в 1988 году. Справа шариковой ручкой надписано: «Мицу Оэ». Внизу — именная печать.
Листаю страницы — шестнадцать коротких пьес для фортепьяно. В конце — текст Кэндзабуро Оэ «Музыка как Grace». Прочитав, я еще больше расчувствовался.
«Когда Мицу родился, обнаружилось, что с головой у него непорядок. После операции он впервые стал подлинно жить в нашем мире», затем следовало подробное объяснение, каким образом старший сын писателя, несчастный настолько, что это невозможно выразить словами, обрел в музыке уникальный способ самовыражения. Написав отдельно о каждой пьесе, Оэ добавляет: «Я — человек нерелигиозный, но не могу не признать, что нахожу в музыке благодать. Понимая слово „grace“ как изящество, как красоту, как благодарственную молитву, я вслушиваюсь в музыку Мицу и слышу в ней то, что возвысилось над его отошедшим на задний план феноменальным „я“».
Я читал, мысленно соглашаясь: «Именно так, именно так!», и, когда закончил, долго не мог успокоиться, мне все хотелось взять Оэ за руки, выразить ему свою радость, свою благодарность, свое сочувствие.
Схватив сборник, я поспешил в ателье моей дочери, сел за рояль и решил для начала сыграть первую пьесу: «Окончание занятий». Впервые за двадцать лет я прикоснулся к клавишам, но пальцы мои давно потеряли гибкость и не хотели повиноваться, в особенности же из-за простоты мелодии музыка мне никак не давалась. Зашедшая в ателье дочь, не вытерпев, заняла мое место и начала играть с первой пьесы. Закончив играть третью пьесу «Аве Мария», она сказала:
— Чудесная музыка! Ясная, трогающая душу… В мае в нашей консерватории состоится концерт учащихся, кто-нибудь наверняка будет петь соло «Аве Мария», и я попрошу кого-нибудь из выступающих исполнить на фортепьяно эту «Аве Мария»… Она сделает чище молодые сердца.
— Не сыграешь ли мне все, чтобы я мог высказать Оэ свое впечатление?
Я прослушал все шестнадцать пьес подряд и впервые за многие годы ощутил, что музыка и впрямь очищает душу.
— В этом году, — сказал я дочери, — Мицу Оэ сделал мне чудеснейший новогодний подарок.
А дочь прошептала про себя:
— Надо бы на майском концерте попросить лучших учеников исполнить хотя бы три пьесы — «Аве Мария», «Лето в Каруидзаве» и «Печаль».
Утром второго января я, как обычно, перед тем как сесть за работу, просматривал газеты, и вдруг в глаза бросилась маленькая заметка на третьей странице. Бывший член палаты советников Итиро Цунэока вечером первого января скоропостижно скончался в гостинице на берегу озера Кавагути в префектуре Яманаси. Похороны состоятся в Великой церкви Тэнри в городе Фукуока седьмого января, распорядитель похорон — старший сын главы церкви.
Я был поражен. Всего только три с половиной месяца назад мы неторопливо беседовали в моей гостиной, и когда я провожал его, прозвучали роковые слова Небесного сёгуна, но чтобы умереть в первый день нового года!.. Некоторое время я молча молился. Вдруг — голос Небесного сёгуна:
— Нынешний год — благодатный, он принесет всем людям покой и благоденствие. Годы препятствий миновали. Именно поэтому сей человек, свершив покаяние, отошел без страданий… И для тебя, малодушного, случившееся — во благо. Теперь ты уже наверняка не будешь растрачивать время, помогая устраивать дела «Горной виллы Тюсин» с видом на Фудзи!.. Хватит бездарно проводить Новый год, делай то, что тебе предписано!
Излишне говорить, что я немедленно поднялся в кабинет.
И действительно, забыв про Новый год, я весь день просидел в кабинете, работая над этой книгой. Мой юный друг Сакида, который каждый год вместе с женой и дочерью заходил вечером с новогодними поздравлениями и засиживался у меня на несколько часов, повторяя шутливо, что теперь, когда он получил на весь предстоящий год заряд душевной бодрости, он может спокойно идти домой, прошлой весной погиб в автомобильной аварии. У моих молодых друзей — супружеской пары Таяма, — неизменно навещавших меня третьего января, был траур, так что мне не пришлось прерывать работу и спускаться в гостиную.
Мне было известно, что дочь Сакиды — Н., три года назад окончившая консерваторию, установив у себя дома рояль, открыла частную школу и очень в этом преуспела; накануне Нового года от нее пришло длинное письмо о том, как она, потрясенная смертью отца, долго пребывала в неутешной скорби, но затем крестилась в католическую веру и обрела наконец мужество и радость жить, и тем не менее я не смог написать ободряющего ответа, более того, глядя в окно на голубое небо, не удосужился пожелать ей благополучия в новом году, настолько я был поглощен своим трудом…
Это произошло утром четвертого января.
Старшая дочь с мужем, уезжавшая на Новый год в путешествие, сразу по возвращении пришла ко мне с поздравлениями и подарками. Был десятый час, и почти одновременно с ней появилась госпожа Родительница. И я, и обе мои дочери всполошились.
За последние три года госпожа Родительница посещала мой дом около двухсот раз, но обычно это случалось часа в три пополудни и позже. Мы встревожились, почему она пришла на сей раз так рано, утром, в девять часов, когда все мы завтракали. Уж не произошло ли чего дурного?
Госпожа Родительница, как обычно, переоделась в соседней комнатке в алую одежду и сразу заговорила.
Голос ее был более чем обычно оживленным, она говорила почти двадцать минут и ушла в веселом настроении.
Нам, всем троим, госпожа Родительница преподнесла новогодние подарки: мне — дар пера и силу, старшей дочери — материнскую любовь, младшей — искренность — и с каждым поговорила лично; дочери повеселели, а у меня возникло чувство тревоги, и я никак не мог успокоиться. Поэтому я сразу же прослушал еще раз запись разговора на пленке, но, так и не успокоившись, попросил дочь перепечатать записанное на машинке и ушел в свой кабинет.
В час, когда я спустился в столовую, разговор был уже перепечатан. Я просмотрел его за обедом.
«Бог-Родитель торопит меня передать тебе от Него срочное послание: Господь Бог спешит уравнять мир, сделать каждого человека независимым и счастливым».
Были там и такие слова:
«Нынешний год — год змеи — „ми“. „Ми“ по-японски может значить „плоть“, но и „плод“. Кроме того, „ми“ называют то, как змея сбрасывает старую кожу и вновь является на свет, переродившись. В этом году люди смоют с себя старую грязь и принесут новые плоды».
Собственно, в этих словах не было ничего угрожающего, но моя тревога не унималась. Я вернулся в кабинет, сел за стол, и тут послышался необычно ласковый голос Небесного сёгуна:
— В твоей тревоге — весь ты… Бог-Родитель желает как можно быстрее уравнять мир, сделать всех людей независимыми и равными, а учитывая, что Японией правят прогнившие люди, возможно, потребуется революция. Но не волнуйся! Праведного Бог хранит. А теперь возвращайся к своим обязанностям!
Утро седьмого января. Проснувшись, включил радио у изголовья, и, как только пробило шесть часов, передали сообщение о кончине императора. Вот уже несколько дней в утренних и вечерних выпусках новостей сообщалось, что император в бессознательном состоянии и ему поддерживают жизнь переливанием крови, поэтому я, лежа в постели, молитвенно сложил ладони, благодаря за то, что его величество так покойно был воспринят в отеческое лоно Всемогущей Природы.
Но тут на меня нахлынули воспоминания, я стал вспоминать, как в детстве не раз встречал его, имевшего тогда статус старшего внука императора, как тихо и незаметно он проводил дни в своей резиденции неподалеку от нашей деревни и как в прошлом году, впервые после того, как я стал членом Академии художеств, получив официальное приглашение, благодаря особому расположению обер-камергера двора Ириэ за чаем мог лицезреть его… Как-то за обедом, когда нам случилось сидеть рядом, он вдруг изволил признаться, точно по секрету, что любит бататы, и заговорил о том, как вкусны жареные бататы, и как, услышав, что у него нет возможности есть их прямо из жаровни, я в душе пожалел его… Пока я предавался воспоминаниям, пришло время вставать.
И вот в этот день, не успели мы окончить завтрак, как вновь появилась госпожа Родительница. Мы были одни, я и дочь, и все равно ее приход застал нас врасплох. Но Родительница, успокоив нас, облеклась в алую одежду и там же, в маленькой комнатке, начала говорить:
— Да, да, сделать правильной землю! Сделать правильной землю! Да, да, сделать правильной землю, тогда откроется путь обретения правды. Да, да, небось в толк не возьмешь, что значит — сделать правильной? Объясню, чтоб ты понял. Землю сделать правильной — землю уравнять. Прокладывая новый путь, с новым сердцем уравнять землю. Я и раньше тебе говорила: разорвется старый плод, народится новый. Да, да, в этом году, разорвав старый плод, родится новый. Да, отныне буду равнять. Да будет правда равной. Проложу путь, делающий всех равными. Да, отныне путь, делающий всех равными, — это путь, проложенный Богом.
Так она начала, и я был потрясен ее словами, будто меня с утра пораньше огрели обухом по голове.
Не знаю, как долго она говорила, приводя конкретные примеры созидаемого Богом, и наконец, упомянув о правде, дарованной мне Богом, сказала:
— Да, должно уравнять мир. Это великое дело! За один нынешний год этого не совершить. В будущем году — правда и искренность, то же и в следующий год, и так, год за годом, шаг за шагом, будет проложен широкий путь. Пройдет три года, настанет Хэйсэй — год мира и благоденствия
[10], начало эпохи мира и благоденствия, то-то будет нам радость! Прошу тебя, хорошенько все это обдумай! А сейчас — спасибо за труд!
С этими словами она удалилась.
Я тотчас поднялся в кабинет, рухнул в кресло и глубоко вздохнул.
Ибо я понял, что нынче утром наконец-то разъяснилось, почему после речей госпожи Родительницы четвертого января я испытал смутное беспокойство.
Она ни разу не упомянула о кончине его величества, но, видимо, я воспринял ее слова так, что именно это событие открывает занавес перед преобразованием мира и что революция, освященная Богом, уже при дверях. Это великое деяние Бога, оно не может быть исполнено за один год, но через три года на радость всем настанет эпоха мира и благоденствия, но что это значит — эпоха мира и благоденствия?.. Откинувшись на спинку кресла, я погрузился в глубокие раздумья и никак не мог взяться за работу.
В этот момент ко мне ласково обратился Небесный сёгун:
— На родине твоего сердца, в стране Запада, в этом году празднуют двухсотлетний юбилей революции и с первых дней нового года народ этой страны ликует, воспрянув духом. В Японии же верхи погрязли в корысти и эгоизме, деньги застят им взор, они пренебрегают низами, будучи уверены, что могут обмануть всех, изрекая красивые слова. Все точно так, как было в той западной стране накануне революции. Бог Всемогущей Природы, любящий своих чад, больше не в силах терпеть… Он хочет, чтобы низы жили в счастье, воплотив великие принципы свободы, равенства и братства, завоеванные всеми гражданами западной страны благодаря Великой революции, свергнувшей прогнившие верхи. В той западной стране, чтобы осуществить цели революции, понадобились многотрудные месяцы и годы. Но все в руке Божьей. Не беспокойся! Усердно потрудившись, ты хорошо справился со своей задачей. Теперь можешь на несколько дней расслабиться. Смотри телевизор, отдыхай!
«Отдыхай» — слово, которое мне не доводилось слышать в последние четыре года. Я испытывал благодарность.
Но даже если бы я сел за письменный стол, вряд ли бы смог что-то сделать. В течение ближайших трех-четырех дней в Японии как будто замерла вся жизнь, газеты, радио, телевидение заполнили сообщения о событиях, связанных с кончиной императора, различные мнения, воспоминания по поводу эпохи Сёва, а весь остальной мир как будто погрузился в сон.
Я у себя на втором этаже только смотрел на небо, созерцал, как поднимается и опускается солнце, как плывут облака, слушал радио, смотрел телевизор да выискивал, что бы такое почитать в журналах, сваленных в углу кабинета.
В тот день в четыре часа по телевизору высокопоставленный правительственный чиновник объявил, что эпоха Сёва окончилась и принято решение назвать новую эпоху эпохой мира и благоденствия, и он продемонстрировал листок, на котором великолепными иероглифами было выведено: «Хэйсэй».
— Что? Хэйсэй — мир и благоденствие? — невольно воскликнул я, уставившись на листок бумаги. И тут вспомнил о том, что рано утром мне вещала госпожа Родительница об эпохе мира и благоденствия. Удивлению моему не было границ.
Утром девятого января зашел редкий гость — молодой Ямагава. Я бездельничал и отдыхал, поэтому в хорошем настроении сразу же спустился к нему в гостиную. Он с какой-то даже гордостью объявил, что участвовал в похоронах Итиро Цунэоки, и красочно расписал, каким пышным было погребение.
— Господин Цунэока почитал его величество императора, — сказал он, — поэтому скончался скоропостижно, чтобы стать его вожатым в смерти.
Я промолчал, но вдруг Сёгун, сидящий у меня в животе, заговорил моими устами:
— В смерти не нужен вожатый. В то мгновение, когда человек умирает, его принимает лоно Всемогущей Природы, будь он император или нищий…
— Что вы такое говорите? Император и нищий одинаково приемлются в лоно Великой Природы? Но это немыслимо! Император — живой Бог!
— Существует только один Бог, и это Сила Великой Природы. Если император — Бог, то и ты и я — Бог… Видишь ли, и император, и ты, и я, как и все люди, в равной степени возлюбленные чада Божьи.
— И с такими мыслями вы прожили жизнь?
— Да. Ничего удивительного. Ибо это — истина. Когда-то военные захватили власть и стали вдалбливать народу, что император — живой Бог… И это достойно сожаления. Потерпев поражение в войне, военные утратили власть, и его величество сам объявил, что он — человек. Так что как ни крути, а император — человек.
— Если император не Бог, если он — человек, тогда Япония погибла! Это немыслимо! — Судя по тому, как исказилось его лицо, Ямагава был в ярости.
— Когда ты, я и весь народ, каждый из нас, все мы, подобно императору, победим личные амбиции, устремим все силы на самосовершенствование и самоутверждение, если все мы будем признавать в другом личность, уважать друг друга, любить, — именно тогда в Японии наступят покой и благоденствие. Когда ты называешь императора Богом, ты, наверно, хочешь сказать, что он стоит выше своих личных интересов? Ведь любого замечательного человека принято сравнивать с Богом. Поэтому, если уж ты так привязан к Богу, ты должен прежде всего постараться стать таким человеком, каким был император.
— Мне пора.
С этими словами Ямагава удалился. Удивленный, я не мог понять, в чем дело, но тут Небесный сёгун обратился ко мне, смеясь:
— Ты сказал вполне достаточно, чтобы у него открылись глаза. Не бери себе в голову.
Вслед за этим потянулись хмурые облачные дни. Освобожденный от работы, я глядел на покрытое тучами небо и вдруг ощутил, что между проглядывающим в просветы солнцем и внутренней моей силой идет бессловесный диалог и — удивительный феномен — благодаря этому диалогу двигаются облака, меняется свет солнца, впрочем, я не придал этому особого значения, только порой сам, обратившись к солнцу, взывал без слов, и оно появлялось, раздвинув тучи… Заигрывая с небом, я не замечал, как проходит время.
— Ну что ж, пора приниматься за работу, — ласково обратился ко мне Небесный сёгун. — Если не закончишь рукопись к середине февраля и не сдашь ее в издательство, книга не успеет выйти в июле.
Я спохватился — в самом деле пора. Это было тринадцатого января в два часа, я только кончил обедать.
Я встал из-за стола, собираясь подняться в кабинет, как вдруг увидел в окно Хидэко Накамуру, входящую в ворота.
Я открыл дверь, впустил ее и провел в гостиную. Настроившись на работу, я без всяких околичностей спросил у сияющей счастьем Хидэко о цели ее визита.
— Я, кажется, как-то говорила вам о своей работе, посвященной стилю Анатоля
Франса. Так вот, ее опубликовали во французском научном журнале и вчера мне его прислали. Я принесла, знала, что вы будете рады! — Она выложила на стол журнал. — Я перечитала, и даже не верится, что это написано мною, впрочем, понятно, что все это благодаря мужу… Кроме того, в конце журнала напечатаны сопроводительные статьи двух ученых… Удивительно! Оба меня хвалят…
Она подробно пересказала мне эти статьи, такие восторженные, что ее радость передалась и мне. В одной из них выражалось желание, чтобы она непременно написала работу о стиле Андре Жида.
— Красота стиля Анатоля Франса, — сказал я, — понятна даже мне, невежде, а вот что касается Андре Жида…
— Фразы Анатоля Франса ритмичны, а своеобразие Жида в том, что каждая фраза у него обособлена и подчинена внутренней логике… Поскольку муж обещал помочь, я решила попробовать.
— Ну раз Накамура согласен тебе помогать, надо взяться за это.
— Одновременно пришло письмо, из которого следует, что мою работу о Франсе в этом году хотело бы опубликовать известное издательство И., в специальной серии. Муж говорит, что это самый ценный новогодний подарок… Мы шутили сегодня утром, что я должна непременно поделиться им с мужем и с вами.
— Спасибо, спасибо. — Я тоже рассмеялся, но тотчас добавил: — Прежде чем приступать к работе о стиле Андре Жида, было бы хорошо, если б ты закончила записи о своих мучительных раздумьях, благодаря которым пришла к убеждению, что мировая религия — едина, — то, о чем мы говорили с тобой в прошлый раз.
— Да, я обязательно напишу об этом. Ведь эти мысли обращены к сотням миллионов верующих католиков во всем мире… Но муж мой сказал, что поскольку это произведение будет написано безвестным автором, никто не обратит на него внимания. А благодаря книге о стиле Анатоля Франса многие заинтересуются, мол, а, это та, что написала об Анатоле Франсе!
— Тогда я спокоен. Спасибо за поистине ценный новогодний подарок. В качестве ответного дара можно задать вопрос?
— О чем же?
— Видишь ли… Я хорошо знаю, что ты счастлива, но все это связано с твоей работой. А как женщина, как мать… Я совсем не знаю, насколько ты счастлива в своей обыденной жизни.
— Ну и вопрос! Я ведь все-таки женщина, так что помимо работы конечно же уделяю и время и мысли семейным и домашним делам, но это мне в радость… Ребенок, к примеру. Он хорошо воспитан, просто сокровище. Если начну о нем говорить, получится, что бахвалюсь, поэтому я обходила эту тему молчанием… И мама говорит, что она счастлива… Так что, пожалуйста, успокойтесь. Как женщина, как мать я тоже счастлива.
— А в семье у старшей сестры все в порядке?
— Они все прекрасные люди… С осени прошлого года в нашей ежемесячной домашней «очистительной» вечеринке стал участвовать мой старший брат, а потом и остальные присоединились к общему веселью, так что не волнуйтесь.
— Это хорошо. Цени свое счастье!.. Это и есть мой новогодний подарок! — засмеялся я.
— Вы заканчиваете свою нынешнюю работу в феврале, и тогда у вас наверняка появится много свободного времени, да? Мой муж ждет не дождется…
— Договорились. В марте непременно освобожусь от рукописи и с удовольствием встречусь с моим духовным сыном.
Хидэко поднялась и собралась было уходить, но, слегка поколебавшись, сказала:
— Знаете, я хочу в этом году хоть разок устроить супружескую ссору, поэтому… расскажу вам, пожалуй, то, что муж строжайше запретил вам говорить.
Она улыбнулась, увидев, что я невольно привстал.
— Что еще такое?
— Французский перевод «Умереть в Париже» вышел в Париже в 1953 году. Так? Года через два появился французский перевод «Потомка самурая», вы получили от Французской академии орден дружбы, были выдвинуты Шведской академией на Нобелевскую премию. Правильно? После этого выходили и другие французские переводы ваших книг, и не только во Франции, но и в Бельгии и в Швейцарии, по вашим словам, у вас было много читателей. Когда муж учился во Франции, все ваши книги были уже распроданы, невозможно было купить ни в одном магазине, но, как рассказывал муж, многие читатели, узнав, что он японец, спрашивали его о вас и при этом были уверены, что вас уже нет в живых.
— Это вполне естественно. В Париже я давно покойник.
— В связи с этим вот что сказал муж… Писатель, которому перевалило за девяносто и который пишет великолепные книги, нисколько не устарел, более того, он на протяжение трех лет публикует замечательную трилогию, и если бы об этом стало известно, это произвело бы сенсацию во всем мире, осуществились бы надежды многих людей… Поэтому он подумывает о том, как бы издать вашу трилогию во Франции. Наметил это себе одним из дел на предстоящий год… А признался мне в этом на Новый год.
— Ты что-то сказала… Извини, я не расслышал.
— Перестаньте! Я вам сказала, зная, что это может привести к семейной ссоре!.. Неужели нельзя никак без нее обойтись? Пожалуйста, сядьте. Я повторю еще раз…
— В моем возрасте я стал туг на ухо, слышу только то, что мне по нраву.
С этими словами я пошел проводить Хидэко. Она на удивление долго задержалась взглядом на ветвях старой алой сливы. Может, ее удивило, что, несмотря на теплую зиму, слива еще не цветет?
Я сразу поднялся в кабинет на втором этаже и сел к столу. На столе меня ждала раскрытая рукопись. Рядом — тонкая шариковая ручка. Если подумать, вот уже пятьдесят лет я, сидя за столом, общаюсь с листами бумаги. Долгий срок! Всевозможные исторические события эпохи Сёва, происходившие за стенами моего дома, события, о которых в последние дни столько трещат журналисты, в большей или меньшей степени окатывали своими волнами и меня. Если бы они захватили меня целиком, я бы не смог сидеть один, склонившись над рукописью. С другой стороны, постоянно быть перед листом бумаги — какое испытываешь одиночество, какие душевные терзания! И так, день за днем, прошло много долгих-долгих лет…
Но что сказать о трудах, рождавшихся в муках на протяжении этих лет? Что, если они всего лишь отходы моей физиологии? Может быть, поэтому, когда я оглядываюсь назад, вся моя жизнь кажется на удивление короткой, как один день?
И впредь я смогу выполнять свою миссию, только склонившись в одиночестве над листом бумаги, а потому по-прежнему будут тянуться мои одинокие, мучительные дни. Эпоха Сёва перешла в эпоху Хэйсэй, а это значит, что, как и прежде, волны всевозможных исторических событий будут нарушать мой покой, но у меня нет другого выхода, кроме как запастись терпением и сидеть в одиночестве над рукописью.
Именно так. Подобно старой сливе у входа, смиренно принимающей благодать Всемогущей Природы, распускающейся цветами и приносящей плоды, я должен довериться Великой Природе и не заботиться о том, какие цветы расцветут, какие плоды созреют на листах моей рукописи…
Вот так, подгоняя себя: «Работай, работай!», держа ненадежную шариковую ручку, я продолжал писать эту книгу.
Наконец, двадцатого февраля в одиннадцать тридцать я закончил писать, отложил ручку, поднялся и, протянув руки в сторону окна, глубоко вздохнул.
В эти дни открылась сессия японского парламента, начались дебаты по национальной политике, но и правительство и депутаты, одержимые проблемой денег, денег, денег, забыли о народе, и, как бы намекая на это, все эти дни стояла пасмурная, ненастная погода… Но в тот день с самого утра на небе не было ни облачка, за окном, точно омытая, сияла лазурь.
И вдруг я подумал — ну конечно, алой сливе время цвести. Я тотчас спустился в сад. Слива у входа, протянув во все стороны молодые побеги, была сплошь покрыта алыми цветами, источающими дивное благоухание.
Я смотрел молча. Прошло минут десять, и слива заговорила:
— Поздравляю с окончанием книги. На протяжении четырех лет вы каждый год завершали книгу в ту пору, когда я начинала цвести. Мне всегда это доставляло радость. Как будто между моей и вашей жизнью существует связь…
— В самом деле? А я и не замечал.
— Перестаньте размышлять над достоинствами и недостатками своей книги, развеселитесь! Я тоже первое время все волновалась — пришел ли кто-нибудь полюбоваться на мои цветы, прилетают ли ко мне петь соловьи… Но в этом году, хотя благодаря теплой зиме я распустилась чудесными цветами, никто не приходит ко мне. Вы — первый. И соловьи не прилетают. Но мне уже все равно. Я поняла, что распустившиеся цветы — это моя благодарность за милосердие Великой Природы. И может быть, Великая Природа изливает на меня солнечные лучи, чтобы выразить мне одобрение и радость? Не то же ли и с вами?
— Да, от этой мысли на душе делается легко и привольно.
— Наверно, о нас обоих можно сказать, что это — обретение старости. Посмотрите на камелию, растущую возле каменного фонаря. Несмотря на свою молодость, бедняжка, из-за того что садовник безжалостно обрезал ей ветви, перестала в последние годы цвести и очень страдала, но в этом году по милости Великой Природы и у нее распустилось немного цветов…
— В самом деле, у этой камелии были великолепные цветы с красивыми крапинками на лепестках.
— Да. Но она решила, что такими крапчатыми цветами не привлечешь взгляд людей, и, поднатужившись, произвела два ярко-красных цветка. Вот что значит молодость! И действительно, как красив этот густой красный цвет!..
— Даже отсюда видно. Удивительно, красные цветы! А ведь раньше она всегда распускалась белыми в красную крапинку.
— Подойдите поближе и посмотрите. Она еще так молода, это порадует ее и придаст уверенности в себе…
Почему бы нет? Я обошел большой валун, лежащий под сливой, и тут же вынужден был остановиться.
В этом месте сад покрыт дерном, но дерн пожух, поэтому я со спокойной душой собирался пройти по нему, как вдруг под ногами заметил маленькое белое пятнышко. Присев, всмотрелся — бледный цветок одуванчика. Невольно задержал дыхание. Никакого стебля, только один бледный цветок, запачканный, прилипший к земле. Посмотрел еще внимательнее — четыре слабых листика отходили в стороны… У меня на глазах невольно навернулись слезы…
— Вы заметили несчастный одуванчик? — прозвучал у меня над головой голос алой сливы. — В сентябре прошлого года садовник убил его, обрызгав сад ядохимикатами, уничтожающими сорную траву, и только-только он возродился, кто-то затоптал его. Хоть он и убогий, но и он, в благодарность за милосердие Великой Природы, изо всех сил пытался расцвести.
Я ничего не сказал на это.
— Дожив до преклонных лет, я каждый год в благодарность за милосердие Великой Природы возношу цветы, чтобы ее порадовать… Чем я заслужила такое счастье? — думаю я всякий раз, глядя на этот одуванчик. Пытаюсь его приободрить, но сама-то, если суждено мне когда-либо пасть, не буду роптать.
Я не отвечал, стараясь расслышать голос одуванчика. Но одуванчик безмолвствовал.
— Теперь, когда вы завершили свой труд, почаще приходите в сад, рассматривайте траву, на которой обычно не задерживается взгляд. У каждой травинки раз в году наступает пора, когда она возносит благодарность милосердию Великой Природы. Всматривайтесь в эти цветы благодарности, вслушивайтесь. Это вас многому научит…
21 февраля 1989 г.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Воля Человека

Глава первая
В 1922 году я закончил экономическое отделение Токийского императорского университета. Еще будучи студентом, я успешно сдал государственный экзамен, так называемый экзамен на звание чиновника высшего разряда. Такое случилось впервые в истории нашего университета, поэтому, когда я заканчивал учебу, мне поступили предложения из Министерства финансов и Банка Японии. Мой токийский отец (Скэсабуро Исимару) был очень этому рад. Он полагал, что, какую бы я работу ни выбрал, мое будущее отныне обеспечено. Разумеется, я тоже был польщен, но отклонил оба предложения. По молодости лет я плохо разбирался в жизни и в людях и был намерен во что бы то ни стало жить согласно своим собственным убеждениям. Я учился, претерпевая все невзгоды, стремясь невозможное сделать возможным, но не ради того, чтобы обрести личное счастье, а чтобы стать человеком, приносящим людям пользу.
В ту эпоху в деревнях постоянно вспыхивали конфликты мелких арендаторов с землевладельцами, в промышленной зоне происходили рабочие волнения. Я много размышлял над тем, как найти способ разрешить эти конфликты, исходя из понимания чаяний рабочих и крестьян.
В ту пору эта проблема была в ведении Министерства сельского хозяйства и торговли, поэтому я сдал экзамены для поступления на службу в это министерство. Мое желание исполнилось, меня приняли в штат, и я сразу же начал работать, под руководством начальника департамента аграрной политики Исигуро, с двумя молодыми специалистами по аграрным вопросам, готовившими к принятию закон о мелких арендаторах. В процессе этой работы я несколько раз ездил в командировки по деревням Тохоку и Кансая, проводил исследования и, потрясенный нищенским положением крестьян, ревностно трудился над законом.
Случилось так, что именно в это время Министерство сельского хозяйства и торговли разделили на Министерство торговли и промышленности и Министерство сельского хозяйства и лесоводства. По счастью, меня приписали к Министерству сельского хозяйства и лесоводства, так что я смог продолжить свою деятельность вместе с двумя моими товарищами.
Наконец законопроект был готов, для его обсуждения собрались высшие чины министерства, ведавшие сельским хозяйством, стали вносить в него изменения, но всякий раз эти изменения были в пользу землевладельцев и крестьян-собственников. Исправленный законопроект передали совещательной комиссии из ученых, не состоящих в штате министерства, и специалистов из сельскохозяйственных объединений, им предстояло решить, стоит ли передавать его в парламент. Но в комиссии возобладало мнение, что принимать закон о мелких арендаторах еще преждевременно, в условиях, когда постоянно вспыхивают конфликты в связи с арендными отношениями на селе, надо как можно быстрее принять такой закон, который бы их регулировал.
Поэтому министерство, не откладывая, взялось за закон об урегулировании конфликтов мелких арендаторов, а мне и моим товарищам, создавшим отвергнутый закон, велели заняться новым законопроектом.
Мы трое работали усердно, и после всевозможных сложностей через полтора года в парламенте был принят закон об урегулировании конфликтов мелких арендаторов. Благодаря этому в министерстве был учрежден отдел по урегулированию арендных конфликтов, нас всех троих повысили в должности, и я в чине управляющего делами перешел в департамент животноводства.
Проработав два с половиной года государственным служащим, я стал испытывать сильные сомнения в том, правильный ли путь выбрал. Я пошел работать в министерство, веря, что сумею помочь бедным людям из низших слоев общества, но законопроект об урегулировании конфликтов, подкреплявший подобные надежды, на каждом следующем этапе все менее учитывал интересы мелких арендаторов и все откровеннее защищал землевладельцев, чтобы наконец именно в таком, искаженном виде пройти через парламент. А коли так, разве служба в министерстве соответствует моим идеалам? Мучимый сомнениями, я решил узнать, как обстоит дело в развитых странах, взял отпуск и уехал учиться во Францию.
…В то время один из моих молодых товарищей, Эйити Саката, сказал мне: «Своих целей ты мог бы добиться, лишь став политиком. Лично я, если в будущем представится случай, собираюсь заняться политикой». (Через несколько лет после окончания войны он баллотировался от своей родной префектуры Исикава и прошел в парламент. Позже он был министром сельского хозяйства и лесоводства в кабинете Сато, и после смерти ему на родине поставили бронзовый памятник с надписью «Покровитель мелких арендаторов», что свидетельствует об уважении, которым он пользовался среди крестьян.)
Когда в январе сорок пятого года я снял квартиру в домишке на задворках Токио, превратившегося в результате бомбардировок в одно большое пепелище, и, не имея ни гроша в кармане, должен был содержать семью из пяти человек исключительно литературным трудом, я вдруг осознал, как было бы хорошо стать мелким арендатором, проще говоря — батраком, вроде тех, с которыми я встречался, когда до войны объезжал с инспекциями деревни района Тохоку.
На втором этаже была маленькая комнатка. Она стала моим рабочим кабинетом и моей спальней. Приспособив низенький чайный столик в качестве письменного стола, я разложил на нем листы и начал строка за строкой возделывать их своим пером. С утра до глубокой ночи, не зная отдыха, я работал и, случалось, по несколько дней подряд не выходил из дома. С благодарностью принимал любое предложение что-либо написать…
Такова батрацкая доля, но здоровью она не идет на пользу, внезапно у меня начала развиваться астма, ставшая со временем хронической. Несмотря на это, я не позволял себе ни на день прервать работу. Моя батрацкая жизнь протянулась на десять лет, но, к счастью, я не умер.
Когда я стал батраком, жена сказала, что в таком случае и ей следует жить, как подобает жене батрака, полностью отказалась от косметики, работала по дому в самой простой одежде, не позволяла себе ни слова попрека или раздражения, даже детей перестала ругать. Поведение родителей, естественно, оказало благоприятное влияние и на наших дочерей. Старшая, обучавшаяся игре на фортепьяно и считавшаяся любимой ученицей преподавателя Лео Сироты, при всей ее занятости не только помогала вести домашнее хозяйство, но даже по нашей просьбе охотно ездила в деревню, чтобы купить продукты на черном рынке. Три младшие дочери — они учились в начальной школе, в средней и в университете — помогали друг другу в учебе и, поскольку у нас был только один старенький рояль, по обоюдному согласию распределили между собой время для упражнений…
Разве наша счастливая семья не испытывала на себе благодать Великой Природы? Когда прошли эти десять бедственных лет, две старшие дочери удачно вышли замуж, а я, хоть и задыхался от приступов тяжелой астмы, не прерывал своих литературных трудов и, между прочим, съездил по официальным каналам в Европу, где смог встретиться со своими старыми друзьями. Стараниями друзей, обрадованных тем, что я стал писателем, два моих романа были переведены на французский язык, изданы в Париже, Бельгии и Швейцарии, получили хорошую критику, и благодаря гонорарам я смог отправить свою третью дочь во Францию учиться вокалу.
Между тем на следующий год, в сентябре сорок шестого, намечалось провести в Токио двадцать девятый Всемирный конгресс ПЕН-клубов. На нем должен был присутствовать господин Б., переводивший мои романы, в связи с чем я, собравшись с духом, принял решение построить новый дом на месте сгоревшего.
Жена была рада, но при этом выдвинула важное условие.
— Пусть у нас будет новый дом, — заявила она, — но я хочу по-прежнему вести домашнее хозяйство самостоятельно, без прислуги, как батрацкая жена, поэтому мне хотелось бы построить европейский дом, на манер французских, чтобы не приходилось каждый день делать уборку. И комнаты, разумеется, сделать европейские, с отоплением и прочими удобствами.
Я обсудил наши с женой пожелания со своим приятелем Н., владельцем строительной фирмы. Выслушав их и несколько раз переделав проект, он наконец приступил к строительству, пообещав, что все будет готово к переезду в конце февраля следующего года.
Это меня успокоило, но в какой-то момент я вдруг начал тревожиться, смогу ли в конце февраля, к завершению строительства, окончательно расплатиться с Н. Я позвонил своему лицейскому другу Накатани, работавшему в банке М. Он всегда говорил мне: «Не следует занимать деньги у людей, когда для этого существуют банки». Я сообщил ему о строительстве нового дома на месте пепелища и попросил посодействовать, если в конце февраля мне придется занять денег.
Он ответил, что все будет в порядке. У меня отлегло от сердца, я вернулся к себе на второй этаж и принялся за работу, но тут с прилегающей к комнате веранды через бумажные ставни донесся голос жены:
— Тут какой-то студент из Токийского университета непременно желает тебя видеть…
— Я занят, у меня нет времени на встречи!
— Но он из Ганюдо (рыбачья деревня, в которой я родился), к тому же фамилия как у тебя… Может, родственник… Уж удели ему немного времени!
Жалостливая жена, приняв посетителя за моего родственника, наверняка уже впустила его в дом! — подумал я и спустился вниз.
Юноша в студенческой форме сидел на циновке у порога, скрестив ноги.
— Мой отец был вашим одноклассником в начальной школе, может быть, вы его помните — Торакити.
— Так ты, значит, из Ганюдо… — сказал я, присаживаясь напротив него. — Торакити… В Ганюдо у каждой семьи было родовое прозвище. Если назовешь, может, и припомню.
— Хикимару.
— Торакити Хикимару… А, вспомнил — Тигр!.. Ну что, батюшка здоров?
— Вот уже десять лет как помер… А я в этом году заканчиваю университет и пришел к вам с просьбой…
— В чем дело?.. Будь твой отец жив, ты бы вряд ли пришел ко мне с просьбой, да и я не стал бы тебя выслушивать… Но коль скоро он умер десять лет назад, срок давности уже истек. Ну да ты об этом небось ничего не знаешь… Давай выкладывай, с чем пришел!
— Скажите, что у вас приключилось с моим отцом?
— Долго рассказывать… Отец твой был силач и измывался над сверстниками, его боялись и прозвали Тигром. Я же был его злейшим врагом за то, что учитель мне покровительствовал, и мне нередко доставалось от твоего отца… Вот, если кратко…
— Слава богу, все это в прошлом… А просьба, с которой я к вам пришел… — он оживился, — в этом году я заканчиваю Токийский университет и собираюсь подать прошение о приеме на работу в банк М., не могли бы вы выступить в роли поручителя?
По его словам, поступив на экономическое отделение Токийского университета, он поставил перед собой цель — в будущем устроиться на работу в банк и сделать карьеру в области финансов, поэтому, студентом, отдавал все свои силы учебе. Когда наконец зашла речь о трудоустройстве, он высказал желание поступить на работу в какой-либо из трех ведущих японских банков — Мицуи, Мицубиси или Фудзи, однако, собравшись подавать заявку о приеме на работу, он, к своему немалому удивлению, узнал, что не отвечает требованиям. Во всех трех банках в качестве непременного условия для устройства на работу требовалось, во-первых, чтобы были живы родители, во-вторых, чтобы они были людьми состоятельными. Отца у него нет. Да и какое уж тут богатство, когда старший его брат рыбачит в Ганюдо, а мать разводит кур и продает яйца.
Он понял, что ему закрыт путь в крупный банк, о котором он мечтал на протяжении многих лет. Но, несмотря на охватившее его отчаяние, он продолжал обдумывать ситуацию. Ведь в банк принимают на службу не родителей, не семью. На работу претендует один человек. И если этот человек превосходит своими способностями других претендентов, на работу обязаны принять именно его. Так рассуждал этот юноша. Насколько он способен, выявят результаты экзаменов при приеме на работу, а он был уверен, что на экзаменах никому не уступит. К тому же у него есть вера, что его страстное желание непременно осуществится. Поэтому и решил, несмотря ни на что, подать прошение о приеме.
Но кто по результатам экзаменов, в конечном итоге, выбирает претендента? Молодой человек выяснил, кто из его старших товарищей по лицею и по университету за последние два-три года поступил на работу в банк, и, приложив немалые усилия, смог с ними встретиться и обо всем расспросить. Среди учащихся лицея таковых не оказалось, а вот среди выпускников университета, к счастью, нашлись те, кто охотно поделился с ним полезной информацией. Он сообщил об этом начальнику отдела, ведавшего распределением студентов. Его положение было весьма затруднительно, но, по мнению одного выпускника университета, устройство на работу могло быть реальным, если бы под его прошением подписался поручитель, имеющий близкие отношения с кем-либо из руководства банка.
Этот чиновник ознакомил его с биографиями высших управленцев трех банков, посоветовав внимательно изучить их и подобрать подходящего поручителя.
Все это казалось сумасбродством, юноша был в смятении, но, решив, что в любом случае это будет небесполезно, принялся усердно штудировать биографии влиятельных людей в поисках человека, который мог бы стать его поручителем.
Он начал с выпускников Токийского университета, но, сколько ни пытался разобраться в нагромождении данных, не за что было ухватиться, он был в тупике. Узнав из биографии Накатани, заместителя директора банка М., что тот в 1922 году окончил юридическое отделение Токийского университета, он внимательно просмотрел имена его сокурсников, но все тщетно. А вот изучив списки учащихся Первого лицея, он, среди сорока сокурсников, наткнулся на мое имя, более того, обнаружил, что, в соответствии с тогдашней системой обязательного проживания учащихся в общежитии, на втором курсе я жил с Накатани в одной комнате.
Он был вне себя от радости, посетил чиновника, ведавшего распределением, вернул ему материалы и сообщил о результатах поиска. Тот настоятельно посоветовал ему взять меня в поручители.
Закончив свой рассказ, юноша низко мне поклонился и добавил, что это его единственный шанс поступить на службу в банк.
— Мне необходимо время подумать, ведь быть поручителем — большая ответственность… Во-первых, я ничего о тебе не знаю…
— Поэтому я и набрался смелости прийти к вам сегодня.
— Все же, поступив в университет, мог бы хоть раз заглянуть ко мне, своему старшему товарищу… Но, верно, ты был занят, где-нибудь подрабатывал?
— Нет, когда я поступил в университет, старший брат сказал, что будет высылать мне деньги, чтобы я посвящал все свое время учебе и не отвлекался на работу… Только в летние каникулы, поскольку я сам люблю плавать, немного поработал в бассейне…
— Старший брат рыбачит в Ганюдо, так?
— С тех пор как принят новый закон о рыболовстве, рыбаки уже не такие бедные, как раньше.
— Раз ты не работаешь, у тебя должно оставаться много свободного времени. Есть у тебя, помимо учебы, какое-нибудь увлечение?
— Нет, к литературе и искусству я совершенно равнодушен, даже ваших книг ни одной не читал, вся голова забита банками и финансами, с меня этого довольно.
— Чем бы ты еще хотел заняться, если не удастся устроиться в банк?
— Ничего другого я не желаю!
— Что же, если ограничиваться банками… Ах да, Окано, мой школьный приятель в Нумадзу, возглавляет банк Суруга, если бы ты отказался от мысли о крупном банке и попытал счастье там, у тебя было бы больше шансов устроиться на работу.
— Банк Суруга действует только в префектуре Сидзуока, это меня не интересует… А вы не поддерживаете дружбу с господином Накатани, заместителем директора банка М.?
— Да, мы дружим. Давеча говорили по телефону… Но я не знал, что он такой влиятельный человек…
— Ходят слухи, что в следующем году он станет директором… Поэтому, прошу вас… станьте моим поручителем!
— Легко говорить — станьте поручителем… Это ведь большая ответственность. Главное, я тебя совершенно не знаю, так что с ходу не могу ничего обещать. Я должен порасспросить о тебе, тогда и решу.
С этими словами я поднялся.
— Прошу вас, помогите мне, — продолжал он упрашивать, надевая на босые ноги старые гэта, и с тем ушел.
Я вернулся в свой кабинет, но не смог сразу приняться за дело. При мысли, что ко мне приходил сын того самого Тигра, пробудились позабытые за давностью лет воспоминания о вожаке наших школьных хулиганов, и работа не клеилась…
В то время существовала система четырехлетнего обязательного обучения. Тот, кто, окончив четыре класса, хотел продолжать учебу в так называемом «высшем отделении», должен был платить. Это составляло двадцать-тридцать сэнов в месяц, и все мои соученики из Ганюдо, кроме троих — Тигра, Ёсаку и меня, сразу после окончания четырех классов пошли в рыбаки. Пресловутый Тигр поступил в первый класс «высшего отделения», не прошло и месяца, как он заявил мне:
— Я шел в среднюю школу, уверенный, что ты как сирота не наскребешь на обучение, мне претит, что учитель тебе протежирует. Поэтому я ухожу из школы и стану рыбаком, но когда-нибудь еще отомщу тебе…
Я был счастлив, что Тигр уходит. Когда я поступил во второй класс средней школы, обязательное обучение продлили до шести лет, и к тому же отпала необходимость вносить помесячную плату, это сильно мне помогло. Говорили, что такое стало возможным благодаря победе Японии в войне с Россией.
Как-то вечером Тигр подозвал меня к себе.
— Я слышал, — сказал он, — нынче шесть лет учат бесплатно. Из-за тебя я проучился лишь один год и бросил среднюю школу, из-за тебя я пострадал. Но зато я вступил в деревенскую молодежную организацию. Когда ты закончишь школу и вступишь в нашу организацию, то будешь у меня в подчинении, вот тогда-то я вволю займусь твоим воспитанием! Запомни это!
Я думал, он меня ударит, но удостоился только плевка.
Меня тоже начиная с четвертого класса во время летних каникул брали в море и приучали к труду рыбака, но я не хотел становиться рыбаком и прикладывал все усилия к тому, чтобы каким-то образом перейти в среднюю школу. Случилось чудо, объявился морской офицер, посылавший мне три иены в месяц, которые, к моему счастью, позволили мне учиться в средней школе. Прошло всего лишь десять дней, как я надел новую школьную форму, когда Тигр с важным видом объявил мне:
— В нашей деревне существует правило — только детям господина Мано позволено учиться в средней школе, все остальные парни становятся рыбаками. Ты его нарушил, поступил в среднюю школу, за это тебя исключили из общины. Заметил, что никто теперь с тобой не разговаривает? Сообщаю тебе по старой дружбе…
И в самом деле, я уже обратил внимание, что кое-кто из взрослых, когда я с ними здоровался, делали вид, что меня не знают, постепенно посматривающих на меня косо людей становилось все больше, и я понял, что стал деревенским изгоем. Впрочем, меня это нисколько не огорчало. Я убеждал себя, что прекрасно проживу и один. Мой дед, взявший на себя мое воспитание, вскоре после того, как я поступил в среднюю школу, переживая за мое будущее и мое «изгойство», скончался. Одна только тетя О-Тика, жена моего дяди (наследника деда), желавшего воспитать из меня рыбака, тайно помогала мне продолжать учебу, но весной следующего года и она скоропостижно скончалась из-за осложнений при четвертых родах, оставив после себя троих детей. Тогда же ослепла моя бабушка. Из трех иен, ежемесячно присылаемых морским офицером, две уходили на оплату учебы, тридцать сэнов — на взнос в школьное культурное общество, и на оставшиеся семьдесят сэнов мне часто едва удавалось свести концы с концами. Я каждый месяц предоставлял офицеру отчет о своих расходах, но он продолжал посылать три иены, не обращая внимания на мои лишения и только присовокупляя совет не падать духом, так что я не смел просить большего. Меня сильно тревожило, что в скором времени я буду вынужден бросить школу. В сравнении с этой тревогой быть деревенским изгоем ничего не значило.
В то время я искренне верил в божественное участие и, обращаясь к горе Фудзи, молил о помощи. Перейдя во второй класс, я по результатам учебы был признан особо одаренным и освобожден от платы. Теперь, имея в своем распоряжении две иены семьдесят сэнов в месяц, я мог вести вольготную школьную жизнь. К счастью, до самого окончания школы я сохранял статус особо одаренного, заслужив при этом от недоброжелателей прозвище школьного нахлебника…
Когда я перешел в третий класс, дядя Санкити вторично женился. Его новая жена, тетя О-Цую, была деревенской женщиной с грубым нравом, к тому же она привела с собой в наш дом своего сына, бывшего одногодком старшего сына покойной тети О-Тика, из-за чего, естественно, атмосфера в доме стала весьма напряженной. Тетя смотрела на меня как на досадную помеху и, опасаясь осуждения со стороны односельчан, если она станет заботиться об изгое, по любому поводу старалась меня унизить. Объявив, что нижнее белье изгоя — скверна, она отказалась стирать его вместе с вещами других членов семьи, более того, во время еды, если я просил добавки, делая вид, что кладет рис, передавала мне пустую чашку. В коробку с едой, которую я брал с собой в школу, она клала только половину порции риса и всего одну маринованную сливу, в результате я постоянно был голоден… Жизнь в семье превратилась в ад, единственное, что меня поддерживало, — это моя страстная мечта продолжить образование. Я старался приободрить троих детей, оставшихся от тети О-Тика, и откровенно рассказывал бабушке о своих планах на будущее…
В 1916 году я поступил в Первый лицей, переехал в столицу и совсем порвал с деревней Ганюдо.
Я работал в министерстве, когда до меня дошло известие о смерти бабушки. Я приехал в Ганюдо, но, узнав, что на похоронах соберутся деревенские, только простился с усопшей, через час уехал и с огорчением должен был констатировать, что в результате изгойства для Ганюдо я умер. К тому же я слышал, что Тигр, возглавлявший молодежную организацию, больше других настаивал на моем изгойстве.
С тех пор прошло тридцать лет, мне случалось бывать в Нумадзу, но нога моя не ступала в Ганюдо. Эта деревня перестала для меня существовать… И вот нежданно-негаданно является сын этого самого Тигра, студент Токийского университета, пробуждает во мне давно забытые болезненные воспоминания, и из-за этого я не могу сосредоточиться на своей работе! Невольно я громко воскликнул:
— Какой же я дурень! — и, сделав глубокий вдох, взял перо.
Тотчас с улицы раздался обеспокоенный голос жены:
— Эй, что там с тобой?
— Ничего, я, как пахарь, подгоняю себя, — засмеялся я и погрузился в работу.
Через три дня студент в старых гэта на босу ногу вновь явился с визитом. Я был занят и хотел ему отказать, но жена настояла, чтобы я принял его, поскольку, по ее словам, он пришел извиниться. Делать нечего, я спустился. Как и в прошлый раз, он сидел в прихожей на подушке.
— Слышал, ты пришел извиниться? — сказал я, придвигая подушку и усаживаясь напротив него.
— Я узнал поразительную вещь. Оказывается, вы в течение двух лет читали в университете Тюо лекции по теории денежного обращения и финансов!
— Я обо всем этом давно позабыл.
— В прошлый мой приход вы сказали, что не можете мне ничего обещать, поскольку совсем меня не знаете. После, вспоминая наш разговор, я с удивлением сообразил, что и сам ничего толком о вас не знаю, и попытался навести справки. Среди моих однокурсников есть любители литературы, с которыми, впрочем, я был не очень-то близок, но, расспросив у них о вас, я был поражен: до того как стать литератором, вы, оказывается, занимались серьезной наукой, аж преподавали денежное обращение и финансы в университете Тюо… Жаль, что не обратился к вам раньше, я бы мог многое почерпнуть от вашей мудрости… Я-то думал, вы всего лишь литератор, и не только не испытывал к вам почтения, но даже, признаться, немного презирал… В чем ныне раскаиваюсь.
— Так вот, значит, с каким извинением ты пришел, — сказал я, вставая.
— Подождите. Я буду краток, выслушайте меня пожалуйста! — затараторил он, хватая меня за полу кимоно.
Волей-неволей я вновь сел.
— Мои друзья рассказали мне кроме всего прочего, что ваши книги переведены на французский язык и высоко оценены прессой, и убеждали меня, что безрассудно просить такого знаменитого человека стать поручителем, когда же я объяснил им, что осмелился на такой шаг только потому, что мы односельчане, они позавидовали моему счастью и сказали, что и сами хотели бы когда-нибудь с вами встретиться. «В твоей деревне, — сказали они, — наверно, гордятся им?» И тут я задумался. Когда я был в Ганюдо, я ни разу не слышал о вас и, только разузнавая о Накатани, заместителе директора банка М., впервые увидел ваше имя и обратил внимание, что вы уроженец Ганюдо… Как такое возможно? Сильно удивившись, я ночью позвонил брату, а брат сказал: «Этот человек достиг заоблачных высот, поэтому никто о нем и не упоминает». Однако на следующий вечер брат перезвонил — матушка после моего звонка убедила его, что будет лучше рассказать все начистоту. А именно — что вы стали деревенским изгоем, поэтому для всех вы все равно что умерли… Он рассказал подробно, как это случилось, но скажите, это правда, что вы стали изгоем?..
— Раз твоя мать говорит, значит, правда. Ведь твой отец долгое время был вожаком молодежной организации.
— Невозможно поверить, что вы стали изгоем лишь из-за того, что поступили в среднюю школу! Только детям господина Мано позволялось поступать в среднюю школу, все же остальные, окончив начальные классы, должны были идти в рыбаки… Что за нелепое установление!.. А когда вас объявили изгоем, вы не протестовали?
— Это было бесполезно.
— Значит, вы и сейчас остаетесь изгоем в родной деревне?
— Не знаю… Во всяком случае, я не слышал, чтоб меня освободили от этого проклятия. Если твоя мать сказала, значит, я и по сей день изгой. Так что ты совершил промашку, придя с важной просьбой стать поручителем к такому человеку…
Подумав, что ненароком сказал глупость, я попросил жену напоить Ёсабуро чаем, а сам поднялся к своей «делянке». Немного поговорив с женой, он ушел.
На пятый день студент в старых гэта явился вновь.
На этот раз жена, впустив его в дом, не стала мне сообщать о его приходе, прежде приготовила чай, предложила ему, принесла чай мне на второй этаж и только тогда объявила, что, пока я не закончу работать, сама будет развлекать его разговорами.
Он сразу же выложил жене цель своего визита.
В прошлый раз, получив от меня подтверждение, что я — изгой в своей деревне, и сильно изумившись этому, он на следующий же день отправился в Ганюдо. Там он посетил дом дяди Санкити, прозванный «Крайним», в котором прошло мое детство. Он хотел спросить, каким образом я попал в среднюю школу, если в деревне существовало неписаное правило, что все мальчики должны идти в рыбаки.
Дяде Санкити было уже около восьмидесяти, он не мог передвигаться, но сохранил ясный рассудок, хорошо помнил мои детские годы и охотно о них рассказывал. Студент передал моей жене то, что более всего его поразило.
В пятом классе во время летних каникул меня взяли на ловлю макрелевого тунца, чтобы приучить к профессии рыбака. В утлой лодчонке, помимо дяди, находились еще двое молодых людей, но я, будучи юношей послушным, пристроился рядом с дядей и, положив руки на весла, которыми он управлял, учился грести. Вышли на рейд. Море было спокойным. Дядя, обучая меня гребле, объяснял, что для рыбака самое важное — с раннего утра определить, как будет меняться погода в течение дня.
В те времена еще не существовало прогнозов погоды, и дядя сказал, что он каждое утро определяет предстоящую погоду по горе Фудзи. Когда выходишь в море, Фудзи хорошо видна отовсюду, и по изменениям цвета неба и склонов горы, по очертаниям облаков возле Фудзи можно определить, какая в этот день будет погода. Он велел мне хорошенько запомнить цвет неба и Фудзи в то утро: белое облачко неподвижно висело над вершиной и вскоре растаяло — это предвещает штиль, но часа через три вновь поднимется слабый ветер…
По молодости лет дядино предсказание меня ужасно заинтересовало, и, когда на следующее утро мы вышли в море, я первым делом спросил его:
— Сегодня небо и Фудзи такого же цвета, как вчера, но справа от горы — облако, каким же будет прогноз погоды?
После этого дядя каждое утро, работая веслами, усердно посвящал меня в тайны природных примет, я проявлял любопытство и забрасывал его вопросами, к тому же продемонстрировал ловкость в ужении тунца, так что он успокоился, решив, что из меня получится хороший рыбак и его заботы не пропали втуне. Однако летние каникулы подходили к концу, и вот однажды, как обычно, закончив утренний лов, мы натянули парус и прилегли немного вздремнуть, но как только рыбаки проснулись, я, не смыкавший все это время глаз, придвинулся к дяде и шепнул:
— Мне никак нельзя быть рыбаком. Вы уж меня простите, я вас когда-нибудь отблагодарю.
— Почему же это тебе нельзя быть рыбаком?
— Гора Фудзи мне сказала. Я не должен погибнуть на море. Ты, говорит, родился на благо Японии, на благо всего мира… А потому должен поступить в среднюю школу…
— Мы не богатеи, ты не можешь учиться в средней школе!
— Деньги я попрошу у богов.
Обо всем этом дядя тотчас забыл. Он знать не знал о существующем в деревне неписаном законе, просто бедняки не могли позволить себе отправлять детей учиться в среднюю школу, кроме того, дядя никогда не слышал, чтобы боги ниспосылали людям деньги, поэтому, решив, что все это привиделось мне во сне, он не придал моим словам значения. К тому же в следующем году во время летних каникул я, как и прежде, шел с ним в море, ревностно расспрашивал о приметах, да и морская болезнь, по сравнению с прошлым годом, не так меня мучила, поэтому дядя был уверен, что в апреле, окончив школу, я стану заправским рыбаком.
На исходе года тетушка по секрету высказала ему свое беспокойство по моему поводу. Дело в том — я сам признался в этом тете, — что почти три месяца с утра до вечера я истово молился перед капищем в домашней божнице, чтобы Бог ниспослал мне денег на учебу и чтобы в знак своего расположения положил на столик для подношений бумажные ассигнации или серебряные монеты; проснувшись спозаранок, я бежал к столику, но никакого знака от Бога так и не дождался. Тогда я решил, что Бог, обитающий на небесах, гнушается посещать такое маленькое капище, и с этого времени, как только выпадала свободная минута, я выходил на берег реки Каногавы, шел к заливу или взбирался на гору Усибусэ и, обратившись к небу, возносил ту же молитву, ожидая, что с неба посыплются деньги, но все тщетно. Я понял, что Бог охотно принимает деньги от людей, но сам людям не даст и полушки. Поэтому отныне я сам должен искать тех, кто дал бы мне денег…
— Бедняжка, — сокрушалась тетя, — боюсь, как бы он с отчаяния не совершил чего дурного… Нельзя ли что-нибудь сделать?..
Дядя ее успокаивал:
— Он мальчик тихий, ничего дурного не совершит. Когда поймет, что не в его силах что-либо изменить, он смирится и станет
рыбаком.
Все же дядя стал за мной примечать. Парень сделался молчалив, даже дома слова не вытянешь, со школьными друзьями не играет… Вечерами под единственной электрической лампочкой вместе с теткой подшивает платки, которые она берет в качестве надомной работы. Несмотря на то что подшивание платков — сугубо женское занятие, он сам попросил тетю научить его и посвящает этому каждый вечер, верно надеясь скопить денег на учебу, но за один подшитый платок дают пять ринов, а так как за вечер трудно подшить больше одного платка, в месяц можно заработать не больше двенадцати сэнов. А он-то, бедняга, надрывается, думая, что с этим грошами сможет осуществить свою заветную мечту — учиться в школе!..
Дядя задумался о том, когда же эта мечта мной овладела, и наконец понял. На пятом году моей учебы, во время летних каникул, месяца два назад, наступил день, когда в Ганюдо и других окрестных деревнях впервые включили электричество. Еще за три месяца до того в каждом доме установили оборудование в расчете на одну лампочку. Прежде все пользовались бумажными фонарями и керосиновыми лампами, с приходом ночи деревня погружалась во тьму, никто не выходил из дома, невозможно было даже поужинать, поэтому все рано ложились спать. В назначенный день объявили, что вечером включат свет, жители ждали, судача о том о сем. Как только солнце зашло и стало темно, внезапно зажегся электрический свет. Одним махом ночь точно озарилась. Пораженные, мы не могли сдержать криков изумления. К столбам электропередачи, стоящим вдоль деревенской улицы, также навесили лампочки, и сельчане бурно веселились всю ночь напролет, как на празднике.
Тетя тогда мне сказала:
— Вот и отлично! Теперь тебе не придется больше чистить лампу… Руки у тебя выросли, в ламповое стекло не влезают, каждый вечер мучишься…
А я ответил совершенно невпопад:
— Наш учитель Масуда говорит, что электричество — замечательная вещь. Его изобрел некто Эдисон… Он был беден, но умен и, приложив усилия, поступил в среднюю школу и сделал это открытие… Ты тоже, сказал учитель, парень умный, поэтому во что бы то ни стало должен попасть в среднюю школу и сделать открытия, которые бы порадовали всех…
Дядя слышал наш разговор, но пропустил мимо ушей. Оставалось меньше месяца до окончания начальной школы, и он был уверен, что потом я стану рыбаком и кормильцем семьи, и вдруг, в середине марта, в день, когда наконец стих западный ветер, вернувшись из школы, я нашел адресованное мне письмо, прочел и, крикнув, что мне опять надо в школу, стремглав выбежал из дома. В тот вечер благодаря установившемуся на море затишью было решено выйти на ночной лов каракатиц, но к назначенному времени я не вернулся.
В письме сообщалось о согласии посылать мне по три иены в месяц на учебу и прилагался чек почтового перевода. Я показал его учителю и попросил подать вступительное заявление, но получил отказ, поскольку срок подачи уже истек. Тогда директор школы Коикэ, сжалившись, пошел со мной в среднюю школу и настоятельно попросил тамошнего директора принять заявление. В результате, в виде исключения, оно было принято.
— Вот почему я опоздал, — объяснил я деду с бабушкой, продемонстрировав им чек на почтовый перевод, но само письмо не показал и скрыл, кто был отправитель.
Обо всем этом тетя сообщила дяде.
Дней через пять-шесть, объявив, что иду на вступительные экзамены, я надел костюм, который до этого надевал только во время торжественной встречи высокочтимых особ в императорской резиденции Нумадзу, прихватил с собой обед и ушел спозаранок. Уже миновало десять часов, а я все еще не возвращался. Дед с бабушкой гадали, уж не потому ли я не возвращаюсь, что провалился на экзамене, если же провалился, то теперь наконец смирюсь со своей участью, и это будет только к лучшему. В половине одиннадцатого я неожиданно явился. Никто не решался со мной заговорить.
— Небось проголодался, — сказала тетя.
Я ответил, что сыт, учитель Янагисита дал мне норимаки
[11].
— Я думал, что будет хорошо, даже если пройду последним, — сказал я, снимая хакама
[12], — но оказался третьим из ста пятидесяти сдававших экзамен…
— Молодец! — воскликнула тетя, но, взглянув на деда с бабушкой, осеклась.
Переодевшись в свою обычную одежду, я стал перед ними отчитываться. Дело в том, что результаты должны были объявить в семь тридцать, и я ждал в школе, но задержались на целый час, когда же начали объявлять, абитуриенты и их родственники выстроились в очередь, нас провели в зал и мы выслушали обращенные к нам слова директора школы. Вот почему я вернулся так поздно. Рассказывая это, я вытащил из большого конверта полученные в школе памятки. В них значилось: с первого мая следует носить летнюю форму, до этого времени ходить в школу в кимоно, хакама и в обуви; форму и форменную фуражку пошить в одном из трех назначенных школой ателье, названия ателье и их адреса прилагались. Учебники также следует покупать в указанных школой двух книжных магазинах, о том, изменились ли учебники с прошлого года, сообщат там же… и т. д.
Тетя тотчас зачитала весь список деду с бабушкой и сказал, что завтра же утром надо пойти в город и начать готовиться.
— Но у нас нет на все это денег, — вздохнула бабушка.
Тогда я сказал:
— Тетя, завтра я пойду на городскую почту и получу по чеку три иены. Прошу вас, сходите со мной. Надо заказать летнюю форму… Ну а форменная фуражка… Я просто прикреплю к нынешней кокарду средней школы. Учебники — те, что остались без изменений с прошлого года, — учитель Янагисита посоветовал попросить у ребят, перешедших во второй класс, скорее всего, новых покупать придется не так много, только вот ботинки надо купить поскорее, но вместе с платой за одежду трех иен должно хватить.
Внезапно в разговор вступил дед:
— Если бы твой отец не передал все свое состояние Тэнри, ты бы смог без всяких проблем учиться в средней школе… Надо же быть таким остолопом! Говорят, что воздаяние за дела родителей — в детях… Твои беды да будут в упрек твоим родителям!
Тут все замолчали… Как бы там ни было, несмотря на всякого рода трудности пятого апреля я, как примерный ученик, надел башмаки и, набравшись мужества, отправился в школу. Дня через четыре, утром, члены молодежной организации пришли к деду и объявили, что меня изгоняют из деревенской общины. Дед пытался возразить:
— Такого ребенка объявлять изгоем — да на что это похоже! Это я послал его в школу, так что, если уж на то пошло, изгоняйте из общины меня!
Однако в тот же вечер, когда я вернулся из школы, вышеупомянутый Тигр подозвал меня и объявил, что отныне я изгой. После этого дед частенько, точно думая вслух, говорил тете:
— Вот, поступил он в среднюю школу и стал изгоем… В нашем тесном доме, где нет даже стола для занятий, по ночам при свете лампочки он помогает тете в надомной работе… Вряд ли он сможет долго протянуть в школе, но с таким характером что-нибудь из него непременно выйдет…
Не прошло и десяти дней моей школьной жизни, когда утром, уже ослабевший, дед, не вставая с постели, скончался. На следующий день были назначены похороны, но я рано ушел в школу и не показывался до наступления ночи.
По деревенскому обычаю вечером, после окончания похорон, родственники и соседи собрались в доме, пили, шумели, и только в девять, когда все разошлись, тетя рассказала дяде, что я вернулся, когда стемнело, и, не притронувшись к еде, ушел в гардеробную и с тех пор не выходил. Тогда он заглянул в темную гардеробную и увидел, что я лежу неподвижно, уткнувшись головой в циновку, и всхлипываю.
Рассказав обо всем этом студенту, сыну Тигра, восьмидесятилетний дядя Санкити сказал:
— Я впервые видел его плачущим. С малых лет он никогда не плакал…
Глава вторая
Внезапно я забеспокоился, что, пока я у себя на втором этаже пером возделываю свою ниву, жене внизу приходится обхаживать студента, сына Тигра.
Делать нечего, спустился вниз, хотя со времени его появления прошел уже почти час. Вхожу — поразительно: вскочив, он вежливо извинился.
— Вы уж простите, что вам мешаю…
Удивившись его учтивым манерам, я придвинул поближе к нему подушку и, сев, сказал:
— Ох, хоть ноги разогнуть!.. Ну, о чем у вас беседа?
— Я рассказываю о том, как, решив разузнать о вас побольше, съездил в Ганюдо и посетил ваш «Крайний» дом. Господин Санкити, хоть ему уже под девяносто, не теряет бодрости, он рассказал мне о ваших школьных годах. Я был просто потрясен. Спросите у своей супруги, я уже пересказал ей все в подробностях. Наша деревня, когда вы учились в начальной школе, оказывается, была ужасно бедной. Я и сам часто слышал, еще при жизни отца, как матушка говорила, что по сравнению с тогдашней жизнью рыбаков сейчас — сущий рай, но я был поражен, впервые узнав от господина Санкити на конкретных примерах, какая царила тогда нищета.
Он пристально взглянул на меня и продолжал:
— При тогдашней бедности поступить в среднюю школу было практически невозможно, и все же вы, твердо решив продолжать учебу — хотя все было против вас, — действуя в одиночку, без какой-либо помощи, стали-таки учеником средней школы — вот что меня больше всего потрясло…
— Что уж теперь об этом вспоминать…
— Когда я узнал о том, как в детстве вы, имея заветную мечту, проявили волю и, приложив неимоверные усилия, сделали невозможное возможным, я поверил в то, что и моя мечта непременно осуществится. Неужели я, студент университета, не способен на то, что вы смогли совершить, будучи учащимся начальной школы!..
— Но нет ли у тебя хотя бы желания поступить в аспирантуру?
— Нет, у меня одна мечта — работать в банке М. Подумать только — вы были так счастливы, поступив в среднюю школу, а через несколько дней после начала учебы стали деревенским изгоем… Ужасно!
— Довольно об этом.
— Хорошо… Позвольте только я скажу о том, что в словах господина Санкити больше всего меня поразило. На пятый или шестой год учебы в начальной школе, объявив дяде, что не хотите быть рыбаком, вы, по его словам, признали, что поступаете своевольно, но обещали в будущем отблагодарить его. Старик рассказывал это со слезами на глазах…
— Стыдно признать, но я так ничего для него и не сделал.
— Зимой 1924 года в Ганюдо случился большой пожар, огонь, подхваченный ветром, быстро распространился, и вся деревня сгорела дотла. Отец много рассказывал мне об этом несчастье… Уже несколько лет, как Ганюдо вошла в административный состав города Нумадзу, но до пожара улицы оставались узкими, бедные домишки теснились в беспорядке, ничто не напоминало район большого города. По счастью, в тот год, когда случился пожар, господин Мано из Ганюдо, член совета префектуры, был мэром Нумадзу. На следующий день после пожара он собрал погорельцев и приободрил их, обещав, что город окажет всемерную помощь, чтобы превратить стихийное бедствие во благо. Поскольку это говорил сам господин Мано, жители Ганюдо успокоились… В результате сгоревшую рыбацкую деревню, как и было обещано, перестроили в соответствии с планом, преобразив в великолепный современный квартал. Дважды собирались всем миром, чтобы одобрить план, и господин Мано, подготовивший три варианта проекта строительства, объяснил, что желающим город даст полную ссуду под низкие проценты на двадцать лет, а кроме того, будет всячески помогать, выделит плотников, обеспечит всем необходимым, осуществит общее руководство. Стоимость трех видов домов была установлена в четыреста иен, триста восемьдесят и триста пятьдесят соответственно. Погорельцы с радостью согласились на все предложения господина Мано.
Ваш дядя рассказывал, как он удивился, когда на четвертый или пятый день после пожара вы неожиданно утром появились на пепелище «Крайнего» дома… По заданию министерства вы объезжали с инспекцией деревни района Кансай, узнали из газет о пожаре в Ганюдо и ночным поездом заехали на обратном пути в столицу. На пепелище была поставлена палатка, худо-бедно защищавшая от дождя, но господин Санкити сказал вам, что он спокоен за свое будущее, поскольку сможет построить новый дом по плану господина Мано. Внимательно выслушав его, вы посоветовали строить дом за четыреста иен и не брать в долг у города, пообещав тотчас по возвращении выслать требуемые деньги. Вы хотели повидаться с дядиной родней, но поскольку были изгоем, то не смогли задержаться и сразу же уехали. Через три дня от вас пришел перевод на четыреста пятьдесят иен, но, по словам покойной бабушки, поскольку не прошло и двух лет, как вы стали чиновником, жалованье у вас было семьдесят иен в месяц, так что посланные вами деньги скорее всего были взяты в долг. Зная присущую вам с малых лет доброту, они не сомневались, что таким образом вы решили отплатить за оказанные вам в прошлом благодеяния. Расчувствовавшись, господин Санкити с грустью добавил, что хотя дом построен вашим попечением, вы в нем ни разу не были…
Мне показалось это удивительным. Пожар в Ганюдо случился в 1924 году… Значит, уже тридцать лет вы не были в своей родной деревне… Господин Санкити сказал, что из-за вашего изгойства вас не смогли пригласить на поминальные службы по деду и бабушке… Я хоть и слышал о вашем изгойстве, прежде воспринимал это не всерьез, но, узнав, что это средневековое «правило» не исчезло даже после того, как деревня стала частью города Нумадзу, и продолжает тяготеть над вами и «Крайним» домом, я был потрясен… Поспешив домой, я спросил у брата и матери, кто до войны в Ганюдо руководил молодежной организацией. Оба, удивившись моему вопросу, честно рассказали о вашем изгнании, но когда я заявил, что собираюсь посетить тех, кто в этом повинен, и потребовать от них раскаяния за тяготы, причиненные этой средневековой глупостью вам и вашему дому, чтобы эти люди публично объявили, что никакого изгойства больше нет, матушка переглянулась с братом, и брат сказал: «Наверно, время рассказать Ёсабуро всю правду…»
То, что рассказал брат, открыло мне глаза. Нынче уже не все молодые люди в Ганюдо идут в рыбаки, но поступающих после школы в университет совсем мало… Потому брат и мать стыдятся за меня перед соседями, и то, что я приехал раньше окончания учебы, да еще и не в каникулы, вызовет у соседей подозрение, так что лучше мне поскорее уехать и некоторое время не приезжать… К тому же совершенно недопустимо посещать местных воротил… Тут мне открылось, что, поступив в университет, я, как вы когда-то, стал необъявленным изгоем…
— Что, неужто эта дикость дожила до наших дней?.. Удивительно! Значит, и ты от этого пострадал…
— Ну, всерьез я к этому не отношусь… И вот еще какую невероятную вещь рассказал мне брат. Прошу у вас прощения, но… В двадцатые годы молодежную организацию Ганюдо долгое время возглавлял мой отец. Эта организация тогда занималась в Ганюдо всем — и спасением при бедствиях на море, и тушением пожаров, и охраной общественного порядка, следовательно, и ваше изгойство, вероятно, устроила она, поэтому вина лежит на моем отце… Сложив с себя обязанности руководителя, он не взял на себя труд посоветовать членам организации отменить за давностью лет приговор об изгойстве, поэтому он так и остался в силе. В этом исключительно вина моего отца, и ее ничем невозможно загладить перед вами и вашей семьей. Сейчас уже не осталось никого, кто бы знал, что вы изгой. Поэтому брат пойдет к господину Санкити и принесет ему извинения, но и мне он велел обязательно попросить у вас прощения. Прошу вас, извините нас. И, несмотря на прошлое, станьте моим попечителем!
Сказав это, он поклонился, упираясь руками в циновку.
— Получается, что, поступив в Токийский университет, ты неофициально стал изгоем! — рассмеялся я.
Жена, не вытерпев, вмешалась:
— Господин Ёсабуро много рассказал мне о своих невзгодах, кажется, он настрадался не меньше тебя. Так забудь о прошлых обидах и стань его попечителем! Я лично прошу тебя об этом.
Сделав вид, что не расслышал просьбы жены, я обратился к юноше:
— Расскажи, как у тебя зародилась мечта стать банковским служащим?
— Честно сказать, я сам только недавно начал задумываться об этом… Боюсь, в двух словах не объяснить, но все же попытаюсь…
По его словам, во время войны все молодые рыбаки были призваны в армию, в Ганюдо почти прекратился рыбный промысел, и жители впали в страшную нищету. Но в то же время в окрестных водах развелось много рыбы. Поэтому после войны, когда уцелевшие молодые люди вернулись и после нескольких лет отсутствия занялись рыбной ловлей, они стали собирать богатейший улов. В те годы во всей Японии не хватало продуктов питания, люди, чтобы не умереть с голоду, повсюду рыскали за продовольствием. Каждый день не только торговцы, но и окрестные жители толпами набрасывались на рыбу, выловленную рыбаками Ганюдо. Все это произвело революцию в психологии и социальном положении рыбаков.
Прежде рыбаки отдавали выловленную рыбу двум оптовым торговцам в порту, которые сами определяли цену, к тому же они платили не сразу, расчет производился в конце месяца. Отношения между рыбаками и торговцами были неравноправными, торговцы, можно сказать, наживались на труде рыбаков. После войны ситуация в корне изменилась. Рыбаки сами стали назначать цену за рыбу, продавали ее за живые деньги и покупателям, от которых не было отбоя, и оптовым торговцам. Благодаря такой практике рыбаки не только уравнялись в правах с торговцами, но и каждый день получали на руки деньги, о которых прежде не смели мечтать. Они стали по-настоящему богаты и счастливы. В первые послевоенные годы финансовая политика оккупационных сил часто менялась, из-за колебаний денежного курса многие пострадали, но и это постепенно улеглось… Ныне в Ганюдо создали рыболовецкий профсоюз и собираются обратить в доход профсоюза то, что в течение долгих лет составляло прибыль торговцев.
Однако рыбаки, не привыкшие держать на руках много денег, не знали, что делать с хлынувшим на них богатством, большинство складывало деньги в сундук… Так было и в доме Ёсабуро. После смерти отца, когда он учился в средней школе, старший брат привел в дом невесту, окончившую в городе женское училище. Освоившись в новом доме, она как-то за ужином сказала его брату и матери:
— Хранить деньги в сундуке — опасно, да и проценты не начисляют, разве не лучше положить их в банк? В банке начисляются проценты…
— Начисляются проценты? Что это значит?
— Допустим, вы кладете сто иен. При ставке в пять процентов за год вам начисляют пять иен.
— Неужели? Выходит, если положить пятьсот иен, можно получить дополнительно двадцать пять иен? В сундуке деньги спят, а отданные в банк работают и дают доход, так, что ли, получается?
— Именно так. Вот почему хранить деньги не в банке — это расточительство.
Из этого разговора он впервые узнал о существовании банков. Отец время от времени пересчитывал деньги, хранящиеся в сундуке, и он всегда удивлялся, наблюдая, как брат после смерти отца делает то же самое.
— А отданные банку деньги всегда можно забрать обратно?
— Разумеется, это ведь наши деньги.
Он не знал, отдали ли после этого вечернего разговора деньги в банк, но, бывая в городе, каждый раз, перейдя через мост, с почтением взирал на внушительное здание банка. Спрятанные в сундуке, деньги спят, а положенные в банк — приносят доход. Как так получается? — недоумевал он.
Мать в садике при доме держала несколько кур, и брат уже давно уговаривал ее избавиться от них и жить без забот, но она и слышать не хотела.
— Они же каждый день несут яйца! — постоянно говорила она.
Этих яиц было пять штук в день, самое большее семь, но мать не позволяла их есть самим и все уносила на продажу. За одно яйцо она выручала около трех сэнов… Мать радовалась, считая, что тем самым вносит важный вклад в семейный бюджет. И даже не задумывалась о том, сколько усилий требуется, чтобы заготовлять корм, убирать сад. И ему часто приходило в голову, что если положить в банк сто иен, можно на процентах заработать деньги, равные тем, которые мать выручала за яйца в результате годового труда…
Это казалось ему невероятно странным. Как-то раз, случайно проходя мимо большого здания банка, он увидел, как в него входит молодая девушка. Набравшись мужества, он вошел вслед за ней, и удивлению его не было предела. Он ожидал, что окажется в темном помещении, а очутился в ярко освещенном электричеством зале. Входящие с улицы люди подходили к перегородке, за которой работали молодые мужчины и женщины, обслуживавшие вошедших через металлическую решетку…
— Меня потрясла мысль, — продолжал Ёсабуро, — что эти молодые мужчины и женщины начисляют проценты на вложенные деньги. Вероятно, удивление, испытанное в тот момент, и пробудило во мне желание стать банковским служащим, вскоре я поступил в школу высшей ступени… К этому времени рыбаки, в отличие от вашей эпохи, стали жить зажиточно, в любом доме в сундуках спала не одна стоиеновая купюра. В сравнении с тем, что было до войны, говорит моя матушка, теперь — сущий рай, но при этом она, сколько ее ни отговаривают, до сих пор держит кур. «А что, если мы опять угодим в ад?» — говорит она.
Тут жена не выдержала и вмешалась в наш разговор:
— Господин Ёсабуро, вы, кажется, сказали, что на этой неделе заканчивается срок подачи прошений о приеме на работу?
— Да, и я решил — всю ночь просижу в углу вашего сада, но допрошусь. Надеялся, что смогу убедить вас своим рассказом…
— Я завален работой! Твое присутствие мне мешает. Понимаешь ли ты, какую ответственность несет поручитель перед банком?
— Да, начальник университетского отдела по распределению доходчиво мне объяснил.
— Ты уверен, что меня не подведешь? Можешь поклясться?
— Да, работа в банке — мое жизненное призвание и я ни за что вас не подведу!
Я сказал жене шутливо:
— Слышала его клятву?.. Если в будущем что случится, вместе посмеемся, какие мы были наивные… Это стоит того, чтоб стать поручителем!
— Большое спасибо! — Юноша, бухнувшись на колени, отвесил поклон.
— Приноси завтра утром свое прошение! — отрезал я и уже собирался подняться, но он сказал, что прихватил прошение с собой, и достал его из внутреннего кармана. В прошении были уже вписаны место моего рождения и мой нынешний адрес. Мне оставалось лишь поставить подпись. Но в доме не нашлось ни кисти, ни тушечницы. Ёсабуро сказал, что подпись будет действительна, если я распишусь обычной ручкой, поэтому я воспользовался толстой ручкой «Монблан». Он попросил меня приписать перед моим именем «романист», я написал — «писатель».
— Разве есть разница между романистом и писателем?
— Я не романист, а писатель. Когда-нибудь ты это поймешь, — сказал я и передал ему прошение.
Он тотчас надел свои старые гэта и, торопливо попрощавшись, ушел.
Не знаю, сколько прошло времени, я уж и думать о нем забыл, как вдруг однажды вечером он вновь появился в нашем доме. Смотрелся он непривычно — в ботинках, в форме студента Токийского университета. Жена сообщила мне об этом, не заходя в кабинет. Я тотчас спустился.
Он сидел на циновке, улыбаясь. Сказал, что сдал только что устный экзамен на место в банке М. Письменный экзамен состоялся ранее, и он, по его словам, был доволен своими ответами.
— Мне неизвестно, кто из экзаменаторов был господин Накатани, но я всем отвечал хорошо.
— Как так?.. Я-то думал ты подашь заявление и, в свойственной тебе манере, отправишься прямиком к Накатани… даже волновался… А ты, значит, вот как…
— Я и вправду хотел сразу же нанести визит, но начальник отдела по распределению меня предостерег… Мол, так нельзя, таким поступком я произвел бы неблагоприятное впечатление…
— Теперь, когда экзамены закончились… ты готов к тому, что тебя могут не взять в банк?
— Я не допускаю такой мысли, — сказал он решительно и, к моему удивлению, не засиживаясь, вскоре ушел.
Прошло всего два часа, когда раздался вдруг звонок от Накатани.
— Ты поручился за одного из претендентов на место в нашем банке. Он кто тебе — родственник?
— Ближайший сосед. Фамилия одна, так что в далеком прошлом, может, и было какое-то родство, но сейчас мы по документам не родственники.
— Он не проходит по своим семейным обстоятельствам, но, разумеется, то, что ты его поручитель, имеет значение. Все же объясни, почему ты согласился за него поручиться?
— Его покойный отец был моим одноклассником в начальной школе, кроме того, сам он, как и я в молодые годы, поступил в университет, преодолев немалые трудности. К тому же он считает работу в банке своим жизненным призванием…
— Идеологически он не красный?
— С этим все в порядке. При том, что учился на экономическом факультете, к марксистской литературе даже не притрагивался. По его словам, все свободное время он посвящал чтению книг о финансах.
— Неужели? Все же какой-то он неотесанный, кажется дикарем…
— Чего ты хочешь, сын рыбака… Я тоже в его годы был дикарем, разве нет? — рассмеялся я.
На этом наш телефонный разговор закончился. Я понятия не имел, как он может повлиять на зачисление Ёсабуро, но за ужином жена позвонила ему и передала мне трубку.
— Я узнал от вашей супруги, что вам звонил заместитель директора, — сказал он. — Я знал, что моя целеустремленность — залог моего поступления.
— Да, только слишком ты торопишься. Он позвонил всего лишь из дружеского ко мне расположения. Кстати, ты, случаем, по своим убеждениям не красный?
— Нив коем разе. Это он вас спросил?
— Ну и отлично, я так ему и ответил.
С этими словами я повесил трубку. Он, кажется, что-то еще хотел прибавить, но я уже не услышал.
На следующее утро, едва я сел за письменный стол и взялся за работу, как со стороны входа донесся громкий стук и одновременно душераздирающий крик:
— Сэнсэй! Сегодня утром я получил телеграмму из банка, меня приняли на службу!
Кричал Ёсабуро. Я почувствовал досаду и не стал спускаться. Через некоторое время из-за ставен послышался голос жены:
— Слышал, Ёсабуро взяли на службу?.. Он счастлив, но ему нужно что-то тебе сказать.
— Ладно… — ответил я, но, не желая прерывать работу, не спешил спускаться вниз.
Все же в конце концов пришлось это сделать.
— Я рад за тебя, — сказал я.
— Заместитель директора принял меня на службу благодаря вам, — сказал он, пригибаясь в низком поклоне. — Получив телеграмму, я тотчас позвонил начальнику университетского отдела по распределению, и он, поздравив меня, сказал то, что я и сам думаю: без вашего содействия мне бы никогда не добиться того, к чему я так стремился… Благодарю вас!
— Ну, довольно об этом. А ты, раз уж стал банковским служащим, трудись на совесть, чтобы поручателю не было за тебя стыдно!
— Обещаю.
— Ты, кажется, хотел мне что-то сообщить?
— Я заинтересовался, не освободил ли вас господин Мано, в бытность мэром Нумадзу, официально от изгойства, навел справки и узнал, что его сын проживает в Токио. Вчера я наконец с ним встретился. Он показал мне две открытки, которые вы послали господину Мано, и сказал, что его покойная мать очень ими дорожила. Открытки были посланы из Парижа и надписаны вашей рукой. По его словам, вы перед самым отъездом за границу почти полчаса беседовали с его родителями в их доме… Это правда?
— Да… Мы случайно встретились.
— Как это — случайно? Вы помните, о чем был разговор?
— Это было в 1925 году, и я уже плохо помню подробности. Я собрался ехать за границу учиться и рассчитывал отплыть на пароходе в середине мая, моя будущая жена тоже ехала за границу учиться… Наши отцы, связанные дружбой со времени учебы в Токийском университете, быстро сговорились насчет женитьбы, и хотя до женитьбы тогда дело так и не дошло, меня внесли в посемейный список, подали ходатайство о заграничном паспорте… Жена, приехав в Токио и поступив в английский колледж, сняла жилье неподалеку от дома моего отца в Адзабу, и, благодаря приятельским отношениям отцов, мы, естественно, сошлись.
Я посмотрел на жену, но она только улыбнулась и ничего не сказала.
— В то время путешествие за границу было сложным делом, я был весь в предотъездных хлопотах. Помнишь, ты зашла к моему отцу сказать, что получила паспорт и завтра возвращаешься в Нагою. Я же до отплытия захотел повидать знаменитую бухту Сэмбон. Отец посоветовал мне сойти с поезда в Нумадзу и, полюбовавшись бухтой, ехать в Нагою следующим поездом…
— Да, он был чудесный человек, твой отец, — сказала жена, — тут же принялся изучать расписание и нашел, что удобнее всего воспользоваться скоростным поездом, отходящим из Нумадзу в одиннадцать десять. А чтобы ты не заблудился, обещал сам показать тебе бухту.
— Вот так и получилось, что в конце марта, посадив его на поезд, я вышел со станции, не зная, чем заняться. Я уже раздумывал, не зайти ли к моему приятелю Уэмацу, когда неожиданно ко мне обратился элегантно одетый господин. Узнав, что имею дело с Мано — мэром города, я изумился, ведь это была наша первая встреча… Он предложил побеседовать в спокойной обстановке, подозвал двух рикш, и мы тотчас покинули привокзальную площадь. Проехали через мост и остановились у большого здания на правой стороне. Он сказал, что его жена, уроженка этих мест, также сейчас здесь, и провел меня в гостиную, выходящую окнами на реку Каногаву. Времени было мало, говорили мы не больше получаса, помню только, что успели многое обсудить…
— Скажите, а Мано не упомянул тогда о вашем изгойстве?
— Нет.
— О чем же вы говорили?
— Ну, я, как младший по возрасту, в основном отвечал на его вопросы, но о чем конкретно шла речь, не помню.
— После беседы вы тотчас расстались?
— У мэра, очевидно, были срочные дела, он оставил рикшу его дожидаться… Примерно через полчаса он уехал, а я покатил на своем рикше к станции. Мы расстались у ворот его дома.
— А в Ганюдо вы не заезжали?
Не ответив на его вопрос, я вот о чем вспомнил.
В тот день я собирался от Нумадзу доехать до станции Хара и зайти к Сигэо Уэмацу. Он был мне как старший брат, его родители меня неизменно привечали, говоря, что я всегда могу приходить к ним не стесняясь, как к себе домой, поэтому я решил, что, прежде чем уеду за границу, должен хотя бы разок у них показаться. Но пока я ждал поезд до Хары, вдруг сообразил, что не прихватил никакого подарка, и потому поехал обратно в Токио. А когда через несколько лет я вернулся в Японию, то был серьезно болен туберкулезом, наводившим на окружающих ужас и отвращение, и избегал с кем-либо встречаться. Увы, и Сигэо не был исключением, а его родители так и умерли, не дождавшись от меня благодарности…
В эту минуту Ёсабуро, верно, чтобы привлечь мое внимание, сказал чуть громче:
— А что вас побудило послать из Парижа открытки господину Мано, написав такие взволнованные слова?
— Что побудило?.. Я впервые жил в цивилизованной, доселе неведомой мне стране и, разумеется, был взволнован, вот мне и захотелось поделиться этим с мэром, моим односельчанином, человеком, восприимчивым ко всему новому… К тому же я был молод… Но скоро я погрузился в учебу, и этими двумя открытками все и ограничилось.
— Я спрашивал у младшего Мано, не слышал ли он от родителей что-либо о вашем изгойстве… Уверяет, что не слышал. Мать как-то раз вроде бы упоминала о чем-то, но, по его словам, господин Мано, в бытность свою мэром, часто говорил жителям Ганюдо, что вы наверняка со временем станете гордостью села. Когда вы, побывав за границей, вернулись и стали писателем, многие в Ганюдо отзывались о вас с презрением, мол, и в вояж вы отправились, и писателем стали по своей бесхарактерности, но господин Мано всегда говорил своей супруге, что вы станете великим человеком, которым будет гордиться не только Ганюдо, но и Нумадзу… И она хранила две ваши открытки как драгоценность… После смерти господина Мано вся семья переехала в Токио, в Ганюдо у них ничего не осталось, и сын его, кажется, лет десять не был в родных краях. Посмеиваясь, он говорил, что с тех пор, как его батюшка перестал быть мэром, он тоже стал своего рода изгоем.
— Это все, что ты хотел рассказать? — спросил я, поднимаясь.
— Постойте, сэнсэй!.. Решив обратиться к вам со своей дерзкой просьбой, я постарался побольше разузнать о вас и в результате многому научился. Я бы хотел поблагодарить вас за это… То, что мне удалось узнать, всего лишь малая часть вашей жизни, и все же… Еще в детстве вы загорелись страстным желанием учиться и, несмотря на осаждавшие вас тяжелейшие обстоятельства, трудясь не покладая рук, смогли добиться успеха. Без чьей-либо помощи со стороны… Я едва не расплакался, слушая о выпавших на вашу долю испытаниях. Вдохновленный вашим примером, я принял твердое решение несмотря ни на что воплотить свою давнюю мечту. Я поверил, что тоже непременно добьюсь успеха. Именно благодаря этой вере я был принят на службу в банк М., но еще мне помогала какая-то великая сила. Я это остро почувствовал, когда сегодня утром входил в ворота вашего дома. Вот за все это я и хотел выразить вам свою признательность.
— Спасибо… Ты еще молод. Ты стал банковским служащим, но, знай, впереди у тебя нелегкая жизнь. Придется попотеть, прежде чем добьешься на своем месте успеха.
Поблагодарив жену, Ёсабуро ушел.
Я поднялся на второй этаж к своей делянке и тотчас взялся за работу. Однако безмерная радость Ёсабуро продолжала звучать в моей душе, и я никак не мог успокоиться. Открыв выходящее на юг окно, я присел рядышком и внимательно в него всмотрелся.
В этом доме я временно поселился весной сорок шестого года, когда мне было пятьдесят лет, рассчитывая вскоре переселиться в дом, заново отстроенный на месте сгоревшего, и вот незаметно мне уже исполнился шестьдесят один год. И за эти десять лет я ни разу не выглянул в окно. Может, потому, что время было несчастливое и на душе неспокойно?..
Сразу налево неподалеку виднеется рощица храма Мисюку, но за десять лет там ни разу не устраивали религиозного праздника. Или в условиях американской оккупации это не разрешалось? Непосредственно за рощей — здание младшей школы, в которую ходила моя четвертая дочь. Меня выбрали главой родительского комитета, и моим первым делом было просить в районной управе, чтобы как можно быстрее вставили стекла в окнах нового школьного здания, построенного на месте сгоревшего. Я четырежды ходил в управу и просил отвечающих за это чиновников, мне говорили, что скоро все будет сделано, но дни проходили, а стекол в окнах все не было, наступили холода, и, занимаясь, школьники мерзли.
От членов родительского комитета в мой адрес раздавались упреки за то, что я, будучи главой комитета, не подарил чиновникам саке. Саке можно было достать на черном рынке, но я не хотел этого делать, поэтому, наконец собравшись с духом, я посетил главу управы и вновь настоятельно попросил его о стеклах, предупредив, что намереваюсь написать в газету о наших трудностях. Глава управы уговорил меня подождать со статьей, мол, стекла скоро вставят, и в самом деле, через три дня все окна школы были застеклены. И смех и грех!
В качестве председателя родительского комитета я в принудительном порядке должен был посещать лекции американцев, читавшиеся в зале управы, — «О демократии», «Задачи родительских комитетов», «Народное образование» и т. д. Все это звучало очень красиво, но сколько же раз приходилось выслушивать поучения о вещах, совершенно неприемлемых в тогдашней Японии!
Когда дочь окончила школу, я вздохнул с облегчением, что наконец-то смогу освободиться от обязанностей председателя родительского комитета, но мне сообщили, что устав комитета изменился и я еще два года обязан нести эту обузу.
В самом деле, несчастливые десять лет! — вздохнул я, глядя на небо. Я и небо-то здесь, в Мисюку, вижу впервые! — посмеивался я над собой. Да и сам этот район — при всей моей любви к пешим прогулкам, я по нему толком и не ходил, почти ничего в памяти не осталось…
— Поздравляю! — вдруг послышался крик.
Вздрогнув, я повернулся в ту сторону, откуда он исходил, туда, где под холмом были огороды, которые пересекала дорога. Там стоял «дедушка Судзуки» и махал мне рукой. Это был крестьянин лет семидесяти, каждый день он приходил на огород с противоположного берега речушки, протекавшей вблизи. Моя жена с его разрешения каждый день выбрасывала мусор в углу его огорода, называла его «дедушкой» и водила с ним дружбу.
— Слышал, вы вскорости переезжаете в новый дом. Поздравляю! В мире теперь все пойдет на лад. Но вы уж нас не забывайте, заходите!
— Спасибо!
— Если что-то надо пособить во время переезда, не стесняйтесь, скажите.
Молча поклонившись, я отошел от окна, повалился навзничь на постель, разбросав руки в стороны, и глубоко вздохнул. Лежа на спине, я мог видеть в открытое окно небесную синеву…
И вновь я задумался об этом несчастливом десятилетии. Почти все японцы были рады, что окончилась долгая, тяжелая война и воцарился мир, но чтобы освободиться от последствий войны, надо было еще избавиться от всевозможных притеснений, как со стороны оккупационных властей, так и от своих, доморощенных чинуш, откуда проистекали все беды, все несчастья… В эти десять лет и я не был исключением…
И вдруг я вскочил, точно в меня ударила молния.
Я вообразил себя несчастным потому, что, запершись в темной каморке, день и ночь, точно батрак, возделывал пером рукопись… Да, так и есть. Я, изволите видеть, писатель! Горько улыбнувшись, я вновь откинулся на постель и задумался.
В эти десять лет я, находясь в расцвете творческих сил, писал безо всяких усилий. Среди опубликованных произведений ни одно не получило плохой критики. Оставшийся незамеченным в Японии, роман «Умереть в Париже» был издан в Париже во французском переводе, удостоился высокой оценки критиков, в Бельгии вышел в массовом издании, в Швейцарии — в дорогом, даже в Польше перевели, кроме того, на французский был переведен «Потомок самурая». На гонорары от этих книг моя третья дочь получает музыкальное образование в Париже. В конце концов, в европейских странах меня осыпали наградами, которых я ни разу не удостаивался в Японии, и, что особенно лестно, Французская академия присудила мне Большую премию дружбы… Вряд ли будет бахвальством сказать, что это и есть писательское счастье.
И я воскликнул, словно желая развеять хмурые мысли:
— Я не батрак! Я прекрасный писатель!
Этот крик услышала снизу жена, поднялась по лестнице, из коридора заглянула через щель в перегородке и сказала:
— Ты меня напугал. Во сне, что ли, вопишь? Спать днем — верный способ простудиться!
— Я не спал, — сказал я, приподнимаясь с кровати. — Я перестал быть литературным поденщиком. Ты тоже больше не жена крестьянина. Отныне ты будешь женой писателя!.. Вот что я решил.
— Я и так счастлива, — рассмеялась жена, спускаясь по лестнице.
Глава третья
В конце февраля 1957 года, как и было запланировано, завершилось строительство моего нынешнего дома на месте прежнего, сгоревшего, в Восточном Накано, и я смог наконец выехать из дома, который снимал в Мисюку.
Жена Н., проектировавшего мое новое жилье, дочь профессора медицины, с которым я во время своего пребывания в Париже почти год поддерживал дружеские отношения, только-только начала работать в Токио дизайнером по интерьерам и взяла на себя труд подобрать и закупить для нас мебель, чем сильно нас выручила, но сам переезд обещал быть весьма тяжелым и хлопотным. Наша семья на тот момент состояла из меня, моей жены и четвертой дочери, ученицы третьего класса школы верхней ступени. Едва мы начали приготовления к переезду, жена вдруг сказала с грустью в голосе:
— Этот Ёсабуро, с тех пор как решилось его устройство на службу, у нас и носа не кажет, а в университете сейчас, кажется, каникулы, может, он мог бы нам помочь… Позвонить, что ли, ему?
— Возможно, у него сейчас выпускные экзамены… К тому же не настолько мы с ним близки, чтобы просить о помощи при переезде.
Так я ответил, но при этом подумал, что сын того Тигра, хоть и проучился в Токийском университете, не блещет ни красноречием, ни манерами, сразу видно — выходец из рыбацкой деревни, поэтому, несмотря на то что его взяли в банк М., в будущем ему придется несладко, надо бы за ним присмотреть. Как бы там ни было, меня несколько удивляло, что в последнее время он перестал у нас появляться.
Возвращаясь к переезду — женщина, которая до войны долгое время служила у нас домработницей, а сейчас работала в Акабанэ (от пожаров она не пострадала и жила в полном достатке), пришла за два дня до переезда и помогала в течение нескольких дней, чем оказала жене неоценимую услугу. И все равно, намаявшись за два дня переезда, жена в новом доме тотчас повалилась на кровать и даже не стала ничего есть.
Прошло пять дней после переезда, и в конце концов у нас троих наладилась обычная семейная жизнь.
Младшая дочь училась в третьем классе женского колледжа и была рада тому, что из нового дома удобнее ходить на учебу. За год до того, как она пошла в школу, по условиям военного времени мы отказались от прислуги, и она привыкла все свои дела делать сама, а кроме того, постоянно помогала матери по хозяйству.
Моя жена радовалась, что благодаря этому она может жить без чужой помощи в соответствии со своим идеалом жены крестьянина. Что касается непривычных бытовых устройств в новом доме, дочь, расспросив мастеров о премудростях их эксплуатации, подробно записала и повсюду развесила инструкции, да еще всякий раз вежливо объясняла матери, как ими пользоваться. И жена была счастлива, что может в полной мере наслаждаться достижениями цивилизации.
Мой кабинет располагался на втором этаже, в комнате, выходящей на юг, здесь все уже было обставлено — кровать, обогреватель, мебель, книжные полки, и главное — большой письменный стол, на котором вольготно могли разместиться рукописи и справочники. Поскольку я влез в долги при строительстве нового дома, мне предстояло вести жизнь, еще больше напоминающую жизнь батрака, и вкалывать еще усерднее, чем в моей комнатушке в Мисюку.
Мы прожили в новом доме две недели, когда однажды, ближе к вечеру, зазвонил внутренний телефон, и жена сказала:
— Пришел Ёсабуро, ждет в саду.
Надеясь немного передохнуть, я спустился в сад.
За время войны сад совсем одичал, и после нашего переезда его восстановлением занимались садовники, отец и сын, служившие здесь еще до войны, Лично мне было совсем не до
устройства сада, но садовник, работавший здесь с двадцатых годов, с того времени, как тесть построил здесь выездной дом, незадолго до переезда посетил меня в Мисюку и попросил, чтобы ему поручили благоустройство сада в новом доме. Я объяснил ему, что с моими затратами на новый дом и долгами мне сейчас не до сада, но старик продолжал настаивать, говоря, что из благодарности к прежнему хозяину (моему тестю) хочет посадить дубки вместо погибших при пожаре в качестве изгороди по четырем сторонам усадьбы.
После некоторых раздумий я отдал садовнику гонорар, полученный накануне, сказав:
— Вот все, что я могу дать на обустройство сада, на эти деньги делайте что хотите!
На следующий день после переезда старый садовник пришел доложить, что немедленно приступает к работе, поскольку нашел достаточное количество метровых дубков, годящихся на изгородь.
Я был очень занят работой, мне было не до сада, да и просто по своей безответственности я полностью положился на него. Но когда я, услышав, что меня ждет Ёсабуро, спустился в сад, увиденное меня поразило.
Студент стоял там в своей старой студенческой форме и старых гэта, а за его спиной, там, где от парадных ворот поднималась лестница, вместе со стариком садовником и его сыном трудились еще двое рабочих.
Едва завидев меня, старый садовник подошел.
— Вы наверняка знали до войны усадьбу графа К. в Касюэне, — сказал он. — После пожара ее стали распродавать отдельными участками, мне сказали, что великолепные садовые камни им мешают, и я получил их даром. Если маленькие камни положить по обе стороны от входа в дом, а большие вдоль лестницы, это очень украсит сад. Кроме того, я взял из сада графа алую сливу, которую хотели срубить, так что если ее посадить сбоку от входа в дом… Думаю, этому и покойный хозяин был бы рад…
— Спасибо… Во всем, что касается сада, я полностью полагаюсь на вас, делайте что хотите, пожалуйста, — сказал я и повернулся к студенту.
— Вот это дом! — воскликнул он.
— Ничего особенного. Всего лишь половина от прежнего, сгоревшего, никакой роскоши. С чем ты сегодня?
— Вчера меня вызвали в банк и официально утвердили мой прием на службу, дали мне множество наставлений, но теперь уже волноваться не о чем. Сразу же пошел к вам доложить и глазам своим не поверил — в доме уже новый жилец! Он сказал, что не знает, куда вы переехали. Пришлось расспросить соседей — и вот я здесь…
— Поздравляю! Значит, ты теперь служащий банка М., так получается. Когда на работу?
— Я бы хоть сегодня, но вообще-то с первого числа следующего месяца.
— Как бы то ни было, я рад за тебя. Ты добился того, что казалось невозможным, — поступил на службу в банк М., твое желание исполнилось, поэтому ходить каждый день на службу в банк должно быть для тебя счастьем, держись!.. Япония во всех отношениях осталась феодальной страной, и в банке среди служащих идет жестокая борьба за место под солнцем, но ты смотри на это как на спортивный марафон, а главное — береги здоровье, чтоб не надорваться.
— Вы теперь живете ближе к станции, в центр добираться стало удобнее…
Общаясь с молодыми людьми, я, как правило, ограничиваюсь тем, что выслушиваю их и не задаю вопросов. И на этот раз, как ни любопытно мне было узнать, сколько человек приняли на службу в банк М. и сколько из них выпускников Токийского университета, я не стал ни о чем расспрашивать Ёсабуро. Я видел, что больше всего его сейчас занимает мой новый дом, поэтому отослал его к садовникам. Их было четверо, они втащили два огромных валуна через ворота и подняли вверх на несколько ступеней лестницы. Я бы охотно с ними поговорил, но не желал им мешать и, ничего не сказав даже Ёсабуро, вернулся в свой кабинет и принялся за работу. Юноша, немного поговорив с женой, ушел.
В следующий раз он появился в моем доме в середине апреля, вечером воскресного дня. В тот день студент университета, преподававший моей младшей дочери французский язык, припозднился на занятиях, поэтому мы обедали позже обычного, и когда на десерт приступили к чаю, зазвонил дверной звонок, и дочь пошла открывать.
— Какой-то человек в гэта и старой одежде, — сообщила она, понизив голос, — назвался Ёсабуро.
— Это выходец из Ганюдо, поступивший на службу в банк М, — сказала жена. — Проведи его сюда! Угостим его чаем…
Дочь, недоумевая, вышла из столовой и привела юношу к нам. Он сразу сел за стол, но вид у него был как у безработного.
— Что это с тобой? Разве ты не ходишь на работу в банк?
— Но сегодня воскресенье, выходной.
— Пусть и выходной, все равно нельзя в таком виде показываться на люди! А ну как встретишь кого-нибудь из начальства или сослуживцев?
— Наверно, вы правы…
— Если уж, как ты сам говоришь, сбылась твоя мечта и ты стал банковским служащим, то первым делом ты должен, даже у себя дома, тщательно следить за своей внешностью. Поскорее избавься от своей деревенской закваски.
Жена налила чай и подала ему. Он, подув на горячий чай, стал пить, громко прихлебывая, точно вычерпывая ложкой. Жена невольно улыбнулась, но постаралась, чтоб он не заметил.
— Прости, что лезу со своими советами, но не стоит пить чай и кофе прихлебывая.
— Да?
— За это прихлебывание тебя будут презирать.
— Я не знал.
— Мы оба вышли из рыбацкой деревни, оба дикари, и надо в этом отдавать себе отчет. Я сам от этого много пострадал, поэтому и болею за тебя. От твоих манер, привычек разит рыбаком, и окружающие будут презрительно думать, что ты плохо воспитан. Ты ведь в университете занимался исключительно финансовыми проблемами и не усвоил культуры, которую дает литература, поэтому, даже окончив университет, ты остался дикарем!
— Да, так оно и есть. Вот и начальник вчера мне сделал замечание. Я несколько раз приглашал в кафе девушку, служащую в банке… Разумеется, платил я… Но, по словам начальника, тот, кто путается с девушками из банка, никогда не сделает карьеру. А если я претендую на место в руководящем составе, мне вообще нельзя заглядываться на сотрудниц… Я не знал, для меня это было полной неожиданностью, я должен быть благодарен начальнику за его замечание…
— Тебе повезло. Не сделай тебе начальник замечания, тебе был бы навсегда заказан путь наверх.
— Только не это! — Рассмеявшись, он обхватил голову руками.
— Кстати, раз уж ты пришел, у меня к тебе есть серьезный разговор. Готов ты меня выслушать?
— А что такое?
— Возмечтав посвятить свою жизнь банковской деятельности, ты, сам того не зная, следовал своему призванию, предначертанному тебе велением Бога, или, если угодно, волей Великой Природы. Только благодаря этому ты, совершенно не отвечавший критериям отбора, смог поступить на службу. Мое участие в качестве поручителя было бы недостаточным, чтобы невозможное сделать возможным. Посему ты должен осознать, что твоя теперешняя работа отвечает твоему жизненному призванию, и стремиться достичь в ней совершенства, чтобы исполнить свое предназначение.
— Вот оно что…
— Если ты этого не осознаешь, можешь ко мне больше не приходить. Это будет потеря времени для нас обоих.
— Но вы в первый раз заговорили об этом, а мне и в голову не приходило… Обещаю все серьезно обдумать.
— Я хочу, чтобы ты понял: ты и только ты можешь осуществить свое призвание, я в твою работу вмешиваться не намерен… Но мне бы хотелось, чтоб ты добился успеха, относясь сознательно к тому, что тебе определено. Поэтому-то, не боясь показаться сующим нос не в свое дело, я попрекнул тебя, когда в твоих манерах проскользнули застарелые рыбацкие ухватки. Если не исправишься, тебя будут считать невоспитанным и не оценят как должно… Я сам так и не сумел до конца отмыться от рыбацкой грязи, из-за которой много пострадал, может быть, поэтому я так щепетильно забочусь о тебе.
— Понятно…
Вскоре он ушел.
В следующий раз он пришел в сезон весенних дождей, в субботу, около трех.
Утром моя младшая дочь получила разрешение на учебу за границей, французское посольство выдало визу, и мы все облегченно вздохнули.
Дочь этой весной окончила высшие курсы женского колледжа. Она решила воспользоваться тем, что в открывавшемся в начале сентября международном съезде ПЕН-клубов от Франции должен был участвовать мой приятель Б., и поехать вместе с ним, чтобы поступать в Парижскую консерваторию. Готовясь к отъезду, она не докучала матери просьбами о помощи и сама собирала свой багаж. В Парижской консерватории уже училась наша третья дочь, писавшая нам каждую неделю и готовая устроить младшую сестру в том же женском пансионе, в котором проживала сама, так что в этом отношении жена была спокойна.
К несчастью, в ту эпоху и Япония и Франция испытывали большие экономические трудности, приходилось выполнять множество обременительных условий, и никак не удавалось получить разрешение на заграничную учебу даже за свой счет. Многие месяцы мы провели в беспокойстве, но вот наконец этим утром все благополучно разрешилось, и мы радовались всей семьей.
В половине четвертого, когда я спустился в столовую выпить чаю, пришел с визитом Ёсабуро. В отличие от своих прежних визитов, он был одет в элегантный пиджак. Его провели в столовую, предложив выпить чаю, и, едва сев на стул, он выпалил:
— Хочу поблагодарить вас за прошлый разговор. Теперь я каждое утро бесстрашно иду на работу с мыслью о том, что осуществляю свое предназначение, определенное мне Великой Природой.
— Да ну? И когда же ты это осознал?
— Через несколько дней после нашего разговора…
— Как же так? Если ты так быстро обрел уверенность, почему сразу не поблагодарил в письме или по телефону?.. Вот она — рыбацкая кость! Имеющие с тобой дело решат, что ты человек неблагодарный!
— Опять влип! — Улыбаясь, он схватился за голову.
— И все же, раз ты обрел уверенность в своем предназначении, ты сможешь лучше выполнять работу, это хорошо!
— На второй день после ваших наставлений, вечером, я позвонил своему однокурснику, о котором я вам уже говорил, поклоннику вашего творчества, мы встретились, и я пересказал ему ваши слова. Они произвели на него сильное впечатление, он сказал, что это главная идея вашего творчества, и многое подробно мне объяснил. Благодаря разговору с ним и его подробным разъяснениям я наконец-то все хорошо понял. Он настойчиво советует мне почитать ваши книги и обещал время от времени встречаться со мной и рассказывать о вашем творчестве. Я устыдился, каким же я был невеждой!
Пока мы беседовали, дочь заварила чай и расставила чашки. Я поднес чашку к губам, а жена, встретившись со мной взглядом, чему-то улыбнулась и повела глазами в сторону Ёсабуро. Он пил чай тихо, не прихлебывая, вполне пристойно. Я вспомнил нашу прошлую встречу и кивнул жене в ответ.
— Честно сказать, я заскочил к вам по дороге со службы, чтобы покаяться в своей дикости.
Он отставил чашку и, посерьезнев, начал рассказывать. В банке было принято решение учредить филиал в Нью-Йорке, а для работы в нем отобрать и подготовить двоих человек из поступивших на службу в этом году, в связи с чем объявили набор желающих. Он с радостью записался. Накануне объявления результатов экзамена его вызвали в отдел кадров. По словам начальника отдела, он прекрасно сдал экзамен, но поскольку человек с такими дурными манерами не подходит для жизни за границей, его не отобрали, на будущее же начальник дружески посоветовал ему усвоить столичный лоск.
— Усвоить столичный лоск, — сказал Ёсабуро, — это ведь то же самое, что, как вы выражаетесь, смыть с себя рыбацкую грязь. Я очень благодарен вам за ваши советы… Усвоить столичный лоск нелегко, но что, если жениться на женщине с хорошими манерами, не быстрее ли я добьюсь успеха?
— Женитьба не поможет. Чтобы смыть с себя рыбацкую грязь, человек сам должен потрудиться, другого пути нет. Такое не может исчезнуть после женитьбы, под влиянием жены. Надо учиться самому, внимательно наблюдая за поведением окружающих, и не только сослуживцев, работать над собой, иначе грязь пристанет навсегда. Знаю по своему опыту, если ты последуешь моему совету, все будет в порядке.
— Как все сложно!..
— Ничего не поделаешь! — невольно рассмеялся я. — Раз уж родился рыбаком… Но, поступив в университет, ты стал необъявленным изгоем, поэтому рыбаком тебе уже не быть… У тебя нет другого выхода, как смыть с себя рыбацкую грязь!
Надо сказать, что в начале февраля нынешнего (1989) года я передал издательству рукопись четвертой части, «Счастья человека», написанной по велению Великой Природы, и, вздохнув с облегчением, на некоторое время отошел от литературных трудов. Если позволяла погода, выходил в сад, прогуливался, созерцая деревья и травы, или, вынеся кресло, в праздности грелся на солнце.
Чаще же, устроившись в своем кабинете, разбирал письма, пришедшие в разгар моей работы, писал, в случае необходимости, извинения за то, что промедлил с ответом, просматривал книги и литературные журналы, присланные мне в течение года, наводил порядок, а когда уставал, присаживался к окну и праздно глядел на небо, следил за облаками, позабыв о времени.
Так в покое и праздности прошли дней десять, когда однажды от Великой Природы пришел строгий наказ: «Пиши пятую часть!» И даже была указана тема. Нынешние молодые люди, если и ставят перед собой какую-либо цель, легко впадают в отчаяние, и лишь немногие находят в себе волю добиться ее осуществления. Посему мне было приказано написать книгу, вдохновляющую людей, даже тех, кто испытывает отчаяние, добиваться своей цели, основываясь на мысли, что если уж цель избрана, она дарована Богом в качестве жизненного призвания.
Я почти не знаю нынешней молодежи. Да и возможностей узнать, чем живет молодежь, в моем возрасте не так много. Когда пишешь художественное произведение, не обойтись без героев, но я испытывал сильные затруднения, пытаясь выбрать подходящего для моей темы героя из современной молодежи, работа застопорилась. Прошло несколько дней, и Небесный сёгун, наблюдая за моими муками, не стерпел и дал мне любезный совет:
— Если хочешь воодушевить молодых людей, вряд ли тебе удастся найти героя среди нынешней молодежи. Но среди тех, кого ты встречал на своем долгом жизненном пути, найдется немало подходящих к твоей теме. Покопайся-ка в памяти…
Я молчал, и тогда Небесный сёгун вновь заговорил:
— Помнишь Ёсабуро, из банка М.? Разве он не один из них? Как бы там ни было. Бог в нетерпении — когда же ты возьмешься за труд! Ведь ты так порадовал Бога своей великолепной четвертой частью. Давай же взбодрись и сегодня же принимайся за работу!
И он стоял надо мной, вложив мне в пальцы перо и погоняя, пока я не дописал до этого места, взяв в герои Ёсабуро.
В те два года, с того дня, как Ёсабуро впервые явился ко мне с просьбой стать его поручителем, и до его визита в сезон весенних дождей, я очень часто уходил по делам ПЕН-клуба, поэтому, вообще-то говоря, удивительно, что он каждый раз, приходя, заставал меня дома.
В этой связи будет нелишним кратко коснуться моих отношений с ПЕН-клубом.
Говорят, что перед войной, в 1935 году, из японского посольства в Лондоне в Министерство иностранных дел пришло официальное письмо с предложением учредить в Японии ПЕН-клуб. За четыре года до этого Япония оккупировала Маньчжурию, за что, разумеется, подверглась изоляции со стороны цивилизованных стран Западной Европы, и японское посольство в Лондоне, сожалея об этом, решило, что было бы целесообразно организовать в Японии ПЕН-клуб по примеру тех, какие в то время получили распространение в странах Западной Европы, чтобы войти в международную организацию ПЕН-клубов.
Заведующим информационно-культурным отделом Министерства иностранных дел был поэт, ученик Симадзаки Тосона, поэтому он первым делом посетил своего учителя и посоветовался с ним. Тосон переговорил со своими друзьями, подолгу жившими в Европе, Масамунэ Хакутё и И кума Арисимой. Заведующий отделом, со своей стороны, пригласил к себе издателей, недавно вернувшихся из Западной Европы, которые должны были стать членами будущего клуба, и обсудил это дело с ними. Двое издателей сказали, что во время своего пребывания в Лондоне и Париже присутствовали на заседаниях ПЕН-клубов, и объяснили, как действуют ПЕН-клубы в этих странах. В конце концов, заведующий культурно-информационным отделом, проделав большую работу, в июне того же года открыл первое подготовительное собрание для учреждения японского ПЕН-клуба.
Через два дня меня посетил человек от Тосона с предложением стать главным казначеем ПЕН-клуба, председателем которого является сам Тосон.
Я сказал, что это невозможно, сославшись на то, что прохожу курс природного лечения от туберкулеза, но тотчас вспомнил, как некоторое время назад Ясунари Кавабата в своей литературной хронике устроил мне разнос, назвав «дилетантом, человеком, находящимся вне серьезной литературы», и, когда я был в подавленном настроении, авторитетнейший Тосон, с которым я был лично не знаком, прислал того же человека приободрить меня и передать, чтоб я не принимал близко к сердцу слова Кавабаты. Я сказал, что завтра утром зайду к Тосону и дам окончательный ответ.
На следующий день я посетил его логово в Адзабу, маленький домик в японском стиле. Войдя в тесную прихожую, я первым делом поблагодарил писателя за сочувствие и попросил избавить меня от обязанностей казначея, сославшись на свою болезнь. Тогда заговорил Тосон.
Члены ПЕН-клуба, в соответствии с английским названием PEN, поэты — Р (poets), издатели — Е (editors) и романисты — N (novellists), в современной Японии не самые обеспеченные люди и платить больших членских взносов не в состоянии. Однако ПЕН-клубу необходимо новое и достаточно просторное офисное здание. Кроме того, потребуются деньги на оборудование, на подбор справочной литературы. На должность секретаря нужен человек, имеющий большой доход, вроде главного редактора какого-нибудь популярного журнала. Ведь в обязанности секретаря будет входить в основном общение с иностранцами, что требует немалых расходов. Покрыть их одними членскими взносами невозможно. Но нашелся достойный человек, который немедленно откликнулся на просьбу Тосона. Договорились, что дважды в год он будет выделять деньги на нужды ПЕН-клуба. Самому Тосону придется стоять у руля, и это несколько смущало жертвователя, поэтому Тосон подумал о своем представителе, которому мог бы всецело доверять, и не нашел никого лучше меня. Работа главного казначея — дважды в год ходить к жертвователю и получать деньги. Все прочие бухгалтерские обязанности — в ведении секретаря.
— Прошу вас, дайте свое согласие! — воскликнул Тосон и отвесил низкий поклон. Я так расчувствовался, что согласился.
В октябре открылась первая конференция ПЕН-клуба, были утверждены: председателем — Тосон, его заместителями — Хоригути Дайгаку
[13] и Икума Арисима
[14], управляющим делами — Сэйитиро Кацумото, главным казначеем — ваш покорный слуга, а в следующем месяце открылся учредительный съезд ПЕН-клуба.
Я впервые участвовал в публичном мероприятии, имеющем отношение к литературе, из знакомых лиц был один Тосон. Единственное, что меня утешало — секретарем был назначен Минова, главный редактор журнала «Кайдзо». Когда, месяца два тому назад, одна из статей, напечатанных в «Кайдзо», вызвала недовольство военных и тираж был запрещен, он взял на себя ответственность и ушел из издательства.
На следующий день после съезда я, выполняя свою обязанность главного казначея, отправился, как представитель Тосона, к жертвователю.
Им оказался один из японских олигархов, барон Киситиро Окура. Он встретил меня весьма радушно в директорском кабинете компании, сказал с улыбкой:
— Я все приготовил, — и передал мне чек. Меня поразило, что сумма была много больше той, что я когда-то получил в качестве премии за роман. Я поспешно убрал чек в конверт и поблагодарил:
— Большое вам спасибо. Я немедленно передам деньги Тосону. ПЕН-клуб только что учрежден, но председатель сейчас же откроет банковский счет, положит на него деньги и вступит в его управление.
— Передайте Тосону, чтоб он не извлекал из них прибыль и использовал только на представительские нужды… Если вы сейчас направляетесь к нему, я могу вас подбросить, — предложил он и приказал подогнать машину.
Пока мы ждали, барон сказал:
— Тосон был очень рад, что смог с вами познакомиться. Прошу вас, помогайте ему и поддерживайте. В следующий раз не спеша побеседуем втроем…
С этими словами он со мной простился. Сидя в машине, я припоминал наш разговор и спрашивал себя, не ослышался ли я насчет того, чтоб не извлекать из денег прибыль… Как бы там ни было, едва переступив порог, я пересказал Тосону слово в слово свой разговор с бароном и передал чек. Тосон поблагодарил, тотчас вызвал секретаря и поручил открыть счет и положить на него деньги.
Об этой денежной помощи знали только Тосон, Арисима и я. Публично о ней не объявляли и тратили довольно безалаберно, но никому до этого не было дела. Мне хотелось узнать, почему барон помогает Тосону. Это открылось после двух лет общения с бароном.
Дважды в год Тосон и я получали приглашение на обед в особняк барона. Обеды проходили в узком кругу, барон с супругой и мы двое, но напоминали они не столько дружескую пирушку, сколько обеды в высшем парижском кругу, которые длятся два с лишним часа и сопровождаются непринужденной светской беседой.
Обычно в доме барона нанимали двух поваров — знатоков китайской и французской кухни. По слухам, повар, готовивший китайские блюда, в первый раз ужасно взволновался, узнав, что в гости придут писатели. Он был уверен, что у писателей особо изощренный вкус. А гостям было все равно, что они едят, им все доставляло удовольствие. Как только садились за стол, супруга барона подбрасывала Тосону заранее заготовленную тему для разговора, и, обычно тяжелый на язык, Тосон отвечал с живостью и переадресовывал вопрос барону, который, подхватив тему, забавлялся ею, как безделушкой. Постепенно и я втянулся в эти словесные игры. Это была не беседа, не разговор, а застольная игра в словесные бирюльки, то, чему я был свидетель всякий раз, когда, в бытность свою во Франции, получал приглашение отобедать в доме кого-либо из высшего круга. За такими обедами принято, не переступая границ частной жизни, удовлетворять свое любопытство, рассыпая блестки остроумия и не стесняясь привлекать к себе внимание… Когда же обед заканчивается, все, о чем говорили за столом, начисто отметается и предается забвению, и гости расходятся, довольные тем, что смогли укрепить взаимную симпатию и доверие.
Попав в первый раз в особняк Окуры, я словно бы ощутил себя в гостях у моих парижских друзей и, прервав вынужденное, продолжавшееся десять с лишком лет молчание, спрашивал обо всем, что приходило в голову, говорил о себе открыто, без стеснения, так, точно мы Париже. Мои собеседники были довольны, да и сам я был счастлив, точно вырвался на свободу.
Во время нашего второго визита барон с супругой уже обращались со мной, молодым человеком, как со своим старым приятелем. На этот раз подавали французские блюда, и между прочим — гусиную печень. Я не удержался от вопроса:
— Это же гусиная печень, не правда ли? Я и во сне не мог представить, что буду есть в Токио гусиную печень…
— Вы так ее любите?
— За пять лет моего пребывания во Франции мне удалось поесть ее всего три раза, уж очень она дорогая… Один мой товарищ в Парижском университете говаривал: вот бы разбогатеть так, чтобы хоть раз в месяц есть гусиную печень!
— Надо передать повару. Он обрадуется. Из тех, кого мы до сих пор ею угощали, никто даже внимания не обратил на нее, — засмеялась баронесса.
В результате таких обедов у меня, естественно, сложилось впечатление, что мы стали друзьями.
Барон Окура в юности учился в Лондоне, изучал математику и даже получил ученую степень. В то же время он увлекся западной музыкой, сам сочинял музыку и играл на флейте. Вернувшись на родину, он унаследовал дело отца и на несколько лет, забыв о своих увлечения, погрузился в работу, но как только у него появилось свободное время, вновь начал заниматься игрой на флейте. Он был не вполне доволен звучанием своего любимого инструмента и долго размышлял о том, как переделать флейту, наконец обратился за советом к жившему в Токио молодому виртуозу-флейтисту, а тот свел его с мастером, делающим флейты. Втроем они, совещаясь, изготовили немало флейт новой конструкции, пока наконец на третий год не получили удовлетворивший их инструмент, назвав его окураро. К этому времени вокруг барона уже собралась молодежь из любителей музыки, им сразу пришлась по вкусу окураро. Барон взялся написать музыку специально для новой флейты, и те пьесы, которые показались ему наиболее удачными, роскошно издал и раздарил своим молодым друзьям. Как-то раз один из них предложил барону написать музыку на японские стихи, чтобы исполнять под аккомпанемент окураро, и дал ему на пробу юношеское стихотворение Тосона.
Барон положил на музыку стихотворение Тосона и сделал аранжировку для окураро, потом пригласил молодого баритона, попросил его спеть и выслушал его мнение, чтобы подправить и окончательно отделать музыку. При этом присутствовал известный мастер нагаута — японского музыкального сказа, интересовавшийся западной музыкой, поэтому барон полушутя предложил ему исполнить свою музыку в стиле нагаута. Мастер попробовал, баритон и молодые любители музыки высказали свои мнения об услышанном и попросили мастера исполнить теперь нагаута по законам европейского пения. Получилось довольно неплохо. В результате барон Окура решил издать ноты своей музыки на стихи Симадзаки Тосона, но прежде испросил разрешение Тосона на право использования его текста. Партитура была роскошно издана в двух вариантах. Один вариант был сделан стараниями мастера нагаута так, чтобы его могли прочесть певцы нагаута, незнакомые с европейской нотной грамотой. Взяв ноты, барон нанес визит Тосону, учтиво поблагодарил его, преподнеся оба нотных издания, и спросил, как лучше ему выплатить гонорар. Тосон сказал, что напрасно тот беспокоится и, если ему будет угодно, он может взять и другие стихи, а на прощание подарил барону свой первый сборник, ставший библиографической редкостью.
Когда Тосон стал председателем японского ПЕН-клуба, барон пожертвовал деньги не потому, что его заботила судьба ПЕН-клуба, он просто был рад, что может отплатить свой давний сердечный долг Тосону, только так и надо понимать его слова о том, чтобы деньги «использовали на свои нужды».
Между тем флейта окураро завоевала большую популярность, раз в год в театре «Тэйкоку» устраивали музыкальный вечер, и, несмотря на отсутствие рекламы, извещений и приглашений, зал всегда был полон, и весь вечер, до девяти часов, можно было наслаждаться прекрасной музыкой.
В те времена, когда я, став главным казначеем, волей-неволей столкнулся с делами ПЕН-клуба, военные власти имели сильное влияние во всех областях японской жизни. Едва только, следуя распоряжению японского посольства в Лондоне, приступили непосредственно к созданию японского ПЕН-клуба, вмешались военные. Они заявили, что ни за что не разрешат организацию, которая была бы филиалом международного ПЕН-клуба. Если уж хочется создать организацию такого рода, она должна быть самостоятельной и занимать равноправную позицию по отношению к международному ПЕН-клубу. Это был приказ. Пришлось перекроить устав в соответствии с приказом военных, и только тогда учреждение клуба было позволено…
В принципе, японский ПЕН-клуб с таким уставом не мог считаться филиалом международного ПЕН-клуба, но в результате неких переговоров лондонского посольства он в конце концов был-таки признан филиалом, и на следующий год председателя пригласили на международный съезд ПЕН-клубов в Буэнос-Айрес.
В июле этого года супруги Тосон в сопровождении заместителя председателя Арисимы отправились морем на съезд. Они собирались на обратном пути заехать в Нью-Йорк и побывать во Франции, где оба когда-то учились. Кстати, по всему пути их следования располагались филиалы управляемой бароном компании, которые оказывали им всяческую помощь. На следующий год (1937), в начале февраля, Тосон благополучно вернулся в Токио.
За время своего отсутствия Тосон затеял строительство нового дома недалеко от станции Ёцуя и до переезда туда остановился в гостинице «Тэйкоку». Вскоре он выразил желание со мной встретиться. В ночь, когда он причалил в Кобе и поездом вернулся в Токио, я встречал его на Токийском вокзале и проводил до гостиницы. С того времени прошло три дня. Зачем я вновь ему понадобился? — недоумевал я.
Тосон провел меня в тесную гостиную своего номера и с ходу заговорил о том, что в скором времени собирается опубликовать доклад о международном съезде ПЕН-клубов, но прежде непременно хочет посоветоваться со мной.
Получив возможность после долгого перерыва взглянуть на Японию со стороны, из-за границы, он был изумлен. Военные незаметно сосредоточили в своих руках огромную власть, односторонне развязали войну, убивают мирных жителей в Маньчжурии и Китае, в результате Япония оказалась в изоляции от всех мировых держав. Окно Японии, прежде распахнутое для всех стран мира, стараниями военных почти наглухо закрыто, осталась лишь маленькое оконце, а именно — японский ПЕН-клуб. Понимая, насколько это оконце важно как для международного сообщества, так и для самой Японии, мы должны соблюдать осторожность, чтобы военные его не захлопнули. Надо отдавать себе отчет, что ПЕН-клуб нормально функционировать не может. Как это ни безрассудно, в скором времени военные, вероятно, развяжут войну против всего мира…
Так он шепотом поверял мне свои тревоги.
Я слушал, опустив глаза. Несколько дней назад я слышал то же самое от моего названого брата, с которым мы в юности поклялись быть братьями, вице-адмирала, главнокомандующего военно-морской базы в Ёкосуке.
Под конец Тосон добавил:
— Уже довольно будет, если члены ПЕН-клуба, не осуществляя никакой деятельности, станут раз в месяц с участием исполнительного директора собираться на ужин в «Эване» в Маруноути.
— С некоторых пор, месяца два уже, наши собрания подслушивает агент политического сыска, спрятавшись за ширмой.
— Ну что ж, так даже лучше. Ведь мы обычно болтаем о таких пустяках! — рассмеялся Тосон и добавил, что ему нужно посоветоваться со мной еще по одной проблеме.
С тех пор как ПЕН-клуб практически прекратил работу, положение секретаря Миновы было незавидным. Ему оставалось лишь, как мальчику на побегушках, выполнять разные мелкие поручения. И это при том, что в бытность свою главным редактором «Кайдзо» он имел репутацию ученого-политолога. Нет ли у него желания преподавать в частном университете? В университете А., где приятель Тосона исполнял должность директора, молодой преподаватель призван в армию, поэтому если у Миновы есть такое желание, это удачный случай. Тосон хотел, чтобы я узнал у Миновы, подходит ли ему такое предложение. Но мне подумалось, что ему будет намного приятнее, если сам Тосон непосредственно спросит у него. Я так прямо и сказал.
В начале марта секретарь Минова стал преподавать в университете А. и ушел со своего поста, но никто не знал, что это произошло с подачи Тосона. В дальнейшем деятельность ПЕН-клуба осуществлялась по усмотрению председателя. Чтобы выполнять свою роль окошка в мир, на пятом этаже здания «Мацуда» в Гиндзе было снято просторное помещение под офис ПЕН-клуба. Собрав книги и материалы, связанные с международным ПЕН-клубом, организовали публичный читальный зал. Там были не только книги, пожертвованные членами клуба, но и специально для этих целей закупленные в стране и за рубежом. В офисе не покладая рук трудился новый секретарь Нацумэ, юноша, только что окончивший школу.
Что касается деятельности самого ПЕН-клуба, то, поскольку в том году разразилась японо-китайская война, в отношениях с военными требовалось проявлять крайнюю осторожность. Во-первых, с этого года, получая приглашения на международные съезды ПЕН-клубов, нельзя было участвовать в качестве официальных представителей от Японии, поэтому решили, что если кто-то из членов клуба случайно окажется в месте проведения съезда, он будет просто присутствовать на заседаниях. Несмотря на все меры предосторожности, исполнительный директор клуба Сэйитиро Кацумото вызвал недовольство военных и был вынужден не только оставить свою должность, но и выйти из клуба. Его место заступил Кэндзо Накадзима, но военные власти в отместку вскоре призвали его на трудовую повинность… Не прошло и двух лет после переезда клуба в новый офис, как военные намекнули, что читальный зал ПЕН-клубу не нужен, и все книги были перенесены на склад издателя — члена клуба, да и сам офис переместился в тесную комнатушку на третьем этаже того же здания. В то же время и барону Киситиро Окуре, по-видимому, поступило предостережение от военных, он с сожалением сообщил, что должен вдвое сократить свою денежную помощь. В правлении нашлись такие, кто настаивал на роспуске японского ПЕН-клуба, но Тосон не соглашался. Все это происходило за год до начала Тихоокеанской войны.
С этого времени вся переписка японского ПЕН-клуба с международным ПЕН-клубом просматривалась военными и практически подвергалась конфискации. Редкие послания, доходившие якобы по недосмотру, содержали настойчивые вопросы вроде того, противодействует ли японский ПЕН-клуб бомбардировкам, осуществляемым японской армией в Китае. За этим угадывался провокационный замысел военных, — вопросы оставляли без ответа. В начале лета 1941 года из международного центра пришло приглашение прислать делегацию на международный съезд ПЕН-клубов, открывающийся в Лондоне. Тосон ответил: «В нынешних обстоятельствах даже поддерживать связь между нами стало невозможно. Однако японский ПЕН-клуб все еще жив», а в декабре разразилась Тихоокеанская война.
Но даже в это время Тосон раз в месяц приглашал нескольких писателей своего поколения в «Эван» на ужин и дружеские посиделки, называя это заседанием исполнительного комитета ПЕН-клуба. Писатели, воспитанные, если можно так выразиться, в духе эпохи Мэйдзи, из которых я был знаком только с Масамунэ Хакутё и Токудой Сюсэем
[15], освободившись от долгой эпохи феодализма, взялись за перо, вдохновленные идеями свободы, независимости личности и равноправия, и даже в их застольной болтовне было много интересного и поучительного.
Особенно впечатляла непреклонная вера и твердая воля Тосона, убежденного, что в цивилизованной стране интеллектуалы, особенно писатели, как бы ни менялась политическая ситуация, должны бороться за мир во всем мире и, поддерживая друг друга, трудиться над осуществлением своих высоких идеалов. Благодаря своей убежденности и воле он занял пост первого председателя японского ПЕН-клуба. И благодаря тому же так ревностно взялся за то, чтобы превратить японский ПЕН-клуб в окно, открытое миру. Он верил, что достаточно приоткрыть маленькое оконце, чтобы духовный обмен не прекращался. О его убежденности и воле я часто слышал в разных выражениях непосредственно от него самого, но даже на дружеских ужинах в «Эване», подслушиваемые агентом, прятавшимся за ширмой, Тосон и писатели его поколения, Сюсэй и Хакутё, обсуждая свои идеалы, как нечто, принадлежащее далекому прошлому, находили возможность поддержать и приободрить друг друга. Из более молодых, иногда получавших приглашение на эти посиделки, сейчас в живых остался только Тэцудзо Таникава
[16] (он тоже скончался в сентябре 1989 года), но порой на ужин являлись и совсем неожиданные люди, то ли случайно затесавшиеся, то ли пришедшие просить помощи, они о чем-то тайно совещались с председателем и вскоре уходили. Назову хотя бы Юй Дафу
[17], высланного в эмиграцию Го Можо
[18].
Однако на следующий год после начала Тихоокеанской войны, в апреле, по инициативе националистических кругов был учрежден Патриотический союз японских писателей, а его председателем избран опять же Тосон.
Тосон противился своему участию в этом Патриотическом союзе, хотел категорически отказаться и все же в конце концов занял пост председателя (мне он говорил, что несет этот крест ради того, чтобы не уничтожили ПЕН-клуб). Видимо, если бы он не занял пост, то ПЕН-клуб, по замыслу военных, был бы немедленно распущен. Ведь не прошло и месяца, как Патриотический союз предложил слиться с ПЕН-клубом. Бывший председателем обеих организаций Тосон решительно это отверг.
Тогда же, вероятно по предложению Тосона, было впервые организовано заседание в честь барона Киситиро Окуры, оказывавшего денежную помощь клубу со дня его основания. На этом заседании в Цукидзи вместе с супругами Тосон, Икумой Арисимой и Ёсиро Нагаё
[19] присутствовал и я, но помню, что все было очень грустно. Через несколько дней после этого забрали в армию секретаря Нацумэ, Тосон, взяв на себя ответственность, закрыл офис ПЕН-клуба в здании «Мацуда» и, как в первое время существования клуба, получив согласие его члена — издателя Сюдзабуро Судзуки, открыл канцелярию в его офисе.
Это было весной следующего года (1943). Тосон передал мне, что если я окажусь в его районе, он будет рад меня видеть. Я тотчас пришел к нему домой. Он сидел за столом в японской комнате. Я, как обычно, первым делом доложил ему о делах финансовых: после закрытия офиса ПЕН-клуба я, с разрешения Сюдзабуро Судзуки, положил чек на девять тысяч иен в сейф его офиса, но поскольку ПЕН-клуб прекратил свою деятельность, а эти деньги господин Окура пожертвовал из благодарности лично Тосону, то если в эти чрезвычайные времена он захочет ими воспользоваться… Тосон прервал меня:
— Когда-нибудь ПЕН-клуб возобновит свою работу, до тех пор не следует притрагиваться к этим деньгам.
Согласившись, я попросил его сообщить своему заместителю Арисиме, что деньги хранятся в сейфе офиса господина Судзуки. Он вновь резко меня оборвал:
— Сегодня я хотел тебя поблагодарить.
Я невольно поправил воротник и взглянул в глаза Тосону, а тот тихим голосом стал рассказывать.
В прошлом году, когда его избрали председателем Патриотического союза писателей Японии, он понял, что военные тем самым словно бы распяли его на кресте. Дело в то, что два года назад, когда писатели всем скопом, заискивая перед военными, участвовали в организации под названием Ассоциация помощи трону, многие в руководстве ПЕН-клуба советовали Тосону по этому случаю распустить ПЕН-клуб. Предложив этим людям выйти из ПЕН-клуба, он твердо заявил им, что если даже он, председатель, останется в одиночестве, клуб он распускать не станет. В результате по приказу военных он был назначен главой Патриотического союза писателей, и поскольку в нынешних условиях отказаться не было возможности, военные и все вокруг были уверены, что, приняв новый пост, он уйдет с поста председателя ПЕН-клуба и тот сам собой распустится. Однако Тосон каждый раз, когда его спрашивали, прямо отвечал, что он председательствует в обеих организациях. Нынче же, поняв, что военные «распяли его на кресте» и не сегодня завтра убьют, он страстно желал лишь одного: чтобы и после его смерти ПЕН-клуб продолжал существовать, оставаясь в Японии последним окном, открытым в мир. Он искренне был озабочен только этим. Тосон вновь поблагодарил меня, сказав, что в этих скорбных трудах ему сочувствовали только четыре человека — Масамунэ Хакутё, Токуда Сюсэй, Икума Арисима и я.
Не находя слов для ответа, я склонил голову перед его благородством.
Между тем Тосон продолжал.
Военные постоянно сообщают народу о своих повсеместных победах, но в действительности они, по-видимому, попали в тяжелое положение, им уже теперь не до нищего старика, «распятого на кресте», и благодаря тому, что они забыли пронзить его копьем, он, осмелев, спустился с креста и даже отпраздновал Новый год… Тосон улыбнулся.
— А все потому, что через последнее открытое в мир окошко ПЕН-клуба мне пришла благая весть, — сказал он и показал мне письмо из-заграницы.
Это была новогодняя открытка — поздравление с 1943 годом, отправленная из швейцарской Лозанны через Министерство иностранных дел на имя председателя ПЕН-клуба Тосона. Она была послана председателем ПЕН-клуба Лозанны М., с которым Тосон встретился и сдружился во время международного съезда ПЕН-клубов в Буэнос-Айресе. Вот этот поразительный текст:
Япония — маленькая страна, которую называют восточной Швейцарией, и при этом она ведет в одиночку войну с мощными державами, все швейцарцы поражены ее мужеством и, испытывая к Вашей стране глубочайшее уважение, разделяют ваши неимоверные страдания. Особенно вы, писатели, желающие мира во всем мире и стремящиеся к повышению человеческой культуры, — какой духовный опыт обрели вы в эти бедственные дни, какие мысли вами владеют?.. Война должна непременно скоро закончиться, и тогда писатели всего мира смогут собраться на международный конгресс, чтобы поведать друг другу о пережитых страданиях, о своем опыте, о своих думах и сообща обсудить, как сделать так, чтобы на земле не было войн и установился мир во всем мире. Я верю, что этот день уже близок… Поздравляю с Новым годом, с надеждой, чтобы это осуществилось в наступающем году.
Прочитав послание, я не мог вымолвить ни слова, а Тосон тихо сказал:
— Хотел бы я дожить до этого дня… Из-за твоего туберкулеза в военное время с тобой обращаются как с непатриотом, как с мертвецом, но ты непременно в тот день воскреснешь и примешь участие в новой жизни. Я бы очень этого желал…
Я уходил от него, сдерживая слезы. В тот год в середине июня я смог достать железнодорожные билеты, и мы всей семьей проводили лето на горячих источниках в горах Каруидзавы. На станции уже не продавали газет, изредка по радио передавали лживо-оптимистические сводки о положении на фронтах, а двадцать третьего августа в новостях кратко сообщили, что накануне скончался Симадзаки Тосон. Я тотчас попытался купить на станции билет до Токио, но на четыре дня вперед билеты были проданы.
В будущем, что бы ни случилось, главное — чтобы не было войн.
Глава четвертая
В августе 1945 года, с тринадцатого на четырнадцатое, Япония потерпела поражение от войск
союзников, и Тихоокеанская война завершилась.
Японский народ об этом оповестил император в своем обращении, передававшемся по радио в полдень пятнадцатого числа. Однако у многих людей радио уже пришло в негодность от долгого употребления и не поддавалось ремонту, поэтому слова его высочества толком расслышать не могли, поняли только, что война проиграна, война окончена, и при этом, как дети, радовались, что дожили наконец до мира.
Однако неожиданно повсюду появились союзные войска, вернее, тьма-тьмущая американских солдат, и всех охватил ужас при мысли, что вся территория Японии оккупирована. Изголодавшиеся после долгих трудностей с продовольствием, люди кидались на продукты, распределяемые LARA
[20], и не замечали социальной революции, которую принудительно проводили оккупационные войска. Настали дни бед и унижений.
Мне было сорок девять лет, когда, находясь в эвакуации, в домике в горах, я слушал по радио обращение императора о поражении в войне, а вскоре в округе появилось множество американских солдат, они не только сбрасывали инсектициды с неба, но и, собрав беженцев, посыпали белым порошком их головы. (В результате со следующего года и по сей день на высокогорных лугах, сплошь покрывавшихся осенью цветами, и в домашних садах перестали распускаться прекрасные цветы и светлячки, доставлявшие по ночам столько радости, исчезли все до одного.) Один американский солдат, не прекращая работы, аппетитно начал жевать перед детьми шоколад, демонстративно надкусив плитку, он протянул ее детям, и дети, тараща от удивления глаза, жадно ели и радовались.
Впрочем, воспоминания о страданиях тех лет вкупе с военными бедствиями ныне уже стерлись, да и очевидцев становится с каждым годом все меньше и меньше.
Как я уже писал, после поражения в войне я стал батраком, возделывающим пером листы рукописи; запершись на втором этаже домика в Мисюку, я работал дни и ночи напролет, случалось, по многу дней не выходил из дома. Так продолжалось почти год, пока, то ли из-за недоедания, то ли от усталости, у меня вдруг не случился приступ астмы. Я не знал, что это астма, и был в такой растерянности, когда начал задыхаться, что даже не подумал обратиться к врачу. На следующий день пришел молодой военный лекарь, только что после демобилизации. Увидев, как я задыхаюсь, он сразу сказал: «Да у вас астма!» — и сообщил, что существуют инъекции, останавливающие развитие болезни, но каждый укол сокращает жизнь на один год, поэтому лучше потерпеть и подождать, авось болезнь сама излечится, от астмы еще никто не помирал. Но и таблеток он никаких не прописал.
В свое время я поборол неизлечимый туберкулез и верил в свои жизненные силы, поэтому, перемогая, стал ждать исцеления. Минуло две недели — и, о чудо, астма прошла! Я вздохнул с облегчением и вновь взялся за работу. В это время меня посетил бывший редактор журнала «Кайдзо» Харуо Мидзусима. До войны мы были с ним дружны. В конце сорок третьего года он внезапно пришел ко мне, с порога сказал: «Что бы ни случилось, я мечтаю дожить до наступления мира», — пожал мне руку и тотчас ушел, и с тех пор я ничего о нем не слышал.
…Я поспешно спустился со второго этажа. Он стоял в прихожей, улыбаясь. Мы оба некоторое время не находили слов, он прошел в гостиную и сел на дзабутон
[21], приговаривая:
— Хорошо, что мы оба дожили до мира, забудем же прошлые беды. Все собирался сказать при встрече, — продолжал он, — я решил выпускать журнал «Мировая культура».
— Замечательно! — Я был искренне рад за него.
Мидзусима рассказал, что в связи с изданием своего журнала он трижды организовывал дружеские встречи ученых и деятелей культуры, но сейчас встал вопрос о возрождении ПЕН-клуба, поэтому он занят организацией заседаний по возрождению ПЕН-клуба, которые пройдут у него в редакции и в ближайшем ресторане. Он пришел, чтобы пригласить меня участвовать.
Я был удивлен, что после окончания войны японские ученые и деятели культуры проявили такой интерес к ПЕН-клубу, и в то же время подумал, как был бы рад Тосон! В конце войны, когда многие члены клуба настаивали на его роспуске и под давлением военных роспуск становился неизбежным, Тосон, рискуя своей жизнью, продолжал отстаивать существование ПЕН-клуба, и теперь его воля и убежденность в своей правоте блестяще оправдываются. Интеллектуалы, которые ныне проявили такой интерес к ПЕН-клубу, вовсе не нуждались в том, чтобы созывать заседания для его возрождения, им достаточно было вступить в уже существующий ПЕН-клуб и участвовать в его деятельности. Так приблизительно я ему и сказал.
Но он возразил мне: довоенный ПЕН-клуб был в каком-то смысле клубом Тосона, многие литераторы в него не входили, а сейчас влиятельные люди в литературном истеблишменте наперебой хотят возродить ПЕН-клуб, поэтому, раз уж мы вступили в новую эпоху, необходимо возродить ПЕН-клуб и заново организовать его работу. Ради этого и созывают заседание. И было бы хорошо, если б я присутствовал и рассказал о воле и убеждениях Тосона, о его идеалах.
Таким образом, в указанный день я пришел в редакцию журнала «Мировая культура». Там собрались Суэкити Аоно
[22], Ёсиро Нагаё, Ясунари Кавабата, Ёсио Тоёсима
[23], Нобуюки Татэно
[24] и за председателя — Масамунэ Хакутё. Поскольку там был Масамунэ Хакутё, я успокоился и ничего не говорил. По решению этого собрания в следующем, 1947 году в феврале открылся восстановительный съезд японского ПЕН-клуба, был принят новый устав, избраны председателем — Наоя Сига
[25], заместителем председателя — Ютака Тацуно
[26], первым секретарем — Ёсио Тоёсима. Харуо Мидзусима остался начальником канцелярии.
С таким воодушевлением восстановленный ПЕН-клуб не мог в условиях оккупации развить никакой заметной деятельности, и все же я, чтобы передать финансовые дела от старого новому ПЕН-клубу, занялся розыском прежнего секретаря Нацумэ и Сюдзабуро Судзуки, пострадавшего от пожаров во время бомбардировок. Офис Судзуки тоже пострадал, и найти его оказалось не так просто, это заняло целый год.
Тогда же (1948) Наоя Сига после года работы ушел с поста председателя, в июне председателем был избран Ясунари Кавабата, его заместителем — Суэкити Аоно, первым секретарем — Ёсио Тоёсима. Журнал «Мировая культура», издаваемый начальником канцелярии Мидзусимой, переехал в новое здание, и, разумеется, офис ПЕН-клуба переместился вместе с ним. Я передал в этот новый офис списки членов старого ПЕН-клуба, сохранившиеся у бывшего секретаря Нацумэ, и чек на девять тысяч иен, спрятанные в сейфе канцелярии Сюдзабуро Судзуки и чудом уцелевшие в огне. На этом я успокоился, решив, что наконец-то освободился от ПЕН-клуба.
В это время ко мне приветливо обратился Кавабата:
— Мало осталось людей, связанных со старым ПЕН-клубом, поэтому, пожалуйста, окажите помощь в работе нового ПЕН-клуба!
— Если понадобится, сообщите, я приду.
— Я вам позвоню.
— У меня нет телефона.
— Это неудобно… Обратитесь на почту, за взятку вам сразу проведут.
Возвращаясь, я сел на электричку и доехал до почтового отделения в Сэтагая. Обратился к чиновнику, принимающему заявления на установку телефона, и попросил как можно быстрее провести мне телефон. Он сказал, что это займет не меньше года, и дал мне бланк с заявлением. На следующий день, вечером, пришел почтовый чиновник, с которым я говорил накануне, в сопровождении молодой женщины и сказал, что в зоне холма, на котором находится мой дом, расположен особый район, в котором живут представители оккупационных войск, поэтому, если заплатить цену чуть выше, телефон установят сразу. Это и есть взятка, о которой давеча говорил Кавабата, подумал я и спросил, сколько это будет стоить, мне не стесняясь назвали сумму, сказав, что можно заплатить по факту установки. Через два дня у меня был телефон. Удивительное это было время!
По этому телефону Кавабата часто вызывал меня, и я не только не смог отойти от работы ПЕН-клуба, но дважды выезжал в Хиросиму, лежавшую в руинах после ядерной бомбардировки, а в пятьдесят первом году случилось так, что я даже участвовал в качестве делегата от Японии на съезде в Лозанне.
В отличие от старого ПЕН-клуба, у нового не было спонсоров, члены клуба по мере необходимости сами оплачивали свои расходы. Мидзусима, начальник канцелярии, не только не имел жалованья, но и не получал денег на содержание канцелярии. Деньги, оставшиеся от старого ПЕН-клуба, девять тысяч иен, в результате финансовой политики оккупационных войск теперь почти ничего не стоили. Более того, даже для делегатов международного съезда невозможно было найти денежную помощь.
И все же я радовался участию в съезде в Лозанне. Я не мог забыть, как в год своей кончины Тосон (в 1943 году) радовался новогодней открытке, посланной ему М., председателем ПЕН-клуба Лозанны, как был он ею воодушевлен. Подумав о том, что, будь Тосон жив и здоров, как Хакутё, он бы обязательно поехал в Лозанну, я решил, как бы ни было трудно, поехать вместо него.
В условиях американской оккупации выехать за границу было чрезвычайно трудно, необходимо было выполнить массу бюрократических формальностей, но в конце концов Тацудзо Исикава, Симпэй Икэдзима из издательства «Бунсюн» и я втроем отправились на съезд в Лозанну. Вначале мы должны были лететь на самолете, но это был, также по распоряжению оккупационных войск, филиппинский пропеллерный самолет, и, знай я заранее, на чем нам предстоит лететь, я бы, из опасений за свою жизнь, еще несколько раз подумал. Программу пребывания, денежные траты — все определяла оккупационная администрация, и хоть мы под полой использовали доллары, это было нищенское мероприятие.
В местах приземления, начиная с Окинавы, с нами обращались сурово как с военнопленными или гражданами враждебного государства. Вдобавок, когда мы, вылетев из Индии, направлялись в Рим, в небе над ближневосточной пустыней самолет сломался, и несколько часов мы дрожали от страха в ожидании смерти, пока, наконец, не сделали экстренную посадку в Тель-Авиве. Следующего самолета пришлось ждать три дня, после чего мы добрались до Лондона и, посетив международную штаб-квартиру ПЕН-клубов, собирались уже вылететь в Швейцарию, когда выяснилось, что нам, в соответствии с нашим статусом военнопленных, требуется специальная виза для выезда за границу. Еще несколько дней заняли мучительные усилия разрешить эту проблему, и в конце концов мы прибыли в Лозанну накануне открытия съезда.
На железнодорожной станции Лозанны нас ждали люди из ПЕН-клуба. Узнав, что мы — японская делегация, они вызвали по телефону машину и отвезли нас в предназначенную для нас гостиницу. Едва устроившись в гостинице, я хотел нанести визит председателю ПЕН-клуба господину М., чтобы выразить ему свое почтение, но мне сообщили, что он два года как умер.
Я уже имел случай подробно рассказать о перипетиях нашего путешествия и о том, с каким размахом на протяжении десяти дней проводился международный съезд ПЕН-клубов в Лозанне, собравший делегатов со всего мира и перемещавшийся по всей Швейцарии, какое большое он имел значение, и мой рассказ был благосклонно воспринят читателями, поэтому здесь этого не касаюсь. Хочу только написать о том, как в последний день работы съезда, вечером, стоя в садике собора, глядящего вниз, на озеро Леман, я совершил заупокойную службу по душе Тосона.
Тосон ненавидел военный режим и войну, постоянно боролся за мир на Земле, счастье человечества, прогресс культуры и верил, что в этом и выражается дух ПЕН-клуба, поэтому, когда в конце войны военные пытались распустить японский ПЕН-клуб, он готов был его защищать в одиночку, рискуя своей жизнью. То, что его воля и желание чудесным образом осуществились, реально подтверждалось каждый день в общении интеллектуалов, съехавшихся на съезд со всего мира. Тосон, пребывая в моей душе, мог воочию в этом убедиться и возрадоваться. Даже сейчас Тосон продолжал меня учить, что воля, если ею управляет справедливость, одолевает все препятствия.
Пусть же именно Швейцария, эта маленькая по мировым меркам страна, последовательно отстаивающая вечный мир, станет местом успокоения души Тосона! Так я, глядя на ясное небо, тихо молился, погребая пребывающую в моем сердце душу Тосона в этом соборе. Мною овладело ясное, покойное чувство: отныне, пройдя школу Тосона, забыв о ПЕН-клубе, я должен совершенствоваться в писательском труде, ставшем моим предназначением…
Я решил из Лозанны направиться во Францию и некоторое время пожить в Париже. Я опасался, что из-за перемены климата немедленное возвращение в Японию вызовет обострение астмы, но главное, хотел, вернувшись после двадцати двух лет разлуки в Париж, на свою духовную родину, вновь встретиться со старыми друзьями и узнать, как они пережили мировую войну, вторично выпавшую на их долю.
Найти через двадцать лет старых друзей, с которыми за время войны связь прервалась и адреса которых я не помнил, было непросто, но я пошел в канцелярию Сорбонны и разузнал, нет ли в Париже кого-то из работавших на кафедре профессора Симьяна, и в результате получил адрес Н.
Я сразу же позвонил по телефону, мы договорились о встрече на следующий день, в четыре часа, на террасе ресторана А., неподалеку от задних ворот университета. Придя в назначенное время, я увидел сидящего на террасе Н. и вместе с ним моего старого друга Ю. Когда-то вот так же они сидели здесь после работы на кафедре. Так же как тогда, сразу принесли бокалы с пивом, и мы, поздравив друг друга с тем, что живы, начали разговор.
Оба моих старых приятеля добились успеха, как прекрасные специалисты в области социальной экономии, преподавали в университете и имели множество научных публикаций. Они были заинтригованы тем, что я, сменив направление деятельности, стал писателем, засыпали меня вопросами и в конце концов выразили желание почитать что-нибудь из моих произведений. Это было бы возможно только в том случае, если бы их перевели и издали на французском языке, но кстати оказалось, что ученик Ю. заведовал в одном издательстве серией современной мировой литературы под названием «Библиотечка Павийон». Было решено обратиться к нему.
Несколькими днями позже в том же ресторане Ю. предложил познакомить меня со своим учеником, я последовал за ним, и тут, к моему немалому удивлению, выяснилось, что ученик Ю. — А. Пьерал, бывший делегатом от Франции на съезде ПЕН-клубов в Лозанне, с которым за время съезда я успел подружиться. Благодаря этому предложение Ю. было сразу же встречено с энтузиазмом.
Надо сказать, что в путешествие по Европе я взял с собой два экземпляра «Умереть в Париже». Один экземпляр, предназначенный господину Эстонье, я сопроводил посвящением: «Эдвару Эстонье, оплакивая несчастье мира, в котором не стало иного способа духовного общения, как обмениваться книгами», а второй экземпляр собирался преподнести господину Бельсору, литературному критику, члену Академии, когда-то помогавшему мне в Париже, но выяснилось, что оба умерли во время войны.
Одну из этих книг я подарил Пьералу. Он сразу же спросил про дарственную надпись, но, разумеется, он знал, кто такой Эстонье, и, видимо, уже по одному этому отнесся с почтением к моему роману, спросив, насколько успешно он продавался в Японии. Первое издание вышло во время войны, военные разрешили напечатать две тысячи экземпляров, которые разошлись за неделю, но увеличить тираж они запретили. На следующий год после окончания войны было переиздание, и накануне моего отлета за границу стало известно, что за четыре года и три месяца тираж превысил триста семьдесят тысяч экземпляров. Когда я это ему сказал, он тотчас предложил сходить в издательство «Лаффон», расположенное поблизости. Наш путь занял десять минут.
Молодой глава издательства Пьер Лаффон в своем тесном офисе встретил нас с радушием, Пьерал сразу же заговорил о том, что хотел бы включить роман «Умереть в Париже» в серию «Павийон», представил меня как автора и начал было рассказывать о книге, но глава издательства прервал его, сказав, что ответственный за серию вправе сам решать, и с энтузиазмом заявил, что издание современного японского романа во Франции станет значительным событием. Таким образом, было решено издать роман «Умереть в Париже», осталось только как можно быстрее найти переводчика. На сем мы и расстались.
И тут я вспомнил. Вскоре после приезда в Париж из Швейцарии, как-то вечером, вдвоем с Икэдзимой мы сидели на той же террасе, на плетеных стульях, и рассеянно попивали кофе; в это время мимо проходил Аримаса Мори, который охотно присоединился к нам. Мы предложили ему выпить кофе, но он сказал, что предпочел бы что-нибудь более существенное, и, заказав мясное блюдо, принялся жадно есть, запивая водой.
Этот Аримаса Мори был доцентом романской литературы на филологическом отделении Токийского университета, по приглашению французского правительства он на два года приехал в Париже, но после окончания срока остался там, чтобы продолжать свои исследования, в конце концов уволился из Токийского университета. Он надеялся, что, пока у него есть припасенные деньги, ситуация с валютой в Японии наладится и можно будет свободно посылать деньги, но его надежды не оправдались, и вот уже три месяца он искал хоть какой-нибудь работы и дошел до того, что ел один раз в день. Мори жаловался, что готов быть толмачом при туристах из Японии, настолько он опустился. И я и Икэдзима искренне ему сочувствовали, но из-за тех же самых проблем с валютой были в столь же затруднительном положении и ничем не могли ему помочь.
У меня был адрес пансиона, где он жил. Я немедленно послал ему телеграмму, написав, что появилась возможность работы, и предложил через день в час дня пообедать на той же террасе ресторана и все обсудить. Одновременно я сообщил Пьералу, что если он придет туда же в два часа, я смогу познакомить его с переводчиком. В условленный день Аримаса Мори появился в указанном месте, и за обедом я сообщил ему о предполагавшемся переводе на французский «Умереть в Париже». Он сказал, что с удовольствием прочитал эту книгу, и с радостью согласился заняться переводом. Так что я передал ему экземпляр, приготовленный для господина Бельсора. В половине третьего появился Пьерал, и мы втроем обсудили детали издания.
Я впервые узнал, что практика книгоиздания во Франции сильно отличается от японской. В Японии автор получает всю сумму гонорара, когда книга издана, и ставка гонорара составляет приблизительно десять процентов от стоимости книги. Во Франции же автору выплачивается гонорар в конце года и только за проданные экземпляры, а ставка гонорара зависит от продаж — в первый год выплачивается примерно два процента от цены книги. И это, как говорят, главная причина того, почему во Франции не издают переводных иностранных книг.
Но Андре Лаффон, глава издательства, в котором работал Пьерал, собираясь произвести революцию в издательском деле и планируя серию переводных романов «Павийон», решил платить переводчикам за перевод, а авторам — авторский гонорар с проданных экземпляров. Благодаря этому молодые французские писатели, владеющие иностранным языком, стали охотно переводить понравившиеся им произведения иностранных авторов, которые, в свою очередь, охотно предоставляли авторские права.
По словам Пьерала, гонорар за перевод зависит от степени сложности языка, и, приведя примеры уже выплаченных сумм, он нас уверил, что из-за сложности японского языка Аримасе Мори заплатят по высшей ставке. Более того, поскольку Пьерал непременно хотел издать роман осенью следующего года, перевод надо было завершить за четыре-пять месяцев, при этом он обещал, что половину гонорара переводчику выплатят при заключения договора, а оставшуюся половину — по завершении перевода. В конце он сказал, что для заключения договора необходим поручитель. Мори ответил, что две недели назад в Париж прибыл его старинный приятель, секретарь Министерства иностранных дел со своими подчиненными для подготовки мирного договора, и можно попросить его стать поручителем.
— Ну что ж, — сказал Пьерал, — после мы вместе с поручителем втроем подпишем договор, а пока что будем считать делом решенным: «Умереть в Париже» выйдет в моей серии.
Он пожал нам руки, и мы расстались.
Через несколько дней, утром, мне позвонил Б., корреспондент газеты «Фигаро», и пригласил прийти в редакцию в два часа дня. В указанное время я пришел в эту прославленную газету, и меня сразу провели в комнату, где меня ждал Б. Он сказал, что уже навел обо мне справки, но хотел бы, чтобы я поправил, если что-то не так, после чего засыпал меня вопросами. По-видимому, его сведения исходили от двух моих французских друзей. Затем он поинтересовался, каков был замысел моего романа «Умереть в Париже».
И я сказал ему:
— Во время войны, когда на фронт отправляли со школьной скамьи, власти призывали людей жертвовать жизнью ради отчизны, я же хотел недвусмысленно показать, что жизнь столь драгоценна, столь желанна, что молодежи в особенности не стоит торопиться принять доблестную смерть на поле боя, ибо именно молодым людям назначено судьбой потрудиться ради послевоенного мира. В юности, учась в Париже, я подхватил туберкулез и, борясь с болезнью в высокогорной клинике в Отвиле, осознал всю важность человеческой жизни.
Под конец он спросил, какой смысл издавать эту книгу в современной Франции, и я ответил, что хочу донести до каждого читателя, что, несмотря на различия в цвете кожи и языке, все люди одинаковы. Сразу после интервью корреспондент отвез меня на автомобиле в свою альма-матер — Сорбонну и несколько раз сфотографировал в садике университета.
Через четыре дня в отделе «Культура» газеты «Фигаро» на полстраницы была напечатана хвалебная статья обо мне с моей фотографией. Я был на седьмом небе от счастья — ведь обо мне написали в знаменитой перворазрядной газете. Вдобавок в то утро хозяйка пансиона, русская вдова, принеся мне завтрак, сказала:
— Я не знала, что мусье такой великий человек! — и положила более обычного ветчины и фруктов.
Вскоре я через газету получил письма от своих старых друзей, прочитавших статью, и с радостью встретился со многими из них. Это давало мне надежду, что со мной свяжутся и гений Жак, и Жан, и Морис — три моих друга по высокогорной лечебнице, с которыми при разлуке мы поклялись встретиться через четверть века. Я хотел во что бы то ни стало увидеть их, ставших для меня как братья, и порадоваться, что исполнилось мое жизненное предназначение!
Секретарь А. из Министерства иностранных дел любезно нанес мне визит. Будь это до войны, японское посольство, пригласив работников «Фигаро» и людей из издательства, закатило бы пышный прием, но сейчас такое было невозможно. Он был бы рад пригласить хотя бы Мори, меня и Пьерала на ужин, но деньги можно было достать, только играя в рулетку, а ему в игре не слишком везло, так что это тоже отпадало. Через год, когда выйдет книга, уже будет заключен мирный договор, в Париже начнет работу японское посольство, вот тогда-то, обещал он, и организуем пышный прием.
— И все же удивительно, что в «Фигаро» напечатали такую дружелюбную статью, у вас наверняка есть там какие-то связи?
— Абсолютно никаких. Сам Пьерал удивился.
— Вам повезло. За год до издания книги уже такая реклама!.. Несомненно, вас ждет успех.
Я подумал, что все это благодаря силе Великой Природы, но промолчал и тотчас с дрожью в груди вспомнил одобрительный отзыв Тосона, единственного, кто поддержал меня, когда мой роман печатался в журнале.
Вопреки моим ожиданиям, от троих моих духовных братьев не было никаких известий, но зато через «Фигаро» пришло два письма от Луи Жуве. Однако про себя я решил, что не могу встречаться в статусе военнопленного и в облике нищего с интеллектуалами, с которыми был дружен в Париже в прежние, лучшие времена, когда вел, что называется, светскую жизнь. Луи Жуве был одним из них. На первое письмо я не ответил. Во втором письме он, решив, что я уехал в путешествие по стране, сообщал номера телефонов, домашнего и администрации театра, и просил по возвращении позвонить, поскольку со мной хотел также встретиться писатель Кессель, с которым мы тоже были дружны.
На это я ответил, что, будучи военнопленным, несвободен в своих действиях и должен вскоре вернуться на родину, но поскольку в будущем году, когда выйдет «Умереть в Париже», я смогу приехать в Париж свободным человеком, лучше отложить нашу встречу до этого времени. В действительности я уже остро чувствовал, что мне пора обратно в Японию.
Покидая Японию, я был одет по-летнему, но настало время демисезонной одежды, а у меня не было денег даже на самое дешевое готовое платье. К тому же на обратном пути необходимо по делам заехать на несколько дней в Рим, на это тоже нужны деньги, а их не хватает. Что же до приступов астмы, то вряд ли они сейчас грозят мне в Японии.
На следующий день я, как обычно, ужинал в маленьком ресторанчике. И тут старый официант поставил мне на стол бутылку дорогого красного вина и, сказав: «Месье, примите мои поздравления», вытащил пробку.
— В вечерних газетах пишут, — сказал он, — что наконец-то заключен мирный договор между США и Японией, месье теперь больше не американский военнопленный, и текст договора не допускает того, чтобы великая Япония, в одиночку воевавшая против всего мира, стала вассалом Америки.
Я не читал вечерних газет, но от его слов сердце у меня заколотилось, ужиная, я только и думал о том, что и в самом деле пора возвращаться домой, и с признательностью смаковал красное вино, как если бы это был прощальный подарок Парижа. Перед тем как выйти из ресторана, я нашел старого официанта, пожал ему руку, поблагодарил и сказал:
— В следующий раз буду к вашим услугам как гражданин независимой Японии.
И в самом деле, пора домой.
Назавтра я начал готовиться к отъезду. Впрочем, никаких особенных сборов, просто хотелось попрощаться с живущими в Париже друзьями. Впрочем, большинство еще не вернулось из летних отпусков, поэтому предстояло повидаться всего-то с Пьералом, Мори и секретарем Министерства иностранных дел. Мори я сказал, что заглянул на минутку, проходя мимо. Он уже усердно работал над французским переводом «Умереть в Париже». Пьерал, желая приободрить Мори, сказал, что будет достаточно, если он переделает вертикальные строки в горизонтальные, а уж французский текст он сам поправит, лишь бы перевод был как можно быстрее закончен.
Секретарь А. радовался, что три дня назад прибыла из Японии его жена, и был, видимо, сильно занят, но все же с женой меня познакомил. Она оказалась поклонницей моего творчества.
— Вот, приехала жена, — сказал он, — но поскольку ситуация с японской валютой хуже некуда, придется нам вдвоем вести нищенскую жизнь, одна надежда — вскоре восстановятся дипломатические отношения между Францией и Японией, откроется посольство и будет полегче. Жизнь немного наладится, тогда уж, будьте любезны, приходите на японскую стряпню моей жены!
На этом мы расстались.
На обратном пути я вышел к берегу Сены. Эйфелева башня высилась неподалеку. Глядя вверх на Эйфелеву башню, я вдруг осознал, что, с тех пор как прибыл в Париж, ни разу не взглянул на небо. Я быстрым шагом направился в сторону башни, мне захотелось подняться на нее. Взойдя на смотровую площадку, где какая-то старушка держала лавку, я посмотрел сверху на город. Интересно, в каком доме сейчас Луи Жуве и Кессель, думал я с волнением.
Незаметно слезы выступили на глазах, старушка, державшая лавку, приблизилась и спросила: «Месье — японец?», потом справилась о самочувствии императора, который в молодости покупал у нее сувениры для невесты-императрицы, но я едва ее слышал.
И так, на следующий день, никем не провожаемый, незаметно, на шведском самолете я покинул Париж.
Осенью следующего года роман «Умереть в Париже» вышел в серии «Павийон» в парижском издательстве «Лаффон». Мне в руки книга попала в начале ноября, но все это время во Франции, помимо газеты «Фигаро» и других литературных изданий, почти все газеты откликнулись на ее выход и поместили хвалебные рецензии. Подборку этих вырезок мне прислали из издательства.
Читая их, я был удивлен настолько, что не верил своим глазам. Среди авторов рецензий были и знакомые мне люди, но большинства я не знал. Меня радовало, что все они внимательно прочли роман и поняли авторский замысел.
Вскоре из бельгийского издательства пришел запрос на выпуск книги массовым тиражом. Швейцарское издательство тоже просило разрешения издать книгу в дорогом переплете, польское издательство хотело выпустить мой роман, переведя с французского. Следуя практике французского книгоиздания, я полностью препоручил все издательству «Лаффон», и в этих трех странах роман «Умереть в Париже» также имел огромный успех. Особенно в Бельгии — в конце года роман по выбору литературных критиков удостоился звания самой выдающейся книги года. В результате издательство «Лаффон» захотело издать во французском переводе и другие мои книги.
Эхо успеха за границей докатилось и до Японии, кто-то недоумевал, кто-то радовался, я же, ясно осознав свой долг и свое предназначение быть писателем, еще больше проникся решимостью всецело посвятить себя избранному пути.
И вот после всего этого я стал батраком, день и ночь вспахивающим рукопись, позабыв о течении времени.
Однажды Кавабата сообщил мне, что в следующем году в Токио намечается международный съезд ПЕН-клубов, поэтому японскому ПЕН-клубу необходимо придать статус юридического лица, в связи с чем он просил меня стать его заместителем вместе с Суэкити Аоно. Это было весной 1956 года.
Я посоветовался с начальником канцелярии ПЕН-клуба Мидзусимой, и тот меня предупредил, что на международном съезде Кавабата будет выступать как глава литературного истеблишмента, мне же останется лишь во всем следовать его указаниям. Он и сам, поскольку бразды правления в клубе оказались в руках этого человека, ушел с поста начальника канцелярии и ныне, как и прежде, став рядовым членом ПЕН-клуба, трудится с пером в руке.
Как только подтвердился факт, что в сентябре следующего года в Токио состоится международный съезд ПЕН-клубов, я пришел в сильное смятение. Наверняка на съезд приедут мои знакомые французские литераторы, тот же Пьерал, и по французскому обычаю было бы невежливо с моей стороны не пригласить их вечером к себе домой, но как я могу пригласить их в этот дом! Я тотчас принял решение построить на месте пепелища небольшой домик в европейском стиле. Затея оказалась довольно хлопотной, да и работа в ПЕН-клубе отнимала немало времени.
Наступил январь 1957 года. Пора было приступать к порученной мне Кавабатой обязанности — собирать деньги. В прошедшем году вместо Мидзусимы начальником канцелярии ПЕН-клуба была назначена хорошо владеющая иностранными языками критик Ёко Мацуока, она дважды за прошедший год побывала в международной штаб-квартире ПЕН-клубов и многое разузнала. Между прочим и то, что во всех странах международный съезд проводился при финансовой помощи правительства и богатых предпринимателей.
А в нашем случае добывать финансовую помощь предстояло мне. Надо сказать, что в Японии, где после войны еще ни разу не собирался парламент, это было совсем не просто. Для сбора средств мне поручили также устроить выставку сикиси
[27]. Организация выступлений Кавабаты, на которых он жаловался аудитории на денежные трудности ПЕН-клуба, тоже легла на мои плечи.
Единственное, в чем мне повезло, так это в том, что Ёко Мацуока жила в одном со мной районе и по работе в школьном родительском комитете мы с ней сильно сдружились, поэтому она охотно снабжала меня материалами и всячески помогала выполнять мои обязанности по линии ПЕН-клуба. В это время издательство «Тюо корон» безвозмездно предоставило канцелярии ПЕН-клуба отдельную комнату в помещении своей редакции, что также было удобно. В этой канцелярии чуть ли не каждый день собиралась дирекция с членами ПЕН-клуба и безвозмездно проводила бесконечные заседания, обсуждая приготовления к предстоящему съезду.
Что касается выставки сикиси, за которую отвечал я, ближе к делу возникло много проблем и потребовались помощники. Целью выставки было привлечение средств, так что следовало отобрать таких писателей, чьи работы можно было продать подороже. В этом выборе и состояла главная трудность. Я посоветовался с Кавабатой, он сказал, что не смеет просить патриархов, назвал три-четыре имени, но и сам засомневался, можно ли продать их работы за большие деньги. В конце концов я объявил ему, что выставка не состоится, если не попросить знакомых художников пожертвовать несколько небольших работ. Кавабата согласился и обещал лично обратиться с просьбой к художникам.
Я тотчас обзвонил знакомых художников, и они охотно согласились предоставить свои работы. Зал в художественной галерее на пять дней безвозмездно предоставил магазин «Мицукоси» на Нихонбаси. Обязанность сходить к художникам за их работами взяла на себя пожилая женщина, работавшая под началом Мацуока. Она договаривалась с художниками о самой низкой цене, каждый день посещала выставочный зал и наблюдала за подготовкой, вела переговоры с возможными покупателями.
Накануне открытия объявление о выставке было напечатано в газетах. Я пришел туда в день открытия около полудня. Было представлено больше десяти сикиси молодых модных писателей в рамках, а также около дюжины картин, три каллиграфии, выполненные Кавабатой. Среди гостей был знаменитый художник Ю. Его большой пейзаж уже продали — на нем висела красная метка. Я поблагодарил его, а он подвел меня к каллиграфиям Кавабаты и, указав на одну из них, сказал, что хотел бы ее купить. Я был бы рад подарить ему в знак благодарности, но не имел на это права и чувствовал себя ужасно неловко…
Я провел на выставке почти пять часов, чтобы поблагодарить всех авторов работ и гостей. То же и на следующий день. Но на третий день часам к двум все, включая мои неумелые сикиси, было распродано. Посовещавшись с администрацией галереи, мы решили в тот же день закрыть выставку. Татэно, директор «Мицукоси», поздравил меня с успехом…
За месяц до этого, на состоявшемся в зале Ёмиури публичном собрании по случаю проведению в Японии международного съезда ПЕН-клубов, выступая вместе с Дзюном Таками, Тамой Моритой, Тацудзо Исикавой и Кавабатой, я, посетовав на трудную долю казначея, сболтнул что-то вроде того, что после поражения в тяжелой войне большинство японцев остались ни с чем и несколько лет с трудом находили средства к пропитанию, прошло каких-то двенадцать лет, и, когда стало немного полегче, мы приглашаем писателей со всего мира, чтобы обсудить будущее без войн и перспективы развития культуры, и это весьма знаменательно, остается только нам всем поднатужиться и преодолеть денежные проблемы.
После этого, к большому удивлению работавших в канцелярии, на адрес ПЕН-клуба посыпались денежные переводы и конверты с вложенными купюрами с просьбой направить в фонд съезда. Я ехал на такси от станции Ёцуя до канцелярии ПЕН-клуба и собирался заплатить по счетчику, когда водитель, отмахнувшись, сказал: «Пусть это будет лептой бедняка! Положите на счет ПЕН-клуба!» — и уехал. Потрясенный, я отдал в канцелярии плату за такси и тогда же узнал о бесчисленных письмах, которые и в самом деле можно назвать лептой бедняков.
Когда я стал одно за другим читать эти письма, у меня невольно наворачивались слезы. Сложив молитвенно руки, я с замиранием сердца думал о том, что эти люди, так же как и я, преодолев невзгоды войны и послевоенного времени, наконец-то достигли спокойной жизни и что мы должны оправдать их надежды и сделать все, чтобы предстоящий съезд стал значительным событием.
И все же самой важной моей обязанностью было добиться денежной помощи от правительства.
Поэтому, как только мне поручили собрать средства, я послал письмо премьер-министру Киси, в котором, объяснив ситуацию, попросил, если у него найдется свободное время, хотя бы о десятиминутной аудиенции. Я осмелился обратиться к нему с таким письмом потому, что он, как и я, учился в Первом лицее, только был на два года меня старше. Он принимал участие в секции красноречия, а поступив на службу, работал вместе со мной в Министерстве сельского хозяйства и торговли, много мне помогал, и мы были дружны. В начале февраля позвонил его секретарь, и Киси принял меня в своей резиденции. Оказалось, что он хорошо осведомлен о предстоящем съезде, разговаривать с ним было легко. Дотацию даст Министерство иностранных дел, сказал он, но в апреле начинается новый бюджетный год, поэтому, если съезд состоится в сентябре, деньги будут перечислены из нового бюджета. Он сказал, что мне необходимо посетить министра иностранных дел, и дал машину, чтобы доехать до министерства.
Министром иностранных дел был человек с хорошей репутацией, бывший крупный промышленник, неожиданно избравший политическое поприще. Когда я на обратном пути с международного съезда ПЕН-клубов в Лозанне был в Париже, он, проездом из США, дважды угощал меня еще с несколькими японцами в первоклассном ресторане. Во второй раз — сразу после решения издать французский перевод «Умереть в Париже» — он не преминул выразить большую радость в связи с этим.
Так что, хоть он и стал ныне министром иностранных дел, разговаривать с ним было просто. Он обещал выделить нужную сумму из следующего бюджета, а меня попросил передать ему печатные материалы с программой съезда, которые к этому времени наверняка будут уже готовы. Программа была готова в июне, я посовещался с Кавабатой, и мы условились вместе посетить министра иностранных дел.
По дороге в министерство я решил, в знак признательности за участие, завезти материалы по организации съезда в канцелярию премьер-министра, чтобы передать их через секретаря, но Киси вышел к нам сам, искренне пожелал успеха съезду и сообщил радостную новость, что министр иностранных дел выделил в качестве денежной помощи пять миллионов иен.
— Поскольку правительство выделяет такие значительные средства, — сказал он, — предприниматели также наверняка раскошелятся. Зайди-ка завтра к этому человеку, думаю, на него можно положиться.
Он написал на оборотной стороне визитки имя и адрес офиса, добавив:
— Министр немедленно с ним свяжется.
На следующий день Кавабата был занят, поэтому я отправился один на встречу с указанным на визитке господином Дзимпатиро Ханамурой. Я не знал, что он генеральный директор «Кэйданрэн»
[28], но из разговора с ним почувствовал, что это на редкость обаятельный человек.
— Коль скоро правительство пошло на выделение таких средств, предприниматели тоже не останутся в стороне, я беру это под свою ответственность, можете ни о чем не беспокоиться. Если кто-либо из предпринимателей будет настаивать на встрече с руководством ПЕН-клуба, я вам сообщу. На встречу возьмите с собой председателя ПЕН-клуба.
Через десять дней пришло предложение встретиться с четырьмя промышленниками, и мы с Кавабатой пришли на встречу с ними, взяв программу съезда. Оказалось, что им просто было любопытно пообщаться с писателями, никаких затруднений не возникло, все желали съезду успеха.
(Не прошло и месяца, как при посредничестве господина Ханамуры нам были перечислены щедрые пожертвования со стороны предпринимателей.)
Планировалось, что съезд пройдет с первого по шестое сентября в Токио, а с седьмого по девятое — в Киото. Живший в Киото исполнительный директор ПЕН-клуба Такэо Кувабара
[29] подал нам идею, что, коль скоро три последних дня съезда пройдут в Киото, финансовые воротилы района Кансай также могли бы дать пожертвования. Я поехал в Киото. В сопровождении Кувабары я в первый день нанес визиты финансовым тузам Киото, а на следующий день посетил промышленников Осаки, прося их о содействии.
Я уже собирался возвращаться в Токио, когда Кувабара меня предупредил, что на восьмое сентября намечен прием гостей съезда по случаю праздника «созерцания луны» в особняке Номуры, но чтобы он прошел успешно, неплохо было бы обратиться за помощью к вдове первого председателя компании, которую называют матушкой «Номуры сёкэн»
[30]. Он посоветовал выйти на нее через директора «Номуры сёкэн», поскольку тот был отцом писательницы А.
Вернувшись в Токио, я позвонил А. Она тотчас с готовностью откликнулась на мою просьбу и пообещала переговорить с отцом. В течение десяти дней от нее не было никаких вестей, я уже начал беспокоиться, когда она позвонила и сказала, что будет сегодня же ждать меня в машине в два часа у станции Ёцуя. Я вышел к станции в указанное время. Она стояла перед машиной и помахала мне рукой. Мы отправились в центральное правление «Номуры сёкэн». В приемной встретились с ее отцом, и он сразу же завел разговор, который показался мне настолько ни с чем не сообразным, что я мог только хлопать глазами от удивления.
По его словам, как только мою просьбу передали вдовствующей патронессе, она созвала руководство компании, включая ее президента, и сообщила собравшимся о моей просьбе.
— Я уже стара, — сказала она, — и готовлюсь не сегодня завтра отправиться в рай. Я не нуждаюсь в пышных похоронах, но не могли бы вы уже сейчас потратиться на упокой моей души? Дело в том, что восьмого сентября ПЕН-клуб, пригласив писателей со всего мира, устраивает прием «созерцания луны» в нашем киотоском особняке, а для меня, старухи, этот вечер — все равно что рай на земле, и ни о чем я не мечтаю так, как вместе со всемирно известными писателями вкусить этого блаженства.
Попросив оказать денежную помощь в организации приема, она поклонилась присутствующим. Затем подробно рассказала о подготовке к этому мероприятию; все, как один, начиная с президента компании, выслушали ее с воодушевлением и заверили, что с деньгами никаких проблем не возникнет.
— Так что, — сказал отец А., — можете не беспокоиться по поводу приема в особняке «Номура», только после окончания съезда, будьте так любезны, встретьтесь со старой женщиной и поблагодарите ее…
На этом мы расстались с отцом А., и А. довезла меня на машине до станции Ёцуя. Оставшись один, я невольно припомнил слова вдовы Номуры и подумал, что таким и должен быть праведный отклик.
Сердце мое было переполнено чувствами. То были времена бесчисленных «лепт бедняков»…
Как бы там ни было, международный съезд ПЕН-клубов, как в Токио, так и в Киото, удался на славу, иностранные делегаты только дивились, говоря, что никогда еще не было таких роскошных съездов. Десятого сентября французская делегация отбыла на родину. Пьерал уехал вместе со всеми, и моя младшая дочь, присоединившись к делегации, отправилась в Париж учиться.
Наконец-то можно было вздохнуть с облегчением, хотя понадобилось еще около четырех месяцев, чтоб разобраться с оставшимися после съезда делами, и я почувствовал себя свободным только на исходе года.
Как-то вечером, когда мы с Кавабатой случайно оказались одни в маленьком зале заседаний ПЕН-клуба, он мне шепнул:
— Проблема в том, что часть денег осталась неизрасходованной…
Я воспринял эти слова как выражение благодарности мне, отвечавшему за финансы.
— Отлично! — сказал я. — До войны Тосон вел дела ПЕН-клуба на частные пожертвования Киситиро Окуры. Если остались значительные средства, ПЕН-клуб сможет несколько лет спокойно работать. Причина не в том, что мы собрали слишком много денег, — поспешил я добавить, — просто все члены клуба, и в первую очередь дирекция, работали бескорыстно… Все, кто трудился в канцелярии, прежде всего Мацуока и ее приятельницы, соблюдали бережливость, точно речь шла о семейном бюджете, потому-то деньги и остались…
В этот момент в зал вошел директор ПЕН-клуба Татэно, и, наверно поэтому, Кавабата ничего мне не ответил. Засобиравшись уходить, он предложил пойти где-нибудь выпить чаю. Мы с Татэно составили ему компанию.
Вошли в бар, расположенный в подземных этажах здания в Юракутё. Кавабата был здесь, видимо, завсегдатаем, тотчас же молоденькая девушка кинулась к нему чуть ли не с объятиями, усадила нас за большой круглый стол в углу и не отходила ни на шаг. Мы двое забились в угол. Татэно заказал саке, я — кофе. Девушка не позволяла никому подсаживаться к нам. Полтора часа, которые я провел в углу бара за чашкой кофе, вяло перебрасываясь словами с Татэно, показались мне невыносимо долгими и скучными, к счастью, Кавабата в конце концов собрался уходить. Кажется, он тоже только выпил чаю. Позже, когда я с ним встречался в канцелярии ПЕН-клуба, он часто звал меня в этот бар.
В начале следующего года Кавабата получил премию имени Кикути Кана за успешное проведение международного съезда ПЕН-клуба. Я радовался тому, что тем самым была поставлена точка всему, что связано с этим съездом.
Не зря Мидзусима, бывший начальник канцелярии, когда было принято решение о проведении международного съезда, напутствовал меня, совершенно не сведущего в порядках, царящих в литературных кругах: съезд пройдет под опекой литературного истеблишмента, говорил он, и Кавабата на посту председателя будет действовать в качестве его дуайена, и потому мне следует выполнять только то, о чем тот лично меня попросит. Сам Мидзусима по этой причине, сославшись на то, что прежде был редактором в издательстве «Кайдзося», ушел с поста начальника канцелярии и добился перевода канцелярии в другое место, при этом уверяя, что как рядовой член клуба продолжит трудиться на его благо…
С того времени прошло больше полутора лет, международный съезд прошел удачно сверх всяких ожиданий, все оставшиеся после съезда дела были завершены. Кавабата, став к тому времени самой влиятельной фигурой в литературном истеблишменте, получил премию Кикути Кана и однажды вечером собрал дирекцию и членов администрации клуба, очевидно, чтобы поблагодарить за проделанную работу.
Все приглашенные, судя по лицам, были радостно воодушевлены. Встреча проходила в просторном зале большой гостиницы в районе Маруноути, получилось что-то вроде дружеской вечеринки. В самом начале Кавабате вручили грамоту о присуждении премии Кикути Кана, и из зачитанного текста явствовало, что он награждается за личные заслуги в проведении международного съезда ПЕН-клубов в Японии. Кавабата встал и поблагодарил за премию. Я ждал, он скажет о том, что заслужил эту награду вместе с членами японского ПЕН-клуба и всеми, кто помогал в проведении съезда. Не тут-то было. Кратко поблагодарив, Кавабата сказал только, что отдал много сил на подготовку съезда и потому за два прошедших года не написал ни строчки. И все. Я был поражен. Может, так принято в наших литературных кругах? — подумалось мне в ту минуту.
Началась вечеринка. Еду только успевали подносить, вино текло рекой. Выпив после долгого перерыва настоящего французского вина, я пришел в хорошее настроение и подошел к столу, ломящемуся от европейских блюд. С краю стояло блюдо, по-видимому из французской кухни. Нет ли здесь, случаем, гусиной печени? Попробовал и не сразу поверил — гусиная печенка! Куда я попал? — спрашивал я себя радостно, как вдруг со мной заговорил молодой писатель Б., один из организаторов прошедшего съезда. Глаза у него были красные от выпивки.
— Что же вы не выступили после благодарственного слова нашего председателя и не поздравили его?
— Этого не было в программе, — ответил я.
— Плевать на программу! Раз председатель выступает с такой речью, вашим долгом, как его заместителя, было заявить, что награду председателя следует разделить между членами ПЕН-клуба, поскольку все, и дирекция, и рядовые члены, работали бескорыстно и не меньше председателя.
— Мой старший товарищ, заместитель председателя Аоно тоже совершил промашку!
— Обидно, что вы оба, чуждые литературному истеблишменту, в критический момент спасовали! Ну да мне уже все равно, я немедленно ухожу из дирекции!
Сказав это, он исчез в толпе.
Меня точно облили холодной водой. Я потерял интерес и к хорошему вину, и к гусиной печенке и присел в углу зала. Ко мне подошел Ито Сэй.
— На второй прием не пригласили? — спросил он. — Кавабата с людьми из премиального комитета уже удалились, наверно, и нам пора разбегаться…
Я вскочил, и в этот момент ко мне подошел Аоно и предложил идти домой. Когда мы вышли из зала, Аоно зашептал мне, исходя яростью:
— Сегодняшняя речь Кавабаты… На что это похоже?! Можно подумать, съезд состоялся исключительно благодаря ему! Все страшно обижены. Члены дирекции заявили, что уходят со своих постов, и это не шутка. Не развалится ли после этого ПЕН-клуб?.. О чем он вообще думает, этот Кавабата!..
Пока мы шли до станции Юракутё, он беспрестанно повторял одно и то же и никак не мог успокоиться. Когда мы вошли в вагон и сели рядом, он опять начал нашептывать мне то же самое. Я попытался как-то его утешить.
— Инициатива проведения съезда принадлежит литературному истеблишменту, — сказал я, повторяя то, что слышал от бывшего начальника канцелярии, — но после смерти дуайена литературного цеха Кикути Кана его место занял Кавабата. Комитет премии всего лишь отметил работу Кавабаты, о чем он и сказал в своем выступлении.
Но Аоно не хотел меня слушать:
— Инициатива литературного истеблишмента? Что за чушь! А даже если и так, этот Кавабата всегда был подручным Кикути Кана, получается, премию дали за личную преданность? Как не стыдно!
Я вновь попытался его урезонить:
— Существует ежегодное мероприятие под названием «премия имени Кикути Кана», в этом году подходящей кандидатуры не нашлось, поэтому решили публично отблагодарить подручного.
— Тогда не надо было приглашать сегодня людей из ПЕН-клуба! — не унимался он.
Приехали на станцию Синдзюку.
— Из-за него в ПЕН-клубе теперь такой раздрай, с чем всех и поздравляю! — бросил на прощание Аоно и сошел с поезда.
Я пришел домой, и в тот же вечер мне позвонили трое человек из дирекции. Все они находились под влиянием винных паров и все заявили, что после произошедшего сегодня не только оставляют свои посты, но и вообще выходят из ПЕН-клуба.
Через две недели Кавабата позвонил мне и попросил зайти в канцелярию. Там, кроме женщин-служащих, никого не было, Кавабата усадил меня рядом с собой в углу зала заседаний и как ни в чем не бывало сказал:
— Кое-кто из членов нашего клуба не понимает, в чем суть этой организации. Ничего не поделаешь! Надеюсь, таких немного. Я впервые почувствовал, каково было Тосону со своими немногочисленными старыми друзьями отстаивать ПЕН-клуб… Вот только ныне мы — общественная организация со статусом юридического лица, и нам не обойтись без директора, поэтому попросим Дзюна Таками взять на себя эту обязанность и, не созывая дирекции, уведомим государственные органы. Проблема в том, что у нас остались средства, но ведь Татэно служил в администрации университета, у него есть опыт работы с финансами, может, попросить его заняться финансовой частью?..
Я слушал, кивая. Он уговаривал меня не уходить из заместителей, пока он остается председателем, уверял, что в будущем, если в работе ПЕН-клуба появятся какие-либо трудности, он обратится к специалистам на стороне и все уладит… И тут Кавабата, никогда не отличавшийся красноречием, неожиданно сказал:
— Я благодарен ПЕН-клубу за то, что через сорок лет смог вновь встретиться со своим старым другом по Первому лицею, которого на много лет потерял из виду, автора «Письма безответно влюбленного»… Ты стал прекрасным писателем, воспринявшим дух западной литературы. Может быть, из-за того, что мы оба уже не молоды, во мне, как в невинные лицейские годы, вновь ожила старинная дружба. — Говоря это, он вперился в меня своими большими холодными глазами.
(Надо пояснить, что в двадцатые годы, учась на втором курсе Первого лицея, я был избран членом литературной секции, что обязывало опубликовать рассказ в лицейском журнале. Вообще-то я любил писать сочинения, но рассказов никогда не писал и потому был в замешательстве.
В то время я, чтобы заработать денег, частным порядком работал домашним учителем и был многим обязан студенту третьего курса юридического факультета Токийского университета, а он только что пережил безответную любовь и часто плакался мне о своих любовных неудачах. Слушая его, про себя я думал, что ни за что на свете не стал бы распускать нюни на его месте.
Принимаясь за рассказ, я вдруг вспомнил об этом несчастном влюбленном и представил, какое бы мог написать письмо другу, потерпевшему неудачу в любви, — в результате получился рассказ «Письмо безответно влюбленного». Он был напечатан в журнале, свою обязанность я тем самым выполнил, к тому же рассказ имел успех. Читатели, мои друзья по лицею и преподаватели, вероятно, решили, что я сам и есть тот несчастный влюбленный. Поэтому мне уступили пальму первенства, расхваливая за то, что я, несмотря на несчастную любовь, смог таким прекрасным слогом и с удивительной рассудительностью передать в письме сущность возвышенной любви. После этого никто из преподавателей уже не решался цепляться ко мне на занятиях…
Кавабата был меня моложе и жил в среднем корпусе общежития, в комнате № 3. Как-то вечером он пришел ко мне в западный корпус, в комнату № 10, представился, сказал застенчиво, что ему понравилось «Письмо безответно влюбленного», и предложил вместе прогуляться. После этого около года между нами продолжалась дружба.)
И вот теперь — такое неожиданное заявление!
— Я испытал то же чувство, — сказал я поспешно. — Как только ты позвонил, я поспешил в канцелярию, вспомнив, как входил в комнату номер три в среднем корпусе общежития, как мы беседовали ночью в саду, как я выслушивал твои рассказы о Тё (девушка из кафе в Ситамати, к которой хаживал тогда Ясунари Кавабата). В то время ты был столичным жителем, а я — деревенщина, и сейчас, сорок лет спустя, ты — гений, полностью развивший свое дарование, а я все еще только начинающий, но при этом какое счастье, что старинная дружба остается неизменной!.. — Говоря это, я схватил его за руку.
С того дня, как мне кажется по прошествии времени, началась наша подлинная дружба. После этого разговора он часто приглашал меня в свое потайное писательское убежище. Я преисполнился решимости стать писателем, достойным дружбы этого одаренного человека, и тогда же, осознав, что журналистика меня убьет, наотрез отказался от заказной работы и принялся писать роман «Человеческая судьба». Благодаря нашей дружбе, не переставая дивиться своеобразию его таланта, я смог многое понять.
Кавабата часто повторял, что хочет умереть, но поскольку самоубийство — грех, он хотел бы умереть от несчастного случая. В 1972 году такой несчастный случай неожиданно произошел, и он скончался в соответствии со своим желанием. Он верил и часто говорил мне о том, что, для того чтобы возродиться на земле, надо иметь продолжателя рода, и поэтому взял на воспитание приемного сына, назначив его продолжателем своего рода… Возможно, ныне он возродился в семье своего приемного сына…
И вот какую мысль я хочу донести в связи с Ясунари Кавабатой.
Всякий человек рождается, получив одно уникальное призвание от Великой Природы. В чем именно оно состоит, он начинает чувствовать еще в детстве. Но даже если работа выбрана с бухты-барахты, коль скоро сам человек считает ее своим призванием и выполняет с удовольствием, словно при осознанном выборе, он непременно добьется успеха и прославится в своей области. И напротив, если даже выбранная тобой работа суждена тебе Великой Природой, но делаешь ты ее без удовольствия, обязательно потерпишь неудачу, сломаешься посреди пути и умрешь молодым.
Прекрасное тому доказательство — моя жизнь.
Я любил писать школьные сочинения, и во время моей учебы в Первом лицее известный специалист по французскому языку Такэси Исикава внушал мне, что жить литературой — моя судьба, и все же, решив, что по обстоятельствам это невозможное выбрал нелюбимую мной экономику. В результате я поступил на службу и стал вести жизнь государственного чиновника, уехал за границу, чтобы учиться, но потому ли, что пошел против воли Великой Природы, или же потому, что не находил радости в научной работе, но только когда я, завершив свои научные изыскания, засобирался в Японию, меня свалил смертельный недуг (туберкулез легких). Смерть была неминуема. Но Великая Природа, пожалев меня, уберегла от смерти, и, борясь с болезнью, я не мог обеспечивать свою жизнь иначе, как литературным трудом.
И тогда я решил жить писательством. С тех пор вот уже на протяжении пятидесяти с лишком лет я пишу неустанно, указательный палец на правой руке искривился, мне стукнуло девяносто четыре, но до сих пор я так и не стал писателем, который бы смог угодить Великой Природе. И это я, таланту которого в Первом лицее завидовал гениальный Кавабата! Надеюсь, меня поймут правильно…
Глава пятая
В сезон дождей всем тоскливо.
Но я веду жизнь бедного крестьянина, каждый день в углу кабинета возделываю рукопись, а во время дождя не хочется выходить из дома, работа живо продвигается, поэтому на душе легко и радостно.
В мае этого года (1989) мне исполнилось девяносто три, но хоть я считаю себя писателем, в том, как я работаю, сохранились повадки крестьянина, и когда наступает сезон дождей, каждый день, радуясь непогоде, я с головой погружаюсь в работу. И в то утро, проснувшись и увидев, что за окном все, как туманом, затянуто моросью, я возликовал, бодро спустился по лестнице и уже направлялся в ванную, когда зазвонил дверной звонок.
— Господин X. из Общества друзей, — передала третья дочь. — Стоит на пороге, говорит, у него к тебе просьба.
Не умывшись, я прошел в прихожую. Обычно веселый X. сидел, уныло понурившись.
— Простите, что побеспокоил вас в столь ранний час, но не могли бы вы мне дать «Божьей воды»?
— Но что случилось?
— Моя двадцатилетняя дочь позавчера легла в больницу с аппендицитом. Ей назначили операцию, и я был совершенно спокоен, ведь операция пустяковая, но когда вскрыли живот, оказалось, что аппендикс воспалился, вырезать невозможно, врачи, посовещавшись, просто зашили живот и закончили операцию… Поднялась температура, к вечеру стало совсем плохо, жена от нее не отходит. Вчера весь день дочь была без сознания… Я всю ночь мучился и вдруг подумал: что, если дать ей выпить «Божьей воды», о которой вы когда-то говорили… Я подумал, что вы мне не откажете… — Говоря это, он достал из бумажного пакета стеклянную бутыль.
Я тотчас поднялся, попросил его подождать немного, взял посудину, в кухне попросил дочь хорошенько ее вымыть, а сам тем временем вымыл лицо и руки в ванной, затем наполнил бутыль водопроводной водой, и в ванной, встав у окна, попросил Великую Природу сделать ее водой жизни.
К сожалению, из-за пелены моросящего дождя солнце не показывалось, все же я передал бутыль X., сказав, чтоб он поскорее дал дочери испить воды, и X., быстро попрощавшись, ушел.
Сели завтракать, я, не отвечая на вопросы дочери, обратился мысленно к Великой Природе и, в сердце своем прося прощения от имени X., молил о спасении жизни его дочери.
Затем поднялся в кабинет и приступил к работе, но работа не спорилась, меня донимали две проблемы, не дававшие мне покоя.
Действительно ли эта «Божья вода» обладает силой, спасающей жизнь неизлечимо больных? Я был уверен, что у А. рак печени и у Б. опухоль мозга полностью исцелились благодаря «Божьей воде», но так ли все просто?
И А. и Б. — управляющие в крупных финансовых компаниях, и больница, в которой они лечились, — первоклассное столичное учреждение с самым современным оборудованием. Методы лечения в последнее время достигли невероятного прогресса, поэтому, пусть даже «Божья вода» поспособствовала исцелению больных, которых принято считать безнадежными, не опрометчиво ли будет заключить, что именно благодаря ее силе человек вернулся к жизни и что она помогает всем без разбора?
Особенно это касается А. И он, и его жена — глубоко верующие христиане. Когда жена А. впервые встретилась с живосущей Родительницей, та похвалила ее веру и ради спасения А., как исключение, соблаговолила наделить ее «Даром воды». В случае Б. испить «Божьей воды» ему посоветовали жена и ее младший брат, ученый и тоже глубоко верующий человек. Так, может быть, только благодаря вере «Божья вода» проявляет спасающую человека силу?
Что же касается X., то его жизненная среда резко отличается от среды, в которой живут А. и Б. И больница, в которую поступила дочь (поскольку легкомысленно думали, что операция на аппендицит проще простого), была наверняка обычной районной больницей, а не суперсовременной клиникой, в которой лечились А. и Б. X. происходит из известного в Ямагате рода, но сейчас живет в Токио и ведет типичную жизнь горожанина, жена тоже, кажется, работает, как это нынче принято в больших городах. А главное — супруги X., в отличие от А. и Б., насколько мне известно, не придерживаются никакой веры… Так что в случае с дочерью X. получается своего рода эксперимент, демонстрирующий, помогает ли «Божья вода» обычному человеку, заболевшему и находящемуся на грани смерти…
Переживая за результаты эксперимента, я не мог успокоиться и взяться за работу. И все же хотелось понять, почему я так сильно озабочен?
Волнуюсь за жизнь дочери X.? Разумеется. Но не только. Если, испив воды, она не поправится, значит, в «Божьей воде» нет животворящей силы. Не в этом ли кроется главная причина моего беспокойства?
Когда бишь я впервые узнал о «Божьей воде»?
Больше трех лет назад. Как-то раз госпожа Родительница изволила прийти ко мне в дом и, закончив с делами, посоветовала ежедневно принимать «Божью воду», поведав рецепт ее приготовления. Поскольку я во всем ревностно следую словам Родительницы, с этого дня я начал приготовлять «Божью воду».
Назавтра, едва проснувшись, я налил в чашку воды из-под крана и, следуя указаниям, приготовил «Божью воду». Тут же выпил половину, долил воды и поставил чашку с «Божьей водой» на полку в столовой, чтобы пить понемногу по мере необходимости.
И сейчас припоминаю, что с тех пор, как я стал пить «Божью воду», ко мне вернулось здоровье, я ни разу не обращался к врачу и перестал принимать лекарства. Но при этом я считал мое здоровое состояние совершенно естественным и никак не связывал с «Божьей водой».
Как-то раз, осенью прошлого года, госпожа Родительница, явившись, осведомилась, не хочу ли я о чем-либо ее спросить. Я не задумываясь задал ей вопрос. Раньше Небесный сёгун, словно взяв надо мной опеку, постоянно поучал меня, отдавал приказы и беседовал, но вот уже несколько дней о нем ни слуху ни духу. Вначале я бодрился, но потом мне стало грустно и я втайне начал тревожиться, уж не вернулся ли он обратно в Истинный мир (Мир Божий). На мой вопрос госпожа Родительница ответила:
— Никуда он не ушел! Он внутри твоего тела, изнутри очищает и омолаживает тебя… Если не веришь, посмотри повнимательней на свои руки. Старческие пятна исчезли…
Я взглянул на руки, и действительно — высыпавшая было на руках «гречка» с левой исчезла начисто, на правой осталось только одно пятнышко. Каждый день пользуюсь руками, а по своей невнимательности этого не заметил! Я готов был сгореть со стыда.
Вскоре Небесный сёгун, как и прежде, начал мне являться, присматривать за мной и поучать.
А вот что произошло в этом году, утром, третьего января.
Неожиданно пришел с новогодним поздравлением О., которого я, несмотря на его молодость, могу назвать моим старым приятелем. Когда я угостил его «новогодним напитком», он, прижимая ладонь к щеке, пожаловался, что у него с утра заболели зубы, он пошел к врачу, но оказалось, что по случаю Нового года никто не работает… В этот момент Небесный сёгун приказал мне: «Скорее предложи ему „Божьей Воды“!»
Я пошел в столовую, налил в чашку немного «Божьей воды», вернулся и предложил О. выпить.
— Что это? — спросил он, понюхал и залпом выпил.
Прошло несколько минут…
— Ой, боль прекратилась! Что же это такое? — Он заглянул в чашку.
Прежде чем я успел ответить, Небесный сёгун ответил за меня:
— «Божья вода!» — и начал с жаром рассказывать о ней. О., хлопая глазами, слушал почти минут десять.
— Удивительно! Даже когда прикусываю, не болит. Все полностью вылечилось!
Поднявшись, он ушел. Проводив его, я сел в гостиной, и тотчас Небесный сёгун заговорил:
— Глупец, неужели тебя удивило, что у него прошла зубная боль? Ты же сам несколько лет назад излечился с помощью «Божьей воды»!.. Слушай внимательно. Отец Великой Природы, чтобы спасти Своих возлюбленных чад от недугов, даровал людям искусство врачевания. Последние двадцать лет даже бедняки получили возможность обращаться к врачу, не впадая в большие расходы, и Великая Природа радуется за своих чад. Однако, несмотря на прогресс медицины, есть недуги, перед которыми медицина бессильна. Вот ведь и ты четыре года назад, став старым и немощным, уже ждал смерти. Великая Природа пожелала вернуть тебе здоровье и омолодить тебя, чтобы ты смог исполнить свой литературный долг. Ради этого она, подобно тому, как жителям Западной Европы ниспослала лурдскую воду, тебя наделила «Дарованием воды», благодаря чему ты смог пить каждый день «Божью воду»… Ты называешь ее «Божьей водой», но это то же самое, что и вода из чудесного Лурдского источника…
Я был поражен.
— В самом деле? — переспросил я. — Ты говоришь о лурдской воде?
— Да, о ней! Именно потому, что это лурдская вода, ты, словно переродившись, поправил здоровье и сбросил годы… Посмотри на своих друзей. Все умерли. Только ты, творчески активный, как в свои пятьдесят, продолжаешь работать. Разве не так? Сам-то ты задумывался об этом чуде? Возомнил себя позитивистом и удивляешься тому, что у твоего О. зубную боль как ветром сдуло… Глупец! Отныне, с какой бы тяжелой болезнью ни приходили к тебе за помощью, всем давай «Божью воду»! Ибо это чудесная вода из Лурдского источника. Понятно?
В последующие дни, по вечерам, живосущая Родительница по случаю Нового года трижды приходила ко мне, сообщала много интересного и среди прочего поведала мне одну удивительную вещь.
— Ныне я, как чадолюбивая мать, не покладая рук помогаю Богу, Родителю Великой Природы, спасать мир, но когда-то я была матерью Иисуса и звали меня святой Девой Марией…
Повторив то, что я уже несколько раз от нее слышал, она рассказала, что однажды Бог, желая помочь чадам Своим, обратился к ней с одной просьбой. В маленькой французской деревушке на границе с Испанией, у водяной мельницы, в бедной семье жила одна несчастная девочка. Сердце у нее было такое невинное, что даже родители считали ее дурочкой, доверяя ей лишь нянчить младших братьев. Однажды Родительница, она же святая Дева Мария, часто являвшаяся ей, возвестила, что если постучать по расположенной неподалеку скале, из нее забьет ключ с водой, исцеляющей болезни. Вернувшись на мельницу, девочка рассказала отцу и попросила постучать по скале…
Отец не поверил рассказу дочки-дурочки, но в конце концов, чтобы она ему не докучала, взял молоток и пошел вместе с ней. «Отсюда должна бить вода?» — крикнул он и ударил по скале. Хлынула вода. Чистейшая вода. Он зачерпнул — ледяная. Набрал в рот — вкусная.
«Вода пошла! Вода пошла!» — закричала девочка и побежала на мельницу. Мать и бывшие на мельнице деревенские жители бросились к скале. Они черпали ладонями воду и пили. Так началось «Лурдское чудо».
— Кодзиро, когда ты шестьдесят лет назад умирал в Париже, тебя исцелила лурдская вода… Позже, в шестьдесят три года, вместе с двумя дочерьми, учившимися во Франции, ты провел два летних месяца в Ньевре. Вы посетили монастырь, где была заключена святая, и увидели святую, которая, несмотря на прошедшие сто лет после ее смерти, лежит, точно погрузившись в сон. Помнишь?..
…В полном неведении я прогуливался с дочерьми и вдруг увидел, как толпы народа устремляются в женский монастырь. Из любопытства мы пошли вслед за всеми. И там, неожиданно, нашим глазам предстала святая Бернадетта, продолжающая после смерти пребывать словно бы спящей.
— Приняв приглашение настоятеля монастыря, ты присоединился к группе лурдских паломников, жителей Ньевра, и приобрел ценнейший опыт. Там собралось множество паломников со всех стран Европы, с запада и востока, они прибывали на специальных поездах и сопровождали больных. Ты стал свидетелем религиозных ритуалов и проявлений чуда, видел специальное медицинское оборудование, с помощью которого исследовали, в самом ли деле исцеление произошло благодаря чуду, ты видел коленопреклоненных паломников. Эта кипучая активность произвела на тебя громадное впечатление…
Госпожа Родительница взглянула на меня и продолжила:
— Итак, Кодзиро, Бог, будучи Родителем Великой Природы, скорбя о болезнях Своих земных чад, ниспослал им в помощь лурдскую воду. Было это почти полтора века назад. Вода помогала людям, даже Наполеон Третий излечился от болезни, но девочку с мельницы, видевшую Деву Марию, объявили ведьмой, дважды устраивали над ней судилище, а когда разнеслась молва, что она святая. Римский престол прислал легата, и ее заключили в Ньеврском монастыре, установив за ней строгий контроль… Ей даже не позволяли встретиться с родителями, и она, как распятый на кресте Иисус, в молодые лета покинула мир. Но хоть она и умерла, плоть ее не разрушалась, она точно уснула, и когда об этом стало известно, Святой престол снова поспешно отправил легата, который подтвердил чудо, и только тогда ее объявили святой… Как же глупы люди!..
Но Бог, Родитель Великой Природы, сотворив во Вселенной, на Земле живых существ, по прошествии нескольких сот миллионов лет задумал спасти все живое от грозящей ему гибели и в 1987 году впервые сошел на Землю, приступив к Спасению Мира. Возжелав дать людям, ходящим под солнцем, лурдскую воду, Бог-Родитель наделил Иоанна Света «Дарованием воды». Но поскольку ты твердолобый позитивист, он не стал сообщать тебе об этом, а дал тебе ее под названием «Божья вода», чтобы ты убедился на собственном опыте. Ну и как? Будучи при смерти, ты исключительно благодаря этой воде поправил здоровье, вернулся к своим пятидесяти годам и продолжаешь работать. Тем самым ты смог удостовериться: «Божья вода» — та же, что из чудесного Лурдского источника. Поэтому отныне пользуй ею всех просящих о помощи… Ведь в нынешнем году встает заря эпохи Мира и Равенства… Первый год, когда Бог-Отец, сойдя на землю, даст людям идеал «жизни, полной радости»… А ты должен с радостью содействовать Богу в его деле Спасения Мира. Особенно это касается того, о чем тебя попросил Бог-Отец… Понял?.. В прежней жизни ты был Иоанном Света, поэтому Бог-Отец обратился к тебе, а когда Бог-Отец послал Шакьямуни, ты был просветленным мудрецом, следующим за ним до самого конца… А еще раньше ты был греческим философом. Небось слышал имя греческого святого Сократа? Этот святой — один из десяти Небесных сёгунов, и Бог-Родитель послал его к тебе, чтобы наставлять вблизи… Поэтому, пожалуйста, слушай повнимательнее все, что он говорит. Тогда для тебя воссияет благодатная заря Мира и равенства. И я счастлива, что могу возвестить тебе это в благословенный Новый год, открывающий эпоху Мира и Равенства…
Родительница удалилась, а я был совершенно ошеломлен.
Оставшись один, я постарался спокойно припомнить и повторить про себя сказанное Родительницей. Я все хорошо запомнил и разобрал, но два места ускользали от моего понимания. Я не мог взять в толк, что она имела в виду под «эпохой Мира и Равенства», а еще — что в Париже меня, бывшего при смерти, якобы спасла лурдская вода. Не было такого!
И тут неожиданно ко мне обратился голос Небесного сёгуна:
— Нет ничего странного в том, что ты не можешь постичь суть эпохи Мира и Равенства… ибо это дело будущего… В скором времени император вернется в лоно Великой Природы, эпоха Сева закончится… Название правления изменится на Хэйсэй — Мир и Равенство. Все по промыслу Бога-Родителя… Хэйсэй не просто название годов правления. Бог-Родитель, шагая по Земле, всех земных Своих чад делает равными, возвещая наступление Божественного идеала «жизни, полной радости». Нынешний новый год словно заря грядущего. Не спрашивай и возрадуйся…
Мне оставалось только молча кивнуть.
— Далее, по поводу того, что в Париже тебя исцелила лурдская вода… Вспомни, как в мае месяце ты сдавал в Парижском университете свою научную работу профессору Симьяну. Это был последний день второго экзамена. Сдав первый экзамен, ты в кабинете профессора обсуждал с коллегами свою научную работу… Когда дискуссия уже подходила к концу, ты внезапно потерял сознание и упал. Поднялась суматоха. Прибежал профессор Б. из медицинского университета. Он диагностировал высокую температуру из-за воспаления легких и немедленно поместил тебя в больницу Буало, где работал его ученик. Больница была недалеко от твоего дома… Приятели сразу же известили твою жену. Жена была на частном уроке французского языка и немедленно прибежала вместе со своей учительницей мадам Массе… Ты был без сознания. Быстротекущая пневмония, лечить невозможно… Врач констатировал, что ты в критическом состоянии. Добрейшая мадам Массе сказала, что сейчас же поедет в Лурд и привезет «воды», прося врача поддерживать в тебе жизнь хотя бы до ее возвращения. Помнишь мадам Массе? Или забыл?
Я не только не забыл мадам Массе, но, пока была жива жена, мы часто с любовью вспоминали ее как свою родную мать.
— Так вот, на следующее утро жена пришла в палату и несколько раз окликнула тебя. Наконец ты открыл глаза. Жена, плача, сказала, что если ты умрешь, она окажется в безвыходном положении, и попросила тебя расписаться, насильно вложив в пальцы ручку. «Только-только кончил учиться — и сразу умирать?» — сказал ты и, оставаясь в полусне, подписал… И тотчас потерял сознание. Этой подписью ты снял все деньги со своего банковского счета. Все уже начали готовиться к твоей смерти. На следующее утро, в половине десятого, мадам Массе вернулась из Лурда с водой. И сестры и врач, обрадовавшись, поспешили дать тебе испить ее. Знаешь ли ты, что они давали тебе ее в течение трех дней?
— Впервые слышу…
— Наступило утро четвертого дня. Помнишь ли ты, о чем спросил у вошедшей в палату сестры?
— «Где я? Какой сегодня день?»
— Державшаяся на сорока двух градусах температура спала до тридцати восьми. Сестра, обрадовавшись, дала тебе немного жидкой пищи. Ты с аппетитом поел. Помнишь ли ты, что было потом? Все, кто посещал тебя в палате, радовались, что ты вылечился от тяжелой пневмонии, но о лурдской воде даже не заикались. И мадам Массе молчала. В том, что лурдская вода тебя исцелила, не было ничего особенного, самое обычное дело. И вот что я хочу тебе поведать напоследок. В этом мире нет ничего случайного. Все — промысел Божий. Если бы тогда у тебя была пневмония, ты бы мог выйти из больницы через две недели, но две недели прошло, по утрам была нормальная температура, а к вечеру подскакивала до тридцати восьми. Тебя обследовали и обнаружили туберкулез легких. Туберкулез на ранней стадии. Твои дети были в яслях в Фонтенбло, поэтому ты, выписавшись из больницы, на машине отправился в Фонтенбло и в течение месяца, живя в гостинице, набирался сил, после чего переехал в высокогорную лечебницу в Отвиле. Твоя жена уверила тебя, что сможет одна присматривать за детьми, и жила благополучно с детьми, пока ты проходил лечение… Благодаря этому ныне ты существуешь…
После услышанного я набрался уверенности и через несколько дней дал воду человеку, просившему помочь жене, больной раком печени, затем, еще через четыре дня, когда сводный брат Б. попросил помочь его сводному старшему брату, страдавшему тяжелым заболеванием мозга, дал воды и ему. Оба приняли воду с большой радостью.
Я успокоился и решил взяться за работу, когда Небесный сёгун велел мне подумать об Обществе почитателей.
— В 1970 году, когда тебе было семьдесят четыре года, на твоей родине построили музей, посвященный твоему творчеству. Основатель центра Киитиро Окано не преследовал никакой личной выгоды, он лишь хотел, чтобы твоя душа вернулась в родные края, кроме того, он надеялся воодушевить твоим примером местную молодежь. Бог-Родитель Великой Природы возрадовался этому безвозмездно возведенному зданию — это как бы твоя церковь, — и в то же время, высоко оценив добродетель господина Окано, решил заботиться о процветании его банка… Ты дважды, весной и осенью, посещаешь свой музей и выступаешь с лекциями перед людьми, съехавшимися со всей страны. Эти люди подружились и создали Общество почитателей творчества Сэридзавы. Познакомившись, благодаря твоим книгам, некоторые из них заключили счастливые браки, нарожали детей. Родитель Великой Природы взирает на это с одобрительной улыбкой. Однако многие члены Общества живут в Токио и его окрестностях, и их не удовлетворяло всего лишь дважды в год собираться в культурном центре, захотелось по меньшей мере раз в месяц встречаться в Токио… Среди них был молодой бескорыстный литературный критик А. Идя навстречу общему желанию, он, не прошло и года, организовал Общество почитателей творчества Сэридзавы, которое собирается раз в месяц в зале культурного центра в Восточном Накано.
Утомившись этими слишком уж тривиальными речами Небесного сёгуна, я начал рассеянно думать о том, каких новых героев вывести в «Воле человека», над которой сейчас работаю. Но внезапно Небесный сёгун заговорил громче обычного, и я очнулся. Вот что он сказал:
— Там собираются самые разные люди, старые и молодые, мужчины и женщины. Поначалу ты забрал себе в голову, что поскольку в Общество входят люди различных вероисповеданий, различных политических убеждений, на заседаниях ни в коем случае не следует затрагивать религию и политику, только литературные вопросы… Великая Природа смеется над твоим суемудрием, ибо с любовью взирает на каждого члена Общества. Каких бы убеждений человек ни придерживался, приходя на собрание, он сообща со всеми начинает обучаться жить в Истинном мире. Может, ты и не замечал, но все члены Общества светятся счастьем. Это и есть благодать Великой Природы.
Кажется, Небесный сёгун закончил свою речь, решил я и вздохнул с облегчением. Но он опять продолжал:
— Не указать ли тебе на нечто неприятное, на то, как и здесь продолжает проявляться неугомонная человеческая глупость?
Я молчал.
— Так вот, всеми делами музея управляют поэт А., уроженец Нумадзу, исполняющий должность директора музея, и находящиеся под его началом Т., женщина средних лет, и одна молоденькая девушка. А. во всем следует указаниям дирекции музея, организационно входящей в банк Суруга. По своей доброте господин Окано никогда не докучал тебе делами музея. Даже идея, чтобы ты дважды в год посещал музей, принадлежит директору, господин Окано к этому не имел отношения. А разве тебе не известно, что Окано не только мечтал вернуть твою душу на родину, но и предпринимал всяческие усилия, чтобы само собой отменилось твое изгойство, объявленное по феодальному обычаю твоей деревни? Тебя изгнали из общины за то, что ты поступил в среднюю школу, и, хотя с тех пор прошло шестьдесят лет, ни один человек из деревни не заходил в твой музей, даже в те дни, когда вход бесплатный. Ни директор музея, ни Т. ничего не знали о твоем изгойстве, поэтому время от времени ходили по деревне и приглашали ее жителей посетить музей.
Все это Родитель Великой Природы видит и знает. Как-то раз к тебе пожаловал один доброхот и заявил, что, если ты пожертвуешь денег на нужды деревни, проблема с изгойством будет решена, но, видимо, он плохо представлял себе, какие доходы имеет писатель, чуждый коммерции, и назвал совершенно запредельную сумму, и ты спокойно ответил, что рад был бы пожертвовать в пользу деревни, но у тебя нет и сотой доли того, что он просит. И что тебе на это сказал Бог-Родитель?
— Будь проще, как Иоанн Света.
— Вскоре после этого ты получил иностранный орден и был выбран почетным жителем города Нумадзу. Прошло полгода, в твоей деревне построили Центр спасения при стихийных бедствиях и обратились к тебе с просьбой написать похвальное слово деревне и поместить ее на стене у главного входа в музей. Ты тотчас согласился. Согласился ты и на просьбу участвовать в торжественном открытии Центра. Согласился прочесть в Центре лекцию…
Накануне лил сильный дождь, но в тот день с утра было ясно, вся деревня готовилась к празднику. Деревенские жители встретили тебя, приехавшего на машине с дочерью, радостными криками, в зале Центра спасения состоялась церемония открытия, впрочем, она скорее напоминала торжественный прием в честь твоего приезда.
Затем перешли в столовую, в которой также была устроена сцена, и там для тебя и жителей деревни закатили пир, услаждая выступлением школьников, хора женского общества и местной самодеятельности.
А когда наступило время уезжать, селяне обступили твою машину, устроили овацию, величая тебя гордостью деревни, кричали тебе многие лета и никак не хотели отпускать…
Взирая на происходящее. Родитель Великой Природы возрадовался, что бескорыстный поступок господина Окано, построившего музей, получил воздаяние, и расцветил небеса и морские просторы алыми красками заката. Но сам-то ты заметил все это?..
Запечатлей это в сердце своем, как явленный Богом-Родителем пример, символ того, что воля человека, его искреннее желание непременно осуществятся. Понял?
Я молча кивнул.
— И вот еще к чему хочу привлечь твое внимание… Обычно всегда, когда ты приезжал в музей, стояла прекрасная погода. Ты радовался, что даже если накануне шли дожди, стоило тебе приехать, небо мгновенно прояснялось. Всякий раз Родитель Великой Природы, благоволя к тебе, разгонял тучи, и гора Фудзи встречала тебя с ликованием…
Но вот двадцать третьего апреля сего года ты посетил музей после трехлетнего перерыва. В этот день, согласно с твоим душевным настроем, с утра хмурилось, казалось, вот-вот пойдет дождь. Ты тревожился за внучку, дочь своей младшей дочери, которая осталась в доме одна. К тому же, не подготовив выступления, ты чувствовал себя неважно… «Может, отменить поездку?» — настойчиво спрашивала дочь, когда вы уже сели в машину, но ты забился поглубже в сиденье и ничего не ответил… Когда выехали на скоростную трассу. Родитель Великой Природы окатил машину струями дождя, нарочно останавливал ее под предлогом дорожно-ремонтных работ, перегораживал дорогу разбитыми автомобилями, мешал движению, перепробовал все, чтобы воззвать к твоему любящему сердцу… Но сердце твое оставалось закрыто и холодно, как камень… Из-за всего этого в Нумадзу вы прибыли позже обычного на два с половиной часа, даже не успели пообедать. Не было времени по дороге сходить на могилу твоей жены, ты остался в машине и смотрел, как дочь направляется к кладбищу с букетом цветов.
Все так и было, и на меня вновь нахлынули горькие воспоминания о том дне.
— В музей прибыли без двадцати час. В Нумадзу моросил дождь, но к этому времени он кончился. Из-за трехлетнего перерыва людей из Общества почитателей твоего творчества собралось втрое больше обычного, было не протолкнуться. К твоему удивлению, тебя встретил мэр города с супругой. Поприветствовав тебя, они поспешили сесть на заранее занятые места — тебе пора было начинать выступление.
Судя по виду, ты был в крайнем замешательстве. Думая об искренней любви к тебе собравшихся людей, я отверз твои уста и начал говорить вместо тебя. (Позднее мне прислали из музея пленку с записью, я прослушал — мое выступление оказалось великолепным, у меня отлегло от души, и я возблагодарил Небесного сёгуна.) Ты успокоился и, внимая идущим от меня словам, разглядывал в зале лица милых друзей, которых давно не видел. Выступление, как обычно, продолжалось два часа, все были под большим впечатлением. Около получаса ты отвечал на вопросы, директор музея спросил: «Вы, наверно, устали, пора заканчивать?» — на что ты ответил: «Нисколько не устал!» Услышав это, я, искренне обрадовавшись, рассмеялся.
Как бы там ни было, выступление закончилось, проходя через задник зала к главному входу, чтобы подняться в приемную, ты поднял глаза на небо и безмолвно вознес благодарность Родителю Великой Природы. В приемную постепенно набились люди, одни просили расписаться на книге, другие пришли засвидетельствовать почтение, кто-то приносил подарки, у тебя не было времени передохнуть… Вскоре позвали сняться в групповой фотографии, все высыпали перед входом в музей, началось суматошное действо под названием «фотография на память». Когда всем участникам удалось втиснуться в один снимок, люди, приехавшие со всех краев страны, один за другим стали просить сняться с ними отдельно на память, ты всем
уступал, а заметив среди собравшихся тех, кто в одиночку приехал из Кюсю или Сикоку, ласково заговаривал с ними. Таким образом быстро пролетело время.
Наконец, когда ты вернулся в приемную, пора уже было двигаться в Токио. С утра ты не съел ничего, кроме ломтика хлеба с чаем, из всех яств, любезно приготовленных в музее, полакомился только ломтиком дыни и ни к чему больше не притрагивался, удерживаемый невидимым существом. Тебе передали, что дочь подогнала машину, и, в окружении вышедших проводить тебя людей, ты наконец покинул музей.
Я обрадовался, что на этом рассказ Небесного сёгуна закончился, он, однако, продолжал:
— Как ты поступаешь в подобных ситуациях? Ты ничего не писал об этом, и никто этого не знает. Обычно ты призываешь в душе Родителя Великой Природы и меня. Небесного сёгуна, обсуждаешь свои поступки, каешься, очищаешь и изощряешь свое сердце… И на этот раз ты простерся, каясь и сокрушаясь сердечно о том, что из-за твоего своенравия пришлось докучать Родителю Великой Природы и беспокоить меня. Небесного сёгуна, ты подверг себя столь суровому испытанию, что плоть твоя изнемогла и ты был не в силах подняться, лежал в машине, пытаясь прийти в себя… Твоя дочь решила, что ты ослаб от голода, предлагала тебе фрукты, сладости, но ты не отвечал. Твое душевное испытание столь сурово, что о подробностях я лучше умолчу. Благодаря ему ты постепенно продвигаешься вперед, обретая утешение от Великой Природы… Наконец подъехали к дому, и ты поднялся. Было почти восемь. Ты бодро стоял перед входом. Внучка звонко закричала: «Деда, устал, наверно? Я приготовила ванну, иди отдохни!»
Как-то раз, лет через десять после возведения музея, осенью, дочь привезла тебя туда на своей машине, как вдруг к тебе подбежала женщина, часто приходившая в музей, и сказала: «Вы слышали, говорят — банк Суруга лопнул!» — «Что за чушь!» — возмутился ты. «Истинная правда!» — заявила женщина, но тут подошли другие встречающие и повели тебя в приемную. Но как ты не вспомнил, что и раньше, в твой весенний приезд, эта женщина говорила тебе то же самое?
Вскоре началось твое выступление, прежде всего ты заговорил о слухах вокруг банка Суруга и твердо заявил, что эти слухи беспочвенны. Ты напомнил собравшимся, что когда господин Окано построил музей, Бог-Родитель Великой Природы возвеселился и, восхваляя его добродетель, обещал на веки вечные обеспечить его банку процветание. Затем ты заговорил о музее. Он носит твое имя, но ты не имеешь никакого касательства к его управлению, все происходит под эгидой дирекции при банке Суруга. Господин Окано — банкир, получивший хорошее образование, человек с широкими взглядами; построив на этой прекрасной земле храм спокойствия, он хотел, чтобы здесь на людей изливалась благодать природы. Приведя в подтверждение этих слов примеры того, как некоторые молодые люди, созерцая со второго этажа морские просторы, задумавшись, отказывались от мыслей о самоубийстве, рьяно брались за учебу и словно перерождались, ты, обратившись к собравшимся, сказал: «Вот и многие из вас, дорогие мои, познакомившись в этом зале, соединились друг с другом и обрели свое счастье», чем вызвал веселый смех. Затем ты поделился своей радостью от посещения этого храма раз в полгода, от того, что очищаешься чистотой Великой Природы и, успокоившись сердцем, беседуешь с самой горой Фудзи. Ты предложил собравшимся, хотя бы на время, пока они пребывают в музее, отбросить присущие человеческой натуре страсти и, уподобившись в бескорыстии души господину Окано, вознести благодарность щедрости Великой Природы. Тогда непременно здесь, в этом зале, разольется прекрасная музыка Великой Природы. И на этой мажорной ноте ты закончил выступление.
Воспоминание о том дне наполняло меня радостью.
— Бог-Родитель был весьма доволен твоим выступлением. И та женщина с тех пор перестала досаждать тебе своими странными заявлениями и, как говорят, отныне живет вполне счастливой жизнью. Может быть, это один из примеров того, как одного твоего визита в музей достаточно, чтобы исцелить психическое заболевание…
На этом речь Небесного сёгуна наконец закончилась. Я сильно колебался, записывать ли здесь слово в слово то, что он мне сказал, особенно последнюю часть, по поводу музея… Но в результате долгих размышлений решил скрепя сердце записать, как доказательство того, что Родитель Великой Природы так или иначе приводит к тому, что желания Его чад осуществляются наилучшим образом.
Вечером, через четыре дня после того утра, когда по просьбе X. из Общества почитателей я приготовил «Божью воду», раздался телефонный звонок.
Его дочь, бывшая при смерти, выпив воды, на следующий же день пришла в сознание, начала поправляться, а сегодня, к немалому удивлению врача, уже вставала с постели и ходила без посторонней помощи.
Благодаря этому телефонному звонку я перестал волноваться, точно почувствовав себя спасенным, и занялся своей работой, а через несколько дней вместо X. за «Божьей водой» для больной пришла его младшая сестра. Узнав от нее, что дочь вышла из больницы, я окончательно успокоился.
Я и сам негодую на себя, какой я глупый, недоверчивый человек, с какой же печалью должен взирать на меня Родитель Великой Природы!
Почему же среди многих тех, кому помогла «Божья вода», моих читателей и близких людей, именно случай с дочерью X. так сильно меня взволновал? Я постоянно слышу от Великой Природы, что все люди братья, но может быть, бессознательно я питал к X. особенную любовь?
Вот так я, робея, размышлял у себя в кабинете, даже не притрагиваясь к шариковой ручке, когда кто-то из домашних из-за двери крикнул, что какой-то юноша, по виду студент, хотел бы со мной поговорить и дожидается в прихожей. Я сразу же спустился вниз.
На пороге переминался незнакомый юноша, одетый в студенческую форму. Взглянув на меня, он расплылся в улыбке, представился и тотчас упомянул имя своей матери, как будто хотел невзначай дать понять: он гордится тем, что она моя хорошая знакомая.
Однако в последние три-четыре года я стал забывать не только имена посетителей, но и имена близких мне людей. А если помнил, опасался, что, сочиняя роман, по рассеянности дам это имя кому-нибудь из героев… Хоть юноша и назвал имя матери, я не мог определить, кого из множества посещавших меня женщин он имеет в виду.
Как бы там ни было, юноша сказал, что хотел бы поговорить со мной, и попросил уделить ему полчаса, поэтому я провел его в гостиную.
Позже я узнал, что юноша учился на первом курсе промышленного факультета Токийского университета. Пришел он ко мне после тяжелых мытарств, поэтому, не стесняясь, сразу все начистоту и выложил.
— О себе и своей семье я говорить не стану, поскольку мать уже повсюду об этом прожужжала все уши… То, что я хочу рассказать, касается главным образом матери. Как вы сами могли видеть, мать моя нрава не злого, человеколюбива, скорее добросердечна, но вот только по отношению к детям была ужасно сварлива, касалось ли это школы, учебы или каких-то бытовых проблем, она постоянно к нам привязывалась. Из-за этого и старшая сестра, и старший брат, и я с детства много настрадались. Для нас, детей, ее ворчливые нотации звучали постоянным укором, делая жизнь просто невыносимой.
Тут я вспомнил, кто эта женщина — она как-то раз пришла, сказав, что прочитала «Милосердие Бога», и потом в течение трех лет время от времени приходила за советом. После этого мне стало проще слушать рассказ студента.
— Если бы она только ворчала на нас, своих четверых детей, мы бы терпели и не сопротивлялись, но, подрастая, мы стали замечать, что она и отца изводит жалобами и обидами, отец, впрочем, пропускал это мимо ушей… Я решил даже, что ворчливость — свойство всех женщин… Но все равно это было невыносимо! Сестры и брат испытывали те же чувства… Весной прошлого года старшая сестра, выходя замуж, захотела поговорить по душам с нами, своими братьями, и, между прочим, заявила, что в замужестве постарается быть как можно более немногословной. — Тут он сказал: — Ну да ладно, буду краток… — и продолжил рассказ. — И вдруг наша сварливая мать с конца прошлого года перестала всем делать замечания. Перестала докучать попреками. С утра была в хорошем настроении, говорила со всеми ласково. Старалась приободрить. Было это немного странно, но вела она себя так и с сестрой и с братом. И по отношению к отцу она переменилась. Раньше, когда он уходил на службу, она даже не удосуживалась пожелать ему всего доброго, а теперь заботливо провожала до порога и напутствовала нежными словами. И никаких жалоб, никаких обид.
Благодаря одному этому в доме стало светло, более того, поскольку мать обращалась ко всем с радостными словами, атмосфера в семье сама собой изменилась. Мы, дети, перешептывались: «Ну и дела!», «Долго ли это продлится?» «Взаправду ли это?». Но все было взаправду, в конце концов и отец заметил перемену и обрадовался. Десятого февраля, в день рождения матери, за праздничным ужином, на котором присутствовала и вышедшая замуж сестра, мы уплетали приготовленные матерью блюда, как вдруг, к нашему удивлению, отец обратился к ней с поздравительной речью:
«Поздравляю с днем рожденья! Ты не просто прибавила еще один год жизни, а словно переродилась. Благодаря этому наш дом озарился светом и все стали счастливы. В награду небо посылает тебе орден…»
С этими словами он приколол ей на грудь брошь в виде цветка, усеянного жемчужинами. Мы зааплодировали, а мать, смущаясь, поблагодарила отца, встала и принесла бутылку шампанского и бокалы.
«Настоящее французское шампанское! — сказала она отцу. — Открой, в знак моей признательности…»
Пробка с шумом взлетела под потолок. Отец под аплодисменты разлил пенящееся шампанское. Все подняли бокалы, и брат, он учится на третьем курсе университета, произнес тост:
«Мама, поздравляем с перерождением! Прими наши общие поздравления. Но объясни, как все произошло? Ты должна нам рассказать, обязательно, ведь мы все от этого стали счастливее…»
Мать, рассмеявшись, ответила:
«Я нашла сокровище!»
«Сокровище? Ну-ка, показывай!»
«Такое драгоценное, что нельзя показать никому», — сказала она, ласково всем улыбаясь.
С этого дня студент Токийского университета решил во что бы то ни стало узнать, что это за сокровище.
Он стал внимательно наблюдать за матерью. Мать окончила английское отделение женского университета и в юности, по ее словам, много читала, но та женщина, которую он знал, в лучшем случае пролистывала иллюстрированный журнал, а книг почти не открывала. Теперь же, начав наблюдать, он заметил, что мать, как только у нее выпадает свободная минута, тотчас хватается за книгу. Это была «Улыбка Бога», это было «Милосердие Бога», это были «Замысел Бога» и «Счастье человека».
Недоумевая, он как-то раз спросил у нее, что это за книги. «Мое святое писание», — ответила она. «Святое писание?» — опешил он. Тогда мать предложила ему самому почитать на досуге. Он не стал откладывать и взял для начала «Улыбку Бога». Он никогда раньше не читал моих книг, а сейчас, взяв у матери, за три месяца одолел сразу три тома. Мать не спрашивала его мнения о прочитанном, и он сам не заговаривал с ней на эту тему. Все же слова матери о том, что эти книги — ее сокровище, произвели на него такое впечатление, что наконец, решившись, он спросил у нее:
«Ты встречалась с автором?»
«Да… Эти книги для меня как Святое Писание, поэтому и автор их для меня — живой Иисус Христос».
«Познакомь меня с ним».
«Попробуй сходи один. Он наверняка тебя примет».
Вот так и получилось, что после некоторых колебаний, собравшись с духом, он в тот день посетил меня. И сразу заговорил о главной цели своего визита, сказав, что хотел бы непременно узнать мое мнение.
В его семье воспитание и образование детей находились всецело в ведении матери, она же решила, что ее сыновья достаточно способны, чтобы пойти по стопам отца, и готовила к этому обоих. Отец, окончив юридический факультет Токийского университета, сдал экзамены на государственного чиновника высшего разряда, работал в Министерстве финансов, а подойдя к пенсионному возрасту, по рекомендации министерства стал вице-президентом крупной компании и теперь работал в сфере частного бизнеса. Старший брат, в соответствии с планами матери, учился ныне на третьем курсе юридического факультета Токийского университета.
И ему тоже мать с ранних лет вдалбливала, что он должен пойти в этом направлении, и под ее влиянием он с этим согласился. Школа, когда он ее закончил, дала добро, и перед ним открылся путь в Токийский университет. Но когда он подавал заявление, ему вдруг захотелось поступить на промышленный факультет, и от юридического он отказался. Разумеется, предварительно переговорив с матерью.
— Как ты считаешь, так пусть и будет, — легко согласилась она.
Он тогда еще не догадывался, что мать «переродилась», и с радостью ухватился за ее слова. Однако, заметив, что она
переродилась, он крепко задумался.
С тех пор как в семье установилась светлая атмосфера, он был так счастлив, что стремился исполнять свой сыновний долг и всячески радовать родителей, демонстрируя им свою признательность. Но его выбор промышленного факультета откровенно шел вразрез с желанием и волей родителей. В тот день, когда стало известно, что он зачислен в университет, отец за ужином сказал:
— Промышленный факультет, говоришь? А почему не юридический?
— Но ведь он этого и хотел! — сказала мать. — Порадуйся за сына и не бери близко к сердцу!
На что отец ответил:
— Но если он окончит промышленный факультет, то в будущем я ничем не смогу ему помочь…
Этот короткий обмен репликами поразил его в самое сердце, он не мог произнести ни слова, и вместо него заговорил старший брат:
— У братишки есть уверенность в своих силах, так что лучше не дуйся на него и поздравь!
В тот момент он впервые осознал, что, выбрав промышленный факультет, пошел против желания и воли родителей и что своим поступком он нарушил свой сыновний долг. Особенно позже, когда он уже знал, что мать переродилась, его стало все сильнее терзать, что он проявил непочтительность к родителям. После долгих размышлений о том, как все же исполнить свой сыновний долг, он решил, что нет другого выхода, как, в соответствии с желанием родителей, бросить промышленный факультет и поступить на юридический. И вот он пришел ко мне, чтобы узнать мое мнение.
Я был в затруднении, но все же попробовал ответить.
— Была ли какая-то причина, что ты выбрал именно промышленный факультет, или это просто каприз?
— Нет, то было серьезное решение. Я люблю классическую музыку, и вот, отыскивая по радио и на пленках музыку заграничных исполнителей, я заинтересовался и самими этими устройствами, и вообще естественными науками. И вот я подумал, что за четыре года учебы в университете я овладею тайнами природы и тем, как она может служить человеку. Потому и выбрал промышленный факультет.
— Прошло всего несколько месяцев, как ты поступил в университет, не разочаровался ли ты в своем выборе?
— Нет… Только меня терзает раскаяние, что я нарушил сыновний долг.
— Сыновний долг всегда можно исполнить. Но оставим его в стороне, скажи, готов ли ты всю свою жизнь посвятить естественным наукам? Есть ли у тебя уверенность, что ты всю жизнь будешь заниматься этим? Ну, что скажешь?
— Да, я готов, я в себе уверен.
— Ну, тогда тебе не в чем сомневаться… Изучение естественных наук — твое жизненное призвание, вмененное тебе Богом-Родителем Великой Природы. В том, что ты бессознательно это почувствовал и выбрал промышленный факультет, проявилась благодать Великой Природы, исполненной любви. А произошло это потому, что Великая Природа оценила добродетель твоих родителей, так что успокойся!
— Вы так думаете?
— Если ты посвятишь жизнь науке, сохраняя уверенность в правильности избранного пути и не падая духом, то обязательно добьешься великолепных результатов. И Великая Природа будет рада, и люди по всему миру будут тебе благодарны, обязательно!.. Поскольку ты пришел узнать мое мнение, отвечаю тебе откровенно… Даже если ты надумаешь перейти на юридический факультет, это можно сделать только через полгода, а за эти полгода у тебя есть время хорошенько обдумать то, о чем я тебе сказал, и принять окончательное решение.
— Честно скажу, ваши слова придали мне мужества. Если и впрямь изучение естественных наук — мой долг, мое призвание, данное мне свыше Богом-Родителем Великой Природы, я с радостью посвящу этому всю жизнь. Вы укрепили во мне уверенность и убежденность… Спасибо.
— Ну и отлично. Великая Природа будет всегда исподволь поддерживать тебя… А возникнут проблемы — приходи в любое время…
— Если моя матушка к вам пожалует, вы уж, пожалуйста, извинитесь перед ней за мою сыновнюю непочтительность!
— Договорились. Вот только мать твоя намного добросердечнее и умнее, чем ты думаешь, так что успокойся.
— Ладно.
— А о нашем разговоре сегодня дома за ужином расскажи всем, вместе посмеетесь!
— Хорошо! — сказал студент и с ясной, как у младенца, улыбкой ушел.
Я проводил его до ворот и словно бы только сейчас заметил, какой это высокий, сильный юноша. Я долго смотрел ему вслед.
Вернувшись в свой кабинет, я с сожалением подумал, что наш разговор получился не слишком содержательным. Однако, поскольку он, как видно, серьезно прочел три тома моих книг о Боге, и такого короткого разговора достаточно, чтобы он обрел решимость. С сегодняшнего дня в нем вновь окрепнет воля к изучению естественных наук, и, проявляя упорство, он сможет осуществить свое желание. Многие, вероятно, засомневаются, ведь нынешние молодые люди чуть что — на полпути падают духом. Да, такова молодость, возможно, ему тоже не миновать этого, но в таком случае он наверняка придет ко мне…
Я был преисполнен счастья, как будто уже сегодня видел тот лучезарный день, когда он, исполнив свою волю, выполнив предназначение, добьется прекрасных результатов и порадует Великую Природу. Как это приятно!..
Глава шестая
Двадцатого июля (1989 года), вечером. К., работающий в издательстве «Синтёся», доставил мне экземпляр только что вышедшего «Счастья человека». Красивая получилась книга, оформление напоминает предыдущие три, посвященные Богу. Я думал, что издадут не раньше числа двадцать пятого, поэтому сильно обрадовался.
На правой руке, сжимавшей на протяжении полувека чернильную ручку, верхняя фаланга указательного пальца искривилась, я не мог писать. Волей-неволей пришлось перейти на шариковую ручку, из-за чего почерк мой стал корявым, и К., наверно, пришлось немало попотеть над моей рукописью. Эти тысячу триста страниц он переплел, разбив на две части, и прислал вместе с вышедшей книгой. Когда придет время, подарю музею, посвященному моему творчеству, но, по правде говоря, рукопись мне хотелось послать, в знак благодарности за труд, самому К.
Я одним залпом прочел ставшее книгой «Счастье человека», как если бы эти страницы были написаны кем-то другим, и сразу же успокоился, не почувствовав признаков того, что сила моего письма ослабела. Я задумался и над содержанием книги…
Имена главных героев, за двумя исключениями, все вымышлены. Почему же я вывел под настоящими именами Итиро Цунэоку и Кэндзабуро Оэ?
Что касается Оэ, то, приступив к последней главе, я без проблем вставил эпизод с его участием, повинуясь неожиданному приказу Небесного сёгуна, когда же стал писать о Цунэоке, дал ему, как и другим героям книги, вымышленное имя, но Небесный сёгун велел: «Пиши настоящее!» Мы немного поспорили, но в конце концов я подчинился.
Цунэока ревностно верил в учение Тэнри и, возвещая людям «речи Бога», видимо, приобрел множество последователей, но он использовал божественную истину и верующих, он не замечал, не сознавал, что стремится только к удовлетворению собственного тщеславия и себялюбия. А именно это более всего неугодно Родителю Великой Природы. Поэтому, выведя его под настоящим именем, я решил, что теперь его искренние последователи, если им в руки попадется моя книга, удивившись (либо рассердившись), задумаются и, в конце концов, неизбежно признают благость Родителя Великой Природы.
Когда я писал о Цунэоке, он был еще в полном здравии, но, как и сказал мне Небесный сёгун, второго января он умер в гостинице на вилле «Тюсин», расположенной на берегу озера Кавагути у подножья Фудзи. Я понимал, что наверняка вызову нарекания и осуждение со стороны читателей, доверявших Цунэоке. Но хоть я и не написал об этом в моей книге, сейчас я думаю, что, рассказав о том, как он пусть бессознательно, но злоупотреблял доверием и печалил Родителя Великой Природы, я хотел представить его учение таким, каким оно видится в Истинном мире (Мире смерти).
А теперь о том, почему я оставил Кэндзабуро Оэ его настоящее имя, вернее, о том, почему, приступив к последней главе, я неожиданно написал о нем. Я много об этом размышлял.
Во-первых, потому, что обычному читателю может показаться: большинство героев, выведенных в моей книге, облагодетельствованы счастливыми условиями жизни. (В действительности же всем им в связи с жизненными обстоятельствами и капризами истории выпало испытать немало несчастий и треволнений, вот только они смогли их осмыслить и преодолеть, собственными усилиями сделав свою жизнь счастливой, — но читатели склонны не замечать этих усилий и испытаний.) Невольно напрашивается мысль, что при таких благоприятных условиях любой может стать счастливым. Этого-то и опасался Небесный сёгун, и в последней главе он неожиданно вывел Оэ под его собственным именем.
То, что у Оэ — сын-инвалид, широко известно и из его произведений, и из его публичных выступлений.
Молодые супруги, у которых родился неполноценный ребенок, легко впадают в отчаяние, их совместная жизнь подвергается тяжелому испытанию. Но Оэ со своей юной женой поддерживали друг друга на протяжении двадцати лет, обращались к самым знаменитым светилам медицины в Японии, испробовали все, и в конце концов их несчастный ребенок преобразился в композитора Мицу Оэ, сочиняющего фортепьянную музыку. На пленке с записью выступления Кэндзабуро Оэ, озаглавленного «Молитва неверующего», он сам рассказывает об этом. Какие тяжелые душевные испытания надо пережить, чтобы неверующий молился на протяжении почти двадцати лет! Страшно подумать. Но в результате произошло чудо. И все это время он не переставал творить, создавая одно за другим свои произведения!
Счастье не зависит от обстоятельств, его нужно самому добиваться. Наверно, именно с целью донести эту мысль Великая Природа под конец намеренно вывела Оэ в моей книге под его собственным именем.
Кроме того, вдруг меня осенило, Великая Природа хотела напомнить мне, в чем суть человеческой правды.
Начиная с первого романа Кэндзабуро Оэ я с интересом и волнением читал выходящие из-под его пера книги, но с ним самим ни разу не встречался. Когда я был председателем ПЕН-клуба и волей-неволей посещал писательские собрания, кажется, пару раз мне случалось его видеть, но не помню, чтоб мы перемолвились словом.
В свое время шведский комитет Нобелевской премии доверил мне в течение нескольких лет быть членом рекомендательного совета. Предполагалось, что я буду предлагать кандидатуры японских или французских писателей. Я рекомендовал одного француза и трех японцев (из японцев, помимо Ясунари Кавабаты, я рекомендовал Кэндзабуро Оэ и Синъитиро Накамуру). В связи с этим я встретился с Кавабатой, изложил ему суть дела, на что он мне ответил, что, может быть, и откажется от премии, а Оэ прислал учтивое письмо. Он писал, что для него это большая честь, но ему стыдно, поскольку он не чувствует себя достойным Нобелевской премии, в большей степени ее заслуживает творчество имярека — он назвал имя одного писателя. Это был наш единственный обмен письмами.
Но я продолжал издали с каким-то трепетом следить за его творчеством. Поэтому когда Небесный сёгун велел мне в последней главе «Счастья человека» вставить его частное письмо, я встревожился, не покажется ли это неприличным, но у меня и мысли не было, что это письмо каким-либо образом повредит моей книге.
Более того, неожиданно выведя Оэ в последней главе, Великая Природа, видимо, давала мне понять, что в том, как достойно он повел себя, в том, как незамедлительно мне ответил, и заключена человеческая правда. И впоследствии в его отношении ко мне сказывалась истинная любовь, и я радовался, что на девяносто четвертом году жизни обрел подлинного брата. Если бы я на время освободился от работы, с которой меня торопит Великая Природа, я бы хотел отплатить моему новому брату взаимностью…
В общем, если быть кратким, я остался доволен своей книгой. Единственное, что меня волновало, будут ли довольны ею Бог-Родитель Великой Природы и госпожа Родительница, любящая мать.
Я положил книгу в комнате на нижнем этаже, куда госпожа Родительница обычно приходила во время своих посещений, на низкий столик возле подлокотника кресла, в котором она изволила сидеть. Так, чтобы, явившись, она не могла ее не заметить.
Но поскольку юноша Ито каждый год в двадцатых числах июля имел обыкновение вместе со своим другом ездить на десять дней на родину его друга — остров Сикоку купаться в море, и госпожа Родительница все это время не посещала мой дом. Каждый день я надеялся, что она явится именно сегодня, и вот наконец двадцать седьмого июля, в три часа пополудни, юноша Ито, дочерна загорелый, пришел ко мне.
— Ну как морское купанье? Как ты загорел! — сказал я.
— Мне повезло, я слетал на Гавайи, — ответил он. — Впервые побывал за границей, и, признаться, мне очень помогли ваши рассказы о том, как принято себя вести в других странах.
Он подробно рассказал, как отдыхал на Гавайях.
Затем он переоделся в алое кимоно, тотчас явилась Родительница и сразу взяла в руки «Счастье человека». Я смотрел на нее, затаив дыхание.
Но она, как обычно, первым делом обратилась с ласковыми словами ко мне и дочери:
— По этой дороге, куда ни иди, обретешь жилище в благодатном лоне Отца. Чтобы всяк со смирением в сердце, с сердечным покоем выслушал и приял поучение, чтобы внимал, обретя душевный покой, перво-наперво вот что я молвлю…
Сказав это, она велела мне приблизиться. Я подполз к ней на коленях и посмотрел на нее. На лице ее сияла радость, она взяла книгу, положила возле себя и заговорила исполненным любви голосом:
— Следуя заповедям Бога-Родителя, ты искренно желал людям счастья и благополучия, и Бог дал твоей книге свое благословение, она спасет души труждающихся и обремененных, став первым шагом на пути к истинному человеку. Благословляю тебя именем Бога написать еще много книг, прокладывая людям дорогу, и вложить в них истинную заповедь Бога ради великой радости и счастья грядущих поколений, отстаивая в людях добросердечие и подлинное умиротворение. Ты славно потрудился…
Позже, перепечатав все это на машинке, я увидел, как трудно постичь смысл ее, казалось бы, столь простых слов, но, слушая ее, я уловил по крайней мере то, что и Бог-Родитель, и госпожа Родительница довольны изданием «Счастья человека», благодарят меня за проделанный труд и поддерживают, вот только стыдно было, что я не заслужил таких похвал. Затем она заговорила о счастье и пустилась в труднопостижимые рассуждения о том, что есть Истинный мир, и тому подобных вещах, которые трудно уловить на слух. Но вскоре перешла на разговор попроще:
— Твоя книга, которую ты писал с надеждой сделать людей счастливее, найдет благодарных читателей и множеству людей по всему миру проложит истинный путь. Так что отнюдь не случайно, что одновременно с выходом в свет твоей книги я послала свое чадо, юного Ито, в дальние края. Прокладывать путь в мире значит возвестить путь добродетели, указанный Господом Богом, как начало пути к Богу. Посему эта книга, способствующая прекращению страданий, поистине станет книгой, спасающей людей от их бед и невзгод, найдет множество читателей и многим доставит радость. Так что отбрось сомнения и с радостью предъяви свою книгу Богу!..
Я слушал ее, смущенно потупившись и испытывая восторг оттого, что Бог-Родитель Великой Природы одобрил «Счастье человека». А когда поднял глаза, раздался голос:
— Протяни ладони, — и я поспешно, сложив ладони, протянул их вперед. Родительница подула в мои ладони, обдав их горячим дыханием, и сказала: — Чтобы ты мог во имя Бога-Родителя принести счастье еще большему числу людей, даю этим ладоням нежность, любовь и покой, чтобы множеству людей ты мог доставить радость, во имя Небесного закона — Тэнри, нашего вседержителя, примешь жизнь крепкую… Во веки вечные совершенствуя твою жизнь, буду наполнять тебя мужеством и добросердечием. Пиши, отбросив сомнения. Я придам тебе сил, чтобы нести людям спасение. А теперь повернись спиной.
Я тотчас повернулся. Госпожа Родительница несколько раз обдала дыханием меня сзади, с плеч до пят. Я вновь повернулся к ней лицом. Она продолжила:
— С ранних лет ты усердно писал, неустанно думая о благе людей, заботясь о семье, и о твоих душевных устремлениях наглядно свидетельствуют твои согбенные плечи. Куда бы ты ни шел, годы труда надежно защищают тебя со спины. Продолжай же работать, отбросив сомнения. Куда бы ты ни шел, годы труда пребывают в твоем хребте, а это все одно что сам Бог тебя хранит… Пиши же с уверенностью в себе! Ты славно потрудился, но тебе предстоит написать еще не одну книгу, коль скоро тебе выпала такая судьба. А ныне Бог-Родитель благословляет тебя и щедро наделяет семенами, ведущими к счастью, открывая для людей новый путь к «жизни, полной радости». Многие ныне прочтут книги, написанные тобой, и многие спасутся. Прочитавшие, узрев заключенную в книгах истину, дадут почитать их другим. Посему ты должен писать еще и еще. Силу спасать людей тем, что ты пишешь, ты получил от Бога-Родителя. И доказательство тому — приходящие к тебе люди. Когда видишь, как много их, людей, связанных твоими книгами, сразу понимаешь, что исходит от тебя, а что — дело рук Божьих. А посему и впредь отбрось сомнения и пиши свои замечательные книги, верь в себя и неси людям радость! Ибо я блюду крепко дни твои. Держись! Спасибо за труд.
Из этих слов я понял, что книга моя угодна Богу-Родителю, успокоился и от переполнявших меня чувств опустил голову, как вдруг одна поразившая меня мысль заставила меня встрепенуться.
А именно — то, что я пишу свои книги по воле Бога-Родителя. Я выслушал эти слова без внимания и только теперь осознал, какой в них глубокий смысл. Начиная писать книгу под названием «Воля человека», пятый том сочинения о Боге, я думал о том, как важна человеческая воля и что означает ее осуществление, но сейчас я особенно остро почувствовал, насколько важно стараться обратить волю Бога-Родителя в волю человека.
Для Бога-Родителя наиважнейшее — во всей полноте осуществить свою волю, и мне не остается ничего другого, как, повинуясь его приказу, писать. Разумеется, я и прежде писал, следуя его повелению, но как-то не задумывался о важности этого и даже порой неохотно брался за перо. Теперь же я твердо решил: отныне буду со всей ответственностью писать ради того, чтобы осуществилась воля Бога.
В это время госпожа Родительница обращалась с увещеваньями к третьей моей дочери, а когда закончила, повернулась ко мне и сказала:
— В скором времени в мире произойдут некие события. Но ты не тревожься. Дни твои я бдительно храню. Ныне в Японии по любому поводу начинают кричать о грозящей опасности. Но когда высокие горы стали взрываться, Бог-Родитель с великим умыслом, ради сохранения жизни, отвел удар в сторону моря. Взрываясь, горы рушатся, неся людям страдания. А отведя их силу ближе к морю, Бог их укротил. К тому же, как бы ни казалось это случайным, по воле Бога стихийное бедствие произошло в местечке, носящем то же имя, что и этот юноша — Ито, — знак того, что и тут явлен Бог, насылающий стихийное бедствие и одновременно усмиряющий его, отведя в сторону моря… Кроме того. Бог творит чудо, выметая из политического мира твердолобых старцев… Таким образом Бог являет свои дивные дела. Посему ты и впредь, отбросив сомнения, пиши книги, приносящие людям радость. Многие прочтут их и возвеселятся… Коли найдется хоть единый праведник в этом огромном мире, мир не будет уничтожен. Я тому порукой. Ныне в мире еще остались праведники, посему мир не будет уничтожен. Вы же, отбросив сомнения и набравшись мужества, старайтесь улучшить этот мир и возродить природу. И я всеми силами своего существа буду спасать мир. Крепитесь, боритесь, не падайте духом. Бог в помочь.
Вскоре после этого госпожа Родительница удалилась, и я, встав с колен, проводил ее молча, но преисполненный воодушевления. Кажется, в этот день я наконец поднялся на ступень выше по крутой лестнице духа…
Все люди живут в лоне Великой Природы, но мало кто об этом знает, нет, пожалуй, почти никто не знает. А жаль. Великая Природа приемлет в свое лоно, начиная с человека, все живые существа. Для Великой Природы все люди — ее чада. Возлюбленные чада. И она не только знает все досконально о каждом человеке, как о своем чаде, но и желает, чтобы каждый человек мог обрести счастливую и радостную жизнь. Поэтому ни одна просьба, обращенная искренне, с чистым сердцем, к Родителю Великой Природы, не останется без ответа.
Как доказательство, приведу то, что произошло в моем доме этим июлем.
После смерти жены я живу в Восточном Накано вдвоем с третьей дочерью, доцентом частного музыкального университета. Мы взяли к себе Д., старшеклассницу, единственную дочь моей четвертой дочери, проживающей за границей. Д. ходит в Американскую школу. Вторая моя дочь со своим мужем-врачом живет в токийском районе Нэрима.
У моей внучки Д., перешедшей в третий класс высшей ступени, в июне начались каникулы, и она сразу же наметила поехать во Францию. У нее дар к языкам, английским владеет как родным, а за время каникул хотела довести до совершенства свое знание французского и испанского. Наведя справки, внучка выяснила, что с первого июля в Монпелье на юге Франции можно пройти трехнедельные курсы испанского языка, а после в Париже — трехнедельные курсы французского. Узнав это, она самостоятельно занялась организацией своей поездки. Я беспокоился, сможет ли девочка пятнадцати лет совершить такое сложное путешествие, и спросил у Бога-Родителя Великой Природы.
— Не беспокойся, и Бог-Родитель, и Мать-Родительница стоят за ее спиной и всегда придут ей на помощь. Приободрись!
Такие слова я услышал и, несмотря на свои тревоги, не стал препятствовать.
Вечером тридцатого июня внучка позвонила сообщить, что благополучно прибыла в учебный центр Монпелье.
— Деда, это же учеба, не беспокойся! — прокричала она и добавила: — Я и не думала, что здесь так весело!
Как раз в это время моя вторая дочь, проживающая в Нэриме, по просьбе своей живущей в Париже дочери (моей внучки) должна была ехать в Париж и пребывала в замешательстве. Ее дочь Н., окончив десять лет назад Парижскую консерваторию, преподавала скрипку и выступала с концертами; выйдя замуж за французского служащего, она родила мальчика, который ходил в первый класс. Четыре-пять лет назад, на протяжении трех лет, они всей семьей летние вакации проводили в Токио, в Нэриме. Моя вторая дочь с супругом в свою очередь часто гостили в парижском доме своей дочери.
В этом году в сезон вакаций, начиная с середины июля, знаменитый квартет, в котором участвовала моя внучка, должен был дать несколько концертов в Париже и в провинции, но женщина, которая в таких случаях присматривала за домом, отправлялась на лето в деревню, поэтому мать просили приехать хотя бы на две недели и даже прислали авиабилет в оба конца.
Муж моей второй дочери уговаривал ее спокойно ехать в Париж, поскольку там в одном с ними доме живет семья другой их дочери, которая, если что случится, всегда придет на помощь, но она продолжала нервничать. В Париже она бывала много раз, и город потерял для нее очарование новизны. К тому же ей уже почти шестьдесят, она быстро устает, и ее пугало длительное путешествие в одиночку. Мать хорошо знала из писем и телефонных разговоров, что у дочери в семье все благополучно. Может, колебалась она, все как-нибудь устроится и ей не придется покидать Токио…
В это время мы встречались с госпожой Родительницей. Дочь ничего не говорила ей о своих колебаниях, но госпожа Родительница сразу сказала:
— Поезжай-ка ты к своей дочери в Париж. На Новый год Господь Бог, в качестве новогоднего подарка, даровал тебе материнское сердце. С материнским сердцем можешь спокойно отправляться куда угодно. Господь Бог хранит тебя.
Вняв этим словам со всей искренностью, моя дочь четырнадцатого июля вылетела в Париж.
Сообщения об авариях на самолетах не было, значит, долетела она благополучно, а в аэропорту ее наверняка встретила дочь Н., и все же, не получая от нее никаких известий, я был слегка обеспокоен. Одновременно внучка Д. должна была переехать из Монпелье в Париж, и меня тревожило, как все прошло. В один из этих дней явилась Родительница и в разговоре между прочим сказала:
— Ты беспокоишься о недавно уехавших дочери и внучке, но причин для тревоги нет. Ведь Бог их хранит. Бог намерен устроить им встречу в неожиданном месте.
Я не придал значения этим словам, но через четыре дня вечером внезапно из Парижа позвонила дочь, я удивился. Слух у меня ослаб, но слышал я хорошо.
— Сегодня мы с Н. ходили к Эйфелевой башне… Нам сказали, что в связи с празднованием двухсотлетия французской революции будет особенно весело… Там оказалось ужасное столпотворение, и, представляешь, в толпе я столкнулась с Д.! Она была с американкой, с которой подружилась на курсах французского, веселая, говорит, в Токио вернется в начале августа…
Я вздохнул с облегчением, значит, все хорошо, а дочь продолжала говорить:
— Я впервые была на выступлении квартета Н., трое других — знаменитые французские музыканты, мне все очень понравилось. Но что меня удивило, оказывается, К. — муж дочери — стал директором большой компании, и где бы он ни был, в Париже или в любом провинциальном городе, он идет в перворазрядный ресторан, там его встречают с большим радушием, закатывают пир всей семье, и при этом бесплатно… Представляешь? Говорит, что это часть его работы в компании… Да, вот что еще, их сын Тома отлично окончил первый класс с девяноста пятью баллами и может перейти сразу в третий класс… Мне кажется, дочь, зная мой беспокойный характер, пригласила меня в Париж, чтобы показать, какая у них счастливая семья, и успокоить… Я так рада, что все это по милосердию Бога…
На этом наш телефонный разговор наконец окончился. Третья дочь стояла рядом со мной, обеспокоенная.
— Странно, несмотря на то что слух к старости ослабел, я все прекрасно слышал… Она рассказала, что во время празднования двухсотлетия революции, у Эйфелевой башни, в толпе, случайно наткнулась на Д.
— Да что ты?.. Сестра не знала, что Д. в Париже, вот уж, наверно, удивилась! Случайно встретиться у самой Эйфелевой башни… Невозможно вообразить… Не иначе как Бог их свел, да? Не говорила ли об этом несколько дней назад госпожа Родительница?
Дочь восприняла все очень серьезно.
То, что случилось в этом июле, не исключение. Мы с дочерью чуть ли не каждый день обращаемся к Великой Природе со множеством просьб. Вот что было летом, когда мы собрались ехать на нашу дачу в Каруидзаве. Семья четвертой дочери вернулась в Токио тридцать первого июля, пообещав присматривать за домом, поэтому я радовался, что с первого августа со спокойной душой смогу отдохнуть на даче. Однако с вечера тридцать первого в районе Канто зарядили дожди, в прогнозе погоды на следующий день предупреждали о ливнях и наводнениях в Токио, в префектурах Гумма, Ибараки и Сайтама. По правде говоря, я рассчитывал встать в шесть утра и выехать натощак, чтобы добраться до места к девяти и уже там простенько позавтракать. Четвертая дочь с мужем перед сном уговаривали меня отложить с выездом, пока не распогодится.
Но мы с третьей дочерью хотели выехать утром первого августа, как и намечали. Особенно ратовала за это дочь, поскольку в сильный дождь машин на дороге меньше и вести проще, и проблема лишь в том, что придется выносить и заносить вещи под дождем, поэтому она обратилась с чем-то вроде молитвы к Богу-Родителю Великой Природы, прося, чтобы на это время он остановил дождь.
Может ли быть исполнена такая нелепая просьба? — смеялся я в душе и все же, укладываясь спать, попросил разбудить меня утром пораньше. Но никак не мог уснуть…
Наутро дочь подняла меня. Оказывается, воспользовавшись тем, что дождь перестал, она погрузила вещи в машину и мы можем выехать в намеченное время.
Я поспешно встал, оделся и спустился вниз. Четвертая дочь уже встала и находилась в гостиной.
— Доброе утро, — сказала она, — я приготовила холодный кофе с молоком…
Раз так, я только прополоскал рот и выпил кофе. Как все-таки вкусно! Взбодрившись, решили ехать. Четвертая дочь пришла проводить меня до гаража, в это время дождя не было. Выехали на пятнадцать минут раньше намеченного.
Стоило нам отъехать от дома, зарядил дождь, на дорогах в черте города машин все равно было довольно много, но едва мы выехали на шоссе в сторону Ниигаты, полило как из ведра, почти все машины куда-то сгинули, и вести, видимо, стало легче. Во всяком случае, дочь бормотала себе под нос:
— Повезло же нам, что выдался дождливый день!
Когда съехали со скоростной трассы, на местных дорогах также, по-видимому из-за дождя, машин было меньше обычного, вести было проще, чем всегда, но я про себя волновался, что из-за дождя сгустится туман на перевале Усуи. Однако, когда мы добрались до перевала, дождь стих, тумана не было, машин на дороге совсем мало, так что дочь вела не нервничая и бормотала себе под нос:
— Вот уже площадка для гольфа, скоро Каруидзава.
В результате мы добрались до нашего горного пристанища на двадцать минут раньше. К этому времени дождь перестал, что сильно облегчило нам перенос вещей в дом. Немного постояв в саду, я умылся, а дочь в это время наскоро приготовила завтрак из продуктов, накануне оставленных в холодильнике ее сестрой. Когда мы сели завтракать — чуть позже обычного, — полил сильный дождь, ударяя по листьям прекрасного клена, видного из окна столовой.
— Как удачно мы доехали… А все по милосердию Бога-Родителя!
Эти слова дочери точно пробудили меня.
— Да, все благодаря Великой Природе!
Так я ответил, и меня поразило, что в ту минуту, когда мы подъехали и вышли у входа в сад, деревья, обступающие дом, встретили нас радостными возгласами. Я остолбенело стоял, опираясь на палку.
Присмотревшись, я увидел, какие все деревья высокие, с крепкими стволами, удивительно величественные и могучие — запрокинув голову, не видать вершины.
Когда я строил дачу в горах, здесь, наверху, было одно мелколесье, и, чтобы защититься от палящего солнца, я высадил все эти деревья. Саженцы были два-три метра высотой, и вот незаметно прошло пятьдесят восемь лет — и они превратились в такие великолепные деревья! Даже опираясь на палку, мне тяжело было стоять, и я прислонился к стволу старого клена.
— Человек, преодолев девятый десяток, становится стар и немощен, а ты, несмотря на свои почтенные годы, продолжаешь стоять, как великан. Сколько же тебе лет? — спросил я.
— У нас нет возраста, — ответил старый клен. — Я обращаюсь к вам от имени всех деревьев. Мы все вдыхаем в вас свою жизненную силу, чтобы и вы стали здоровее и освободились от груза прожитых лет. Не волнуйтесь.
В это время заморосил дождь, и я вернулся в дом. Сидя за столом, я продолжал обдумывать слова старого клена, и голову мою переполняли мысли о Великой Природе, которая взрастила маленькие саженцы, превратив их в высокие, неохватные деревья…
Таким вот образом все мои домочадцы даже по мелочам, благодаря милосердию Великой Природы, получают помощь, но это не исключительная особенность моей семьи. Всех, кто познал Великую Природу и почитает ее родительницей своей жизни, всех без изъятия Великая Природа любит как своих чад и ко всем приходит на помощь.
Эта Великая Природа и есть сила, управляющая движением Вселенной, она есть единственный Бог-Родитель, который миллионы лет назад создал на Земле человека и всех живых существ и пестует их и поныне. А потому, независимо от того, имеет человек веру или нет, добрый он или злой, все мы для Великой Природы равно возлюбленные чада, которых она неизменно холит и лелеет. Прискорбно лишь то, что люди об этом не догадываются.
Этот Бог-Родитель Великой Природы не имеет никакого отношения к «современным религиям». Сотворив людей, даровав им драгоценную жизнь и расселив по Земле, Великая Природа судила каждому подобающее предназначение, чтобы жить согласно ее идеалу — в радости, в равенстве, братски помогая друг другу. Для этого она дала людям разум, наделила различными способностями, но люди проживали свои дни, не познав душу Великой Природы, и, когда плоть выходила из строя, перерождались, и это повторялось вновь и вновь, многие миллионы лет и до сего дня. (Бог-Родитель Великой природы подробно рассказывал мне о том, как Великая Природа впервые сотворила человека, рассказывал и о миллионах лет его развития, и когда-нибудь я об этом напишу.)
Достаточно задуматься о неустанной заботе, промысле, милосердии и попечении Великой Природы по отношению к человеку, чтобы осознать ценность человека. А тот, кто осознает ценность человека, станет по-новому глядеть на человеческую жизнь и обратит наконец свое сердце к Великой Природе. Нет, я уверен, любой человек не раз ощущал, что его жизнь не зависит от его собственных сил, и мучился великим сомнением — не обязан ли он чему-то своей жизнью? Приверженцы религии, к примеру, убеждены, что живут благодаря Богу или благодаря Будде.
Но людям нерелигиозным остаются только сомнения, и часто один лишь выход из гнетущего беспокойства — посмеяться над собой и отмести сомнения в сторону. Среди моих читателей и друзей таких на удивление много, и, случается, они вдруг ни с того ни с сего обрушивают на меня свои сомнения. Тогда я завожу разговор о Великой Природе, и поскольку то, что я говорю, не имеет отношения к религии, кажется, к моим словам охотно прислушиваются. И в конце концов мои собеседники склоняются к тому, что все люди — братья, которым при рождении Великой Природой предназначено любить друг друга, быть равноправными, независимыми людьми, и если они приложат силы к тому, чтобы осуществить свое предназначение, пекущаяся о них Великая Природа обязательно во всем им поможет и сделает счастливыми.
И люди начинают понимать, что предназначение, данное им Великой Природой, — это их работа, их профессия, а затем приходят к мысли, что, если они будут усердно совершенствоваться по своей специальности, помощь не заставит себя ждать и милостью Великой Природы они добьются результатов, о которых могли только мечтать. При этом они чувствуют, что следует выражать признательность Великой Природе, впрочем, достаточно просто в сердце поблагодарить ее, тем самым ты постепенно постигаешь значение молитвы и вскоре при любом затруднении начинаешь обращаться с просьбой к Великой Природе, и она всегда приходит на помощь.
Среди моих знакомых все, кто изо дня в день возносят благодарность Великой природе, — счастливы и по-братски помогают друг другу. И я искренне верю, что, встав на этот путь, люди во всем мире начнут приходить друг к другу на помощь, как братья, и тогда не только установится мир на всей Земле, но воссияет заря нового человечества.
Глава седьмая
До сих пор я писал: «Сила Великой Природы», «Единый Бог Великой Природы», «Бог-Родитель» или просто «Бог», но не говорил определенно, в чем сущность этого Бога. Пора как можно яснее сказать об этом.
Можно сказать, что Бог — это великая сила, сотворившая Вселенную и поныне движущая светила. Определение на первый взгляд ясное, но поскольку в материальном мире Бог не явлен, остается много вопросов. Хотя Великая Сила существует в реальности, проблематично увидеть ее воочию, посредством зрения, а потому легко впасть в ошибку, усомнившись в ее реальном существовании. Но Великая Сила реально существует, в строгом смысле этого слова.
Но где же тогда пребывает Бог? Ответ: в Истинном мире (т. е. мире Бога). Его постоянно охраняют десять богов и десять Небесных сёгунов. Эти десять богов служили Силе Великой Природы еще за миллионы лет до того, как она сотворила человека, и ныне трудятся под ее началом, словно, если можно так выразиться, пальцы ее рук. На протяжении долгой, бесконечно долгой истории человечества могучая Сила Великой Природы, Бог-Родитель, стремясь сделать счастливыми живущих в Мире явлений (т. е. в дольнем мире) Своих возлюбленных чад, неоднократно избирала одного из них и посылала возвестить о милосердии и уповании Бога-Родителя. Эти избранники, исполнив свое предназначение и закончив свой путь в Мире явлений, вернулись в Истинный мир, где после многих духовных упражнений под водительством Бога-Родителя стали Небесными сёгунами и служат Богу-Родителю. И поныне десять Небесных сёгунов трудятся, словно пальцы на ногах Бога.
Короче говоря, Бог-Родитель несомненно существует в Истинном мире, и служат ему десять богов и десять Небесных сёгунов.
Из Небесных сёгунов я знаю имена трех, это — Шакьямуни, Иисус Христос и Мики Накаяма. Все трое вернулись в Истинный мир и, пребывая на лоне Бога-Родителя, прошли десять ступеней суровых духовных упражнений, установленных Богом-Родителем, прежде чем стали Небесными сёгунами. Из них только Мики Накаяма, получив помощь от своего мужа Дзэмбэя, смогла подняться выше еще на две ступени и является не просто Небесным сёгуном, но заслужила имя Милосердной Матери всего живого.
Но где же все-таки пребывает Бог-Родитель — могучая Сила Великой Природы? Где он, этот Истинный мир? Я часто задавался этим вопросом. Обычно считают, что он на небесах, и я часто поднимал глаза и пристально вглядывался в небо — действительно ли там находится Истинный мир?
Однажды, когда изволила явиться госпожа Родительница и осведомилась, нет ли у меня к ней вопросов, я спросил, где же на самом деле находится Истинный мир.
— В стратосфере. Что такое стратосфера, можешь справиться в ученых книгах, но вообще-то это и есть тот самый небосвод, на который ты так часто обращаешь свой взор.
— Значит, Истинный мир такой же зеленовато-голубой, как небосвод?
— У него нет цвета, можно сказать, он белый, а красивый зеленовато-голубой цвет небес — знак признательности земным растениям, которые в отличие от вас, людей, испытывают благодарность к благодеяниям Великой Природы.
— А нельзя ли нам попасть в этот Истинный мир?
— Все люди после перерождения (т. е. смерти) отправляются в Истинный мир и пребывают на лоне Отца Великой Природы.
Так госпожа Родительница завершила свое объяснение. Что такое стратосфера, я и так понимаю, не читая сложных книг по астрономии.
Земной шар, на котором мы живем, — единственная планета во Вселенной, окруженная слоями воздуха, а стратосфера — самый верхний слой воздуха, толщиной в двадцать-тридцать километров. Дальше нет ни воздуха, ни воды — мир смерти. Именно в стратосфере, по словам госпожи Родительницы, должен находиться Истинный мир (мир Бога).
Мне хотелось самому побывать в Истинном мире. Будучи позитивистом, я не мог поверить в него, не побывав там. Я много раз заводил об этом разговор с Небесным сёгуном, неотступно присматривающим за мной и руководящим мной. Небесный сёгун делал вид, что не слышит, и не отвечал. Но я продолжал докучать ему просьбами сопроводить меня в Истинный мир. Наконец он сказал:
— Для человека при жизни попасть в Истинный мир невозможно. Чтобы невозможное сделать возможным, необходимы тяжелые упражнения, равноценные смерти и последующему возрождению. Готов ли ты отважиться на такой подвиг?
Я ответил, что приму любые испытания. И вот со следующего дня начались эти упражнения. Посреди ночи, в половине второго. Небесный сёгун поднял меня с постели, и почти два часа мы вели беседу, можно сказать, дискутировали, и каждое его слово, как жало, вонзалось в мою плоть, причиняя боль. Я не спал и четырех часов.
Днем из-за работы над книгой, которую я пишу по велению Бога, я не мог не только выйти на прогулку, но и просто спуститься в сад, и, как узник, надев поверх одежды красную куртку хантэн, корпел, не вставая из-за стола. Я надеялся, что это продлится с месяц. Какое там! Прошло десять месяцев, и когда я был совершенно измотан и уже готов сдаться, в незабываемый понедельник в начале сентября, в час ночи, Небесный сёгун пробудил меня со словами, что отведет меня в Истинный мир.
Таким образом, приступив к двенадцатой главе «Замысла Бога», я и вправду отправился в Истинный мир.
Когда я писал эту главу, во мне была так велика радость и изумление от только что совершенного путешествия в Истинный мир, что Небесный сёгун, не отходивший от меня ни на шаг, строго приказал писать об увиденном покороче. Иначе, написав слишком много, я мог нарушить цельность композиции «Замысла Бога».
Так, точно, это было в сентябре 1987 года, в первый понедельник, в час ночи. Небесный сёгун разбудил меня и приказал:
— Закрой глаза, я поведу тебя в Истинный мир!
Разумеется, я тотчас сомкнул глаза и почувствовал, как будто мое тело взмывает вверх.
Чтобы попасть в Мир реальности, прежде всего надо пройти врата, через которые проходят умершие, поэтому я попросил, если можно, позволить мне повидать покойную жену.
На это Небесный сёгун сказал:
— Бог, как первый шаг в Спасении Мира, примирил коммунистическую Россию и Северную Америку, избавив мир от разделения на два лагеря, чтобы отныне все страны жили дружно в мире. Ныне он устремился в коммунистические страны и старается спасти твердолобых коммунистических вождей и страдающий под их властью, потерявший свободу народ, а вместе с ним туда же отправилась и Мики Накаяма, Мать всего живого, чтобы помочь Богу в его трудах. Твоя жена из-за ее праведного сердца была избрана Богом и стала ее прислужницей, поэтому также отправилась в коммунистические страны… В этот раз тебе невозможно с ней увидеться, но зато я устрою тебе встречу с твоим задушевным другом Кадзуо Накатани! Да-да, и бывший тебе за брата астроном Жак ждет тебя… Пока люди живут в Мире явлений, они на время получают от Бога плотское тело, а в Истинном мире Бог дает им святое тело… Так что при встрече не удивляйся. Сохраняй спокойствие…
Услышав его слова, я невольно открыл глаза. Было светло, слышалась тихая красивая музыка. Но что это? Прямо передо мной простирался город из белых современных зданий!
Небесный сёгун предупредил меня, что необходимо пройти через контрольно-пропускной пункт, но поскольку я не мертвец, ангелы не станут подвергать меня допросу, и вот мы вошли в один из контрольно-пропускных пунктов. Кроме ангелов, работавших на контроле, внутри были и другие ангелы, но мы только обменялись кивками и беспрепятственно прошли. Затем мы вошли в большое здание, и меня повели туда, где находился Кадзуо Накатани.
Мы были с ним однокашники, начиная с Первого лицея, вместе жили в общежитии, и он был моим самым близким другом. В 1922 году он окончил Токийский университет, поступил на службу в банк М. и в 1959–1961 годах исполнял должность директора, потом добровольно оставил свой пост и стал советником. Жил он в доме в Камакуре, дружил с садовыми деревьями и вел отрадную жизнь по старинной заповеди: «Когда ясно, возделывай поле, когда дождь — читай». Он был неверующим и говорил мне, что в случае его смерти никаких церемоний не будет и чтобы я не приходил, поэтому, когда он скончался одиннадцатого декабря прошлого года, я не поехал в Камакуру, даже не послал телеграммы с соболезнованиями и в одиночестве у себя дома скорбел о разлуке.
Когда мне внезапно сообщили, что я смогу встретиться с Накатани через десять месяцев после его смерти, меня охватило волнение.
— Вот комната, где Накатани проходит духовные упражнения, — услышал я, распахнул дверь и тотчас поспешил закрыть ее за собой.
В великолепной европейской ванной комнате кто-то нежился в ванне.
— Это я, Накатани!
Я вздрогнул, услышав обращенный ко мне голос, но тут увидел, что в ванне был он, Накатани, и его заботливо обслуживал ангел. Ангел предложил мне стул, а Накатани между тем говорил:
— Я ждал, что ты придешь. Когда мне рассказали, что значит для живого человека прийти сюда, я был потрясен твоим духовным подвигом, но твоя дружба возвышает и меня… Я-то думал, что смерть горька и печальна. Представь же мое удивление! Пребывать в лоне Бога Великой Природы — покойно… Каждый день погружаюсь в теплую ванну и смываю пыль, приставшую к телу в том мире. А тем временем научаюсь тому, чего не знал в Мире явлений, — сплошное удовольствие. Когда я очищусь от пыли, Бог решит, родиться ли мне вновь или остаться здесь служить Богу. Я бы желал остаться и служить Богу, поэтому каждый день стараюсь делать все от меня зависящее…
— Ты, неверующий, пребываешь на лоне Бога, вот что меня поражает.
— Я не выносил слова «Бог»… Сила Великой Природы! Есть вера, нет веры, не важно: каждого человека, да что там, все живые существа, даже растения объемлет Сила Великой Природы. Поэтому здесь такой покой и нега. Я представлял себе смерть адом, но она обернулась вот таким раем. Ко мне приставлен ангел, выполняющий все мои прихоти, он даже навещает мою семью в Камакуре и приносит известия… Также рассказывает моим родным о моем счастье, вот только они еще не доросли душой до того, чтобы слышать голос ангела… Ты великолепный писатель, поэтому обязательно напиши, что смерть нисколько не похожа на ад, это — рай.
— Если я так напишу, страшно возрастет число самоубийств. Впрочем, и без того в последнее время слишком много молодых людей уходят из жизни без всякой причины…
— Убивать себя нельзя. Губить драгоценную жизнь, дарованную Великой Природой, — это самый большой грех. Умерев, прежде всего попадаешь на контрольно-пропускной пункт и не знаешь, что будет выпытывать ангел, какое назначит наказание. Здесь меня похвалили за то, что у меня нет корыстолюбия и эгоизма, но… я страсть как люблю курить, многие советовали мне бросить, но я не прислушивался, даже в ночь смерти, чувствуя себя вполне здоровым, уснул с сигаретой в зубах. Дыхание остановилось, и от огня сигареты загорелась наволочка подушки, что и заметила жена… Моя скоропостижная смерть стала для нее неожиданностью…. Это мой великий грех, поэтому и ангел у входа строго меня отчитал… Более того, сейчас я, как видишь, смываю с себя пыль и грязь того мира, но пыль от табака никак не сходит, уж не знаю, что и делать!.. А как же должны помучиться те, что совершили грех самоубийства, чтобы пройти через вход, какие должны принять муки, прежде чем смоется эта пыль!.. Слушай, когда будешь писать о том, что смерть — это рай, обязательно напиши об этом со всей определенностью…
Так говорил Накатани с большим жаром и искренностью. Истинный мир и Мир явлений — как две стороны одной медали, поэтому, даже смывая пыль в Истинном мире, он почти все знал о Мире явлений, и мы смогли поговорить о наших общих знакомых. Оказалось, что он осведомлен об обстоятельствах их жизни лучше меня. Например, лет тридцать назад некто Ёсабуро, студент Токийского университета, не подходивший по требованиям для приема на работу в банк М., настойчиво просил меня стать его поручителем, и на приемном экзамене Накатани обратил на него внимание, в результате, как уверял Ёсабуро, он смог стать служащим банка М. и посвятить банку всю свою жизнь. Однако я ничего не знал о том, как продвигаются его дела по службе.
По этому поводу Накатани сказал:
— А, этот неотесанный Ёсабуро! Не удивлюсь, если в будущем он станет директором банка! Все может быть! Когда человек выбирает работу по велению небес, он с радостью посвящает ей свою жизнь и старается добиться успеха, благодаря чему даже его характер меняется в лучшую сторону. Так что спасибо тебе за то, что ты против своей воли стал поручителем, — засмеялся он.
В это время вошел гениальный ученый Жак, с котором я расстался в Отвиле, когда ему было тридцать три года. От радости у меня сперло дыхание. Ангел о чем-то, видимо, напомнил Накатани, тот приподнялся в ванне и сказал:
— Тебе всегда путь сюда открыт, так что еще увидимся. Недалеко от твоего дома есть универмаг И. в Синдзюку… Тамошний директор Цуюки, когда я работал заместителем директора нью-йоркского отделения банка, сильно мне помог. Кажется, он, как и ты, родом из Сидзуоки, поэтому сходи к нему и расскажи о нашей встрече. Это меня успокоит.
— Ладно… Несмотря ни на что, выглядишь ты отлично, лет на шестьдесят.
— Да, я получил великолепное святое тело и теперь хочу поскорее перейти в служение Богу Великой Природы.
— Ну что ж, пока…
Мы расстались вполне по-будничному, без каких-либо душераздирающих эмоций. Ведомый Жаком, я вышел в город, населенный людьми, служащими Богу Великой Природы, и вновь подивился его простору и красоте.
Я уже коротко написал об этом в «Замысле Бога» и здесь не буду этого касаться.
Совсем немного понаблюдав Истинный мир, я был так поражен увиденным, что едва соображал, и все же меня занимал вопрос, пребывают ли в этом Истинном мире Бог-Родитель Великой Природы, десять богов и десять Небесных сёгунов? Хотел было узнать у Жака, но, вспомнив о том, что и Бог-Отец Великой Природы, и Мики Накаяма, и прислуживающая ей моя жена ушли в коммунистические страны, так и не спросил. А жаль.
Все мое внимание было настолько поглощено увлекательным рассказом Жака о его деятельности в Истинном мире, что я совсем забыл о времени и удивился, когда Небесный сёгун напомнил мне, что пора возвращаться.
Хотя мне было обещано, что после я смогу встретиться и с Тосоном, и с Хидэо Кобаяси
[31], мне было жаль, что приходится отложить встречу с ними. Напоследок я вновь окинул взглядом лабораторию Жака — казалось, она принадлежит ученику третьего класса младшей школы. Ему еще предстояло многому научиться, пройти среднюю школу, колледж, поступить в университет, закончить аспирантуру, и, вглядываясь в Жака, я вновь дивился, каким выдающимся ученым ему предстоит стать в будущем.
Провожая меня и Небесного сёгуна из здания, в котором размещалась лаборатория, Жак сказал:
— Наверняка мы снова увидимся, тогда я смогу еще рассказать тебе об Истинном мире, но, вернувшись в Токио, обязательно прочитай книгу Такаси Татибаны «Возвращение из космоса», вышедшую в издательстве «Тюо корон»… Там ты найдешь сведения о стратосфере, о которой мы давеча говорили, и о многом другом…
— «Возвращение из космоса» Такаси Татибаны, хорошо.
Мы вышли из здания. Я с восхищением взирал на чудесные белые небоскребы, выстроившиеся вдоль красивых улиц, прекрасная тихая музыка не умолкала.
Жак молча пожал мне руку. Небесный сёгун приказал мне закрыть глаза. Тотчас мои глаза сами собой смежились, но сколько после этого прошло времени?
— Все, вернулись! — сказал Небесный сёгун, я открыл глаза.
На часах, стоящих у изголовья кровати, было четыре утра. Но я не чувствовал ни малейшей усталости… В то же утро я позвонил в книжный магазин, и мне доставили «Возвращение из космоса».
Я буквально набросился на книгу, хотя это был довольно объемистый том. Триста тридцать страниц мелким шрифтом, что для моих старческих глаз было мукой. Но стоило мне начать читать — и я был полностью захвачен.
Я не знал ничего об авторе. В течение двух дней я, отложив все дела, читал запоем, а когда закончил, меня охватило чувство необыкновенной радости, как будто я испытал нечто, выходящее за пределы воображения.
Книга составлена из очерков на основе интервью, которые автор взял у космонавтов, побывавших в космосе, но самое сильное впечатление производил его увлеченный подход к предмету.
Прежде чем брать интервью, он, видимо, основательно проштудировал исследования, связанные с космосом. Библиография в конце книги включает несколько десятков произведений на английском и японском языках, и можно не сомневаться, что Татибана хотя бы в общих чертах с ними ознакомился. Не знаю, кто он — астроном или специалист по естественным наукам, но не подлежит сомнению, что он обладает обширными познаниями в этой области.
Доказательство этому — я получил из его книги исчерпывающие и ясные, полностью удовлетворившие меня сведения о космосе, особенно о стратосфере, где расположен Истинный мир, о котором мне рассказал Жак.
Кроме того, автор прочел все, что было написано вернувшимися из космоса астронавтами, и, насколько это было возможно, постарался встретиться со всеми, но главное — в его самоотверженной, страстной позиции: он расспрашивает о впечатлениях не из досужего любопытства человека, не имеющего возможности слетать в космос, а стремится, через общение с астронавтами, сам испытать космическое путешествие. Поэтому расспрашивает он их как ученый, вдаваясь в мельчайшие подробности, и хладнокровно направляет собеседника к тому, чтобы тот высказал ощущения, лежащие глубоко в бессознательном, на самом дне психики.
Далее, передавая слова вернувшихся из космоса, он не добавляет своих мнений и догадок, а, как подобает ученому, спокойно сообщает исключительно факты. Но именно это-то более всего и поражает читателя… Впрочем, тут не место распространяться об этой замечательной книге. Скажу только, что книга вышла в январе 1983 года. Жак порекомендовал мне эту книгу два с половиной года назад, но Жак-то откуда узнал о ней? На мой взгляд, это главный вопрос.
Вот что рассказал мне Жак в приемной своей лаборатории в Истинном мире: Мир явлений и Истинный мир — как две стороны одной медали, исследования во всех областях науки, осуществляемые в обоих мирах, оказывают взаимовлияние, что содействует их прогрессу, например, как он подробно объяснил, полеты в космос стали возможны благодаря тому, что исследования, проводившиеся в Мире явлений, заимствовали многое из результатов его исследований в Истинном мире.
То же касается и Такаси Татибаны, написавшего «Вернувшихся из космоса», — не оказал ли ему помощь Жак из Истинного мира? (Сам автор наверняка об этом не догадывается, что же касается Жака, то он не заострил на этом внимания, потому что, радуясь замечательным достоинствам этой книги, успел лишь порекомендовать мне ее в момент поспешного расставания.)
Когда Жак рассказывал мне о том, что Истинный мир находится в стратосфере, окутывающей Землю, объяснив мне, что она из себя представляет, я задал ему глупый вопрос:
— Нынче с Земли все время что-то запускают в космос, люди взлетают на ракетах, совершая, как говорится, космические путешествия, но ведь, чтобы выйти в космос, они должны обязательно пройти сквозь стратосферу. Не сталкиваются ли они в таком случае с Истинным миром? И как могут не заметить люди, совершающие космический полет, проходя сквозь стратосферу, этот Истинный мир?
— Стратосфера огромна, и то, что взлетает с поверхности Земли в космос, очень редко проходит вблизи Истинного мира. Здесь мы не делаем из этого никакой проблемы. Когда это было? «Аполлон», не помню уж какой номер, опустился на Луну. Ты на Земле тоже, наверно, видел это по телевизору. Я слышал от ангелов, что корабль прошел через атмосферу очень близко от нас, но… сам я ничего не заметил. Кажется, только ангелы и обратили на это внимание, а из людей, служащих здесь Богу и совершающих духовные упражнения, никто ничего не знал… Для тех, кто здесь живет в святом теле, это не имеет никакого значения.
— Вот оно что…
— Я еще полвека назад мечтал о космических путешествиях, и вы трое часто смеялись надо мной, но, и попав сюда, я продолжал исследования ради этой цели и тем самым помогал ученым на Земле, благодаря чему космические полеты стали возможны… Всякий раз при очередном полете в космос я радовался и в то же время беспокоился, как живется астронавтам после возвращения на Землю. По крайней мере трое, бросив свою работу, стали духовными лицами, скорее всего именно они, проходя через стратосферу, через эти верхние слои, попали в сияние Бога-Родителя Великой Природы…
— Что значит — духовные лица?
— Пастыри, проповедующие слово Божье, вроде миссионеров, только в более высоком смысле.
— Ты хочешь сказать, что уже одно только прохождение через верхние слои атмосферы настолько возвышает дух?
— А как же иначе? Ведь здесь Истинный мир, здесь пребывает Бог-Родитель Великой Природы, это же естественно… Но не обязательно становиться духовным лицом, разве нельзя усердно совершенствоваться в своей прежней деятельности, если уверен, что она — призвание, данное тебе Богом? В таком случае, думаю, и Бог-Родитель Великой Природы будет рад развитию космических исследований и полетов…
Слушая, я по-новому осознал, что нахожусь не где-нибудь, а в Истинном мире, где пребывает Бог-Родитель Великой Природы, и весь затрепетал и застыдился. Не будучи достаточно просветленным, я постоянно докучал приставленному ко мне Небесному сёгуну, чтобы он сводил меня в Истинный мир. Есть ли извинение моему недостойному бесстыдству! Я был в смущении и не мог живо поддерживать разговор с Жаком.
К счастью, Жак так много хотел мне рассказать, что сам, не задерживаясь, переходил на новую тему разговора. Это меня выручало, и все же…
Когда Небесный сёгун сказал мне: «Ну, открывай глаза, вернулись» — и я открыл глаза, то обнаружил себя лежащим в постели. Обычно на этом мы молча расстаемся, но на этот раз у меня сами собой вырвались слова благодарности:
— Небесный сёгун! Спасибо!
После чего я поспешил вежливо извиниться:
— Прости меня, что я так дерзко требовал сводить меня в Истинный мир!
— Что это?.. Слышать от тебя такие слова… удивительно! В сердце твоем заговорило смирение. Смиренные духом более всего угодны Богу.
— Извинись за меня перед Богом! Я виноват, что дерзнул отправиться в Истинный мир.
— Ладно. Но скажи, откуда в тебе такие перемены?
— Когда Жак рассказал мне о том, что из тех астронавтов, которые, проходя стратосферу, случайно пролетели вблизи от Истинного мира, по меньшей мере трое в самом деле встретились с Богом, познали Бога и, вернувшись на Землю, бросили свою работу и стали духовными лицами, я затрепетал так, как будто мое тело пронизало сияние Бога, и почувствовал, что изменился до самых глубин души.
— Хорошо! Когда Бог захочет тебе что-либо показать, Он сам тебя позовет… А я тебя вновь отведу… С надеждой на это не падай духом!
Ласково трижды легонько хлопнув меня по плечу. Небесный сёгун исчез.
Наверно, вернулся в Истинный мир, подумал я, подсел к окну и посмотрел на небо.
В утреннем, по-осеннему ясном небе не было ни облачка. Небесный сёгун как-то сказал, что слетать до Истинного мира и обратно можно за четыре-пять минут, поэтому, наверно, он уже там… Атмосфера по ту сторону синевы ни ясная, ни облачная — белая? Слышат ли тихую музыку, которую я там слышал, те, кто очистился сердцем? В этих раздумьях я долго не отходил от окна.
(С того дня я научился, как Бога, почитать приставленного ко мне и руководившего мной Небесного сёгуна. А сейчас, осенью 1989 года, я знаю, что мой Небесный сёгун — великий греческий философ Сократ, а сам я в прошлой жизни был ученым, учеником Сократа.)
Итак, единый Бог Великой Природы в прошлом сходил на Иисуса и на Мики Накаяма, оставил нам «Хронику сотворения мира» и «Сказание о Море грязи», в которых поведал о причине, побудившей его сотворить миллионы лет назад человека на Земле, и о том, как это происходило. На протяжении долгой, долгой истории Бог равно любил всех людей, как Своих чад. А потому, видя, что Его чада погрязли в пороках и стали несчастны, Он отобрал самых праведных, чтобы оповестили людей о любви Бога и проповедовали им любить друг друга.
Эти избранные, святые, исполнив на Земле свое назначение, покинув дольний мир, вернулись в мир Истинный и, принятые в лоно Великой Природы, пройдя десять ступеней духовных упражнений, стали работать в качестве Небесных сёгунов, словно пальцы на ногах Бога.
Точно неизвестно, сколько их было, избранных Богом, на протяжении долгой истории человечества. Но, как знают многие, последней по времени была избрана японская женщина — Мики Накаяма.
26 октября 1838 года Бог-Родитель Великой Природы сошел на Мики, жену Дзэмбэя Накаямы, крестьянина-собственника в деревне Сё, чтобы она, по предначертанию Бога, проповедовала людям о любви. Это год основания учения Тэнри. Мики ревностно исполняла данное Богом предназначение вплоть до 26 января 1887 года, когда, торопясь помочь людям, она сжала сто пятнадцать лет положенного ей срока жизни до двадцати пяти и оставила этот мир.
Во время войны я интересовался фигурой Иисуса Христа и христианством, а через три года после окончания войны занялся исследованием Мики Накаяма и учения Тэнри, потратив на это девять лет, написал биографию Мики Накаяма и многое узнал об учении Тэнри. Но два вопроса так и остались тогда неразрешенными.
Первый: в стопятидесятилетний юбилей основания Тэнри Бог-Родитель Великой Природы впервые спустится на землю, чтобы лично спасти мир. Второй: Мики Накаяма в столетнюю годовщину своей смерти вновь начнет спасать мир как живосущая Родительница.
Все верили, что оба эти предвещенные Богом события обязательно сбудутся. Это действительно было бы так замечательно, что и я с большой надеждой ждал, когда наступят указанные дни. Однако сто пятьдесят лет основания — это 1987 год, годовщина кончины основательницы учения Мики — 1986 год. Учитывая мой возраст и состояние здоровья, я вряд ли мог рассчитывать дожить до этих лет, поэтому оба пророчества были для меня тогда, увы, пустым звуком.
Однако случилось то, чего я никак не ожидал. Болезненный настолько, что мою жизнь отказались застраховать, я точно забрал жизненные годы близких мне людей. Мои дорогие друзья ушли из этого мира в шестьдесят, семьдесят лет, а я как-то незаметно протянул, глядь, а мне уже пошел девяносто четвертый, и, несмотря на возраст, аппетиту меня как у школьника, ем то же, что едят все мои домочадцы. Благодаря этому я еще при своей жизни встретил и стопятидесятилетие основания Тэнри, и столетнюю годовщину кончины основательницы учения Мики…
В результате в последние два-три года я сподобился увидеть в несомненной действительности, как живосущая Основательница веры в качестве матери всего живого спасает нас, людей, и как сам Бог-Родитель Великой Природы сошел на Землю и спасает мир. Остается только день за днем поражаться и ликовать…
Руководство Тэнри также верит двум пророчествам, но учит, что это справедливо в принципе, в действительности же Бог-Родитель и госпожа Родительница не являются и не осуществляют свои труды, а действуют через Столп Истины, то есть главу организации Тэнри. Грустно, страшно, а более всего глупо. Закрыли глаза и не видят, как въяве трудятся Бог-Родитель и госпожа Родительница.
Когда впервые я услышал от Небесного сёгуна, что Бог-Родитель Великой Природы сошел на Землю и начал въяве спасать мир, я воззрился на небо и заплакал, а Небесный сёгун сказал:
— Люди так глупы, что если пустить все на самотек, человечество погибнет от ядерного оружия. Все живые существа погибнут. А если на земном шаре погибнет все живое, весь космос превратится в пустынный мир смерти. Представь, что эта цветущая Земля станет мертвой планетой. Люди, не познавшие сердца Бога, поистине глупы. В такой опасной ситуации Бог не мог больше ждать ни минуты и приступил к Спасению Мира…
После этого, приблизительно раз в две недели, иногда несколько дней подряд, Небесный сёгун в деталях рассказывал мне, каким образом Бог-Родитель Великой Природы неустанно трудится над Спасением Мира, и мысленно я переносился в Москву и в Вашингтон, а также узнавал о том, что происходит в странах, разделенных на два враждующих лагеря — Восточный и Западный. Я не только ждал дня, когда твердолобый коммуняга и фиглярствующий дядюшка пожмут друг другу руки, но и втайне надеялся, что близок день, когда несчастные, порабощенные народы, живущие под пятой твердолобых коммунистов, обретут свободу, а американцы, под руководством актерствующих дядюшек кичащиеся своей демократией, сбросят пелену затверженных истин, заволакивающую их сердца и очи, наберутся смирения и с любовью встретят людей из коммунистических стран.
Дело было осенью, в прошлом (1988) году. Как-то раз Небесный сёгун сказал:
— Бог пребывает в радости. Война с использованием ядерного оружия уже исключена… Посему и «жизнь, полная радости» милостью Божьей настанет в недалеком будущем. Радуйся!
При этих словах я, точно в меня ударил свет Великой Природы, склонил голову и, возрадовавшись, перестал беспокоиться…
Я так много пишу о едином Боге Великой природы, потому что хочу донести до читателя, что ныне Бог впервые с начала истории человечества сошел на Землю и приступил к спасению Своих чад — людей.
Люди, независимо оттого — верующие они или неверующие, добрые или злые, все в равной степени для Великой Природы возлюбленные чада. И знайте, что всякий, кто уразумеет, что наш великий Родитель близ него пребывает, простирая длани любви, и обратится к Родителю, будет принят в его объятия, на него прольется свет Великой Природы и он всенепременно обрящет счастье.
Итак, вернувшись на Землю из Истинного мира (Мира реальности), я подумал, что надо сразу же передать просьбу моего друга Кадзуо Накатани директору универмага И. в Синдзюку. Однако вечером того дня, когда я вернулся, меня навестил молодой приятель, и, не утерпев, я рассказал ему об испытанном. Он слушал молча, а когда я закончил, медленно сказал:
— Вообще-то принято считать, что ангелов немного и за спиной у них прекрасные крылья. А ваши, точно врачи или аптекари, в белых халатах поверх одежды, да еще их несколько сот миллионов — как-то странно для ангелов.
— Это потому, что, создавая человека, Бог-Родитель Великой Природы прежде, чем добился наконец после долгих трудов и многих неудач успеха, сотворил несколько сот миллионов людей, и эти люди, помогая на протяжении долгой истории Богу Великой Природы, существуют и поныне… Их-то и называют ангелами.
— Не знаю, сколько сот миллионов лет в истории человечества, но прожить так долго… А вы, однако, горазды на выдумки! Поразительно.
Он списал мой рассказ на старческую фантазию или старческое самомнение, во всяком случае больше ни о чем не спрашивал.
Через несколько дней другой «молодой» приятель пришел ко мне сообщить, что он вышел на пенсию по возрасту, говорить было не о чем, и я невзначай сболтнул об Истинном мире, на что мой собеседник шутливо отреагировал:
— Как же такой большой город, находясь на небе, в этой стратосфере, до сих пор не свалился на Землю? Вам, наверно, это приснилось… Завидую. Вам уже далеко за девяносто, а вы все таким бодрячком…
— Да нет у меня никакого возраста! Я каждое утро рождаюсь заново! — перешел и я на шутливый тон.
Но после разговора с этими двумя друзьями мне расхотелось встречаться с директором универмага. Я решил, что если напишу обо всем этом в «Замысле Бога» и пошлю книгу ему в подарок, то тем самым выполню поручение Накатани.
Так я и сделал. Закончив книгу, я послал ее директору, и сразу же пришло письмо с благодарностью.
Однако сейчас, работая над «Волей человека», я вдруг опять вспомнил то, о чем меня просил Накатани, мой друг. Получается, что я поучал других, утверждая, что человек должен обязательно осуществлять раз принятое решение, а сам не проявил волю, чтобы исполнить просьбу Накатани! Мне стало стыдно.
Поэтому я твердо решил, как только окончу рукопись, пусть и опираясь на палку, доковыляю до директора Цуюки. Теперь я уже не боюсь, что мой рассказ о посещении Истинного мира сочтут за старческое слабоумие или стариковские блаженные сны. Поскольку читатели по достоинству оценили мои жизненные принципы, надеюсь, и мой рассказ будет принят с доверием.
Глава восьмая
Это произошло, насколько помню, на следующий год после строительства нынешнего моего дома на месте сгоревшего. За три дня до того, как мне исполнилось шестьдесят два, от незнакомого человека пришла большая бандероль — поздравление с днем рождения.
Открываю — огромная коробка с европейским тортом, отправитель — коллектив служащих фирмы «Юхайм». Тут же была приложена учтивая поздравительная записка.
Я не знал, что это за фирма «Юхайм», но в то время кондитерских не было, торты были редкостью, даже взрослым в радость. Вторая дочь навела справки, оказалось, эта кондитерская фирма, расположенная в районе Кансай, специализируется на выпуске дорогой продукции, приобрести которую можно только по предварительному заказу.
Я терялся в догадках, почему служащие фирмы, узнав, что мой день рождения четвертого мая, прислали в мне в подарок столь дорогую вещь, но, как бы то ни было, отправил им благодарственное письмо.
Сказать по правде, встретив два года назад свое шестидесятилетие, я посчитал, что родился заново, и перестал справлять свои дни рождения. Поэтому, хотя, по мнению домашних, подарок из «Юхайма» был неуместным, меня порадовали поздравительные слова неведомых служащих, как, впрочем, и большой торт.
Во время войны на Тихом океане, когда даже студентов отправляли на фронт, многие из них заходили ко мне. Некоторые, появляясь вечером компанией, по нескольку раз просили меня рассказывать о трактате Алена
[32] «О счастье». После окончания войны те из них, кто благополучно вернулся с фронта, разыскав мое временное жилье, продолжали навещать меня.
Однако, в отличие от довоенного времени, я был батраком, вспахивающим пером рукописи, сидел, запершись, в комнатушке на втором этаже, был стеснен экономически и по срокам и не мог уделить гостям много времени.
Жена также заявила, что она стала женой батрака, полностью отказалась от косметики, одевалась просто, вела домашнее хозяйство, не нанимая служанки, но это еще больше располагало к ней гостей, приходивших излить ей душу. Вынужденная развлекать гостей вместо меня, жена вспоминала с ностальгией довоенные годы, когда она довольствовалась ролью простой слушательницы, и втайне желала, чтобы все поскорее вернулось на свои места.
Это желание особенно усилилось после того, как мы построили маленький домик на пепелище. Большинство из наших знакомых, вернувшихся с фронта, смогли устроиться на работу по своему желанию и добились успехов, многие женились и обзавелись детьми.
Жена считала, что если бы я нашел время, как прежде, поддерживать с ними дружеское общение, это пошло бы мне на пользу, и искала подходящий случай.
И вот такой случай представился. После того как служащие «Юхайма» прислали мне в подарок дорогой торт, жена составила план: если и на следующий год мне пришлют такой же подарок, она организует детский праздник в День ребенка.
Перво-наперво она взяла с меня клятвенное обещание весь день не подниматься в кабинет, быть с гостями и поддерживать с ними беседу.
Далее, она знала, что наша родственница Н., студентка Политехнического института, любит детей, поэтому при случае попросила ее в День ребенка, когда вечером у нас соберутся дети детсадовского возраста, поиграть с ними в саду и занять их в комнате на втором этаже. Н. с радостью согласилась, и жена, рассказав ей о полученном в подарок торте, попросила разделить его между детьми так, чтобы никого не обидеть. Н. обещала приложить всю свою изобретательность.
Наконец, как обычно, жена решила обратиться за помощью к госпоже О. В начале японо-китайской войны служащий фирмы моего тестя, дочь которого только что закончила школу, попросил принять ее в наш дом в качестве служанки, чтобы она научилась хорошим манерам. Ее послали в наш токийский дом. Там уже жили две такие взятые на иждивение дочери служащих, и моя жена была в замешательстве, но, как бы там ни было, она раз в неделю посылала девушку вместе с двумя другими к жившему поблизости учителю каллиграфии и давала ей работу по дому.
Прошло полгода, и девушка, получив высшую квалификацию по каллиграфии, предпочла сосредоточиться на домашнем хозяйстве. Заявив, что особенно любит кройку и шитье, она полностью взяла на себя перешивание детской одежды. Жена прониклась к ней доверием и через десять лет, в разгар Тихоокеанской войны, устроила ей замужество с попросившим ее руки инженером, управлявшим небольшим военным заводом в Акабанэ. К этому времени мы с женой стали для нее вместо родителей. Поскольку завод был военный, там выдавали специальные пайки из армейских запасов, и она часто делилась с нами, принося сахар и говядину, недоступные обычным гражданам.
Окончание войны в начале
сентября моя семья встретила благополучно на нашей даче в Каруидзаве, но настроение было мрачное: из-за трудностей с продуктами старшая дочь с подругами из поселка вынуждена была ходить на черный рынок в деревню, дом в Токио сгорел во время бомбардировок, почти все наши накопления были потеряны. В это время внезапно появилась О., таща на себе рюкзак, набитый рисом и консервами.
Со слезами радости узнала она, что все у нас благополучно. Ее дом, как и завод в Акабанэ, избежал огня. После поражения в войне завод бездействовал, служащие разъехались по деревням, осталось всего несколько человек, но ее муж сохранял оптимизм: если не будет военных заказов, наладим литейную продукцию, которой завод изначально славился! Из ее рассказа я узнал, что мой флигель в доме приемного отца в Адзабу полностью сгорел при бомбардировках, но главное здание уцелело, так же как и домик, сдававшийся в аренду, в котором теперь поселились мать и ее старая служанка. О. имела разговор с наследниками дома в Адзабу и настоятельно советовала мне поскорее вернуться в Токио и поискать то, что осталось от дома после пожара.
В конце концов благодаря ее любезной предусмотрительности наследники отца предоставили в наше распоряжение двухэтажный домик в Мисюку, где во время войны жила прислуга.
В результате мы всей семьей смогли вернуться в Токио сразу после окончания войны, и я без промедления снова стал батраком, возделывающим пером рукописи. Накануне переезда О. помогала нам произвести дезинфекцию дома. И после, когда мы перевозили вещи, в течение нескольких дней приезжала из Акабанэ, чтобы помочь жене.
Надо сказать, что в то время она уже вела жизнь довольно роскошную. Сразу после окончания войны завод ее мужа закрылся, и оставшиеся трое молодых рабочих, которым некуда было идти, кое-как выкручивались, занимаясь кустарным литьем, но вот началась война на Корейском полуострове, и к ним поступил неожиданный заказ от большого завода «Исикавадзима», который во время прошедшей войны был их головным предприятием. Они должны были срочно изготовить детали для разного рода военной техники из предоставленного им материала. Созвали разъехавшихся по деревням рабочих и, пусть в малых масштабах, начали производство. Думали, что это ненадолго, но год от года число заказов росло, увеличивался персонал, предприятие расширилось до полноценного завода, и за будущее уже можно было не беспокоиться.
Теперь она вела жизнь шикарной дамы, но, несмотря на это, продолжала помогать моей жене как своей благодетельнице, жена же со своей стороны была убеждена, что может ей во всем довериться, и питала к ней самые дружеские чувства.
Поэтому, надумав устроить детский праздник, она первым делом рассказала об этом О. и посоветовалась, что приготовить на угощение. Кроме того, попросила привезти французского вина, напитков и продуктов, которые можно было достать только на черном рынке.
Благодаря этому в День ребенка, следующий день после моего дня рождения, состоялся первый детский праздник, задуманный моей женой.
В этот день я, на время превратившись в ребенка, смиренно следовал всем распоряжениям жены. О., в сопровождении домашней кухарки и девушки-официантки, привезла полный фургон продуктов и посуды. На кухне закипела работа.
На нижнем этаже убрали все перегородки, так что гостиная, столовая и японская комната жены образовали одну просторную залу, где гости могли разместиться по своему усмотрению.
В первой половине дня зашло несколько одиноких, бездетных женщин, которые говорили, что заглянули только на минутку, и, обменявшись любезностями в прихожей, уходили, но все были счастливы, и я радовался даже таким коротким встречам. Женщины с детьми стали приходить, как было условлено, около двух часов. Дети были детсадовского возраста, и любвеобильная Н., как фокусник, сразу завоевала симпатии даже поначалу робевших малышей, поиграла с ними некоторое время в саду, а около трех часов отвела наверх, в детскую комнату. Судя по донесшимся оттуда крикам радости, она достала торт, и вскоре детки по очереди стали спускаться, неся на блюдечках ломтики торта, которые ставили перед дамами со словами: «Пожалуйста, мы уже попробовали!» — и возвращались бегом наверх. Тем временем детям принесли чай. Когда полдник закончился, Н. вновь вывела детей поиграть в сад, а когда настало время ужинать, все вернулись на второй этаж. Там она развлекала их, организовав незамысловатую карточную игру, пока не принесли ужин. Все дети были так увлечены, что за полдня никто из них не вспомнил о матери.
Отцы детей дружили еще с молодости, поэтому при встрече сразу завязалась оживленная беседа. Жены прежде не были знакомы, но, поскольку мужья часто рассказывали им о женах своих друзей, быстро сошлись. Многие пришли в кимоно, поэтому мужья предпочли расположиться в комнате с циновками.
Я, решив стать на время несмышленым дитятей, смеясь, заговаривал с каждым гостем, отвечал на вопросы, выслушивал все, что мне рассказывали.
Почти всех жен я видел впервые, но каждая считала своим долгом заявить, что она почитательница моего творчества, и я охотно отвечал на все их расспросы.
Между тем заходили, присоединяясь к нашей компании, более молодые знакомые, одинокие и супружеские пары, но почти все они ушли довольно рано.
К четырем часам закончили готовить угощение и накрыли большой стол в столовой. Выставили бутылки с французским вином, английским виски, пивом, японским саке, даже с аперитивом чинзано.
Девушка-официантка, прибывшая из Акабанэ, по желанию гостей разливала напитки, но прежде подала дамам чинзано, по полбокала, объяснив, что это аперитив для женщин и он помогает пищеварению. Вскоре и находившиеся в гостиной мужья перешли в столовую, началось веселое пиршество, к нам присоединились женщины, помогавшие с готовкой, мужчины под влиянием винных паров раскрепостились и соревновались в демонстрации своих талантов, пели песни кто во что горазд… Дошло до того, что, ко всеобщему веселью, хором исполнили гимн общежития Первого лицея…
Я так подробно написал об этом глупом детском празднике потому, что пригласил на него Ёсабуро, ставшего служащим банка М., надеясь хоть немного соскоблить с него приставшую к нему грязь неотесанности. Среди собравшихся многие не имели никакого отношения к его работе — университетские преподаватели, инженеры, служащие страховых компаний и т. д., но все в свое время окончили Токийский университет, впрочем, были среди них и причастные к банковскому делу — секретарь председателя банка К. и международный адвокат, бывший главой филиала Японского банка в Париже, и мне казалось, что общение с ними будет для него небесполезно и в профессиональном отношении.
Он, как и обещал в телефонном разговоре, пришел около четырех. Я представил его гостям-мужчинам, после чего старался как можно реже смотреть на него. Кажется, он поначалу смущался, но старшие отнеслись к нему благосклонно, поэтому он вроде бы не натворил глупостей. Когда началась пирушка, он сказал мне, стоя возле стола, заставленного напитками:
— Впервые пью столько много разных иностранных вин!
С этими словами он навалил в виски лед и залпом выпил. Настоящий сын рыбака, подумал я, алкоголь его не берет. И хоть я волновался, как бы он спьяну не наломал дров, держался он нормально.
Гости постарше, выпив, пустились во все тяжкие, соревнуясь в пении. Закричали и ему: «Эй, молодежь, не отставай!» Но он, застеснявшись, только тряс головой, мол, ему слон на ухо наступил. Лишь когда под конец затянули хором студенческий гимн, он, прихлопывая, громко заголосил. Когда же начали расходиться, он сказал, что пойдет вместе с семьей начальника отделения страховой компании, поскольку им по пути, и, несколько раз прокричав мне: «Спасибо!» — ушел.
На следующий год он также пришел на детский праздник в четыре, под конец, опьянев, вместе со всеми пел студенческий гимн и ушел в хорошем настроении, все было как в прошлом году. Единственное отличие, когда старшие стали петь по кругу, он неумело исполнил балладу токивадзу:
Когда же я
Найду
Красавицу-жену,
Чтобы вкусить сполна
Счастливой жизни?
Один из гостей заметил:
— Ты нам не балладу пропел, а свое сокровенное желание!
— Да нет же, — засмущался он, — сейчас вся молодежь это поет!
На детский праздник в следующем году он обещал прийти пораньше, поскольку женился и хотел привести жену. Пришел часа в три. Нас с женой сразу же поразило, какая прелестная и изысканная у него супруга, как мы узнали позже — дочь умершего два года назад дипломата, к тому же весьма образованная, окончила женский университет Сэйсин. На ней были бриллиантовые сережки, изящное вечернее платье и ожерелье из драгоценных камней, но все это затмевала ее собственная красота.
Когда началась пирушка, один из старших гостей, набравшись от вина смелости, сказал:
— Я как-то видел кино под названием «Красавица и чудовище», если не будешь лелеять свою жену, превратишься в чудовище! Будь начеку!
А другой прибавил:
— Год назад своим неумелым исполнением песенки ты предсказал сегодняшний день, наверно, чтоб мы не так удивлялись. Вот так номер!
Увидев, как ловко он сумел уйти от этих насмешек, я вздохнул с облегчением.
Когда на следующий год он вновь пришел с женой на детский праздник, у них уже была девочка. Назвали ее Айко, супруги излучали счастье, и даже старшие гости не позволяли себе обычных шуточек.
Когда Айко исполнилось три, его красавица жена пришла к нам с дочерью без него в два часа. Увидев его жену одну, мы с женой вообразили какое-то неблагоприятное стечение обстоятельств, вроде того, что его послали работать в провинциальный филиал, но оказалось, что он с утра отправился играть в гольф с клиентами банка, а когда игра закончится, обязательно придет.
Айко оказалась очаровательным ребенком и сразу завоевала популярность среди собравшихся детей. Н., хоть и поступила на службу, пришла, как обычно, с утра и весь день провела с детьми и, благодаря Айко, сама веселилась и возилась наравне с ними. Когда началась пирушка с возлияниями, явился и отец девочки.
Когда Айко было пять лет, некоторые дети, собиравшиеся у нас на праздник с самого начала, перешли уже в среднюю школу и отказались прийти с родителями, предпочитая провести время по своему усмотрению. Вслед за ними не пришли и их матери. В результате на детском празднике поубавилось детей и женщин, и постепенно он превратился в посиделки друзей — выпускников Токийского университета.
Жена задумала и осуществила этот праздник, когда я стал батраком пера и у меня не было времени ни с кем встречаться. Она придумала повод для встреч раз в году и пригласила тех, с кем я прежде дружил, чтобы я мог немного проветриться. Поставленной цели она добилась, но моя литературная барщина принесла мне успех, у меня появился досуг, как у крестьянина-единоличника, и, точно владелец собственного надела, я уже мог позволить себе общаться с посещавшими меня гостями, поэтому моя жена посчитала, что ежегодные встречи потеряли всякий смысл.
К тому же и для собиравшихся гостей это тоже стало бременем, они не пропускали праздник только из какого-то чувства долга, да и причинять каждый год большие неудобства госпоже О. было неловко, при том что ведь жена не могла принимать гостей хуже, чем прежде! Все это ее тяготило, и она решила, что пора заканчивать с детскими праздниками. Но то, что было легко начать, бывает трудно закончить.
В это время секретарь директора банка К., живший в районе Ота, с помощью архитектора, служащего той же фирмы, перестроил и расширил свой дом и захотел отпраздновать переустройство, пригласив мужскую половину наших детских праздников. Он предложил нам собраться у него в день детского праздника и сделать эту встречу как бы завершающей.
Мы с женой не только согласились, но и горячо поблагодарили его, пообещав обеспечить выпивку. Таким образом все благополучно разрешилось.
В четыре часа я один, без жены, пришел в его дом, где собрались все старые участники детских праздников. Мы провели поистине запоминающийся веселый вечер. Однако Ёсабуро в тот день не пришел.
Мало того, с тех пор, как я его видел в последний раз на нашем детском празднике, и до сего дня, хотя прошло уже больше двадцати лет, он, насколько я помню, ни разу у нас не появился.
Разумеется, я время от времени думал о нем, волнуясь, не случилось ли чего, но ни от него, ни от жены не было никаких известий. Единственный раз, на следующий год после его женитьбы, пришла открытка с распечатанным уведомлением, что они переехали в новый дом. Настолько он не любил писать. По телефону он также не звонил. Впрочем, каждый год на праздник Бон и в конце года он обязательно посылал нам в подарок консервы с нори
[33]…
Можно было предположить, что, окончательно смыв с себя деревенскую грязь, он осознанно решил отдалиться от людей, знавших его в ту эпоху, когда он был еще «сыном рыбака», поэтому я был за него спокоен и постарался о нем забыть. Не исключено, что он дорос до начальника филиала банка в какой-нибудь деревне…
Однако почти три года назад, когда Небесный сёгун отвел меня в Истинный мир, я случайно встретил там своего старого друга Накатани, незадолго до того умершего, который при жизни был директором банка М., мы о многом поговорили, между прочим он попросил меня встретиться с директором универмага И., чтобы рассказать ему, как он счастлив, и вдруг упомянул Ёсабуро.
— Ну да, ты же родом из Сидзуоки. И он из Сидзуоки. Кстати, я вспомнил, — он рассмеялся, — когда служащий банка, отвечавший за прием на работу, просматривал заявления, он, увидев, что соискатель не соответствует требованиям, хотел сразу его вычеркнуть, но поскольку ты выступил поручителем, пришел со мной посоветоваться… У меня глаза на лоб полезли от изумления, но я решил дать ему возможность сдать экзамены… Однако, увидев результаты письменного экзамена, все экзаменаторы были поражены. По их мнению, так мог ответить только специалист по финансовым проблемам… Тогда на устном экзамене экзаменатор из любопытства стал задавать особенно каверзные вопросы, но парень отвечал прекрасно, наконец, я спросил, почему он так хочет служить в банке. «Я и сам не знаю, — ответил он, — но мне кажется, это веление Небес. А раз так, я буду рад его исполнить. С этой мыслью я поступил в университет и теперь надеюсь поступить в банк…» Наверно, он тебе говорил об этом.
— Нет, такого я от него не слышал.
— Неужели? Когда он поступил в банк, то был довольно невоспитан… В то время директором нашего банка был нынешний директор универмага И. Узнав, что новичок родом из Сидзуоки, он сразу же встретился с ним и взял под свою опеку, и вскоре его манеры изменились в лучшую сторону, в конце концов он стал прекрасным банковским служащим… Ты его двадцать лет не видел, поэтому, наверно, не знаешь, но порасспроси директора универмага… Не исключено, что в будущем он возглавит наш банк!
— Ёсабуро… Это имя как-то не вяжется с главой банка! — рассмеялся я.
— Нет-нет, вот увидишь, он станет во главе банка! А в его имени, напротив, есть что-то обаятельное… Все-таки люди — удивительные создания! Отпрыск рыбака, вообразив, что Небо велело ему стать банковским служащим, прилагает старания, и оказывается, что нет ничего невозможного, глядишь, а он уже возглавляет банк… Достаточно приложить волю и довести однажды принятое решение до конца.
— Однако случается, что на человека в юности находит блажь, он уверует, что это — веление Неба, а после, надорвавшись, только наделает бед. У людей все так сложно! — Рассмеявшись, я с ним простился.
Как я уже рассказывал в предыдущей главе, просьбу покойного друга я в результате так и не исполнил. Нет, когда вышел «Замысел Бога», я послал книгу директору универмага, получил от него благодарственное письмо и решил, что тем самым просьба выполнена. Мол, одной заботой меньше.
Однако не так давно у меня вдруг возникло желание все же встретиться с директором универмага Цуюки.
Дело в том, что в конце сентября этого (1989) года, мне позвонил корреспондент газеты «Майнити» Ю. Он сказал, что прочитал мою трилогию о Боге и «Счастье человека», находится под сильным впечатлением и хотел бы непременно встретиться, чтобы расспросить меня о моем необыкновенном опыте.
Терпеть не могу давать интервью, к тому же я не был знаком с Ю., поэтому колебался. Корреспондент работал в кансайской редакции газеты и вел религиозную колонку и, поскольку собирался приехать в столицу, настаивал на встрече. Однако я продолжал колебаться, когда внезапно Небесный сёгун ответил за меня:
— Я согласен. Когда приедете в Токио, буду ждать вас в два часа.
Ну, раз Небесный сёгун согласился, он и будет давать интервью, подумал я и перестал беспокоиться.
Между тем за несколько дней до этого меня попросили из газеты «Асахи» написать три страницы на тему «обретения себя» для понедельничной колонки «Душа». На эту тему нетрудно написать длинно, но вот коротко — сложно, я несколько раз переделывал, наконец сократил до четырех страниц и, поскольку не мог больше ничего урезать, послал газетчику, отвечающему за колонку, разрешив вычеркнуть все, что тот сочтет нужным. Добрый человек подкорнал текст, упростил фразы и, доставив мне корректуру, попросил исправить, если что не так. Я прочел, мне понравилось, поэтому позвонил ему и, поблагодарив, сказал, чтобы печатали так, как есть.
На следующий день в два часа пришел корреспондент «Майнити». Я провел его в гостиную на первом этаже. Отвечал на его вопросы Небесный сёгун, а я выступал в роли слушателя, но Небесный сёгун ни разу не погрешил против фактов. Беседа затянулась на два часа, быть сторонним слушателем не слишком приятно, но наконец все закончилось. Уходя, довольный корреспондент поблагодарил, извиняясь, что утомил меня, но присутствия Небесного сёгуна не заметил.
Я с нетерпением ждал, думая, каким образом он обработает нашу беседу, и был уверен, что, подготовив текст, он попросит хотя бы проверить, не закралось ли каких ошибок. Но прошло несколько дней, а от него ни слуху ни духу, я решил, что из статьи ничего не вышло, и даже, напротив, успокоился. А может, думал я, материал поместили лишь в кансайском выпуске «Майнити»…
Однако третьего октября, во вторник, в вечернем выпуске газеты в колонке «Религия и жизнь» под крупным заголовком «Сэридзава — удивительный опыт», на половину газетного листа была напечатана статья с моей фотографией и обложками моих книг. Я изумился, застигнутый врасплох.
Прочитал статью. В приведенных фактах ошибок не было, но если б мне дали предварительно просмотреть публикацию, я бы кое-что вычеркнул, а кое-что более важное добавил, это было досадно. Да что там статья, в моей биографической справке год, когда я родился, 1896-й, превратился в 1897-й. Я не мог понять, почему, прежде чем печатать статью, нельзя было дать мне ее просмотреть.
В тот вечер мне позвонило несколько человек, прочитавших вечерний выпуск «Майнити». Все, кто посещал меня в последующие дни, как столичные жители, так и приехавшие из провинции, приносили мою бережно вырезанную из газеты статью и уверяли, что она помогла им понять меня.
Даже оставляя в стороне содержание статьи, одни только напечатанные жирным шрифтом врезки «Услышал голос великого Бога», «Бог содействует Спасению Мира», «Воплотить идеальный мир», вероятно, должны были убедить читателя, насколько это возможно, в том, что я веду прекрасную жизнь с верой в Бога-Родителя Великой Природы, не впал в маразм и не предаюсь благодушным мечтаниям. Видимо, все полагали, что статья появилась потому, что так называемая «большая газета» нашла случай во всем этом убедиться.
Газета — страшная сила.
Текст, написанный для колонки «Душа» утреннего понедельничного выпуска газеты «Асахи», был опубликован девятого октября.
В колонке «Душа» регулярно обсуждается, как человек обретает себя и находит свое жизненное предназначение, я также написал о том, как обрел себя, поняв, что мое предназначение — литература, и с тех пор живу писательским трудом, а в последние четыре года, точно воскреснув для новой жизни, каждый год публикую по тому нового романа.
«Асахи» снабдила колонку замечательным заголовком: «При поддержке единого Бога Великой Природы». Прочитав, я был удовлетворен. С публикацией вышла некоторая задержка, но вдумчивая, кропотливая забота ведущего колонку впечатляла и была поистине достойна «большой» газеты. Когда я читал мой текст, мне, к моему удовольствию, даже казалось, что он написан самим ведущим колонку.
Весь тот день меня осаждали телефонными звонками мои знакомые, которых порадовала колонка в «Асахи».
Газетная статья, как правило, живет не дольше суток. Но моя статья, помещенная в вечернем выпуске «Майнити», судя по всему, и по прошествии месяца продолжает жить. Во всяком случае, приходящие ко мне после ее публикации и старые и новые знакомые, гордо демонстрируя мне газетную вырезку, вместо приветствия говорят:
— Вот, прочитали, и на душе стало спокойнее…
Осталось только поражаться влиянию «больших» газет. Наверняка и директор универмага Цуюки прочел вечерний выпуск «Майнити» и с доверием отнесся к рассказу о том, как я встретился с Кадзуо Накатани в Истинном мире, поэтому я решил, что, завершив этот том, обязательно встречусь с ним и передам ему лично слова Накатани. Тем самым я смогу осуществить волю покойного друга… Да и Небесный сёгун в знак одобрения, возможно, вновь отведет меня в Истинный мир.
(Слышал, что некоторые читатели на основании того, что статьи о моей новой жизни почти одновременно напечатали две большие газеты, «Асахи» и «Майнити», решили, что я приложил к этому руку. До меня даже дошло, что кое-кто распускает сплетни о сумме, которую я якобы заплатил, чтобы напечататься в «Майнити». И при этом добавляют не без ехидства: «А как насчет „Асахи“?» Я хотел было пропустить эти сплетни мимо ушей, но, поскольку история яйца выеденного не стоит, решил написать о том, как все было на самом деле.
Я не обращался к «Майнити» ни с какой просьбой, поэтому и оплачивать статью у меня не было никаких причин. Прежде в Союзе литераторов существовало правило, что писателю обязаны выплачивать гонорар за интервью, но сейчас оно, кажется, не соблюдается, по крайней мере я не получил от «Майнити» и ломаного гроша. Прислали несколько экземпляров газеты, и только.
Что касается «Асахи», я написал туда три страницы, но, учитывая доброе отношение ко мне газеты и ведущего колонки, их внимание, готов был отказаться от гонорара. Однако в середине октября газета перечислила на мой банковский счет пятьдесят тысяч иен в качестве гонорара. В свои шестьдесят шесть лет я, как бы умерев для журналистики, наотрез отказался писать заказные статьи и, как западные писатели, стал публиковать романы сразу книгой, минуя публикации в журналах. С тех пор я перестал получать гонорары, а потому гонорар от «Асахи» был мне особенно приятен и неожидан, точно дар свыше.)
Глава девятая
Когда мы построили на месте сгоревшего наш нынешний дом (в 1957 г.), у нас не было пылесоса, и жена, подметая столовую веником, выбрасывала сор в окно.
Как-то в апреле, в пригожий день, я, против своего обыкновения, зашел в северную часть сада и удивился. Там под окном, возле ограды, на участке в метр шириной, засыпанном гравием, росли два мандарина. Один высотой в метр, другой раза в три пониже. Присмотрелся — и впрямь саженцы мандарина.
Видимо, когда мы в столовой ели мандарины, жена вымела упавшие косточки, и они посреди гравия пустили ростки. Выглядели они очаровательно, и я подивился их жизненной силе. Я испытывал к ним нежность, как будто они родились в нашем доме.
На северную сторону сада солнце не попадает. Мне захотелось пересадить бедняжек на какое-нибудь солнечное место. В южной части сада плодоносящие мандарины не смогли бы ужиться с другими деревьями. Но с западной стороны, на участке посредине прохода от задних ворот до кухни, было почти полметра плодородной почвы, граничащей с соседским домом. Там было солнечно, и если мандарины разрастутся, они не повредят нашему саду и станут естественной оградой от соседей.
С этой мыслью я пересадил туда саженцы мандарина и полил водой.
В это время мне сказали, что по срочному делу пришла госпожа Д. со своим двухлетним сыном. Она ждала в гостиной.
Я прошел в гостиную. Госпожа Д. сидела с суровым лицом, посадив сына на колени, но никак не могла начать разговор. Я тоже молчал, ожидая, когда она начнет говорить. Мне казалось, что она совсем недавно сидела на этом же самом месте и, сообщив, что выходит замуж за Д., просила меня стать ее сватом.
Вдруг она заговорила резким голосом:
— Я приняла решение расстаться с Д. и вернуться в дом родителей, но подумала, что, поскольку вы были сватом, я обязана вас известить, поэтому зашла на минуту.
А вот что она говорила, сидя на этом месте, в прошлый раз:
— Я собираюсь замуж за известного вам Д. и настоятельно прошу вас стать нашим сватом. Мои родители согласны на брак, но его мать против. В этом главная проблема. После долгих уговоров она дала понять, что даст добро только в том случае, если вы выступите в качестве свата. Я очень вас прошу!
— Я тебя совершенно не знаю, — ответил я, — но уверен, тебе прекрасно известны высокие человеческие качества и дарования Д. Полагаю, ты выходишь замуж, поскольку готова верой и правдой служить ему на протяжении всей жизни и всячески способствовать тому, чтобы он смог в полную меру развить свои дарования. Большинство из тех, кто не готов к этому и заключают брак исключительно по соображениям благоразумия, впоследствии рвут на себе волосы. Ты должна все взвесить, чтобы не нанести ему вреда.
— Я познакомилась с Д., когда училась в Париже. Мне хорошо известны его, как вы изволили выразиться, высокие человеческие качества и дарования. Я даже считаю, что мою учебу в Париже можно считать успешной уже потому, что я познакомилась там с Д. — настолько меня поразил этот человек. Я буду счастлива, если, выйдя за него замуж, смогу посвятить ему всю свою жизнь, к тому же мне кажется… я могла бы составить его счастье… Поэтому я приняла решение сделать все, чтобы стать его женой. И вот теперь, когда наконец замаячил радостный день и моя мечта может осуществиться… я столкнулась с противодействием его матери… Тем не менее она обещала дать свое согласие, если вы выступите сватом, поэтому я и пришла к вам с просьбой. Пожалуйста, не отказывайтесь!
— Все это прекрасно, но я тебя совсем не знаю, к тому же ты пришла так неожиданно — я не могу так сразу согласиться…
— Я была в Париже вместе с вашей дочерью, может, вы спросите у нее?..
— Вообще-то с этим должен был прийти сам Д.
— Хорошо, мы придем вдвоем и будем вместе вас просить.
На этом она ушла.
Д. был молодым архитектором, с которым я познакомился, когда во второй раз после войны попал в Париж. В ту эпоху финансы Японии были в плачевном состоянии, мало кто мог позволить себе на собственные средства учиться за границей, поэтому молодых людей, учившихся в Париже, было буквально по пальцам пересчитать, все они старались помочь друг другу и дружили без разделения на юношей и девушек.
Моя третья дочь изучала в Париже вокал и, когда я приехал, познакомила меня со своими друзьями, и между прочим с Д.
Д. изучал архитектуру на промышленном факультете Токийского университета. Будучи поклонником великого Корбюзье, он, окончив университет, перебрался во Францию и вот уже третий год учился, работая в его мастерской. Там он получал неплохое жалованье и среди других японских студентов слыл богачом, но вообще-то он был очень добрый юноша. Я от него много узнал о знаменитых зданиях Франции и Парижа.
Кстати, тогда же случилось забавное происшествие.
Я получил от госпожи Рошфуко приглашение на чай. Ее салон славился во всей Франции, быть приглашенным туда считалось огромной честью. Но меня это приглашение застало врасплох. В салоне надо быть соответственно одетым, а я оказался в Париже проездом, поэтому у меня был один лишь помятый дорожный костюм. Я решил отказаться и обратился за советом к своему старинному французскому приятелю, как это сделать поприличней. Он удивился: получить приглашение в этот салон — невероятная честь, поэтому об отказе не может быть и речи. Поскольку меня пригласили на чай, достаточно надеть черный пиджак, посоветовал он.
Хорошо бы сшить пиджак, но времени на это не было. Я решил купить готовый, отправился в универмаг, но моего маленького размера в отделе взрослой одежды не нашлось. Я пошел в детский отдел, но там не было моделей, которые могли бы подойти взрослому. Как ни обидно, придется отказаться от приглашения. Я был в отчаянии.
И тут я случайно встретился с Д.
У него есть черный пиджак, только что из чистки, сказал Д., но вот подойдет ли он мне? Д. сам принес пиджак мне в гостиницу. Примерил — точно на меня.
Итак, я направился к назначенному сроку в салон госпожи Рошфуко в пиджаке Д. Прежде всего меня поразило, что в Париже есть такой огромный особняк. В воротах меня встретил лакей в ливрее и повел внутрь. Мы поднялись наверх, здесь его сменил какой-то господин, который провел меня по длинному коридору. У входа в салон меня уже ждала дама, она сразу провела меня внутрь. Госпожа Рошфуко взяла меня за руку, учтиво поприветствовала и стала знакомить с гостями.
Гости стояли, сидели, о чем-то беседовали и, пожав мне руку, не прерываясь, продолжали разговор. Это были маститые старцы, видимо, финансисты, политики, ученые, но я слышал их имена впервые. Только имя одного, довольно молодого литературного критика, было мне известно… Я отыскал место, где присесть, но не мог унять волнения и чувствовал себя не в своей тарелке.
Госпожа Рошфуко оказалась довольно пожилой дамой, но я впервые видел такую поразительно красивую женщину. На ней не было ни одного кольца, ни одного драгоценного камня, и одета просто, но при этом как будто излучала свет — так была прекрасна, истинное загляденье!
Сидя на своем месте, я выбрал из принесенных напитков чай и, попивая его, понемногу стал приходить в себя. До меня начал доходить смысл общей беседы, а именно говорили о том, что после войны французские произведения искусства вывозятся в Америку.
В это время кто-то из гостей обратился ко мне:
— Наверно, в Японии происходит то же самое, что и во Франции. Не могли бы вы поделиться с нами своим мнением?
— В Японии до войны богачи хранили произведения искусства у себя в закромах, как мертвый капитал, — сказал я. — Им достаточно было того, что они ими владеют, никому при этом не показывая. Это было равнозначно тому, что произведения искусства не существовали вовсе… Но после войны обедневшие толстосумы начали продавать свои коллекции американцам. С одной стороны, это прискорбно, но для произведений искусства, думаю, — во благо. Американцы ими восхищаются, они наконец-то реально существуют, а значит, если эти шедевры отправляют в Америку, можно считать, что им повезло: отныне ими будет любоваться множество людей… Я убежден, что произведения искусства — общее достояние, а не предмет частной собственности…
Ответив так, я осмелел и в течение четырех часов свободно беседовал с гостями о разного рода проблемах. Эта четырехчасовая беседа стала для меня ценнейшим опытом. То не было, как принято у нас, шушуканье вокруг да около какой-нибудь избитой темы. Нет, здесь говорили свободно и, точно выметая скопившуюся внутри себя пыль, очищали и освежали свою душу. В результате мне стало казаться, что госпожа Рошфуко сияет чистейшей красотой…
Прощаясь, она мне сказала:
— Когда будете в Париже, можете приходить ко мне запросто. Впрочем, я была бы не против встретиться с вами и у вас на родине.
Поблагодарив, я по примеру других гостей поцеловал ей руку и ушел.
Когда я вышел в сад, литературный критик X. спросил меня, благодаря каким связям я получил приглашение в салон. Я ответил, что для меня самого это стало неожиданностью, поскольку никаких особых «связей» у меня нет.
— Удивительно! — воскликнул он. — Трудно поверить, чтобы вас, такого молодого, пригласили в этот знаменитый салон!
Лицо его изображало недоверие, поэтому я, смеясь, сказал:
— Меня впервые называют молодым с тех пор, как мне перевалило за шестьдесят…
Но в этот момент меня прошиб холодный пот, я вдруг осознал, что черный пиджак на мне — молодежного покроя.
В гостинице меня ждали Д. и дочь. Я подробно рассказал им о том, что происходило в салоне, поблагодарил Д. за то, что с помощью его пиджака приобрел множество незабываемых впечатлений, и обещал вернуть его после чистки.
Д., смеясь, сказал, что его пиджак, побывав в таком прославленном салоне, наверно, насквозь пропитался его изысканной атмосферой, поэтому он не только не позволит отдать его в чистку, но бережно отнесет к себе домой, чтобы наслаждаться его ароматом.
После этого приключения я сдружился с Д. и довольно много узнал о нем.
Он был единственным сыном богача из Кобе. Полтора года назад его отец скончался в результате болезни, но, несмотря на оставленное ему завещание, на родину Д. не вернулся. В Кобе по соседству с ними жила супружеская пара, еще с юных лет дружившая с его отцом. В год, когда он уезжал учиться за границу, в январе, и муж и жена погибли в автокатастрофе, оставив после себя дочь-студентку и сына-школьника. Дед с бабкой решили взять сирот к себе в Тоттори, но дочь, не желавшая бросать учебу в колледже, всячески этому сопротивлялась. Посовещавшись, девушку взяли в дом Д. До несчастного случая родители девушки и родители Д. часто шутливо обсуждали, как было бы хорошо, если бы в будущем она и Д. сочетались браком. Разумеется, несмотря на разницу в возрасте, они дружили с детства, и когда девушка поселилась в доме Д., никаких недоразумений не возникло. Осенью того же года родители согласились отправить его учиться за границу во многом благодаря тому, что дочь их покойных друзей жила вместе с ними и им, особенно матери, было теперь не так тоскливо.
Решили, что по возвращении Д., как и мечтали родители, женится на своей подружке детства.
И вот нежданно-негаданно ко мне является незнакомая мне Р., говорит, что собирается замуж за Д., и требует быть ее сватом.
Не тот случай, когда можно с ходу дать согласие.
Однако через четыре дня она пришла вместе с Д.
Оба сели на диван в гостиной, и Д. торопливо заговорил:
— Давненько-давненько… Собирался зайти, когда все немного утрясется…
Он рассказал, что ему пришлось срочно вернуться на родину, но он уже более-менее определился с архитектурной мастерской, в которой хотел бы работать, и снял дом для жилья. Встреча с ним вызвала у меня ностальгические чувства, казалось, все происходит во сне, я сразу же позвал третью дочь, но жена, заглянув в гостиную, напомнила мне, что дочь сегодня преподает в консерватории, и я смутился, что позабыл об этом.
— Ну, потом ты можешь спокойно обо всем поговорить, а сейчас мы пришли с серьезным делом, — внезапно одернула Р. своего спутника.
— В сущности, нелепая просьба, — сказал Д. сконфуженно, — но уж, пожалуйста, не откажите нам — станьте нашим сватом!
— Так… Значит, вы женитесь. Что ж, поздравляю… Боюсь показаться назойливым, но можно задать один вопрос?
— Разумеется.
— Не возникнет ли проблемы с невестой, дожидавшейся тебя в Кобе, пока ты учился за границей?
— Моя мать любит ее как собственную дочь и, конечно, позаботится о ее счастливом браке… Так что никакой проблемы.
В это время зашла жена, чтобы угостить гостей. Четыре дня назад, провожая до ворот Р., она, видимо, узнала от нее о дате церемонии бракосочетания и сейчас, предлагая Р. сладости, сказала:
— День вашей свадьбы назначен на несчастливый день, обычно, назначая свадьбу, стараются избежать таких дней…
— Мы записались на церемонию в храм Мэйдзи, — ответила Р., — там, кроме несчастливых, все дни уже заняты.
— Если б речь шла о моей дочери, к тому же только что вернувшейся из-за границы, я бы не стала спешить… Хорошо бы передохнуть, выбрать благоприятный день… Может, именно поэтому матушка Д. не дает согласия?
— Если честно, мы не можем ждать, — сказала Р. жене и повернулась к сидевшему рядом Д. — Наверно, лучше сразу во всем признаться…
Д., смущаясь, медленно подбирая слова, сказал:
— Дело в том, что мы ждем ребенка. Если не справить свадьбу до того, как это станет заметным… Вот почему она так торопится…
Он посмотрел на Р.
Я удивился и, невольно улыбнувшись, сказал:
— Так зачем же вам сват?.. Свадьба-то уже не нужна!
— Я тоже так думаю, но ее родные настаивают на свадьбе по всем правилам, чтобы официально оформить наши отношения. Прошу вас, станьте сватом! Иначе моя мать нас поедом съест…
Не зная, что сказать, я некоторое время молчал. Наконец решился прощупать, готов ли Д. к этой женитьбе.
— Почему ты решил жениться? — спросил я его.
— Вы спрашиваете о моем решении? Я человек слабовольный, поэтому… однажды поддавшись искушению, решил больше никогда не уступать. Если плоду моего искушения суждено явиться на свет… Пусть тем все и закончится… Когда я узнал о беременности, честно сказать, я был в смятении… Но, хорошо все обдумав, я понял, что любой мужчина на моем месте обязан жениться…
— Ну, в таком случае жениться не стоит. Лучше признать свою ошибку и все уладить полюбовно. Есть множество способов, как это сделать…
— Что за ужасные вещи вы изволите говорить! — воскликнула Р. плаксиво. — Лично я никакому искушению не поддавалась. Я уже вам рассказывала, как смотрю на нашу совместную жизнь — я была счастлива вверить себя ему, и то, что я забеременела, считаю милостью небес и ничуть не сожалею о случившемся. Ведь благодаря этому наш брак стал возможен…
— Значит, ты уже принял твердое решение жениться на ней? — обратился я к Д.
— Именно поэтому я срочно вернулся в Японию.
— Когда ты принимал такое решение, чего ты хотел в идеале, какова была твоя воля?
— Я решил, что после женитьбы должен жить независимо, как самостоятельный человек… Поэтому надо немедленно вернуться в Японию… Для меня это был серьезный шаг. Впрочем, по обычным меркам совершенно естественный.
— Обсуждал ли ты с Р. то, как ты представляешь идеальный брак?.. И не показалось ли тебе при этом, что Р. озабочена исключительно практической стороной, а именно — как вытащить тебя из Парижа?
Д. посмотрел на Р.
— А ведь мы с тобой ни разу так и не удосужились поговорить по душам, — сказал он.
Р. опустила глаза и молчала.
— В прошлый раз, — обратился я к ней, — ты поделилась со мной своими похвальными мыслями о браке, может быть, повторишь их сейчас, перед Д.? А я послушаю в качестве свидетеля…
Но она продолжала сидеть молча, опустив глаза, и, сколько мы ни ждали, не произнесла ни слова.
Не вытерпев, я заговорил:
— Неужели та прекрасная речь была всего лишь заранее заготовленным текстом, чтобы заполучить меня в сваты? Если же она шла из сердца, повтори еще раз, порадуй Д.!
Тягостное молчание продолжалось, наконец. Р., не поднимая глаз, роняя слезы, повторила то, что говорила мне четыре дня назад.
Когда она кончила, заговорил Д.:
— У меня тоже есть кое-что добавить к тому, что сказала Р.
По его словам, еще со школьной скамьи ему казалось странным, что в Кобе, наравне с традиционно японскими, существуют дома европейские, и его стали занимать отношения, существующие между человеком и его жилищем. Тогда же он заинтересовался синтоистскими и буддийскими храмами и постепенно пришел к мысли, что изучать архитектуру — его призвание. Наверно, тут не обошлось без влияния его глубоко верующей матери. Он решил, что это поприще предназначено ему Богом, и, поступая в университет, несмотря на противодействие отца, выбрал архитектурное отделение промышленного факультета. Именно исходя из веры в то, что осуществляет призвание, данное ему Богом, он по окончании университета, преодолев множество препятствий, отправился своекоштным студентом за границу учиться в мастерской Корбюзье.
В свете его веры проблема брака казалась ему не столь важной. Он был убежден, что, если станет ревностно выполнять свое предназначение. Бог дарует ему спокойную семейную жизнь. Но сейчас, услышав слова Р., он потрясен до глубины души. Ведь она сказала, что ее счастье в том, чтобы помогать ему исполнить свое жизненное призвание! Он убедился, что Р. — помощница, дарованная Богом, одним словом — жена. Под конец он добавил:
— Как замечательно все получилось! И это благодаря вам, сэнсэй!
Встав, он отвесил вежливый поклон.
— Поздравляю! — сказал я. — Вы двое только что произнесли супружескую клятву перед Богом, в которого оба веруете… Тем самым воистину связали себя узами брака. Никаких ритуалов не нужно. Свадебный прием — просто увеселение. А сват, выступающий на таком приеме ради увеселения гостей — всего лишь марионеточный Пьеро… Уж так и быть, тряхну стариной!
Я рассмеялся.
Успокоившись, что я согласился быть сватом, они ушли.
В тот день мы с женой, ужиная, рассказали третьей дочери о женитьбе Д. и Р., после чего жена обратилась к дочери с просьбой. Я согласился быть сватом, но в день церемонии пойду один, а дочь передаст Р., что моя жена не смогла прийти.
Дочь удивилась:
— Сват всегда ведь приходит со своей супругой! Почему же ты не можешь пойти?
— У отца есть старая визитка, он ее наденет, у меня же нет официального наряда, а в обычном платье неприлично.
— Но наряд для свадебной церемонии можно взять напрокат!
— Я — брезгливая, не выношу надевать на себя вещи с чужого плеча… Да придумай любую причину… Лишь бы объяснить Р. мое отсутствие на свадьбе.
Когда жена сказала о брезгливости, мне вдруг на ум пришло одно воспоминание. До войны к жене как-то пришла жена моего старшего брата попросить на время официальный наряд, а когда принесла его назад, жена сказала: «Если понравилось, носите пожалуйста!» — и без всякого сожаления отдала ей совершенно новое кимоно с фамильным гербом. Я уже знал тогда о брезгливости жены в отношении одежды, и в то время теща, хоть жена и не просила, к каждому новому сезону обязательно посылала ей по несколько новых кимоно. Во время войны мы перевезли на нашу дачу в Каруидзаве множество
кимоно, а после войны, в период трудностей с продуктами, поскольку это были кимоно высшего качества, мы выменяли их одно за другим на черном рынке на съестное. Наша семья из шести человек избежала голода, но из кимоно остались только самые простые. Позже жена, объявив себя женой батрака, изменила свои привычки, отказалась от косметики, одевалась просто, вела домашнее хозяйство, не нанимая прислугу, и нисколько не жалела об утраченных красивых нарядах, но и когда жизнь стала повольготнее, не обзавелась кимоно для официальных выходов.
Брезгливость жены относилась не только к одежде, но и к духовной стороне жизни. То, что женщина выходит замуж, забеременев, не укладывалось у нее в голове, поэтому даже для виду она не хотела быть сватьей… Зная ее, я не стал ее уговаривать.
В конце концов Р. настояла, чтобы вместо жены непременно присутствовала моя дочь, и в день свадьбы мы с дочерью, как это ни забавно, выполняли роль сватов в качестве супружеской пары.
Это был свадебный прием без церемонии бракосочетания. Состав гостей был довольно странным — со стороны невесты десять человек, со стороны жениха — одна мать.
В общем, это и получилась увеселительная вечеринка, и, отдавая себе в этом отчет, я, когда требовалось разрядить обстановку, играл роль Пьеро, и прием прошел вполне благополучно…
На следующий день мать Д., глубоко образованная католичка, нанесла мне визит вежливости. Она сказала, что является моей давней читательницей.
Узнав, что в Париже Д. сдружился со мной, она радовалась этому как милости Небес, а что касается женитьбы сына, мать не противодействовала, полагаясь на промысел Божий, но поскольку гордиться было нечем, не стала сообщать родственникам…
— Я молюсь, — сказала она, — чтобы они были счастливы вдвоем.
И еще долго меня благодарила…
И вот эта Р. внезапно является ко мне и, держа на коленях своего двухлетнего или трехлетнего сына, заявляет, что приняла решение расстаться с Д. и вернуться в родительский дом, а ко мне зашла из вежливости.
Я был ошеломлен и молча смотрел на нее.
Р. тоже молчала, но по щекам ее катились слезы. Сидящий на коленях сынишка их заметил.
— Мамуля, почему ты плачешь? — спросил он, вытирая ей слезы пальчиком.
Вдруг Р. начала громко всхлипывать. Удивившись, я прервал молчание:
— Так что же произошло?
— Я возвращаюсь к родителям вместе с ребенком. Вы были сватом, поэтому я пришла вам сообщить.
— Это-то мне понятно. Но что же все-таки произошло?
Некоторое время она колебалась, наконец, всхлипывая, сказала:
— Он сошелся с девушкой, работающей в мастерской.
Внезапно охваченный гневом, я сказал:
— Ну, тогда и впрямь лучше немедленно вернуться к родителям. Но ребенка советую оставить. Мать Д. прекрасно его воспитает… Позже я сообщу обо всем Д.
— Я забираю ребенка с собой. Вы же сами признали его неправоту… Не беспокойтесь, в родительском доме меня не оставят вниманием.
— Неправоту?.. Я ничего такого не говорил.
— Но вы же сами сказали, что мне надо вернуться к родителям!
— Не могу же я воспрепятствовать твоему своевольному решению вернуться к родителям.
Она вытерла платком слезы и пристально посмотрела на меня. Если она разозлится и уйдет, это и к лучшему, подумал я. Вдруг она сказала:
— Я развожусь не из каприза. Причина в нем. Вы что, нарочно меня мучаете, не желая это признать?
— От супружеских ссор, как говорится, даже пса воротит.
— Какие жуткие вещи вы говорите!.. У нас вовсе не супружеская ссора!
— Когда этот малыш был еще у тебя в утробе, ты сказала, сидя на этом месте, слова, которые до сих пор звучат в моем сердце, поэтому я не могу сдержать горечи. А сейчас возвращайся к Д., хорошенько все обдумай в течение пяти дней, и если твое решение о разводе не изменится, тогда я, как сват, постараюсь наилучшим образом его осуществить… Вот так и поступи!
Она, не меняя обиженного выражения, молчала. Увы, придется еще сделать ей внушение, подумал я.
— Будучи беременной, ты излагала сидящему возле тебя Д. свои твердые принципы относительно брака, помнишь?.. Если бы ты им следовала, то не сидела бы сиднем дома, когда Д. обзавелся своей собственной архитектурной мастерской, а ходила бы к мужу в мастерскую помогать. И тогда бы не ревновала мужа к его сотрудницам… А даже если у мужа и появилась любовница — хотя Д. явно не такой человек, — ты бы взглянула на это широко, как на временное заблуждение, и не стала бы поднимать шум. А иначе как может муж отдаться всей душой предназначенной ему Богом работе!.. Своими действиями ты подрываешь то, ради чего выходила замуж, вспомни, как ты говорила тогда, что будешь мужу помощницей и что отныне твое счастье в том, чтобы муж до конца исполнил свое предназначение. Воля заключить счастливый брак, о которой ты говорила Д., взяв меня в свидетели, чего-то стоит лишь в том случае, если она объемлет всю жизнь!.. Сейчас, заговорив о разводе, ты изменяешь собственной воле… И еще получается, что Д. женился на недостойной, обманувшей его женщине… Поэтому он захочет, наверно, как можно быстрее развестись и стать свободным. Я говорил с тобой искренне, со всей прямотой… А теперь иди и подумай дней пять… Подождем, что ты надумаешь…
Сказав это, я поднялся. Р. молча ушла, обнимая ребенка. Я не стал звать жену и сам проводил ее до дверей.
Через три дня Р. позвонила:
— Простите, что я причинила вам столько беспокойства. Ваши слова открыли мне глаза. Я решила не менять свои первоначальные намерения и следовать своей воле. Надо было бы зайти к вам, но мне стыдно… Поэтому прошу прощения по телефону.
— Молодец. Будем считать, что ничего не произошло. Ты ведь еще ничего не сказала Д., так я понимаю. Что ж, я рад, что так все разрешилось…
— Спасибо вам. И вашей супруге передайте мое почтение…
На этом наш разговор окончился.
Однако после случившегося — а было это давно — Р. ни разу не появлялась у нас. Д. раз в год забегал, как он говорил, по дороге на работу, и мы с ним весело болтали о том о сем… Кроме того, наверно, в качестве благодарности свату, он обязательно присылал подарки на праздник Бон и в конце года, но каждый раз я думал об Р. Я раскаивался, что в тот день, вместо того чтобы встать на ее место и поговорить с ней поласковей, напрямую высказал ей все, что думаю, и, наверно, поранил ее сердце. Я пытался вообразить, каким стал малыш, который со словами: «Мамуля, почему ты плачешь?» — вытер пальчиком ее слезы. Однако всякий раз, когда Д. заходил, я в рассеянности забывал спросить у него о сыне.
В этом (1989) году, в начале июля, Д., как обычно, зашел ко мне. Видимо, он поставил свою машину в пустующий гараж, поэтому, уходя, направился в ту сторону.
— Которое из деревьев возле гаража мандарин, о котором вы говорили? — спросил он.
Я показал ему на дерево, высотой метра четыре, которое высилось на западной границе участка возле гаража.
— В этом году было много плодов, почти сто штук…
— Уже такой высоченный! Жена с ностальгией говорит, что, когда она без меня пришла к вам вместе с сыном, вы собственноручно пересаживали саженцы мандарина… Это то самое дерево? Удивительно… Неужели так разрослось?
— Деревья, в отличие от людей, прямодушны и растут, не заботясь о времени. Последние годы мандарин стал приносить плоды, правда, при этом выяснилось, что это вовсе и не мандарин, а китайский лимон… Но ничего, плоды сочные, сладкие… Ах да, возьми несколько штук для жены.
— Жена не очень здорова, из дома почти не выходит… Ей совестно, что она не читает ваших книг, поскольку вообще читать не любит, но радуется, что мне скоро стукнет шестьдесят, я вновь, как говорится, стану ребенком, и тогда-то мы вместе придем к вам…
— Что? Шестьдесят, тебе?
— Да, время бежит быстро… Благодаря тому что вы были у нас сватом, я счастлив в семейной жизни, и с работой все было гладко, ничего тягостного, время пролетело как одно мгновение, опомнился — ба, уже скоро шестьдесят! Удивительно…
Я тем временем сорвал с нижних ветвей три китайских лимона и, передав ему, спросил:
— Мальчик, которого Р. тогда держала на руках, сейчас, поди, учится в университете?
— Уже закончил университет и теперь на учебе в Америке.
— Архитектор?
— Я предоставил ему свободу выбора. Говорит, что хочет стать адвокатом по международным делам.
Сев в машину, он уехал. Провожая глазами его «мерседес», я вспомнил, что он говорил мне чуть раньше:
— Поразительно, что вы, такой болезненный, такой слабый здоровьем, не умерли и смогли дожить до девяноста четырех лет, более того, вы не только здоровы и перестали принимать лекарства, но и каждый год пишете по новому роману, великолепно исполняя то, что и молодому писателю не под силу. Все это не иначе как благодаря силе Великой Природы. Эта сила Великой Природы и есть единый Бог, и моя мать, всю жизнь, как ревностная католичка, верила в этого Бога, благодаря чему в свои девяносто семь она здорова, удачно выдала замуж ту девушку, что стала ей вместо дочери, и живет с ней счастливо. Я говорю жене, что и мы счастливы в семейной жизни благодаря Богу, и благодарю Его, но… Может быть, я думаю так, потому что мне скоро шестьдесят?..
Так шутливо он говорил о своих заветных мыслях.
Я вернулся к письменному столу, но никак не мог притронуться к шариковой ручке.
За свою жизнь я трижды был сватом. И все три раза сразу после войны, в эпоху экономических трудностей. Впервые — на второй год после окончания войны был сватом на студенческой свадьбе. Во второй раз — у супругов Д., в третий раз женихом был родственник, и попросили меня об этом обе семьи, по какому случаю даже жена сшила себе новое кимоно с фамильными гербами и участвовала со мной в церемонии.
Во всех трех случаях я с пристрастием выспрашивал и у жениха и у невесты об их вере, убеждениях и воле относительно брака, но собственно в обязанностях свата — устраивать брак — не участвовал и всего лишь выполнял роль Пьеро на увеселении под названием свадьба.
И только усердно молился, чтобы молодожены были здоровы и жили вместе долго и счастливо. Особенно это касалось первого, студенческого брака, поскольку я знал, что и у жениха и у невесты слабое здоровье…
С тех пор прошло несколько десятков лет. Великая Природа одобрила убеждения, веру и волю молодоженов, защитила их и облагодетельствовала, поэтому все три пары здоровы и ведут счастливую семейную жизнь. Первый жених стал главой перворазрядной японской компании, и два других также с успехом возглавляют компании.
В связи с этим я всякий раз, когда думаю о них, радуюсь и мысленно обращаюсь к ним с благодарностью, но одновременно склоняю голову перед великой милостью Великой Природы.
Ибо три эти супружеские пары на своем примере подтверждают: если, возжелав чего-либо, проявить волю и, несмотря ни на какие препятствия, осуществить свое желание, приложив к этому усилия, Великая Природа всегда придет на помощь, как родитель к своим возлюбленным чадам.
И все же в последнее время я постоянно слышу разговоры о разводах среди молодежи. Сын моих родственников, не прошло и года после женитьбы, разошелся с женой, и я знаю еще четыре недавних случая, когда развелись дети моих старых друзей. Может быть, у молодежи изменились взгляды на брак? Но не объясняется ли это малодушием, неспособностью осуществить свою волю, ведь, когда они заключают брак, наверняка собираются жить вместе до конца своих дней?
Если так, то и в работе они вряд ли смогут осуществить свою волю. В этом случае, как бы ни помогала Великая Природа своим возлюбленным чадам, ее усилия останутся тщетны. Вот что меня печалит и тревожит…
Глава десятая
Не всем ли людям свойственно с возрастом, оглядываясь на свою жизнь, вспоминать периоды, про которые они могут сказать: вот тогда я был по-настоящему счастлив!
Для меня это почти пять месяцев жизни во Франции, когда в 1925 году я отправился туда учиться и попал в Париж.
В то время самолеты еще не летали, в Европу можно было добраться только на пароходе, а путь от Кобе до Марселя занимал сорок пять дней.
Приходилось переплывать бурный Индийский океан, поэтому очень важно было выбрать подходящий сезон для такого путешествия.
Как бы там ни было, мы с женой почти без приключений благополучно добрались до Парижа. В посольстве на дипломатической службе состоял А., мой одноклассник по Первому лицею, он забронировал нам номера в первоклассном отеле на Елисейских Полях недалеко от посольства, так что мы смогли сразу, без всяких мытарств разместиться там.
Было начало июля, ужин подавали в саду при гостинице под сенью деревьев. До девяти часов было светло, ужинать в саду казалось ни с чем не сравнимым удовольствием, мы были счастливы. Поскольку столы были рассчитаны на четырех человек, с нами всегда сидел один японец в неизменно строгом костюме. Он был капитан первого ранга.
Прибыв в Париж, я, следуя совету друга из посольства, перво-наперво нанес необходимые визиты. Дело в том, что перед нашим отъездом мой тесть представил меня министру иностранных дел X., его однокашнику по Токийскому университету, и тот, подробно проинструктировав меня, как вести себя во время учебы, дал мне три рекомендательных письма, в том числе предназначенное послу. Я не собирался воспользоваться этими письмами, считая, что для студента в Париже излишне обращаться к таким важным персонам, но по настоянию А. все-таки нанес визиты вежливости этим сановникам.
Но главное, я сразу же отправился в окрестности Сорбонны, чтобы поискать книжные магазины и магазины письменных принадлежностей. В книжном магазине рядами стояли книги, которых было не достать в Токио. Я купил роман Жида. В магазине письменных принадлежностей приобрел записную книжку, подходящую для того, чтобы вести «Парижский дневник», и сделал еще много других покупок.
Что меня удивило в Париже, так это то, что никто из французов, с которыми я общался, не смотрел на меня как на иностранца, со мной обращались как с равным, никак не выделяя из своих соотечественников, поэтому и я вскоре, позабыв, что являюсь «представителем желтой расы», усвоил эту французскую манеру и перестал обращать внимание на некоторые трудности с языком.
Такое отношение ко мне было для меня важным открытием, я пришел к убеждению, что именно в этом одна из особенностей замечательной французской культуры. Кроме того, во Франции после Первой мировой войны был период инфляции, поэтому одна японская иена практически стоила тысячу иен, это было так здорово, что похоже на сон.
Своими впечатлениями я каждый вечер за ужином в саду пылко делился с морским офицером. Я был рад возможности поговорить по-японски, он тоже, поэтому мы обычно засиживались за столом и только после девяти, спохватившись, поспешно расходились. Вскоре мы стали закадычными друзьями.
Морской офицер возглавлял делегацию, которая занималась всем, связанным с репарациями, — их военно-морской флот Японии, как член союзнической коалиции, должен был получить по мирному договору в результате победы в Первой мировой войне. На двенадцатый день нашего знакомства он после ужина пригласил нас к себе домой.
Жил он в большом здании, выходившем на Елисейские Поля, в десяти минутах ходьбы. Нас встретили двое слуг-французов и провели в просторный зал. Там стоял рояль. Жена тотчас спросила разрешения поиграть. Она уже два месяца не притрагивалась к клавишам и была так рада, что ее невозможно было оторвать. Слуги спросили, не надо ли чего приготовить. Офицер велел подать что-нибудь мадам, а меня повел в подвал. Это был своего рода винный погреб, и там плотными рядами стояли бутылки различных европейских вин.
— Что выберем? — спросил он.
Я не находил слов от удивления. Он взял две бутылки шампанского, провел меня обратно в зал и там, не присаживаясь, сказал:
— Ты, наверно, заметил — когда мы впервые встретились за ужином в саду гостиницы, я увидел в тебе младшего брата… И после, каждый день, как только приближалось время ужина, я не находил себе покоя и спешил в сад. Ну что, согласен быть моим младшим братом? Или ты против?
— Мне ужасно неловко… Я сирота и тоже каждый день с нетерпением ждал, когда мы встретимся за ужином в саду, как будто у нас родственные души… Но ты хочешь, чтоб я был тебе братом…
— Ну же, давай поклянемся, что отныне мы братья!
Он взял бутылку шампанского и выдернул пробку. Пробка с хлопком взлетела под потолок. Он налил пенящееся шампанское в два бокала. По его знаку мы оба подняли высоко бокалы, чокнулись и выпили. И так три раза.
— Ну вот, — сказал он, — теперь мы братья!
Схватил меня за руку, обнял и похлопал по спине.
Жена, испуганная хлопком от пробки, перестала играть и посмотрела в нашу сторону. Мой «старший брат» поспешил сказать ей:
— Ваш муж стал моим младшим братом. Теперь вы приходитесь мне невесткой. Может, присоединитесь к нам?
Жена подошла, он откупорил вторую бутылку и наполнил ее бокал.
— Раз ты мой брат, я должен показать тебе дом.
И он провел меня по дому и показал, попутно давая пояснения, все жилые и служебные помещения, от полностью обставленной канцелярии на первом этаже до комнат на втором, где жили его подчиненные. В работе ему помогали два морских офицера, но по вечерам они обычно отсутствовали. На третьем этаже располагались помещения для двух слуг-французов, двух посыльных и супружеской четы поваров… И тут выяснилось, что мой новый брат решил: нам с женой следует немедленно съехать из гостиницы и поселиться здесь.
На следующее утро, едва мы проснулись, он пришел к нам, чтобы узнать, переедем ли мы прямо сегодня. Стараясь соответствовать званию младшего брата, я ответил ему со всей откровенностью:
— Жена хочет поселиться во французской семье, чтобы познакомиться с жизнью французов, я же планирую изучать экономику в лаборатории научного института при Парижском университете, поэтому, как брата, прошу тебя позволить нам устроиться самостоятельно.
Разумеется, брат выразил понимание, но поскольку он уже сообщил в гостинице, что мы съезжаем сегодня, то предложил, хотя бы на время, переселиться к нему. Тем более что в Париже сейчас период вакаций и найти пансион чрезвычайно трудно.
— Пока не решится с пансионом, — сказал он, — считайте мой дом гостиницей и живите как вам вздумается!
В тот же день до полудня мы покинули гостиницу, переселились в просторный дом брата и провели там почти два месяца. Мы занимали две комнаты с ванной, роскошнее чем в гостинице, завтракали, как в гостинице, в своей комнате, вместе ходили на занятия по французскому языку, обедали в городе, а вечером возвращались в дом брата и весело и роскошно ужинали втроем.
После ужина жена в большой зале, никому не причиняя беспокойства, развлекалась, играя на рояле, а мы с братом в этом же зале, сдвинув удобные стулья, откровенно беседовали по-японски обо всем на свете. Откуда только вы берете темы для разговоров? — недоумевала жена, но, в свои двадцать девять лет впервые обретя брата, я не мог с ним вдосталь наговориться. Он испытывал те же чувства и, увлекшись беседой, забывал поднести ко рту всегда стоявший у него под рукой стакан с разбавленным виски.
Помню забавный эпизод. Брат был уверен, что встречал меня, когда я учился в университете, и только не мог вспомнить где. Я же не припоминал, чтобы когда-либо прежде его видел. Однако в середине августа, в письме, присланном мне моим токийским отцом Скэсабуро Исимару через посла, тот писал, что если капитан Хякутакэ — из клана Набэсима, он с ним знаком.
Брат, прочитав письмо, расхохотался.
— Вот оно что… Несколько лет назад твой батюшка приходил вместе с тобой поздравить с Новым годом маркиза Набэсиму и смущенно сказал, указав на тебя: «А это мой внебрачный ребенок». Помнишь, ты был тогда в студенческой форме. На следующий Новый год ни ты, ни твои родители с визитом не приходили.
— Отец сказал, что в студенческой форме являться неприлично, и сшил мне костюм, но… наступили новые времена, и я заявил что-то вроде того, что ни за что не пойду на поклон к главе старого клана, упраздненного революцией Мэйдзи. Родители тоже так и не собрались… — Я горько улыбнулся.
— И все же я удивился, когда услышал, что ты — внебрачный сын Исимару. Человеческая жизнь — странная штука, ничего не поймешь…
Я могу бесконечно рассказывать о наших разговорах. Дни, которые я прожил вместе с братом в его доме, пока в начале сентября не нашелся пансион, были счастливыми и радостными, как в раю, я и не заметил, как они пролетели. Закончился сезон вакаций, и я решил наконец заняться поисками пансиона.
В результате долгих поисков я остановился на доме, который перед моим отъездом порекомендовал мне, поскольку сам в нем жил во время учебы в Париже, профессор французской литературы Киотоского университета, который в течение года преподавал нам французский язык в Первом лицее. Это был дом мадам Бонгран на улице Буало в шестнадцатом округе, стоящий отдельно, что необычно для Парижа. В нем жил литературный критик, член Академии Андре Бельсор, а нам предложили просторную комнату на первом этаже.
Брат был против, убеждая нас, что такая, по его словам, тесная комнатушка нам не подходит, но мы все же переехали, сказав, что это своего рода опыт. Брат, несмотря на свою занятость, проводил нас, отрекомендовал мадам Бонгран как своих родственников и обрушил на нее столько любезностей, что она, под впечатлением, потом еще долго вспоминала о них в разговорах…
И после нашего переезда брат строил разные планы на пятницу, субботу и воскресенье, когда мы с женой были свободны, и приглашал нас присоединиться к нему. Жена особенно часто пользовалась его услугами, слушала хорошую музыку и ходила по выставкам. В конце года мой добрый брат внезапно, по приказу своего ведомства, срочно вернулся в Японию.
После его отъезда мы некоторое время обменивались письмами, но в какой-то момент связь оборвалась на много лет…
И все же мой названый брат неожиданно явился передо мною вновь. Прошло семь лет. Для меня это были поистине долгие семь лет.
Получив в Парижском университете ученую степень, я уже собирался вернуться в Японию, когда свалился с туберкулезом легких. В то время туберкулез был смертельным эпидемическим заболеванием, считавшимся неизлечимым. По совету А. — профессора медицинского факультета Парижского университета, меня послали в высокогорную клинику в Отвиле. Полагали, что есть малый шанс, что мне может помочь практиковавшееся там природное лечение. Директор клиники был знаменитый врач, вместе с тремя молодыми французами я проходил лечение, благодаря которому, не прошло и года, мне позволено было вернуться в Японию с условием продолжать то же природное лечение в течение десяти лет. Я прибыл в порт Кобе, понимая — чтобы продолжать природное лечение (сном), у меня нет другого выхода, как, отказавшись от науки и ученых исследований, заняться литературой, например писать романы. Отправляясь из Кобе в Токио, я купил популярный журнал «Кайдзо», где оказалась статья с объявлением литературного конкурса.
Едва увидев ее, я точно услышал призыв какой-то великой силы: «Участвуй!» Меня охватил трепет. Я решил поставить на карту свою судьбу. До окончания срока оставалось всего десять дней.
«Все равно напишу!» — решил я, и в ту же минуту пролетающий за окном поезда привычный пейзаж начала зимы исчез, отрывки повести страниц на сто вихрем закружились в моей голове, я забылся. Внезапно, точно очнувшись от сна, я увидел за окном Фудзи — гора поздравляла меня с благополучным возвращением. На глаза навернулись слезы, затуманившие лик священной горы, и я молча излил ей все, что терзало мою душу.
В Токио я пребывал в одиночестве и, обретя наконец покой в доме отца, изложил мысли, пришедшие мне в поезде, на девяноста страницах, озаглавил повесть «Буржуа» и отослал ее в редакцию журнала. После этого приступил к курсу природного лечения, которое должно было продолжаться десять лет.
Во Франции даже обыденная жизнь людей, как и положено в культурной демократической стране, пронизана духом свободы, равенства и братства, поэтому я мог без стеснения выполнять там все требования природного лечения, не встречая никаких препятствий. Напротив, Япония, как я сразу ощутил по прибытии, оставалась феодальной, обыденная жизнь была связана всевозможными путами, сложной системой взаимных обязательств, определяющих отношения между людьми, проводить природное лечение в таких условиях было нелегко, но, несмотря ни на что, я продолжал выполнять все врачебные предписания, как если бы жил в цивилизованной стране.
Единственное, что меня смущало — окружающие не считали меня столь уж больным и были уверены, что я уже выздоровел. Даже домашний врач отца, осмотрев меня, заявил, покачав головой: «В Японии это не считается болезнью!» (Я был в ярости — из-за такого наплевательского отношения к человеческой жизни многие мои друзья по университету умерли в молодости от туберкулеза, но, разумеется, мне пришлось промолчать.) Вопреки всему я упрямо продолжал природное лечение и жил на положении больного.
Опутывающие японцев взаимные обязательства поставили меня в затруднительное положение. Исигуро, начальник департамента в Министерстве сельского хозяйства и лесоводства, беспокоился, что в результате государственной политики экономии я после отпуска не смогу восстановиться в прежней должности, и приготовил для меня место профессора финансов в университете Тюо. Я посетил Исигуро, откровенно рассказал ему о своей болезни, требующей природного лечения, и отказался. Однако он, решив по цвету моего лица, что я здоров, вероятно, объяснил мой отказ застенчивостью и продолжал еще долго и проникновенно меня уговаривать, вынудив пообещать со следующего года читать по два часа в неделю лекции о денежном обращении. Подготовка к этим лекциям потребовала от меня значительных усилий.
В то время тестю по обстоятельствам работы требовалась отдельная резиденция в Токио, и он строил европейский дом в районе Восточного Накано. Хоть это и называлось его резиденцией, в действительности родители жены строили этот дом для нас, желая избежать того, чтобы мой названый отец назначил нас своими наследниками. Из Восточного Накано мне было намного удобнее ездить в университет Тюо.
Когда дом был построен, мы поселились в нем якобы для того, чтобы присматривать за пустующей резиденцией: в феврале жена, взяв старшую дочь, переехала из родительского дома в Нагое, а вслед за ней переехал и я. Хоть дом и считался резиденцией тестя, мне отвели на втором этаже великолепный кабинет для ученых занятий и жилую комнату, полностью обставленные. Комната жены располагалась на нижнем этаже, поэтому я всегда мог проходить природное лечение на втором этаже, не опасаясь быть потревоженным.
Резиденция тестя была достаточно обширна, чтобы вместить и гостиную для приема важных персон, и комнаты тестя, и комнаты для приема посетителей и кабинет для занятий. Для обслуживания дома тесть прислал трех служанок, но сам он приезжал в Токио раз, самое большее два раза в месяц и останавливался на пару дней.
И вот в апреле, когда начались лекции в университете, было объявлено, что мой «Буржуа» занял первое место на конкурсе журнала «Кайдзо». Я был ошеломлен. Премия, которую я получил, превышала жалованье в университете за пять лет. Больше того, к моей радости и изумлению, в критическом отделе одной крупной газеты Масамунэ Хакутё расхвалил мою повесть, которая, по его мнению, не уступает «Жалости» Мори Огая
[34].
Наверно, из-за успеха моей первой книги у меня сразу же попросили рассказ, и я без труда его написал. Однако регулярно проводя природное лечение, я ни с кем не встречался, не отвечал на письма и ничего не знал о таком феодальном пережитке, как японский литературный истеблишмент. Когда я начал печатать в вечерних выпусках газеты «Асахи» роман с продолжением в пятидесяти частях «В погоне за будущим», глава администрации университета запретил студентам читать мой роман, мол, неприлично профессору уподобляться «писаке». Вот почему я ушел из университета и стал «писакой».
Мой выбор опечалил всех моих близких. Родственники жены порвали со мной все контакты. (И это продолжается до сих пор.) Тесть сказал, что, если я уже выздоровел, он даст мне превосходную работу, лишь бы я перестать изображать из себя сочинителя, если же мне все-таки приспичит, он готов покупать мои рукописи, только бы я их не печатал. Несмотря на это я продолжал публиковать свои произведения, и, появляясь в токийском доме, тесть ходил с кислой физиономией. В это же время в литературном отделе газеты «Асахи» Ясунари Кавабата обрушился на меня, написав, что мои произведения «любительские поделки, находящиеся вне серьезной литературы, поэтому серьезно о них судить невозможно».
Но для меня, проходящего природное лечение, событий внешнего мира, как для мертвого, не существовало.
Как-то в воскресенье вечером снизу послышался радостный крик жены:
— Пришел капитан Хякутакэ! Скорее спускайся!
Как раз в это время окончилось время обязательного покоя, поэтому я поспешил вниз. Непривычно одетый в хаори
[35] и хакама, это был он, мой брат! Стоя внизу, он смотрел, как я спускаюсь по лестнице.
Я был переполнен чувствами, застыл и не мог вымолвить ни слова. Он тоже молчал.
Не выдержав, заговорила жена:
— Я тоже, увидев японский наряд, не узнала нашего капитана!
— Уже не капитан — вице-адмирал, — рассмеялся он. — Более того, главнокомандующий военно-морской базы Ёкосука.
Он взял меня за руку.
— Значит, это ты. Я долго тебя искал. Уже отчаялся. Наконец, решившись, спросил в «Асахи» и пошел по указанному адресу, но все же до конца не верилось, что это ты.
Он увлек меня в гостиную, и я, продолжая молчать, готовый разрыдаться, опустился рядом с ним в кресло. Мне было совестно.
(Я позабыл все, что было в Париже, как сон, и уже сомневался, существовал ли брат в действительности. Человек, который меня, только что приехавшего в Париж, назвал своим младшим братом, поселил вместе женой в похожий на дворец дом на Елисейских Полях, где мы прожили по-семейному три месяца, как в раю. Человек, который в подтверждение серьезности своих чувств, предложил поклясться, откупорив при этом бутылку шампанского, в том, что отныне мы братья. Это не было с его стороны сиюминутным капризом, такова была его воля, и он ее осуществил, назвав меня своим братом. Я же в ответ поступил просто по-свински! Пренебрег бесценной волей брата и забыл его! А он между тем стал не кем-нибудь, а главнокомандующим морской базы Ёкосука и все равно продолжал искать меня, своего младшего братишку. Меня, с которым родственники не хотят знаться как с презренным «писакой»…)
Вот почему я не мог вымолвить ни слова, а брат, положив мне на колено руку, сказал:
— Я счастлив был узнать, что ты писатель… Я так радовался за тебя, когда, помнишь, в гостях у профессора Шарля Жида ты встретился с его племянником, писателем… рассказал ему, как жадно читал его книги в Первом лицее, и подружился с ним. Во Франции, впрочем, нет, в любой цивилизованной стране писатель окружен почетом. Каждый хотел бы стать писателем, да не каждому дано…
Я смотрел на него не отрываясь.
— А твой «Буржуа»!.. Эта книга доказывает, что ты прекрасный писатель. Прочитав, я успокоился за тебя…
— Ты говоришь так лишь потому, что ты мой брат.
— Мы, японцы, во всем еще только начинающие. Не переживай. Скоро и мы станем цивилизованными людьми!
Вот такой была наша вторая встреча. Жена между тем достала вина из отцовских запасов, приготовила угощенье, и мы, воодушевленные неожиданным появлением брата, ностальгируя по нашей парижской жизни, провели отменный вечер.
Когда же пришла пора прощаться, он сказал:
— Лечись основательно, чтобы полностью выздороветь. Я буду за тобой присматривать, все будет нормально!
Он оставил номер телефона канцелярии военно-морской базы и номер телефона токийской канцелярии, где бывал каждую среду, и просил звонить, если возникнут какие-то проблемы. Я проводил его за ворота и, глядя ему вслед, долго еще стоял на улице и все думал, какой же добрый и надежный у меня брат!
Жена сказала, что, когда ее отец в следующий раз приедет в Токио, надо бы вместе с ним нанести визит на военную базу в Ёкосуке. Но вечером она позвала меня, предупредив, что отец хочет со мной поговорить.
Я спустился в столовую, тесть только приступил к саке. Последнее время жена старалась сделать так, чтобы мы не столкнулись с ним лицом к лицу, и звала меня после того, как он заканчивал ужинать, поэтому я ждал какого-нибудь подвоха. Но тесть обратился ко мне приветливо:
— Вот, захотелось выпить с тобой, как прежде… Не нальешь? — Он протянул мне свою чашечку.
Я невозмутимо налил ему: после того, как он заставил меня проделать это еще раз пять, лицо его посерьезнело, и он заговорил, не забывая подливать себе:
— Сегодня днем в Ёкосуке встретился с Хякутакэ. Он показал мне военно-морскую базу, угостил. Не знал, что у тебя такой прекрасный брат! Он рассказал мне о своих взглядах на цивилизацию, об отношениях литературы и воинского искусства, но самое интересное — то, что он думает о тебе. Из его слов я понял, что мое первоначальное мнение о тебе было правильным… И все же… В последнее время по моей вине между нами возникли недоразумения из-за того, что ты стал писателем. Я и перед ним повинился… Какой я был невежда! Он мне толково объяснил, сколь почетна работа писателя — самая престижная в цивилизованных странах. Я понял: то, что я взял тебя в зятья, — счастье моей жизни. Пусть окружающие думают что хотят, а я в тебя верю. Живи как хочешь, свободно, гордо… Ты уж меня прости за недоразумение и… пиши свои романы!
Я, естественно, поблагодарил его.
— Твой батюшка Исимару знает, что я с самого начала полюбил тебя. Эх ты, скромняга, — вместо того чтобы похваляться, скрывал, что у тебя такой прекрасный брат!.. Давай же выпьем в знак нашего взаимопонимания… Здоровью не повредит?
— С удовольствием с вами выпью. — Я протянул руку.
Тесть передал мне чашечку и наполнил ее. Я не чураюсь саке и одну чашечку выпил с удовольствием.
— Ах, как вкусно, поскорей бы выздороветь, тогда бы я смог каждый вечер составлять вам компанию! — сказал я со слезами на глазах, опуская чашечку на стол.
Благодарность к брату за его истинно братскую любовь, за его праведность вызвала эти слезы и затопила мою душу.
Теперь я мог у себя дома, ни о чем не беспокоясь, невозмутимо проводить природное лечение. И таким образом, находясь в Токио, чувствовать себя цивилизованным человеком, живущим во Франции.
Однако Япония того времени была не только отсталой, феодальной страной, но и находилась на дне экономического кризиса. Людям не на что было жить, многие бедствовали. Помимо прочих своих обязанностей тесть состоял президентом железнодорожной компании Нагои. Пассажиры платят за билеты живыми деньгами, поэтому каждый день поступала наличность, только этим и спасались. Члены руководства, чтобы уменьшить в семье число «ртов», пытались пристроить своих заканчивающих школу дочерей служанками в дом президента компании под предлогом того, что девушкам необходимо научиться хорошим манерам, и в наш токийский дом-резиденцию прислали двух таких дочерей в качестве служанок. Но даже моя кроткая жена была от этого не в восторге…
В таких условиях регулярно проводить природное лечение было не просто. Брат меня всячески приободрял, и я в конце концов научился относиться к лечению как к своего рода духовному упражнению и даже не заметил, как пролетело девять лет.
Когда меня выписывали из клиники в Отвиле, позволив вернуться в Японию, условием было, что я в течение десяти лет буду проходить курс природного лечения, это условие я выполнил и действительно полностью выздоровел и мог теперь вести жизнь обычного человека. Мне было сорок два года.
Теперь не терпелось испытать, насколько мне удалось вернуть былое здоровье. Пока я был занят своим лечением, в Маньчжурии случился незначительный конфликт, военные увидели в этом шанс покончить с экономическим кризисом в Японии и ввели туда войска. В результате произошел так называемый Маньчжурский инцидент. Но военные не успокоились на Маньчжурии и отправили войска в Северный Китай, одновременно оккупировав район Шанхая и начав наступление на Нанкин. Вся Япония была охвачена воинственным духом.
Мне хотелось понять, в чем суть японо-китайской войны. Для этого необходимо было попасть на фронт и увидеть все собственными глазами, к тому же я полагал, что это удачный случай удостовериться, насколько крепко мое здоровье.
Как-то раз брат пригласил меня в среду в его токийскую канцелярию на обед. Мы отпраздновали мое выздоровление, и я поделился с ним своим желанием побывать на фронте. Брат ничего не сказал, но после, видимо, сообщил о нашем разговоре полковнику А. в Генеральном штабе сухопутных сил, и тот позвонил мне.
Официальной целью моей поездки должно быть посещение раненых бойцов, объяснил полковник. Об увиденном нельзя не только писать, но и рассказывать. При соблюдении этих двух условий он берется выхлопотать мне разрешение. Через пять дней все будет готово.
Через пять дней я пришел в Генеральный штаб к полковнику А. Тот уже подготовил необходимые документы и вручил мне красную нашивку, дающую особые права. Он сообщил, что отдал приказ начальнику пекинского отделения информационного агентства «Домэй» всячески меня опекать и мне следует по прибытии с ним связаться. Кроме того, он дал мне множество полезных советов.
Третьего мая 1938 года, с красной нашивкой, я вышел на Пекинском вокзале, где меня встретил О., сотрудник агентства «Домэй», и на машине благополучно довез до гостиницы. Немного отдохнув, я в сопровождении О. посетил пекинское отделение агентства, чтобы выразить признательность его главе. Едва его увидев, я узнал в нем приятеля из общежития Первого лицея. Мы оба были рады удивительному совпадению, и я сразу почувствовал облегчение.
По его словам, мое сопровождение организовано по специальному приказу полковника А. из Генерального штаба, поэтому все расходы после будут взысканы с него, мне волноваться не о чем. Сопровождать меня будет самый опытный сотрудник О., план поездки уже составлен, но, разумеется, по моему желанию его можно изменить. Вот такой теплый мне был оказан прием.
Гостиницей управлял француз, все обслуживание — еда, порядок — велось на французский манер, и мне было комфортно, как если бы я остановился в шикарной гостинице на Елисейских Полях в Париже. Я пробыл там несколько дней, отдыхая, и каждый день О. водил меня по достопримечательностям Пекина, который выглядел так мирно, что невозможно было представить, что здесь находится главная ставка японских оккупационных сил в Китае.
Позже О. свозил меня во Внутреннюю Монголию. Прежде всего меня поразило, что японские войска уже дошли до Внутренней Монголии и вели там бои. Вернувшись в Пекин, я затем объехал Северный Китай, добравшись до Шицзячжуана. Вновь вернулся в Пекин и не торопясь продолжил свою ознакомительную поездку до Цзинани, проехал через Циндао, побывал в Шанхае, Нанкине… Повсюду меня сопровождал О., выполняя все мои пожелания. Поездка длилась почти два месяца, и больше всего меня обрадовало, что, несмотря на множество труднейших переходов, мое здоровье выдержало.
Из Шанхая я морем вернулся в Японию, простившись с О. на шанхайской пристани. Он был мой ровесник, тихий и благодушный человек, когда мы расставались, он, словно бы про себя, прошептал:
— Все-таки война — ужасное злодеяние. Как бы я тоже хотел вернуться в Японию!..
Глядя с палубы японского парохода на разрушенные бомбардировками кварталы Шанхая, я припоминал мучительное двухмесячное путешествие, и вот что мне приходило на ум.
Японская армия ведет войну без врага, методично вырезая мирных китайцев, но если врага нет, может ли война прекратиться сама собой? Сомнительно, чтобы такая мощь остановилась по своей воле. Это первое.
Японские солдаты, попадая на фронт, перестают быть японцами, многие из них превращаются в примитивных животных, хладнокровно совершающих страшные и постыдные поступки. Два моих сводных брата и один родной были призваны и воевали в Китае в качестве рядовых — что, если и они стали такими же примитивными животными? Жестокость войны подобралась ко мне вплотную. Это второе.
Я вернулся, вынеся два этих убеждения. На следующий день по приезде в Токио я явился к полковнику А. в Генеральный штаб, доложил о своем возвращении и сдал красную нашивку.
Он поинтересовался моим мнением о боевом духе солдат, и я смутился, не зная, что ответить.
— Ладно, — сказал он, смеясь и пожимая мне руку, — если что разболтаешь, учти, рискуешь головой!
На следующий день я встретился с братом и, ничего не скрывая, рассказал о своих впечатлениях. Тогда же брат предупредил меня:
— Армия замышляет ужасные вещи и, возможно, развяжет войну против всего мира. Я человек военный, мне этого не избежать. Но ты должен во что бы то ни стало сохранить свою жизнь, чтобы в будущем, когда наступит мир, реализовать себя. А потому с сегодняшнего дня ты станешь, как прежде, больным туберкулезом, и даже если военные попытаются тебя призвать, ты должен отказаться. Понял? Если в связи с этим возникнут какие-то проблемы, я помогу. С сегодняшнего дня ты вновь болен туберкулезом!
Меня глубоко тронули его слова.
— Только я обрадовался, что выздоровел… И вот опять получается, что туберкулез со мной… Разумеется, я последую твоему совету, но и ты послушай своего младшего брата. Как бы ни разгоралось пламя войны, не торопи свою смерть!
— Дурачок! Я ценю и чту жизнь, поэтому сделаю все, что в моих силах. — Он засмеялся, заставив меня умолкнуть.
С этого времени я и официально и приватно проходил как больной туберкулезом. Когда решили послать деятелей культуры для пропаганды «умиротворения» среди китайского населения, меня также включили в список. В другой раз я получил от военно-морских сил предписание отправиться в поход на военном корабле. В обоих случаях я, следуя совету брата, отказался, сославшись на туберкулез и предоставив справку из военно-морского госпиталя.
(По тем временам это было воспринято как непатриотический поступок.)
Утром того дня, когда Япония объявила о начале Тихоокеанской войны, меня
поместили в камеру предварительного заключения в полицейском участке Накано. Вместе со мной там оказалось еще несколько десятков человек, некоторые были мне знакомы. Я терялся в догадках — по какой причине меня задержали?
Когда строили новый полицейский участок Накано, его начальник лично посетил меня, потребовав пожертвовать на строительство. Я выложил требуемую сумму и получил приглашение на праздник по случаю его открытия… Благодаря этому мне в конце концов удалось поговорить, несмотря на его занятость, с начальником участка, и я спросил его о причине моего ареста. Оказалось, в вину мне вменялось то, что в последнее время я слишком часто отправлял письма за границу.
Пока я сидел под арестом, из высшего военного руководства пришел запрос, нет ли кого, кто бы согласился взять меня на поруки. Я сообщил о брате и через десять часов был на свободе.
Если бы не помощь брата, какая участь меня ждала? Когда я думаю о судьбе моего старого друга Киёси Мики
[36], у меня мурашки бегут по коже.
Не счесть, сколько раз за время войны я получал от брата помощь и поддержку. Незадолго до того, как американские самолеты начали бомбить территорию Японии, брат пришел ко мне с прискорбной вестью.
Военные утаивают от народа истинное положение дел на войне, но вполне вероятно, что вскоре сложится ситуация, при которой придется признать безусловную капитуляция, более того, не исключено, что вражеские войска высадятся на территорию Японии. Если это произойдет, Япония понесет громадный, непоправимый ущерб, и мир будет достигнут ценой гибели страны. В связи с этим он намерен сохранить хотя бы один японский университет, чтобы будущие поколения могли унаследовать японскую культуру. С этой целью он будет добиваться места декана Императорского университета Кюсю, находящегося недалеко от его родных мест. Мне брат советовал как можно быстрее переправить все мои бумаги в надежное место, например спрятать на даче.
В университете Кюсю преподавал мой друг Исао Кикути. Я сообщил ему в письме об отчаянных замыслах моего брата. В ответ Кикути отписал, что какими бы благими намерениями ни руководствовался мой брат, он, будучи адмиралом, никак не может стать деканом университета. Я не стал говорить брату об ответе Кикути, но про себя подумал, что было бы ужасно, если бы брату пришлось исполнять обязанности декана.
Я не знал, что военная ситуация столь критическая, но, сказать по правде, был почему-то уверен, что даже если американцы начнут бомбить Токио, мой дом вряд ли пострадает. На задах его была маленькая, но пожароустойчивая пристройка с библиотекой, на втором этаже хранились книги, но первый этаж пустовал, и при необходимости туда можно было перенести вещи, поэтому я даже не помышлял об их эвакуации.
Нельзя было полностью пренебречь настойчивыми советами брата, но в то же время я не мог и представить, каким образом в это безумное время переправить семейное имущество на нашу дачу в Каруидзаве. Мне пришла идея посоветоваться с моим младшим братом К., который, окончив школу, стажировался в учебном центре Министерства железнодорожного транспорта. Жил он по соседству. Брат сказал мне, что все его сослуживцы уже три месяца назад эвакуировали свои пожитки, но поскольку ни железная дорога, ни почта вещей не принимают, они перевозили все сами. Он тоже по воскресным дням перевозит в свой деревенский дом все, что может унести на себе. Для обычного человека достать билет на поезд не так-то просто, соответственно и перевозить вещи довольно проблематично, но его это не касается, он, как работник железнодорожного министерства, может ездить без билета.
Год назад, сказал он, еще можно было обратиться в курьерскую службу министерства и выпросить одну машину, хотя они из-за отсутствия бензина уже ходили на древесном угле, но сейчас это совершенно невозможно, и он сам не знает, что делать.
Особенно он беспокоился о семье младшего брата Т.
Т. окончил университет и работал журналистом в информационном агентстве. Он женился на второй дочери господина Коямы и был оформлен его приемным сыном. Именно по совету господина Коямы я построил свой летний дом в Каруидзаве, по соседству с его дачей — было это в 1930 году, — и с тех пор мы по-настоящему сдружились. Т. примерно полтора года назад был призван в армию простым солдатом и направлен на Окинаву.
К. беспокоился, не испытывает ли семья Коямы такие же проблемы с эвакуацией. Однако господин Кояма был известным политиком, председателем нижней палаты парламента, если б он обратился с запросом к начальству, ему бы наверняка обеспечили какой-нибудь транспорт, поэтому я решил спросить у него, что он собирается делать в сложившейся ситуации.
При встрече со мной Кояма не скрывал своей радости.
Он, как председатель палаты, считал своим долгом жить там, где находятся его подчиненные, и не думал об эвакуации, но хотел, чтобы дочь, два его внука и престарелая жена переждали эти безумные времена где-нибудь в безопасном месте. Как он посмотрит в глаза Т., когда тот вернется с фронта, если что-нибудь случится с дочерью и внуками? Он уже думал о месте эвакуации, но если моя семья переедет в Каруидзаву, его семья последует нашему примеру. Жена была с ним согласна. Поэтому, как только мы соберемся отправить вещи, они непременно сделают то же.
Вечером того же дня брат К. зашел ко мне, возвращаясь со службы, и я сообщил ему о своем разговоре с Коямой. Он обещал придумать, как получше все это провернуть.
Вечером следующего дня брат вновь зашел после работы. Он составил прошение своему начальству об эвакуации вещей от имени Коямы. И сказал, что на документе требуется именная печать Коямы. На следующий день я посетил Кояму, и тот с радостью поставил печать. В тот же вечер я передал прошение брату.
Прошло три дня. Вечером зашел брат и сообщил удивительную вещь.
В конце рабочего дня его вызвал начальник и отдал секретное распоряжение: как-нибудь исхитриться и доставить вещи семьи Коямы до станции Каруидзава в находящемся в их ведении товарном вагоне. К. ответил, что это никак невозможно. Начальник согласился, что это не просто, но приказал все же что-нибудь придумать. Если удастся заполучить товарный вагон, можно будет перевезти и вещи Коямы, и мои вещи. Чтобы все утрясти, понадобится дней десять, за это время необходимо подготовить вещи для эвакуации. Вагон большой, в него все поместится.
Семья Коямы обрадовалась и приступила к сборам. Также и моя жена, попросив безотказную О. о помощи, целыми днями занималась упаковкой вещей.
Через десять дней брат зашел, чтобы сказать, что наконец-то все улажено, он пригонит вагон к станции Икэбукуро и там погрузит вещи обеих семей. Он все проделает сам, ведь это его работа.
Еще брат сказал, что вагон прибудет в Каруидзаву через девять дней, и он уже переговорил с канцелярией управляющего виллой в Хосино, где находится в эвакуации семья князя Коноэ
[37], — нам будет оказано с их стороны содействие, вещи примут на ответственное хранение в канцелярии, так что за них можно не волноваться.
Однако на протяжении этих десяти дней американские самолеты неоднократно бомбили территорию Японии, никто не знал, где и когда будет очередной налет, и брата беспокоило, что вагон четыре дня будет стоять на станции Такасаки, и остается только молиться богам, чтобы там не было бомбардировок.
В те дни каждый вечер по радио передавали предупреждения о налетах. Мы прятались в бомбоубежище в саду. Его построила в январе железнодорожная строительная компания на случай пребывания в доме тестя. Там мы и спасались. Но американские самолеты, как будто щадя столицу, пролетали мимо.
Как бы там ни было, из канцелярии в Хосино пришло известие, что вещи в целости и сохранности прибыли и бережно там хранятся. Платы за перевозку брат с нас не взял, и в суматохе войны это забылось. В войну постоянно твердили: «критическое время», «критическое время», но я бы сказал, что это было кретиническое время.
В конце января следующего, 1945, года Кояма решил, что оставаться в Токио уже слишком опасно, он собрался отправить в Каруидзаву дочь и внуков, и мы обсуждали тот вариант, что, если моя жена с младшими дочерьми также поедет туда, обе семьи до наступления тепла могли бы разместиться в нашем доме, поскольку он был и просторнее и удобнее.
Жена была согласна, но настаивала на том, чтобы и наша старшая дочь, учившаяся на специальном отделении школы, ехала вместе с ними, поскольку все равно занятия часто заменяли военными повинностями, а в таком случае больше смысла помогать своим родным, которым будет нелегко пережить зиму в горах: это ведь тоже своего рода военная повинность.
Достать столько билетов было не просто, но нам сказали, что если мы успеем на самый ранний поезд, начальник станции постарается всех нас разместить, поэтому рано утром Кояма вместе дочерью и внуками заехал за нами на своей машине.
Моя младшая дочь, заявив, что в апреле она пойдет в школу, вышла, гордо надев на плечи ранец, но в машину набилось не то семь, не то восемь человек, ранец мешался, и со слезами на глазах ей пришлось оставить его дома.
Мы подъехали на станцию Уэно к первому поезду, начальник станции провел нас вдоль забитого битком поезда в вагон второго класса. Сошли на станции Каруидзава. Пройдя два километра пешком по дороге, пришли к горячему источнику Хосино. Кояма отправился к директору компании, заведующей источником, и препоручил ему свою семью. Молодой директор сильно робел и был очень услужлив, всячески убеждая Кояму, что тот может ни о чем не беспокоиться. На источнике проживает семья князя Коноэ, поэтому доступ посторонних ограничен, место находится под особой охраной правительства и военных, организовано специальное продовольственное снабжение и в работниках недостатка нет, короче, он сумеет позаботиться о наших семьях, с продуктами проблем не будет, к тому же в любое время можно запросто пользоваться горячими источниками…
Главное, выяснилось, что накануне наши вещи уже перенесли в дом, а сегодня утром его открыли и прибрали внутри и снаружи. Наши сразу же занялись обустройством совместной жизни, поэтому Кояма, прихватив нехитрую снедь, заготовленную в Токио, оставил их самих разбираться и пошел на станцию… Он вернулся в Токио в девятом часу и сразу же из своего дома в Хатанодае позвонил мне.
Я остался в Токио со второй дочерью, учившейся во втором классе женского колледжа, и молодой женщиной по имени Фуку — младшей сестрой той женщины, что с давних времен служила у нас домработницей, а после вышла замуж за торговца из района Ситамати. Поскольку Фуку была не замужем, военные власти собирались отправить ее на фронт обслуживать солдат в борделе, но ей удалось отвертеться по причине слабого здоровья. Однако если бы она выздоровела, ее могли призвать вновь. Желая помочь ей, мы предложили устроить ее у себя горничной, и вот уже полгода она помогала жене по хозяйству. Ей было девятнадцать лет, но из-за болезненного вида и вялости в движениях ее можно было принять за шестнадцатилетнюю девочку. Жену мою она считала благодетельницей.
Итак, мы остались втроем, и, поскольку война продолжалась, жизнь наша не изменилась. Мы зависели от продуктовых пайков, поэтому ограничивались самой простой едой. Дочь вместо занятий в колледже ходила работать на ближайший заводик, производивший детали для военной техники, и, вернувшись, помогала по дому. Я также не сидел у себя в кабинете, а целые дни проводил внизу с книгой. Впрочем, меня то и дело вызывали в народную дружину, набранную из соседей, и чуть ли не каждый день приходилось участвовать в учениях по противовоздушной обороне. Обходя дом за домом, мы приставляли с улицы лестницу на второй этаж и по цепочке поднимали туда ведра с водой. Это было похоже на детскую игру и вряд ли имело какой-то практический смысл, но когда мой молодой сосед, вернувшийся из Америки, позволил себе усомниться в целесообразности учений, начальник бригады выругал его непатриотом и пригрозил лишить пайка, после чего уже никто не смел жаловаться.
В марте Фуку сказала, что ей совестно быть бременем в доме, из которого уехала хозяйка, она хочет посовещаться со старшей сестрой, как ей быть дальше, и попросила отпустить ее на день. Я ответил, что она может идти когда хочет. Через день Фуку ушла, сказав, что переночует у сестры и вернется. В эту ночь вновь была воздушная тревога, мы с дочерью побежали в бомбоубежище. Во время воздушных налетов Фуку, как ее ни успокаивали, со словами: «Моя жизнь гроша ломаного не стоит!..» — обычно забивалась в угол и замирала, дрожа.
Решив, что американские самолеты уже покинули токийское небо, я вышел из убежища и, осмотревшись, поразился. Все небо было окрашено в ярко-красный цвет, вокруг было светло, как днем, на улице перед домом суетились люди. Радио, видимо, не работало, во всяком случае, никаких сообщений я не слышал. Поспешно нахлобучив каску, я выбежал на улицу. Члены дружины с важным видом бегали взад и вперед, таская ведра воды и лестницы. Немного придя в себя, я прислушался к тому, что говорят. Токио подвергся массовой бомбардировке, но вражеские самолеты уже улетели, и, к счастью, наш район не пострадал.
Это была первая массовая бомбардировка Токио. Сообщалось, что район Ситамати по обе стороны реки Сумидагавы почти полностью сожжен, погибшие исчислялись десятками тысяч. Постепенно стали доходить известия об ужасающих последствиях пожара.
С тех пор отношение столичных жителей к войне круто изменилось.
На следующий день дочь вернулась из колледжа раньше обычного. Младшие классы закрыли еще раньше, а с этого дня закрыли женское отделение, и детям посоветовали, пока не наступит мир и пока вновь не откроется школа, эвакуироваться и поступить в местные школы. Классная руководительница сообщила дочери, что около двадцати учащихся собираются ехать в Каруидзаву, а некоторые уже давно находятся там, перевелись в женскую школу Коморо и добираются до нее на поезде, поэтому дочь заявила, что хочет побыстрее переехать на дачу.
Меня беспокоило, что Фуку не возвращается. Через четыре дня пришла ее старшая сестра и спросила, не появлялась ли Фуку.
— В ту ночь бомбы из самолетов с грохотом сыпались на землю, как град, — рассказала она, — весь район был объят пламенем, мы с сестренкой, выбежав, бросились в сторону реки. Из-за гари невозможно было дышать. Прибежав к реке, я, как и все, бросилась в воду, а сестра еще продолжала пробираться сквозь удушливый дым. В воде я потеряла сознание, а когда очнулась, вся река была усеяна трупами. Я вскарабкалась на берег, но и там все было завалено мертвыми телами. В конце концов я вышла на дорогу, и меня подобрала машина «Скорой помощи». В районе Китидзёдзи — дом двоюродного брата моего мужа, и вчера я смогла добраться туда. Муж укрылся там и, к моему счастью, остался невредим, но сестры там не было, и, зная, как много людей погибло…
Она сказала, что пришла забрать вещи сестры. Я не мог ее ничем утешить и только передал ей немного денег, а она, собрав вещи сестры в большой платок и отыскивая в ящике обувь сестры, попросила дать ей старые гэта хозяйки. Я сказал, чтобы забирала все, что можно носить. Провожая эту женщину, когда-то бывшую у нас домработницей, я с тоской думал, какая ужасная бессмыслица война.
В это время меня посетил милейший К., связанный с родительским домом жены и имевший бизнес в Канде. Ходили слухи, что следующей целью бомбардировок будет Канда, но по своей работе он не мог никуда уехать. К. посоветовал мне немедленно перебраться с дочерью на дачу, а он с женой и двумя детьми школьного возраста поживет это время у меня, чтобы присмотреть за домом.
Дочь была рада. На следующий день К. со своей семьей переселился в наш дом. Я решил ехать, как только удастся достать билеты на поезд.
К счастью, через два дня позвонил троюродный брат жены, заместитель директора крупного военного завода, и сказал, что он выделяет машину фирмы, чтобы отправить жену на дачу в Каруидзаву, и предложил прихватить, если есть такая необходимость, что-либо из наших вещей. Я попросил его взять в машину мою дочь. Сам я прожил с семьей К. два дня, после чего благополучно добрался до дачи. Там я узнал, что накануне сюда срочно эвакуировались супруги Кояма, и наши две семьи, как в прежние времена, зажили дружными соседями…
Однако двадцать пятого мая во время налета сгорел наш дом в Токио. Дом К. в Канде уцелел, но К. построил хибару на пепелище в Восточном Накано и жил там.
Пятнадцатого августа война окончилась.
Меня тревожила участь моего брата-адмирала, который все же получил должность декана в Императорском университете Кюсю. Неожиданно от него пришла короткая весточка со словами ободрения.
«Наконец-то наступил долгожданный мир. Пришло время тебе выйти на сцену. Наверняка тебе сейчас нелегко, но ты вылечился от туберкулеза и отныне, заботясь о здоровье, сможешь устроить свою жизнь и исполнить свое предназначение. Я буду с радостью следить за твоими успехами».
Через три месяца, переехав в снятый в Мисюку дом, чудом уцелевший после пожаров, я сразу же послал брату письмо, но оно вернулось с пометкой: «Местонахождение адресата неизвестно». Это показалось мне странным, я послал письмо своему другу, преподававшему в университете Кюсю, в котором спросил его о брате, но он ответил, что ничем не может мне помочь, поскольку Хякутакэ не сообщил в администрацию университета, куда он переехал. По холодному тону его письма я мог догадаться, каким мучительным было пребывание брата в должности, и отказался от мысли расспрашивать о брате, решив ждать вестей от него самого.
Но, сколько я ни ждал, вестей не было. Выход один — начать поиски самому. Но как это сделать? Я только сейчас сообразил, что, поскольку наша братская клятва была клятвой мужчин, он никогда не считал нужным рассказывать мне о своей семье, и я даже не знал имен его родственников. Оставалось только исходить вдоль и поперек всю Японию. Приняв это решение, я приступил к поискам.
«Исходить всю Японию» означало, что я соглашался выступать с лекциями, куда бы меня ни приглашали. Я был уверен, что, узнав о моей лекции, он обязательно придет послушать ее, затерявшись в толпе.
Оккупационные войска планировали провести своего рода революцию в японском обществе с целью демократизировать страну и часто организовывали в столице лекционные курсы, собирая слушателей в полупринудительном порядке, в то же время и крупные токийские газеты, соревнуясь друг с другом, устраивали лекционные турне по провинциальным городам. Денег почти не платили, но, поскольку продовольствия тогда не хватало, лектора часто одаривали продуктами местного производства, поэтому все охотно принимали предложения выступить.
Я дважды выезжал с лекциями на Кюсю, один раз в район Санъин, два раза в Санъё, дважды был в районе Кансай и всякий раз искал среди слушателей брата, но не находил. На третий год, весной, по просьбе газеты, выходящей в Нагое, я выступал в субботу с лекцией в городе Хамамацу, а в воскресенье в самой Нагое. В Хамамацу я приехал один, мне предстояло в семь тридцать прочесть часовую лекцию и переночевать в местной гостинице.
Зал нельзя было назвать ни просторным, ни тесным, но к половине восьмого, когда я поднялся на кафедру, он был забит до отказа, по бокам его люди стояли так плотно, что не могли пошевелиться.
Выступая, я внимательно искал глазами брата. Когда лекция уже подходила к концу, неожиданно за спинами людей, стоящих с левой стороны зала, я заметил человека, похожего на брата.
Я вздрогнул — это и в самом деле был мой брат! Испугавшись, как бы он, заметив, что я узнал его, чего доброго, не сбежал, я продолжал говорить как ни в чем не бывало…
Однако, закончив выступление, я быстро спустился с кафедры, устремился сквозь толпу пожимающих мне руку людей в левое крыло зала и молча схватил за плечо спешившего уйти брата.
Да, это был он. Он явно был недоволен.
Так или иначе, я рассказал представителю газеты о возникших обстоятельствах, и мы вместе с братом отправились в забронированную гостиницу. В машине он, видимо смирившись, горько улыбнулся и сказал:
— А ты хороший оратор!
— Только потому, что в поисках брата я объездил всю Японию с одной лекцией, — рассмеялся я.
В известной старинной гостинице постояльцев, вероятно, было мало, поэтому хозяин сам встретил нас на пороге и тотчас, узнав брата, закричал как сумасшедший, не то от изумления, не то от радости:
— Вот это да — адмирал Хякутакэ!
Брат поправил:
— Уже не адмирал, а военнопленный!
Мы прошли внутрь.
— Вот, случайно встретился с младшим братом, которого несколько лет не видел, — сказал Хякутакэ, представляя меня хозяину гостиницы.
Тот, видимо, был чем-то обязан ему, во всяком случае, устроил нам пышное угощение, достав даже давно не виданное вино и виски. То, что он рассказал нам при этом, невозможно забыть.
— Американский офицер привел японскую девушку — я ему отказал. Тогда он пригрозил, что закроет гостиницу, после чего здесь устроили что-то вроде борделя для американских солдат и японских девушек, но эти три комнаты я не позволил осквернить, их они не использовали…
В эту ночь в «неоскверненной» комнате я впервые лежал бок о бок с братом. Он говорил мне:
— Мы с тобой похожи, как настоящие братья. В то время как ты стал батраком, возделывающим пером рукописи, я по предложению землевладельца, прежде бывшего у меня 8 подчинении, поселился на его земле и стал простым крестьянином… Сейчас, в условиях оккупации, я — военный преступник, но, будучи крестьянином, могу наблюдать со стороны, с каким искусством наши уважаемые враги проводят общественные реформы и превращают Японию в демократическую страну. Наверно когда-нибудь заключат мирный договор, тогда и я стану свободным. Возможно, мне вернут мое состояние. И тогда мы сможем отправиться с тобой в подлинно демократическую Францию и насладиться нормальной человеческой жизнью. Потерпим же до этого времени…
Он пообещал мне на следующий день показать свой крестьянский дом, с тем мы и уснули, но когда наутро я открыл глаза, его постель была пуста, а у изголовья лежала записка:
Милый братец! Крестьянин отправляется на заре возделывать свое поле. Не ищи, где я живу. Если будет необходимо, напишу письмо. Жди дня, когда вновь поедем во Францию. К этому времени я уже буду помещиком. И ты наверняка станешь землевладельцем. Не будем же падать духом.
Многие мои читатели знают, что с тех пор мне так и не довелось встретиться в этом мире со своим дорогим братом.
Я так много написал о Хякутакэ не только потому, что постоянно помню о нем и молю Силу Великой Природы, чтобы, когда придет срок отправиться в Истинный мир (мир смерти), мне была дарована та же судьба, что и моему брату.
Я хотел показать на своем опыте, что, осуществив до конца свою волю, чем бы мы ни руководствовались — любовью, правдой или просто искренним желанием, возможно сотворить чудо — сделать счастливыми двух совершенно чужих друг другу людей, различающихся и происхождением, и обстоятельствами жизни, сделать их подлинными братьями.
Глава одиннадцатая
В начале июля этого (1989) года Небесный сёгун сказал мне:
— Бог возвестил — в ноябре произойдет радостное для тебя событие.
— Что за событие?
— В свое время узнаешь, — только и ответил Небесный сёгун.
В сентябре он повторил свои слова, но на сей раз назвал не только месяц, но и точную дату — одиннадцатое ноября. В конце октября Небесный сёгун вновь вернулся к этому:
— Уже близок следующий месяц, когда произойдет радостное событие, возвещенное тебе Богом.
— Хорошо. Что бы ни произошло, буду ждать с радостью.
На самом же деле я сгорал от нетерпения узнать, что же это такое.
Наступил ноябрь. Я уже был совершенно уверен: вот-вот что-то со мной произойдет, но терялся в догадках. Восьмого ноября по почте пришел удивительный проспект. «Общество почитателей Сэридзавы в зале Янагава двенадцатого ноября в час дня устраивает литературное собрание и концерт. Вход пятьсот иен. Выступает писатель Синъитиро Накамура…» Четыре страницы большого формата, прекрасное полиграфическое оформление, можно сказать — рекламный проспект.
Я был изумлен. Устроитель — С., председатель Общества почитателей моего творчества. Если бы он предварительно со мной посоветовался, я был бы безусловно против такого мероприятия, не желая обременять множество людей. Особенно мне казалось непозволительным беспокоить такого именитого писателя, как Синъитиро Накамура. Я задумался, почему С. заранее не предупредил меня.
С. — бескорыстный, щепетильный до мелочей, добрый юноша, каких редко встретишь среди нынешней молодежи. Он относится ко мне с неизменным почтением. У него не было причин скрывать от меня, что готовятся с таким размахом литературное собрание и концерт. Подготовка столь масштабного мероприятия наверняка потребовала уйму времени и труда, и мне, вероятно, что-то говорили, но я из-за своей занятости напрочь позабыл. Скорее всего, так оно и было.
Нет сомнений, что именно об этом меня каждый месяц предупреждал Небесный сёгун. И ошибся он на один день, конечно же, умышленно, это было с его стороны этакое ласковое подтрунивание — догадался я и рассмеялся.
В результате утром одиннадцатого ноября, лежа в постели и слушая радио, я был так ошеломлен, точно упал с небес, застыдившись своей самовлюбленной глупости.
«За одну ночь пала Берлинская стена, разделявшая народы Востока и Запада, толпы людей заполнили главную улицу Западного Берлина Курфюрстендамм и бросаются друг другу в объятия. На наших глазах произошло поистине невероятное, чудесное событие!» — несколько раз повторили по радио.
Я вспомнил конец лета того года, когда мне было шестьдесят семь. По приглашению Союза советских писателей я вместе с Сёхэем Оокой посетил СССР и, на обратном пути остановившись в Париже, съездил в Западный Берлин. Помню, как мы с писателем Г. стояли перед Берлинской стеной.
В тот момент, с трудом сдерживая слезы, Г. сказал:
— Эта ужасная стена протянулась аж на сто шестьдесят километров, на ней устроено триста смотровых вышек, да еще вдобавок, помимо этой колючей проволоки, все вокруг густо усеяно минами. И если, допустим, кто-либо из детей или родителей, случайно оказавшихся по разные стороны стены, не сможет получить официального позволения встретиться и попытается перебраться на другую сторону, он неминуемо погибнет.
Г. хотел ударить кулаком в стену, но сдержался и, нахмурившись, сказал:
— У меня у самого есть на Востоке близкие люди, с которыми я хотел бы встретиться, но эта проклятая стена нас разделила. Сколько раз я думал, вот бы стать птичкой или мушкой и перелететь через нее. Но те, кто на Востоке, хоть и такие же немцы, как мы, являются коммунистами, а мы, живущие на Западе, — демократы, поэтому дружба между нами невозможна. Даже близкие люди, пожив на Востоке, невольно начинают смотреть враждебно на людей с Запада, поэтому мы уже смирились с мыслью, что умерли друг для друга.
— Если бы эта стена приносила несчастье только отдельным людям, — продолжал Г. — это бы еще можно было вынести… Но зловещая стена, разделяя надвое считающееся цивилизованным человечество, символизирует весь ужас противостояния двух лагерей — восточного и западного, поэтому с ее существованием невозможно смириться. И наша Западная Германия, и ваша Япония — демократические страны, вместе с Америкой мы составляем западный лагерь, а за стеной страны Восточного блока — коммунистические страны, находящиеся под властью Советского Союза — образовали восточный лагерь, противостоящий Западу. Как же сильно из-за этого страдаем мы, обычные люди! Тут и говорить не о чем. Но никто из нас ничего не может тут изменить. Мы осуждены жить с этим. Следовательно, нам не остается ничего другого, как, пользуясь тем, что мы живем в демократической стране и наслаждаемся свободой, независимостью, равенством, стараться каждый день делать нашу жизнь все богаче, чтобы заставить несвободных людей в коммунистических странах завидовать нам и тем самым дать им повод задуматься над ошибочностью своих убеждений и духовных ценностей. Тогда мы обязательно победим… Если бы не эта мозолящая глаза стена, я бы не досаждал вам своими жалобами, вы уж меня простите, мне, право, стыдно!
Так говорил Г., и я не мог вымолвить ни слова. Я знал, что для него это больная тема, но и представить не мог, что он принимает ее так близко к сердцу.
Прошло больше двадцати лет, как я покинул Западную Германию, но я не мог забыть Г., стоящего перед стеной.
И вот утром одиннадцатого числа, услышав по карманному радиоприемнику, что стена разрушена с обеих сторон — восточной и западной — и прежде разделенные люди бросаются друг другу в объятья, я вскочил с постели, сбежал вниз и схватил газеты.
Какую газету ни возьми — на первой странице большие потрясающие фотографии, на которых люди с восточной стороны разрушают стену и, хлынув в Западный Берлин, обнимаются с его жителями, и восторженные репортажи с места события.
Я поспешно включил телевизор, который очень редко смотрю по утрам. Поразительно! С радостными криками, точь-в-точь как об этом написано в газетах, люди, сломав какой-то участок стены, бросаются друг другу в объятия. Это происходило на всем протяжении стены и не прекращалось ни на минуту.
Я вновь стал жадно читать газеты и вновь удивился. Получалось, что происходящее было всего лишь одним из эпизодов драматического перехода к реформам, охватившего страны Восточного блока, детонатором к чему послужили перестройка и гласность, провозглашенные председателем Верховного Совета СССР Горбачевым.
Первым актом драмы стало разрушение монопольной власти Единой рабочей партии в Польше и приход к власти правительства Мазовецкого, представляющего антикоммунистические силы.
События в Польше подняли в Восточной Европе мощную волну реформ, разрушающих старую политическую систему, в Венгрии Социалистическая рабочая партия была переименована в Социалистическую партию, более того, изменено даже название страны, в результате чего Венгерская Народно-Демократическая Республика превратилась просто в Венгерскую Республику. Это стало вторым актом драмы.
Третий акт: в Восточной Германии, которую называли «передовиком Восточной Европы», Хоннекер, председатель Государственного совета, правивший восемнадцать лет, был вынужден уйти в отставку, после чего при его преемнике Кренце, когда кабинет министров и члены политбюро в полном составе ушли в отставку, на пленуме Центрального комитета был взят новый курс и принята программа, включающая положение о «свободных выборах, а также свободе собраний, объединений и информации».
Четвертый акт: волна, поднявшаяся в Восточной Германии, докатилась до известной своим консерватизмом Болгарии, и генеральный секретарь Живков, на протяжении тридцати пяти лет сохранявший незыблемый режим, был изгнан со своего поста. Под действием той же волны уже и в соседней Чехословакии поднимается буря…
Следя за действием этой великой драмы, мыслящие люди во всем мире наверняка поражались и радовались. Во всей истории не было примера, когда бы в развитых странах с населением в несколько миллионов, в несколько десятков миллионов человек так последовательно, без внешнего воздействия, изнутри, резко менялась государственная система.
Дело в том, что в условиях монопольной власти одной партии вся повседневная жизнь людей, жизнь каждого человека регулируются партийным руководством, и в конце концов это стало настолько невыносимо, что люди стали оказывать решительное сопротивление. Во всех этих странах народ поставил под сомнение легитимность власти, легитимность правительств.
Мыслящие люди во всем мире вздохнули с облегчением и возрадовались, видя, что наконец-то давний страх, страх по поводу того, что мир разделен на Восток и Запад и рано или поздно между ними вспыхнет война, отступил, и сделан шаг в сторону мира во всем мире.
Итак, сегодня одиннадцатое ноября. Мне остается только склонить голову…
В июле я впервые услышал о предвещании Бога — одиннадцатого ноября случится радостное для меня событие. И затем каждый месяц предсказание повторялось.
Наверное, многие думают, что демократическое движение в странах Восточной Европы поднялось потому, что граждане пробудились для свободы, но в действительности все это благодаря воздействию Силы Великой Природы, единого Бога-Родителя.
С тех пор как Бог-Родитель сотворил на этой Земле первых людей, прошло долгих девятьсот миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять лет, но исполнились сроки, и Бог-Родитель впервые спустился на Землю, приступив к Спасению Мира. Это произошло два года назад, в 1987 году.
С этого времени и госпожа Родительница Мики Накаяма, и опекающий меня Небесный сёгун часто рассказывали мне подробно о том, как Бог-Родитель спасает мир.
Бог-Родитель Великой Природы прежде всего постарался очистить и исправить сердца генерального секретаря Горбачева в СССР и президента Рейгана в США. Называя одного из них «твердолобым коммунякой», а другого «фиглярствующим дядюшкой», мне неоднократно рассказывали о трудах Бога-Родителя в коммунистической России и Америке. Когда Бог-Родитель направился в коммунистические страны, госпожа Родительница Мики Накаяма отправилась вместе с Ним, чтобы помогать Ему, а вместе с ними туда устремилась и вся их свита.
В частности, моя жена, которая умерла, когда мне было восемьдесят пять лет, ушла в Истинный мир и, поскольку ее душа была чиста, стала служить Богу, служить в качестве одной из постоянных сопровождающих госпожи Родительницы Мики Накаяма. Я с трудом мог поверить, когда Небесный сёгун поведал мне об этом, но в последнее время, видать потому, что и у меня душа стала чище, во время приходов в мой дом госпожи Родительницы я стал различать присутствие сопровождающей ее жены и даже слышу, что она говорит, поэтому я так хорошо осведомлен о ее пребывании в коммунистических странах и нелегких трудах Бога-Родителя…
Было это, кажется, примерно год назад. Небесный сёгун велел мне смотреть телевизор, и я не поверил своим глазам. Неужто этот твердолобый коммуняка и фиглярствующий дядюшка дружески пожимают друг другу руки перед резиденцией президента в Вашингтоне, более того, под чудесно украшенной рождественской елкой!
На глаза навернулись слезы умиления, затуманив радостную картину. Настолько я обрадовался, увидев в происходящем знак того, что сделан первый шаг к успеху в Спасении Мира Богом-Родителем.
Однако позже Небесный сёгун меня отругал:
— Не смей так думать!..
Но разве всеобщая радость по поводу событий одиннадцатого ноября не свидетельство того, что первый шаг сделан? А потому мы, люди, должны вновь вознести хвалу Богу-Родителю.
В седьмой главе я уже написал немного о Боге-Родителе. Однако Бог-Родитель Великой Природы столь велик, что сколько ни пиши, все будет мало. Поэтому хочу здесь еще кое-что добавить.
Бог-Родитель во время Своего последнего сошествия к людям через Мики Накаяма оставил своего рода Хронику Сотворения Мира под заглавием «Сказание о Море грязи», в которой поведал, как Он задумал впервые сотворить людей, когда поверхность Земли была еще покрыта морем грязи.
«Сказание о Море грязи» легко читается, но проникнуть в его смысл не просто. Именно из этой книги мы узнаем, что Бог-Родитель вначале сотворил десять богов. Эти десять богов трудятся и поныне, точно пальцы Бога-Родителя, поэтому позволю себе кратко пересказать ее содержание.
Земля, покрытая морем грязи, была населена всевозможными живыми существами. Бог-Родитель, отобрав по одному от каждого вида, дал им божественные имена и определил предназначение.
Во-первых, жившему на севере дракону дал божественное имя Кунитокотати-но микото, предназначив быть Луной. Во-вторых, южной змее дал божественное имя Омотари-но микото, предназначив быть Солнцем. В-третьих, черепахе дал имя Кунисадзути-но микото, предназначив быть узами. В-четвертых, касатке дал божественное имя Цукиёми-но микото, предназначив быть костяком, опорой. В-пятых, угрю дал божественное имя Кумоёми-но микото, предназначив быть пищей и питьем, входом и выходом. В-шестых, камбале — божественное имя Касиконэ-но микото, предназначив быть дыханием, веяньем. В-седьмых, рыбе фугу дал божественное имя Тайсёкутэн-но микото, предназначив быть рождением, прерыванием связи с детьми, смертью. В-восьмых, черной змее дал божественное имя Офутонобэ-но микото, предназначив быть рождением и всем, связанным с появлением на свет. В-девятых, рыбе дал божественное имя Идзанаги-но микото, предназначив быть огнем и теплом, да будет мужчиной. В-десятых, змее дал имя Идзанами-но микото, предназначив быть водой и влагой, да будет женщиной.
Кроме того, Бог-Родитель с помощью десяти богов попытался из вьюна сотворить человека. Несколько раз Он терпел неудачу и только после нескольких веков усилий наконец добился успеха. К этому времени на Земле, бывшей морем грязи, образовалась суша и появились растения. Бог поселил на ней человека и некоторое время наблюдал за ним, а затем, оставшись довольным, сотворил девятьсот миллионов девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек. Никому из них он не дал смерти, и они до сих пор пребывают в Истинном мире и называются ангелами.
А десять богов на протяжении миллионов лет стали точно пальцы на руках Бога и, помогая Богу, существуют по сей день.
Хлопая в ладоши в синтоистском храме, мы, люди, не задумываемся, почему делаем именно так, суть же в том, что, ударяя в ладони, мы соединяем пять пальцев обеих рук, а десять пальцев символизируют десять богов и возносят прямо к Богу сердце поклоняющегося человека.
Богу-Родителю Великой Природы в Его трудах, помимо десяти богов, помогают десять Небесных сёгунов, как пальцы на ногах Бога-Родителя.
Что касается Небесных сёгунов, то на протяжении долгой человеческой истории Бог-Родитель много раз нисходил на избранных людей, чтобы поведать народам о любви и промысле Великой Природы, и эти избранные старались, исправив сердце, достичь «жизни, полной радости». Те из избранных, кто, исполнив свой долг в этом мире, вознесся в Истинный мир и, пребывая на лоне Великой Природы, прошел десять ступеней духовных упражнений, называются Небесными сёгунами. Небесных сёгунов десять, но по именам я знал только троих — Шакьямуни, Иисуса и Мики Накаяма. Недавно я узнал, что руководящий мной Небесный сёгун — великий греческий философ Сократ, поэтому теперь я знаю четырех.
Как бы там ни было, ныне, когда Бог-Родитель, решив, что исполнились сроки, сам спустился на Землю, чтобы спасти мир, десять богов и десять Небесных сёгунов помогают ему, и у каждого из десяти богов и у каждого из десяти Небесных сёгунов (судя по тому, что я знаю о Мики Накаяма) множество прислужников, поэтому страшно даже вообразить, какая это великая рать.
И вот не только я услышал о радости Бога, совершившего первый шаг к успеху Своих трудов, но и все газеты подробно написали о том, как это происходит в действительности. Мне хотелось бы сообщить всем во весь голос о своей радости, о своем счастье, но, увы, рядом со мной нет ныне тех, кто бы меня услышал.
Поэтому-то мне так хочется сейчас встретиться с Жаком и двумя другими моими друзьями, моими братьями.
Кстати, я должен ответить на вопрос, который мне многие задают — видел ли я въяве Бога-Родителя.
Не знаю, сколько раз я выражал желание увидеть въяве Бога-Родителя, и все тщетно. Но сейчас я думаю, что въяве увидеть Его невозможно, Он проявляет Свое присутствие только сотрясением. Дело в том, что, когда Бог приходит ко мне, весь дом сотрясается, как во время землетрясения.
Меня часто спрашивают, есть ли у Бога голос, заговаривал ли Он со мной… Если хорошенько вспомнить, я по крайней мере дважды получал слова непосредственно из уст Бога. Первый раз в восемьдесят семь лет, весной, в одну из ночей, когда я лежал на смертном ложе и ждал вечного сна и покоя, все мое тело овеяло теплое дыхание, после чего раздался голос:
— Кодзиро! Отныне тебе семьдесят лет. Бог дает тебе новое предназначение, поэтому омолодил твою плоть. Соберись с силами! С завтрашнего дня ешь то же, что и все. Ибо ты уже не болен. Своим пером помогай Богу спасать мир.
Я осмотрелся, нет ли кого, но ничего необычного не увидел.
Внезапно комната сотряслась, и тотчас все стихло. Напрасно я всматривался — ничего не мог понять. Но, приподнявшись на постели, я заметил, что, против обыкновения, не зашелся кашлем, и это меня поразило. Странно! На часах у изголовья — половина четвертого. Я вновь лег в постель. И опять никакого кашля. Что же произошло? Я попытался вспомнить.
Совершенно точно я почувствовал тряску, как во время землетрясения, но подняться сил не было. Сквозь дрему я почувствовал, что кто-то тянет покрывало с кровати. Я подумал, что это дочь, которая время от времени проверяла, не обмочился ли я во сне… После этого я вновь погрузился в сон и проснулся от того, что все мое тело овевало горячее дыхание. Я совершенно отчетливо ощущал теплое, необыкновенно приятное дыхание.
В этот момент, несомненно, меня позвал голос: «Кодзиро!» И все, что он произнес глубоко врезалось в мою память.
Но мне было невдомек, что это голос Бога. В то время я еще не задумывался о Боге и тому подобных вещах. И все же позвавший меня голос и обращенные ко мне слова, как ни крути, не были сном! Это было настолько странно, что я никак не мог успокоиться.
Через какое-то время я внезапно почувствовал позыв к большой нужде. Впервые за последние годы я чуть ли не бегом поспешил в туалет. Неужели у меня в желудке накопилось столько кала! — изумился я, такая громадная куча выросла в унитазе…
Еще накануне я засыпал, готовясь тихо умереть, а сейчас, вернувшись из туалета, не только не лег спать, но присел на кровать и, пребывая в приятном настроении, отодвинул штору ближайшего к кровати окна. В комнату проник ясный свет зари. Было пять часов. И тотчас послышались звуки нежной музыки. Я напряг слух — это был священный гимн, который я полвека назад слышал в заснеженном храме Отвиля вместе с моими тремя братьями…
Сидя на кровати, я беззвучно заплакал. Разумеется, это были слезы счастья.
Вскоре внизу послышался шум. Наконец-то проснулась
дочь. Голодный, не в силах терпеть, я набросил поверх пижамы халат, спустился в ванную и умылся. Появилась дочь, обеспокоенная, не рвота ли у меня.
— Я проголодался. Не дашь мне грейпфрут? — сказал я, садясь за стол.
Она тотчас достала мне из холодильника половину грейпфрута. Это мой ежедневный завтрак. Я вычерпал ложкой до дна сок — объеденье!
— Дай мне на завтрак все, что ты сама будешь есть, — сказал я, в ожидании пробегая глазами газету.
Дочь засомневалась, можно ли мне, но все-таки выставила на стол то же, что сама ела на завтрак, — рис, суп мисо, салат, то, что осталось со вчерашнего дня.
Боязливо я притронулся к рису. И сам удивился, каким вкусным он мне показался. Все, что я подносил ко рту, и мисо, и салат, — все, что было на столе, казалось необыкновенно вкусным…
У меня впервые забрезжила мысль, что я возродился. Меня так и подмывало справиться у кого-нибудь, я не находил себе места.
Вечером того же дня меня посетил профессор Кодайра, которого я давно не видел, и стал настойчиво уговаривать меня встретиться с удивительным юношей по имени Ито…
Во второй раз я услышал голос Бога, когда работал над «Замыслом Бога». Как-то раз юноша Ито пришел, как обычно переоделся в алое женское кимоно, и я услышал речь госпожи Родительницы Мики Накаяма.
Внезапно она воскликнула:
— Сейчас явится Бог! — И в то же мгновение все затряслось, как при землетрясении, я испугался, но лицо Ито из старушечьего вдруг превратилось в лицо зрелого мужчины, и голос строго произнес: — Дзэмбэй Накаяма, Мики, оба внемлите!
Тотчас по правую руку Ито показались смутные облики старой супружеской пары, простершейся на циновке. Я был поражен, а строгий голос не умолкал.
Это были короткие, отчетливые фразы, но я был в таком изумлении, что не мог всего ухватить. Вот только самый общий смысл.
— Ради Спасения Мира Я ниспослал его на Землю в качестве Столпа Истины и вам двоим поручил его воспитание, но из-за того, что вы слишком его баловали, он задерживается с развитием. Оттого задерживается Спасение Мира. Возьмитесь строго за его воспитание, чтобы он поскорее возмужал!
Двое пожилых супругов, чувствуя свою вину, не смели поднять головы, и я тоже, разумеется, склонил голову.
Тут я услышал, что госпожа Родительница в алом одеянии спокойно говорит мне:
— Кодзиро, ты все видел. Ты тоже опекун этого мальчика, поэтому отныне строго его воспитывай и не стесняйся ругать за слабости!
Я решил тогда, что во второй раз услышал голос Бога-Родителя, но в последнее время ясно осознал: нет, это не был голос Бога-Родителя, — воплощая сущность Бога-Родителя, говорил кто-то из десяти богов.
Более того, в последнее время я понял, что истинный голос Бога — это, если угодно, ветер. Ведь Бог-Родитель — это огромное, беспредельное бытие — Великая Природа.
Только ветер — голос Бога, Его дыхание. Уразумев это, я стал прислушиваться к ветру, и это было не только невероятно увлекательно, но и чрезвычайно поучительно. Как бы я хотел внимать ветру из глубины сердца!
Каковы же отношения между не имеющим голоса и вида Богом-Родителем Великой Природы и нами, людьми?
Бог, Родитель живущих в этом мире людей, независимо от того, добрые они или злые, верующие или неверующие, всех любит как Своих чад, знает все о каждом и страстно желает, чтобы все люди. Его чада, обрели счастье. Религия тут ни при чем. Достаточно возвыситься душой, чтобы люди ощутили себя равными, свободными, независимыми и любили друг друга, как братья.
Самый простой способ достичь этого в условиях, когда в жизни существует неравенство, неудовлетворенность, несчастье, — обратиться к Небу, поведать обо всем Богу-Родителю, помолиться, и упования исполнятся, и жизнь каждый день будет в радость. Таким образом, люди, живущие в Мире явлений, смогут жить так же спокойно и счастливо, как люди в Истинном мире.
Все те из моих знакомых, кого ведет Бог-Родитель, чем бы они ни занимались, ныне, подобно людям Истинного мира, не знают болезней и невзгод, живут в радости и наслаждении.
Может ли Бог-Родитель, не имеющий ни голоса, ни вида, воздействовать на отдельного конкретного человека? А если да, каким образом человек воспринимает это воздействие? Меня часто спрашивают об этом, но вместо ответа приведу один пример.
С того времени, когда я писал «Улыбку Бога», я каждый год устраиваю у нас в доме проводы старого года. Кроме всего прочего, для меня это повод поблагодарить за оказанные мне услуги профессора Кодайру, его жену и юношу Ито, поэтому я приглашаю трех-четырех человек, тесно с ними связанных, присоединяются моя вторая дочь с мужем, и, после скромных возлияний, мы поем и всячески веселимся. Между прочим, юноша Ито исполняет оперные арии, и я каждый раз думаю, что, стань он певцом, его красивый баритон наверняка имел бы успех…
Это было на прошлогодних проводах старого года, когда я работал над «Счастьем человека». Кроме обычных гостей, был еще А., с которым мы общались во время учебы в Токийском университете, ныне — наместник большого местного прихода Тэнри. Мы с ним давно не виделись. Он посетил меня днем, и я пригласил его поучаствовать в нашей вечеринке. Он ушел по своим делам и вновь вернулся в пять.
В половине шестого все собрались. Как обычно, сообща выслушав слова Бога, мы уже собирались перейти в гостиную и там подождать, пока в столовой накроют стол, как вдруг раздался сильный шум и дом задрожал.
— Ой, землетрясение! Надо скорее выключить газ! — всполошилась госпожа Кодайра.
— Это Бог пожаловал на нашу вечеринку! — засмеялся я и повел всех в гостиную.
К семи часам приготовления в столовой закончились, все расселись. Как и каждый год, без церемоний принялись есть и пить. Обычно за столом начинается светская болтовня, но на этот раз — не помню, кто был инициатором — сразу углубились в сложные проблемы веры и религии, все говорили с большим жаром. Я один молчал, ограничиваясь ролью слушателя, но был увлечен интересной беседой. Казалось, беседа никогда не кончится, но ближе к одиннадцати супруги Кодайра засобирались домой, и в конце концов все разошлись.
В тот вечер об этом не говорили, но разве не почувствовали все, что мы были под воздействием Бога-Родителя? Лично я почувствовал…
Одиннадцатого ноября, работая над «Волей человека», я внезапно узнал о событиях, угодных Богу, и от восторга не заметил, как отклонился от темы, а опомнившись, схватил перо и — задумался.
Если представить, как Бог-Родитель Великой Природы изо дня в день трудится, стремясь к тому, чтобы нас, людей. Своих чад, сделать счастливыми, можно понять, какой должна быть воля Великой Природы, то есть Бога. Необъятная, безграничная воля Великой Природы пронизывает всю многовековую историю. А это, смею утверждать, имеет прямое отношение к теме «Воли человека».
Все люди, хоть и не всякий это осознает, живут благодаря Великой Природе, более того, каждому Великая Природа дает свое особенное предназначение. Выполнить его возможно только трудом всей жизни.
Если слово «предназначение» кажется слишком напыщенным, можно сказать проще — профессия. Какая бы ни была у человека профессия, если он осуществляет ее на протяжении всей жизни, у него обязательно наступает чувство умиротворения, а это и есть, пусть неосознанное, удовольствие от исполненного предназначения. Поэтому, выбирая профессию, следует предпочесть любимое дело, а однажды избрав, ревностно отдавать ему все свои силы и знания. Такое умонастроение и есть человеческая воля, и поистине следует на протяжении всей жизни добиваться ее осуществления.
Великая Природа — наша Родительница — демонстрирует это своим чадам, ежедневно осуществляя свою волю.
Если не нравятся слова «Бог-Родитель», «Бог», можно думать просто — «Великая Природа». Я бы хотел, чтобы все люди когда-нибудь вновь увидели в Великой Природе свою Родительницу.
Великая Природа прекрасна. Если почитать ее своей Родительницей, она обязательно ответит материнской любовью и насытит. Стоит только попросить, многому научит и наставит на правильный путь. Ничего не требуя взамен, окружит материнской любовью.
Печально то, что большинство людей считают Великую Природу просто природой и не знают, что она — Великая Родительница. Поистине жаль! Не боясь показаться навязчивым, хочу еще раз посоветовать поклоняться Великой Природе как Великой Родительнице, вглядываться в нее, сближаться с ней, упражняться в том, чтобы сердцем следовать ее указаниям.
Великая Природа, для которой все люди — возлюбленные чада, какая бы перед ними ни встала проблема, обязательно с любовью поможет решить ее. Будь то дела глубокой старины или события далекого будущего, она поведает обо всем. Изливая безграничную родительскую любовь, она наполнит нас радостью. В самом начале конечно же требуется усилие, но вскоре станет легче, веселее, и вот уже без всякого труда беседуешь с Великой Природой и не только замечаешь в себе мощный духовный подъем, но и начинаешь постигать, сколь необъятна Великая Природа. От одного только сознания, что Великая Природа — наша Родительница, изливающая на нас безграничную любовь, жизнь может стать поистине райской…
После радостного дня одиннадцатого ноября, который я с таким восторгом встретил в одиночестве, меня нисколько не занимало литературное собрание с самодеятельным концертом, которое двенадцатого ноября в мемориальном центре Янагава устраивало Общество. Я решил про себя, что на собрание не пойду и буду писать, наверстывая проведенный в праздности день одиннадцатого ноября.
Однако ночью Небесный сёгун меня жестко отругал:
— Вижу, тебя не тянет на завтрашнее собрание и ты решил из дома не выходить? Из-за этого завтра будет плохая погода! А это доставит участникам лишние неудобства. Но даже если ты останешься дома, я обязательно пойду, так и знай! Это же сто пятидесятый юбилей ежемесячных собраний! Я буду внимательно слушать Синъитиро Накамуру. Если ты стар, это не значит, что надо быть капризным. Ты как хочешь, а я пойду.
Тем не менее у меня не возникло желания присутствовать на собрании. Двенадцатого с утра было ясно. Я, как обычно, хотел подняться в десять в свой кабинет, когда Небесный сёгун сказал дочери:
— Давай пообедаем часиков в двенадцать, ничего особенного не готовь!
Усевшись за письменный стол, я склонился над рукописью, но не мог выдавить из себя ни слова. Вскоре Небесный сёгун поднялся.
— Надо надеть белую рубашку, — говорил он сам с собой, — но холодно, надо бы выбрать что-нибудь потеплее… Нужно быть в галстуке. Раз уж он попросил прощения, надеть, что ли, тот, который он мне прислал?
Небесный сёгун достал из ящика комода яркий галстук, который мне прислал на шестидесятилетие прежний Столп Истины Тэнри Сёдзэн Накаяма, и завязал двойным узлом. Галстук явно не подходил к рубашке. Не обращая на это внимания, он надел костюм, как бы показывая, что сборы закончены.
Мемориальный центр Янагава находится в пяти минутах от моего дома, но выходит не на улицу, а в узкий проулок. Четыре года назад, когда я еще мог свободно ходить, этого здания не было. Сейчас в одном здании с центром располагается картинная галерея Янагава.
Небесный сёгун собрался уходить, поэтому пообедали раньше часа. Я тоже решил пойти и колебался, идти ли пешком, опираясь на палку, когда Небесный сёгун сказал дочери:
— Поедем на машине! Перед центром есть стоянка.
Дочь села за руль, а я точно испарился, все действия за меня совершал Небесный сёгун.
Не успели опомниться, как уже приехали. Я с важным видом, опираясь на палку, поднялся по узкой лестнице на второй этаж. Меня провели в узкий, но роскошный салон. Элегантная дама лет пятидесяти, подавая чай, сообщила, что Общество получило возможность использовать этот центр в последний раз, поскольку и сам центр закрывается. Картинная галерея уже закрылась в конце октября, и выставлявшиеся в ней произведения искусства отданы в дар провинциальному музею. Приехав в Токио с большими надеждами, она учредила этот центр, чтобы вместе с другими столичными жителями наслаждаться изобразительным искусством и музыкой, но никто сюда не ходит, поэтому, посоветовавшись с дочерью, она решилась закрыть галерею и концертный зал, с тем чтобы после необходимой внутренней перестройки превратить центр в элитный жилой дом и сдавать квартиры деятелям культуры, нуждающимся в жилье.
— Здесь удобно с транспортом, — сказала она, — так что на этот раз, надеюсь, все получится…
Не выдержав, я прервал ее:
— Вы держали концертный зал и картинную галерею потому, что любите музыку и изобразительное искусство?
— Разумеется, люблю, ради этого я приехала в Токио и хотела вместе с другими наслаждаться искусством…
— Но, превратив здание в жилой дом, вы изменяете своей воле.
— Ничуть. Это было бы так, если бы я просто вернулась в деревню. Но, прожив два года в Токио, я узнала этот город. Теперь мы с дочерью можем более свободно, в любое время, наслаждаться здесь любимой музыкой, искусством, театром. Мы полностью осуществили свою первоначальную волю. И шутим с дочкой, что усилия, потраченные в течение этих двух лет, — высокая плата, которую нам пришлось заплатить за обучение…
— Собрание, наверно, вот-вот начнется, оно на втором этаже?
— Зал на первом.
Я сильно заторопился, спустился с грехом пополам по длинной узкой лестнице, опираясь на палку, и вышел к боковому входу в зал. Человек из Общества сразу провел меня в зал.
Это был небольшой концертный зал, слева бросался в глаза рояль, но трибуны для выступлений не было. Сидя за столом, член Общества Ёсико Сугита читала доклад. Меня провели в зал, и какая-то женщина, сидевшая в первом ряду, уступила мне место.
Молча поклонившись выступавшей, я сел и успокоился, но плохо слышал голос госпожи Сугита, говорившей в микрофон. Правда, мой слух ослаб, но все же не настолько. Уж не испортился ли микрофон, заподозрил я, но тут меня одернул Небесный сёгун:
— Естественно, что ты не слышишь. Слушаю — я!
Вот в чем дело! Я грустно улыбнулся и стал осматривать зал.
Это был тесный зальчик, в котором едва могла вместиться сотня человек, но был он, кажется, полон и почему-то погружен в полумрак. Встретивший меня у входа А. присел на стул. Наверно, он ведущий… Впрочем, о том, что это концертный зал, свидетельствовал лишь рояль, своей величественностью мозолящий глаза. Если б здесь не доклады читали, а устраивали концерт, музыка бы звучала ужасно громко…
Тут раздались бурные аплодисменты, и госпожа Сугита раскланялась. Я тоже похлопал и поблагодарил ее взглядом. Тут ведущий сказал:
— Просим господина Накамуру! — и отошел в сторону.
В это время Небесный сёгун обратился ко мне:
— Теперь исчезни! Я тебя представляю. Но сделаю так, чтобы ты слышал выступление Накамуры. Слушай внимательно. Понятно?
Вскоре появился Накамура. Его встретили бурными аплодисментами. Накамура, стоя на том же месте, где до него выступала госпожа Сугита, поклонился, и тогда я, сидевший в первом ряду, встал и, к своему удивлению, отвесил глубокий поклон. Накамура, назвав тему своего выступления — «Место Кодзиро Сэридзавы в современной литературе», медленно заговорил.
Сжав коленями палку, я внимательно смотрел на стоящего передо мною Накамуру. Как же он постарел! — сокрушался я.
Когда мы с ним встречались в последний раз? Уже больше десяти лет мы не виделись. Посылаем друг другу вышедшие книги, с удовольствием читаем все, что каждый из нас публикует, но встретиться все как-то не доводилось. Ведь я не хожу на мероприятия, имеющие отношение к литературному истеблишменту, а он тем временем постарел, ему уже, наверно, семьдесят. Впрочем, семьдесят лет не слишком отличаются от девяноста, поэтому во мне укрепилось чувство родства и доверия к нему.
Накамура рассказывал на конкретных примерах о том, что в то время, когда я вступил на литературное поприще, и вплоть до начала войны типичный японский писатель был бедным, неприкаянным, презираемым всеми как антиобщественный элемент, после чего заявил, что среди всех этих писателей я выделялся по-человечески достойной и безупречной жизненной позицией… Затем рассказал, как однажды посетил меня, и спросил, есть ли тайный рецепт, как стать писателем, и я ответил: «Если у тебя есть твердая уверенность, что можешь писать три страницы в день, становись писателем!» Мои слова придали ему решимости, и потому он считал меня своим благодетелем… По его словам, я добился замечательных результатов, мои книги не уступают произведениям великих французских романистов, и, назвав их по именам, он в восторженных выражениях сравнивал их творчество с моим…
Слушая, я внутренне соглашался, но вообще-то главная причина моих успехов не в том, что я какой-то особо выдающийся или даровитый. Я обычный человек, но из-за того, что с детства был так несчастен, в моей душе скопился изрядный запас горечи и обид, вот, собственно, и все. Кроме того, в зрелом возрасте я перенесся из феодальной Японии в демократическую Францию и прожил там три года в напряженных занятиях, стараясь усвоить все стороны французской культуры. Вдобавок я заболел туберкулезом, считавшимся неизлечимой болезнью, и боролся за жизнь в высокогорной клинике Отвиля вместе с тремя молодыми французами, учеными и высокообразованными людьми, став для них братом, провел с ними год, а затем, вернувшись в Японию, по счастливой случайности опубликовал свое первое произведение, но так и не смог стать «японским писателем» и жил так, как живут писатели во Франции. К тому же я начал заниматься писательством только потому, что в течение десяти лет, обреченный на «природное лечение» туберкулеза, не мог выполнять никакую другую работу.
Накамура говорил обо мне как о человеке материально обеспеченном, но европейский особняк, в котором я жил до войны, был резиденцией тестя, промышленника в Нагое, и мы с женой, по сути, всего лишь присматривали за домом. Жизнь наша тогда была не особенно легкой, но протекала в духе любви, равенства и братства — основ французской духовной культуры, и в том же духе я старался обходиться со всеми, с кем меня сводила судьба, поэтому окружающие, возможно, считали меня материально благополучным человеком. Но в действительности я был нищим.
Особенно когда после войны, потеряв в пожаре все свое состояние, чтобы не заморить голодом семью из пяти человек, я стал батраком, возделывающим пером рукописи, и днем и ночью, без отдыха, писал все, что мне заказывали. Даже моя жена стала женой батрака. Сейчас мне стыдно за многое из написанного тогда, многое я хотел бы уничтожить…
Накамура неизменно давал высокую оценку моим произведениям, расхваливал меня, но я бы с удовольствием переадресовал эти хвалебные слова самому Накамуре. Когда несколько лет назад Шведская академия поручила мне выдвинуть японских и французских писателей, достойных Нобелевской премии, я предложил трех японцев. Один, Ясунари Кавабата, премию получил. Другим был не кто иной, как Синъитиро Накамура. На иностранные языки переведено мало его произведений, но я послал в Нобелевский комитет его книги, выразив в сопроводительном письме уверенность, что его кватрология «Четыре времени года» найдет широкое признание, и понадеявшись, что члены отборочного комитета каким-нибудь способом, может быть сделав перевод, познакомятся с его творчеством и еще при моей жизни присудят ему Нобелевскую премию.
Об этом я думал, с почтением глядя на Накамуру и слушая его. Как только его прекрасное выступление закончилось, я, превратившись в Небесного сёгуна, быстро встал, вышел вперед и, когда Накамура, поклонившись, поднял глаза, пожал ему руку, коротко поблагодарил и, проследовав за ним из зала, проводил до выхода. Вокруг меня столпились знакомые мне читатели, все наперебой восхищались выступлением Накамуры, а я только кивал в ответ.
Видимо, теперь должен был начаться концерт, по крайней мере служащий отставил стол и начал двигать рояль. Те, кто был в зале, стали выходить на улицу. Вскоре потянулись к выходу и окружившие меня люди, и я наконец смог встать.
Стоянка снаружи была запружена людьми. Небесный сёгун, заметив меня, бросил:
— Председатель Общества проводил господина Накамуру до станции. А ты — домой?
Я позвал дочь, и она посадила меня в машину. Приехали. Дочь вернулась в концертный зал, а я вместе с Небесным сёгуном уселся на диване в гостиной и тяжело вздохнул.
С тех пор как я покинул зал, меня не оставляла одна мысль.
Шестьдесят лет назад на литературном факультете Сорбонны, в аудитории № 40, выступал любимый ученик Жида Анри К. с докладом на тему: «Место Андре Жида в современной литературе». В зале собрались не только студенты, но и просто почитатели творчества писателя, мужчины и женщины, человек триста. Зал был переполнен. И атмосфера в зале, и обстановка очень напоминали сегодняшнее мероприятие. Вместо Накамуры стоял и говорил Анри К. На моем месте сидел сам Жид. Я же сидел на пять рядов позади него…
Как только Анри закончил выступление, Жид подошел к нему, пожал руку, коротко поблагодарил и вышел вместе с ним из зала. Точно так же вел себя Небесный сёгун в отношении Накамуры.
Вернее, видя, как Небесный сёгун обходится с Накамурой, я внезапно вспомнил литературное собрание с Жидом шестидесятилетней давности.
И терялся в догадках, почему Небесный сёгун подражал Жиду.
Опустившись на диван в гостиной, я, разумеется, перво-наперво искренне поблагодарил Небесного сёгуна:
— Спасибо за услугу, очень тебе признателен.
Впервые я обращался к Небесному сёгуну с такими ласковыми словами. Некоторое время мы молчали, после чего Небесный сёгун тихо сказал:
— Бог радуется! Вчера был день радости Бога, сегодня — день твоей радости.
Мягкость его тона удивила меня, я поднял на него глаза, а он продолжал:
— Бог печалится, что твое творчество не оценено по достоинству в этой стране. Став писателем, ты провозгласил: «Литература облекает в слова неизреченную волю безмолвного Бога». Легко сказать, сделать трудно. Вот и ты много лет отдавал все силы, но в конце концов понял, что потерпел поражение. Поэтому приготовился к смерти. Совершил, так сказать, самоубийство в отношении журналистики. С того времени твое творчество перестали ценить в этой стране, не ценят и теперь. Но с тех пор как ты умер, чудесным образом подтвердилось твое убеждение, что литература облекает в слова неизреченную волю Бога. Бог возрадовался!.. Сколько было людей, которые, прочитав «Человеческую судьбу», перестали помышлять о самоубийстве! Как много людей обрели мужество продолжать жить!.. Потому что это и есть истинная литература!
— У меня нет таланта… я не способен создать подлинное произведение искусства, и мне стыдно за это перед Богом…
— Вот что, слушай внимательно! Бог, желая отблагодарить тебя за труд, выбрал самого выдающегося писателя этой страны и попросил высказаться о твоем творчестве. Я слышал, и ты слышал. Твои читатели были безмерно рады, что наконец-то ты оценен по достоинству. Бог тоже этому радовался… Ты начал писать, осознав, что именно в этом твое призвание, данное тебе Великой Природой. И на протяжении долгой жизни осуществлял свою волю, посвятив себя литературе. Поэтому, приступив к Спасению Мира, Бог попросил тебя помочь ему своим пером. И эти четыре года, отрекшись от своего «я», ты потрудился на славу. В награду Бог даровал тебе силы… Для Бога-Родителя Великой Природы все люди — возлюбленные чада, поэтому Он всем равно дает предназначение. Всякий, кто это поймет и всю жизнь будет стараться исполнить свое предназначение, обязательно преуспеет. А тому, кто, отбросив алчность и высокомерие, будет праведен душой. Бог дарует еще и удивительные силы. Разве не об этом ты пишешь в «Воле человека», в пятой части книги о Боге?
Я так расчувствовался, что не мог вымолвить ни слова.
— Вчера Бог радовался за все человечество. А сегодня рад за тебя! Ибо все, видевшие тебя сегодня, почувствовали, как в твоем облике проступает идея, которую ты хочешь выразить в «Воле человека». Перестань тревожиться о пятой части. Бог сказал, что тебе можно немного расслабиться…
Не в силах больше сдерживаться, я поднялся, вошел в кабинет, сел за широкий письменный стол и положил на него голову, слезы вскипели, я едва сдерживался.
Не знаю, как долго это продолжалось, но только, очнувшись, вижу — рядом со столом стоит Небесный сёгун. Смотрит на меня с грустью.
— Я только и делаю, что причиняю Богу беспокойство, я очень виноват! — сказал я, вытирая слезы.
Схватил шариковую ручку и склонился над рукописью. Эту великолепную шариковую ручку подарил мне Кэндзабуро Оэ, видимо, выискав где-то за границей: железная, толщиной и весом она напоминает мою любимую ручку «Монблан», писать ею очень удобно.
Этой ручкой я, воспрянув душой, вывел на листе бумаги: «12 глава» — и сказал себе: если я не приложу стараний, Оэ будет вправе посмеяться надо мной. Но тут вошла дочь и сообщила, что явилась госпожа Родительница.
Я не торопясь спустился вниз. Госпожа Родительница, уже облачившись в алое платье, ждала меня в комнате с циновками. Я поспешил извинился, что заставил себя ждать, и сел перед ней.
Госпожа Родительница сразу начала говорить. Голос у нее тихий, мне с моим тугим слухом правильно понять содержание ее слов трудно, но обычно я слушаю, ни о чем не беспокоясь, поскольку знаю, что после смогу внимательно прослушать запись на пленке. Однако на этот раз я был в смятении и, как ни напрягал слух, ничего не улавливал, только приходил в еще большее замешательство.
Какая досада! Не могу расслышать, о чем она говорит!.. Я постарался успокоиться. Не знаю, как долго это продолжалось, но наконец слова госпожи Родительницы понемногу начали достигать моего слуха.
— Второго декабря люди во всем мире узрят на острове Мальта в Средиземном море истинный образ того, чему так возрадовался Бог одиннадцатого ноября, и воспоют гимн ликования и благодарности. Смотри в этот день телевизор! Лидер коммунистической России Горбачев и лидер США Буш, впервые проникшись божественным духом, встретятся на Мальте, обсудят наиважнейшие проблемы мира, о которых печется Бог, и примут по ним решения… На этом холодная война закончится, и мы встретим новую зарю… Зарю «жизни, полной радости», предписанной Богом. Да, это первый шаг на пути к Спасению Мира. Отныне Бог во всех областях человеческой деятельности, в каждой узкоспециальной отрасли, отделив хорошее от плохого, устранив все лживое, пестуя все доброе, создаст прекрасную культуру, великолепную цивилизацию… То-то радость!
Да, Кодзиро, своим пером ты помогал Богу спасать мир. Бог доволен… Продолжай же своими книгами радовать людей! Бог хочет, чтобы ты писал еще лет тридцать… И чтобы тебя читали на протяжении тысячи, двух тысяч лет! Ради этого Бог дарует тебе «сокровище жизни». Второго декабря, в радостный день Мальты… Тогда ты действительно сможешь прожить еще долго-долго и насладиться в этом мире «жизнью, полной радости»… До сих пор я, чтобы тебя подвигнуть, ругала тебя, отчитывала, только и делала, что упрекала, и никогда ничем не радовала… Но сегодня, узнав, что Бог ниспосылает тебе «сокровище жизни», я поспешила к тебе, чтобы поскорее обрадовать… Спасибо за труды!
Госпожа Родительница ушла, а я не мог даже вымолвить слова благодарности, не мог приподняться, так и сидел на циновке и не проводил ее. Мне казалось, стоит мне пошевельнуться — и я разражусь рыданиями…
Глава двенадцатая
В последние, самые несчастливые для меня месяцы войны я читал французские и японские книги о жизни Иисуса Христа и христианстве — те, что отыскались в моей библиотеке. Во-первых, потому что мой названый брат, адмирал Хякутакэ, посоветовал исподволь готовить душу к послевоенной жизни, но также потому, что с приближением мира меня все сильнее захватывала радостно волнующая мысль о клятве, которую я и три моих товарищах дали в Отвиле на Пасху в тот год, когда мне было тридцать три, — встретиться вновь на Пасху через двадцать пять лет.
Расставаясь, мы говорили, как, посвятив эти двадцать пять лет избранной работе, вместе порадуемся при встрече, рассказывая друг другу о значительных результатах, которых смогли добиться.
Астроном Жак сказал, что приложит силы к изысканиям во всех тех областях, которые позволят человеку совершить полет в космос. Морис — что прекратит заниматься экономикой и будет помогать в работе отцу, имеющему бизнес на юге Франции, заботясь об общественной пользе. Жан, племянник знаменитого скульптора, — что бросит науку, чтобы заняться производством и продажей женской одежды, и прежде всего постарается освободить женщину от корсета.
Несмотря на то что все трое были молодыми учеными и католиками-позитивистами, они постоянно увлеченно рассуждали о Силе Великой Природы — Едином Боге. Я не знал, как соотносится эта Сила Природы с Богом христианства, но они не посещали католического храма в Отвиле и называли заснеженную возвышенность на высокогорье «нашим святилищем», часто брали меня с собой, и мы вчетвером молились на ней и возносили священные гимны. Я часто расспрашивал Жака, но он всякий раз отвечал, что если я не познакомлюсь с христианством, я не смогу понять самых простых его объяснений. Однако в то время я не находил в себе душевных сил, чтобы изучать христианство.
С тех пор прошло худо-бедно тринадцать или четырнадцать лет. Вскоре, через десять лет, мы должны вновь встретиться. К этому времени мне хотелось иметь собственное ясное мнение о Силе Великой Природы — Едином Боге, в которого верили три моих товарища. Вот я и решил, что настал подходящий момент узнать, что из себя представляет Иисус Христос и христианство.
Вначале я взялся за жизнеописание Христа. Я не только читал. Читая, я сосредоточенно размышлял. При этом я постоянно вспоминал слова, которые Жак говорил на высокогорье в Отвиле, и углублял тем свои размышления…
В результате за каких-то два года я приобрел удовлетворившие меня общие знания и представления об этом предмете, какими бы наивными они ни показались… Коротко изложу их.
Сила Великой Природы — Единый Бог сошел на Иисуса, поведал о любви Бога к людям и сообщил благую весть: если люди будут любить друг друга, то обретут мир и счастье. Благая весть, которой поучал Иисус, стала основой прекрасной религии — христианства, но в процессе существования организации под названием христианская церковь исподволь в нее проникли эгоизм, себялюбие и даже жажда власти, церковь отклонилась от того, чему учил Иисус, и даже среди братьев по вере дошло до религиозных войн. Чтобы почерпнуть подобные поверхностные сведения, достаточно ознакомиться с какой-нибудь одной популярной книжкой, но мне этого было недостаточно. Сколько потребовалось преодолеть трудностей и препятствий, пока я не уверовал в Силу Великой Природы — Единого Бога!
Слово «Бог» не сходит с языка, многие вроде бы верят в существование Бога, но, по моим скромным наблюдениям, в действительности в Бога мало кто верит.
Если вдуматься, кого под именем Бога почитают в наших храмах, в кого веруют, то окажется, что это — люди, когда-то помогавшие своим ближним или имеющие выдающиеся заслуги перед государством, или же священные предметы вроде «трех сокровищ» императорского трона, дошедшие до нас из глубины веков как историческое предание.
Для людей, возводивших храмы, они, возможно, были своеобразным объектом поклонения, но к жизни современных людей они не имеют никакого отношения и, разумеется, не являются Богом.
В последнее время в Японии, как эпидемия, распространяются новые веры и религии, но когда познакомишься с ними поближе, понимаешь, что во всех предмет культа — творение человеческих рук, какое уж тут бытие Бога!
Уж лучше думать, что Бога нет. Когда-то и я так думал.
Но что касается меня, Великая Сила Природы, о которой мне так часто проповедовал астроном Жак, внезапно пробудилась в моем сердце, и я стал о ней серьезно размышлять.
Благодаря Жаку я стал понимать, что такое космос. Я приобрел широкие знания о безграничной Вселенной, о Солнце, Луне и звездах, которые можно наблюдать простым глазом, и не мог надивиться тому, что Солнце, Луна, звезды, наша планета, как, впрочем, и вся Вселенная, движутся по траекториям, никогда от них не отклоняясь. Жак говорил, что это вполне естественно, поскольку все движет Сила Великой Природы, и старался объяснять мне, что это за Великая Сила.
Если кратко изложить его теорию. Сила Великой Природы на протяжении долгих десятков миллионов лет существовала во Вселенной, являвшейся миром смерти, пока не задумала себе в утешение сотворить на Земле живые существа. Это (как рассказано в «Сказании о Море грязи») заняло десятки миллионов лет, но наконец ей удалось создать человека, и на свет появилось наше современное человечество, поэтому именно Сила Великой Природы — Родительница человека, и если существует Бог, то это Сила Великой природы — Единый Бог…
И не один только астроном Жак, все три моих товарища в Отвиле верили в Силу Великой Природы, верили, что этот Единый Бог сошел на Иисуса и проповедовал ему любовь.
В конце войны, в это несчастное для меня время, я, прочитав несколько книг о жизни Иисуса, мучительно размышлял, способен ли я поверить в Силу Великой Природы как в Единого Бога, но как-то ночью произошла удивительная вещь. Я услышал голос Жака, говорившего по-французски:
— Стань душой трехлетним ребенком! Тогда сможешь уверовать. Ибо вера не имеет отношения к религии. Веруя, обретешь силу, и перед тобой откроется новый мир. Если же не уверуешь, при нашей будущей встрече ты не сможешь понять моих слов…
Удивившись, я повернулся на голос, но там никого не было.
В моей комнатке, совмещавшей кабинет и спальню, спрятаться было негде. Я опустился на стул у письменного стола, но тело мое продолжала бить дрожь. Жак! Жак! Жак! — трижды позвал я, но ответа не было, на глаза навернулись жаркие слезы, я положил голову на стол, но слезы текли и текли.
Даже по прошествии лет случившееся кажется чудом, но в тот несчастливый период, когда я страдал в одиночестве. Сила Великой Природы, в которую верили три моих отвильских брата, сжалившись надо мной, внезапно явилась, дала мне силы и желание жить, поэтому я плакал слезами восторга и благодарности.
Передо мной не стояло проблемы, верить или не верить. Мысль о том, что через какое-то время я смогу встретиться с тремя моими друзьями, придавала мне сил, я смог искренне уверовать в Иисуса и, проводя каждый день в радости, научился не замечать невзгод. Это произошло благодаря Силе Великой Природы, и я мечтал рассказать об этом своим троим друзьям.
Через несколько дней после того, как я обрел веру, я вместе с третьей дочерью эвакуировался на дачу в Каруидзаве. Через пять месяцев крупные японские города, за исключением Киото и Нары, подверглись массированной бомбардировке и были сожжены в ходе рейдов американской авиации, японская армия капитулировала, долгая мучительная война закончилась, и началась жизнь в условиях американской оккупации.
Настало ужасное, голодное время, когда уже трудно было говорить, что «поражение лучше победы». Радовало только, что японская военщина прекратила свое существование…
Но смог ли я, в конце концов, вновь встретиться с моими тремя друзьями и исполнить нашу клятву?
Более, чем кого-либо другого, я хотел известить их, что благополучно дожил до окончания войны. Хотел рассказать, что уверовал в Силу Великой Природы и обрел счастье. Но у меня сгорели записные книжки и дневники с их адресами, я не мог послать им письма.
Как я уже писал выше, на шестой год после окончания войны оккупационные власти позволили мне присутствовать в составе японской делегации на международном съезде ПЕН-клубов в Лозанне, на обратном пути я заехал в Париж, и знаменитая газета «Фигаро» в связи с выходом французского перевода «Умереть в Париже» напечатала обо мне большую статью, благодаря чему, к моей радости, меня разыскали многие из моих старых друзей и знакомых, но от трех моих дорогих друзей никаких вестей не было.
По этой причине я решил съездить в Отвиль и попытаться узнать их адреса в высокогорной клинике. Но к этому времени туберкулез стал обычной болезнью, поэтому клиника закрылась, и я нашел лишь унылую зимнюю деревню. Спросил в деревенской мэрии, но там никто ничего не знал.
Во время этой бесплодной двухдневной поездки я вдруг вспомнил название научного института Жака. Вернувшись в Париж, я отправился туда, и мне сообщили, что накануне вторжения немецких войск во Францию Жак бежал в Голландию, надеясь перебраться в США, и там погиб. Вновь при мысли о войне я почувствовал гнев и печаль.
Мы часто обсуждали с женой, что сталось с двумя другими, и я говорил, что раз мы поклялись, то непременно когда-нибудь встретимся. На что жена всегда отвечала:
— Так же как они, ты уверовал в Единого Бога, поэтому Бог непременно устроит вам встречу.
И вот что произошло, когда мне было шестьдесят восемь, одним осенним утром. Я в кабинете писал «Любовь и смерть», третий том второй части «Человеческой судьбы», когда жена воскликнула:
— Они таки живы! — и протянула мне письмо в заграничном конверте.
Я взглянул и поразился — письмо было от Мориса Русси. Поспешно открыл конверт.
Написано по-французски, неразборчивым почерком. Письмо через тридцать пять лет после разлуки! Навернулись слезы, я никак не мог разобрать написанное, но общий смысл был таков.
Он получил приглашение от университета города Монпелье на юге Франции, с которым был тесно связан по работе, на празднование столетнего юбилея основания университета. Приглашение его обрадовало. К своему удивлению, он узнал, что в этом провинциальном университете учатся несколько японцев, и добился с ними встречи. На этой встрече с семерыми студентами он упомянул мое имя и спросил, не преподаю ли я в каком-нибудь университете, но все они с гордостью принялись ему рассказывать, какой я ныне знаменитый писатель. Адреса моего никто не знал, но они сказали, что если послать письмо в издательство, оно обязательно дойдет, и дали ему адрес издательства. На следующий день он позвонил в японское посольство, и ему сразу же дали мой адрес. После расставания и клятвы встретиться через двадцать пять лет он продолжал обо мне помнить, но, не зная моего адреса, не мог со мной связаться. Но почему ему не пришло в голову сразу же справиться в японском посольстве? Если бы он это сделал десять лет назад!.. Был бы жив Жак, как бы он посмеялся над его недогадливостью! Но, увы, он погиб во время войны. Жан, как и желал, добился успеха в производстве и торговле женской одеждой и держал в Париже магазин. Сам же Морис Русси унаследовал дело отца, успешно вел бизнес на юге Франции и жил счастливо.
Все трое, выжившие в эту труднейшую эпоху, мы добились успеха в работе и обрели счастье по благодати Силы Великой Природы, о которой нам проповедовал наш гениальный друг Жак, ей должны мы воссылать благодарность. На этой фразе письмо заканчивалось.
На следующий день пришло письмо от Жана, и я стал переписываться с двумя друзьями, предвкушая день, когда мы сможем встретиться.
Однако из-за работы над «Человеческой судьбой» у меня не было времени поехать во Францию, да и лечащий врач не позволял заграничных вояжей, поэтому я никак не мог приблизить радостную встречу. «Может, пригласить их к нам?» — предлагала жена, и я пригласил друзей приехать в Японию во время вакаций, пообещав прислать билет на самолет в оба конца, но и тот и другой отклонили мою просьбу, сославшись на занятость.
Мне тогда было семьдесят шесть. В то время было решено организовать в Киото Международный съезд по изучению японской культуры с главным устроителем в лице японского ПЕН-клуба, и в ходе подготовки появилась идея пригласить на съезд нескольких всемирно известных писателей. Находящимся в этих странах японским писателям поручили узнать лично, смогут ли те присутствовать. Тут выяснилось, что с французом Андре Моруа и советским К. К. должен непосредственно переговорить председатель японского ПЕН-клуба. Меня, председателя, попросили обязательно их посетить и лично попросить об участии. Программа была короткой: одна ночевка в Москве, две — в Париже.
В мои семьдесят шесть такая заграничная поездка была для меня делом нелегким, я колебался, но, подумав, что смогу увидеться в Париже после сорока лет разлуки с моими друзьями Морисом и Жаном, принял решение, несмотря ни на какие трудности, ехать.
В 1972 году, утром двадцать первого мая, я прибыл в знаменитую парижскую гостиницу на Елисейских Полях. Это была та самая гостиница, в которой сорок восемь лет назад мы с женой впервые остановились, приехав в Париж учиться. Памятная мне гостиница нисколько не изменилась. Однако я не стал предаваться ностальгическим воспоминаниям и сразу позвонил на работу Морису.
— Президент компании четыре дня назад вместе с делегацией промышленников из своего региона уехал с визитом в Америку, вернется не раньше, чем через десять дней…
Я достаточно знаю французский, чтобы понять эту фразу, но я не мог поверить своим ушам, ведь я специально приехал из Японии, и я повторил свой вопрос.
— Президент компании не назначал вам встречи? Он должен вернуться первого июня…
— Но я двадцать третьего возвращаюсь в Токио!
Я повесил трубку и позвонил Жану.
— Вам нужен Жан Бродель? — Возникла пауза, я решил, что он вышел, и приготовился ждать, когда мне было сказано: — Господин Бродель в начале мая отделился от нашей компании и должен сейчас находиться, как и раньше, в Мексике. Он уже никак не связан с Парижем. Вы знаете его мексиканский адрес? Тот же, что и прежде…
В отчаянии я швырнул трубку. Стоило бросать все и тащиться в такую даль! Меня охватила бессильная ярость.
Вечером молодой литературный критик К. привел меня в дом Андре Моруа. Я сразу понял, что К. вхож к этому великому писателю — Моруа встретил меня очень любезно и охотно согласился принять участие в съезде. На этом моя миссия закончилась.
В тот вечер юный К. расхвалил мне новую постановку «Кармен» и обещал сводить в «Опера комик». Я попросил его купить билеты, сказав, что приглашаю его с супругой, после чего решил немедленно написать письма двум моим друзьям. Писать письма по-французски на почтовой бумаге, предоставляемой гостиницей, было много проще, чем в Токио.
Узнав, что ужин, как и сорок восемь лет назад, подают в заднем саду под деревьями, я
отправился в сад. Было еще светло, но ужинающих посетителей было уже много. Все же мне нашли место. Стол был рассчитан на двоих, но я сидел один.
Я весь ушел в воспоминания: сорок восемь лет назад за этим столом я впервые встретил капитана Хякутакэ, а уже через десять дней мы поклялись быть братьями, и всю свою последующую жизнь он оберегал меня как младшего брата. В последний раз, когда мы вместе провели ночь в гостинице на озере Хамана, он говорил мне оптимистически: «Сейчас я военный преступник, но после того как заключат мирный договор, я смогу жить независимо, верну свое состояние, вот тогда-то мы вдвоем махнем во Францию, живущую по принципам свободы и независимости». Он умер, не осуществив своего желания. Вспомнив об этом, я подозвал старого официанта, заказал шампанского и попросил принести еще один бокал. Увидев удивление на его лице, я объяснил, что три десятилетия назад провел в этой гостинице несколько дней с братом, он умер, и я хотел бы выпить с духом покойного.
Официант кивнул, положил еще одну салфетку, поставил рядом два бокала, с хлопком открыл пробку, наполнил пенящимся шампанским поднятые мною два бокала и, молча поклонившись, удалился.
Я чокнулся двумя бокалами и, призвав дух брата, попеременно поднес ко рту бокалы с пенным вином. После чего, не обращая ни на кого внимания, под напором нахлынувших чувств, погрузился в воспоминания.
На следующий день мне нечем было заняться до вечера. Многие из моих старых друзей умерли, но кто-то еще был жив, однако, то ли из-за возраста, то ли от усталости, мне не хотелось никому звонить. И вдруг меня захватила мысль посетить могилу гения Жака.
Впервые после окончания войны я попал в Париж двадцать один год назад, и тогда, вспомнив, в каком научном институте работал раньше Жак, я нанес туда визит, и один из его друзей сообщил мне о смерти Жака. Этот друг после войны перенес его останки из Голландии в Париж и захоронил их, поэтому он смог мне объяснить, где расположена могила. Но в то время мне не хотелось думать, что Жак умер, и на его могилу я не пошел.
Однако на этот раз, придя в отчаяние от того, что моя мечта повидаться в Париже с двумя из своих прежних троих друзей так и не сбылась, я вдруг нестерпимо захотел встретиться с покойным Жаком.
По словам его приятеля, достаточно пойти на кладбище Пер-Лашез и спросить у кладбищенского сторожа о могиле с надписью «Здесь покоится гений Жак», и тот сразу все поймет.
— Гений Жак — так мы его звали при жизни, — сказал он с грустью.
И вот я с утра пошел на указанное кладбище. Прежде всего меня удивило, что внутри Парижа находится такое огромное кладбище. Увидев старика, похожего на сторожа, я, сунув ему чаевые, попросил провести меня к могиле Жака.
Старый сторож несколько раз задумчиво повторил:
— Здесь покоится гений Жак… — и наконец сказал: — Вроде бы там.
Он повел меня, но такой могилы мы не обнаружили.
— Ну тогда там! — сказал он.
Мы пошли дальше. На третий раз могила нашлась. Невысокий каменный крест, на поперечной планке — полустертая, но читаемая надпись: «Здесь покоится гений Жак».
«Жак, это я, Кодзиро! Проснись!» — безмолвно взывая, я погладил крест, опустился перед ним на колени и помолился.
Прошло какое-то время, и у меня над головой раздался голос Жака:
— Мой дорогой Кодзиро! Я ждал тебя, чтобы попросить у тебя прощения. В Отвиле, на Пасху, мы четверо, бывшие друг другу как братья, расстались, поклявшись встретиться через четверть века, когда каждый из нас добьется успеха в избранном деле и обретет счастье… Наша клятва в тот момент доподлинно выражала волю каждого. Поэтому и клятва и воля, коль скоро мы от них не отреклись, должны были осуществиться. Но я слишком возомнил о себе и помешал… Прости меня! В то время я сказал вам: «Давайте ничего не сообщать друг другу о себе в течение двадцати пяти лет, пусть каждый ревностно возьмется за свое дело». А надо было, напротив, постараться все эти двадцать пять лет держать связь и приободрять друг друга… Мне постоянно твердили о моей гениальности, и я незаметно для себя стал переоценивать свои способности и решил: чтобы полностью их реализовать, мне лучше работать в одиночку. Из-за этого я перестал следовать воле Великой Природы и вскоре был захвачен Миром явлений… Прости меня! Пребывая в Истинном мире, я стараюсь сделать все для трех моих братьев.
«Жак!» — хотел я позвать, но звуки застряли в горле, и я пал ниц под крестом.
— Милый Кодзиро, не увлекайся излишне прошлым, старайся работать на будущее!.. Нет другого Бога, кроме Силы Великой Природы, так верь же в Великую Природу!.. И кстати, не можешь ли передать Жану? Он занялся пошивом женской одежды для того, чтобы освободить женщину от корсета, и добился прекрасных результатов. Но у него не было намерения становиться производителем и торговцем женской одежды. Он делал это ради облегчения жизни женщин. Поэтому посоветуй ему передать дела сыну и, вернувшись во Францию, посвятить себя делу освобождения женщин. Как Морис, который, преуспев в бизнесе на юге Франции, посвятил себя движению за всеобщее благосостояние… Помнишь утро Пасхи двадцать девятого года? Мы четверо, дружившие как братья, поднялись на наше святилище, и, помолившись Богу Великой Природы, дали друг другу клятву и расстались. Тогдашняя клятва и наше решение, наша воля продолжают жить. Мы не должны отступать от них. С тех пор как я попал в Истинный мир, я только об этом и пекусь. Так же как ты, как Морис, не жалея сил… Только Жан забыл об этом. Напомни ему! Ради его же счастья… Вот моя просьба! Мы с тобой еще увидимся, а пока держись! Будь здоров!
Пораженный, я вскочил, хотел удержать его, но вокруг меня простиралось унылое незнакомое кладбище…
(Позже и я и Морис, следуя совету Жака, пытались убедить Жана передать дела сыну и вернуться во Францию, но он не послушался. В 1985 году Жан Бродель погиб во время землетрясения в Мексике.)
Итак, наступило второе декабря, когда на Мальте открылась советско-американская встреча на высшем уровне, которой так ждал Бог-Родитель Великой Природы. Я с утра не мог успокоиться. Но вдруг сообразил, что встреча начинается в десять часов утра, а это по японскому времени — шесть вечера. О ходе переговоров должны были сообщить только утром третьего, поэтому я, успокоившись, засел в кабинете и погрузился в рукопись.
Однако в половине пятого, без всякого предупреждения, пришел юноша Ито. Когда я спустился вниз, он, как обычно, сидел на диване в столовой, но я сразу увидел, что выглядит он усталым и нездоровым. Дочь принесла фрукты, сладости, чай, но он ни к чему не притрагивался.
— Может съешь хотя бы мандарин — с моей родины, необыкновенно сладкий и вкусный! — предложил я.
— Честно говоря, я уже целую неделю ничего не брал в рот, только спал. А сегодня днем вдруг получил от Бога приказ идти к вам… Но даже чай не могу еще пить… — Голос у него был слабый.
Внезапно изнутри меня заговорил Небесный сёгун:
— Не стоит так беспокоиться. Бог совершает последнее усилие ради сегодняшней советско-американской встречи на Мальте, для тебя же это не более чем духовное испытание. Ты молод и об этом еще не догадываешься, вот и воспринимаешь любое духовное испытание как страдание… Жди слов Бога, этого достаточно…
Ито снял часы, положил на стол и вышел обмыть руки. Вошел в японскую комнату, облачился без посторонней помощи в алое кимоно и надел таби
[38] также алого цвета — наряд девяностолетней старухи. Подождав, когда переодевание закончится, мы с дочерью вошли в комнату и опустились перед ним на циновки.
Как всегда, у нас с дочерью было полное ощущение того, что мы сидим перед самой родительницей Мики Накаяма, но на этот раз голос госпожи Родительницы звучал особенно звонко, вероятно от радости, и даже мне, глухому, был хорошо слышен.
Вначале она заговорила о том, как радуется Бог успеху переговоров на Мальте, рассказала подробно о том, как в результате изменится мир, затем поведала, что сделал Бог для того, чтобы встреча состоялась, и какую она оказывала ему помощь.
Одних этих слов было достаточно, чтобы от радости у меня посветлело на душе, но чувство благодарности за то, что она специально пришла сообщить мне, недостойному, о грядущем мире и всеобщем счастье, было таким сильным, что я затрепетал, голос ее перестал доходить до моего слуха, меня охватила паника. Но вскоре голос госпожи Родительницы послышался вновь:
— Девятьсот миллионов девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять лет назад Бог сотворил человека, возжелав видеть людей, живущих в радости… После этого, на протяжении долгой истории человечества, Он много раз избирал людей с добрым сердцем и, сообщив им помыслы и любовь Божью, учил жить в радости, но во все времена люди были обуреваемы гордыней и эгоизмом и не способны к «жизни, полной радости». Поэтому два года назад Бог, решив, что исполнились сроки, сошел на Землю и приступил к Спасению Мира. Ты знаешь об этом и о последующих трудах Бога. С сегодняшней встречи на Мальте началось осуществление Божьей воли… Она будет полностью осуществлена, и недалеко то время, когда этот мир, все люди в этом мире смогут жить в радости…
Ты славно трудился до сего дня… Тяжелое детство, всевозможные невзгоды вплоть до окончания университета… Богу все ведомо. Впервые в истории Токийского университета ты, еще будучи студентом, сумел сдать экзамены на звание чиновника высшего разряда. Все радовались, что теперь ты сможешь поступить на службу в Японский банк или в Министерство финансов и всю жизнь жить припеваючи, но ты учился в университете не ради собственного благополучия… Заявив, что хочешь помогать нуждающимся мелким арендаторам, ты стал поистине необычным чиновником. Сочувствуя твоим благим намерениям, Бог сделал так, что через три года ты поехал учиться в западную страну, достигшую «жизни, полной радости»… Во Франции двести лет назад люди, стоящие наверху, прогнили от богатства, а низы бедствовали… Точь-в-точь как в сегодняшней Японии. Никакой разницы!.. Дабы спасти Своих униженных чад, Бог произвел революцию… Однако жертвы были ужасающи, и как же скорбел Бог!.. Понадобилось еще сто лет, чтобы наконец «жизнь, полная радости», какой ее замыслил Бог, смогла осуществиться… Ты приехал туда спустя примерно сто тридцать лет после революции.
— Да, это так, но до сих пор я как-то не задумывался об этом.
— Люди в той стране, и верхи и низы, все живут «жизнью, полной радости», называемой демократией, живут в духе свободы, независимости, равенства, братства, не делают различия между людьми, и ты там пользовался теми же благами, что и французы, никто не относился к тебе как к чужаку. В личной жизни, в общественной жизни — во всем ты был француз. И вот, усвоив все, что нужно было изучить, ты собрался уже назад в Японию, когда Бог счел за благо сделать тебя больным туберкулезом… Он сразу же послал тебя в высокогорную клинику в Отвиле, свел тебя с тремя молодыми учеными, которые были словно служители Бога. Теперь понимаешь? Благодаря тому, что эти трое, как и ты, были позитивисты, ты догадался о призвании, данном тебе Богом, и принял решение стать писателем… В той стране писатель — это почитаемое всеми поприще, цель которого — «облекать в слова неизреченную волю Бога»… Осознавая всю ответственность своего выбора, ты преисполнился решимости стать писателем и, отправившись вместе друзьями на холм, который вы называли своим храмом, поклялся перед Богом. Возрадовавшись, Бог позволил вам, всем четверым, вернуться на Пасху к полноценной жизни… Ты благополучно добрался до Японии, и Бог сделал все, чтобы ты смог начать жизнь писателя… Но к этому времени ты уже перестал думать о Боге…
Япония тогда была феодальной страной, и Бог, предвидя, как тяжело тебе придется, проявил о тебе заботу. Ты смог устроить свою жизнь, по примеру европейцев, основываясь на принципах демократии. Помнишь, как-то раз у тебя был разговор со старшим товарищем по литературному цеху. Поскольку, по его словам, ты теперь стал «заслуженным деятелем культуры», он советовал тебе нанести визиты трем влиятельным в литературном истеблишменте людям, чтобы выразить им свое почтение и попросить о помощи… Ты поблагодарил своего старшего товарища, но сказал, что работаешь не ради того, чтобы сделать себе громкое имя, и отказался от каких-либо визитов. Тогда-то Бог и решил, что, когда настанет срок спасать мир, ты будешь помогать ему своим пером, и продлил тебе жизнь. Впрочем, первый шаг в деле Спасения Мира Бог совершил не без помощи написанного тобой еще задолго до нынешнего момента…
Она подробно рассказала, как в результате произошедшего люди во всем мире, особенно люди, пребывающие на самом дне страданий, обретут счастье, встретив зарю новой жизни, затем, коснувшись помощи, которую я оказываю своим литературным трудом, похвалила меня за то, что я исполнил свое волевое решение, которое принял, когда стал писателем, а именно — облекать в слова неизреченную волю Бога, и тем самым верой и правдой осуществил возложенную на меня почетную миссию, и сказала, что за это Бог ниспосылает мне подарок… Я смутился, прижался лбом к циновке и перестал что-либо слышать. А когда пришел в себя, госпожа Родительница сказала:
— Я тоже тружусь над тем, чтобы среди людей воцарился мир. Как мать, я пекусь о том, чтобы в эпоху, именуемую Хэйсэй, все люди обрели равноправие. Бог-Родитель, безусловно, наполнит всех Своей силой. Продолжай уверенно двигаться вперед! Так Он говорит. Держись! Спасибо за труд.
С этими словами она ушла.
Проводив Родительницу, я опустился на диван в столовой совершенно обессиленный.
Вскоре юноша Ито переоделся в пиджак и сел передо мной на диван. Дочь сразу же принесла чай и поставила на столик мелко нарезанные яблоки и хурму. Но Ито, вопреки своему обыкновению, ни к чему не притронулся.
— Ты все еще не можешь есть? — спросил я.
— Да, никак!
— Приляг, отдохни.
— Не могу, Бог приказал мне идти на работу! — сказал он, надевая лежавшие на столике часы, и поднялся, пошатываясь.
— У тебя все в порядке?
— Поскольку я следую велению Бога, все в порядке. Я смогу работать, как обычно.
С этими словами он направился к выходу. Я проводил его до порога, а дочь, беспокоясь за Ито, довела его до станции.
На следующее утро, третьего декабря, началась советско-американская встреча на высшем уровне.
Я крепко спал, когда внезапно меня разбудил Небесный сёгун. Я вскочил — еще только рассветало, было холодно.
— Можешь слушать лежа, — сказал Небесный сёгун.
Я вновь лег, а он, видимо, включил стоявший у изголовья радиоприемник.
Я тотчас догадался, что идет репортаж специального корреспондента с острова Мальта, и весь обратился в слух…
Встреча началась на советском пассажирском корабле «Горький», пришвартованном в заливе Марсашлокк, но из-за сильного ветра потребовался целый час, прежде чем американская делегация смогла подняться на борт, и потому пришлось внести изменения в программу переговоров. Корреспондент пустился в подробное описание возникшей ситуации, поэтому я нетерпеливо спросил у Небесного сёгуна:
— Бог с такой радостью ждал этой встречи, почему же Он позволил разбушеваться стихии?
— Это ветер радости Божьей, — ответил Небесный сёгун.
— Получается, ветер радости мешает переговорам?
— Нет, он смягчил и сблизил сердца обоих лидеров! А теперь слушай!
В эту минуту корреспондент перешел к изложению конкретных событий.
«Встреча началась в десять часов утра. Помимо глав государств во встрече участвуют с американской стороны — госсекретарь, главный советник, помощник президента по национальной безопасности, с советской стороны — министр иностранных дел, члены политбюро, советники, заместитель министра иностранных дел и другие официальные лица…»
Было трудно ухватить имена всех участников, так что я запомнил только их должности. Однако вскоре все сопровождающие лица удалились, и главы, оставив только переводчиков и секретарей, до половины второго вели беседу один на один…
«Главы СССР и США со своими помощниками продолжали переговоры за обедом до трех часов. Затем президент Буш с сопровождающими лицами переместился на американский крейсер „Белкнап“, чтобы обсудить результаты состоявшихся переговоров, после чего вновь вернулся на корабль „Максим Горький“, где начался второй раунд переговоров…»
Корреспондент сообщил, что, по данным источников из американской делегации, во время первого раунда переговоров состоялся откровенный и конкретный обмен мнениями о положении в Восточной Европе, что можно считать большим успехом, и начал подробно пересказывать содержание переговоров, но все, что он говорил, только подтверждало факты, которые ранее я уже слышал от Бога…
— Вот таким был первый день переговоров на Мальте, — внезапно сказал Небесный сёгун, — а теперь отдыхай! — и выключил радио.
Я задремал.
Очнулся — уже восьмой час. Поспешил одеться и спустился вниз просмотреть газеты. На первых страницах бросились в глаза крупные заголовки: «Переговоры о новом мировом порядке после холодной войны», «Советско-американская встреча на высшем уровне на Мальте началась», «Обмен мнений о положении в Восточной Европе», «Переговоры о сокращении стратегических вооружений — подтверждается движение в сторону прорыва», «Америка окажет помощь перестройке». Были помещены большие фотографии двух лидеров, пожимающих руки на корабле «Максим Горький».
Я всегда внимательно рассматриваю фотографии президента Буша и Председателя Верховного Совета Горбачева, и впервые их лица выражали такую радость. Я успокоился и, не читая статей, пошел в ванную.
Утром четвертого декабря Небесный сёгун вновь разбудил меня и включил радио. Опять послышался торопливый говорок, видимо, того же, что и накануне, специального корреспондента.
По его словам, второй день переговоров на Мальте начался на корабле «Максим Горький» в то же время, что и накануне, и закончился успешно. Главы обоих государств тут же на корабле, впервые в истории, дали совместную пресс-конференцию. Перед началом пресс-конференции главы государств зачитали десятиминутный текст декларации, а затем перешли к ответам на вопросы по существу…
Я слышал отчетливо, поскольку текст декларации передали в японском переводе, и ее содержание только подтверждало то, что я слышал от Бога-Родителя Великой Природы. И я, и Небесный сёгун заплакали слезами радости и умиления.
Во время ответов на вопросы осуществлялся синхронный перевод на русский и английский языки, поэтому в какой-то момент показалось, что я слышу слитный хор голосов Буша, Горбачева, переводчика с русского, переводчицы с английского и корреспондентов, задающих вопросы. Более того, этот хор, казалось, исполняет гимн благодарности и хвалы Великой Природе, так что и я, дивясь, обратился к Великой Природе и вознес радостную молитву…
Утренние газеты опять сообщали на первых полосах о переговорах на Мальте, пестрея крупными заголовками: «Прогресс на советско-американских переговорах», «От холодной войны к новой эпохе», «Переговоры о сокращении вооружений: в будущем году достигнуть согласия», «Восстановление экономики в СССР, Америка предоставит всестороннюю помощь». Статьи подробно рассказывали о том, какое влияние окажет успех переговоров на различные области международной жизни.
Просмотрев газеты, я растроганно сказал Небесному сёгуну:
— Представляю, как Бог-Родитель Великой Природы радуется всему этому!
— Ты сам обрел сердце чистое, как у трехлетнего младенца. Вот что радует Бога.
— Наверно, Бог радуется, что демократическое движение, начавшись в Польше и Венгрии, распространилось и стало освободительным движением в Восточной Германии, Болгарии, Чехословакии. Только одна осталась страна — Румыния…
— Бог говорит, что и Румыния на Рождество за одну ночь изменится до неузнаваемости…
— Неужели? — Я не мог сдержать своего восторга.
Поздно вечером девятого декабря госпожа Родительница, несмотря на свою занятость делами мира, срочно пришла ко мне, чтобы передать слова Бога.
«В наступающем году я сделаю Моих возлюбленных чад — людей еще счастливее, посему, что бы ни происходило, не надо тревожиться. Да улучшатся сердца всех людей…» — таков был драгоценный новогодний подарок Бога.
По правде говоря, перед этим Родительница сообщила мне о божественном благоволении, но я сомневался, стоит ли об этом писать. После долгих сомнений я рассудил, что, если хочу сделать свою жизнь зеркалом самоанализа, я должен следовать божественному произволению и написать все, как было, что бы ни подумали другие.
В тот день госпожа Родительница, как обычно, обдала все мое тело, вначале спереди, затем со спины, горячим дыханием.
Когда я сел лицом к госпоже Родительнице, она неожиданно велела протянуть руки. Я протянул руки, сложив ладони, и она, наполнив их горячим дыханием, сказала:
— Как мне уже случалось говорить, это дыхание есть «сокровище жизни», и пока ты живешь. Бог, по Его собственным словам, дарует тебе имя «богоравный». Бог говорит, что, тщательно все взвесив, дает тебе самое подобающее имя. Бог наделяет тебя даром воды и, вкушая воду, которой наделил многих, говорит, что поистине у нее вкус божественного духа. А потому поступай отныне как «податель воды».
«Податель воды» — это «богоравный», раздающий воду. Посему отныне ты должен раздавать людям воду. Это перешло из предыдущей жизни. В прошлой жизни ты очищал людей водой. И теперь с помощью воды дашь людям судьбоносную силу. Ты будешь при жизни носить почетное имя «податель воды жизни» и наделять людей водой! Так говорит Бог. Сегодня ты возрождаешься и все твои беды поистине уходят, говорит Бог. Сегодня — девятое декабря, день, когда уходят беды. Значит, и ты избавляешься от бед. В день, когда уходят беды минувшего года, ты, преодолев все, что тебя мучило, возродишься обновленным и будешь раздавать людям воду. Вот, ты получил «сокровище жизни» и сегодня возродился обновленным. Уничтожаю беды минувшего года. Бог дал тебе силу избавить людей от их горестей, накопившихся за минувший год. Раздавая воду, неси радость людям! Держись!..
Действительно, посреди предновогодних хлопот меня посетило множество людей. Многие просили божественной воды, и я всякий раз изготовлял «Божью воду», объясняя, что эта вода смывает пыль с сердца, и передавал ее с чувством умиления.
Приходили дамы и господа, говорившие, что прочли пять томов моего сочинения о Боге. Давние почитатели моего творчества. Юноши и девушки, искренно ищущие истинного пути. Вероучители, вводящие людей в заблуждение новыми религиями. Добрые люди, обманутые новыми религиями. Женщины, страдающие от семейных неурядиц. Страдальцы, ухаживающие за тяжелобольными, и люди с явными психическими отклонениями…
Часто приходящие не довольствовались тем, что я встречался с каждым из них лично, выслушивал их жалобы, отвечал на вопросы, и волей-неволей мне приходилось вкратце рассказывать им о Едином Боге, Родителе человечества, о Силе Великой Природы… Только тогда они, удовлетворившись, уходили.
Но было и немало случаев, выходящих из ряда вон.
Например, один человек, основатель новой религии, после долгой беседы предложил мне присоединиться к его секте и действовать сообща.
Тотчас Небесный сёгун вместо меня начал расспрашивать его и, уяснив, в чем суть его учения, приказал:
— Немедленно прекрати религиозную деятельность и приведи в порядок финансы! В течение месяца сделай так, чтобы твоя паства имела в будущем средства к существованию! Если послушаешь, обеспечу тебе беззаботную старость. Решись на это! Иначе немедленно прерву твое дыхание!
Пришедший вместе с ним пятидесятилетний господин, видимо из числа верующих, задрожал от гнева, так что я даже забеспокоился, как бы чего не вышло, но вероучитель ответил:
— Сделаю, как вы сказали.
— Ну вот и отлично! — напирал Небесный сёгун.
А вероучитель бодро сказал:
— Я и сам хотел отказаться от своей роли вероучителя, поэтому и попросил вас о встрече. Теперь я спокоен.
Он сделал знак сопровождавшему его господину, и они ушли.
Расскажу еще об одном забавном посетителе — Б.
Сообщив, что уже девять лет учится на отделении японской литературы филологического факультета университета К., он трижды звонил, настаивая на встрече со мной. Он непременно хотел прийти в такое время, чтобы ни с кем не столкнуться, поэтому договорились на десять утра. Это был молодой человек лет тридцати, в костюме; как только я провел его в гостиную, он, увидев стоящую в углу куклу театра «Бунраку», заявил, что это оборотень, и попросил перейти в другую комнату. Я провел его в комнату возле прихожей, и мы сели друг против друга. Он уставился на меня и молчал.
Волей-неволей пришлось мне заговорить, подыскав какую-то тему:
— Ты сказал, что девять лет изучаешь японскую литературу?
— Каждый год прослушиваю один и тот же курс, — был ответ.
— Каждый год один курс, значит, ты не можешь сдать экзамены?
— Я нерегулярно посещаю занятия.
— Приходится много подрабатывать?
— Я нигде не работаю — мне с родины каждый месяц присылают триста тысяч иен.
— Из года в год слушать одни и те же лекции — не надоело?
Вот так мы обменивались фразами, как вдруг Б. с раздраженным лицом вскочил, распахнул дверь, выглянул на улицу и, повернувшись ко мне, сказал:
— Там так жужжат насекомые, это действует мне на нервы!
Он показал пальцем на стройку жилого дома на противоположной стороне улицы.
— Это не насекомые, рабочие возводят там дом, — сказал я.
Б. резко захлопнул дверь и, сев напротив меня, сказал:
— Меня преследует дух и отдает приказы. Сегодня он приказал, чтобы я выслушал ваши слова. Скажите, пожалуйста, что-нибудь!
— Что сказать?
— Что мне сейчас делать?
— Ну… При университете К. есть больница… Я бы на твоем месте пошел туда и обратился к психиатру.
— Вы считаете, что я псих?
— Нет, но в любом случае я на твоем месте позаботился бы о своем здоровье.
— Я вижу, вы приняли меня за сумасшедшего! — разозлился он и, собрав разбросанные по столу бумаги, гневно ушел.
Продолжая сидеть, я задумался. Девять лет подряд проваливаясь на экзаменах, он должен был каждый раз вносить плату за обучение. А его родственники, в течение девяти лет посылая ему каждый месяц триста тысяч иен, не озаботились его будущим, его здоровьем? Этому может быть только одно объяснение — богатство отравляет человеческие сердца!
За этими заботами, стараясь удовлетворить многочисленных посетителей, и за писанием книги, выполняя наказ Бога, я позабыл о времени, глядь, а уже заканчивается первый год эпохи Хэйсэй.
По случаю окончания года мне поступило много поздравительных писем и телефонных звонков от близких мне людей. По большей части мне сообщали, что никто не простудился, вся семья здорова, в работе никаких осложнений, счастливо встречают Новый год и благодарят за все Великую Природу.
Перебирая в памяти знакомых, я убеждался, что все те, кто осознал, что профессиональная работа ниспослана Великой Природой, выполняли ее с радостью и чувством ответственности.
Утром тридцать первого декабря я вдруг вспомнил о телефонном звонке жителя префектуры Миэ, отрекомендовавшегося почитателем моего творчества:
— У вас нет под рукой новогоднего номера журнала «Тюо корон»? Если есть, посмотрите послесловие от редакции!
Это все, что он сказал. Я был очень занят, поэтому только подумал: «Какой странный звонок!» — и не придал ему значения. Практически закончив запланированную книгу «Воля человека», я решил в последний день старого и первые дни нового года ответить на письма, полученные за последние полгода, и прочесть все важное из присланных мне журналов и книг.
Тридцать первого, наскоро позавтракав, поднялся в кабинет и сел за письменный стол, по левую сторону от которого в беспорядке были навалены журналы. В глаза бросились лежавшие сверху новогодние номера «Сэкай» и «Тюо корон». Первым я взял «Тюо корон».
Обычно я, получив общеполитический или литературный журнал, обязательно просматриваю оглавление и отмечаю заинтересовавшие меня статьи, а когда выпадает свободное время, читаю отмеченное. Поэтому, открыв «Тюо корон» на оглавлении, я просмотрел свои собственные пометки. Решил прочесть статьи, которые пометил как наиболее важные, но тут вспомнил о звонке из префектуры Миэ.
Вот уже лет тридцать я ни в одном журнале не читал редакционных послесловий, но на сей раз открыл последнюю страницу с редакционной статьей, напечатанной мелким шрифтом. Прочитал, пользуясь лупой. Прочитал дважды, но не обнаружил ничего, что бы имело ко мне хоть какое-то отношение. Странный звонок! — подумал я.
Наверно, хотел посмеяться над стариком, подумал я, но вдруг в лупу попало мое имя. Присмотрелся повнимательней, над редакционной статьей маленькая колонка «Заметки на полях», напечатанная еще более мелким шрифтом. Разобрал с помощью лупы. Вот что там было написано.
«В первом году Хэйсэй, после заявления генерального секретаря Горбачева о „демократическом социализме с человеческим лицом“, в нашей стране и за ее пределами подул ветер драматических перемен. Но более всего поражает и кажется чудом, что мир изменился в точном соответствии с предсказанным в трилогии Кодзиро Сэридзавы».
Подписано — Эсаси.
Эта заметка, напечатанная мелким шрифтом, меня потрясла.
В шестьдесят шесть лет я, осознав, что умер для журналистики, написал «Человеческую судьбу» и, по сей день держась в стороне от журналистики, не знаю никого из этого мира.
Среди корреспондентов трех крупнейших общеполитических журналов «Тюо корон», «Сэкай», «Бунгэй сюндзю» когда-то у меня было несколько знакомых, но все они покинули этот мир, оставив по себе лишь приятные воспоминания. Из действующих ныне авторов я никого не знаю, поэтому даже не посылаю им своих новоизданных книг. Я был уверен, что никого из недавно выдвинувшихся бойких журналистов не могут заинтересовать мои книги о Боге, более того, одно только заглавие способно вызвать презрительную усмешку.
Но если судить по «Заметкам на полях», этот Эсаси прочитал три тома моей продолжающейся книги. Уже одно это меня порадовало, но более всего меня потрясло и вызвало благодарность, что он сумел правильно разобраться в том, что говорится в этих трех томах о Спасении Мира.
А говорится в них — если изложить это кратко — о том, как начиная с 1986 года Сила Великой Природы детально наставляла меня во всем, что касается Спасения Мира, о том, как Сила Великой Природы (точнее, Единый Бог) собирается изменить положение в современном мире, чтобы сделать людей (для Великой Природы — ее возлюбленных чад) по-настоящему счастливыми, и велела мне написать об этом.
Однако я медлил. Если просто записать все, чему учила меня Великая Природа, обычному читателю прочесть такое будет не по силам. Поэтому, следуя выработанному за много лет методу, я выбрал форму исповедального романа. Облечь идею Спасения Мира Великой Природой в исповедальный роман, сделать ее доступной рядовому читателю — для меня как писателя было чрезвычайно трудной задачей. Не лучше ли, если суть этой идеи станет ясна в процессе чтения, как бы невзначай? Вот чего я втайне желал…
Я бы обрадовался, даже если б узнал, что написавший «Заметки на полях» корреспондент Эсаси прочитал один том, но то, что он, прочитав все три тома, правильно понял их содержание, осознал, что нынешний ветер драматических перемен внутри и вне страны есть начало Спасения Мира Великой Природой, обрадовало меня больше, чем награда, ниспосланная с небес.
Для меня не могло быть большего счастья, чем получить доказательство того, что мои книги о Боге читают молодые интеллектуалы и оценивают их по достоинству. Я узнал, какие замечательные люди существуют там, где я меньше всего ожидал.
Во второй год Хэйсэй Сила Великой Природы во всех регионах мира явственно отделит хорошее от плохого и принесет людям «жизнь, полную радости», а значит, эти люди получат сполна от щедрот ее милосердия.
С такими мыслями, окрепнув душой, я стоял у окна и смотрел на небо. В этот последний день года небо было лазорево-ясным, ни одного облачка, слышалась тихая музыка. Навострил уши — она самая, девятая симфония, «Ода радости». Переполненный чувствами, я опустил голову и заслушался.
На этом я закончил «Волю человека» и успокоился, облегченно вздохнув. Однако тут неожиданно заговорил Небесный сёгун:
— Это не конец, подожди еще несколько дней!
Начался новый год, наступило пятое января, я хотел поскорее завершить книгу и стал приставать к Небесному сёгуну:
— Ну, что еще написать? — и неожиданно услышал от него слова, сильно меня удивившие.
Небесный сёгун заговорил о Горбачеве, Председателе Верховного Совета СССР…
— Три американских астронавта, совершая космический полет и проходя через стратосферу, случайно пролетели вдоль Истинного мира, и в это мгновение их коснулся свет Бога Великой Природы. В результате все трое, исполнив свое задание и вернувшись к своим обычным обязанностям, произвели в себе революцию — бросили работу и стали духовными лицами — миссионерами, проповедующими путь Бога. Они утверждают, что переродились, прияв божественный свет… Вот какой могучей силой наделен Бог Великой Природы!
Этот могущественный Бог-Родитель Великой Природы, как я уже много, очень много раз говорил, на протяжении миллионов лет долгой человеческой истории впервые в 1987 году сошел на Землю и приступил к Спасению Мира. В это время человечество было разделено на Восток и Запад, два враждебных лагеря, готовых в любую минуту привести в действие ядерное оружие, поэтому прежде всего Он постарался устранить эту опасность. В результате, как тебе известно, устранена опасность войны с использованием ядерного оружия…
Больше всего Бог приложил старания к тому, чтобы исправить сердце СССР и лично Председателя Верховного Совета СССР Горбачева. В результате в ноябре прошлого года люди во всех коммунистических странах Восточного блока обрели свободу и ныне заново пытаются сделать свои страны демократическими. Но мало кто в мире заметил, как изменился сам Горбачев…
Небесный сёгун уже долго говорил, когда я задал ему вопрос:
— Горбачев, говоришь… Но ведь Бог нарек его твердолобым коммунякой. В чем же он изменился?
— В нем забилось божественное сердце.
— Ну уж скажешь!.. Божественное сердце — в этом болванчике?
— Ничего удивительного. Астронавты прияли частицу божественного света, и их дух изменился настолько, что они стали духовными лицами. Бог лично, почти два года каждый день не только светом, но и своим горячим дыханием обдает этого человека, так что вполне естественно, что его дух стал ближе к Богу… Вот только Бога заботит, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор, а значит, формально идет война… И Бог возжелал, чтобы за время его управления Советским Союзом был заключен мирный договор.
— Неужели? — Я затаил дыхание.
— Бог обдумывал, кто из японских политиков мог бы стать подходящим партнером на переговорах с таким человеком, но… Политики в Японии развращены деньгами и властью, не из кого и выбирать… Еле-еле нашел одного. Недавно он перенес смертельную болезнь, но все же поправился… Этот человек, страдая и видя перед собой смерть, отбросил присущие ему прежде эгоизм и корысть, принял решение копить в душе праведность и в конце концов переродился… Бог избрал его… Сегодня от той стороны должно прийти согласие на встречу… Труды Бога поистине неустанны!
— Но кто этот переродившийся политик?
— Когда он поступил в больницу, госпожа К. просила у тебя «Божьей воды» для него. А ты сказал, такого человека могут вылечить врачи, он не нуждается в «Божьей воде». Если бы она пришла за водой теперь, небось дал бы с превеликой радостью!
После этого Небесный сёгун перестал отвечать на мои вопросы.
Однако из его последних слов я догадался, что этот политик — О. из Либерально-демократической партии. Когда он лег в больницу, меня посетила милейшая, добрейшая К. и попросила для него «Божьей воды». Я знал, что в студенческие годы она была закадычной подругой жены О., но поскольку речь шла об известном политике, которого выдвигали в премьер-министры, лечили его с особой заботой в большой больнице, поэтому я и подумал, что ему будет лучше, доверившись врачам, довести до конца лечение. После этого О. полностью вылечился и переродился… И я втайне обрадовался, что теперь он избран Богом на то, чтобы вести важные переговоры с Горбачевым, в котором забилось божественное сердце.
Через несколько дней после того, как в газетах напечатали подробные сообщения о предстоящей пятнадцатого января встрече О. с Горбачевым в Москве, госпожа К. посетила меня и попросила для О. «Божьей воды».
Поскольку было указание от Небесного сёгуна, я сразу занялся ее изготовлением. По словам госпожи К., О. выехал в Москву, а его супруга отправилась в префектуру Ямагути, избирательный участок мужа, и готовится к приближающимся выборам в палату представителей, но будет в столице накануне возвращения О. и придет за «Божьей водой». Госпожа К. взялась привести ее ко мне, и изготовить воду надлежало к этому сроку.
По рассказу госпожи К., О. выписался из больницы вполне здоровым, но поскольку болезнь была тяжелой, он все же чувствовал себя физически слабым и надеялся с помощью «Божьей воды» восстановить силы.
Муж госпожи К. — профессор медицинского факультета университета Кюсю, старший сын, доктор медицинских наук, живет в Токио, и она время от времени приезжает в столицу, но всегда очень занята, поэтому даже важные дела устраивает по телефону. Мне тоже так удобнее, но в этот день она позвонила из Кюсю.
— Госпожа О. все еще находится на избирательном участке в Ямагути, а О. вернется из СССР в Токио семнадцатого вечером, поэтому она приедет в Токио вечером шестнадцатого, самое позднее — утром семнадцатого, я отправлюсь за ней к половине девятого и сразу же поведу ее к вам, так что, пожалуйста, подготовьте к этому времени «Божью воду».
В таком случае, решил я, можно приготовить воду шестнадцатого, и сосредоточился на своей книге.
Шестнадцатого января в Токио с утра неожиданно пошел мелкий снег. Не видя солнца, невозможно настроиться на изготовление воды. Поэтому, став лицом к солнцу, я помолился, чтобы оно вышло из-за туч, но снег пошел еще гуще и не прекращался весь день. Сад побелел, деревья точно нахлобучили ватные шапки. Даже по радио синоптики дивились — такой снегопад в Токио редкость.
Собираясь изготовить «Божью воду», я постоянно поглядывал на небо, но так ничего и не получилось, и я в смятении думал о том, как завтра рано утром придет госпожа О. Тут я вспомнил примету, которую в детстве часто повторяли мои дед с бабкой: «Наутро после снегопада — голодранцу постирушки», то есть прояснится и потеплеет, успокоился и решил дождаться утра.
На следующее утро проснулся незадолго до семи, отодвинул штору на восточном окне. Солнце, поднявшись над крышами разбросанных по склону домов, из безоблачной лазури заливало ярким светом посеребренный мир.
— Ах, как хорошо! — невольно воскликнул я, оделся, поспешно спустился вниз и помылся. Затем приступил к изготовлению «Божьей воды», велев дочери принести заранее заготовленный большой стеклянный сосуд. С помощью дочери я встал в заваленном снегом саду и, обратившись к сияющему солнцу, громко начал возносить молитву. И затрепетал, ощутив дыхание Великой Природы.
В это время пришел X., неся лопату, чтобы расчистить в саду снег в благодарность за то, что «Божья вода» помогла его дочери. Я так торопился приготовить воду, что не нашел времени толком поприветствовать его.
Наскоро позавтракал. Было без десяти минут девять. Госпожа К. говорила, что они придут к девяти, но с таким снегом нельзя загадывать, поэтому я вдруг засомневался, явится ли вообще госпожа О.
В пять минут десятого они пришли. Сразу провел их в гостиную, и в это время Небесный сёгун внутри меня шепнул:
— Из-за визита госпожи О. ты потерял душевный покой, но ведь она всего-навсего дочь твоего старого приятеля! Прими гостей, а остальным займусь я.
И в самом деле, ее отец, хоть и был премьер-министром, в свое время учился вместе со мной в Первом лицее, на курс меня старше, возглавлял клуб красноречия, и когда я вступил в клуб, чтобы исправить свой деревенский выговор, он очень мне помог. Его однокурсник Хирано имел особняк в Нумадзу, и он проводил в нем каждое лето, иногда к ним присоединялся и я. Когда, закончив университет, я служил в Министерстве сельского хозяйства и торговли, он уже работал в этом же министерстве и, как старший брат, направлял меня. Когда после войны японский ПЕН-клуб устраивал международный съезд в Токио, он был уже премьер-министром, и я, будучи заместителем председателя ПЕН-клуба, пожаловался ему на нехватку средств. Он поднапрягся и выделил крупную сумму из бюджета Министерства иностранных дел. Уйдя из политики, он поселился в Готэмбе, и мы часто виделись в Токио на встречах выходцев из Восточной Суруги и возобновили дружбу… Но мне еще не доводилось встречаться с его дочерью…
Пока я рассеянно думал об этом, госпожа О. поместилась в кресло по правую руку от госпожи К., и обе разговаривали с Небесным сёгуном, а я отключился от их беседы. Когда я, очнувшись, прислушался, госпожа О. говорила:
— Как ее принимать, эту вашу воду?
— Если ее поместить в холодильник, она может храниться и год, и два. Лучше пить понемногу, как лекарство, под настроение… Это очищает сердце, насыщает правдой, делает человека здоровым… В вашем случае, чтобы распустился цветок, которого вы ждали всю жизнь, советую немного смочить корень в качестве возбуждающего снадобья… Немочь спадет, и долгожданный цветок распустится…
— Большое спасибо. Честно сказать, я и сама в последнее время сильно ослабла, можно ли и мне принять немного «Божьей воды»?
— Ну конечно. Бог-Родитель Великой Природы хвалит вас. Ваше праведное отношение к мужу… Бог говорит, что исцелил от болезни вашего мужа благодаря вашей праведности. Поэтому успокойтесь, вы скоро поправитесь… Вот только у Бога есть просьба…
— Какая еще просьба?
— На
смертном одре в больнице ваш муж впервые много думал об ответственности политика… Анализировал свои поступки, сокрушался, мучился угрызениями совести, каялся… И принял решение, что если вновь сможет действовать, станет
праведным политиком… Он об этом никому не говорил, но Бог все знает и возродил его, чтобы он смог выполнить свою роль, очищая прогнивший японский политический мир. Бог устроил ему встречу с Горбачевым… Сейчас он стал
праведным политиком, но если, вернувшись в прогнивший политический мир, он, пусть бессознательно, станет прежним О., Бог не только не даст распуститься цветку, но немедленно отнимет у него жизнь!.. Вы уж, пожалуйста, будьте всегда рядом с ним и проследите за этим.
— Хорошо, я постараюсь.
Сидевшая рядом госпожа К. с радостным видом сказала ей:
— Ну вот и чудненько… Дома уже заждались, так что нам, наверно, пора откланяться.
— Дочь отнесла воду в машину, — сказал я, поднимаясь.
Госпожа О. поблагодарила и встала. Высокая, элегантная женщина. Неужто она дочь X., подумал я, провожая ее за порог.
От двери дома до ворот в снегу была расчищена узкая тропка, по которой можно было пройти только гуськом. Дочь надела сапоги и заботливо довела дам до ворот. Я с Небесным сёгуном подождал, пока гостьи начали спускаться по ступеням за воротами, и вернулся наверх в кабинет.
Придвинув диван к южному окну и устроившись поудобнее, я устремил взгляд на голубое небо. Я должен был немедленно поблагодарить взиравшего вместе со мной на небо Небесного сёгуна.
Ведь он сделал меня причастным к важному испытанию: сможет или нет современный политик вроде О., которого, впрочем, я лично не знаю, в будущем осуществить свое праведное убеждение и волю, обретенные в результате перерождения? Такая концовка как нельзя более подходила к книге, озаглавленной «Воля человека». В этом и заключался умысел Небесного сёгуна.
— Ты радуешься, и Бог рад, — улыбнулся Небесный сёгун, и все, связанное с О., тотчас вылетело у меня из головы.
Если он осуществит свою волю, будет счастлив, если нет, будет несчастлив…
— Не волнуйся, с этого года Бог-Родитель приступил к очищению политического мира Японии! — заверил меня Небесный сёгун, посвятив в суть предстоящих событий.
Какое мне дело, что О. и его жена имеют отношение к большой политике! Для меня они ничем не отличались от простых безымянных людей, чуть ли не каждый день приходящих с просьбой о воде. Если оба они выздоровеют с помощью «Божьей воды». Родитель Великой Природы порадуется, вот, собственно, и все…
В это время Небесный сёгун, продолжая глядеть на небо, прошептал:
— Голос Бога… Слушай голос ветра!..
Глядя на небо, я навострил слух. После красивой мелодии послышался голос Бога. У меня перехватило дыхание от Его щедрости и доброты, а Небесный сёгун обнял меня и легонько похлопал по спине.
То было благовестие Бога.
В нынешнем, втором году эпохи Хэйсэй, мне возвещено многое, что сделает этот год началом пути исправления мира Богом-Родителем Великой Природы. Я сам, обновив свое сердце, отбросил все личное и вновь готов исполнять предназначение Великой Природы.
Для того чтобы осуществить свою волю, надо всего лишь изо дня в день с радостью и усердием делать работу, определенную Богом. Искренне следовать указаниям Небесного сёгуна, постоянно сопровождающего тебя и ведущего… Кроме того, я хотел бы в этом году попытаться еще лучше понять Небесного сёгуна и многому от него научиться. Новый, неведомый мир разворачивается у меня перед глазами, и, как у юноши, сердце ликует…
А ведь мне, слава Богу, девяносто четыре.
1990, последний день января
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Жизнь Человека
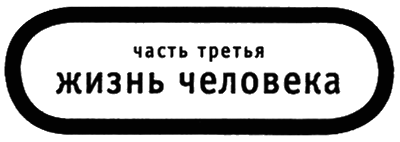
Глава первая
Одиннадцатого ноября прошлого, 1989 года по промыслу Великой Природы жители Восточного и Западного Берлина разрушили в нескольких местах разделявшую их ужасную стену и ринулись навстречу друг другу, обнимаясь и ликуя.
Во всем мире люди, увидев на экранах своих телевизоров происходящее, был и просто ошеломлены. В обоих Германиях — восточной, социалистической, и западной, демократической — живут этнически те же самые немцы, но вплоть до этого утра считалось, что они глядят друг на друга с враждой и ненавистью, будто у них нет ничего общего. Не верилось, казалось галлюцинацией, что они вот так обнимаются и радуются друг другу…
Но я, человек, живущий на Дальнем Востоке, еще в середине июля был извещен Великой Природой об этом дне. Поэтому, хотя телевизор я практически не смотрю, в тот день, проснувшись утром, я направился в комнату, где стоит телевизор, и стал ждать начала трансляции.
И, увидев, как рушится эта печально знаменитая Берлинская стена, увидев, как радуются восточные и западные немцы, я ощутил безмерное счастье.
Ибо тем самым мне было явлено бледное
знаменье того, что Сила Великой Природы, Единый Бог сошел на землю, приступил к Спасению Мира и наконец-то сделал первый шаг к успеху.
С замиранием сердца я ждал — какие еще покажут радостные новости, и разве так же, как я, не сидели перед телевизором миллионы людей по всему миру, охваченные сильнейшим волнением и удивлением?
С тех пор я каждый день по приказу Небесного сёгуна смотрел телевизор…
Падение Берлинской стены для жителей цивилизованных стран Запада означало, что внезапно открылось окно в страны Восточного блока.
До сих пор Восточный блок по ту сторону Берлинской стены, состоящий из стран коммунистической ориентации, таких как Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия, и строго управлявшая всеми ими, лидер Восточного блока — Советская Россия, для людей Запада представлялся чем-то вроде «страны мрака». Это был неведомый, страшный мир.
Поэтому западные люди с беспокойным любопытством всматривались во внезапно открывшееся окно, надеясь увидеть, что происходит в этих погруженных во мрак восточных странах. Разумеется, можно было ожидать, что журналисты из стран Запада, воспользовавшись открывшимся окном, напишут множество репортажей о случившемся, но для простых людей особо притягательными были телевизионные передачи непосредственно с места события и напрямую апеллирующие к зрителю…
Людей, смотревших телевизионные репортажи из внезапно открывшегося мира, прежде всего поразило то, что жители Восточной Германии, социалистической страны, стремясь к свободе, сами отвергли идеи коммунизма.
Из репортажей было отчетливо видно, как восточные немцы, хлынувшие в Западную Германию, удивлялись богатству и процветанию страны, которую они прежде презирали и к которой, как представлялось, питали враждебные чувства.
Изумленные телезрители впервые реально осознали, насколько доселе неведомая Восточная Германия (несмотря на пропаганду, вещавшую о том, какое счастье жить при социализме) была бедной в материальном отношении и насколько несчастливы были ее жители.
Кроме того, произошло еще одно удивительное событие.
В Румынии, тоже входившей в Восточный блок, внезапно началась революция…
Народ этой социалистической страны восстал, требуя свободы, и телезрители, захваченные невероятным зрелищем, смотрели на экран затаив дыхание, опасаясь, что небольшая и безоружная группа восставших будет легко подавлена властями. Ведь это сильная социалистическая страна, нынешний режим благополучно просуществовал в ней четверть века. Армия хорошо вооружена. Наверняка имеются и полицейские войска. К тому же большинство народа должно быть довольно политикой своей страны, ее руководством. Горстка свободолюбивых людей будет быстро подавлена, даже мощь армии не понадобится… А если, паче чаяния, восставшие добьются успеха, то, поскольку это будет представлять угрозу всей социалистической системе, в происходящее вмешается идеологически близкая Советская Россия…
Все были потрясены тем, что увидели дальше.
Очевидно, вся страна была охвачена беспорядками. Вооруженная полиция и армия присоединялись к взбудораженным толпам, там и тут виднелись трупы… Я решил, было, что граждане, преданные социализму, в упоении от того, что сумели подавить кучку свободолюбивых мятежников, но тут заговорил комментатор.
Малочисленные поначалу группы людей, требовавшие свободы, получили мощную народную поддержку, началось всеобщее восстание, и президент, обладающий верховной властью, послал войска на его подавление. В стане безоружных граждан было много убитых, но они не капитулировали, напротив, число людей, поддерживающих их требования, резко возросло, в среде военных также появились те, кто требовал свободы… Началась настоящая гражданская война. В результате армия потерпела поражение, президент, больше четверти века занимавший свой пост и единолично распоряжавшийся властью, вместе с семьей бежал из страны. Поскольку он втайне поддерживал близкие отношения с Китаем, скорее всего он переправился в Китай… Между тем одержавший победу народ, скорбя по многочисленным жертвам, воодушевлен решимостью строить свободную, демократическую страну. Таков был комментарий.
Далее по телевизору показали, как постепенно нормализуется обстановка в Румынии.
Комментатор объяснил:
«Прежде чем свергнутый президент смог выехать из страны, он был захвачен свободным народом и вместе с семьей казнен. Новое правительство сожалеет, что он не был предан открытому суду. Было беспокойство, признает ли новое правительство Советская Россия, но генсек Горбачев заявил, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Румынии, тем самым признав новую демократическую власть. Народ прежде всего жаждет экономического возрождения, чтобы наверстать отставание от остального мира — результат длившегося четверть века коммунистического господства. События в Румынии наверняка окажут влияние на соседние страны, и поскольку во всех этих странах уже поднимается движение за свободу, недалек тот день, когда и они станут демократическими государствами…»
И действительно, во всем мире телезрители с волнением наблюдали, как в социалистических странах Восточного блока одна за другой происходили увенчивающиеся победой демократические революции. Даже Румыния, власти которой заявляли, что их страна ни при каких условиях не станет демократической, в конце концов легко освободилась от прежнего режима, и эти дни от Рождества 1989-го до Нового, 1990 года принесли много радости людям доброй воли, ибо за этот короткий срок все цивилизованные страны как на Западе, так и на Востоке стали демократическими и те и другие перестали бояться войны и встречали новый век мира как начало всеобщей «жизни, полной радости»…
И я в своем токийском доме, далеко на Востоке, как и все, не отрываясь, следил по телевизору за этими событиями, и так же, как и все, радостно встретил новый, 1990 год, уверенный, что это и есть новая жизнь, дарованная Великой Природой человечеству.
Однако в духовной жизни японцев многое неведомо остальному миру, поэтому хочу вкратце рассказать о тех ее аспектах, которые касаются нового мирного существования на Земле…
Приблизительно через тысячу восемьсот лет после того, как Единый Бог (Единый Бог Великой Природы) сошел на Иисуса, 26 октября 1838 года, в Японии, в деревне, расположенной в провинции Ямато, Он сошел на Мики, жену Дзэмбэя Накаямы, мелкого землевладельца.
Мики в течение трех лет, запершись в домашней кладовке, в одиночестве предавалась аскезе, после чего, следуя повелению Бога, раздала свое состояние и, опустившись на дно нищеты, начала проповедовать учение Божие. Так же как Иисус, она спасала людей, страстно проповедуя любовь: все люди — братья, должны любить друг друга и наслаждаться «жизнью, полной радости».
За свою проповедь Мики Накаяма претерпела множество гонений, подвергалась тюремному заключению. 26 января 1887 года, в свои девяносто лет, она покинула этот мир.
Учение, которое проповедовала Мики Накаяма, впоследствии оформилось в религию под названием Тэнри, но перед самой смертью она оставила два важных предсказания.
Во-первых, что в столетнюю годовщину своей смерти она, в качестве живосущей Родительницы, вновь явится спасать людей. А во-вторых, к стопятидесятилетию основания учения Тэнри и через 900 999 999 лет после сотворения людей Единый Бог Великой Природы сойдет на землю и спасет мир. Таковы были пророчества.
Столетняя годовщина смерти пришлась на 1986 год, сто пятидесятилетний юбилей основания учения — на 1987-й. И действительно, в 1986 году вероучительница Мики Накаяма начала свою деятельность на Земле как живосущая Родительница. А на следующий год, год юбилея основания, Единый Бог Великой Природы сошел на землю и начал Спасение Мира. В этом не может быть сомнений.
Но, как ни странно, руководство Тэнри не только не признало эти факты, основанные на доводах разума, но и решительно отвергает их.
В 1986 году я, накануне своего девяностолетия, лежал на смертном одре. За четыре года до этого жена, сопровождавшая меня всю жизнь, мирно закрыла глаза для вечности. С этого времени я стал серьезно готовиться к смерти.
В детстве я, точно дикарь, питался чем придется, но в юные годы начал жизнь цивилизованного человека. Результаты непосильного труда сказались на моем организме, всевозможные болезни одна за другой, а то и одновременно осаждали меня — плеврит, расширение желудка, опускание желудка, туберкулез легких, астма. Всю жизнь я страдал от бесчисленных недугов, обращался к врачам, пил лекарства, делал иглоукалывания, прижигания и кое-как влачил существование.
Начав готовиться к смерти, я перечитал все свои книги в порядке их написания, отобрав то, что хотел бы оставить после себя, и то, что следовало уничтожить. Когда же я начал приводить в порядок свои скромные финансы, у меня уже не было сил подняться, я лежал, не вставая, врачи решили, что это старческое бессилие, и я стал ждать смерти.
В это время на помощь мне пришла живосущая Мики Накаяма — госпожа Родительница. Она поведала мне, что Бог Великой Природы сошел на землю и приступил к Спасению Мира, и если я силой своего пера буду содействовать Спасению Мира Богом, Он вернет мне здоровье, которое я имел в восемьдесят лет.
Я внял слову живосущей Родительницы.
Однажды ночью я поднялся со смертного одра, а со следующего утра стал с удовольствием есть то же, что и здоровые члены семьи, с огромным аппетитом, как в студенческие годы. С этого дня время для меня перестало существовать, и за прошедшие пять лет я, следуя велению Бога, каждый год публиковал новый том своего труда.
Закончив писать пятый том под названием «Воля человека», я месяц назад передал рукопись в издательство.
Все эти пять лет я был здоров, ни разу даже не подхватил простуды и сейчас не то что чувствую себя восьмидесятилетним, а веду жизнь без возраста.
Так почему же Бог Великой Природы, впервые после того, как сотни миллионов лет назад сотворил на Земле человека, решил, что исполнились сроки, и сошел на землю, чтобы спасти мир?
Сотворив на Земле людей, Бог Великой Природы увидел, что они, Его чада, счастливо живут в веселии, возрадовался и даровал человеческому роду разум и всевозможные способности.
Из Его чад самые выдающиеся создали цивилизацию и порадовали Бога-Родителя, однако наступила пора, когда они разделились на два враждебных лагеря — социалистические страны во главе с «красной» Россией и демократические страны во главе с США. И те и другие начали накапливать бесчисленные арсеналы ядерного оружия.
Случись по какому-то поводу конфликт и вспыхни война с применением ядерного оружия, и не только человечество будет уничтожено, погибнут и все живые существа — вся наша прекрасная голубая планета превратится в мир смерти.
Я не раз слышал от самого Бога Великой Природы, что прежде всего необходимо предотвратить возможность подобной катастрофы. А живосущая Родительница рассказывала, что сошедший на землю Бог отныне постоянно курсирует между Россией и Америкой, прилагая все усилия к тому, чтобы не допустить подобного развития событий.
Когда Бог Великой Природы отправляется в Россию или Америку, живосущая Родительница, по ее же словам, всегда сопровождает Его и оказывает Ему всяческое содействие, и моя жена (об этом я узнал недавно), став постоянной прислужницей живосущей Родительницы, следует за ней и в Россию и в Америку и сообщает мне обо всем происходящем через Небесного сёгуна. Слушая ее, я не мог не восхищаться деяниями Бога-Родителя, который старается сделать людей счастливыми, исправляя их души…
Итак, в сентябре прошлого (1989) года, Небесный сёгун однажды сказал мне:
— Первая работа Бога по Спасению Мира наконец-то должна увенчаться успехом, так что обязательно посмотри телевизор одиннадцатого ноября — будешь доволен.
Я с радостью ждал указанного дня, но об этом уже написано в «Воле человека», и здесь я этого касаться не буду.
Я всего лишь старый, дряхлый японец, но, встречая первый день нового 1990 года, я полон надежды, что не только на Земле воцарился мир, но что человечество обратилось к новому свету.
Именно потому, что я постоянно внимаю душе Великой Природы, я остро чувствую, что это не пустые мечтания.
В связи с этим необходимо рассказать людям других стран о своеобразной японской традиции давать названия годам правления императоров.
Для людей во всем мире словосочетание «1990 год» не имеет какого-то особого смысла. В лучшем случае скажут, что близится двадцать первый век. Однако в Японии, наряду с европейским, существует еще и летосчисление по годам правления императоров, в соответствии с которым девяностый год — второй год «эпохи мира и равенства» — Хэйсэй. В повседневной жизни европейское летосчисление в Японии не используют.
За мою жизнь сменилось четыре императора, следовательно, она включает четыре эпохи — Мэйдзи, Тайсё, Сева и Хэйсэй. Так что всякий раз, когда мне приходится рассказывать свою биографию, я испытываю сложности.
В эпоху Тайсё я поехал учиться во Францию, несколько лет жил за границей и совершенно отвык от японского летосчисления, пользуясь тем, что принято во всем мире. Поэтому, когда на следующий год после моего возвращения повесть «Буржуа» неожиданно удостоилась премии журнала «Кайдзо» и журналисты впервые заинтересовались мною, на вопрос, в каком году я родился, я ответил: «В 1896».
Но в японских журналах было напечатано: «Родился в тридцатом году эпохи Мэйдзи». Сам я в тот момент не усомнился, решив, что, наверно, так оно и есть: 1896 год — тридцатый год Мэйдзи.
Кажется, это было в следующем году. Пожилая женщина из Утиуры, нянчившая меня, когда мне было два года, приехала навестить своего сына, который во время службы в квантунской армии заболел и был направлен в токийский военный госпиталь. Узнав, что у меня туберкулез легких, она пришла проведать меня и сказала нечто удивительное.
По ее словам, поскольку я родился в двадцать девятом году Мэйдзи, году обезьяны, я, в соответствии с пословицей: «Обезьяна и та падает с дерева», заболел туберкулезом, но благодаря тому, что в последнее время годом моего рождения официально признан тридцатый год Мэйдзи, тяжелая болезнь пошла на поправку, так что я смог благополучно и в полном здравии вернуться в Японию. Тридцатый год Мэйдзи — это год птицы (петуха), поэтому родившийся в год птицы, как птица-феникс, наделен отменным здоровьем и может летать по всему миру.
Про себя я посмеялся над суеверьями деревенской старухи, но, если честно, мне стало любопытно, в каком же году я все-таки родился, и я проверил, разыскав свой паспорт.
Мой день рождения был четвертое мая двадцать девятого года Мэйдзи. Это точное число согласно книге регистрации. С тех пор я при случае старался исправить ошибку, но до сих пор натыкаюсь на данные: родился в тридцатом году Мэйдзи. Вот такая неразбериха!
Что касается годов правления императоров, то при восшествии каждого нового императора специальный государственный комитет, учитывая пожелания правительства, выбирает из старинных китайских текстов название, которое бы символизировало предстоящее правление. Это название и используют при исчислении лет. Когда было определено название нынешнего правления — Хэйсэй, я испытал странное чувство.
Это было в двадцатых числах декабря 1988 года. Было объявлено, что император Сева в тяжелом состоянии, и Небесный сёгун сообщил мне, что правление следующего императора будет названо Хэйсэй.
— Хэйсэй? — переспросил я.
— Да, — ответил он. — Бог-Родитель Великой Природы говорит, что выровняет мир и наступит «жизнь, полная радости».
На следующий год в начале января император Сева скончался, императором стал его сын и правление было названо Хэйсэй.
Название годов правления — Хэйсэй — было выбрано государственным комитетом из древних китайских текстов в соответствии с курсом национальной политики, но я-то знал, что в действительности еще две недели назад его определила Великая Природа. Есть над чем задуматься…
Интересно, как обстояло дело с годами правлений Мэйдзи, Тайсё и Сёва? Может быть, и тогда государственный комитет выбрал из китайских книг название, на которое заранее указала Великая Природа?
Правление Мэйдзи продолжалось до летних каникул, когда я учился во втором классе средней школы, но еще с младших классов учителя твердили нам одно и то же объяснение.
«Мэйдзи» — означает «правят солнце и луна». «Солнце и луну» люди издревле почитали в качестве богов, следовательно, Япония — страна, где правят боги. Божественная страна. Поэтому, когда Япония воюет с иностранной державой, она непобедима, ибо боги на ее стороне. Такое толкование я особенно часто слышал в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах Мэйдзи, во время русско-японской войны. Его придерживались не только учителя, но и многие взрослые, оно было у всех на слуху, и я нисколько в нем не сомневался.
Названия эпох Тайсё и Сёва также, по всей видимости, имели какой-то смысл, но к тому времени я уже вырос и не признавал ничего, что расходилось бы с принципами рационального мышления, поэтому совершенно не интересовался подобными вопросами. Итак, ныне наступила эпоха Хэйсэй.
Бог-Родитель Великой Природы заранее назвал годы правления нынешнего императора эпохой Хэйсэй, выражая желание выровнять мир, чтобы дать людям, Своим чадам, идеал «жизни, полной радости». В самом деле, прошло полгода и, пусть частично, божественное желание было исполнено, и дабы продемонстрировать это Своим чадам. Он велел смотреть одиннадцатого ноября телевизор.
Благодаря этому в указанный день все мыслящие люди на Земле были поражены, узнав посредством телевизионной трансляции о великом мировом событии, превосходящем самое смелое воображение. И после еще много дней не могли оторваться от телеэкрана, глядя, как после падения Берлинской стены начиная с Восточной Германии и все другие страны Восточного блока одна за другой благодаря восстанию свободолюбивого народа превращались в демократические страны…
Я тоже принадлежу к людям цивилизованного мира, и с нынешнего нового года я почувствовал в себе перемену, как будто воспрял духом. Однако я себя приструнил, устыдившись и сочтя свой неуемный восторг за признак самодовольства и высокомерия. Все же, думая о гении Жаке, пребывающем в Истинном мире, я стал серьезно размышлять о том, возможна ли и на нашей земле такая жизнь, как у людей Истинного мира. И какой должна быть эта жизнь? — вот о чем я более всего жаждал узнать.
И однажды в начале марта я с радостью осознал, что это значит — жить так, как живут люди в Истинном мире.
Больше всего я люблю токийскую зиму. Много погожих дней, дожди редки, небо почти все время голубое, воздух сухой, самочувствие отличное. Однако в этом году, начиная с января, наступила, что называется, «гнилая зима», ясных дней было мало, небо постоянно хмурилось, часто шел дождь. С февраля зарядили ливни, точно наступил сезон дождей, солнце ни разу не показывалось. Я даже не выходил в сад.
Несмотря на затяжные дожди, в кабинете было вполне сносно, поскольку, благодаря комнатному обогревателю, воздух оставался сухим, но, глядя в окно на серое небо, я беспрестанно молился, обращаясь к солнцу:
— Разорви облака, дай свет!
Но молитвы не были услышаны.
Наступил март, но погожие дни не наступили, я уже смирился, как вдруг неожиданно выдалось ясное утро, засияло солнце.
Утром, поработав около часа, я решил принять солнечную ванну и вышел в сад. Прежде всего поприветствовал старшину сада — магнолию, но она не отозвалась. И тут у меня возникло странное чувство. Я смотрел на ее ветви отстранение, точно передо мной было другое дерево. Такое же величественное, такое же гордое, но в нем появилось что-то необычное — магнолия молчала. Мне показалось, что и во мне самом что-то изменилось. Другими словами, мне показалось, что сад — больше не мой сад. Я был поражен.
— Вы не напрасно удивляетесь, — обратилась ко мне старая слива, растущая у главного входа.
Я подошел. На ней уже распустилось несколько цветков.
— Среди деревьев в саду, как в последнее время и в мире людей, произошла революция, они вернулись к Природе, есть чему удивиться.
— Революция среди деревьев?
— Да. Деревья тоже уже не те деревья, что были прежде. Как вы знаете, человеческое сообщество за эти пару лет стало лучше. Нынче второй год эпохи Хэйсэй, говорят, во второй половине года Великая Природа сделает мир людей счастливее. Но прежде мы, деревья, принадлежащие миру Природы, должны стать более естественными, а для этого нам необходимо произвести у себя революцию.
— Что все это значит? Ничего не понимаю! Что произошло, расскажи по порядку.
— Знаете ли вы, уважаемый, что позади каменного фонаря «Каннон — святая Дева Мария» растет самшитовое дерево? Вы ведь, выходя в сад, ни разу на него не взглянули, ни разу с ним не заговорили.
— Самшитовое дерево? Что еще с ним?
— Это долгий разговор, поэтому поставьте-ка шезлонг на солнышко и, принимая солнечную ванну, выслушайте мой рассказ.
Я послушно сел рядом со сливой на солнце, и, греясь в солнечных лучах, приготовился слушать.
По ее словам, самшитовое дерево, высота которого достигает четырех метров, формой своей кроны напоминает так называемые декоративные деревья, поэтому я к нему и не проявлял особого интереса, но оказывается, его возраст больше четырехсот лет! Когда-то в Восточном Нагано, от нынешнего холма Касюэн до слияния рек, тянулась одна непрерывная возвышенность, там-то и посадили давным-давно этот самшит и тщательно за ним ухаживали. В конце Тихоокеанской войны все человеческие жилища на возвышенности в результате налетов американской авиации были уничтожены огнем, но самшит уцелел. Позже владелец этой земли распродал ее по частям, самшит стал помехой, и старый садовник, жалея, что дерево выкорчуют, временно перенес его в свой маленький садик. Он-то и посадил бесплатно этот самшиту меня за фонарем, когда я выстроил на месте пепелища свой новый дом.
Обычно деревья платят за благодеяния Природы распускающимися весной цветами, принося осенью плоды. Самшит не может похвастаться плодами, зато его всегда густая листва выделяет большое количество кислорода, помогая жизни окружающих деревьев, — так он старается отблагодарить Природу.
Прошло уже сорок лет, как самшит был пересажен в мой сад, но он никогда не пытался выделиться среди своих товарищей. Простирая ветви над оживленной дорогой, он защищал все вокруг от выхлопных газов, охранял своих друзей и при этом ни разу не напрашивался на благодарность. Поэтому никто из садовых деревьев не обращает на него внимания и даже не замечает его существования. Видимо, и я, полагает слива, по этой причине никогда его не замечал.
Однако, с наступлением эпохи Хэйсэй, точно так же как в мире мыслящих людей, произошла духовная революция, растительный мир возвращается к истинной Природе, и заслуги самшита в моем саду получили всеобщее признание, более того, в Природе установился порядок, и деревья стали почитаться в соответствии со своим возрастом.
Слива, которой двести тридцать лет, вторая по старшинству после самшита, а вот магнолии, несмотря на ее величественный вид, всего каких-то сорок пять лет, поэтому она теперь сильно стыдится, что возгордилась, хотя по своим данным не годится в старшины сада, и старается держаться в тени. Все без исключения деревья сада всем довольны и счастливы, с радостью приемля благодать Природы. Поэтому в саду всегда такой покой, к немалой радости птиц…
— Вы только посмотрите. Как дивно прекрасны солнечные лучи! С какой радостью их принимают мои товарищи! Для нас это и есть идеальная «жизнь, полная радости»!..
Услышав столь неожиданные речи, я привстал в шезлонге, и сердце мое затрепетало в сиянии Природы.
— Взгляните на пальму, растущую по соседству с магнолией. Как величественно она вознеслась, раскинув густые листья, похожие на большие веера, разделенные по краю, точно пальцы руки! Магнолия постоянно просила вас спилить эту, по ее словам, дикарку. Хорошо еще, что вы отвечали молчанием… Когда это место пришло в запустение, по счастливой случайности ветер занес сюда семя пальмы, благодаря чему возросло это прекрасное дерево, ставшее ныне гордостью сада. Теперь никто уже на него не жалуется, и оно вместе со всеми нами наслаждается «жизнью, полной радости». Я уж не говорю о других моих товарищах. Все мы в покое наслаждаемся благодатью Природы. Ибо каждый из нас знает, что от Природы получил свою
жизнь.
Я поднялся. Истоптанная трава была еще пожухлой, но, пробиваясь сквозь нее, одуванчики уже раскрывали свои белые цветы.
— «Затоптанный, расцвел одуванчик, такова наша жизнь»… Не читали ли вы, уважаемый, этих стихов? Одуванчик силен. Там, куда вы, люди, обычно не заходите, в правой стороне сада, цветут не только белые, но и желтые его цветы.
Я направил свои стопы туда. Еще безлистые одуванчики там и здесь возносили белые и желтые цветы, ловя лучи солнца. Безымянная мелкая травка трепетала множеством крохотных лиловых цветочков. Под сенью магнолии в зарослях подбела пробилось несколько молодых ростков.
И при этом в нашем саду покой — вот она, Природа. С этими мыслями я направился к самшиту.
В самом ли деле он так стар? Мне, несведущему в деревьях, трудно было в это поверить. Старый садовник, высаживая самшит, не сказал мне о нем ни слова. Я просил его найти саженец магнолии, может быть, поэтому он, смущаясь, счел, что об этом дереве говорить не стоит. Несчастный самшит! Сколько ему пришлось вытерпеть здесь, у самой дороги!..
Я обратил внимание на стоящий под сенью самшита каменный фонарь «Каннон — святая Дева Мария» и, поклонившись, вновь взглянул вверх, на дерево. И вспомнил, как меня удивило, что старый садовник установил в саду этот фонарь.
До войны в моем саду, помимо маленького фонаря «Юкими», стояло три каменных фонаря — после того, как в результате авиационных налетов сгорел дом, только эти фонари и уцелели. Но ко времени, когда присматривавший в мое отсутствие за домом господин А., через три месяца после пожара, построил маленькую сторожку, эти фонари растащили.
На двенадцатый год после пожара я переехал в нынешний дом, и тогда же старый садовник, работавший там до войны, по своей инициативе приступил к обустройству сада, заявив, что делает это из благодарности к прежнему владельцу. И вот, когда он начал глубоко вскапывать большой участок земли под магнолию, пояснив, что ее корни широко разрастаются и вширь и вглубь, из-под земли вдруг показался фонарь «Каннон — святая Дева Мария».
Отдраив и обмыв его, старый садовник громко позвал меня, сидевшего в кабинете.
— Что там такое? — удивился я и поспешил в сад.
— Вы только посмотрите! Это же потайной фонарь христиан! Я слышал о таких от своего учителя, но увидел впервые. Удивительно! Земля здесь с эпохи Токугавы принадлежала господину Окуре, так не был ли он тайным христианином?.. Этот фонарь видел свет солнца, поэтому прошу вас, не закапывайте его вновь под землю, установите в саду!
— Хорошо. Поскольку все другие разворовали… Где же его поставить?
— Доверьтесь мне!
Садовник был обрадован, я же сразу вернулся в кабинет, но под вечер вышел в сад, чтобы попрощаться с работавшими там людьми. Фонарь уже был установлен на нынешнем месте. Старый садовник с видимым удовольствием объяснил:
— В этом месте его как будто обнимает самшит, так что и фонарь себя будет чувствовать в безопасности, и самшит обретет покой.
— Не слишком ли близко к дороге? Сад просторный, не лучше ли было установить фонарь на юго-восточной его стороне?
— Ваш сад возвышается над дорогой, над головами прохожих, фонарь будет у всех на виду. Посмотрите! И фонарь чувствует себя в безопасности, и самшит радуется.
— Ну раз так, хорошо. Спасибо за работу.
С тех пор прошло много лет. Справа от фонаря я высадил белую камелию, присланную мне одним из моих читателей, с левой стороны садовник высадил маленькое деревце, фонарь покрылся тонким мхом, изваянный в камне строгий лик, по-видимому. Богоматери кое-как можно разглядеть, только пригнувшись…
В это время внезапно кто-то окликнул меня сверху. Удивившись, я вскочил. Не было никого, кроме самшита, кто бы мог ко мне обратиться. Я внимательно посмотрел на старое дерево.
— Как же благодатна Природа! Мы все в саду, и деревья и травы, получив жизнь в дар от Природы, постоянно воздаем ей хвалу и хором возглашаем нашу радость.
Я ничего не сказал в ответ, взволнованный окружающим ярким сиянием, только глубоко вздохнул.
— Почему же люди пренебрегают Природой, разрушают природу и в результате сами становятся несчастными? Совсем недавно снесли дом по соседству, да так быстро, что никто не успел и глазом моргнуть. Прекрасный двухэтажный дом в японском стиле мигом разрушили огромными механизмами, обломки погрузили на два грузовика и свезли туда, где строят насыпь на морском берегу, чтобы выбросить как
мусор. А ведь в том доме тоже была
жизнь. В саду росли такие же, как и мы, живые деревья, но и их машинами превратили в мусор и сбросили в ту насыпь. А на освободившемся месте начали строительство трехэтажного многоквартирного дома, нарушая ваш покой. Под предлогом того, что цена земли высока, повсюду происходит то же самое, Природа разрушается… Но Великая Природа не вечно будет терпеть человеческий произвол… Так что люди должны как можно быстрее начать жить, как и мы, в радости… Им ведь тоже заповедана спокойная, счастливая, долгая жизнь…
Вместо ответа самшиту я внутренне возликовал и, приблизившись к сливе, оглядел деревья, растущие в саду.
В сиянии Природы все они хором славословили радость и счастье. Присоединюсь же и я к этому дружному сообществу, подумал я и лег в поставленный на солнце шезлонг, запрокинув голову. Прикрыл лицо платком, отдав тело солнечным лучам, позабыл о работе, обо всем, что меня заботило, и по милости Природы стал одним из деревьев. Вскоре послышалось пение соловья, и я, не чувствуя ни радости, ни удовольствия, просто весь ушел в слух…
Не знаю, сколько прошло времени, и если бы в воротах не появился почтальон, крикнувший: «Вам срочное письмо!», я, наверно, так бы мирно вечно наслаждался Природой, как одно из деревьев, вместе со своими собратьями.
Срочное письмо пришло из Франции, от Мориса Русси. Морис, как я уже писал в «Улыбке Бога», был одним из тех трех моих друзей, с которыми я повстречался, когда, заболев во Франции туберкулезом легких, проходил лечение в высокогорной клинике Отвиля. Гений Жак и Жан Брудель скончались, остался он один, но с тех пор, как несколько лет назад он написал, что болен раком, от него не приходило даже новогодних открыток.
Ставший деревом, я тотчас с радостью распечатал конверт, но так как письмо было на множестве страниц, да еще написано каким-то странным, неразборчивым почерком, я не сразу уловил смысл.
«Дорогой друг!
Как передать чувства человека, возродившегося и перенесенного из ада в рай? Мне такое не по силам, поэтому ограничусь фактами.
В сентябре прошлого года ты написал мне в письме: „Посмотри телевизор одиннадцатого ноября!“ У меня был тогда рак желудка, но какое-то время я лечился дома, поэтому в тот день мог спокойно смотреть телевизор, лежа на своей постели.
Как-то ночью на ложе болезни мне явился гений Жак и сказал:
— Больше полувека назад, когда мы, четыре брата, боролись с болезнью в Отвиле, мы часто говорили о Едином Боге Великой Природы. Этот Бог в 1987 году впервые с тех пор, как на Земле появились люди, спустился на Землю и приступил к Спасению Мира, и один из нас, Кодзиро, встретился с Богом и получил от него помощь. Он полностью выздоровел и, перевалив за девятый десяток, ежегодно публикует большую книгу. Не падай духом, оттого что у тебя рак. Бог Великой Природы придет к тебе на помощь. Вспомни и обдумай то, что он писал тебе в последние годы. Все это — истинная правда, и в ней кроется тайное лекарство, которое исцелит тебя от болезни. Приду к тебе через неделю, так что жди. И хорошо все вспомни!
С этими словами он исчез, но через неделю вновь появился у моего ложа.
— Обнаружил ли ты тайное лекарство, о котором сообщил тебе Кодзиро? — спросил он.
Я сказал ему, что, стараясь меня поддержать, ты часто писал мне о грядущем мире во всем мире, о счастье людей и достойном существовании.
— Это все мне известно, — прервал меня Жак, точно замкнув мои уста. — Чтобы спасти тебя от рака желудка, он попросил меня срочно на тебя воздействовать. По велению Бога Великой Природы, в которого мы верим, он не только пишет книги, но и, получив приказ помогать больным, от которых отказались врачи, посвящает этому в последнее время все свои силы. У него нет каких-то особых сверхъестественных способностей, он всего лишь передает больным то, что велит Великая Природа. Бог Великой Природы, сострадая неизлечимо больным, хочет им помочь… Во Франции очищает и исцеляет души больных вода из Лурда, но в Японию переслать ее нет никакой возможности, поэтому Бог Великой Природы даровал Кодзиро умение самому приготовлять лурдскую воду и повелел лечить ею людей.
Теперь, когда к нему обращаются за помощью больные, от которых отвернулись врачи, он дает им собственноручно приготовленную воду — „Божью воду“, „Живую воду“, и учит, как принимать ее, чтобы омыть душу. И чудесным образом многие люди исцеляются.
— Я сейчас нахожусь на юге Франции, немедленно отведи меня в Лурд, — попросил я его.
— Что ж, идем. В твоем нынешнем состоянии ты и месяца не протянешь. Так же, как некогда в храме Отвиля мы вчетвером возносили молитвы Силе Всемогущей
Природы, вместе помолившись, отправимся в путь. Не будем откладывать. И тогда, как в свое время в Отвиле, ты сможешь на Пасху вернуться к нормальной жизни…
С этими словами он поднял меня с постели… Но, сказать по правде, в этот момент я потерял сознание, знаю, что все время что-то кричал, но что было после — не помню. Наверно, отправился прямиком в Истинный мир…
Как-то утром я проснулся с пересохшим горлом. Медсестра щупала мой пульс. Я попросил воды, и она молча вышла. Вместо нее пришел врач и дал мне воды. Я выпил с удовольствием, чувствуя, как она растекается по телу. Я не мог подняться с кровати. Попросил чего-нибудь поесть. Врач, приподняв мои веки пальцами, заглянул в глаза и вышел. Перед этим у меня из заднего прохода вышло много газа. Вскоре врач ложечкой влил мне в род какой-то жидкой пищи. Я спросил, где я. Врач, заглянув мне в глаза, спросил, как меня зовут. Я ответил. Он спросил, где я живу, после чего вышел. Пришла медсестра.
Я думал, что все это сон, и дремал. Вдруг вижу, возле медсестры сидит моя жена.
— Ты тоже здесь была? — обратился я к ней. — Где я?
— Ты пришел в себя? — спросила она.
Медсестра тут же увела ее и занялась моей задницей. Сменила нижнее белье, подмыла. Мне было приятно. Точно воскрес, захотелось чего-нибудь поесть.
Вскоре жена вернулась вместе с врачом и медсестрой. Прежде чем я успел заговорить, она начала кормить меня с ложечки жидкой пищей. Было вкусно. Я просил еще и еще, и она, улыбаясь, подносила ложку к моим губам. Наконец, я обратился к ней:
— Так где же я? В раю?
— Это больница в Лурде. Не беспокойся и хорошенько выспись.
И, продолжая улыбаться, вышла вместе с врачом и медсестрой. „Больница в Лурде?“ — подумал я и тотчас сладко уснул. Однако меня окликнул брат Жак:
— Морис, ты добрался до этой святой земли и выпил „Божьей воды“, которую называют „Утоляющей жажду“, благодаря чему возродился. Здесь ты должен принять решение. Возвратиться в родные края здоровым или вернуться в гробе. Если выберешь первое, ты полностью „утолишь жажду“, откажешься от власти и желаний и, как твой токийский друг, станешь человеком Истинного мира. Говоря конкретно, недавно у Тебя возникли проблемы с сыном, и ты уступил ему свой бизнес и финансы без всяких условий. Отныне ты будешь жить в согласии с Природой, помогая нуждающимся в твоем краю тем, что дает тебе сын. В этом случае о твоем посещении этой святой земли в будущем будут слагать легенды.
В противном же случае тебя будут презирать за глупый поступок. Решай немедленно. Тебе надлежит сделать лишь то, что уже совершил твой токийский друг. Если решишься, с завтрашнего утра сможешь есть, как обычные люди, и встанешь с постели. И потом сможешь рассказывать всем о том, как почти уже мертвым был перенесен в святую землю, прошел божественное испытание и возродился… Или же хочешь вернуться домой в гробу?..
— Я все понял. Сейчас же позвоню сыну и все исполню, — сказал я, и тотчас Жак исчез. Я открыл глаза, у изголовья сидела жена.
Я сразу же позвонил сыну и выполнил все, что обещал Жаку. Тотчас почувствовал голод и попросил пришедшего осмотреть меня врача принести мне поесть чего-нибудь существенного».
На этом месте я прервал чтение, вложил недочитанные страницы в конверт и откинулся в шезлонге. Я, и не читая, знал все, о чем писал мне Морис.
В 1962 году, в начале лета, я по приглашению Союза советских писателей вместе с Сёхэем Оокой посетил СССР. На обратном пути заехал в Париж и провел два месяца на летнем курорте, где две мои дочери и их учительница музыки снимали дачу: там, совершенно случайно, я присоединился к группе лурдских
паломников, в которую входили мэры и префекты, во главе с префектом Ньевра, и посетил с ними святое место. На меня произвел большое впечатление пышный религиозный праздник, и, конечно, меня потрясли совершавшиеся чудеса…
— Как все-таки прекрасно ясное небо! — невольно воскликнул я.
Морис… Как хорошо! Как замечательно, что ему удалось помочь и он чувствует себя воскресшим. Будем же отныне оба наслаждаться жизнью. Я был рад, что ему помогло так же, как и мне… Все же какой чудесный брат — Жак… Надо поблагодарить гения Жака.
В этом прозрачном небе, в верхних слоях атмосферы, есть Истинный мир, где Жак и сейчас продолжает учиться. Жак! Спасибо тебе!..
Я думал о том, как я счастлив, и мысленно спрашивал садовые деревья, не это ли называется жить согласно Природе?
— Ах да, надо бы позвонить Морису…
С этой мыслью я вернулся в кабинет. Странное дело — я впервые звонил Морису из Токио.
Глава вторая
— Когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев станет президентом, придет весна!
Вот что я услышал от Небесного сёгуна холодным утром в начале января второго года Хэйсэй (1990). Я подумал о том, что в России нет поста президента, но промолчал.
Последние два года я часто слышал рассказы о России не только от Небесного сёгуна, но и от госпожи Родительницы. Первое, что сделал в 1987 году Бог-Родитель Великой Природы, сойдя на Землю для спасения человечества, это устранил неминуемую угрозу войны, вызванную разделением развитых стран на враждебные восточный и западный блоки.
С этой целью первым деянием Бога-Родителя стало исправление сердец руководителей России, лидера восточных социалистических стран, и США, лидера западных демократических стран.
Российского руководителя, генсека Горбачева, Великая Природа прозвала «твердолобым коммунякой», а американского президента Рейгана — «фиглярствующим дядюшкой».
Когда Бог-Родитель Великой Природы отправлялся в Россию или Америку, живосущая Родительница всегда его сопровождала и помогала ему. А моя жена в Истинном мире служила при госпоже Родительнице. И когда госпожа Родительница, следуя за Богом-Родителем Великой Природы, отправлялась в Россию или Америку, жена всегда была с ней рядом…
Об этих деяниях Великой Природы и об их результатах мне время от времени рассказывали госпожа Родительница и Небесный сёгун, но здесь я не хочу на этом останавливаться.
И все-таки насколько же косно человеческое сердце, с каким трудом поддается исправлению! Даже два самых выдающихся политика в мире, несмотря на ласковое поощрение Бога-Родителя, упорствовали в своей твердолобости.
Вскоре в Америке подоспели перевыборы президента, но Рейган по конституции не мог быть переизбран на третий срок, поэтому были выдвинуты два новых кандидата. Бог-Родитель Великой Природы начал работать над этими двумя, и однажды Небесный сёгун сказал мне:
— Бог, кажется, выбрал Буша на пост президента. Так что теперь с Америкой все в порядке. А теперь, по его словам, он сосредоточился на том, чтобы исправить сердце твердолобого коммуняки, поэтому и Россия скоро изменится.
Через какое-то время Небесный сёгун предупредил меня:
— Отныне каждый раз, когда будешь смотреть по телевизору репортажи о «красной» стране, хорошенько следи за выражением лица красного генерала. Увидишь, как оно меняется…
— Под красным генералом ты имеешь в виду Горбачева, этого твердолобого коммуняку?
— Он уже не твердолобый коммуняка. Сейчас он красный генерал. По промыслу Божьему, он наконец уразумел, как очистить свое сердце. А это не может не отразиться на его лице. Ты обязательно заметишь перемену. Понял?
Вечером следующего дня изволила прийти госпожа Родительница, и после долгого разговора, как обычно, появилась моя покойная жена, пришедшая вместе с ней. Она хотела со мной немного поговорить, но я был духовно не готов и не смог напрямую ее услышать, поэтому разговаривал с ней через Небесного сёгуна.
— Живу себе помаленьку. Сопровождая госпожу Родительницу, часто наведываюсь в Россию, помогаю работе Бога и радуюсь вместе с ним. Хорошо, что в Мире явлений я прожила с тобой пять лет во Франции, ныне в Истинном мире это мне на пользу. Мне помогал Анри, сын мадам Бонгран, опекавшей нас в Париже, даже Мишель, единственный сын мадам Рунэ, оказывал мне помощь, так что я смогла порадовать Бога. Каким бременем я была тебе в Мире явлений и сколько причиняла беспокойств! Но теперь я это искупаю здесь, и благодаря тому, что ты сейчас выполняешь Божью работу, я, а главное — все наши дети счастливы…
Это был голос покойной жены. Я не слышал его уже лет семь-восемь и был сильно взволнован. Я хотел с ней заговорить, но внезапно голос жены смолк, и когда я пришел в себя, точно сами собой вспорхнули слова:
— Будем стараться вместе, мон шери!
«Мон шери» — когда мы жили в Париже, так изредка меня называла жена, и сейчас уверенный тон ее голоса напомнил мне то, как она говорила в бытность нашу в Париже… Пока я вспоминал об этом, госпожа Родительница удалилась.
Я стал упрашивать Небесного сёгуна, чтобы он позволил мне еще поговорить с женой.
— Она оборвала свою речь на полуслове, наверно, из-за того, что я так разволновался? — возбужденно допытывался я у Небесного сёгуна.
— Не бери себе в голову! Такие у нее сейчас обстоятельства… Недалек тот день, когда вы сможете, как супруги, спокойно побеседовать обо всем… К тому же Бог хочет сообщить тебе кое-что. Можешь ты успокоиться и выслушать?
— Я не заслужил такой милости.
— Генсек Горбачев станет президентом пятнадцатого марта. В этот день Бог, радуясь, устроит хорошую погоду, будет теплый весенний день. После этого можешь больше не следить за лицом Горбачева, поэтому не спеша прими в этот день солнечную ванну и наслаждайся… Так мне велели передать.
— Пятнадцатого марта? Спасибо.
Тут и Небесный сёгун исчез с моих глаз. Сегодня то самое пятнадцатое марта. Пятнадцатое марта 1990 года. В Токио с утра ясная погода, в небе ни одного облачка, тепло, весна пришла внезапно.
В газетах, по радио, по телевидению: «Горбачев вступает в должность президента», «Воля к реформам и сокращению вооружений», «В СССР — президентская система правления», «Конец монополии на власть», «Создать правовое государство» — под такими заголовками описывают происходящее в статьях, без умолку, срывающимися голосами рассказывают по радио, показывают по телевизору…
С осени прошлого года и по сей день, за какие-то полгода, во всех странах Восточной Европы благодаря воле народов к свободе изменился государственный строй, устранена угроза войны, благодаря наступившему миру многие люди начали прилагать усилия к тому, чтобы сделать радостней свою жизнь. Повсюду люди мыслящие, узнавая каждый день из газет и по телевизору о происходящем, исполнялись радости, как можно было оторвать их от телевизора!?
И я, находясь в Токио, на Дальнем Востоке, ничем не отличался от других.
Каждый день прилипал к телевизору. Более того. Бог велел мне следить за выражением лица Горбачева. Поначалу мне казалось невыносимо глупым занятием, уставившись в телевизор, наблюдать за выражением ничем не замечательного лица «твердолобого коммуняки», высматривая на нем перемены. Однако, продолжая наблюдать, я обнаружил, как меняются его глаза и лысина. Несомненно, в глазах появилось больше мягкости, лысина приобрела новый блеск, и скудная растительность на голове была зачесана по-новому. Лицо неопределенного возраста с экрана телевизора вдруг обратилось ко мне с вопросами. Лицо, казавшееся скорее старообразным, по мере того как смягчались глаза, молодело. С каждым разом оно все больше располагало к дружелюбию, приглашало к разговору.
— Сколько же вам лет? — спросил я.
— Я намного моложе вас.
— Не может быть! — удивился я.
— Вам, вероятно, за девяносто, во всяком случае вы наверняка старше меня, ведь мне пятьдесят девять, — рассмеялся он.
— Пятьдесят девять лет? Такой молодой парень! Просто не верится.
— Что ж, попробуйте, наведите справки, — улыбнулся он.
Лицо его было юношески дружелюбно. Я сразу же бросился проверять.
Так и есть, возраст Горбачева — пятьдесят девять лет.
Это было позавчера. После, каждый раз, когда он появлялся в телевизоре, я подбадривал его: «Эй, Горбачев, держись!» — и он неизменно отвечал мне улыбкой.
А сегодня, пятнадцатого марта, состоялась торжественная церемония вступления в должность президента, он выступил с речью, но, в отличие от предшествующих дней, выражение лица было суровым, и выглядел он сильно постаревшим.
— Поздравляю! — обратился я к нему, и суровые глаза его приветливо заулыбались. — Ну, слава Богу, — обрадовался я, но в этот момент Небесный сёгун зашептал мне:
— Ладно, оставь телевизор! Не для того Бог ниспослал такую теплую погоду, пользуйся его милостью.
Я вышел в сад.
Облитые ярким сиянием деревья и травы возносили стройным хором хвалу природе. Под сенью магнолии, среди разнотравья, сурепка смеялась множеством распустившихся цветов. Камелии улыбались алыми цветами — у каждой свой индивидуальный оттенок. Магнолия кобус, обычно уродливо торчащая в западной части сада, как бельмо на глазу, покрылась множеством белых бутонов и готова была вот-вот зацвести…
«Ну и ну…» — расправив грудь, я осматривал деревья, и видел, что все они, чуждые тревог, сообща радовались природе. И точно зачарованный ими, я выставил в сад шезлонг и, греясь в лучах солнца, умиротворенно вкушал жизнь, дарованную мне Великой Природой.
Лежа в шезлонге и глядя на ясно-голубое небо, я вдруг подумал: это же самое небо простирается над Россией, которой в качестве президента ныне руководит Горбачев, но какова она — Россия при Горбачеве?..
И тут я вспомнил, как меня неожиданно пригласили в социалистическую Россию — мне было тогда шестьдесят шесть лет.
В начале лета того года, когда я, приняв решение умереть для журналистики, сдал в издательство «Синтёся» рукопись первого тома «Человеческой судьбы», мы с Сёхэем Оокой получили приглашение от Союза советских писателей. Это произошло с подачи бывшего редактора журнала «Кайдзо» Харуо Мидзусимы.
У меня в Париже учились две дочери, поэтому я ответил, что приму приглашение, если на обратном пути из России меня доставят в Париж. Оока, чью книгу переводили на французский, должен был решить некоторые вопросы с французским издательством, так что он тоже выставил условие, чтобы на обратном пути остановиться в Париже. Когда все было улажено, Мидзусима дал мне совет: поскольку Оока — человек капризный, любящий командовать, лучше назначить его главой нашей маленькой делегации и во всем уступать первенство.
Оока был моложе меня лет на десять, и я не был с ним знаком, но подумал, что так мне будет даже вольготнее.
В Москве нас встретил секретарь Союза писателей. Переводчиком была А., преподававшая японскую литературу в Московском университете. Секретарь обращался со мной как с главой делегации, более того, дал понять, что, собственно, пригласили меня, а Ооку добавили, чтоб мне одному было не так одиноко… Я старался помалкивать и предоставил на все вопросы отвечать Ооке. Получалось примерно так:
Секретарь: «Так что бы вы хотели посмотреть в нашей стране?»
Я: «Оока, скажи, что тебя интересует».
Оока: «Вы ведь нас пригласили, чтобы что-то показать. Вот и покажите!»
Секретарь (мне): «А вы что скажете?»
Я: «Я того же мнения… Я почти ничего не знаю о вашей стране. В студенческие годы, правда, любил читать Толстого, Достоевского и Тургенева, поэтому представляю, какой была страна в то время… Но после революции, вероятно, все изменилось…»
Секретарь: «Забавно такое слышать. Ничего не изменилось. Во-первых, религия…»
Я: «Что? Религия все еще существует, сейчас, после революции?..»
В результате на следующий день нас повезли в лавру — главный православный храм. Сопровождавшая нас в качестве переводчика дама, преподававшая японскую литературу в Московском университете, призналась нам, что сама до сих пор не знала о существовании лавры.
В восемь утра машина Союза писателей заехала за нами в гостиницу. А. уже сидела в машине. Через полтора часа мы въехали в рощицу на возвышенности, где и находилась лавра. Вокруг толпились русские паломники, в одной из палат небольшого дворца нас ждал настоятель храма.
Благословив нас, он разъяснил нам внутреннее устройство монастыря (лавры), рассказал, что в стенах лавры и сейчас преподается традиционное богословие, известное по всему миру, и предложил, если у нас есть желание, посетить занятия. До революции многие выпускники семинарий шли в политику и держали в своих руках судьбы Российской империи, ныне же они служили в церквях, разбросанных по всей Руси.
На паломничество в лавру стекаются верующие со всей страны, но поскольку книгоиздание находится в ведении государства, до недавнего времени нельзя было напечатать даже такую необходимую книгу, как Святое Писание, однако сейчас, к радости всех верующих, лавре разрешили заниматься издательской деятельностью. Это было беспрецедентным решением, в результате которого верующие наконец-то смогли сами читать Библию.
Тут А. шепнула мне по-японски, чтоб я попросил у настоятеля в подарок эту Библию.
Я выполнил ее просьбу, и в то же время невольно добавил от себя:
— Я был уверен, что в вашей стране победил атеизм и религия запрещена, как духовный опиум, поэтому мне кажется просто невероятным, что существует такая роскошная лавра, в которую стекаются паломники со всей страны.
И вот что рассказал нам настоятель.
Когда разразилась Вторая мировая война, нацистская Германия захватила страны Восточной Европы, а затем вторглась в Россию. Российская армия сперва терпела поражение, город Ленинград оказался в блокаде, нацистские войска рвались к Москве. Тогда руководство пошло на серьезный шаг — воспользовавшись патриотическим настроем народа, особенно крестьянства, оно призвало встать на защиту страны и дать отпор захватчикам, пообещав некоторое послабление в вопросах веры. Это немало способствовало победе над фашистами, благодаря которой и существует сегодня Россия…
На этом беседа с настоятелем закончилась, и в сопровождении служителя мы осмотрели художественный музей. Там были выставлены прославленные иконы, но перед каждой из них крестились и молились верующие, так что мы не смогли ими особо полюбоваться. Вошли в зал скульптуры, но и там вокруг изваяний святых толпились верующие, гладили руками головы статуй и били себя в грудь, так что невозможно было подойти.
— Ну прям как у нас в Асакусе перед статуей Каннон! Дурость какая! — воскликнул Оока по-японски и, к моему удивлению, захохотал.
В залах музея было так много людей, что хотелось поскорее выйти на свежий воздух, и мы все поспешили в сад. Сад был довольно просторный, но и там толпились верующие. Пройдя чуть дальше, мы вышли на берег пруда. Там бил источник, и верующие, столпившись вокруг, зачерпывали ладонями воду, пили и разливали по различным емкостям, чтобы увезти с собой домой. Нам сказали, что это святая вода, которая исцеляет от всех недугов…
Для меня оказалось полной неожиданностью, что нам, впервые приехавшим по официальному приглашению в социалистическую Россию, благодаря невзначай оброненному слову показали православную лавру. В результате после, совершая поездки по стране, я смог получить правильное представление о ней.
Если даже наша переводчица А. из Московского университета прежде не подозревала о существовании лавры и была уверена, что в матушке России религии вовсе нет, то я, не увидев лавры, вполне мог упустить из виду существование самой православной церкви.
В тот вечер в гостинице, когда мы остались с Оокой наедине, он выразил неудовольствие, что по моей вине мы зря потеряли целый день. Я попытался было возразить, но Оока продолжал возмущаться — он приехал посмотреть советскую Россию, а вместо этого потратил целый день на какие-то древности! Вспомнив совет Мидзусимы, я отдал Ооке справочные материалы, которые нам дали в лавре, попросив оставить мне то, что ему не нужно, но он все забрал себе.
На следующий день переводившую для нас А. сменил ее ассистент М. Это был юноша двадцати семи лет, специалист по французской и японской литературам; сопровождая нас, он горел желанием узнать побольше о японской литературе, впрочем, и я почерпнул от него много для себя нового. Он не только переводил, но и водил нас на запланированные Союзом писателей экскурсии. Во время нашего пребывания в Москве он приходил в восемь часов в гостиницу, вел нас на экскурсию, затем обедал вместе с нами в ресторане и в половине седьмого привозил в гостиницу. Сопровождал он нас повсюду и в поездке по регионам.
В конце той недели, когда мы посетили лавру, во время экскурсии по Москве мы проезжали мимо большого собора. Заинтересовавшись, собираются ли там по воскресеньям верующие, я хотел на минуту зайти. Он воспротивился, заявив, что там нет ничего интересного, но я упрямо направился к церкви. Все просторное внутреннее помещение было забито верующими, те, кому не хватило места, благоговейно стояли у входа, яблоку негде было упасть. Удовлетворившись увиденным, я вышел, а неотступно следовавший за мной М. спросил:
— Ну что, ведь нелепо выглядит?
— Я не ожидал, что в Советской России по воскресеньям в церквях собирается так много верующих, и мне кажется это любопытным.
— Наверняка одни старики. Их нельзя назвать истинными гражданами Советской России. Они жили еще в дореволюционной России и ходят в церковь по старой привычке. И это несмотря на то, что их освободили от Бога. Несчастные старики, они так и не сумели избавиться от привычки ходить в церковь! Наш народ закрывает глаза на тех, кто еще при жизни сходит в могилу.
Позже, когда наше посещение показательного колхоза случайно пришлось на воскресенье, я увидел, как старики ковыляют в старую, полуразвалившуюся церковь, и про себя с ним согласился…
Переводчик М., как подобает истинно советскому гражданину, отвергал не только религию, но и вообще все традиционные народные обычаи и в соответствии с коммунистической идеологией своей страны был убежден, что жить надо сегодняшним днем. И не он один. Многие интеллектуалы, с которыми я общался в России, исповедовали те же убеждения.
Стараясь исходить из логики своих собеседников, я довольно быстро находил понимание и разрешал все вопросы. Особенно это касалось М. Мне было нетрудно поверить в идеологическую безупречность человека молодого, занимающего завидную должность ассистента по французской и японской литературе в государственном университете. Однако в какой-то момент все же закрались сомнения.
Это было утром, на одиннадцатый день нашей поездки втроем по регионам. С первого дня поездки М. каждое утро писал два письма и отправлял их по почте. Когда в то утро он, как обычно, писал письмо, Оока упрекнул его:
— Небось каждое утро пишешь на нас донос? Может, хватит?
М., сделав удивленное лицо, сказал:
— Какие доносы? Одно письмо я пишу в Москву своей невесте, другое — отцу.
— Каждый день одним и тем же людям?
— Разумеется.
Можно поверить, что человек каждый день пишет своей невесте, но ежедневно писать отцу — как-то странно.
Оока так и сказал. М. объяснил это сыновней почтительностью.
— Сыновняя почтительность? Да этих слов и в Японии в последнее время не услышишь. Неужто сыновняя почтительность — одна из заповедей коммунизма?
— Нет. В нашей стране существует старинное поверье: тот, кто почитает родителей, долго живет. До того как встретить свою невесту, я не задумывался о долголетии и не слишком почитал родителей. Но после того как встретил ее и мы с ней помолвились, я впервые задумался о долгом счастливом будущем и стал мечтать о долгой жизни. Мы часто с ней обсуждали, как достичь долголетия, и тут меня осенило. А именно — обычай, который издревле практиковался у нас на Руси: если будешь почитать родителей, проживешь долго и счастливо. Когда я отправлялся с вами в путь, отец беспокоился: писатели, мол, вообще народ капризный, а двоим потрафить — задача почти непосильная. Поэтому каждое утро я подробно пишу ему о том, что узнал от вас нового о Японии, чтоб он понапрасну не волновался. И я премного вам признателен, что благодаря вам могу исполнить свой сыновний долг.
— У меня сын одного с тобой возраста, я знаю многих его друзей, и всем им плевать на своих родителей. Выходит, все они умрут молодыми? — захохотал Оока.
Слушая их разговор, я напряженно думал. Удивительно, что в сознание этого воспитанного на коммунистических идеалах юноши проникла частица народной, иррациональной мудрости! Впрочем, любому поборнику какого бы то ни было «изма» нелегко удовлетворять всем его требованиям.
Не в тот ли период я так остро всем своим существом проникся происходящим в социалистической России? Припомнились тогдашние мои впечатления.
Я не мог поменять иены на рубли. «Вы приехали по приглашению, поэтому деньги вам не понадобятся. Вы ничем не ограничены, просите все, что угодно, днем и ночью» — так нам было заявлено.
На второй день, посоветовавшись с Оокой, я обратился с просьбой. Подавать нам французский завтрак, а кроме того — две порции фруктов. На завтрак и на ужин — черную икру. На ужин — вино. Для Ооки — сигареты высшего сорта, две пачки в день. А если нам что-либо понадобится во время экскурсий, чтобы мы могли обратиться к М.
Со следующего утра все, что мы просили, неизменно доставлялось во время завтрака в гостинице. И позже любое наше требование немедленно удовлетворяли. «Настоящий коммунизм!» — поначалу восхищались мы, но вскоре поняли, как неудобно обходиться без денег и не иметь возможности делать покупки.
Например, если я хотел послать своей семье в Токио открытку, надо было накануне определить, кому я собираюсь ее послать, и, сделав заказ, ждать целый день. Все это было так нелепо, что и я и Оока по прибытии в Москву послали домой только по одной открытке. Когда мы выходили в город, я внимательно смотрел по сторонам, но не мог обнаружить ни одного магазина и не видел людей, совершающих покупки. По словам М., для жизни вполне хватает предметов первой необходимости, достающихся по распределению, поэтому граждане избавлены от необходимости делать покупки, но я остро почувствовал, насколько неудобной, насколько несчастливой была реальная повседневная жизнь горожан.
Вот конкретный пример. Когда окончился трехнедельный срок нашего визита, М. сказал, что на этом его обязанность заканчивается. На прощание я хотел подарить ему что-нибудь в знак благодарности и спросил, нет ли у него каких-то пожеланий. Он ответил, что у каждого из нас при себе несколько шариковых ручек, так вот не можем ли мы подарить ему по одной?
Мы с Оокой невольно переглянулись. Отец М. также преподавал в государственном институте, вся семья, должно быть, принадлежала к интеллектуальной элите Советской России, но мы и вообразить не могли, что М. столь стеснен в быту.
Разумеется, мы с Оокой отдали М. все шариковые ручки, которые у нас были. Он, обрадовавшись, горячо нас благодарил, пожелал мне в будущем больше следить за своим здоровьем, а Ооке — творческих успехов и вместо двух пачек выкуривать в день четыре сигареты.
— Да ты мне в сыновья годишься! Вот еще, буду я выслушивать поучения от такого сосунка! — засмеялся Оока, замотав головой.
В тот же день после обеда к нам в гостиницу пришел секретарь Союза писателей в сопровождение переводчика А., доцента Московского университета. Он сообщил нам, что вылет самолета завтра в первой половине дня, нас доставят в Хабаровск, а оттуда на советском корабле мы вернемся в Японию. Он пришел выполнить связанные с этим формальности.
Его заявление было как гром среди ясного неба. Когда мы прибыли в Москву, нам обещали, что на обратном пути нас доставят из Москвы в Париж на «Эр Франс» и Союз писателей возьмет на себя не только оформление всех документов, но и сообщит расписание рейса тем, кто ждет нас в Париже, поэтому мы были спокойны. И вот теперь, когда наступило время лететь в Париж, нам заявляют: «Возвращайтесь в Токио через Сибирь»! К тому же объясняют это тем, что российское государство испытывает нехватку валюты и не может оплатить наш полет из Москвы в Париж.
Я, как глава делегации, продолжал настаивать. У нас обоих неотложные дела в Париже, поэтому, если советское правительство не в состоянии оплатить наш перелет, мы отправимся туда пешком.
На это секретарь сказал:
— Вы знаете расстояние до Парижа? Когда-то давно Наполеон со своей армией, наступая на Москву, был вынужден проделать этот путь пешком, но даже ему это оказалось не по плечу, и он потерпел поражение. Так что не говорите ерунды и соглашайтесь на наше предложение.
Я спросил мнение Ооки. Он также заявил, что отправится в Париж хоть на своих двоих.
Секретарь посоветовал нам предстоящей ночью спокойно все обдумать и вместе с А. удалился.
Надо сказать, нам пришлось немало поволноваться.
Утром на завтрак со стола исчезла черная икра, а вместо нескольких сортов фруктов, которые нам обычно подавали, принесли немного консервированных цитрусовых. Уже одно это говорило о том, что пора уезжать. Мы поняли, что так или иначе нам до полудня придется убраться из этой знаменитой гостиницы.
Однако в десять часов неожиданно появился переводчик М., которому сказали, что мы еще не все осмотрели в Москве, и велели провести с нами экскурсию.
То же самое на следующий день. И на следующий. На четвертый день Оока, едва проснувшись, будучи не в духе, начал меня донимать:
— Я уже согласен лететь через Сибирь, лишь бы вернуться домой. Не можем же мы и в самом деле возвращаться пешком.
За время нашего путешествия я уже не раз испытывал на себе его беспричинные приступы раздражения, поэтому и на этот раз ответил добродушно:
— Не волнуйся. Я тоже не собираюсь возвращаться пешком.
— Но ты же сам во всеуслышанье объявил, что пойдешь пешком, вот они теперь и выжидают, когда ты отправишься в путь.
— Не может быть!.. Они поняли, что я шучу, не бери в голову…
— Скорее сочли тебя за полоумного старика! — эти его слова я пропустил мимо ушей.
Как и в предыдущие дни, пришел М. и с ходу радостно оповестил нас: в Союзе писателей хотели сводить нас на оперу, но не могли, поскольку театральный сезон закончился, однако две недели назад в оперном театре прошла премьера «Дамы с камелиями», тепло встреченная московской публикой, и сегодня руководство страны приглашает на представление делегации иностранных государств, поэтому, если мы желаем, он достанет три билета.
От его слов у Ооки улучшилось настроение, и мы решили сходить на русскую постановку «Дамы с камелиями». Специально для иностранных делегаций тенор, исполняющий партию Альфредо, и баритон в партии Жермона выступят в утреннем спектакле.
Роскошь внутреннего убранства московского оперного театра поразила меня, хоть мы и сидели все трое в самых задних рядах партера. В молодости я дважды видел в Париже «Даму с камелиями», и меня всегда трогала ария, в которой Жермон, отец Альфредо, рассказывает сыну о «Земле и море Прованса». Специальная ложа, отведенная для иностранных делегаций на втором ярусе, выглядела на мой вкус слишком претенциозно, но на сцене, когда поднялся занавес, все было точь-в-точь как в Парижской опере.
И тут случилось нечто неожиданное.
Зрители начали всхлипывать, а то и плакать навзрыд. Ария Жермона «Земля и море Прованса» прошла под аккомпанемент всхлипов и рыданий публики, так что я ничего не мог расслышать. Последние жалобы Альфредо, посещающего умирающую Виолетту, были совершенно заглушены рыданиями зрителей.
Никогда прежде я не видел такого и был в недоумении. Повернувшись, я заметил, что и наш М., закрыв лицо руками, всхлипывает, да что там, рыдал весь первый ярус. Зрители второго и третьего ярусов повскакали с мест и рыдали стоя.
Что происходит? Надо бы завтра спросить, всегда ли русские так «слезливы» на драматических представлениях, подумал я, вновь погружаясь в атмосферу роскошного московского оперного театра, сотрясаемого хором рыдающих россиян. Но про себя продолжал задаваться вопросом — неужто эти неулыбчивые россияне настолько чувствительны к чужому горю?
На следующее утро вместо переводчика М. в гостинице появилась А., сказав, что пришла по поручению секретаря Союза писателей.
— Простите, что по досадному недосмотру Союза писателей вам пришлось задержаться, — сказала она, — но сейчас все проблемы устранены, удалось достать два билета на самолет «Эр Франс», вылетающий сегодня в полдень. Я буду вас сопровождать, соберите багаж!
Вот и не пришлось идти пешедралом, сегодня же вечером я буду в Париже! Я был счастлив. Вещей было не так много, чтобы их долго «собирать». Можно не торопиться. Я повеселел, А. также оставила официальный тон и вступила со мной в непринужденную беседу. Я узнал от нее много неожиданного.
Например, что во время нашего пребывания в Москве в гостинице постоянно находился человек, знающий японский язык, который подробно докладывал о нашем поведении в Союз писателей. Что черная икра, которую нам неизменно подавали утром и вечером, хоть и производится исключительно в России, является таким дорогим деликатесом, что даже государственные чиновники могут позволить себе ее только раз в неделю, поэтому затраты на нашу черную икру наверняка пробьют ощутимую брешь в бюджете Союза писателей. Что нас пригласили, поскольку мы оба, как писатели, имели высокую репутацию, но тот, что помоложе, хоть и должен был, по идее, во время визита вести себя так же, как старший, по вечерам заказывал себе в номер крепкие напитки и в одиночестве предавался возлияниям, результаты которых сказывались еще и на следующий день, когда он изводил пожилого писателя своим дурным настроением, ставя в неловкое положение и его и переводчика…
— Что бы обо мне ни болтали, я не скрываю, что люблю выпить и покурить, не чета вам, «морально устойчивым», — засмеялся Оока. — А на «Эр Франс» мы не опоздаем?
И он начал торопить А. Мы поняли, что, если упустим этот рейс, нам уж точно придется добираться до Парижа пёхом.
А. сказала, что она еще накануне оформила все документы и телеграммой сообщила время прилета моей дочери, живущей в Париже, поэтому спешить некуда. В конце концов, она довезла нас до аэропорта на машине Союза писателей, поджидавшей у гостиницы.
Нам не сообщили ни названия, ни расположения аэропорта. Сразу бросился в глаза французский самолет на взлетной полосе. А. переговорила с французским служащим и стюардесса, без досмотра багажа, повела нас в самолет. А. первой поднялась на борт. Только усадив нас в первом классе, она, кажется, успокоилась…
— Мне сказали, что сейчас должны сесть французские пассажиры и самолет отправится в полет. Билеты я передала стюардессе. Счастливого пути. В следующий раз, надеюсь, встретимся в Токио.
Учтиво раскланявшись, она покинула самолет.
Я тоже почувствовал некоторое облегчение и глубоко вздохнул. Не прошло и пяти минут, как стюардесса передала нам билеты со словами:
— Российские власти постоянно проделывают такие фокусы, но будьте так любезны, займите места, указанные на билетах, — после чего проводила нас в эконом-класс.
— Это называется по-советски? — засмеялся Оока, — в этот момент самолет начали заполнять французские пассажиры.
Интересно, насколько современная Россия при президенте Горбачеве отличается от той советской России, которую посетил я? Об этом я размышлял, устремляя мысли к московскому небу. Прошло двадцать восемь лет, но вряд ли с тех пор советский народ существенно изменился. В то время, куда ни пойдешь, у всех вокруг были скорбные лица, того и гляди расплачутся, никто не улыбался, уж не потому ли, что все были несчастливы?..
Я припоминал все, что Небесный сёгун сообщал мне о деяниях Бога Великой Природы с тех пор, как три года назад Он впервые в истории сошел на Землю, чтобы спасти мир. Как же должна была потрудиться Великая Природа, чтобы вложить божественное сердце в Горбачева, этого «твердолобого коммуняку»! Прошлой осенью, когда Великая Природа назвала Горбачева «красным генералом», бывшие под его властью народы социалистических стран Восточного блока, движимые духом свободы и независимости, один за другим освободились из-под гнета социализма и, хоть с опозданием, стали демократическими по образцу стран Запада, начав работать над тем, чтобы преодолеть свое экономическое отставание.
Тогда же Бог Великой Природы, радуясь, что отныне устранена угроза войны между Востоком и Западом, вверил Россию «молодцу Горбачеву, впервые позволившему себе улыбку», чтобы напомнить его народу, что значит улыбаться.
Итак, сегодня, пятнадцатого марта, этот «молодец», став президентом великой страны, воплотил замысел Бога Великой Природы на политическом уровне… По сему случаю Великая Природа уготовила такой по-весеннему ясный день.
Я, приподнявшись, огляделся по сторонам.
Теплый, дивный свет тихо разливался по саду. Листва на деревьях нежно блестела, а из травы поднимались цветы навстречу солнцу. Сад невелик, но что за счастье вот так в покое наслаждаться Природой! Не это ли «жизнь, полная радости»? Блаженный дар жизни?.. И мы согласно кивнули, я и мои родные деревья.
Какой-то юноша незадолго до этого поднялся на пару ступеней каменной лестницы сбоку от главных ворот и, увидев меня со спины, лежащего в шезлонге с протянутыми ногами, застыл в нерешительности, но как только я встал, он взбежал по лестнице, почтительно застыл передо мной и, выговорив: «Сэнсэй…», поперхнувшись, замолчал.
Кто это? Что ему нужно? Какое-то мгновение я пребывал в растерянности, и тут юноша, утирая слезы, вдруг выпалил:
— Как хорошо, что я не покончил с собой!
— Каким же надо быть идиотом, чтобы в такой погожий день совершать самоубийство! Или не знаешь, как должно почитать жизнь? Хорошо, что остановился!
Стараясь быть как можно непринужденнее, я пригласил юношу пройти в восточную часть сада, вынес стул и приготовился внимательно выслушать то, что он мне хотел сообщить.
Юноша напомнил мне меня самого в то время, когда я учился в Первом лицее…
Глава третья
Он был студентом Токийского университета.
Позже я узнал, что отец его, закончив Токийский университет, поступил на службу в Японский банк, со временем стал влиятельным человеком в финансовом мире, продолжает работать и вообще человек известный. Мой гость был единственным сыном после трех сестер, его холили и лелеяли, он был даровит и с первого раза поступил в университет, короче, всем облагодетельствованный юноша, которого никак не возможно представить несчастливым.
Начав слушать его рассказ, я тотчас вспомнил приходившего ко мне в прошлом году N. О нем я написал в предыдущей книге «Воля человека», и обстоятельства жизни обоих были так похожи, точно это был один человек. N., поступив в Токийский университет, время от времени наведывался ко мне, радуя своим жизнелюбием.
Я успокоился, решив, что и этому молодому человеку достаточно посоветовать то же, что и N.
Но, едва он заговорил, заливаясь скорбными слезами, выяснилось, что, не исполнив задуманного самоубийства, он потом
сожалел об этом. Мне пришлось выслушать долгий, сбивчивый рассказ, чтобы понять, почему у него появилась мысль о самоубийстве.
Рассказ был не слишком занимательным, поэтому я по большей части пропускал его мимо ушей, предоставив ему возможность выговориться.
Но было в его словах и нечто, поразившее меня. У меня на родине есть нависающая над морем скала, где ныне установлена каменная стела в честь моих литературных заслуг. Если спуститься к морю и пройти по воде, оказываешься у расщелины, напоминающей темный туннель, так вот о ней-то и заговорил мой юный гость. Судя по его словам, это место нисколько не изменилось со времен моего детства.
Честно говоря, в последний раз я был там, когда учился в пятом классе, и вновь вернулся в эти места только после того, как на скале установили памятный знак, а неподалеку возвели посвященный мне музей, но я не спрашивал и не знал, что сталось с расщелиной.
В те времена обязательным было четырехлетнее образование, а пятиклассников называли учащимися первого класса высшей ступени. Мои товарищи, жившие по соседству, окончив четыре класса, подались в рыбаки, учебу продолжили только трое — я, Ёсаку и предводитель хулиганов по прозвищу Тигр. Этот Тигр обращался со мной и с Ёсаку как со своими вассалами.
Как-то раз, в конце первого семестра, когда занятия окончились раньше обычного. Тигр предложил нам с Ёсаку пойти в «Ведьмино логово», и, не заходя домой, мы отправились к горе Усибусэяма со стороны Ганюдо. На скале, где сейчас стоит каменная стела, мы разделись догола и, оставив одежду и школьные принадлежности, спустились к морю и прошли по воде к расщелине, которую в те времена называли «Ведьминым логовом».
В «Ведьмином логове» было темно, как в туннеле. Далеко впереди, виднелся бледный слабый свет, и я подумал, что там выход, возле которого находится дом маршала Ивао Оямы.
Однако вода в «Ведьмином логове» доходила до груди, и, пройдя несколько шагов, держась обеими руками за стену нависающей скалы, я почувствовал, что меня сносит сильным течением, и остановился. Если бы течение подхватило меня, я бы наверняка утонул. Дойти до конца туннеля не было никакой возможности. В страхе я сказал Ёсаку, прижимавшемуся рядом со мной к стене:
— Я возвращаюсь!
— Я тоже, — сказал Ёсаку, но сделать это оказалось не так просто.
Тут я заметил, что Тигр стоит, прижавшись к противоположной стене.
— Мы возвращаемся! — крикнул я ему, но в туннеле стоял такой шум, что я не был уверен, расслышал ли он мои слова. Тотчас сквозь шум донесся голос Тигра:
— Я хотел, чтоб мы все трое здесь утонули… Нашли общую могилу… Но лучше бросить школу и вступить в молодежный отряд! Поэтому я сматываюсь…
Так, по крайней мере, мне послышалось. Мы с Ёсаку тоже решили выбираться, чего бы нам это ни стоило. Не знаю, сколько прошло времени, но наконец мы выбрались из туннеля, обогнули по воде скалу и вскарабкались наверх, туда, где оставили одежду. Тигр нас опередил и, забрав одежду, уже шагал вдоль моря в сторону устья реки Канагава. Мы поспешно похватали свои манатки и побежали вдогонку.
Когда мы прошли около километра, справа показалась скала Фудо, и мы со стороны моря поднялись на высокий берег, заросший по-летнему густой травой. Там мы втроем, как были голыми, упали навзничь, точно подкошенные, не произнося ни слова.
Через какое-то время я поднялся и, сказав, что возвращаюсь домой, начал одеваться. Они тоже решили идти по домам, но напоследок Тигр сказал:
— Никому не говорите, что мы были в «Ведьмином логове»! А то решат, что на нас пало проклятье. Не зря его называют живой могилой.
От берега в деревню вела узкая тропинка. Только пройдя через лесозащитную полосу и выйдя к великолепному двухэтажному особняку господина Мано, обращенному в сторону моря, я наконец успокоился. Я никому не рассказывал об этом зловещем приключении. Но оно много раз преследовало меня во сне. Между прочим, возле того места, где ныне расположен музей, раньше находился крематорий. Говорю крематорий, но там не было никакого сооружения, в сосновой рощице была вырыта яма метр на метр, в которую бросали валежник, опускали гроб и, как в глубокой древности, поджигали, чтобы он сгорел за ночь. Таким образом сожгли моего деда, умершего, когда я учился в первом классе средней школы.
В общем, это было довольно мрачное место. Но описанные события относятся к моему раннему детству, и вскоре тогда я напрочь обо всем позабыл. Как же я удивился, когда по прошествии восьмидесяти лет студент Токийского университета неожиданно упомянул о страшном «логове»!
В тот день, пятнадцатого марта, студент между прочим сказал:
— Когда я учился во втором классе высшей ступени, мой друг М. покончил с собой, но перед этим мы говорили с ним… Его родители — выходцы из уезда Сунто… За скалой, где установлена ваша мемориальная стела, в море есть несколько скал, образующих что-то вроде туннеля… В нем глубокая вода и сильное течение, так что умереть там проще простого и тело не выплывет… Это место называют живой могилой. М. сказал, что пойдет туда и покончит с собой. На третий день я получил из Нумадзу прощальную телеграмму, и он бесследно исчез. Видимо, погиб в туннеле.
Я хотел расспросить моего гостя об этом жутком «логове», но тут он сказал, что еще вчера, решив покончить с собой, по примеру своего друга пошел на этот берег, поэтому я решил не прерывать его и молча слушать. Рассказ был длинный и, признаться, скучноватый.
Сперва я терпеливо выслушивал все, что он говорил, но мне было жаль хорошей погоды, поэтому, не выдержав, я его оборвал:
— Когда мне было столько, сколько сейчас тебе, я два или три раза собирался совершить самоубийство, поэтому я не воспринимаю твой рассказ как пустую болтовню… Хорошо, что ты этого не сделал. Если ты совершишь самоубийство, твоя молодая немощная плоть погибнет, но
жизнь твою уничтожить невозможно. Перед твоим приходом я, обращаясь к Великой Природе, благодарил ее за то, что она даровала мне
жизнь и вместе с нею возможность наслаждаться этим чудесным днем.
—
Жизнь дарована Великой Природой?
— Именно так. И твоя
жизнь — дар Великой Природы. Ты по молодости этого не замечаешь, но задумайся. Ибо эта
жизнь наставляет тебя и ведет… Великая Природа дает
жизнь не только человеку, но и каждому дереву, каждой травке.
— Что? У травы, как и у людей, есть
жизнь?
Он вдруг заметил у себя под ногами среди пожухлого дерна жмущийся к земле одуванчик и, удивленно вскрикнув, вскочил.
— Взгляни, как, распрямляя свои примятые листики, приподнимается цветочек… Это одуванчик.
Я встал с шезлонга и, проведя юношу к каменной лестнице у главных ворот, показал ему жалкий одуванчик, пробившийся между камней.
— Этот тоже, — сказал я, — как и тот, страдал под ногами людей, но дух его
жизни силен, он первым ожил весной и, раскрыв цветок, возносит хвалу Великой Природе. Пройдет несколько теплых дней, и в этом маленьком саду гордо расцветет множество белых и желтых одуванчиков… Если уж зашел разговор о
жизни, меня больше волнует этот
жалкий одуванчик…
Я стал рассказывать ему о деревьях в моем саду, но внезапно он, точно разговор о
жизни и одуванчике пробудил в нем воспоминания, прервал меня.
По его словам, накануне вечером, когда, задумав умереть, он вышел на морской берег в Нумадзу, из-за западного ветра море штормило, и до поздней ночи невозможно было пройти под дамбу. Поэтому он зашел в находящийся поблизости музей. Вписывая свой адрес и имя в книгу посетителей, он спросил, есть ли зал, откуда видно море. Его провели на второй этаж. Он был там один. Придвинув кресло к окну, он сел, глядя на море. И в море и на небе бушевала буря, из-за порывов ветра, ударявшего в окно, почти ничего не было видно. В голове не было ни одной мысли, и тут он вспомнил открытку со стихотворением, которую мельком видел в киоске внизу.
Как одуванчик.
Затоптанная продолжает цвести
Наша жизнь…
77 лет.
Казалось бы, такие простые слова, но смысл их понять нелегко. Жизнь написавшего эти стихи цветет, как одуванчик… — вновь и вновь крутилось в его голове, но вдруг в шуме бури, сотрясающей окна, раздался громовой голос:
— Глупец! Жалкий глупец, не ведающий
жизни. Не жди, когда наступит ночь, немедленно бросайся в море! Не пройдет и десяти минут, как тело твое умрет. Ты думаешь, что это конец. Но когда ты пойдешь ко дну и дыхание твое прервется, твоя
жизнь продолжит жить. Ты не знаешь, что такое
жизнь, дарованная тебе Великой Природой. Глупый человек! Пестовать эту
жизнь, чтобы она распустилась, как цветок, и принесла плод, — вот долг твоего существования!
— Но кто ты?
— Я посланник Великой Природы. Ты должен осознать, что
жизнь дарована тебе Великой Природой, и жить подобающе. Глупец! Чтобы спасти тебя, Великая Природа, дохнув, подняла бурю, устроила шторм на море. Какое расточительство! Ты понял? Внемли. Твой долг — пестовать
жизнь, чтобы она расцвела и принесла плод.
— Как только я это услышал, у меня сперло дыхание, задыхаясь, я обратился лицом к Великой Природе, бушующей за окном, и — все понял. «Я так и сделаю!» — сказал я, преисполнившись решимости и вняв словам посланника Великой Природы…
Не знаю, сколько прошло времени, но ко мне обратилась служительница музея:
— Вы случайно не сын господина Айта? Вот эти посетители спрашивают вас.
Она показала мне визитную карточку.
Я спустился вниз, там были близкие друзья моего отца, супруги Хираи. Они проводили несколько дней у себя на даче, расположенной неподалеку, у горячего источника Кона, и по дороге в Токио заехали в музей. Поскольку музей уже закрывался, они предложили мне возвратиться вместе с ними. У них, мол, «мерседес-бенц» с шофером, так что я не доставлю им никаких хлопот…
Такой была спасительная помощь Великой Природы, и его рассказ я выслушал с радостью. Не потому, что он заинтересовал меня сам по себе. Меня подкупало то, что этот юноша по своему характеру был так похож на меня в то время, когда я учился в старших классах школы.
Тут дочь сообщила, что приготовила нам чай в восточной части сада.
— В такой чудесный день можно обойтись без глубокомысленных рассуждений, достаточно благодарить Великую Природу за то, что она даровала нам
жизнь.
— Только сегодня я впервые осознал, что такое
жизнь. — Лицо студента прояснилось, осветилось. Вновь всмотревшись в него, я подумал: мне повезло, что я повстречался с этим юношей, но нужно с толком использовать эти счастливые минуты…
Бывают удивительные встречи.
Неожиданно наступила хорошая погода, осчастливленный по-весеннему теплым днем, наслаждался я солнечными лучами в саду, и тут явился этот незнакомый юноша, вместе с ним мы грелись на солнце, наслаждались Природой и потом разошлись. Сколько продолжалась наша встреча — час? два?
— Сэнсэй, можно ли мне еще раз к вам прийти?
— Ну конечно… Уже уходишь?
Я проводил его до каменной лестницы у ворот, и мне показалось, что сходящий по ступеням юноша — это я сам. И вдруг мне подумалось: ведь я так и не знаю точно, кто он и откуда. Проблема, с которой он столкнулся, оказалась как нельзя кстати, лучшего и желать невозможно, с точки зрения его жизни все было ему в плюс. Слушая его, странным образом я чувствовал, что он такой же, как я, но для него это был плюс, а для меня, увы, минус. Чтобы впервые хоть немного ощутить, что такое
жизнь, нам обоим пришлось пережить искус самоубийства…
Так рассеянно размышляя, я вновь и вновь припоминал юношу, но, спохватившись, что это еще один признак старения, постарался о нем забыть.
Прошло два-три дня. Ясным вечером, выйдя в сад, я любовался пышно распустившейся алой сливой, как вдруг на замощенной камнем дорожке у ворот показался тот же юноша.
— Сэнсэй, я вам не помешаю? Я пришел извиниться.
— Что такое? Поступил на экономический факультет?
— Результатов еще не объявляли. Я повел себя неприлично в прошлый раз. Ничего о вас не зная, непрошено нарушил ваш покой…
— Вот как? Я-то тебя знаю прекрасно. Чего мне до сих пор неизвестно, так это как тебя зовут… Рад вновь тебя видеть.
— Меня зовут Минору Айта… Но вы сказали, что хорошо меня знаете, что вы имеете в виду?
— В прошлый раз ты так хорошо рассказал о себе… Но главное, ты точь-в-точь такой же, каким я был в юности. Вот так-то, Минору. Встретившись с тобой, я, старик, многое обдумал из своей юности и многое понял… Это меня порадовало.
— А я ничего о вас не знал и ворвался к вам единственно потому, что в вашем музее отказался от самоубийства. И вы так любезно меня приняли… На обратном пути я зашел в книжный магазин и поразился. Ваши книги занимают целую полку!.. Я спросил у продавца, что мне прочесть, чтобы лучше узнать об авторе, он мне посоветовал «Человеческую судьбу». В карманном издании — семь томов. Это устрашило меня. Но, вернувшись домой, я тотчас начал читать и вот только три часа назад наконец дочитал до конца. И сразу же решил, что мне необходимо с вами встретиться, и вот я здесь…
Я не стану ничего говорить о «Человеческой судьбе». Эта книга произвела на меня ошеломляющее впечатление, перевернула мое представление о мире, я должен еще дважды, трижды перечитать ее, прежде чем смогу высказать свое суждение. Я хотел только взглянуть на вас, чтобы закалить свой дух. В прошлую нашу встречу я впервые благодаря вам смутно начал догадываться, что такое
жизнь. Драгоценную
жизнь я получил в дар от Великой Природы, но когда я понял, что каждое дерево, каждая травинка также получили в дар
жизнь, мне кажется, я увидел мир другими глазами.
Так он говорил. Между тем я, проведя его в гостиную, заметил:
— Жизнь есть не только у травы и деревьев, этот дом, этот стул, все вещи домашнего обихода — все живут.
— Как? И этот стул — живой?
— Да, живой, поэтому, так же как деревья и травы, если с ним заговорить, он ответит.
— С ним можно разговаривать, правда?
— Вот тебе доказательство… Я каждое утро бреюсь безопасной бритвой, но с тех пор как я, побрившись, обращаюсь к ней со словами: «Большое спасибо!», она стала мне отвечать… Прежде мне одной бритвы не хватало и на неделю, а сейчас я пользуюсь той же бритвой аж две недели. Попробуй сам.
— Неужели и у безопасной бритвы есть
жизнь, просто не верится.
— Именно поэтому она отвечает мне. К сожалению, она бессловесна, поэтому не может изъясняться словами.
— Бессловесна… Тогда и деревья и травы тоже бессловесны?
— Да, ни одно живое существо не имеет речи. Только человек владеет речью… В Писании не зря сказано — в начале было слово. Великая Природа только человеку дала речь. Ты, наверно, понимаешь, как важна, как драгоценна для человека речь… Ведь ты, наверно, каждое утро, встречаясь с родителями, приветствуешь их. Обращаешься к ним со словами…
— Нет, в последнее время я с ними не здороваюсь.
— Значит, стал бессловесным животным? Ты меня удивляешь. Ты должен делать это каждое утро, чтобы вновь стать человеком…
— Вы имеете в виду — здороваться?
Он засмеялся, я засмеялся в ответ и вновь заговорил:
— Ты вот давеча сказал… Мол, пришел на встречу со мной, чтобы закалить свой дух. Не знаю, что ты понимаешь под своим духом, но я убежден, что я — твой духовный отец, а ты — мой духовный сын. Само собой разумеется, что духовный сын старается познать своего отца, но так же естественно, что духовный отец надеется на развитие своего сына. Вот почему каждое утро говори: «Доброе утро». Как бы по-детски это тебе ни казалось.
— Я все понял, — заулыбался он.
— Ну что ж, чтобы быть достойным тебя, я должен идти работать… Если понадобится поддержка, всегда приходи.
С этими словами я поднялся и потрепал его по плечу. Выйдя его проводить, я, стоя на каменной дорожке перед воротами, проводил его глазами.
Прошло несколько дней. Как-то, поработав часа два после обеда, я, чтобы дать отдых глазам, взглянул на южную часть сада и увидел, что кто-то прислонился спиной к большому камню перед алой сливой. Вышел на веранду взглянуть — студент Минору.
— Эй, Минору, — окликнул я его, — что-то ты нынче припозднился!
— Сэнсэй, как удивительно много цветущих одуванчиков! Желтые, белые…
— Сейчас я к тебе спущусь, — сказал я и вышел в сад. — Послушай, Минору, выполняешь ли ты то, что давеча обещал, обращаешься ли к родителям каждое утро со словами приветствия?
— Да, я исполнил обещание. Но сперва все вышло как-то нелепо… Когда я утром поздоровался с мамой, она с подозрением спросила: «Что случилось?» — «Всего лишь утреннее приветствие», — ответил я. «Это мне понятно, но не скрывается ли какой-то умысел в том, что ты вдруг, ни с того ни с сего, начал здороваться по утрам?» Она не отставала от меня, пока я не признался, что это вы меня подучили… Услышав ваше имя, мама была наверху блаженства… Позже я узнал, что с юных лет она была вашей ревностной читательницей и почитательницей, в ее комнате оказались все ваши книги, и то же у отца, они и поженились-то, сойдясь на почве любви к вашему творчеству… Я упрекнул ее, почему же в таком случае она, когда я учился в школе, не дала мне почитать «Человеческую судьбу»… Чуть даже не поссорились… Но обошлось, мать удовлетворилась пожеланием, чтобы меня с вами связали более глубокие отношения…
— Ну и продолжаешь ли ты по утрам приветствовать родителей?
— Говорю: «Здравствуйте», и мама отвечает: «Доброе утро!»
— Таким образом ты наконец стал человеком.
— И с отцом мы теперь по утрам обмениваемся приветствиями.
— Отлично… Это и есть Природа.
— Я понял, что самое важное — Природа. Тоже и в образовании… Когда преподаватель навязывает ученикам свои убеждения, это против Природы, — сказал он и поспешно добавил: — Меня приняли на экономический факультет.
— Молодец, наверно, дома все рады…
— Я проявил малодушие. Ответив на экзамене, я решил, что провалился и ни на что не способен, и в ту же минуту всем своим существом возжелал смерти и отправился совершать самоубийство… По счастью, я остался жив и как же обрадовался этому, когда получил извещение, что выдержал экзамен! Тогда я начал обдумывать, в чем причина кризиса. Неужели у меня могли быть такие мысли?.. С целью убедиться в том, что я полностью от них избавился, я решил отправиться на место, где собирался покончить с собой. Был теплый, ясный день, ничто не напоминало о бушевавшей тогда на море буре. Там стоит стела в вашу честь. В тот день был такой страшный шторм, что я не мог приблизиться к ней. На камне вырезаны ваши слова…
На заре своих дней
Я,
Брошенный отцом и матерью.
Нищий,
Стоял на этом берегу.
Слушал шум волн,
Гул ветра
И думал о далеких
Иноземных странах.
Для вас это дорогое, спасительное место. А я готов был осквернить его, сделав местом смерти! Сердце мое было переполнено… Я приуныл и вдруг вспомнил слова Дзиро Мори в «Человеческой судьбе»: «Ты — сосунок, взращенный в тепличных условиях. Выйди на Природу, если хочешь получить полноценное развитие…»
Затем, руководствуясь моей книгой, он поднялся на гору Усибусэяма, повернулся лицом к Фудзи, прошел через пойму реки Каногава и через Ганюдо. Ощутив свою связь с Природой, вчера ночью он вернулся домой.
— Ты молодец… Из теплицы сразу шагнул в Природу?.. Только смотри не простудись, — расхохотался я.
— Вам тоже надо следить за своим здоровьем. Теперь, когда я соединился с Природой, хочу порадовать моего духовного отца, распустившись цветами и принеся плоды… Да, одной встречи с вами оказалось достаточно, чтобы мой дух утешился, поэтому пора браться за учебу.
С этими словами студент Минору впервые осмелился пожать мне руку и поспешно удалился.
На следующее утро, в восемь, не успел я сесть за стол, как меня позвали к телефону. Звонил Минору. Что еще случилось? — удивился я.
— Сэнсэй, доброе утро! — сказал он.
— Доброе, доброе, — ответил я, ожидая, что он приступит к делу, но он сказал:
— Вы не сердитесь, что я звоню вам с утренним приветствием?
На тот момент я еще не вполне свыкся с мыслью, что смог дожить до утра, поэтому ответил:
— Ты удостоверил меня в том, что я еще не умер.
— Что, если я буду каждый день по утрам вас приветствовать? — вновь спросил он.
— Ну если раз в три дня, — засмеялся я.
Он также засмеялся и повесил трубку.
Через три дня в то же время он позвонил мне с утренним приветствием и с тех пор неизменно звонил каждые три дня.
Его звонки нисколько мне не досаждали. Напротив, они доставляли мне по утрам удовольствие. Но я так ничего и не знал о его учебе. Может быть, из-за того, что я об этом беспокоился, он не выходил у меня из головы. Странное дело… Надо сказать, что, приехав на морское побережье в Нумадзу и зайдя в музей, он купил несколько открыток с моими стихами и хотел расспросить меня, чтобы узнать, правильно ли он их понимает.
Родные края…
Меня, одинокого,
обнимают.
Сделав передышку.
Довериться
Силе времени.
Этому меня учил
Поль Валери.
Любить
Значит ранить.
Только на старости лет
Я это всем сердцем постиг.
Однако тогда он не осмелился спросить, поскольку я обошелся с ним как с малым ребенком. Позже, узнав об этом, я сильно раскаивался и чувствовал себя виноватым, но не подтверждает ли это, что между нами и впрямь установились отношения, как между духовным отцом и его сыном?
В один из последующих дней ко мне в дом пришел представитель жителей Каруидзавы. Я поддерживал акции протеста жителей Каруидзавы, направленные против того, чтобы скудные остатки леса в этом районе были куплены под площадки для гольфа, и в результате долгой борьбы жители в конце концов победили и решили выкупить эту узкую полоску леса вскладчину, чтобы она сохранилась в своем естественном виде. Представитель инициативной группы спешил поделиться со мной своей радостью.
К этому времени в прошлом просторные леса и луга Каруидзавы уже были превращены в площадки для гольфа, отравляя жизнь местным жителям и дачникам. Если и то немногое, что сохранилось от природной лесной зоны, превратится в площадки для гольфа, Каруидзава станет непригодной для жизни людей. Говоря об этом, представитель инициативной группы поделился со мной наблюдениями во время своих поездок по Швейцарии, Франции и Германии.
Ни в одной из этих стран он нигде не видел площадок для гольфа, и ему объяснили, что из-за массовых протестов людей, озабоченных состоянием Природы, строительство площадок для гольфа было прекращено. Если суммировать площадь этих площадок во всех трех странах, то, по его словам, она составит не более четверти площади, отведенной для гольфа в одной только префектуре Тиба.
Кстати, я и сам до войны жил во Франции и Швейцарии и после войны многократно бывал в этих странах и жил в них подолгу, но нигде не видел площадок для гольфа. У меня там есть близкие друзья, но в наших беседах ни разу не звучали слова «гольф» и «площадка для гольфа».
По словам представителя инициативной группы, площадки для гольфа изначально строились под предлогом заботы о физическом развитии граждан, однако в нынешней Японии для обычных людей они недоступны, только малочисленный привилегированный класс участвует в соревнованиях, вышагивая по полю вместо прогулки или развлекаясь игрой на деньги; еще устраиваются соревнования спортсменов, для которых гольф — профессия, с денежными призами, так что и для привилегированного класса эти площадки никак не связаны с первоначально заявленной целью — развитием физической культуры.
К тому же, чтобы дерн на площадках для гольфа оставался пригодным для спортивных соревнований, используют различные удобрения, которые отравляют обычную растительность и даже наносят вред сельскохозяйственной продукции близлежащих угодий.
Следовательно, площадки для гольфа, возникающие повсеместно оттого, что испорченные деньгами японцы, потакая своим желаниям, высокомерно забыли об уважительном отношении к Природе, являются бессмысленными сооружениями, они разрушают Природу и наносят вред множеству людей. На этот раз жители Каруидзавы встали на защиту небольшой рощицы, но в дальнейшем следует организовать движение за возврат в природное состояние всех площадок для гольфа…
Поскольку японцы демонстрируют высокомерное равнодушие к разрушению Природы, Небо всенепременно опустит свой карающий меч. Но тогда, даже если они прозреют, уже невозможно будет вернуть погубленной Природы… Во избежание этого было организовано Общество охраны Природы, и представитель инициативной группы обратился ко мне за содействием.
Я не мог оставаться глухим к призыву защищать Природу, и после обстоятельного разговора мой собеседник ушел удовлетворенным, а я вышел проводить его до ворот.
В это время по лестнице энергично поднялся юноша Минору.
— Чудесный сегодня день, не правда ли? И вы как-то особенно бодро выглядите…
— Да, потому что мы обсуждали бережное отношение к Природе.
— Бережное отношение к Природе? Но ведь это само собой разумеется!
— Само собой разумеется, но не делается. Люди относятся к Природе с безразличием, всячески третируют ее и разрушают.
— Вы мне уже объясняли, что мы получаем жизнь от Природы… Получается, люди губят Природу, являющуюся родительницей их жизни.
— Вот почему я так опечалился… А что у тебя, занятия начались?
— Нет еще. А хоть и начнутся, многие поступившие в Токийский университет считают, что теперь можно не беспокоиться о будущем трудоустройстве, но когда они пойдут на службу, у них уже не будет столько свободного времени, поэтому развлекаются сейчас кто во что горазд.
— Извини… Твое лицо сияет так, будто в твоей жизни началось что-то новое…
— Я начал изучать французский, и он оказался неожиданно легким, я хотел поделиться с вами моей радостью.
— А какие иностранные языки ты уже изучал?
— Английский и немецкий. Английским я владею даже лучше, чем японским, поскольку в детстве воспитывался в Америке, а среди моих одноклассников был немец, я с ним сдружился и благодаря ему стал свободно говорить по-немецки. Теперь же, в связи с моими занятиями, возникла потребность во французском, и я взялся за него — что за чудесный язык! Достаточно запомнить грамматику, и уже можно без труда и читать и писать, а особенно говорить, такой естественный язык, сразу становится родным.
— Не знал, что у тебя такой талант к языкам.
— Иностранный язык — всего лишь язык, ничего особенного, — рассмеялся он, а я про себя порадовался, что мне стало известно еще об одном таланте этого юноши. Но сам он к этому относился вполне равнодушно… Его не было несколько дней, и теперь он заметил, что цветы в саду уже распустились, и, пройдя под магнолию, увидел лиловые цветочки редьки.
— Это ведь редька? Не думал, что у редьки такие красивые цветы! Красивее даже, чем у сурепки. Может быть, стоило посадить их побольше?
— Я не сажал… В этом году они выросли впервые, сами собой.
— Как же много цветущих трав, и вы знаете, как все они называются?
— Нет. Для меня это просто цветы.
— Удивительно, с приходом теплых весенних дней даже эти неприметные растения распускают цветы!
— Любое из них получило от Природы
жизнь, поэтому весной они расцветают, чтобы принести плоды. И алая слива, и магнолия…
Я замолчал, боясь, что моя речь превратится в проповедь, а он, продолжая стоять, громко сказал:
— Мы, люди, тоже получили
жизнь от Природы. Значит, должны бережно к ней относиться.
— Но, несмотря на это люди только и делают, что губят Природу…
Греясь в лучах весеннего солнца, мы с Минору завели беседу о бережном отношении к Природе. Я сказал, что понятие «Природа» объемлет не только окружающую нас среду, но и братские отношения между людьми, когда один человек живет ради другого, и отношения между людьми и вещами… Говоря это, я про себя размышлял.
У этого юноши выдающиеся способности к языкам, но какие еще в нем заложены таланты, я не знаю. Осуществить свои способности — это веление Великой Природы, долг по отношению к Великой Природе, его судьба. И при этом он, как последний глупец, хотел совершить самоубийство! А прошло-то всего каких-то пару месяцев!..
Решившись, я, стоя перед ним, положил ему на плечи руки и серьезно сказал:
— Вот что, больше не помышляй о самоубийстве!
Едва я произнес эти слова, мои глаза защипало от слез. Он молчал.
— Одна-единственная просьба.
Только я это сказал, как он припал головой к моей груди, задыхаясь от слез. Естественно, я его обнял, но в душе встревожился — значит, он не оставил мысль о самоубийстве… Некоторое время мы стояли так, обнявшись. Но вот он поднял голову, хотел утереть ладонями слезы, но я поспешил передать ему платок, которым сам только что утер свои слезы…
— В то время, — сказал он, — я был одинок, очень одинок. Сейчас у меня есть отец. Есть мать. Есть вы, мой духовный отец. Моя смерть нанесла бы смертельный удар моему отцу, матери, вам, дорогой учитель, поэтому я теперь ни за что не совершу самоубийства! Ибо эта
жизнь дарована мне Великой Природой…
— Ты меня успокоил, — сказал я, улыбаясь, и легонько потрепал его по плечу.
— Учитель, — сказал он с серьезным лицом, — живите долго! По крайней мере, пока я не повзрослею.
И, точно застыдившись своих слов, поспешно удалился.
После этого от него не было никаких известий, прекратились звонки с утренними приветствиями. Я уж забеспокоился, не случилось ли чего, но, не зная ни адреса его, ни телефона, не пытался как-либо с ним связаться. И решил забыть обо всем этом: «Появится, когда я ему понадоблюсь», но на сердце было как-то тоскливо. Странные отношения!..
Это было на следующий день после Пасхи.
Вновь наступили холодные дни, вдобавок каждый день лили дожди. Вечером того дня меня посетила известная писательница Митико Нобэ, которая к тому же является протестантским пастором, возглавляет церковный приход и ведет миссионерскую деятельность.
Мы познакомились, когда она, бросив учебу в женском университете, дала мне прочесть рукопись своего романа, и вот уже почти шестьдесят лет мы поддерживаем дружеские отношения. Эти шестьдесят лет вместили бедственные времена, когда Япония вела войну против всего мира и потерпела поражение. Митико изредка навещала меня и поддерживала.
Но не это привело ее в мой дом на следующий день после Пасхи.
После долгого перерыва она опубликовала рассказ в апрельском номере одного литературного ежемесячника. Прочитав его, я обрадовался. Это был настоящий шедевр, в котором она не выпячивала, как прежде, свое «я», ни в стиле, ни в разработке главной темы. Этот превосходный рассказ свидетельствовал, что она полностью состоялась как писатель. Я был рад, что благодаря своему долголетию смог наконец-то увидеть расцвет ее писательского таланта. Я даже подумывал, как бы это отпраздновать.
В тот же вечер я позвонил ей и передал свою радость и поздравления.
Именно поэтому она, несмотря на занятость, пришла ко мне, я же, напротив, был смущен. Получая журнал «Большой источник», который ежемесячно издает ее церковь, я знаю, как широко по стране распространилась ее миссионерская деятельность, но… Даже до того, как она стала пастором, она признавалась мне, что пишет во время готовки в кухне, где же она пишет теперь — в электричке?..
— Мне звонили литературные критики и хвалили мой рассказ, но ваши слова, ах, они по-настоящему меня успокоили. Ведь ваша похвала — это похвала человека, который наблюдал за моим развитием на протяжении всей жизни, поэтому я так рада! Я же всегда хотела быть прежде всего писателем…
Видя, как живо она радуется, я вдруг спросил себя, сколько же ей сейчас лет? Должно быть, под восемьдесят, на ней сшитое по фигуре платье, столь же элегантная шляпка скрывает седые волосы, но может быть, жизнь, отданная вере и проповеди, скрадывает годы…
И как раз в это время домашние передали мне, что пришел Минору. Я провел его в комнату и представил Митико Нобэ. При этом я сказал:
— У госпожи Нобэ два сына, и оба учились в Токийском университете, младший, кажется, еще студент, или уже поступил в аспирантуру?
Я взглянул на Нобэ.
— Ну зачем же вы… — сказала она, улыбаясь, и рассказала юноше, как после войны она, прихватив своего сына-младенца, посетила меня в моем временном жилище в Мисюку. Я тогда содержал своим литературным трудом семью из пяти человек, поэтому, с головой уйдя в работу, задержался в своем кабинете на втором этаже. Волей-неволей ей пришлось сунуть грудь плачущему малышу, и как раз в этот момент я спустился со словами: «Госпожа Нобэ… У вас еще один?..»
— Кажется, что это было всего три-четыре года назад, но время летит быстро, младенец давно уже закончил университет, — рассмеялась она и начала втолковывать Минору, как следует студенту с пользой для себя проводить время.
Я тоже прислушался к ее наставлениям, подумав, что впервые слышу, как она проповедует, выступая в роли пастора. Она минут пятнадцать с пафосом увещевала юношу, и он слушал молча и внимательно.
Закончив, госпожа Нобэ заторопилась уходить, я проводил ее до ворот. Минору вышел вместе со мной.
Когда она ушла, Минору, вздохнув, сказал:
— Несчастная женщина.
— Выдающийся человек!
— Может, и выдающийся, но все же несчастный.
— Почему ты решил, что она несчастна?
— Такие дивные цветы глицинии… Темно-зеленые листья отливают красным, а она даже не обратила внимания.
— Да нет же, просто она в рассеянности засиделась и торопилась домой.
— В таком случае могла бы не читать мне четверть часа нотации.
— Так нехорошо говорить. Нобэ очень добрая женщина… Уж скорее ты глуп, раз посреди этой дивной Природы несешь такую чушь.
— Это точно! — расхохотался он и, встав передо мной, вежливо поклонился: — Я давно у вас не был и сегодня мне показалось, что деревья сада велят мне извиниться перед вами, и вот я бегу к вам, а тут эта выдающаяся женщина-пастор принимается читать мне проповедь… Я-то думал, что пасторами и священниками бывают только мужчины, но что пастор — женщина, да еще писательница, привело меня в замешательство. Видать, она и в самом деле выдающийся человек!
— Да, госпожа Нобэ замечательная женщина. Но хватит об этом. Глупый отец и его глупый сын встретились после долгой разлуки. Давай же весело наслаждаться Природой.
Однако выражение лица и поведение юноши выдавали, что ему не терпится что-то мне сообщить. Я волей-неволей приготовился слушать. Но, слушая, по своей глупости никак не мог сообразить, что же его так сильно угнетает.
Оказывается, в прошлый свой визит, уходя, он вдруг решил, что совершил бестактность, явившись без приглашения и отняв у меня время. Обдумывая характер наших отношений, он устыдился, что ведет себя слишком своекорыстно. Если так, то скоро его невзлюбят. Он напряженно думал, каким образом укрепить, как продлить наши отношения. И не нашел другого способа, как заглушить нарождающуюся в нем привязанность ко мне и погрузиться с головой в учебу, чтобы когда-нибудь доставить мне радость своими успехами, а к тому времени, глядишь, и наши с ним отношения войдут в обыкновенное русло. Он тотчас приступил к осуществлению своего плана. Не позвонил, вернувшись домой, и перестал каждый день звонить с утренним приветствием. При этом рьяно взялся за учебу. Но оттого ли, что душа его не лежала к учебе, никаких особых результатов он не добился. Прошло много дней, и вот как-то раз мать неожиданно зашла к нему в комнату.
— Ты знаешь, что сэнсэй любит — из еды?
— Я его не спрашивал.
— Чтобы знать, не обязательно спрашивать.
— Понятия не имею. А что?
— Ты, кажется, давно не навещал его, я подумала, может, пошлешь ему что-нибудь из того, что он любит…
— Это только смутит его. Лучше я сам к нему схожу.
Отдав должное проницательности своей матери, почувствовавшей, что у него на уме, он тотчас вышел из дома. И уже подходил к моему дому, когда выстроившиеся вдоль улицы дубки его обругали:
— Сын, не почитающий отца!
Почему же, вдруг подумал он, сэнсэя нет в саду, где так красиво отливают красным дубовые листья! Уж не заболел ли?.. Он поспешно нажал на звонок у входа. Вышла дочь. Он спросил: «А сэнсэй…», и она сразу провела его в салон.
Там он увидел, что я здоров и занят разговором с пожилой дамой, похожей на гадалку. Он удивился, когда я представил ее как известную писательницу и пастора, а она, едва завидев его, с ходу пустилась не то проповедовать, не то поучать, как должно жить молодому человеку.
Проводив эту замечательную женщину и стоя со мной в саду, юноша, точно спасенный милостью прекрасной Природы, просветлев лицом, сказал:
— Вдоль дороги стоят несколько дубков, и я поразился. У всех у них подстриженные в виде шара кроны отливают красным, нет ни одного зеленого листика, точно они превратились в огромные круглые букеты, собранные из маленьких красных цветочков… С ними что-то произошло? Прежде это были обычные деревья…
— Они откликаются на зов весны.
— Но разве на зов весны откликаются не цветами?
— Дубам не дано распускаться цветами… Потому они каждый листочек превратили в красный цветок. Посмотри внимательней!
— Действительно листья, а выглядят точь-в-точь как цветы. И эти красные листья в конце весны тоже увянут и опадут, как цветы?
— Нет, перед сезоном дождей они вновь позеленеют.
— Неужели? Они на такое способны?
— Чудесное дерево! Получив
жизнь от Природы, оно старается как может отблагодарить ее.
— А как нам возблагодарить Природу за нашу жизнь? — рассмеялся юноша и как бы между прочим спросил: — Так что же вы больше всего любите из еды?
— Я все люблю, ничему не отдаю предпочтения.
— Вы хотите сказать, что нет ничего, чем бы вы брезговали?
— Точно так. Не припомню ничего подобного.
— Вы ставите меня в трудное положение.
— Тоже выдумал!
— Но что же я скажу маме?.. — улыбнулся он, покачав головой.
Глава четвертая
После того как Минору засыпал меня вопросами о Митико Нобэ, я и сам удивился — как давно мы знакомы.
Уже шестьдесят лет. Я был в растерянности: с чего начать рассказ и о чем стоит рассказать в первую очередь?
Я вспомнил, что за все время нашего длительного знакомства я только раз услышал от нее жалобы на свою судьбу, и при этом — незадолго до смерти.
Кажется, это было в мае 1959 года.
За два года до этого, в июне, я закончил продолжавшееся двенадцать лет строительство моего нынешнего дома.
Таким образом, мы с женой обрели наконец спокойное пристанище в новом доме. Младшая дочь, обычно помогавшая вести домашнее хозяйство, уехала в Париж заниматься музыкой, жена же, объявив себя женой батрака, стала делать все сама, обходясь без посторонней помощи. Впрочем, на то были и экономические причины…
Как бы там ни было, после войны, как я уже писал неоднократно, я превратился в батрака, возделывающего пером рукописи и этим содержащего всю семью. Благодаря помощи Великой Природы, две старшие дочери счастливо вышли замуж, две младшенькие по своему желанию отправились в Париж заниматься музыкой. Для батрака — в денежном отношении — это было почти неподъемно.
Накатани, мой старинный друг со времен учебы в Первом лицее, а в то время — заместитель директора банка М., постоянно убеждал меня:
— Нельзя брать в долг деньги у частных людей, для этого существуют банки. Возьми в банке кредит!
Последовав его совету, я избавил себя от необходимости перед кем-либо унижаться и забыл о своем бедственном положении, хотя, разумеется, банк М. выдавал кредит не задаром, надо было постоянно выплачивать проценты, поэтому мой кошелек всегда был тощим.
В то время я как-то раз сказал жене:
— Я уже перестал быть батраком и наконец-то вернулся к настоящей писательской работе, так что и тебе пора вновь стать супругой писателя и, как и прежде, не отказывать себе в нарядах и косметике.
Жена, тихо улыбнувшись, ответила:
— Став женой батрака, я впервые познала счастье женской доли, и вообще мне так комфортнее, поэтому уж лучше я и дальше буду оставаться женой батрака.
Она сказала это веселым тоном и, держа чашку с чаем, ушла в кухню, но при этом она прекрасно знала, как сильно мы стеснены в средствах, и наверняка втайне страдала от нужды.
В то время в галерее на Гиндзе проходила выставка «Современная французская живопись», и, возвращаясь из редакции газеты «Асахи», я зашел туда. Картины меня разочаровали, но я случайно столкнулся там с художником С., которого давно не видел.
Художник С. занимался живописью в Париже, но во время Тихоокеанской войны на последнем корабле, отплывающем в Японию, вернулся с семьей на родину. Он намеревался вернуться в Париж, когда вновь наступит мир, и оставил там дом. Однако, когда война окончилась, экономические условия изменились, он не имел возможности поехать в Париж, а в Японии, которой было тогда не до искусства, он, как художник, бедствовал.
Выйдя из галереи, мы зашли в ближайший ресторан и непринужденно болтали о том о сем, и тут он неожиданно обратился ко мне с просьбой. Если у меня будет возможность, обязательно посадить в саду при моем новом доме, в солнечном месте, саженец магнолии. Через несколько лет магнолия начнет распускаться красивыми белыми цветами, тогда он сможет ее нарисовать, и получится великолепная картина.
Я вспомнил, что его картина, изображающая цветущую магнолию, высоко ценилась и получила известность в Париже, и мне она нравилась. Поэтому, расставаясь, я пообещал ему, что поговорю с садовником.
Не откладывая, я передал его просьбу садовнику, и тот сказал, что в восточной части сада много свободного места, поэтому там, у дороги, вполне можно посадить магнолию.
Два дня спустя ранним утром старый садовник пришел со своим сыном и сообщил, что нашел саженец магнолии. Саженец высотой всего два метра, но он скоро вытянется и корни раздадутся, поэтому перед посадкой необходимо хорошо вскопать почву.
Положившись на садовника, я погрузился в работу в своем кабинете.
Через какое-то время садовник радостно закричал, что нашел каменный фонарь «Каннон — святая Дева Мария», — впрочем, я, кажется, уже писал об этом. Я и тут доверился садовнику. Фонарь он установил в западной части сада возле дороги. Его было хорошо видно из комнаты жены.
Этот фонарь для христиан символизировал радость обретения свободы веры, и я подумал, что из тех, кто бывает в моем доме, по крайней мере Митико Нобэ будет ему рада.
В тот же вечер я работал в своем кабинете на втором этаже, когда вошла жена. Она беседовала внизу с Митико Нобэ, но ей было необходимо сходить за покупками, и она попросила меня занять гостью. Я давно не общался с Митико, поэтому поспешил к ней. Думал — кстати поговорим о фонаре…
Она сидела в комнате жены, едва завидев меня, вскочила и, ни слова не говоря, отвесила глубокий поклон. Но то была не прежняя Митико.
Какая-то не то скорбь, не то тоска читалась на ее лице, и она, даже не поздоровавшись, неожиданно сказала:
— Вот я пришла к вам наконец с просьбой… Если я умру, мои сыновья соберут мои произведения и издадут одной книгой, вы уж тогда, пожалуйста, не откажите им в помощи.
— Но чем же вы больны? — сказал я, не в силах сдержать удивления.
— Кажется, рак.
— Что говорят врачи?
— Я не обращалась к врачам…
— Вас не осматривали врачи?
— Я лучше, чем кто-либо другой, знаю все о своем организме.
Как только я это услышал, на глаза мои навернулись горячие слезы, я не мог произнести ни слова, переполненный скорбью и состраданием. Я мучился от бессилия, от невозможности помочь этой достойной женщине, которая никогда не поддавалась горю, была воплощением счастья, а ныне попала в такую беду. Точно уже не вспомню, какими словами я постарался, глотая слезы, выразить обуревавшие меня мысли, но, кажется, примерно так:
— Госпожа Нобэ, вы с малых лет воспитывались матерью-христианкой. Ваш супруг — старший сын японского представителя всемирно известного христианского объединения. И вы сама — христианка. Я тоже верую в христианского Бога-Родителя, и, заболев, прошу помощи Него, у Великой Природы. Именно сейчас вы должны положиться на помощь Бога-Родителя. Если вы на это не способны, вы не христианка. Забудьте о смерти и радостно вручите свою жизнь Богу.
Я говорил с жаром, но не знаю, достигли ли мои слова ее слуха и сердца. Как бы там ни было, она молча ушла.
Обессилев, я продолжал оцепенело сидеть в комнате жены. Внезапно мне на глаза попался фонарь святой Девы Марии, я пожалел, что не рассказал ей о нем, и начал молиться Богу Великой Природы, чтобы Он спас ее
жизнь.
Вернувшись из магазина, жена увидела, что Митико ушла, а я один сижу неподвижно в ее комнате.
— И Нобэ и я воспитаны так, что стыдимся заговаривать о деньгах, точно родились в раю… — сказала она. — Получив от рождения истинную
жизнь, мы были счастливы… Но началась война со всеми ее тяготами, и Бог Великой Природы нам, людям, наделенным истинной жизнью, облегчил существование — меня сделал женой батрака, ее — экономкой, на плечах которой лежит все домашнее хозяйство… Так что не бери в голову…
— Ты сказала, что Нобэ стала экономкой?
— Даже и не экономкой, простой домработницей… Я тоже одно время ходила пригнув голову, все искала, не уронил ли кто монетку… Наверняка и Митико переживает нынче нечто подобное.
— Ты говоришь так беззаботно… Но она выглядит ужасно ослабевшей, точно при смерти.
— Я тоже какое-то время чувствовала себя ослабевшей и умирающей. И Митико скоро поправится… Так же, как и я, она владеет истинной
жизнью.
Услышав это, я вернулся к себе в кабинет. Сразу сел за работу, но на душе было неспокойно. В голове неотвязно крутились слова жены, что, мол, и она и Митико словно бы родились в раю.
То, что у моей жены было безоблачное детство, я хорошо знал, но про Митико услышал впервые. Пытаясь во всем этом разобраться, я стал вспоминать ее в молодые годы. Кстати, и Минору особенно интересовался ее юностью…
Впервые она пришла ко мне в 1934 году.
Дочь моего близкого друга попросила меня почитать рукопись своей студенческой подруги, мечтающей стать писательницей, и представила мне Митико Нобэ. Было это весной.
В то время я боролся с туберкулезом легких и лишь изредка публиковал в журналах рассказы, у меня не было знакомых в литературных кругах, а так как за предложением почитать рукопись обычно стоит просьба посодействовать с публикацией, я ничем не мог помочь. А надо сказать, что когда я, будучи во Франции, принял решение стать писателем и вернулся на родину, то был поражен тем, что общество в Японии все еще феодальное и порядки в литературных кругах остались феодальными, хотя по идее должны бы олицетворять свободу, словом, я решил тогда вопреки обстоятельствам жить так, как живет писатель во Франции.
Девушке, ходатайствовавшей за подругу, я сказал:
— Могу только прочесть рукопись — и ничего более.
Через несколько дней она вновь подступила ко мне с настойчивой просьбой, говоря, что достаточно будет, если я прочту и выскажу свое мнение.
Таким образом, Митико Нобэ весной 1934 года принесла мне свою рукопись. К моему удивлению, пришла она с огромным подарком.
Обычно посещающих меня гостей я принимал у себя в кабинете на втором этаже, но ее провел в гостиную внизу. В кабинет ко мне изредка захаживали молодые литераторы, а в нижней гостиной, по обычаю нашей семьи, гостями занималась жена.
По словам хлопотавшей за нее подруги, отец Нобэ был заместителем директора компании, выпускавшей газету «X», сама Митико на втором курсе бросила учебу в женском университете и собиралась стать писательницей, при том, что училась она отлично, еще у нее был прекрасный характер, и друзья ее любили.
С виду и не скажешь, что девушка из столь известной семьи. Никакой косметики, простенькое платье, держится скромно.
Пройдя в гостиную, явно смущенная, она, видимо, стеснялась, не зная, как ей подобает ко мне обратиться, и пробормотала только:
— Вот то, что я написала. Прошу вас! — и положила на стол рукопись страниц на двадцать.
— Мне сказали, что вы хотите стать писательницей, это так? — заговорил я не слишком ласково.
— Да…
— И с каких же пор у вас такое желание?
— Со школы…
— Отчего же у вас, барышня, возникло такое желание?
— Ну, мне нравится… Читать, писать…
— В Японии к писателем относятся с презрением, а ваши родители знают о вашем желании и согласны?
— Да.
— Допустим, и все же… Чтобы стать зрелым писателем, требуется потратить много труда, преодолеть множество препон, даже среди мужчин не счесть примеров тех, кто за всю жизнь не смог добиться успеха… Вы думали об этом?
— Да. Я готова всю жизнь…
— Неужели? Тогда простите, что приставал к вам с неприятными вопросами, — сказал я и посмотрел на нее повнимательней.
Она на все отвечала только: «Да, да…» — и никак не хотела приоткрыться, но может, эта немногословная девушка обладает литературным талантом не меньшим, чем был у Хигути Итиё
href="#n_39" title="">[39], кто знает. Я уже испытывал интерес и любопытство к лежащей на столе рукописи и в то же время понял, что с девушкой надо поговорить серьезно.
Вот что я ей сказал.
Рукопись я прочту, но не стану выносить никаких критических суждений о содержании, поскольку боюсь, что это, в конце концов, может только повредить ее произведению. А вот что касается стиля, я готов откровенно высказать свое мнение о нем. Писатель посвящает всю жизнь тому, чтобы выработать свой стиль и довести его до совершенства, поэтому следует с благодарностью и вдумчиво воспринимать чужую критику и советы по поводу стиля. Только так и можно довести его до совершенства.
— Забираю вашу рукопись, приходите за ней через десять дней, — сказал я в заключение.
Она только изредка кивала, не задавала никаких вопросов, не высказывала никаких сомнений и просьб.
Я попросил жену угостить нашу гостью кофе, а сам поднялся в кабинет.
На одиннадцатый день она в простеньком платье, как и в прошлый раз, пришла к нам с подарком.
— Для того чтобы прочесть рукопись, нет нужды в столь щедрых подношениях. Приходите с пустыми руками! — смеясь, встретил я ее.
— Да, — как и в прошлый раз, кротко сказала она.
Я проводил ее в гостиную и поднялся в кабинет за рукописью.
Прочитав рукопись, я понял, что это не Итиё, но не мог бы утверждать, что девушке напрочь заказан путь в литературу.
Стиль рассказа меня не удовлетворил. В нем было слишком много китаицизмов, и он не соответствовал содержанию, к тому же был слишком витиеватый. Он совершенно не соответствовал и внешнему облику девушки — простому и безыскусному. Стиль должен выражать пишущего, а то, как она писала, никак с ней не вязалось. На пробу я попытался исправить особенно витиеватые фразы, но, дойдя до четвертой страницы, бросил.
Словом, взяв рукопись, я спустился в гостиную и сел перед ней.
— Сэнсэй, я принесла еще одну рукопись, — сказала она и положила на стол только что написанные двадцать-тридцать страниц.
Развернув предыдущую рукопись, я начал высказывать свои впечатления и критические замечания по поводу стиля. Она кротко слушала, кивая, и, когда я окончил, не задала ни одного вопроса. Поэтому пришлось спрашивать мне.
— Вы читали Сосэки, Огая, Итиё?
— Да, главные вещи, все…
— А писателей следующей эпохи — Тосон, Сюнсэй, Хакутё?
— Да, главные вещи читала.
— Ну а писателей из объединения «Сиракаба»?
— Да, Сига Наоя, Мусянокодзи…
— В таком случае вы должны знать, что стиль каждого писателя определяется его эпохой и его индивидуальностью, и у каждого он свой. Вы должны писать стилем писателя, живущего в тридцатые годы нашего века.
— Да.
— Конечно, сразу у вас вряд ли получится, но это должен быть ваш собственный стиль, и если вы посвятите этому всю жизнь, возможно, добьетесь успеха.
— Да.
Под конец я сказал, что прочитаю новую рукопись за две недели, и поднялся в кабинет.
Когда Митико Нобэ в третий раз пришла к нам в дом, она уже была без подарка и казалась более живой. Я провел ее в гостиную, заговорил о стиле второго рассказа, но прежде она привела меня в замешательство, достав третью рукопись.
Под конец я решил задать ей один серьезный вопрос. А именно, что она думает по поводу замужества.
— На днях за меня сватался один человек, но как только мать упомянула, что дочь пишет романы, сразу же разговор о помолвке прекратился.
— И вы довольны?
— Да…
— Вы хотите сказать, что, если не объявится мужчина, согласный на то, чтобы его жена была писательницей, вы не станете выходить замуж?
— Да…
— Есть ли такие среди современной молодежи?.. Поскольку вы решили всю жизнь посвятить литературе, не объявляйте сразу, что собираетесь стать писательницей, если к вам посватаются… Не лучше ли вначале пообщаться, понять, не это ли суженый, посланный вам Богом?
— Нередки трагедии, когда, женившись, муж узнает, что жена — писательница, и выгоняет ее из дома. И вообще, поскольку я посвятила жизнь литературе, я не думаю о замужестве.
Она впервые заговорила так откровенно, поэтому я, под впечатлением от ее слов, в дальнейшем избегал касаться этой проблемы.
Вскоре все мои домашние подружились с ней. Особенно жена прониклась к ней симпатией, поскольку обе они, как выражалась жена, «родились в раю».
Но как сильно Митико ни сблизилась с нами, она твердо защищала свою частную жизнь, во всяком случае, никогда не заговаривала ни о своей семье, ни о себе самой. Жена объясняла это все тем же «рождением в раю» и потому испытывала еще большее к ней доверие.
Через несколько лет, когда мы проводили лето на даче в Каруидзаве, Митико как-то раз прожила у нас с неделю.
Моя старшая дочь училась в токийской миссионерской школе, и Митико, приходя к нам, любезно опекала ее, точно семейная учительница. Собравшись на дачу, дочь уговаривала ее приехать к нам. Жена тоже ее зазывала. Она отнекивалась, но накануне праздника Бон дочь с дачи позвонила ей и попросила посмотреть ее летнее задание. Митико не смогла отказать и согласилась неделю пожить у нас.
Только что с дороги, она разговаривала с женой и дочерью на веранде, я же был в своей рабочей комнате, но все хорошо слышал. Тогда-то я впервые узнал кое-что из ее личной жизни.
— Моя маленькая собачка, видимо, почувствовала, что меня не будет целую неделю… Вчера весь день за мной увивалась, а сегодня с раннего утра жалобно скулила и не отходила ни на шаг, я не знала что и делать… Маму попросила… И точно тайком убежала, — рассказывала она, смеясь, и мои домашние впервые узнали, что она держит дома маленькую собачку и относится к ней с большой любовью.
Итак, мы прожили вместе неделю под крышей маленькой дачи.
Необходимо написать об обстоятельствах моей жизни в то время.
В тот год, когда я вернулся из Франции, мой тесть, промышленник в Нагое, которому по делам работы необходимо было пару раз в месяц приезжать в столицу, построил в Токио новый дом в качестве своей резиденции. Намереваясь поселить нас в нем под предлогом необходимости присматривать за домом, он оборудовал для меня, собиравшегося стать ученым, просторный кабинет и комнату отдыха. Вот так получилось, что в Токио мы жили в огромном, поражавшем всех своей роскошью особняке.
Но в действительности это не был
наш дом, мы всего лишь присматривали за ним. Домашним хозяйством заведовала вместо тещи старая экономка, долгое время служившая в семейном доме в Нагое, еще было три-четыре девушки прислуги. Что касается этих девушек, то в связи с экономическим кризисом станционный смотритель подведомственной тестю Нагойской железной дороги и другие служащие, желая сократить число
ртов, просили взять их дочерей, окончивших женский колледж, в служанки, якобы для того, чтобы те научились хорошим манерам, и тесть никому не отказывал. По этой причине в токийском доме всегда было несколько девушек-служанок.
Расходы на содержание дома оплачивал тесть, а мы, как присматривающие за домом, жили в нем бесплатно. Редкие гонорары я клал на счет в банке и оплачивал из них наши личные расходы.
Когда я получил в качестве премии за повесть «Буржуа» тысячу пятьсот иен, банковского счета у меня не было, и я взял наличными. И вот в то лето, когда я отдыхал на источнике Хосино в Каруидзаве, прислушавшись к совету тогдашнего председателя нижней палаты парламента, я решил построить на вершине холма с источником домик рядом с его дачей. Участок отводился бесплатно, строительство дома должно было обойтись в триста пятьдесят иен, которые я мог заплатить из премии, полученной за «Буржуа», поэтому я не стал ни с кем советоваться, даже с тестем.
За дом платил, разумеется, я, а все продукты и предметы домашнего обихода можно было брать в кредит, обходясь без наличных денег и расплачиваясь в течение года. Вот такое было вольготное время.
Митико Нобэ прожила у нас неделю через несколько лет после того, как дача была построена. На даче жили мы с женой и три наших дочери, старшая училась в женском колледже, вторая — в младших классах, а третья ходила в детский сад. Кроме того, у нас жили три девушки-прислужницы, выпускницы колледжей. Для маленького домика народу многовато, я сочувствовал нашей гостье, однако Нобэ не жаловалась, радуясь тому, какой у нас, как она говорила, «вкусный» воздух.
Когда нас посещали родственники, жена брала машину в Хосино и возила их осматривать окрестные «достопримечательности». На следующий день после приезда Митико она устроила такую же экскурсию и для нее. Старшая дочь, относясь к Митико как к домашней учительнице, выставила под деревья стол и стулья, превратив сад в классную комнату, и не отходила от нее ни на шаг.
Вспоминаю, жили мы в то время на нашей даче как в раю! По всему саду в траве цвело множество прекрасных цветов, мелкий кустарник пестрел прелестными ягодами. На холме — всего лишь четыре дома, людей мало, пройдя по тропинке две-три минуты, выходишь на дорогу, ведущую в Асаму, вокруг — никаких строений, куда ни глянешь — луга, собирай свои любимые цветы сколько душе угодно. Ночью мигали огоньки светлячков. Бесами в этом земном раю были только осы, но, сколько их ни изничтожай, одолеть невозможно, прилетают в самый неподходящий момент, хоть тресни…
Жители дач могли бесплатно пользоваться баней на горячих источниках в Хосино, и старшая дочь вместе с Митико Нобэ постоянно ходили туда в половине третьего.
Но в тот день старшая дочь, едва уйдя на купанье, вернулась бегом. Бросившись ко мне — я лежал в шезлонге в саду, — она выпалила:
— Беда! Нобэ ужалила оса, нога вот так распухла… — И она показала на своей ляжке.
Я был огорошен, но в этот момент в сад по тропинке вошла сама Нобэ.
— Говорят, тебя ужалила оса, — поднялся я ей навстречу.
— Да.
— Когда это произошло?
— Еще утром, я ее сразу убила.
— Что? Утром!.. Это же так больно! Ты чем-нибудь помазала?
— Нет.
На наш разговор, всполошенная, вышла жена и, осмотрев ногу Нобэ, вскрикнула от удивления.
— Так сильно распухло, наверно, адская боль! Ты говоришь, еще утром… Долго же ты терпела!.. Надо бы показать врачу, — обратилась она ко мне.
Я тоже мельком взглянул на распухшую ногу Митико и, забеспокоившись, посоветовал:
— Хозяйка горячих источников — врач, может быть, попросить ее посмотреть?
Нобэ, немного подумав, сказала:
— Смогла же я вытерпеть почти пять часов, значит, ничего страшного. От укуса осы еще никто не умирал. Вернусь в Токио и там чем-нибудь помажу.
— Но у нас есть мазь! — сказала жена.
Она принесла мазь, припасенную на случай осиного укуса, и тут же в саду, громко причитая, намазала ей ляжку. Когда процедура окончилась, Нобэ спокойно сказала моей жене:
— Спасибо… Теперь не болит.
После, обдумывая это происшествие с осой, я подивился ее стойкости и силе воли. Говорю — сила воли, но она отнюдь не старалась продемонстрировать эту волю, самоутверждаясь в своих глазах, а просто терпеливо ждала, полагаясь на других…
После этого случая я понял, что был не прав и по отношению к ней, и по отношению к рукописям, которые она мне приносила. Она желала как можно быстрее стать зрелым писателем и выпустить в свет свои произведения, я же упорно на протяжении вот уже нескольких лет обсуждал с ней проблемы стиля. Поэтому она, со свойственной ей силой воли, подавляла свои желания, надежды, упования и терпеливо ждала моего приговора.
Приехав к нам на дачу, она вновь захватила с собой тридцатистраничную рукопись рассказа. Это была весьма неплохая вещь. Нельзя ли посредством этого рассказа, не ограничиваясь проблемами стиля, побудить ее терпеливую душу проявить свои скрытные позывы? С этой мыслью после ужина, усевшись в грубое плетеное кресло, служившее мне как в гостиной, так и в кабинете, я завел с ней серьезный разговор.
Положив перед ней на стол ее новую рукопись, я сказал:
— Хорошая вещь. Что касается стилистических красот, ты кое-чему научилась… Как ты думаешь, может, когда вернешься в Токио, попросить твоего батюшку, чтобы он напечатал этот рассказ?..
— Дело в том, что… мой отец умер три года назад.
— Твой отец умер?.. Прости, не знал. — Я удивился, но было бы некстати высказывать соболезнования, поэтому, собравшись с духом, я продолжил: — Надо было попросить его об этом три года назад. Тогда бы и твой отец мог объективно оценить то, что ты пишешь… Я слишком напираю на серьезные вещи… мой грех. И по отношению к твоему отцу, и по отношению к тебе…
— Так ли важно публиковаться?
— Для тебя сегодняшней это важно. Дело в том, что, когда ты пишешь в стол, ты не можешь судить о достоинствах и недостатках, о качестве тобою написанного. А прочтя свой рассказ в напечатанном виде, ты волей-неволей сама оценишь его объективно… Особенно это важно для тебя, поскольку ты все более совершенствуешься в своем творчестве. Если рассказ будет напечатан, ты сможешь сама в этом убедиться.
— А что, если опубликовать за свой счет?
— Я думал об этом, поэтому и возникла идея просить об этом твоего отца… К сожалению, отец умер… Значит, эта идея отпадает.
— Но разве нельзя это осуществить без него?
— Даже если ты и напечатаешь за свой счет, у тебя нет способов довести произведение до читателя. Будь жив твой отец, владевший газетой, он бы мог как-то организовать распространение, но спустя три года после его смерти, не знаю, остались ли в газете люди, согласные тебе помочь. Будь это роман страниц в триста-четыреста, я бы написал предисловие, и можно было бы издать книгу за свой счет, и магазины, возможно, взялись бы ее продавать… Наверняка кто-нибудь купил бы из любопытства. Но тридцатистраничный рассказ, даже шедевр, никакой магазин не возьмет.
— Роман в триста-четыреста страниц?.. Я на такое не способна.
— Но ведь ты была готова посвятить свою жизнь литературе… Нельзя быть такой малодушной.
— Да.
— У нас в Японии рассказы обычно публикуют в журналах литературных объединений… Как рассказывал мне знакомый редактор, путь теперь такой: произведение публикуется в журнале литературного объединения, если оно получает одобрение, его отбирают в известный литературный журнал и тогда автор становится признанным писателем… Может, тебе стоит вступить в какое-нибудь объединение, чтобы опубликовать свои рассказы? Ты сейчас уже вполне сформировалась, так что участие в такого рода журнале уже не нанесет тебе вреда и не испортит твой талант… Когда вернешься в Токио, подумай об этом…
— Да.
— Если бы я принадлежал к литературному истеблишменту, я бы, разумеется, тебе помог, но я для них человек чужой, едва ли не любитель-графоман, там меня откровенно презирают, и если узнают, что ты показываешь мне свои рукописи, боюсь, тебя также начнут презирать… Поэтому давай договоримся, что ты больше не будешь показывать мне своих рукописей. Ты ведь уже достаточно повзрослела и превосходно можешь продвигаться сама, без посторонней помощи.
Она внимательно посмотрела на меня, но ничего не сказала.
— Я всегда повторяю, что писатель выражает себя в своем творчестве. Будем же каждый со своей стороны стараться писать как можно более совершенные произведения. Которые могут обходиться без покровительства японского литературного истеблишмента… Приложим к этому все свои силы. Лично я стараюсь писать такие книги, которые порадовали бы моих французских друзей и коллег, — сказал я, иронизируя над собой. И пожелал ей спокойной ночи.
— Как осиный укус? — спросил я напоследок, поднимаясь.
— Опухоль уже совсем спала. Спокойной ночи, — сказала она и невозмутимо направилась в спальню, где ее ждала старшая дочь.
Вечером следующего дня Митико Нобэ, собрав букет полевых цветов, из, как она выразилась, земного рая, полная сил, уехала обратно в Токио. Когда главный врач выписал меня из высокогорной клиники и позволил вернуться в Японию, он поставил условие — в течении десяти лет продолжать начатый в клинике курс природного лечения, особенно если учесть, что возвращаться приходилось морем через Индийский океан. Поэтому в Японии я строго выполнял все его предписания.
Через десять лет, под Новый год, я, с помощью своего названого брата Хякутакэ, прошел медицинский осмотр в военно-морском госпитале. И обрадовался, когда там подтвердили, что мое здоровье вновь в норме. Брат тоже был рад и однажды пригласил меня отобедать, чтобы отпраздновать мое выздоровление. Мы вдвоем славно провели время.
Брат занимал должность начальника штаба оборонительных укреплений военно-морского порта Екосука, и я обратился к нему с наглой просьбой.
В связи с японо-китайским инцидентом армия направляла солдат в Китай, и мне хотелось посетить места боевых действий и понять суть этого военного конфликта, увидев все собственными глазами. За десять лет я вновь обрел здоровье, но для того, чтобы окончательно в этом убедиться, нельзя ли мне совершить ознакомительную поездку по местам прошлых и нынешних боевых действий в Китае, о которой я давно мечтал? Не может ли мой брат походатайствовать за меня перед армейским командованием? Такова была суть моей просьбы.
— Ты говоришь ерунду, — засмеялся брат.
— Просить армейское командование — ерунда, мое желание — ерунда?
— Если б все было, как нам хочется! — засмеялся он.
На этом мы расстались, и я выбросил из головы мечту побывать в местах боевых действий.
Однако не прошло и двух месяцев, в конце марта, мне пришло извещение от полковника А. из генерального штаба. Я явился к нему в указанное время. А. сказал, что мое желание исполнимо — он уже отдал приказ начальнику пекинского отделения информационного агентства «Домэй». Он был так любезен, что предоставил мне план поездки и всевозможные справочные материалы.
В результате третьего апреля я прибыл в Пекин, начальник пекинского отделения «Домэй» дал мне в качестве сопровождающего опытного пожилого корреспондента, и за три с половиной месяца я объездил Внутреннюю Монголию, Шицзячжуан, Цзинань, Циндао, Шанхай, стал свидетелем нанкинской резни, побывал в действующей армии.
Я успел многое обдумать на пароходе, направляясь из Шанхая в Нагасаки.
Первое. Хотя я и устал за три с половиной месяца тяжелого путешествия, но был здоров и уверен в своих силах.
Второе. Я осознал суть японо-китайского конфликта — Япония на территории Китая ведет войну против мирного населения, истребляет китайцев, наносит вред Китаю.
Третье. Японские солдаты, изначально грубые юнцы, попав на поле боя, превращаются, как правило, в жестоких зверей. Мой родной младший брат и два сводных младших брата были призваны в армию и находились в Китае, и я боялся, не стали ли и они, как и все, зверями. Это еще более усиливало во мне отвращение к войне.
Добираясь из Нагасаки до Токио на скором поезде, я после долгого перерыва с ностальгией читал японские газеты. Мне на глаза попалась реклама одного литературного журнала, и среди прочих авторов имя — Митико Нобэ.
Присмотревшись, я увидел, что в содержании журнала значится ее рассказ. Более того, рассказ, который я когда-то читал.
Митико Нобэ получила признание! Эта радостная мысль в одну минуту развеяла тяготы долгого путешествия, и теперь уже мне казалось, что скорый поезд едет невыносимо медленно.
Обо всем этом я постепенно рассказывал Минору, который заходил ко мне чуть ли не ежедневно, и это продолжалось довольно долго. Когда мой рассказ подходил к концу, Минору принес мне вырезку из газеты, озаглавленную: «Мои молодые годы». Это было эссе, написанное Митико Нобэ. Он указал мне на отчеркнутое место.
«Это произошло непосредственно после подавления левых сил пятнадцатого марта 1928 года и шестнадцатого апреля 1929 года. Студенческое движение находилось под жесточайшим контролем, я дала клятву сохранять в тайне, что участвую в агитационной работе, к которой привлекли меня мои друзья, и упорно молчала, из-за чего меня по ошибке приняли за крупную дичь и месяц продержали в заключении. В результате я была вынуждена на втором году учебы оставить университет».
— Это произошло незадолго до ее встречи с вами, рассказывала ли она вам?
— Нет… Впервые слышу!
— Да уж… женщина с характером. Вот бы узнать, как распорядилась Великая Природа, чтобы она исполнила свое предназначение…
— Нехорошо совать нос в частную жизнь других людей.
— Меня интересует не ее личная жизнь. Я бы хотел увидеть, как Бог Великой Природы проявляет свою силу в отношении одного конкретного человека. За последние несколько лет Бог принес мир цивилизованным странам, подал человечеству надежду на зарю всеобщей «жизни, полной радости», поэтому меня так волнует, каким образом я бы мог не только выразить Ему свою признательность, но и послужить Ему своими делами.
Я молча выслушал столь серьезные слова и только одобрительно кивнул.
Глава пятая
Приехав в Токио, я послал Митико Нобэ поздравительную открытку.
Затем сообщил полковнику А. из генерального штаба о своем возвращении, нанес визит в назначенное время, отчитался об увиденном и вернул выданную мне перед отъездом важную отличительную нашивку. Выполняя данное перед отъездом обещание, я подробно доложил ему о своих впечатлениях, особо остановившись на втором и третьем пунктах из того, что обдумал на борту корабля по пути в Нагасаки.
На это он мне сказал:
— Надеюсь, вам понятно, что если вы обнародуете устно или письменно то, что вы мне сейчас рассказали, вас в живых не оставят. Теперь вам известно, как мы ведем эту войну, надеюсь, вы и дальше будете пристально следить за ней с высоты своего нынешнего опыта.
— Как мне оплатить то, что было на меня затрачено за время пребывания в Китае?
— Вы ездили по поручению армейского командования, поэтому армия все расходы берет на себя. А теперь отдыхайте.
Он пожал мне руку и деловито вышел в соседнюю комнату. Больше я ни разу не встречал этого полковника и ничего о нем не слышал.
Встретившись с братом Хякутакэ, я рассказал ему за обедом об увиденном на полях сражений и поделился с ним радостью по поводу того, что убедился в крепости своего здоровья. Он никак не отреагировал. Но когда мы кончили есть, сказал с серьезным лицом:
— Военные замышляют развязать войну против Великобритании и Америки, а в результате Япония вступит в тяжелую войну против всего мира. Я, как человек военный, готов умереть в бою, но ты должен жить ради будущей мирной Японии… Поэтому отныне будь готов к тому, что ты болен туберкулезом. Понимаешь? Какой бы приказ ни поступил от властей, не соглашайся, ссылаясь на свою болезнь. Если возникнут какие-то проблемы, я постараюсь помочь. Понял? Ты болен туберкулезом.
— Но не буду ли я изменником родины?
— Нет, ты поступишь как истинный патриот…
На этом мы расстались, я поспешил домой. Не приходила ли за время моего отсутствия Митико Нобэ? — подумал я.
Но ни в этот день, ни в последующие она не появилась. На шестой день пришло письмо, но в нем она только сообщала, что известный литературный журнал попросил у нее повесть для февральского номера следующего года.
После этого у нас не было случая встретиться, но в начале декабря 1937 года, незадолго до того, как Япония объявила войну Великобритании и Америке, она опубликовала четыре рассказа, поэтому, не начнись в это время война, в Японии появилась бы новая писательница по имени Митико Нобэ.
После объявления войны даже известные писатели не имели возможности печататься, а такие новички, как Митико Нобэ, сразу были забыты читательской публикой.
Если во время японо-китайского конфликта в диких зверей превращались почти все японские солдаты, попавшие на линию фронта, то с началом большой войны не только на передовой, но и в тылу из-за нехватки продовольствия люди потеряли человеческий облик, обезумели, одичали. Нет ничего ужаснее войны!
Через два с половиной года после объявления войны, в мае 1944 года, на адрес Мотоко, долгое время служившей у нас в доме, из управы ее родного села пришла официальная бумага. Согласно ей, если в ближайшем месяце Мотоко не выйдет замуж, то в следующем месяце ее пошлют на передовую в качестве «утешительницы»
[40] личного состава.
Мотоко не понимала, что это значит, и, взяв письмо, поехала посоветоваться к своему сводному брату, управлявшему маленьким военным заводом на окраине Токио.
Брат, сделав запрос в деревенскую управу, — исключительно ради записи в учетном регистре — выдал Мотоко замуж за работавшего на заводе раненого солдата, неженатого, но обремененного ребенком (договорившись с ним, что после окончания войны будет оформлен развод). Тем самым он спас ее от участи стать «утешительницей» в действующей армии.
Путешествуя по местам боевых действий в 1938 году, я дважды, во Внутренней Монголии и в Шицзячжуане, был свидетелем положения так называемых «утешительниц» на линии фронта. Молодые солдаты, превратившиеся в животных, выстраивались в очередь перед длинными бараками с женщинами в ожидании, когда их товарищи по стаду удовлетворят свою похоть. По словам сопровождавшего меня корреспондента «Домэй», редкая из этих женщин жила дольше трех лет.
В то время, когда происходили события с Мотоко, Митико Нобэ вышла замуж за старшего сына японского представителя всемирной христианской организации.
Получив приглашение, в котором сообщалось, что церемония бракосочетания состоится в протестантской церкви, после чего будет устроен свадебный банкет, я удивился, что она, убежденная холостячка, выходит замуж. В назначенный день я направился в церковь, но долго не мог ее отыскать, а когда нашел, церемония как раз закончилась, и молодые уже выходили.
Я их поздравил, но при взгляде на жениха меня будто облили ледяной водой. Настолько, как мне показалось, он по своему характеру не подходил на роль мужа Митико Нобэ.
В глубине души я устыдился своего инстинктивного чувства, укоряя себя за то, что сужу о человеке, ничего о нем не зная, но и после за всю свою жизнь я так ни разу с ним не встретился.
Покидая банкет, я случайно столкнулся со старой подругой Митико, и она мне сказала печально:
— Была такой принципиальной холостячкой, и вот, поди ж ты, не только изменила своим принципам, но и вышла замуж за человека намного старше себя, да еще с двумя детьми… Чего только не происходит в военное время!..
Как бы там ни было, в тот день немногословная, симпатичная Митико Нобэ, взяв под руку старшего сына известного христианского деятеля, ушла из моей жизни если не на небеса, то, во всяком случае, в чуждый мне мир.
Она возникла как из-под земли через три или четыре года после войны.
Я тогда снял уцелевший от пожара маленький двухэтажный дом в Мисюку, стал литературным батраком, а моя жена превратилась в жену батрака.
Как-то вечером, когда я полностью ушел в работу, в комнатку на втором этаже, выполнявшую одновременно роль спальни и рабочего кабинета, тихо вошла жена, сказала, что внизу ждет Митико Нобэ, и попросила спуститься, когда я освобожусь. И шепотом добавила:
— Она, как и я, жила в райских условиях, но после поражения в войне внезапно упала с небес и прозрела, и так же, как я стала батрацкой женой, она сделалась простой работницей. Но не похоже, что она несчастлива, напротив, как и я, она, кажется, испытала облегчение.
Я немедленно спустился вниз.
Женщина средних лет держала на руках ребенка и, вынув грудь, кормила его. Я забеспокоился — не похоже, что это прежняя Митико Нобэ, но тут она заговорила:
— Простите, что вас потревожила…
Голос был точно ее.
Присаживаясь, я спросил:
— Сколько у тебя детей?
— От прежней жены два сына и моих трое.
— Пятеро детей, многовато.
— Да уж, живем мы сейчас очень тесно… Две маленькие комнатки да кухня, пять человек детей и я, не повернуться.
— Кажется, это в Сибуе. А разве муж живет не с вами?
— Он сказал, что так жить невыносимо, снял комнату в Синдзюку и перебрался туда. Уж и не знаю, как он там питается… И все равно руки до всего не доходят, порой приходится взваливать что-то на старших детей… Ведь я же еще должна как-то зарабатывать, чтобы содержать шестерых.
Прежде отличавшаяся немногословием, ныне она рассказывала о себе как обычная женщина. Я застыдился, что невзначай залез в ее частную жизнь, но в это время жена сварила кофе, который мы пили тогда лишь по особым случаям, и разговор принял другое направление.
— В газетах пишут, что ваша христианская организация в последнее время, получив помощь от всемирной христианской церкви, развила бурную деятельность, это правда?
— Возможно, но к нам это не имеет отношения.
— Не имеет отношения?.. Странно. Ведь твой муж — старший сын японского представителя этой религиозной организации. Все дочери из семьи Ю. занимают в этой организации высокие посты и ведут активную деятельность. Наверняка и твой муж от них не отстает.
— Не знаю. В его семье говорят, что я к этому не способна… Чем я им не угодила, ума не приложу, да, впрочем, и лезть в их дела нет никакой охоты. Я уже смирилась, что мне ничего не светит.
Слушая ее, я подумал, что если бы не суровое военное время, она бы смогла стать превосходной писательницей, и сказал:
— Ты не носила свои рукописи в журнал, в котором печаталась во время войны?
— Носила, но все сотрудники, с которыми я имела тогда дело, погибли на войне… А новые не захотели брать мои рукописи… Но, сказать по правде, мне сейчас не до таких легкомысленных вещей. Последнее время, идя по улице, я смотрю под ноги, не уронил ли кто монетку, вот до чего я дошла. Совсем опустилась!
Улыбнувшись, она посмотрела в сторону моей жены. И тут жена с несвойственным ей серьезным лицом сказала:
— Митико, я была в таком же положении, когда начала жить в этом доме. Ходила пригнув голову, высматривая, не валяется ли где монетка… Как-то раз даже не заметила дочь, возвращающуюся из школы, и моя младшая посмеялась надо мной. И тогда я прозрела. Я решила, раз мой муж стал литературным батраком, я стану батрацкой женой. Муж крепко стоит на ногах, и я должна последовать его примеру. Как только я начала жить как батрацкая жена, мне стало легче. Разумеется, на меня повлияло то, что в двадцать пятом году, выйдя замуж, я сразу же уехала учиться во Францию и прожила там почти пять лет… Французы относились к нам как к равным, и мы старались жить как они, не задумываясь, кто мы — иностранцы или японцы. Сейчас в это даже трудно поверить… Я поняла, что благодаря Великой революции, произошедшей сто тридцать лет назад, люди в этой стране относятся друг к другу с уважением в соответствии с принципами свободы, равенства и братства. Поэтому и мы старались жить, придерживаясь этих принципов… Когда дочь посмеялась надо мной, я прозрела… Меня осенило, что ныне в Японии происходит то же, что во Франции в эпоху Великой революции… Давай же, дорогая Митико, следуя принципам, воодушевлявшим эту революцию, совместными усилиями преодолевать нынешние беды. Нам еще многое надо будет потом обсудить вдвоем…
Мне захотелось дополнить сказанное женой:
— Нобэ, не смотри на нынешние несчастья исключительно как на несчастья. Ведь во всем, что сейчас происходит, есть промысел Великой Природы, которая желает, чтобы Япония за короткий срок добилась тех же результатов, для достижения которых Франции, после Великой революции, потребовалось почти сто лет… Мы не должны упустить свой шанс. Каждый француз благодаря Великой революции, воодушевленный принципами свободы, равенства и братства, крепко встал на ноги, превратился в труженика, люди прониклись взаимным уважением, стали как братья… И это продолжается до сих пор. Моя жена, которая до войны не могла обойтись без служанок, столкнувшись с нынешними бедами, прозрела и, решившись жить по примеру французов, стала батрацкой женой… Надеюсь, что вы с нею, подобно французским гражданам, будете во всем помогать друг другу. Беспокоиться уже не о чем. Пока мы живы, Великая Природа позаботится о нашем хлебе насущном.
Тут жена оборвала меня:
— Кажется, у тебя срочная работа!
Простившись с Нобэ, у которой в глазах стояли слезы, я, опустив голову, побрел к своей борозде.
А что еще остается батраку, возделывающему пашню?
В этом домишке в Мисюку я в общей сложности прожил двенадцать лет.
После визита Митико Нобэ — около восьми лет. Что восемь, что десять — никакой разницы, пока я, как бесправный батрак, трудился на своем поле, время пролетело незаметно. Остались ли у меня тогдашние воспоминания о Митико?
Случалось, она заходила. Когда я, ненадолго оставив свое поле, спускался в туалет, я порой замечал ее, беседующую с женой, и, справив нужду, ради короткой передышки, присоединялся к разговору.
Как-то за ужином жена сказала:
— Митико тоже научилась, не стесняясь, выходить на люди в непарных носках, она теперь стала настоящей работницей.
Кажется, жена перестала тревожиться за нее.
В другой раз она сказала:
— Я поражаюсь ее кротости. Она рассказала, что дети от первого брака ее мужа заявили, что не желают жить в такой тесноте, в одном жилище с простой работницей, и ушли в дом младшей сестры отца, госпожи Ю., известной деятельницы христианской организации. И теперь Митико сокрушается, что недостаточно заботилась о них, и волнуется, будут ли дети счастливы в новом доме…
И еще она как-то сказала:
— Митико говорит, что приготовила для мужа какую-то еду и пошла навестить его в Синдзюку. На одной из улочек вблизи того места, где муж снимает жилье, она увидела, что он идет ей навстречу, подождала его и заговорила. «Кто вы, я вас не знаю!» — сказал он и прошел мимо. Она была просто ошеломлена. Наверно, сокрушалась она, ему, небожителю, омерзительно иметь дело с работницей, зарабатывающей на хлеб своими руками!
— А чем он вообще занимается? — спросил я жену.
Оказалось, возглавляет движение за трезвость, но это самостоятельное движение, никак не связанное с религиозной организацией.
Выйдя замуж, Нобэ по всем правилам должна была принять фамилию мужа, но я узнал, что, видимо не без происков семьи Ю., у нее осталась девичья фамилия… И вот теперь она живет в квартире, похожей на свинарник, и, став простой работницей, несчастная, изможденная, трудится не покладая рук, чтобы воспитать троих детей, носящих фамилию Ю.
Самым горестным было то, что я ничем не мог ей помочь в тогдашнем ее положении. Бессилен был что-либо сделать, хотя и пытался.
В сентябре 1957 года в Токио намечалось открытие двадцать девятого Международного съезда ПЕН-клубов. Я был заместителем председателя японского ПЕН-клуба и по этому случаю решил отстроить новый дом на месте сгоревшего. Большую часть денег взял в кредит в банке М.
Жена обрадовалась строительству нового дома. Она заявила, что и в новом доме мы будем жить как батраки, поэтому обойдемся без прислуги, и я сказал своему знакомому архитектору, что полностью доверяю жене планировку дома, а когда был готов проект, я увидел, что получился точь-в-точь сельский дом наших французских друзей, для поддержания которого не было необходимости в дополнительных руках, и это меня успокоило.
Спустя год после нашего переезда в новый дом, в мае, как я уже писал, Митико Нобэ пришла прощаться, сказав, что умирает от рака. Я попытался убедить ее, чтобы она обратилась за помощью к Богу Иисуса, а сам не мог сдержать нахлынувших слез.
Не дождавшись возвращения жены, она ушла тогда с заплаканным лицом.
Я проводил ее до ворот, после чего, взглянув на ясное небо, обратился к Великой Природе с молитвой, прося прийти ей на помощь. Затем, внезапно вспомнив о том, что хотел ей показать только что вырытый фонарь святой Девы Марии, присел перед ним на корточки.
Погрузившись душой в созерцание образа Девы Марии, вырезанной в камне со сложенными молитвенно дланями, я помолился за Нобэ.
И в этот момент неожиданно услышал голос гения Жака:
— Кодзиро! Не надо печалиться… Митико Нобэ сильна в своей
правде. Бог Великой Природы признает ее
праведность и намерен в ближайшем будущем сделать ее невиданно счастливой. Члены семьи Ю., публично запретившие ей носить свою фамилию, прикрываясь Божьим именем, Иисусом и христианством, преследуют свои эгоистичные, корыстные цели. Бог опечален этим… Когда-нибудь она примет на себя все преступления, все грехи, из-за гордыни совершенные семьей Ю., очистит их и порадует Бога. Так рек Бог. Поэтому можешь больше за нее не тревожиться…
Ну вот и хорошо, — подумал я, облегченно вздохнув.
— Как тебе известно, она необычайно талантлива. Придет время, когда ее задатки получат полное развитие. Следует дождаться этого. Ее нынешние трудности — испытание перед развитием. Поскольку это испытание, его нужно выдержать. Так что успокойся и радуйся за ее будущее…
С этими словами гений Жак исчез.
В тот день за ужином я передал жене то, что мне сказал гений Жак.
— Испытания — слишком громко сказано, — отреагировала жена. — Что касается меня, с тех пор как я стала батрацкой женой и научилась крепко стоять на ногах, моя повседневная жизнь стала проще, да и Митико в душе рада, что стала работницей, и жить ей стало легче… А у нее к тому же еще множество талантов, так что будем с надеждой ждать, когда они принесут плоды.
Шли дни, а от Нобэ не было ни писем, ни звонков, я решил не придавать этому значения, но когда прошло два, три месяца, а известий от нее все не было, я начал беспокоиться и спросил у жены:
— Что с ней случилось?
— Как ты думаешь, легко жить простой работницей, имея троих детей на руках? Но у нее сильное сердце, поэтому она не унывает. Все у нее в порядке.
Так каждый раз отвечала жена.
Прошло еще пол года, и в середине ноября как-то утром Митико появилась у нас в элегантном платье. Я в гостиной пролистывал утренние газеты, когда она вошла и, смеясь, сказала:
— В такую рабочую одежду нынче приходится одеваться работнице, не обращайте внимания.
И сразу же начала рассказывать о своей новой работе. Протестантский пастор и профессор медицины А., не имея собственного прихода, собрал группу из нескольких десятков человек и читает часовую проповедь, после чего отвечает на вопросы; она все это стенографирует, а позже переписывает набело. Как правило, три таких проповеди объединяет одна тема, и если собрать их вместе, получается изящная книжечка карманного формата.
Митико показала нам первую книжку, которую она подготовила. Книжица и впрямь получилась чрезвычайно изящной. Называлась она «В эту бедственную годину Иисус протянул нам руку…».
Работая поденно, Митико ограничивалась стенографией и последующей ее расшифровкой. Текст она отдавала пастору А., и на этом ее задача заканчивалась.
Митико была довольна тем, что пастор А. не имел своего прихода, а потому читал проповеди в разбросанных по всему городу домах верующих, где собирались окрестные жители, взыскующие веры, так что, к радости Митико, ей приходилось работать в самых разных районах.
В тот день, когда она пришла к нам, проповедь должна была состояться в час пополудни неподалеку от нас, и, собравшись идти зарабатывать себе на хлеб, она стала уговаривать мою жену хоть разок сходить с ней и послушать. Поскольку в это время я обычно отдыхал, жена предложила мне присоединиться.
Наскоро отобедав вместе с Митико, мы отправились на религиозное собрание. Заплатив входную плату — пятьсот иен и получив сопроводительные материалы, мы заняли места среди верующих. В сопроводительных материалах были указаны титулы А. — пастор и профессор медицины. Видимо, следовало понимать так, что, будучи пастором, он продолжает заниматься медициной. Началась проповедь. На первый взгляд пастор выглядел ничем не примечательным чиновником лет за пятьдесят.
Проповедь, опиравшаяся на Евангелие, оказалась скучной и долгой, напичканной цитатами из Библии. Наконец, закончив, он спросил, нет ли у кого вопросов. Все сидели молча. Тогда вопрос задал я:
— Судя по вашим титулам, вы, помимо пастора, являетесь профессором медицины. Вы и сейчас продолжаете заниматься ею?
— Нет, не занимаюсь. Я не люблю медицину, поэтому и стал пастором.
— Но в таком случае «профессор медицины» — титул излишний.
— Упоминание медицинского звания внушает людям доверие, понимаете?
Я почувствовал себя глупо, вежливо поблагодарил и, даже не попрощавшись с Митико, удалился.
Примерно через месяц Митико пришла с просьбой. В нашем районе живут несколько человек из паствы пастора А., и она настойчиво просила позволить им дважды в месяц собираться у нас в столовой на двухчасовую проповедь, с часу до трех.
Для Митико это означало, что дважды в месяц у нее будет место работы. Смеясь, я спросил:
— По-прежнему приходится заниматься поденщиной?
— С тех пор как мой старший сын поступил в Токийский университет, приработок, к счастью, увеличился, но все равно от поденной работы никуда не деться, — засмеялась она в ответ.
Мы с женой дали согласие, чтобы дважды в месяцу Митико была работа. В результате нам пришлось дважды в месяц встречаться с пастором А., и, видя, как верующие осаждают его, мы узнали много для нас неожиданного и были просто поражены.
Во время первого собрания, состоявшегося в нашем доме, пришло семь женщин, мы с женой никого из них не знали. Они по ошибке решили, что моя семья тоже принадлежит пастве пастора и что мы по своей инициативе организовали это собрание, поэтому выложили передо мной членские взносы и пожертвования. Я был в растерянности, но все же записал на листке бумаги имена и полученные суммы. С семи человек в общей сложности набралось почти двести тысяч иен.
Вскоре появился пастор А. со своей стенографисткой Митико, в течение часа он читал скучнейшую проповедь, когда же настало время, отведенное для вопросов, никто ничего не спросил.
Тогда одна из пришедших женщин. К., поднялась и попросила жену принести чай. Жена торопливо раздала всем чашки, и, попивая чай, пастор завел с женщинами беседу. Это был самый обычный светский разговор, и Митико, которой не было нужды стенографировать, судя по виду, не находила места от скуки.
Поэтому я подсел к ней, показал собранные деньги и список пожертвований и спросил, кому все это отдать. У нее округлились глаза от удивления при виде такой крупной суммы, и она ответила, что, наверно, нужно отдать А. Я хотел отдать ему, но он сказал, что за финансы отвечает госпожа К. Я передал ей. После Митико
спросила меня:
— К. заплатила вам за предоставленное помещение?
— Нет.
— Говорят, что буддийские бонзы на всем греют руки, — заметила Митико, — но то же можно сказать и о пасторе… Наверно, Богу прискорбно видеть такое.
На второе собрание в моем доме пришло тринадцать женщин, членские взносы и пожертвования превысили двести пятьдесят тысяч иен.
С каждым разом число участников увеличивалось и вскоре достигло двадцати пяти человек, уже не хватало стульев, пришлось раздавать подушки для сидения, и я решил, что впредь не буду пускать в дом больше двадцати человек.
Кажется, среди собравшихся было немало таких, кто пришел только потому, что это был мой дом… Через два года один из верующих построил в Ёцуе большое здание, отвел специально для А. второй этаж под церковь и передал ему в качестве пожертвования. На церемонии открытия этой церкви пастор А. попросил, чтобы я от имени его паствы выступил с речью.
Поскольку я не принадлежал к его пастве, я отказался.
— Значит, вы неверующий?.. И никогда не были христианином? — сделал он удивленное лицо.
В этот момент гений Жак внезапно захихикал, поэтому я, сам себе удивляясь, сказал:
— Я верю в Бога. Но Бога в этой церкви нет. Говорить речь по случаю строительства нового здания, все равно что громко пукнуть на приеме во дворце, я на такое не способен.
Жак одобрительно кивнул, но пастор А., видимо, сильно разозлился, и на лице его появилось презрительное выражение. В то время у пастора А. была репутация счастливчика, у которого получается все, что он задумал. Число верующих росло, богатство увеличивалось, и, как я слышал, его старший сын также, закончив семинарию, стал пастором.
Скорей всего он и меня причислял к своим ревностным приверженцам. А я был всего лишь потерпевшей стороной: у меня дважды в месяц на три часа оккупировали столовую… И терпел я это ради того лишь, чтобы обеспечить рабочее место бедной поденщице.
Как-то же, оставшись после собрания, Митико Нобэ рассказала любопытную историю:
— Уже не вспомню, сколько времени прошло тогда после окончания войны, то ли десять, то ли всего пару лет… Хоть и настал мир, Японию оккупировали вражеские войска, правда, голодному населению раздавали пайки «LARA», но времена были все еще тревожные, несчастливые… Ко мне приехал посланник из штаба христианской организации и сообщил: чтобы возобновить свою довоенную деятельность в Японии, они пришлют средства и людей, а мы должны подготовиться. Я тогда сказала мужу: «Руководство этой христианской организации считало твоего отца своим „генералом“ в Японии или, так сказать, религиозным ополченцем, представлявшим семью Ю. И теперь, поскольку они направляют деньги и людей, чтобы возобновить свою деятельность, твоя семья должна действовать крайне осмотрительно. Тем более что ты — старший сын в семье Ю. и являешься наследником, на тебе лежит большая ответственность».
Дело в том, что мой муж и две его сестры, окончив учебу в Токио, сразу же уехали учиться в Лондон, где пользовались поддержкой руководства этой христианской организации, а в конце сорок первого года из-за начала войны между Японией и Великобританией все трое вернулись на родину… В Токио они жили в одном доме, но перед самым окончанием войны он сгорел во время бомбардировок, и они сильно нуждались. Я не сразу поняла, что молчаливость мужа объясняется тем, что он не вполне владеет японским языком…
Так вот, как только от руководства пришло известие о возобновлении деятельности, сестры мужа заявили, что собираются полностью посвятить себя духовной работе, и выехали из дома. Когда я спросила мужа, нет ли и для меня там посильной работы, он кивнул в ответ, поэтому я стала ждать, но не прошло и трех месяцев, как старшая сестра мужа пришла вместе с человеком из организации, чтобы сообщить, что дом, в котором мы живем, принадлежит этой организации и мы должны его вернуть…
Когда я и ее спросила, не найдется ли и для меня, как жены наследника семьи Ю., посильной работы в организации, она сказала: «У тебя же фамилия Нобэ, а не Ю., так что это невозможно…» В действительности, когда я выходила замуж, семья мужа заявила, что, поскольку младшая сестра мужа моя тезка, может возникнуть путаница, поэтому они бы предпочли, чтобы я официально сохранила девичью фамилию. А когда я стала настаивать, что, мол, по сути я все ж таки Митико Ю., сестра мужа отрезала: «Как бы там ни было „по сути“, для организации ты всегда останешься Митико Нобэ, человеком посторонним, поэтому дом будь добра вернуть…»
В тот момент я приняла твердое решение — Митико Нобэ станет работницей, крепко стоящей на ногах. Вспомнив о том, что ваша жена, став женой батрака, напротив, обрела счастье, я перестала обращать внимание на козни сестры мужа, решив — пусть делает что хочет. Я сказала ей, что как только она подыщет мне новое жилье, я сразу же освобожу это…
Сестра мужа вроде бы успокоилась, но я добавила:
— Как тебе известно, стоящее здесь пианино я после пожара приобрела с большими трудностями, оно не принадлежит ни организации, ни семье Ю. Поэтому у меня одна просьба — в новом жилище должна быть комната, куда можно поставить пианино, чтобы дети могли на нем упражняться!
И с этими словами ушла к себе в комнату…
Через две-три недели, воскресным утром, младшая сестра мужа пришла с высокопоставленным членом христианской организации и сообщила, что они нашли в районе станции Сибуя подходящий дом и чтобы я готовилась к переезду. Приехал грузовик с грузчиками. Мне было велено собрать только вещи, купленные мной лично. Муж ушел рано поутру, я же, приняв решение, что отныне стану простой поденщицей, подумала было, что мне ничего не нужно, но тотчас спохватилась, что понадобится все же готовить еду, и стала собирать с помощью детей кухонную утварь, предметы первой необходимости и детские вещи. Поскольку сестра мужа знала, что именно принадлежит организации, а что мне, я могла положиться на нее… Только увидев, как грузят пианино, я вздохнула с облегчением: «Значит, мой новый дом не слишком тесен!» Вскоре, взяв детей, грузовик направился к новому дому в Сибуе, дети радостно галдели…
Мы все были ошеломлены, когда увидели, как мал и тесен новый дом. Рояль поставили в комнату, выполняющую роль гостиной, кроме нее были там еще две маленькие комнатушки да кухня. Как же мы с мужем и с пятью детьми, всемером, сможем здесь жить? Грузчики расставили по комнатам привезенные вещи… Низкий детский столик втиснули под рояль, наши два больших письменных стола поставить было некуда, так что их отдали на хранение сестре мужа, и тут она предложила, чтобы два старших ребенка жили у нее… Но оба сказали, что останутся жить с матерью. Я была так рада их решению, что не могла сдержать слез. И все же для людей, привыкших к хорошим условиям, жить в такой тесноте оказалось невыносимо, муж, смотревший на все пессимистически, через два месяца снял квартиру в Синдзюку и выехал… Двое старших детей в конце концов ради учебы переселились к сестре мужа… Я убеждала себя, что теперь я и трое моих собственных детей, наконец-то, сможем жить сами по себе, пусть и в тесноте, но счастливо… Не прошло и года, как явились два молодых человека из той же христианской организации, приехавшие в столицу из района Кансай, и сказали, что по указанию штаба организации они будут жить в нашем доме, нам же следует переместиться в пристройку на задворках, где есть маленькая комнатка с кухней. Я совершенно растерялась, не знала, что и делать, но молодые люди, сжалившись, сказали, что поскольку весь день они будут на работе и приходить будут только, чтобы переночевать, они согласны жить в пристройке, я же могу жить, как жила прежде. В ответ на это человечное предложение я открыла им истинное положение дел. Я никакая не жена старшего сына семьи Ю., а поденная работница по имени Митико Нобэ. В милости других людей не нуждаюсь, а стою на своих ногах, работая ради своих детей. И это отвечает христианскому учению, в которое верил тесть… С тех пор эти двое молодых людей неизменно любезно помогали мне…
Когда Митико Нобэ закончила свой рассказ, жена, улыбнувшись, сказала:
— Митико, и ты и я, мы воспитывались как девы в небесном раю… Но после войны внезапно оказались брошены в земной ад и испугались. В результате страданий и борьбы я поняла, что всем людям предназначено быть тружениками, работать и стоять на своих ногах… Тогда я решила стать батрацкой женой. И мне сразу стало легче жить. Хозяйка магазина раньше со мной не заговаривала, а теперь стала моей приятельницей, с которой я могу обсудить что угодно, у меня появилось больше радостей… Я поняла, что это и есть подлинная человеческая жизнь. И ты, Митико, став поденщицей, наберись терпения. В скором времени непременно откроется новый путь…
— Несколько дней назад я шла по улице возле Сибуи, высматривая под ногами, не уронил ли кто монетку, но не нашла ни иены, только устала невыносимо, тогда я взглянула на небо и подумала: откуда у меня вообще брались деньги? Когда, считая вместе с невестками, мне надо было кормить девятерых, никто из взрослых членов семьи, даже муж, не давал мне ни иены. Разумеется, собственных накоплений у меня не было, я обращалась с просьбой к свекрови, но дважды просить не станешь, и вот в это время одна моя знакомая подучила меня, как можно продать свою одежду, и я постоянно пользовалась ее помощью. Вскоре мы проели все, что я выручила за свои чудесные платья… Но сейчас я, став поденщицей, крепко держусь на ногах, поэтому все в порядке.
Я рассеянно слушал их разговор, как вдруг появился гений Жак и зашептал мне:
— В твою жену и Митико Великая Природа вдохнула новую жизнь, дав им возможность начать жить по-новому. Это настоящий подвиг с их стороны. Их не в чем упрекнуть. Поддерживай их! Ты и сам неплохо справляешься, но все это благодаря тому, что Великая Природа много раз из-за спины вдыхала в тебя
жизнь и придавала силы…
— Жак, Великая Природа одобряет мою нынешнюю работу?
— Успокойся, она полагает, что писать — твое предназначение. Если возникнут трудности, не стесняйся, позови меня!
С этими словами Жак исчез, но меня не оставляло желание попасть в Истинный мир и не спеша поговорить с ним в его лаборатории.
Весь этот рассказ, занявший несколько дней, Минору выслушал молча, в глубокой задумчивости.
Глава шестая
Нобэ прибавилось работы в качестве стенографистки при пасторе, это отнимало у нее много времени, но в материальном отношении было неплохой подмогой.
Как-то раз Митико стенографировала проповедь пастора в Сэтагае утром. Обычно она по окончании проповеди уходила вместе с пастором, расшифровывала стенограмму и передавала ему текст, после чего, получив заработанное за день, возвращалась домой. Добиралась туда уже поздним вечером.
Но в этот день проповедь закончилась раньше обычного, до полудня, пастор направился в свою церковь, расположенную в Ёцуе, но там стенографирование проповеди не предполагалось, поэтому, расставшись с пастором у станции Сибуя, она вернулась домой непривычно рано.
И тотчас же, примостившись в тесной кухоньке, точно украдкой, занялась расшифровкой стенограммы. Через какое-то время она вдруг услышала удивительно красивую музыку. Шопен. Очарованная прекрасной музыкой, она встала из-за стола и, идя на звук, вошла в комнату, где стоял рояль. За роялем сидел ее родной старший сын…
Она замерла.
— Мама, ты дома? Я не ожидал.
— Это я не ожидала… Не знала, что ты стал таким прекрасным пианистом…
Сын встал, подошел к матери и удивился ее слезам. Она поспешно сказала:
— Меня, поденщицу, Господь Бог, поддерживая, облагодетельствовал этой чудесной музыкой!..
Сын подвел мать к роялю и усадил перед ним.
— Никакой я не пианист… Великий учитель К. часто говорит — профессионала из меня не получится, достаточно, если я буду учиться для своего удовольствия. Мама, благодаря тому, что у нас есть этот старенький рояль, наша лачуга превращается в рай. Прежде всего надо поблагодарить наш рояль.
Митико, опустив голову на клавиатуру, подавила рыдание. Впервые видя мать плачущей, сын встревожился и сел рядом, не отрывая от нее глаз.
Через какое-то время Митико пришла в себя и, увидев рядом с собой встревоженного сына, обозлилась на свое малодушие и про себя рассмеялась: «Я и есть самая настоящая поденщица!»
— Все хотела спросить тебя… — сказала она сыну. — Понимаешь ли ты, что во время войны мы не голодали благодаря твоему деду Ю.?
— Нет, я не знал.
— Когда были трудности с продовольствием мы, как имеющие отношение к семье деда, могли получать продукты.
— Того времени я не помню… Зато помню, как ты, мама, завернув в платок свои платья, выменивала их где-то на деньги и у нас появлялся рис… Родственные связи с дедом уже не имели веса…
— Да… В то время я уже стала поденщицей… Откуда ты все это помнишь?.
— Мама, больше не называй себя так! Ты приняла решение жить своим трудом, как свободный, независимый человек, и осуществила это. Тут нет ничего унизительного.
— Ты сказал, что я живу своим трудом, как свободный, независимый человек? Я нынче — точно французы после революции… Я нынче… Удивительно!
— Но ведь я замечал, как много значило для тебя то, что ты пошла на поденную работу. С тех пор ты перестала сокрушаться, повеселела, ведь верно?.. Мы так тесно живем, что я и без слов чувствовал, что ты думаешь, как поступаешь… Образ нашей жизни нисколько не изменился, но ты сама изменилась, и не столько из-за того, что стала поденщицей, сколько потому, что произвела революцию в самой себе, так ведь?.. Я поражался тому, что, несмотря на свою постоянную занятость, ты, как прежде, пытаешься писать художественную прозу, размышляешь над проблемами веры… Пытаешься понять истинный облик деда… Но больше всего меня поражает, что ты сама, в одиночку, совершила Великую революцию.
— А меня больше всего удивляет, что ты это говоришь… Будем же стараться отныне, как французы после Великой революции, жить в духе свободы, равенства и братства. Спасибо.
Митико поднялась.
— Нам редко выпадает возможность поговорить по душам, — продолжал сын, — поэтому дай мне еще сказать. Мои две тети сейчас работают в христианской организации. И два моих старших брата находятся под их опекой и в будущем, скорее всего, тоже будут работать в этой организации. Я своими силами постарался понять, что такое вера, в чем заключается деятельность этой организации… Скажу только о выводах… Деятельность моих надменных тетушек основана на ложной вере, служит только удовлетворению их эгоистичных, корыстных интересов, и думаю, Иисус нисколько этому не радуется… К тому же дед, кажется, гордился, что добродетель, поставленная на службу Богу, будет вознаграждена равно для всех, носящих фамилию Ю., и обеспечит им любовь Бога… А я вижу, что все семейство Ю. обращается с тобой так, будто ты им не ровня, будто ты им чужая… Но недавно я понял, что и люди из семьи Ю. для тебя чужие. — Ты глубоко приняла веру Иисуса и в повседневных делах воодушевляешься убежденностью в том, что следует жить в духе свободы, равенства и братства…
Взглянув на сына, Митико поняла, что она никак не может сейчас просто взять и уйти на кухню, чтобы расшифровывать стенограмму…
— Ты упомянул о вере, но я — неверующая… Если бы не война, я бы стала профессиональным писателем и всю жизнь прожила бы одна и счастливо… Из-за войны я вошла невестой в семью ревностных христиан Ю. Я волновалась так, словно мне предстояло сесть на подушку, набитую иголками, но проблемы веры оказались ни при чем. Когда я стала поденщицей и крутилась каждый день в поисках работы, в утомленной моей голове все всплывала одна мысль. Обе достопочтенные невестки участвуют в деятельности религиозной организации, но в подлинного Иисуса они не верят. И муж, наследник семьи Ю., уйдя из дома, возглавил движение трезвенников, но если присмотреться, лозунги-то, в общем, хорошие, но к религиозной деятельности это никак не относится, и вообще не поймешь, чем он там занимается… Два старших сына воспитываются под руководством старшей сестры мужа, поэтому тоже не имеют отношения к вере… Получается, что из всей семьи Ю. ни один не является истинно верующим. И тогда я начала серьезно задумываться над тем, что же такое вера, и, слушая проповеди пастора А., решила, что для меня нет другого пути, как пытаться осуществить проповеди на практике… С прошлого года я учусь в вечерней семинарии, готовящей пасторов.
— Ты поступила в вечернюю семинарию, чтобы стать пастором?
— Вы уже большие, так что по вечерам я могу оставлять вас одних.
— Но днем ты работаешь, это же непосильно!
— Мои одноклассники — ребята твоего возраста, если мне случается заснуть на занятии, они не обращают внимания… А потом помогают исправить конспекты… Все очень добры ко мне…
— Ну и чему же ты там научилась?
— Наконец-то хоть немного начала понимать, какие из японцев христиане! — рассмеялась Митико, встала и, сказав, что ей надо делать работу, ушла в кухню.
И, словно занявшись готовкой еды, разложила на сухой кухонной доске бумаги и начала расшифровывать стенограмму.
Впрочем, в последнее время она перестала слово в слово придерживаться стенограммы. Переписывая, она проникала в духовную суть того, что хотел сказать пастор, и старалась выразить это в тексте проповеди. У нее было легкое перо, кроме того, ей нравилось писать, поэтому результат, даже учитывая, что это были проповеди А., получался превосходным.
Законченный текст проповеди она относила помощнице пастора — госпоже К. Та за неделю превращала его в изящную карманную книжечку, которую раздавала прихожанам с тем, чтобы они продавали ее, ходя по домам.
На книгах, фактически написанных Митико, в качестве автора неизменно значился профессор медицины пастор А., названия отличались благочестием: «Христианское учение, понятное японцам», или: «Так мне говорил Иисус», или: «Щедрое слово Божье». Книжки стоили тридцать сэнов за штуку, бойко раскупались, но она не имела к этому касательства. В результате за два года, в течение которых Митико занималась ими, слава пастора как автора знаменитой серии карманных книг затмила его звание профессора медицины, которым он так гордился. На проповедях А. всегда было много женщин, дело процветало. Проповеди пастора, впрочем, больше похожего на заурядного, вышедшего на пенсию чиновника, не слишком воспламеняли слушателей, но после, читая его проповеди в карманных книжках, они неизменно приходили в восторг. В чем же была причина? Никто не знал, что проповедует пастор, а пишет — Митико.
Расшифровывать стенограмму было делом обременительным, но не сложным. Митико не могла жаловаться, поскольку получала оплату в день работы. Стенографировать одного и того же человека, к тому же множество раз, не представляет трудности, но если он человек заурядный — невыносимо скучно.
Когда Митико только начала иметь дело со знаменитым пастором, профессором медицины, она питала большие надежды. Но уже после десяти проповедей надежды сменились отчаянием. Хоть этот человек и звался пастором, в нем ни на йоту не ощущалось духовности, он скорее напоминал чиновника на пенсии. Носил звание профессора медицины, но едва ли его занимали людские недуги.
Митико пыталась убедить себя, что для поденщика это не имеет ровно никакого значения. Ее задача — стенографировать то, что он говорит, и расшифровать запись. Один-два раза в месяц — это бы еще ничего, но в последнее время собрания верующих стали происходить два-три раза в неделю. Она просто не знала, что делать. При каждой встрече с пастором она убеждалась, насколько он несимпатичен, насколько однообразны проповеди, которые она стенографировала.
В это время Митико серьезно и мучительно размышляла над проблемами веры, над проблемой Бога и часто обращалась с вопросами к пастору, но его скучные проповеди не могли ее удовлетворить.
И вот как-то раз она не ограничилась расшифровкой стенограммы, а постаралась красивым стилем выразить свое понимание вопросов веры. Отдавая текст К., она беспокоилась, что услышит нарекания за свои «вольности», но та забрала его, как обычно, не говоря ни слова.
От читателей в редакцию пришло множество хвалебных отзывов. С тех пор Митико стала отдавать К. что-то вроде своего исповедания веры. Читатели восхищались глубиной веры пастора, не подозревая, что их похвалы относятся к Митико.
А Митико этому радовалась. Она была довольна уже тем, что смогла в тексте проповеди публично выразить свои мысли.
Разложив в кухне бумаги, она записывала не текст стенограммы, но свои собственные мысли, собственное исповедание веры, удовлетворяя свою тягу к творчеству. Как-то раз, закончив, она встала из-за стола и вдруг почувствовала необычайный восторг.
Восторг от того, что Бог пребывает здесь, рядом.
Никогда раньше она не думала о Боге так беззаботно. Эта мысль застала ее врасплох.
Бог пребывает здесь. Сила Великой Природы — Бог — есть повсюду. И здесь. Приглядись повнимательней.
Неужто и вправду?..
У нее открылись глаза:
«Я искала Бога. В самых неподходящих местах постоянно искала Бога.
Но Бог был здесь, обступал меня. И потому наполнял меня счастьем. А я-то не замечала…»
Охваченная вскипающей радостью, Митико была счастлива и преисполнена благодарности ко всем и ко всему.
Она еще не знала, что каждый человек, получив жизнь в дар от Великой Природы, живет, охраняемый Великой Природой, поэтому наше сердце, если оно не загрязнено «пылью», во всем преуспевает и наслаждается счастьем. Лучше всего прочего с сердца смывают «пыль» радость и благодарность. Нынешняя Митико, радуясь окружающему ее миру, жила с омытым сердцем, поэтому все исполнялось по ее желанию и она стала счастлива, только и всего…
Митико искренне поблагодарила каждую вещь в кухне, прежде она не обращала на них особого внимания, все вымыла, прибрала. Тем самым она надеялась поделиться своей радостью с привычной кухонной утварью…
Наконец она присела в тесной кухоньке и некоторое время сидела в покое. Убедившись, что и в таком месте, там, где она сейчас находилась. Бог Великой Природы не оставляет ее своим вниманием, она возблагодарила Бога за это утешение, за эту щедрость и еще глубже ощутила радость своей жизни.
Где бы я ни была, Бог меня хранит.
Стоило ей так подумать, как она уловила тихую мелодию. Шопен… Вслушалась.
Может быть, музыка — наивеличайший подарок, который Великая Природа дала людям. Благодаря музыке даже эта жалкая лачуга превратилась в райские кущи. Музыка — это благо.
Только сейчас я это поняла… — подумала Митико, наслаждаясь душевным покоем. Внезапно музыка стихла. Она поспешно прошла в комнату, где находился рояль.
Сын только что встал из-за него.
— Правда же, музыка — высшая драгоценность, которую Бог даровал людям, — внезапно сказала она сыну.
— Мама, что ты хочешь сказать?
— Музыка прекрасна — не будь музыки, как одиноки были бы люди!
— Само собой разумеется… Странно, однако, что ты сейчас это говоришь.
— Но я убедилась в этом только сегодня, только сейчас.
— Я всегда думал, что люди рождаются с этим убеждением. Я знаю, ты скажешь, что убедилась в этом благодаря тому, что стала поденщицей, прошу тебя, не надо…
— Я серьезно говорю… А ты, что ты думаешь о музыке?
— Если коротко, музыка — речь Бога.
— Минуту назад я почувствовала именно это и пришла, чтобы сказать тебе, но ты уже встал из-за рояля… Глупый разговор получается.
— Поскольку музыка — речь Бога, я вижу глубокий смысл в занятиях музыкой. Видишь ли, только это в религии меня и волнует.
— А я-то, уразумев, что музыка — речь Бога, обрадовалась и собиралась обсудить с тобой свое открытие, — засмеялась Митико.
— Если об этом, — засмеялся сын, — то не стоит и говорить. Поскольку мы живем вместе, я и так все чувствую. Лучше расскажи мне свою невообразимую историю. Ты ходишь в вечернюю семинарию, потому что искренне хочешь стать пастором?
— Не будь я искренней в своем желании, разве могла бы я заниматься, несмотря на свою усталость?
— Когда учеба закончится, ты станешь пастором?
— Если на то будет позволение начальства.
— В таком случае у тебя появится свой приход?
— Все зависит от начальства, не знаю.
— С точки зрения веры, надо иметь приход, пусть даже самый маленький?
— Да, я бы хотела… но смогу ли…
— Надо иметь хоть маленькую церковь… Если придет один, два верующих, я привезу этот рояль в церковь и сыграю божественную музыку.
— Не надо думать о таких пустяках… Ты должен закончить университет и аспирантуру, чтобы после расправить крылья и взлететь высоко, — сказала Митико.
На душе у нее было спокойно и ясно.
Через два дня Митико должна была стенографировать проповедь пастора у нас в доме. Я дважды в месяц устраивал собрание верующих у нас в столовой только потому, что она меня попросила. Я пошел на это, чтобы обеспечить ее работой. В то же время, поскольку Митико проявляла интерес к учению пастора, я втайне надеялся, что, посредством этих собраний, я и сам испытаю на себе религиозное влияние.
Однако не прошло и двух лет, как мои надежды рухнули, и стало ясно, что эти собрания только доставляют мне лишние хлопоты.
Как-то раз, когда Митико пришла с пастором в наш дом и столовая, как обычно, была переполнена, мы с женой, против обыкновения, присоединились к верующим.
Пастор сразу же приступил к проповеди, Митико занялась стенографированием, но… Неужто это и есть проповедь? — поразился я.
Вот что сказал пастор.
Здание X. в токийском районе Ёцуя благодаря своей высоте и современному архитектурному стилю стало новой столичной достопримечательностью, и на первом этаже именно этого здания располагается его, пастора А., церковь под названием «Церковь чистого счастья».
После такого вступления он начал подробно, по пунктам перечислять, сколько денег стоило строительство, сколько стоит оборудование, по каждому пункту приводил затраченные суммы и сколько набралось в итоге. Это были такие огромные деньги, что с трудом верилось.
— «Церковь чистого счастья», — сказал пастор, — принадлежит собирающимся в ней верующим, поэтому они и должны взять все расходы на себя. Однако прошло уже несколько месяцев, но до сих пор не нашлось никого, кто бы оплатил расходы, впрочем, надеюсь, что сообща мы с помощью веры решим эту проблему…
Казалось, на этом проповедь закончилась, и Митико вздохнула с облегчением, но А. продолжал.
Упомянув, что некий человек пожертвовал ему три комнаты на втором этаже, то есть прямо над церковью, он тут же ни с того ни с сего заявил, что пастор, представляющий Бога, несет отцовский долг перед верующими. Он, мол, построил церковь, чтобы защищать веру и души верующих, но, увы, до сих пор ничего не сделал для того, чтобы сберечь их драгоценное, выраженное в деньгах имущество. И вот, озаботившись этим вопросом, он устроил вместительный сейф с целью защищать финансовые накопления верующих. Что это за сейф, объяснять слишком долго, лучше будет назначить день для экскурсии…
Наконец он закончил, и Митико подняла голову. Собравшись с духом, я сказал пастору:
— Удивительно! Не ожидал я услышать от человека, верующего в Христа, такие ужасные слова, которые наверняка вызвали бы у Иисуса недоумение…
— Время Иисуса было бедное. Сегодня, проповедуя учение Иисуса, необходимо применять его к современности.
— Я все прекрасно понял, хватит об этом, — замахал я руками.
Было как раз время вопросов, однако никто вопросов не задавал. Поэтому я продолжил:
— Благодарю вас, господин пастор, и вас, господа верующие, что вы не побрезговали собираться в моем тесном жилище и дали мне возможность внимать вашему учению. Но прошу вас считать сегодняшнее ваше собрание у меня — последним.
— Вы пришли к выводу, что у нас с вами вера разная? — спросил пастор. — Правильно я вас понимаю?
— Я с самого начала догадался, что у нас нет ничего общего.
— Тогда зачем, придерживаясь другой веры, вы пытались усвоить мое учение?
— Выскажусь без обиняков. В конце эпохи Тайсё я заболел туберкулезом и лечился по методу природной терапии в высокогорной швейцарской клинике. В это время я свел дружбу с тремя европейцами, мы стали братьями, ищущими Бога, и благодаря помощи этого Бога все четверо вернулись к нормальной жизни… И сейчас в полном здравии мы продолжаем вести активную жизнь. Моя вера с тех пор не претерпела изменений. Более того, каким бы ни были вы блестящим проповедником, я и не собирался клянчить у вас учение. Просто ваша стенографистка госпожа Нобэ попросила, если можно, использовать это помещение для собраний… До сегодняшнего дня я все это терпел. И будет вам известно, что, не получая никакой благодарности, я был вынужден выступать здесь в роли некоего слуги… Посему с вашего согласия сегодня будет заключительный день.
— Может быть, вы все же объясните нам причину вашего отказа?
— Это моя личная проблема.
— Но коль скоро это касается всех присутствующих, будьте любезны, объясните.
— Вот как? Что ж, может и впрямь следует объяснить.
Я набрался решимости и, сменив тон, приступил к рассказу.
Начал я со своей семьи. Заметив, что в каждой семье есть свои семейные обычаи и что надлежит заботливо их оберегать, как драгоценную реликвию, я рассказал о том, что принято у нас в доме.
Затем подробно рассказал историю связанную с нашей третьей дочерью, которая, окончив школу, уехала во Францию, чтобы заниматься пением, и вернулась на родину через двенадцать лет. Здесь она стала доцентом в частной консерватории, но после долгого отсутствия сильно заблуждалась в том, что касалось нашей семьи и вообще отношений, господствующих в японском обществе.
Из того, что в нашем доме происходят собрания пастора А., она сделала вывод, что мы являемся его приверженцами, и, в конце концов, сама уверовала в его учение.
Я узнал об этом совершенно случайно.
Вернувшись из Франции, она всегда носила на груди памятную медаль, подаренную папой Пием XII.
Осенью 1951 года в Риме я получил у папы частную аудиенцию, и наша волнующая беседа продолжалась почти целый час. На прощание он подарил мне четыре медали, сказав:
— Это вашим четырем дочерям.
После чего святейший старец на чистейшем французском добавил:
— Передайте своим детям. Человек всегда жаждет счастья, но никто не застрахован от бед… Если возникнет необходимость, помолитесь на эту медаль и воззовите к моему имени… Обязательно явится Иисус и поможет вам.
Сказанные папой слова по сей день звучат у меня в голове… Я бережно привез в Японию четыре медали и вручил дочерям, передав напутствие папы.
Когда я увидел, что моя третья дочь из этой драгоценной медали сделала украшение, я про себя несколько удивился. Не дай Бог она ее потеряет, подумал я, и, поскольку мне доводилось отдавать вещи на хранение в банк, посоветовал ей последовать моему примеру.
В тот день у нее не было занятий в консерватории, весь день она была свободна, поэтому я предложил ей вместе сходить в банк. Смутившись, она призналась, что медали у нее сейчас нет. Я стал расспрашивать, и выяснилось, что пастор А. осудил ее за идолопоклонство и забрал у нее медаль.
Я велел ей немедленно позвонить ему, чтобы он вернул медаль. Удивившись строгости моего тона, она позвонила пастору и после нескольких неудачных попыток наконец смогла связаться с ним. Но пастор сказал, что он уже куда-то вышвырнул «идола».
Услышав об этом, я рассердился и закричал:
— Какая же ты идиотка!
Жена, удивившись моему крику, спросила, что случилось. Втроем мы обсудили произошедшее, и я более-менее понял, как обстояло дело.
Дочь, видя, что собрания пастора проходят у нас в доме и собирают множество верующих, сделала вывод, что ее родители стали приверженцами пастора, и попыталась тоже проникнуться его учением. Воспользовавшись моментом, пастор втерся к ней в доверие и сделал узницей веры.
Но, выслушав то, что мы думаем о вероучении пастора, дочь прозрела. Подчинившись указанию пастора и отдав ему юбилейную медаль папы, она впервые в своей жизни заслужила брань от отца, в сердцах назвавшего ее идиоткой…
Но как рассказать о том, что произошло со стоявшей в гостиной куклой театра «Бунраку»?
Как-то раз в мое отсутствие дочь провела пастора в гостиную, и тут он вдруг на полном серьезе сказал:
— Наши собрания происходят в соседней столовой, но никто из верующих никогда не переступает порог этой комнаты, чтобы отдохнуть. Кажется, ты не догадываешься, в чем причина?
— Нет.
— Здесь поселился дьявол.
— Что? Дьявол? Вы хотите сказать, что он здесь, в этой комнате?
— Видишь эту куклу? В ней и живет дьявол.
— В этой театральной кукле?..
— Если не изгнать дьявола, в доме случится несчастье.
— А есть место, где изгоняют дьявола?
— Есть, и чем быстрее это сделать, тем лучше, не будем откладывать. Я тебя сведу со знающими людьми.
— А что делать с куклой? Взять с собой?
— Поскольку в ней дьявол, нечего с ней церемониться. Заверни в платок.
Пастор дал ей адрес молельного дома, где изгоняют дьявола, назначил время, когда она должна явиться, и с тем ушел.
Она посоветовалась с матерью, и та согласилась, коль скоро изгнать дьявола — такой пустяк. На следующий день занятий в консерватории не было, рано утром она пошла по указанному адресу. Токио ее поразил, таким он предстал ей огромным и фантастичным городом, а вот молельный дом неожиданно оказался крошечной комнаткой, в которой двое юнцов-священнослужителей, сказав, что пастор их предупредил, сразу же положили куклу перед алтарем и в течение часа в клубах ладана читали молитвы.
Наконец они закончили, и дочь заплатила довольно значительную сумму, которую с нее потребовали.
— Кажется, дьявола мы изгнали, — сказал молодой священнослужитель, — но нет гарантий, что он не вселится вновь. Впрочем, и эту проблему можно решить, если позволите.
— Как же?
— Нельзя оставлять куклу в живых. Надо ее убить.
— Убить?
— Если хотите, мы сделаем это за пять тысяч иен.
Задрожав от страха, она завернула куклу в платок и, даже не попрощавшись, выбежала из молельного дома. Вскочила в проезжавшее мимо такси с таким чувством, будто чудом спаслась. Приехав домой, дочь, не разворачивая, положила куклу на стол в гостиной, ушла в столовую и долго не могла успокоиться под впечатлением от жуткого города Токио…
Через некоторое время из гостиной послышался голос матери: «Ах, бедняжка!» Дочь поспешила к кукле.
— Так испортили кимоно… — причитала мать, обнимая куклу. — Даже пояс развязался. Я не разбираюсь в кукольных нарядах и не смогу ее переодеть!
И вдруг строго сказала дочери:
— Сейчас же приберись в кукольном доме!
Она снова положила куклу на стол и достала с антресолей коробку с цветной бумагой.
— Отлично!.. — воскликнула она. — Я на всякий случай сделала верхнее кимоно… Сейчас оно нам очень пригодится.
Мать достала красивое кимоно, они вместе с дочерью с трудом одели куклу и поставили в стеклянный кукольный дом. Волосы растрепались, гребни погнулись, но это уже было не исправить.
Выслушав, что произошло, я ласково сказал дочери:
— Ты нелепо пострадала из-за куклы, но для тебя это ценный урок на будущее… А теперь забудем об этом.
— Как ты думаешь, — спросила дочь, — у куклы тоже есть
жизнь?
— Конечно есть.
— Почему?
— Потому что она получила
жизнь в дар от Великой Природы. Точно так же, как и мы, люди… Именно потому она до сего дня жила вместе с нами, напоминая матери твою бабушку, и была любимым членом нашей семьи. Но о биографии этой куклы как-нибудь в другой раз расспроси поподробней свою маму… У этого пастора такая теория: если член нашей семьи — дьявол, его надо уничтожить. В результате он причинил нелепые страдания тебе, только недавно вернувшейся на родину. Но ты вынесла ценный для себя урок. А собраниям пастора я теперь положу конец. Ты в тот день будешь в консерватории, так что это избавит тебя от неприятного зрелища, — засмеялся я.
Припомнив все это пастору, я ждал, что он хотя бы ради приличия извинится, но он молчал. Поскольку было время, отведенное на вопросы, я, обратившись к присутствовавшим, спросил:
— Может, кто-то из вас имеет ко мне какие-нибудь вопросы?
Тотчас же из толпы верующих какая-то женщина крикнула:
— Вы не боитесь, что ваш поступок навлечет кару?
— Навлечет кару? Кто кого покарает?
— Разумеется, вас покарает Бог, в этом нет сомнений.
— Тот Бог, в которого я не верю? — засмеялся я.
Тотчас женщины хором заголосили:
— Вы слушали проповеди А., не веруя в Бога, за это вас, безумца, постигнет кара. Подумать только — мы так беспечно собирались в доме, обреченном на кару Божью! Какой ужас! Гоните нас, но знайте — на ваш дом пало несчастье… И как только у вас язык повернулся!..
Я их не слушал.
Чем быстрее пастор уйдет восвояси, думал я, тем лучше. Стенографистка Митико сидела с безразличным видом, закрыв глаза.
Я решительно поднялся и громко сказал:
— Что ж, господа, собрание закончилось. Пожалуйста, успокойтесь и расходитесь.
Я внимательно следил за поведением пастора. Отреагирует ли он на то, что верующие осыпают меня проклятьями? Подоспевшая Митико стала его поторапливать, он молча поднялся и ушел вместе с ней. Вслед за пастором к выходу двинулись и женщины, ругающие меня на чем свет стоит.
Я молча взглядом провожал каждого, но в прихожую за ними не последовал, оставшись стоять в столовой.
Со следующего дня меня завалили письмами с проклятьями. Чаще всего писали, что на меня пала кара, что я вот-вот умру. Кажется, они с нетерпением ждали моей смерти. Но все произошло ровно наоборот. Через четыре года пастор А. поднялся на небеса, а я, достигнув девяноста четырех лет, до сих пор продолжаю писать книги.
Бог велик, но для людей, чей взор и сердца затуманены себялюбием, его истинный облик незрим.
Глава седьмая
Это было утром третьего июля. Наслаждаясь покоем в своем кабинете, я собирался приступить к работе, когда внезапно появился гений Жак, и слова его меня поразили.
— В последнее время ты сдружился с Минору Айтой, но обходишься с ним слишком небрежно, как с обычным студентом, а ведь Минору — выдающийся ученый… Тебе, наверно, невдомек… Постарайся извлечь пользу из общения с ним…
— Я не знал, что он большой ученый.
— В Японии он неизвестен, но в Америке уже знаменит. Сам он помалкивает об этом, вот я и решил тебе сообщить…
По словам Жака, когда Минору учился во втором классе, его отца послали работать в Америку. Мальчик прожил там почти десять лет и учился вместе со своими американскими сверстниками, поступив в самую знаменитую в Нью-Йорке среднюю школу. Ему повезло — молодой лингвист профессор Б. распознал его дарования и взял под свое особое попечение.
Ныне профессор Б. — всемирно известный ученый-лингвист, преподающий в нью-йоркском университете К. В юности он работал школьным учителем и объяснял ученикам премудрости языкознания на самом высоком уровне. Минору обратил на себя его внимание усердием и прилежанием и стал любимым учеником. Заинтересовавшись темой, доступной лишь узким специалистам, мальчик погрузился в науку.
Каким образом люди начали говорить? Как возник английский язык? Минору заинтересовали проблемы, связанные с происхождением английского языка и его развитием.
Он написал научную работу на эту тему и представил ее профессору Б. Тот, внимательно прочитав, решил, что она достойна публикации в лингвистическом журнале. Через несколько месяцев труд был опубликован, никто и подумать не мог, что его автор — школьник. Таким образом состоялось рождение нового талантливого лингвиста — Минору Айты.
Когда пришла пора поступать в колледж, Минору посоветовался с Б., который к тому времени уже преподавал в прославленном университете К., но одновременно читал лекции по лингвистике в специальном колледже, куда и посоветовал поступить Минору. Юноша проучился в этом колледже три года, успев опубликовать несколько работ в лингвистическом журнале, привлекших внимание специалистов.
Он предполагал продолжить учебу в университете К., где преподавал профессор, как вдруг отец, уже давно вернувшийся в Токио, начал настойчиво звать его домой — поступать в Токийский университет. Однажды его вызвал профессор Б., видимо, получивший письмо от отца, и сказал:
— Как ты смотришь на то, чтобы поступить в Токийский университет и заняться распространением научных методов лингвистики в Японии? Возвращайся в Токио, обобщи в большой научной работе результаты своих двухгодичных исследований и представь университету К. Я стану твоим научным руководителем, наши профессора будут тебя консультировать, и если твоя квалификация будет признана, тебя примут в наш университет в качестве исследователя. Тогда ты сможешь вместе с нами заниматься научной работой, став полноправным членом нашего ученого сообщества… Я лично очень на это надеюсь.
Вдохновленный профессором Б., Минору вернулся в Японию, поступил, в соответствии с желанием отца, в Токийский университет, выбрал лингвистическое отделение филологического факультета, взялся за большую научную работу, о которой говорил профессор, написал в течение двух лет около сотни страниц и послал профессору Б.
Наконец он мог вздохнуть с облегчением. Но тут отец, неожиданно узнавший, что его сын учится на филологическом факультете, пришел в ярость и приказал немедленно сдать экзамен для поступления на экономический факультет. Из сыновнего долга Минору решил сдать экзамен. Однако, пожив в Японии, он понял, что его знания японского языка, особенно иероглифики, находятся на детском уровне. Он старался наверстать, но не замечал особого прогресса.
К тому же прошло уже два месяца, как он послал профессору свою работу, потребовавшую столько усилий. Б. уведомил, что получил ее, но медлил с отзывом. Все это время Минору мучился, вспоминая допущенные недочеты и недоработки.
Тем временем он сдал вступительный экзамен на экономический факультет, но не был уверен в своем японском в письменных ответах. И пришел в отчаяние.
Все казалось бессмысленным. Жизнь ему опротивела. Он решил умереть и поехал к морю, туда, где покончил с собой его старый товарищ. Но Великая
Природа в эту ночь внезапно подняла бурю и спасла выдающегося ученого.
— Так-то вот. Минору — выдающийся ученый, жизнь которого так дорога Великой Природе. Общаясь с ним, пожалуйста, помни об этом. Видя твое легкомысленное отношение к нему, я не выдержал и решил тебя предупредить. Все понял?
С этими словами гений Жак исчез.
Я продолжал рассеянно сидеть в своем кабинете. Мой покойный друг Жак уже не раз являлся ко мне, чтобы подать совет, поэтому я не удивился его появлению, но то, что он сегодня мне рассказал, не укладывалось у меня в голове.
Сколько я ни размышлял, мне не верилось, что этот юноша, студент университета, такой выдающийся ученый.
Может быть, Жак перепутал его с кем-то другим? — сомневался я. Но, пребывающий в Истинном мире и оказывающий содействие Богу, Жак при прежних своих появлениях никогда не ошибался. Получается, Минору и впрямь такой большой ученый? По виду не скажешь. Но может быть, причина моих сомнений в том, что я ничего не смыслю в лингвистике и в разговоре с ним ни разу не касался того, что составляет предмет его научных интересов?..
Рассеянно думая об этом, я все никак не мог приняться за утреннюю работу.
Минору пришел, как обычно, в половине второго. В последнее время так сложилось, что каждый раз я минут двадцать рассказывал ему о жизни Митико Нобэ. Еще две наших встречи, думал я, и рассказ будет закончен.
Из гостиной он прошел в мой кабинет и, присев, сказал:
— Сэнсэй, Митико Нобэ я уже прошел. Может, выберем другую тему?
Вспомнив о моей утренней беседе с Жаком, я решил испытать, действительно ли он такой выдающийся ученый.
— Ты говоришь, что уже прошел Митико Нобэ… Что же ты вынес из ее истории? Объясни.
— В этой женщине нет ничего особенно замечательного кроме того, что она несгибаемо честный человек и к тому же смогла стать единственной в Японии женщиной-пастором. Мне хотелось понять, почему Великая Природа поступила с ней именно так, а не иначе… И в конце концов я понял.
— Может, расскажешь поподробнее? И на сегодня этого будет довольно.
Он немного подумал, потом, видимо собравшись с мыслями, кивнул и приступил к рассказу.
Митико Нобэ изначально обладала литературными задатками, но период ее творческого развития пришелся на несчастливую эпоху — долгие годы Тихоокеанской войны и послевоенной разрухи, когда она не имела возможности ни писать, ни печататься. Наконец наступили мирные времена, и ее способности, познав поздний расцвет, принесли плоды. Она стала писательницей, удостоенной литературных наград. Многие японские литераторы отзываются о ней с похвалой. Все это так, но…
Начав с ее первых произведений, Минору внимательно прочитал все, что она написала в свой ранний период, а также последующие книги, удостоенные литературных премий, и был вынужден констатировать, что у нее напрочь отсутствует литературный дар. Среди ее произведений, как ранних, так и поздних, он не нашел ни одного, которое можно было бы с полным правом назвать произведением литературы.
Все это вещи, наполненные
сетованиями несгибаемо честной женщины по поводу конкретных людей, семьи и общества. Поначалу один-два рассказа могут вызвать любопытство, но из-за невысокой степени художественности опытного читателя рано или поздно неизбежно постигнет разочарование.
Чтобы книга стала полноценным литературным произведением, в ее содержании и развитии темы не должно присутствовать пресловутое «Я». Подлинное литературное произведение выражает истину «безмолвного Бога». В ее же книгах нет ничего, кроме ее собственных переживаний, поэтому они не имеют отношения к литературе.
— Боюсь, — сказал он, — что их принимают за литературные произведения только потому, что они написаны хорошим стилем… Многие ошибочно полагают, что она от рождения была многосторонне одаренной. Я навел о ней справки, и мне тотчас все стало понятно… Она никогда не любила шитье и кулинарию, не интересовалась чайной церемонией и икебаной, в которых искушена любая японка, и все свое время посвящала исключительно чтению. А взять ее отношение к деревьям — разве не смотрит она на них с пренебрежением, как на некую бесполезную «растительность»?
Единственное достоинство этой женщины, которая сама похожа на никчемную «растительность», в ее несгибаемой честности, и меня заинтересовало, какую жизнь ей определила Великая Природа.
И в конце концов, поняв замысел Великой Природы, я восхитился ее мудростью, воздал ей хвалу и решил, что эта проблема для меня решена…
Закончив свою страстную речь, Минору внимательно посмотрел на меня.
— Так объясни мне, в чем был замысел Великой Природы? — спросил я.
— Бог Великой Природы не оставил ее, этакую «никчемную растительность», на произвол судьбы. Одобрив ее несгибаемую честность. Он замыслил сделать ее жизнь счастливой. С этой целью Он решил даровать ей материнство и привести в христианскую веру, для чего назначил ей в супруги сына всемирно известного христианского деятеля. Она наслаждалась безмятежной семейной жизнью, но христианкой так и не стала. После войны в Японии возобновила свою деятельность христианская организация, родственники мужа приняли активное участие в ее работе и обрели счастье, но она по-прежнему не была христианкой, в результате опустилась на дно нищеты и стала простой работницей. Не ведая о руководящей силе Великой Природы, чуждая христианской веры, встретила она свои поздние годы. Ее сын поступил в Токийский университет и, подрабатывая, стал помогать ей материально, благодаря чему она получила возможность учиться в вечерней семинарии, готовящей пасторов.
Днем она работала, а вечерами на протяжении многих лет, превозмогая усталость и сон, училась вместе с молодыми христианами, которые были моложе ее сына, в вечерней семинарии, чтобы стать пастором. И стала-таки в конце концов христианкой. Великая Природа это одобрила и, когда она закончила вечернюю семинарию, уготовила ей судьбу первой в Японии женщины-пастора.
К этому времени она уже была пережившей свой век старухой. Обычно в ее возрасте, как видно на примере ее прежних подруг, женщина становится противной каргой, с наслаждением мучающей невестку, или развалиной, кое-как доживающей свой век на попечении чужих людей в доме престарелых.
Вот почему, когда вы сказали, что она стала первой в Японии женщиной-пастором, я недоумевал, каким образом она, будучи нищей работницей, поденщицей, могла исполнять обязанности, связанные с религиозным призванием.
Но с тех пор, как несгибаемо честная женщина, ценой невероятных усилий, стала пастором, Великая Природа не оставляла ее своей заботой. Даровала ей небольшой приход и, освободив от поденной работы, дала возможность исполнять свой пастырский долг.
В качестве женщины-пастора она добилась замечательных успехов. Об этом можно судить, просмотрев ежемесячный бюллетень, который выпускает ее церковь.
Три воскресенья в месяц она служит в своей церкви, ставшей ее вторым домом, в течение недели читает лекции и выступает с миссионерскими посланиями в Токио, кроме того, ездит с проповедями по стране, посещая местные приходы и религиозные собрания.
Ее церковь находится на попечении ее старшего сына и дочери. Еще до того, как она поступила в вечернюю семинарию, старший сын окончил Токийский университет и, отклонив предложения многих фирм, устроился на временную работу, чтобы помочь семейному бюджету, а сейчас взял на себя управление церковью, в которой, кроме всего прочего, служит церковным музыкантом.
Ее единственная дочь, окончив университет, не рассталась с семьей и вместо матери взвалила на себя все заботы, связанные с ведением домашнего хозяйства, а с тех пор, как у матери появился приход, всячески помогает прихожанам и женскому объединению при церкви. И сын и дочь уже перевалили брачный возраст, оба холосты, обычная мать от этого страдала бы, но пастор Нобэ убеждена, что на все воля Господня, и не придает этому значения.
Число прихожан быстро возросло, по воскресеньям в церкви не протолкнуться, поэтому многие высказали желание построить новую церковь и стали ежемесячно собирать пожертвования в фонд строительства новой церкви. Судя по последним номерам церковного бюллетеня, в прошлом месяце на новое строительство пожертвовали двадцать семь человек и общая сумма достигла 188 700 иен.
Если так пойдет дальше, недалек тот день, когда церковь Нобэ обретет новое великолепное здание.
Я молча слушал то, что мне говорил Минору. Внезапно он обратился напрямую ко мне:
— Сэнсэй, вы рассказывали о том, как после войны, когда вы жили в Мисюку, Нобэ посетила вас и как она, держа на руках младенца, кормила его грудью. Этот младенец — ее второй сын, но ни в одном церковном бюллетене нет никаких сведений о нем. Мне показалось это странным, и я навел справки… Долгое время он работал ассистентом по истории в Токийском университете, а в этом году стал доцентом, женат и счастлив. Вам это известно?
— Тот младенец… стал доцентом в Токийском университете?.. Не знал. Я ведь его с тех пор не видел. Удивительно! Как же быстро пролетает наша жизнь!
— Сэнсэй, я бы хотел встретиться с Митико Нобэ, чтобы серьезно с ней поговорить и кое-что ей посоветовать. Возможно ли это?
— Вы же уже здесь встречались, так что, думаю, нет ничего проще. Но лучше, если при следующей встрече ты не будешь скрывать, что ты всемирно известный лингвист, это ее порадует.
— Всемирно известный лингвист? Кто вам сказал?
— До сегодняшнего утра я этого не знал, но утром мой друг Жак, пребывающий в Истинном мире, поведал мне многое о тебе. Ничего этого не зная, я вел себя по отношению к тебе неподобающе.
— У вас есть какой-то тайный источник информации?.. Вот уж чего не мог предположить… Это я должен извиниться перед вами.
— Но если можно, расскажи, что ты хочешь посоветовать Нобэ?
— Кажется, это было в тот день, когда расцвела глициния. Я был потрясен красотой цветов и, узнав, что вы как раз кстати находитесь в гостиной, хотел немедленно поделиться с вами своим восторгом. Вы беседовали с Нобэ и представили нас друг другу, рекомендовав меня как студента Токийского университета. И вдруг Нобэ, даже не спросив, чем я занимаюсь, набросилась на меня со своей проповедью, поучая, к чему должен стремиться юноша. Я оторопел от неожиданности. Она говорила минут двадцать, но я не мог уловить суть ее речи, только набор красивых слов, поэтому решил слушать ее как художественное пение, а сам при этом внимательно разглядывал ее… Элегантное платье, подобранная под цвет платья шляпка, в волосах седина. Пока я пытался сообразить, сколько ей — семьдесят, восемьдесят, проповедь закончилась, и она поспешно собралась уходить. Вы вышли ее проводить, я тоже направился в сад, но она, проходя мимо цветущих глициний, даже бровью не повела и удалилась энергичной походкой.
— Твоя беспощадная зоркость молодого ученого меня пугает.
— В тот раз вы сказали мне, что она писательница и единственная в Японии женщина-пастор. Когда я в Японии сталкиваюсь с каким-то необычным явлением, что бы это ни было, у меня возникает непреодолимое желание его изучить, и по этой своей дурной привычке, желая узнать о ней побольше, я надоедал вам в течение нескольких дней… А сам между тем дважды побывал на ее не то лекциях, не то проповедях. Она в течении почти что двух часов хорошо поставленным голосом произносила с кафедры красивую проповедь, но среди слушателей были одни женщины, несколько десятков человек… Сколько же из них пришло в поисках веры? В последние годы жизнь стала богатой, многие женщины могут позволить себе в будние дни встречаться с подругами и играть в гольф… Даже вошло в моду по воскресеньям устраивать соревнования с мужьями. А для тех женщин, что не имеют возможности играть в гольф, площадку для гольфа замещает зал, в котором она читает свои проповеди, только и всего. Просто диву даешься…
— Это все, что ты хочешь сообщить Нобэ?
— Нет, это мелочь… По милости Великой Природы она преуспела в качестве женщины-пастора и обрела счастье, тут никаких сомнений нет. Но растет ли при этом в Японии число христиан? Появилось множество самых странных, так называемых новых религий, люди совсем запутались. Вернуть их к подлинной вере — не в этом ли ее первейший долг? Мне бы хотелось, чтоб у людей разверзлись духовные очи… Вы не говорили ей об этом?
— Нет, виноват. Но даже если б и говорил, я произвожу впечатление человека, который ничего не смыслит в вере… Великая Природа как-нибудь сама разрешит эту проблему.
На это Минору почему-то не ответил. Мне тоже нечего было добавить.
Помолчав, Минору, точно вспомнив о чем-то, спросил:
— Деяния Великой Природы столь велики, что она имеет свой замысел относительно каждого человека, всех любя и никому не оказывая предпочтения, только не все об этом догадываются, так?
— Да, Великая Природа желает сделать счастливым каждого. Особенно в нынешнюю эпоху, эпоху Хэйсэй — «мира и равенства», Великая Природа постоянно обращается к людям, но люди ей не отвечают. Впрочем, некоторое время назад я заметил, что и сам ничем не лучше других, и пришел от этого в большое смятение.
— Великая Природа обращается ко мне. Я почувствовал… И решил попытаться ей ответить. Это не просто, но я верю, что в этом и есть смысл жизни.
Если бы кто-нибудь подслушал наш разговор, он бы наверняка подумал, что мы ведем какую-то умозрительную дискуссию, и ошибся бы, ибо говорили мы о самых что ни на есть конкретных вещах. Меня только что уведомили, что Минору — ученый-вундеркинд, поэтому мне стало труднее говорить с ним непринужденно, и все же я хотел донести до него мысль, что Бог Великой Природы ждет и очередь за человеком — дать ответ.
Минору как будто прочел мои мысли, но вдруг рассмеялся:
— Я вспомнил о забавном эпизоде, который случился, когда вы наставляли Нобэ по поводу ее стиля. Вы сказали ей, что стиль иногда нуждается в косметических поправках, но поскольку она не пользуется косметикой, ей трудно понять, что это значит. И в следующий раз она пришла густо накрашенная… Так вы рассказывали…
— Да, она впервые прибегла к косметике и так густо накрасилась, так сильно набелилась, что, беседуя с ней о стиле, я не вынес странного зрелища и опустил глаза… Когда она уходила, я намекнул ей, что без косметики она краше.
— И все же этот эпизод с косметикой как нельзя лучше выражает ее честный, прямой характер. Великая Природа, любя ее характер, ее натуру, дала ей подходящую роль и сделала ее жизнь счастливой.
— Вероятно… Но она не исключение. Великая Природа каждому человеку дает походящую роль, только, увы, сам человек чаще всего об этом не догадывается.
— Честно говоря, в последнее время я остро чувствую — Великая Природа обращается с вопросом к каждому из нас.
— Великая Природа вопрошает?
— Да. И ко мне она обращается с вопросом, но о чем она спрашивает, я, по своему неразумию, не понимаю, а потому страдаю, — сказал Минору, печально посмотрев мне в глаза.
Природа вопрошает с любовью.
Так мне подумалось само собой. Но я был уверен, что могу без колебаний, немедленно ответить на вопрос Бога.
Согласно Его воле, я пишу книгу. И буду писать до тех пор, пока мне не будет приказано отложить перо. Я так стар, что у меня не хватает сил ни на что, кроме писания, и это служит мне жизненной опорой, дающей успокоение, а вот одаренные молодые люди вроде Минору, должно быть, страдают, не зная, какой из множества их талантов отвечает велению Великой Природы. Впрочем, им можно только позавидовать.
С этой мыслью я внимательно смотрел на него, но вдруг вспомнил о лекциях в университете и поспешно спросил:
— У тебя сегодня, наверно, есть лекции?
— Есть, но поскольку это всего лишь писание конспекта, присутствовать на них не обязательно. Большинство лекций экономического факультета на третий день печатают и продают в книжной лавке у ворот университета. Многие студенты, поступив в университет, успокаиваются, полагая, что отныне работа им гарантирована, ну а поскольку на службе у них не будет времени для отдыха, надо взять свое сейчас… Они покупают распечатки конспектов и обходятся этим. Разумеется, тот, кто хочет серьезно изучить экономику, так не делает… В связи с этим меня нередко посещает беспокойство о будущем благополучии Японии, впрочем, я и сам, поскольку поступил на экономический факультет только из сыновнего долга и все свои силы отдаю собственным исследованиям, обхожусь готовыми конспектами.
— Вот как? Не перестаю удивляться на нынешних студентов.
— В японском обществе множество нелепостей. И студенческая жизнь во многих отношениях одна из них.
Япония стала великой экономической державой, все разбогатели, и свалившаяся на нас свобода породила такие нелепости.
— Ты говоришь, все разбогатели, но стала ли жизнь обычных людей богаче, это еще вопрос. Деньги бегут к деньгам, и действительно, многие купаются в деньгах, деньги из ушей лезут… Поступки таких людей часто привлекают к себе излишнее внимание, но свободы в этом как-то не чувствуется.
— Я слышал, что название эпохи Хэйсэй означает, что Великая Природа придавит таких людей, уравняет их с другими, сделает всех людей равными. Это правда?
— Должно быть, правда. Так я слышал от Небесного сёгуна.
— Ужасно… Несмотря на то что все в равной мере получили от Великой Природы жизнь, та же самая Великая Природа кого-то из них придавит и растопчет… В это невозможно поверить!
Взглянув на него, я понял, что ему следует рассказать о некоторых принципиальных вещах, чтобы его убедить. Я уже говорил об этом другим, но даже если придется повториться, это слишком важно, пусть послушает.
И вот что я рассказал ему.
Нынешнее состояние японского общества мало чем отличается от французского общества накануне революции. Чтобы спасти французский народ, двести лет назад Великая Природа произвела революцию. А теперь Великая Природа собралась произвести революцию в Японии, чтобы спасти японский народ.
Однако факт, что во время французской революции многие французы, ее возлюбленные чада, стали жертвами террора, более того, потребовалось почти сто пятьдесят лет, прежде чем проявился результат и народ, подняв трехцветный флаг свободы, равенства и братства, смог осуществить свою мечту и начать жить в радости.
Произойди в Японии революция — даже если судить по тому, что произошло во Франции два века назад, — было бы много жертв и для достижения результата понадобилось бы немало времени. Природа задумалась, как этого избежать.
Впервые после того, как 900 999 999 лет назад Великая Природа сотворила на Земле человека, она решила, что исполнились сроки, и в 1987 году спустилась на Землю, чтобы спасти мир. И это произошло в Стране восходящего солнца — в Японии. Основательница учения Тэнри Мики Накаяма, в течение ста лет после смерти пребывая в Истинном мире, по приказу Бога-Родителя прошла через двенадцать духовных испытаний, чтобы в 1986 году также сойти на Землю для Спасения Мира в качестве живосущей Родительницы, подготовила пути для Спасения Мира Богом-Родителем, много раз обошла, помогая Ему, земной шар с востока на запад и с запада на восток, преобразив коммунистические страны в демократические, заложила основы того, чтобы все люди могли жить в радости… Поскольку Бог Великой Природы сошел в Японии, все японцы непременно обретут с Его помощью «жизнь, полную радости».
Когда я дошел до этого места, Минору сказал:
— Вы меня успокоили… Но скажите, что сейчас делает Великая Природа?
— Наверное не знаю, но в начале этого года она обращалась ко мне. «На Земле в отношениях между Востоком и Западом наступило затишье. Пора приступить к большой чистке отношений между Севером и Югом, но это будет нелегко. В первую очередь я думаю об Иране и такой хлопотной стране, как Ирак. Чтобы побудить жителей этих стран и их лидеров одуматься, в качестве предупреждения устрою землетрясение. Я не сразу на это решилась, поскольку жители этих земель — мои возлюбленные чада — понесут многочисленные жертвы, но жертвы тотчас возрождаются к счастливой жизни, и если найдется хотя бы десять праведников, я не премину их спасти…» Так она мне говорила, и — в каком же это было месяце? — в Иране и Ираке произошло мощное землетрясение, было много жертв… И несмотря на это, лидеры не одумались. Неужто должно произойти еще что-то ужасное?
— Я бы хотел возвестить миру о существовании Бога Великой Природы.
— Какой там мир, даже в Японии это считают предрассудком… Говорят, будто то, что я пишу, свидетельствует о моем старческом маразме…
— В этом отношении американцы более открытые люди. Я намерен, вернувшись в Америку, первым делом рассказать всем о деяниях Бога Великой Природы.
В это время домашние оповестили меня, что в гостиной дожидается много людей, пришедших за «Божьей водой». Минору собрался уходить. Я вышел его проводить, и напоследок он мне сказал:
— Вот ведь и вам приходится несладко!
Я вошел в гостиную. Там в ожидании «Божьей воды» скопилось больше десятка человек, стулья они принесли из соседних комнат. В основном это были женщины, и на их лицах читалось недовольство тем, что их заставили ждать, так что мне сразу стало неловко. В углу дивана примостился один господин. Кажется, четыре или пять дней назад он приходил за «Божьей водой», поскольку у жены его рак желудка и ей должны делать операцию. Поэтому прежде всего я спросил его, сделали ли операцию.
— Большое вам спасибо за участие… — сказал он. — Операция должна была пройти на следующий день после моего прошлого визита к вам. Жена сразу же начала пить «Божью воду», называя ее водой жизни… Пила понемногу, как лекарство, и той же ночью, против обыкновения, крепко спала. Проснувшись, она стала умолять дать ей что-нибудь поесть, я спросил совета у медсестры, но та меня обругала: «Даже не думайте! Сегодня назначена операция, не давайте есть ничего, кроме того, что разрешил главный лечащий врач…» Пришло время операции. Когда ее отвезли в операционную и произвели последний осмотр, лечащий врач и директор клиники долго о чем-то совещались, после чего сказали жене: «Операцию переносим на завтра, поэтому сегодня можете есть что хотите, попросите об этом медсестру…» Жена обрадовалась, сказала, что все это благодаря «Божьей воде», и заказала медсестре любимую еду. На следующий день ее привезли в операционную, и после осмотра лечащий врач и директор клиники снова начали совещаться, она слышала, как один воскликнул: «Чудеса, батенька, да и только!», на что другой ответил: «Такое в моей практике впервые!», после чего они сказали жене: «Поскольку желудок у вас не болит, завтра утром мы вас выпишем, и вы две недельки постарайтесь вести обычный образ жизни. После этого мы решим, есть ли нужда в операции…» В результате сегодня утром она вернулась домой. Жена радуется, говоря, что исцелилась от рака желудка благодаря «Божьей воде». Большое вам спасибо.
— Дело не столько в «Божьей воде», сколько в том, что ваша жена омыла ею свое сердце и восстановила его чистоту.
Бог Великой Природы говорит: «Вы сильны в
правде. Одобряя вашу правду, Великая Природа пришла на помощь… Вскоре я возвещу жене, в чем ее правда…»
— Драгоценные слова.
— Берегите же возродившуюся жену и почитайте ее как солнце вашего дома, говорит Великая Природа. Тогда в вашем доме солнце никогда не скроется в облаках, всегда будет ярко светить, семья будет счастлива, и детишки вырастут всем на загляденье… И это тоже награда за вашу долголетнюю
правду, говорит Великая Природа.
— Спасибо большое. Наверно, мы должны как-то отблагодарить Бога?
— Великая Природа радуется, что жена ваша исцелилась, это и есть благодарность. Больше ни о чем не заботьтесь.
— В тот день, когда жена наберется сил, мы вместе придем вас поблагодарить, а сейчас разрешите откланяться, я и так отнял у вас много времени…
Он поднялся. Я проводил его до ворот и увидел, что возле машины его ждет шофер. Возможно, я говорил с известным политиком или финансистом, так или иначе, общение с этим душевным человеком подняло мне настроение. Когда я вернулся в столовую, дочь уже заставила весь стол всевозможных размеров бутылочками для «Божьей воды» — их принесли люди, ждущие в гостиной. Не так просто приготовить «Божью воду», чтобы хватило на всех. Ведь для этого надо отказаться от своего «я» и
простодушно принять в себя истину Бога.
А в моем возрасте ох как трудно стать
простодушным.
Глава восьмая
Несколько лет назад, кажется поздней осенью, профессор Кодайра, известный специалист по сравнительному религиоведению, по пути в университет зашел ко мне и торопливо сообщил:
— Основательница учения Тэнри вошла в одного молодого человека, и ему хотелось бы непременно с вами встретиться. Вы согласны? Мне не раз приходилось иметь дело с подобными явлениями и проблемами, но я никогда в них не верил, однако этот случай иного плана, хоть раз обязательно встретьтесь с ним!
Странный разговор, но поскольку просьба исходила от моего близкого друга, я ответил, что всегда готов встретиться. На этом наш разговор закончился, профессор спешил в университет и, ничего подробно не объяснив, даже не присев, ушел.
На следующий день около десяти профессор пришел, приведя двадцатилетнего юношу по имени Ито…
Оба они сели рядком на диван в гостиной.
Ито, к моему удивлению, оказался пышущим здоровьем красавцем. Ценя время профессора, я без долгих околичностей сразу спросил юношу:
— Как выглядит вероучительница?
— Так ведь она сейчас стоит у вас за спиной.
Я обернулся, но, разумеется, там никого не было. Между тем юноша описал ее лицо, ее фигуру и даже характер.
После войны я в течение десяти лет писал «Вероучительницу». В Центре Тэнри мне заявили, что у них нет никаких материалов, и отказали в поддержке, поэтому я сам ходил, собирал материалы и искал ее фотографии. При ее жизни фотография еще не была распространена, и мне не удалось обнаружить ни одного заслуживающего доверия снимка вероучительницы. Было три места, в которых хранились и почитались ее изображения. Я посетил их и «удостоился лицезрения», но все это были картины, выполненные в японской манере, и понять по ним, как в действительности она выглядела, было невозможно.
Но пока в течение долгих десяти лет я писал «Вероучительницу», рисуя в душе ее образ, впитывая речи и поучения, невольно мне стало казаться, что я представляю себе ее облик, и, успокоившись, я смог завершить биографию.
Самое удивительное, что ее облик представлялся мне точь-в-точь таким, как его описывал сидящий возле профессора Кодайры юноша. И я обратился к нему:
— Вы говорите, что госпожа Родительница хочет мне что-то сообщить. Что ж, давайте послушаем.
— Мне трудно так, сидя на диване… У вас нет комнаты, где можно было бы сидеть на циновках?
Я проводил его в комнату покойной жены.
В ней было пусто, ничего, кроме ее маленького алтаря, да на западной стене над батареей висела картина одного известного художника «Парижские стены». Я достал с полки три подушки.
Юноша сел спиной к картине, лицом к нам двоим. Затем повернул голову к стене, дважды хлопнул в ладоши, помолился и вновь оборотился к нам. Профессор сполз с подушки на циновки, и я последовал его примеру.
Лицо юноши, не прекращавшего молиться, во мгновение ока преобразилось: глаза навыкате, рот по-старушечьи изогнут, — и в ту же минуту послышался старческий голос:
— Всех вам благ… После того как в двадцатом году Мэйдзи я, сократив на двадцать пять лет срок своей жизни, возродилась — умерла, пообещав через сто лет спасти мир в качестве живосущей родительницы, я открыла каменные врата небес и вернулась…
Услышав эти слова, я был ошеломлен.
После я уже не столько внимал тому, что она говорила, сколько наслаждался красотой голоса, выговором и оборотами речи старухи, говорившей на диалекте района Кансай. Хотя все убеждало, что говорит сама вероучительница, вошедшая в юношу, я все же немного сомневался, не присутствую ли я при своего рода спектакле. Тем временем она умолкла, юноша дважды молитвенно хлопнул в ладоши и тотчас из старухи вновь превратился в юношу. После этого, даже не притронувшись к предложенному чаю, поспешно удалился.
Профессор ушел с ним, и мне не с кем было поделиться моими сомнениями. Я не мог вспомнить точно, о чем шла речь. Зная, что профессор записывает на магнитофон, я раскаивался, что не сделал того же, и на душе остался какой-то жутковатый, неприятный осадок.
Через день около четырех пополудни юноша Ито неожиданно пришел один.
— Госпожа Родительница велела мне посетить вас, — сказал он вместо приветствия.
На этот раз я решил внимательно понаблюдать за ним. Выпив чаю, он снял часы, положил на стол, потом сказал: «Пойдемте в комнату с циновками», поднялся и, перейдя в комнату жены поставил на обогреватель маленькую картину.
— Получив приказ от госпожи Родительницы, я употребил на это два дня, даже поспать не смог, — сказал он. — Ужасно трудно рисовать золотом.
В центре картины, вероятно что-то символизируя, была изображена старая башня, по обеим сторонам ее — солнце и полумесяц, понизу стлались волны тумана.
— Невозможно молиться, когда нет образа, — сказал он, ушел в ванную помыть руки, вернулся, обратился лицом к «образу», молитвенно хлопнул в ладоши, вновь повернулся ко мне, и в тот же миг, когда он соединял ладони, его лицо преобразилось и стало напоминать старушечье, как в прошлый раз. И, как в прошлый раз, он заговорил тем же голосом, на том же кансайском диалекте. Но теперь я мог его спокойно выслушать.
— Всех вам благ… Вскоре после войны ты, несмотря на безденежье, потратил многие годы на то, чтобы хорошо написать обо мне…
Дальше она рассказала, как во время работы над «Вероучительницей» я посетил ее дом Маэкава в Саммайде, в котором она родилась.
Рассказала, как я почтительно осмотрел все, начиная от старой комнаты, где она родилась, до древнего колодца в саду, из которого черпали воду, чтобы обмыть новорожденную. Как поразили меня слова сторожа, сказавшего, что такой ветхий дом тяжело поддерживать, лучше уж его снести. И как я возразил тогда, что было бы больше смысла, если б вместо строительства нового своего шикарного здания Центр Тэнри позаботился о сохранении этого старого дома.
Возле дома протекал красивый чистый ручеек, и, услышав, что чуть ниже по его течению живет старуха, лично знавшая Вероучительницу, я посетил ее, и провел почти три часа за увлекательной и полезной для меня беседой.
Все это было известно Родительнице.
Напомнив, как жадно я внимал речам этой старой женщины, наслаждаясь ее чудесным выговором, вероучительница сказала, что там, откуда она родом, все так говорят, поэтому, открыв каменные врата неба и возродившись в качестве живосущей Вероучительницы, она и ныне говорит на милом сердцу языке своей родины…
Затем она втолковала мне, чего хочет от меня Великая Природа, и, призвав меня во что бы то ни стало исполнить свое предназначение, сказала:
— Если возникнут какие-либо трудности, я окажу тебе помощь, так что не беспокойся. Думай обо мне как о ласковой тетушке, живущей по соседству, я в любой момент приду по твоему зову. А теперь прощай!
Тотчас старушечье лицо вновь превратилось в лицо цветущего юноши. Я стал удерживать Ито, так как хотел о многом его расспросить, но он сказал, что ему пора на работу в Синдзюку, и быстро ушел…
Прошло пять дней. Около четырех вновь появился юноша Ито. Моя дочь была на занятиях. Как обычно в такие дни, ее подруга, бездетная госпожа Симидзу, с десяти утра до вечера помогала нам по хозяйству.
Юноша Ито, в прежнем порядке проделав все действия, сел перед обогревателем. Симидзу, узнав о его визите от дочери, захотела послушать вместе со мной. Мы устроились перед юношей.
Он же, как в прошлый раз, помолившись, тотчас превратился в старуху и заговорил.
Вначале, обратившись ко мне, он произнес несколько ободряющих слов, затем, повернувшись к Симидзу, сказал:
— Добро пожаловать… Сегодня я пришла, чтобы встретиться с тобой…
Я понимал, что с моей стороны неприлично подслушивать, когда вероучительница обращается к другому человеку, но не мог же я заткнуть уши руками и, смущаясь, волей-неволей слушал долетавшие до меня слова.
Зная, что Симидзу искусная портниха. Родительница обратилась к ней с просьбой. Еще при жизни, 26 декабря 1873 года, следуя приказу Бога, она надела алое кимоно и приступила к Спасению Мира.
— И сейчас, — сказала она, — я хочу спасать мир, облачившись в такое же алое кимоно. Поэтому прошу тебя, сшей мне алое кимоно и красный пояс — достаточно будет хлопчатобумажного летнего кимоно без подкладки. Мерку можно снять с этого ребенка (Ито). Пояс не слишком широкий, лучше узкий… Когда кимоно будет готово, я стану надевать его только в этом доме и оставлять здесь же… Исполнишь это для меня?
— Слушаюсь, — сказала Симидзу.
После этого Родительница заговорила, понизив голос, и я по своей глухоте, к счастью, ничего не расслышал. Но уже через несколько минут Симидзу, расчувствовавшись, едва могла сдержать слезы…
Когда все кончилось, Симидзу сняла с юноши мерку, чтобы сшить алое кимоно, а он, опасаясь опоздать на работу, вновь поспешил удалиться.
Через день, в пятницу, когда Симидзу пришла, как обычно, помочь по дому, она, исполнив повеление Родительницы, принесла алое кимоно, и не только пояс к нему, но также хаори и таби
[41]. Обмотанный платком сверток она положила на клетчатую подушку перед обогревателем, на которой имел обыкновение восседать юноша Ито.
Когда через несколько дней я сообщил пришедшему Ито, что алое кимоно готово, он, как обычно, вошел в комнатку, снял верхнюю одежду и переоделся в легкое алое кимоно. Мне показалось, что ему должно быть холодно, но он, как и прежде, следуя заведенному порядку, начал говорить, обращаясь к нам, но теперь еще больше походил на ласковую старушку, и чувствовалось, что слова его переполнены радостью. Когда беседа закончилась, он перед уходом сам аккуратно сложил кимоно и завернул его в платок…
С тех пор и по настоящее время Ито каждые четыре-пять дней посещает меня и дает возможность непосредственно услышать слова вероучительницы Мики Накаяма. Я взял за правило записывать на магнитофон все, что она говорит, и после по многу раз прослушивать, запечатлевая ее слова в своем сердце.
Позже дочь купила электронную печатную машинку, о которой она впервые услышала от Ито, и наловчилась перепечатывать записанный на пленку голос, так что теперь благодаря ее усилиям сказанное Родительницей можно не только услышать, но и прочесть глазами. Любопытно, что услышанное и прочитанное отзывается в сердце по-разному. Дочь печатает на машинке два экземпляра и один посылает профессору Кодайре. Но в речах Родительницы поднимается так много всевозможных проблем, что мы боимся слишком обременять занятого профессора.
Поначалу сам юноша меня не интересовал, меня волновали лишь слова, которые будто бы его устами изрекала Родительница. Тем более что я никак не мог удостовериться, что это действительно ее слова.
Родительница-вероучительница не жалела сил, чтобы развеять сомнения у такого закоренелого позитивиста, как я.
Вот лишь один пример. Как-то раз она пригласила Иисуса и устами юноши попросила заговорить со мной.
Дело в том, что в двадцатые годы (раньше я уже, возможно, писал об этом), борясь с туберкулезом во французском Отвиле, я как-то раз на обратном пути от холма посреди заснеженного высокогорья, который мы с моими друзьями по несчастью окрестили нашим храмом, вознося на нем молитвы, обратился к Жаку:
— Когда Иисус был распят на кресте, он воскликнул: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?», получается, в миг смерти даже он усомнился в Боге?
На что тот, кого мы называли «гений Жак», ответил с упреком:
— Непозволительно так легкомысленно говорить об этих вещах, хоть ты и не христианин.
И вот, явившись в мой дом, Иисус устами юноши Ито прежде всего ответил на мой давнишний вопрос:
— Когда я был распят на кресте, я тихо декламировал псалом, но евангелист остановился на стихе: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил», а следующий стих по недосмотру опустил.
Затем Иисус продолжил:
— Когда я занимался плотницким ремеслом, я искал истинный путь, но при этом страстно мечтал заниматься науками в стольном граде, из которого мог бы взирать на гору Фудзи, и молил Бога сделать так, чтобы мое желание исполнилось…
Как только он сказал то, что было неведомо моим отвильским друзьям, я поверил, что это Иисус, и поклонился ему до земли, пораженный, с ощущением своей ничтожности…
— Бог Великой Природы, — продолжал он, — в 1987 году впервые сойдет на Землю для Спасения Мира, и в это время я — как Иисус воскресший — буду сопровождать Его и помогать Ему…
Слова я вроде бы уловил, но нежный, молодой, красивый голос, голос Иисуса, я слушал, задыхаясь от слез, поэтому действительный смысл сказанного моя душа не восприняла.
Иисус рассказывал о том, как он учился, но я старался крепко удержать в душе не столько то, что он говорил, сколько звук его голоса, и в этот момент из уст юноши Ито раздался голос госпожи Родительницы:
— Послушай, Кодзиро, Господь Бог призвал сюда Иисуса, чтобы он очистил твои глаза и сердце от пыли, это тебе понятно? Так что постарайся быть на высоте… Прощай.
На этом миссия Ито закончилась, и он ушел на работу, но я не мог подняться со своего места.
У меня было чувство, что Иисус еще находится здесь, а кроме того, от сильного потрясения я обессилел и не мог встать. Я ждал, что Иисус, может быть, заговорит со мной непосредственно…
Голос Иисуса наполнил все мое существо, но сам Иисус вновь так и не появился.
Взяв пленку, я поднялся в кабинет на второй этаж. Я слышал слова Иисуса отрывочно, поэтому, собравшись с духом, решил прослушать запись.
Но уже через несколько минут, прижавшись лицом к столу, разрыдался.
Спустя неделю, во время следующего визита юноши Ито, явился Шакьямуни и о многом мне говорил, но, будучи невеждой в буддизме, я ничего не понял и был в растерянности.
— Желаю здравствовать… Сегодня Господь Бог пригласил Шакьямуни, чтобы очистить твои глаза от пыли, — сказала Вероучительница, и тотчас голос ее сменился голосом старика лет шестидесяти-семидесяти.
— В юности ты каждый день, обратившись к горе Фудзи, молился, чтобы попасть в столицу и получить возможность учиться. Твое желание, казавшееся невыполнимым, благодаря сострадавшему тебе Богу стало выполнимым. Ты, нищий, не задумываясь о предстоящих трудностях, отправился в столичную обитель знаний. Точно так же радовался я, когда, оставив жену и детей, вышел из дворца, спустился в долину и стал учиться у отшельников.
Начав так, он подробно рассказал, где и чему учился, как совершенствовал свой дух. Окончив свою учебу и возвращаясь во дворец, где ждали его жена и дети, он прилег отдохнуть под деревом бодхи и, обретя удивительный духовный опыт, вновь поднялся в горы и решил продолжать путь аскезы… Так он подробно описал мне всю свою жизнь до конца своих дней.
Но, впервые слыша имена, всплывающие в его рассказе, я не смог их сразу запомнить, кое-что я не расслышал, поэтому и содержание не вполне понял. Только последние фразы отчетливо врезались в мою память:
— Мое учение в моей родной Индии полностью исчезло, поскольку было отвергнуто отшельниками. Оно распространилось в Китае, достигло Японии, и здесь, называя его буддизмом, ему ревностно следуют вот уже две тысячи лет.
Шакьямуни — основатель японского буддизма, поэтому я хотел убедиться, насколько сказанное им соответствует действительности. Я решил дать послушать пленку моему молодому другу, университетскому профессору Е., крупному специалисту по буддизму, позвонил ему, объяснил обстоятельства и изложил свою просьбу.
Он зашел ко мне вечером следующего дня, пораньше уйдя после занятий. Я сразу дал ему послушать пленку.
Когда он подтвердил, что все сказанное на пленке соответствует действительности, я был потрясен.
— И все-таки возможно ли, чтобы этот голос и манера говорить принадлежали самому Шакьямуни? — засомневался Е. — Слушая его, я не мог оторваться, но все же это как-то странно.
— Я не понимал, что Шакьямуни говорит, но красота его голоса и манера изъясняться меня заворожили, — сказал я, взглянув на своего молодого друга.
Бог Великой Природы, сам обратившись ко мне, очистил мое сердце от пыли.
Единый Бог Великой Природы так велик, что люди не способны лицезреть Его, но голос Бога — как у тридцатилетнего человека, ясный, чудесный, высокий, и громкость его ни с чем не сравнима. Слова несколько архаичные, фразы короткие, и каждая запечатлевается всем существом того, кто Ему внемлет…
Я провел несколько месяцев, слушая речи, произнесенные устами юноши Ито, и был заворожен голосами, словами, манерой говорить тех, кто впервые обращался ко мне — Мики Накаяма, Иисуса, Шакьямуни, Бога Природы…
После уже ко мне взывало содержание их речей, заставляло задуматься. Чаще других со мной говорила госпожа Родительница — Мики Накаяма.
Тем не менее к юноше Ито, через которого ко мне обращалась госпожа Родительница, я не испытывал особого интереса. Госпожа Родительница походя нередко упоминала о нем, называя «этот ребенок» или «ясиро», но как только разговор оканчивался, он убегал на работу, что не способствовало пробуждению моего интереса к нему.
Но вот как-то раз он поднялся, поспешая на работу, и вдруг лицо его исказилось, и он схватился обеими руками за правый бок. И тут-то впервые заговорил о себе.
— Случается, что у меня болит то тут, то там, наверно, и сейчас подхватил чью-то болезнь, но во время работы все проходит, — сказал он и, волоча ноги, ушел.
Тогда же я узнал, что он каждый день по утрам занимается физическим трудом, а вечером и до поздней ночи подрабатывает в ресторане в Синдзюку.
Через несколько дней на обратном пути из университета ко мне зашел профессор Кодайра и после короткого вступления начал с волнением рассказывать: ему стало известно, что по тем числам месяца, в которых присутствует восьмерка, юноша Ито вещает слова Бога в городе Кавагути. Он пошел. Верующих набилось в маленький домик немерено, на улице стояла толпа из тех, кто не смог войти.
Дочь,
слышавшая наш разговор, сказала, что хочет отблагодарить юношу Ито за то, что он приходит к нам каждую неделю, и в один из указанных дней, когда у нее не было занятий, с утра пораньше отправилась в его дом в Кавагути. Она вернулась в шестом часу, и ее рассказ меня поразил.
Дочь пришла рано и смогла сесть возле юноши Ито, когда же закончились обращенные к ней слова, она хотела уйти, но из-за столпотворения не имела возможности подняться, и ей пришлось остаться. Вскоре начали раздавать коробки с едой, приготовленные его матерью. Дочь последней взяла коробку, а юноша Ито, отказавшись от обеда, продолжал изрекать слова Родительницы, обращенные к подходившим к нему верующим, и она, сидя прямо перед ним, постеснялась есть. Около трех алое кимоно на нем, казалось, все пропиталось потом, вид у него был довольно жалкий, вскоре он сам сказал, что ему нужно переодеться, и поднялся. Воспользовавшись моментом, дочь тоже смогла встать и уйти.
После этого события мои домашние стали относиться к нему с еще большей любовью, и в конце года, когда я пригласил его на проводы старого года, предупредив, что будет также профессор Кодайра с супругой, он обрадовался, пришел пораньше и помогал на кухне, а затем, переодевшись в алое кимоно, передал всем слова госпожи Родительницы.
После этого мы сели за накрытый стол. Кроме супругов Кодайра, гостями пришли только моя старшая дочь с супругом, трое близких друзей и домашние, поэтому было спокойно, но поскольку это были как-никак проводы старого года, пили саке и по кругу пели песни. Когда подошла очередь Ито, он встал и прекрасным тенором спел арию Фауста «Невинная обитель» из оперы Гуно.
Когда он закончил, все зааплодировали, раздались крики: «Браво, бис!» Он вновь встал и исполнил «Песню цветов» — арию дона Хосе из «Кармен» Бизе, вновь заслужив бурные овации.
Я не знал, что он такой прекрасный певец, и только дивился. И еще сокрушался: имея такой голос и такие вокальные данные, к тому же с такой красивой внешностью, подучись он в Италии, Ито мог бы вполне стать всемирно знаменитым оперным певцом.
Мы сидели рядом, поэтому, улучив момент, я сказал ему об этом. Вообще-то он не употребляет спиртного, но на этот раз немного пригубил, и этим, возможно, объясняется искренность, с которой он мне ответил:
— Когда я заканчивал школу, учителя советовали мне поступить в консерваторию, но у меня не было желания…
— Кем же ты хотел стать?
— Монахом.
— Буддийским монахом? — удивился я.
Впервые он рассказал что-то о себе, но дальше распространяться не стал. Только когда наша вечеринка уже закончилась, я осознал, какое он проявил расположение к моей семье, удостоив нас своим визитом.
Прошло несколько лет.
От Бога Великой Природы я получил повеление стать его опекуном, чтобы наблюдать за его развитием.
За прошедшие годы я много слышал о нем от разных людей. Их рассказы я принимал на веру, но теперь решил пропускать мимо ушей. Решил не верить ничему, кроме того, что знаю сам…
Впрочем, поскольку юноша Ито ничего не говорил о себе, мои сведения о нем были крайне ограниченны, несмотря на то что мы виделись каждые четыре-пять дней. Все, что я узнал за два года, — это то, что он утром выполняет работу, требующую физического труда, а по вечерам работает в ресторане до поздней ночи и делает это, по его словам, и как своего рода упражнение в аскезе.
К счастью, когда он, переодевшись в алое кимоно, передавал слова Родительницы, она часто говорила о нем, называя своим ребенком и ясиро, поэтому кое-что мне стало известно…
Я узнал, кем он был в прошлой жизни и, между прочим, что он был перерождением первого Столпа Истины учения Тэнри. Что Бог-Родитель Великой Природы вновь призвал его к жизни, чтобы он стал достойным Столпом Истины в 1987 году, когда Он сойдет на Землю, чтобы спасать мир. Что его предназначение, воплощая богов Солнца и Луны, дать всему человечеству «жизнь, полную радости». Больше того, мне были поведаны планы Великой Природы относительно него. Это было так грандиозно, что я едва не лишился чувств. Кажется, на второй год я как-то раз спросил его:
— Надев алое кимоно, ты передаешь слова госпожи Родительницы, но сам-то ты понимаешь, что говоришь?
— Когда говорю — нет, а после понимаю.
— Ты помнишь, что говорил?
— Помню.
— Значит, ты должен исполнять все ее указания, тяжело же тебе!
— Госпожа Родительница все время меня ругает. Недавно она сказала, что мне пора прекратить работать по утрам, я обрадовался, а она сказала, что вместо этого я должен искать просветления в общении с людьми, так что я получил еще более трудную задачу…
Вероятно, застыдившись сказанного, он прервал себя на полуслове, заторопился и, сославшись на то, что ему пора на работу, поспешно ушел.
Во время одного из последующих визитов, когда юноша Ито, надев алое кимоно, начал молиться, наш дом наполнился шумом и затрясся. Кто-то из присутствующих сказал: «Землетрясение», и в тот же миг раздался громовый голос Бога Великой Природы:
— Мики Накаяма, Дзэмбэй, вы здесь?
Приготовившись внимать речам госпожи Родительницы, все мы — я, дочь, случайно оказавшиеся гости — невольно пали ниц.
В это время по правую руку юноши Ито ясно показались фигуры простертой на циновках вероучительницы и ее мужа Дзэмбэя. Я был так потрясен этим зрелищем, что едва улавливал торжественные слова Бога-Родителя.
— Я доверил вам воспитание ясиро, но вы его избаловали, он запаздывает в развитии, и есть опасность, что в планах Бога-Родителя возникнет беспорядок. Будучи ответственными за его воспитание, прекратите его баловать, отчитывайте, понуждая к духовному развитию. Это ваш долг…
Кажется, таков был смысл, но громоподобный голос Бога-Родителя Великой Природы заполнял всю комнату, я оставался все время простертым и едва понимал услышанное.
Тут раздался голос госпожи Родительницы:
— Боже, я все поняла! — и наступила полная тишина. Придя в себя, я увидел, что юноша Ито уже снял алое кимоно. Сложив его и завернув в платок, он положил его на подушку и, с побледневшим лицом, сразу ушел.
Встречаясь всего раз в пять дней, невозможно вообразить, как тяжело наделенному плотью юноше существовать в качестве представителя Бога, но не мог же я с утра до ночи ходить за ним по пятам!
Смутно представляя тяготы и духовные испытания юноши Ито, я решил больше не сосредотачиваться на этом и не переживать так сильно за него и наконец успокоился.
Как-то раз ко мне зашла госпожа Ханамура, преподающая в женском университете чайную церемонию, и рассказала нечто неожиданное.
Несколько дней назад она угощала юношу Ито чаем, и он поразил ее своим мастерством — он хоть сейчас мог преподавать чайную церемонию в университете!
Так я узнал, что он знаток чайной церемонии, но ни до, ни после, когда он приходил к нам в дом, он никак не демонстрировал своих навыков.
В начале января этого года дочь, услышав, что на Гиндзе открылась персональная выставка каллиграфии Ито, посетила ее, пришла в восторг, а на следующий день после закрытия выставки он пришел к нам и подарил два выставлявшихся свитка. Я тотчас повесил их на стену. На одном были написаны иероглифы, на другом — знаки хираганы
[42]. Не хватало навыка, но манера письма была восхитительна и радовала глаз.
Поблагодарив, я честно высказал свое мнение. На что юноша Ито сказал:
— Это знаки Бога, хорошо или плохо, сказать не могу. Друзья уговаривали меня также выставить мои картины, но я получил нагоняй от госпожи Родительницы и отказался.
Я понял, что как опекун обязан серьезно с ним поговорить.
— Тебе прекрасно удается все, что ты делаешь. Когда поешь, обнаруживаешь задатки оперного певца. Сложное искусство чайной церемонии выполняешь с таким мастерством, что можешь уже сейчас быть преподавателем. И в каллиграфии невозможно отрицать твоего дарования… Бог перво-наперво всем продемонстрировал, что ты многосторонне одаренный человек, добивающийся успеха во всем, за что берешься. Тем самым Он дает понять, что, раз уж ты отказался от своих дарований ради служения Богу, все должны, отбросив сомнения, поверить тебе и следовать за тобой…
Сам знаешь, госпожа Родительница постоянно тебя поучает, что Бог торопит и необходимо направить все силы на спасение людей. Ты должен покончить с людскими делами и начать работу Бога. Таково Его произволение. Я понимаю, как тяжело, будучи плоть от плоти человеком, выполнять работу Бога, но в этом твое предназначение, твой долг… Возможно, ты считаешь себя слишком молодым, но разве не в твоем возрасте Иисус исполнил такое же предназначение и был распят на кресте? Ты же можешь не бояться смерти. Бог тебя хранит, поэтому, выполняя работу Бога, неся «жизнь, полную радости» роду человеческому, ты будешь почитаться как божество Солнца и Луны. Мужайся!
— Я понимаю.
Больше я ничего не сказал.
После этого было еще немало знаменательных событий. Хотелось бы написать обо всем, но поскольку я должен двигаться дальше, как ни обидно, придется многое опустить. Отмечу лишь, что к марту этого года характер юноши Ито переменился и даже внешне он стал выглядеть более серьезным.
К тому времени дом в Кавагути стал тесен, госпожа Родительница посоветовала переехать в более просторный дом, и юноша Ито стал подыскивать новое жилье.
В связи со своей работой он искал дом близ Центральной железнодорожной линии, чтобы было удобнее добираться до Синдзюку. Находились дома вполне подходящие, но как только он сообщал хозяевам, что трижды в месяц у него собирается больше трехсот человек, ему тотчас отказывали. Он обошел всю эту линию, далеко за Китидзёдзи, но безрезультатно. Я утешал его, убеждая, что госпожа Родительница непременно найдет для него подходящее жилье, но поскольку он должен был съехать из дома в Кавагути уже в конце июня, он был в отчаянии.
И вот в середине мая в моем доме госпожа Родительница его устами вдруг радостно сообщила:
— Новому дому я назначила быть в Югаваре. Впервые попав туда, я была растрогана — так эти места напомнили мне мое родное Ямато. По сути Югавара — это часть Токио и, следовательно, соответствует наказу Бога обосноваться в столице. Оттуда ясиро уже не сможет ездить на работу в Синдзюку и, по Божьему произволению, полностью сосредоточится на работе Бога, так что и я перестану за него тревожиться.
Приблизительно такими были слова, пробудившие меня от заблуждения и наполнившие почтительным страхом.
Дело в том, что я верил: юноша Ито работает в Синдзюку по приказу Бога, ради духовной аскезы. Меня удивило, что, как выяснилось, он поступает вопреки воле Бога, и в то же время, поставив себя на его место, я крепко задумался.
Можно вообразить, как тяжело, как мучительно юноше из плоти и крови жить как Бог. Волей-неволей в течение дня захочется, хотя бы вечером, забыв о Боге, пожить по-человечески. Разумеется, госпожа Родительница, ругая его, в то же время и баловала, как мать, и могла порой на что-то посмотреть сквозь пальцы… Чем больше я думал, тем больше испытывал к нему сочувствия…
Когда стало известно, что Ито для своей «Небесной обители» снял старый дом в Югаваре, многие пришли туда помочь, кто занялся ремонтом, кто — приведением в порядок дома, бывшего многие годы пустовавшей дачей. Я не мог помочь физически, поэтому передал ему пятьдесят тысяч иен, которые он молча принял.
В конце июня состоялся праздник по случаю переезда юноши Ито из Кавагути в Югавару. В это время госпожа Родительница объявила, что Бог забирает юношу Ито к себе в качестве ясиро, на что его родные радостно отреагировали: «Вверяем его Тебе».
В тот же миг Бог дал ему имя Тэруаки Дайтокудзи, в котором Дайтокудзи (буквально — «Храм великой добродетели») вроде бы означает Шакьямуни.
На этой торжественной ноте праздник закончился, приготовленные с вечера вещи погрузили на грузовик и с эскортом из автомобилей повезли в Югавару.
Третьего июля он пришел к нам в дом.
Как обычно, переоделся в алое кимоно и приготовился возвещать слова госпожи Родительницы.
Госпожа Родительница кратко сообщила о празднике тридцатого июня, после чего сказала:
— Бог возрадовался, что отныне это дитя стало работать наравне с Ним. А ты в качестве опекуна продолжай и впредь шлепать его по попе…
Так она говорила, а лицо Ито и в самом деле выражало нечто большее, чем обычную сосредоточенность.
— Я готов жить отныне как Бог, поэтому, сэнсэй, прошу вас как своего опекуна о духовном водительстве, — сказал он и, смиренно сложив ладони, отвесил поклон.
С тех пор он, как и прежде, неизменно приходя каждые пять дней, обвевал меня дыханием
жизни Бога и передавал слова госпожи Родительницы. Наступил август, я, как обычно, переселился на дачу в Каруидзаве, и он трижды посетил меня, останавливаясь на ночь, и каждый раз бросалось в глаза, как он продвинулся в своем духовном подвиге, было видно, как тяжело человеку становиться опорой Бога, втайне я тревожился и сочувствовал ему.
Девятого сентября он, теперь уже ясиро Дайтокудзи, выехал в Рим.
Накануне отъезда он внезапно зашел ко мне. Сказал, что принес показать каллиграфию, которую сделал, чтобы преподнести папе, и повесил огромный свиток на перегородку, разделявшую столовую и «японскую» комнату. Свиток был шириной в полтора метра, длиной во всю перегородку и чудесно оформлен.
Он пояснил, что на свитке изображен иероглиф «Бог», но каллиграфия была исполнена такой толстой кистью, что сразу не поймешь, то ли это иероглиф, то ли символическая картина.
Получив разъяснение, соглашаешься: «Да, это иероглиф „Бог“, но если всмотреться в левый элемент, можно разглядеть облик Девы Марии, спасающей человечество». Но что бы это ни было — необычно исполненный иероглиф или картина, невозможно оторвать взгляда и критические замечания застывают на языке.
— Бог велел мне показать мою работу опекуну, и теперь я могу быть спокоен, — сказал ясиро, снял свиток, аккуратно уложил в длинную коробку из дерева павлонии и, удовлетворенный, ушел.
По рассказу госпожи Родительницы, в Риме он в течение нескольких дней, не торопясь, внимательно осмотрел старый город и решил ехать во Францию, в Лурд.
Лурд — известное во всем мире святое место, где произошло чудо, признанное католической церковью. В это время года туда из всех стран Восточной и Западной Европы съезжаются на поездах группы паломников, сопровождающих больных, днем и ночью происходит множество религиозных церемоний, творятся чудеса.
Госпожа Родительница уже два раза говорила мне, что посылает его в Лурд, чтобы он сотворил чудо, и теперь, когда он и в самом деле поехал в Лурд, я сгорал от любопытства, какое же чудо он там сотворит.
Он собирался, если будет время, из Лурда поехать в Париж и провести там несколько дней, но как все устроится?
Я подумал, что, если у него найдется время на Париж, было бы хорошо, чтобы он заехал в Ньевр и встретился там со святой Бернадеттой…
Она была дочерью бедного мельника в горной французской деревушке на границе с Испанией. Когда девочка закончила младшую школу, ее сочли дурочкой и доверяли лишь нянчить малышей. Однажды перед ней явилась дева Мария и возвестила: «Если ударить по соседней скале, забьет Святая вода, и испивший ее исцелится от любой болезни…»
Бернадетта сразу же сообщила об этом отцу, но отец не поверил дочке-дурочке.
Однако Дева Мария много раз являлась ей и возвещала то же самое. И каждый раз девочка просила отца ударить по скале.
Наконец отец, которому надоели эти приставания, наугад ударил по скале. Неожиданно оттуда забил чистейший источник. Он зачерпнул воды и выпил ее.
Вода оказалась вкусной, но самое удивительное — сразу же как рукой сняло усталость и он почувствовал бодрость во всем теле.
Началась история лурдского источника.
Случилось это почти двести лет назад, когда медицина была еще не развита, слава о Святой воде быстро распространилась по деревням, и множество людей исцелялось ею. Слух дошел до Парижа, и тогдашний император Наполеон III во время тяжелой болезни испил лурдской воды, тайно доставленной ему слугой, и тоже исцелился. Несмотря на это, девочку судили в Марселе, обвинив ее в том, что она — ведьма, но после сложных перипетий оправдали. Святейший престол католической церкви якобы с целью не допустить всевозможных слухов поместил ее в монастырь, чтобы полностью отрезать от общения с внешним миром. Бернадетта, ни с кем не встречаясь, смиренно молилась Богу, прошла через духовные испытания, подобно Иисусу, и вскоре была взята Богом.
В доказательство того, что она не была ведьмой, ее тело не стали захоранивать и прямо в гробу оставили покоиться в ее келье. Перед смертью она вроде бы изрекла: «Уснув на лоне вечного покоя, я смогу видеться с людьми». И сейчас Бернадетта безмятежно спит вечным сном, точно живая.
Тридцать лет назад на обратном пути из Советского Союза я заехал в Париж и проводил летние каникулы с двумя дочерьми, учившимися тогда в Париже, на даче их учительницы по классу рояля. Однажды воскресным днем мы с дочерьми сели на поезд и сошли на второй остановке — в Ньевре. Вмести с нами сошло множество людей, похожих на паломников. Расспросив их, я впервые узнал о спящей святой Бернадетте.
Мы присоединились к ним. Паломники, войдя в покой, где спит святая, еще издалека начали оказывать ей знаки почтения, но я, будучи позитивистом, стал проталкиваться вперед, пока не добрался до самого гроба. Возле него дежурила монахиня, а в гробу горела лампочка и можно было отчетливо разглядеть красивую спящую монахиню лет двадцати. Это и была Бернадетта. У нее было поистине прекрасное, благородное лицо, я не мог оторвать от него глаз.
«Сто сороковой год…» — прошептала монахиня, но я ее не слушал.
Меня сильно занимало, какое впечатление произвела бы на Дайтокудзи встреча с этой святой.
Глава девятая
Это было в конце прошлого года (1989).
Великая Природа, словно бы успокоившись, изрекла:
— Уборка Востока и Запада в основном закончилась. В следующем году надо постараться навести порядок в отношениях Севера и Юга…
И в самом деле, подумал я, за один этот год все страны Востока и Запада стали демократическими, вместе стремятся к миру, полностью избавились от угрозы войны, стали счастливы.
Будь я молод, будь мне тридцать лет, я бы тотчас переселился во Францию и постарался подружиться с людьми из соседних стран — Германии, Швейцарии, Бельгии, чтобы почувствовать, что все люди — братья.
Но я тотчас себя одернул.
Все эти страны стали жить в мире только благодаря деяниям Бога Великой Природы. Почти год Небесный сёгун рассказывал мне в деталях, каких усилий Богу это стоило, и я с благодарностью подумал о любви Великой Природы.
Сколько раз Бог-Родитель Великой Природы облетал землю с Востока на Запад и наставлял людей на путь истинный? И каждый раз живосущая Родительница сопровождала его и помогала, и моя покойная жена была вместе с ними в качестве прислужницы Родительницы и подробно рассказывала мне о том, что происходит в мире.
Когда генсек Горбачев, этот твердолобый коммуняка, стал следовать учению Великой Природы и она удостоила его имени «Красного генерала», в Америке, лидере стран Запада, как раз закончился президентский срок Рейгана и начались выборы нового президента, на которых Великая Природа обеспечила победу Бушу, упрочив тем самым мир между Востоком и Западом, и на том успокоилась.
Это похоже на шутку, но для будущего, может, стоит записать.
Небесный сёгун сказал мне:
— Горбачев, приобщившийся к сердцу Бога, твой младший брат!
— Что за ерунда! — засмеялся я.
Но Небесный сёгун приказал:
— Хочешь не хочешь, сядь перед телевизором и обратись к своему брату!
— Не делай такое суровое лицо! — сказал я, глядя в экран на Горбачева, моего младшего брата, и произнося то, что мне подсказывал Небесный сёгун. — Улыбнись! У всех людей твоей страны постоянно такие скорбные лица. Всех успокоит прежде всего улыбка на твоем лице. С этого надо начинать управление страной. Понимаешь? Улыбнись пошире. Старший брат тебе приказывает!
Горбачев несколько раз, глядя исподлобья, улыбнулся, точно говоря: «Спасибо, браток!», и у меня на глазах лицо его стало моложавее и добрее. Он смотрел прямо на меня.
Я невольно развел руки и обнял его, находящегося в телевизоре.
Тут телевизор погас, а Небесный сёгун мне сказал:
— Вы оба — хорошие братья и всегда можете заключить друг друга в объятья. В Истинном мире вы будете служить Богу как братья, на зависть окружающим. И впредь, приободряй, как старший, своего брата, когда увидишь его по телевизору. Я непременно скажу ему об этом… Даже в этой красной стране зарождается демократическое движение и Горбачев станет президентом. Тогда мир между Востоком и Западом будет вечным. Горбачев нынче вырос в редкостного политика, наделенного божественным сердцем. Политика, не думающего о себе. А причина в том, что вы стали братьями…
Вот уже шесть-семь лет, как Небесный сёгун неотлучно находится при мне, охраняет меня, и я неизменно исполняю все его указания. Если порой я проявляю нерешительность. Небесный сёгун тотчас сам исполняет собственный приказ, так что мне остается только развести руками.
Тут как-то он сказал мне:
— Обратись к Горбачеву в телевизоре и посоветуй надеть галстук поярче!
Когда я сказал это Горбачеву, он рассмеялся, но, к моему удивлению в следующий раз появился на экране с броским галстуком в тонкую красную полоску. Мало того… Точно такой же галстук три дня назад мне подарила, навестив меня, супруга одного японского политика.
Я так пристально глядел на его галстук, что он рассмеялся:
— Сегодня утром жена посоветовала надеть. Парижская вещичка. Мне идет?
— Удивительно, но именно такой галстук я и хотел тебе подарить! — заволновался я.
— В таком случае буду любить его, как если бы получил от тебя! — сказал он с сияющим лицом…
Как предсказывала мне Великая Природа, Горбачев, следуя ее замыслу, искренне принялся возрождать в Советской России сердце Великой Природы, благодаря чему страна стала постепенно демократизироваться, и в результате появилось новое демократическое государство, где его выбрали первым президентом. По этому случаю я убежденно сказал Небесному сёгуну:
— Великая Природа никогда не ошибается в своих повелениях…
Между прочим, Япония до сих пор не восстановила мирных отношений с Советской Россией. В последнее время в прессе широко обсуждался намеченный на апрель будущего года визит Горбачева в Японию, многие японцы связывали с ним большие надежды. Вскоре было принято решение, что тот самый политик, жена которого подарила мне яркий галстук, поедет в Москву и встретится с Горбачевым.
Насколько откровенно сможет этот политик, один из немногих в современной Японии, кому доверяет Великая Природа, побеседовать с моим братом Горбачевым? Я сказал брату, чтобы он на встречу надел тот яркий галстук. Японский политик, заметив, что это вещь, которую он подарил мне, заинтересуется… Но будет ли этого достаточно, чтобы растопить сердца? Меня тревожило, что, по сообщению журналистов, в японскую парламентскую делегацию входят еще семьдесят человек.
Близился конец осени 1990 года.
В начале этого года Великая Природа намеревалась начать приводить в порядок отношения между Севером и Югом.
Я поспешил предположить, что это не потребует много времени. Однако Небесный сёгун тотчас меня отругал. Он подробно разъяснил мне, насколько нелегка эта задача, и рассказал много такого, что привело меня в изумление.
По словам Небесного сёгуна, начиная приводить в порядок отношения между Севером и Югом, Великая Природа уже заранее предвидела трудности с двумя странами — Ираном и Ираком. В Иране, точно в саднящей
ране, народ повернулся спиной к сердцу Великой Природы, но в настоящее время между людьми, восседающими наверху, и простым народом уже нет жестокого противостояния, поэтому Великая Природа временно закрывает на эту страну глаза, чтобы для начала навести порядок в соседнем Ираке.
В этой стране и верхи, и большинство из низов потеряли человеческое сердце, повернулись спиной к Великой Природе: одержимые стремлением к личной выгоде и к власти, они окончательно утратили человеческий облик и превратились в животных. Великая Природа много раз призывала этих людей одуматься, но безрезультатно.
Вдобавок, к несчастью (а может быть, и к счастью) на территории Ирака имеются огромные запасы нефти, благодаря чему правящая верхушка получила в свое распоряжение несметные богатства и удовлетворяет свои личные прихоти, как ей заблагорассудится. Власти в Ираке не прислушиваются ни к чьим увещаниям и посягают на территории соседних стран.
Поэтому Великая Природа, после долгих размышлений, пришла к вынужденному решению: прежде чем приступать к наведению порядка, необходимо произвести в Ираке землетрясение, чтобы предостеречь и верхи и народ. Однако, понимая, что ее возлюбленные чада будут принесены в жертву, Великая Природа некоторое время колебалась и, лишь позаботившись о том, чтобы все погибшие возродились к счастью, произвела в Ираке разрушительное землетрясение…
До сей поры я совершенно ничего не знал ни об иранцах, ни об иракцах. Ничего не знал, несмотря на то что все мы, люди, живущие на одной планете, — братья, имеющие общую судьбу. Причина такого невежества — отсутствие любви. В самом деле, хотя о большом землетрясении в Иране сообщалось в новостях как о событии всемирного масштаба, я даже не могу вспомнить, когда именно оно произошло. Я даже вообразил, что с этим землетрясением наведение порядка в Иране завершилось.
Однако в тот день, когда листья на японском дубе сплошь окрасились в чудесный алый цвет, Небесный сёгун во время какого-то разговора сказал мне:
— Бог полагает, что для наведения порядка в Ираке потребуется весь нынешний год, так что когда у тебя выпадает время, не забывай посматривать по телевизору, что там происходит.
— Неужели уборка Ирака займет столько времени?
— Бог наставляет: не рассматривай это как политическую проблему, взгляни сточки зрения человеческих отношений, тогда и для себя найдешь много интересного и поучительного… Как глупы бывают злодеи… Уборку будут осуществлять цивилизованные страны Запада и Востока, тебе должно быть интересно.
— И это займет целый год! Ну и работенка у Бога!
Так получилось — ежедневно возмущаясь абсурдными действиями Ирака, я не мог оторваться от телевизора. Однако с наступлением сентября, после того как юноша Ито имел аудиенцию у папы римского и отправился в Лурд, все мои думы устремились туда.
Сказать по правде, мне было известно совсем немного о намеченной аудиенции юноши Ито — ясиро — у папы.
Я слышал, что, по велению Бога, он вместе с тремя другими молодыми людьми будет иметь аудиенцию, но даже не знал, кто эти трое. Я лишь предположил, что, выехав девятого, он вернется семнадцатого, чтобы на следующий день, как обычно, принимать верующих.
По словам ясиро, после аудиенции у папы он, посвятив несколько дней Риму, собирался поехать во французский Лурд. Аудиенция у папы не имела отношения к проблемам веры и Бога, ясиро был приглашен в качестве художника (каллиграфа) и должен был преподнести свой свиток. Видимо, кто-то по этому случаю сумел организовать и аудиенцию.
Очевидно, встреча с папой в Ватикане и посещение святой земли Лурда входили в замысел Бога-Родителя Великой Природы, поэтому особых причин для волнения не было. И все же я время от времени задумывался, что делает юноша Ито в данную минуту. Вдобавок я сгорал от любопытства узнать, какие он совершил чудеса, и десять дней пролетели быстро.
Утром семнадцатого, около десяти, ясиро позвонил мне. Из Сянгана.
Он благополучно добрался до Сянгана, около двенадцати должен вылететь и в четыре прилететь в аэропорт Нарита.
Девятнадцатого сентября, когда я кончил обедать, меня посетили госпожа Канаэ Ватанабэ и А. Они вместе с ясиро посетили Ватикан и Лурд, семнадцатого вернулись и вот пришли повидаться.
От них я узнал, что по указанию Бога в поездке ясиро сопровождали трое — А., Б. и Кимико Ватанабэ. Кимико училась в токийском американском университете, но, получив повеление от Бога, приняла участие в поездке, пропустив десять дней занятий. Ее мать, госпожа Канаэ, беспокоясь, десятого сентября, одна, прямым рейсом вылетела в Рим, чтобы помочь молодой компании. По окончании миссии Кимико немедленно вернулась к занятиям в американском университете.
Мне не терпелось выведать у моих гостей, какие чудеса ясиро совершил в Лурде, но я не решился спросить. Казалось, им и сообщить-то особенно нечего. В этот момент внезапно пришел и сам ясиро. Глядя на него, я диву давался, как утомили его десять дней путешествия. Видать тяжелый он проделал путь! Ясиро обещал в течение нескольких дней письменно изложить впечатления от поездки и вручил мне сувениры. К сувенирам я равнодушен, но маленькой бутылочке в виде фигурки Девы Марии, наполненной лурдской водой, я был по-настоящему рад.
Ибо я верил, что если когда-нибудь в минуту усталости я отопью этой воды, она придаст мне жизненных сил…
Ясиро тотчас облачился в алое кимоно и заговорил голосом госпожи Родительницы. Поскольку госпожа Родительница наверняка сопровождала ясиро в его поездке, я надеялся услышать от нее то, чего не мог рассказать сам ясиро. Кроме меня присутствовали всего только четверо — госпожа Ватанабэ, А., моя вторая и третья дочери, поэтому я надеялся, что госпожа Родительница будет откровенна в своем рассказе.
Как обычно, прежде чем заговорить, госпожа Родительница обвеяла всего меня особым дыханием.
Ее слова я привожу дословно.
— Кодзиро! Соблюдая данное мне обещание, ты написал уже много прекрасных книг. И я немало потрудилась над миром, чтобы у тебя не было недостатка в читателях. Именно я проложила путь, приведший в Ватикан. Я начала прокладывать путь, ибо ты твердо держался данного мне обещания и написал много книг, и я хочу, чтобы твоя большая книга разошлась по всему миру.
Отныне со всего мира будут стекаться к тебе люди, прочитавшие твои книги или еще только желающие прочесть. Ты, Кодзиро, потрудился на славу, а потому я и взялась прокладывать широкий путь. Как бы ни было трудно, хочу, чтобы и впредь ты писал для людей книги человечные и правдивые. Это истинный путь, путь истины, путь правды, отныне нет ничего важнее. И ты, Кодзиро, своими книгами, несущими правду, поможешь многим людям. Фумико, подай-ка сюда немного лурдской воды!
Дочь тотчас поставила перед госпожой Родительницей бутылочку в виде Девы Марии.
— Вода, которую ты, Кодзиро, постоянно раздаешь людям, оказывает то же действие, что и лурдская вода, которую сегодня тебе принес этот ребенок. Но и в случае с лурдской водой не в самой воде польза, а в тех несчетных молитвах, которые она приняла. Благодаря молящимся сердцам проляжет прекрасный путь. И ты со всей присущей тебе искренностью служи на благо людей, с помощью праведной молитвы, сердечной молитвы. Наверняка и тебе, раздавая «Божью воду», случалось почувствовать усталость, но теперь, испив воды, привезти которую я побудила этого ребенка, ты вновь обретешь бодрость и пойдешь по благому пути. Я наполнила ее своим дыханием. Я доставила тебе эту воду, так как ты связан с ней судьбой, а потому не ленись ее пить! Держись! Будь здоров…
Затем госпожа Родительница обратилась со словом к каждому из четырех присутствующих.
Я испытывал некоторое разочарование от услышанного, но не позволял себе расслабиться, надеясь уловить в речах, обращенных к другим, какие-то новые намеки. И все же остался неудовлетворенным. Госпожа Родительница, закончив говорить с каждым в отдельности, под конец добавила:
— Многое я вам сказала, но главное, что вы должны понять, — ныне я проложила благой путь, указующий миру направление движения. Бог Луны и Солнца уже ступил на этот путь, и отныне весь мир ждут большие, волнующие перемены. Посмотрите! Во всем мире люди меняются. Появилось множество людей, страстно желающих принять учение Бога-Родителя, учение истины, престола сладостной росы, поэтому Бог начал прокладывать путь. Возможно, в скором будущем произойдут тревожные события, но поскольку начало благому пути уже положено, с уверенностью, все вместе, соединив сердца, продолжайте двигаться в правильном направлении. Не падайте духом! Бог в помощь.
Я подумал, что на этом разговор окончен, как вдруг:
— Хочу еще кое-что сказать тебе, Кодзиро, — сказала она. — Я принесла тебе чудесную воду божьего благословения. Когда я возвращусь во чрево этого ребенка, зачерпни в ладонь воду и окропи его главу.
Следуя повелению, я взял бутылочку, но заколебался, не зная, как ее открыть. Повертел голубую корону Девы Марии поверх горлышка, и корона отделилась. Я вытряхнул на ладони несколько капель и окропил волосы ясиро.
Вдруг госпожа Родительница заговорила вновь:
— Ныне, благодаря этой воде, корона мира увенчала голову этого ребенка. Ныне начинается великий путь. Бог-Родитель очень доволен. Он совершит чудесные деяния. Возвращаясь к главному, без устали ровняйте и утаптывайте, таково мое слово.
Ясиро переоделся в пиджак и с изможденным лицом, наскоро попрощавшись, ушел.
Через несколько дней, едва мы закончили обед, снова пришел ясиро в сопровождении все тех же А. и Б.
Оказалось, они принесли то, что обещали, — записанные ими впечатления от посещения римского папы и Лурда. Юноши, входившие в группу, А. и Б., сочиняли эти записки два вечера подряд до глубокой ночи и ужасно устали.
Ясиро, поздоровавшись, ни слова не говоря, поспешно переоделся в алое кимоно и начал передавать речь госпожи Родительницы.
Госпожа Родительница, как обычно, говорила ласковые слова, но никаких намеков, которых я втайне ждал, так и не последовало. Ясиро переоделся в пиджак и сразу же вместе с двумя приятелями ушел.
Я был в отчаянии, я был совершенно подавлен, и единственной спасительной мыслью было то, что у меня осталась рукопись, озаглавленная «Свет с Востока, или Первое путешествие ради Спасения Мира», которую приятели ясиро, по их уверениям, писали «до глубокой ночи».
Эти записки начинались с восьмого сентября 1990 года и заканчивались семнадцатым сентября, охватывая всего десять дней. А. и Б. прилежно фиксировали все, что им говорил ясиро по пути в Ватикан и Лурд, и в этом отношении были драгоценным свидетельством, которому, я уверен, суждено остаться в веках.
Я начал внимательно читать с первой страницы. А дойдя до того места, где описывалась аудиенция у папы в Ватикане, невольно рассмеялся.
Девятого числа они, проделав долгий путь, добрались до Рима и утром двенадцатого имели аудиенцию у папы во время мессы в церкви при папской канцелярии. Когда ясиро и его спутники прилетели в аэропорт Леонардо да Винчи, их встретили две группы неизвестных им итальянок, которые приняли на себя все заботы об их пребывании в Риме до аудиенции у папы. Стало ясно, что кто-то то ли пожертвовал средства, то ли заранее все организовал, но кто же это мог быть? Юный ясиро получил аудиенцию не в качестве ясиро, а как художник-каллиграф. Он надел «кимоно и хаори с орнаментом из двенадцатилепестковых хризантем», и перед началом мессы патер провел его в церковь. Сопровождавшие его пять человек последовали за ним, и тут стены церкви огласила громкая музыка, «заполнившие церковь верующие, прибывшие из множества стран, с радостными восклицаниями стали бурно рукоплескать». Делегация во главе с ясиро села в первом ряду.
Вскоре в церковь вошел папа и сел на папский трон. Он рассказал о своем путешествии в Африку, из которого вернулся только два дня назад, и о нынешнем состоянии христианства в африканских странах. Говорил он на разных языках. Затем папа благословил по отдельности делегатов из каждой страны. Сказано было, что в Африке построена новая церковь, напоминающая храм в Ватикане. Затем папа обратился к прибывшей из Японии инициативной группе, представлявшей экономическую организацию, и призвал продолжать оказывать экономическую помощь бедным странам. Все это продолжалось меньше часа.
Итак, аудиенция закончилась, и ясиро, переведя дыхание, поделился своими впечатлениями со спутниками. Главное из них — в нем еще больше окрепла уверенность в себе и чувство ответственности за то, что он является ясиро — вместилищем Бога. Этому способствовало и посещение церкви Святого Франциска в Ассизи три дня назад, где он многое узнал от францисканца патера Мацуситы о жизни святого Франциска.
И все же как это характерно для ясиро Дайтокудзи — поверить, что одного только благословения папы в Ватикане достаточно для духовного роста!..
В 1951 году, когда Япония находилась под американской оккупацией, я имел частную аудиенцию у папы Пия XII в его загородной резиденции. Как я уже писал ранее, в то время я возглавлял родительский комитет младшей школы в Сэтагае. Узнав о моей предстоящей поездке в Европу, школьники попросили меня передать папе чуть ли не двадцать писем с благодарностью за продовольственную помощь LARA.
Посоветовавшись в Париже с другом-католиком, я отослал письма в Ватикан, сопроводив их письмом на французском языке. И получил ответе просьбой поставить их в известность, если я окажусь в Риме.
На обратном пути я провел пять дней в Риме. В то время господин О., дипломат и мой старший товарищ по Первому лицею, не имевший возможности из-за войны вернуться на родину, жил со своей семьей под покровительством Святейшего престола, поэтому, увидевшись с ним, я рассказал ему об ответе, полученном мной из Ватикана. О. был, кажется, удивлен и сказал, что вообще-то папа живет на летней вилле, но завтра будет благословлять собравшихся там верующих. На следующий день он отвез меня на своей машине на виллу.
В саду виллы, расположенной на берегу озера, собралось несколько десятков верующих. По указанию О. я внес свою фамилию и пристроился за спинами верующих. Минут через пять появился высокий папа Пий и всех благословил. После этого верующие стали расходиться, а служитель провел меня и О. во внутренние покои. В каждой комнате, выходившей в коридор, можно было видеть группы верующих, ожидающих аудиенции. По словам О., к папе подпускают по несколько человек, поэтому и меня включат в какую-нибудь группу. Однако в комнате, в которую нас привели, никого не было.
— Тебя удостоили личной аудиенции! — поразился О., впрочем, я и сам пришел в замешательство. Мало того, что я не был соответствующе одет, я совершенно не знал, как полагается себя вести в подобной ситуации. Надо ли отвечать на слова его святейшества, спросил я у О. Разумеется, надо, но поскольку папа знает много иностранных языков, лучше это делать на английском или французском, сказал он. Внезапно стена перед нами раздвинулась, вошел величественный папа Пий XII и протянул мне руку.
Я машинально пожал ее. Стоявший рядом О., преклонив колени, поцеловал руку папы. «Надо во всем следовать О.!» — подумал я сконфуженно.
Наконец я кое-как успокоился, мы с О. сели перед креслом, на котором поместился папа, и папа заговорил со мной по-французски.
Он выразил радость, что страдания долгой войны закончились и наступил долгожданный мир, и, подробно остановившись на предстоящих японцам новых испытаниях в условиях иностранной оккупации, сказал несколько слов в утешение. Надо было что-то сказать в ответ по поводу оккупации и страданий японского народа.
— Выезжая из Японии, я получил предупреждение от оккупационной администрации, — сказал я по-французски. — Если за границей я проговорюсь о реальном положении в Японии, мне будет запрещен въезд в страну.
На это папа выразился в том смысле, что здесь хотя и заграница, но — престол Господа, и, вняв его словам, я волей-неволей честно рассказал все как есть.
Во время войны необразованные молодые люди, попав на фронт, поголовно теряли человеческий облик, превращались в зверей, которым ничего не стоило убить человека, да и в тылу, в условиях затянувшейся войны и перебоев с продовольствием, люди, в сущности добрые, голодая, начали превращаться в животных. Не успели мы обрадоваться, что пришел мир, как тотчас оказались под оккупацией, и возродившаяся было человечность вновь подверглась унижению. Так, в общих чертах, я охарактеризовал ситуацию в Японии.
На это папа сказал, что во время Великой войны он проводил все дни в молитвах. Он молился о том, чтобы одержимые властолюбием люди, руководители государств, не важно, враги они или друзья, поскорее потеряли бы свои посты и наступил мир и чтобы в боях не гибли люди… Молился он и о Японии и японцах. Наступивший сейчас мир — это не временное перемирие, для цивилизованных народов настал вечный мир, и все люди стали счастливыми братьями. Поэтому и Япония должна потерпеть — скоро оккупация закончится. И он посмотрел на меня ласковым взором.
Расчувствовавшись, я решил, что на этом аудиенция закончилась, но папа вновь заговорил, сказав, что, кроме «Умереть в Париже», читал еще три моих романа и сборник эссе. Я был потрясен и едва не заплакал от благодарности, а он еще добавил, что, читая, понял, что в моем творчестве меня вдохновляет дух служения Богу, и спросил, насколько верно его впечатление.
Со слезами на глазах я рассказал ему, как во время учебы во Франции в 1927 году я заболел туберкулезом легких и лечился в высокогорной клинике в Отвиле, как подружился с тремя молодыми французскими учеными, вместе с которыми боролся с болезнью, и как все четверо мы одновременно вернулись к нормальной жизни. Они были ревностными католиками, и с их подачи мы называли одну заснеженную возвышенность нашим храмом, всходили на нее каждое воскресенье и молились.
Тогда папа спросил, почему я обратил главного героя своей книги в сторону религии, отдал дочерей в католическую школу, а сам не крещен?
Я смиренно взглянул на папу. Разве эта аудиенция, в слезах думал я, не есть крещение, более того — свидетельство того, что я верующий католик?.. С тоской я вспомнил, какова была обстановка в Японии, когда я вернулся из-за границы, заставлявшая забыть о всякой вере. Но как это объяснить? Мне хотелось простереться на земле, и, задыхаясь, я только сказал: «Потому что на мне нет благодати…» Все мое тело, всю мою душу охватила скорбь, никогда прежде не испытанная.
Папа вручил мне пять
медалей с его изображением, принесенные прислужником, чтобы я передал их моим дочерям и школе, в которой они учатся, и под конец сказал:
— Передайте медали своим дочерям. Никто в этой жизни не застрахован от бед, но если что-либо подобное случится, помолитесь на медаль, и Бог непременно протянет руку помощи…
Наконец папа благословил меня и О., и я, беря пример с О., принял благословение. Папа удалился, стена беззвучно закрылась.
О. сказал, что никогда еще не испытывал такого душевного подъема, и пожалел, что мы не попросили дежурившего на улице фотографа, чтобы он сделал фотографию на память. А я думал, что не надо никакой фотографии на память, все произошедшее и так на веки вечные запечатлелось в моей душе и никогда не забудется…
И вот теперь мне казалось поистине замечательным, что визит в Ватикан и Лурд так сильно воздействовали на ясиро Дайтокудзи, что в его человеческом существе как будто произошла революция: он осознал свое предназначение быть вместилищем Бога и отныне, отбросив все личные помыслы, день за днем будет самоотверженно исполнять свой святой долг. И разве не столь же глубокое впечатление вынесли юноши А. и Б., принимавшие участие в этой знаменательной поездке и оставившие о ней запись?
Они писали эти записки, отказавшись от своего «я», как простые прислужники ясиро, из скромности умолчав о своих собственных впечатлениях. А жаль.
Это путешествие для ясиро было поучительным, и когда эти двое взялись его сопровождать, они наверняка знали о цели путешествия и были к нему готовы. В такого рода путешествии не должно быть главного и подчиненного, все трое на равных, сообща должны поддерживать друг друга, и скорее всего в действительности так оно и было, поэтому в записях им следовало подробно описать не только впечатления ясиро, но и свои собственные.
Искренне поведав о своих чувствах, они бы яснее выразили, какое чудесное, важное значение имело для них всех это путешествие в Ватикан и Лурд.
Впрочем, по этому поводу я испытываю некоторое беспокойство. Ужасно, если ясиро — Тэруаки Дайтокудзи сделают объектом поклонения и будут относиться к нему как к особенному человеку потому, что он выполняет работу Бога. Ибо и А. и Б., так же как и он, выполняют работу Бога. Да и любой человек, даже если не осознает этого, выполняет работу, данную Богом.
Я употребил слово «Бог», но имею в виду Силу Великой Природы — единого Бога-Родителя. Кроме силы Великой Природы в нашей Вселенной не существует другого Бога. Люди молятся, называя Бога различными именами, но этот Бог — субъективное создание этих людей и в действительности его не существует. Пусть это покажется навязчивым, повторюсь — не существует другого Бога, кроме силы Великой Природы — единого Бога-Родителя.
Каждый человек получил от этого Бога-Родителя в дар богоданный дух —
жизнь и, приняв во временное пользование плоть, явился на свет. Более того, каждый живет, получив свое предназначение. Другими словами, доброго или злого, нищего или императора, всех людей Бог-Родитель держит, как Своих чад, на лоне Своей великой любви, холит и лелеет.
В той мере, в какой не помрачился их богоданный дух —
жизнь, люди, естественно, стараются исполнить данное Богом-Родителем предназначение, но печально то, что большинство, погрязнув в обыденном существовании, с помраченной
жизнью, живут бездумно и беспечно. Но если благодаря какому-то чуду мрак рассеивается, они, подобно другим, начинают с радостью выполнять свое предназначение и обретают счастье.
Реальный пример тому — ясиро Дайтокудзи. Благодаря чуду, обретенному во время посещения Ватикана и Лурда, он, точно воскреснув, старается исполнить предназначение и каждый день проводит в радостном благоденствии. Вряд ли мне когда-нибудь приведется еще раз встретиться с его спутниками А. и Б., но, думаю, они тоже, подобно ему, наслаждаются «жизнью, полной радости».
Здесь я должен признаться в том, что внушает мне стыд.
Когда во Франции я заболел туберкулезом легких и лечился в высокогорной клинике, то, следуя совету гения Жака, принял решение силой пера способствовать промыслу Божьему и забросил социальную экономику, которую прежде изучал. Благодаря этому мы оба победили болезнь, считавшуюся в то время неизлечимой, как-то утром на Пасху получили позволение вернуться к нормальной жизни и из заснеженных гор вернулись в Париж. В конце того же года я, перетерпев сорокапятидневное путешествие на корабле, смог возвратиться в Японию.
Бог-Родитель Великой Природы, подготовив меня к новому предназначению, вернул на родину, побудил написать мою первую книгу «Буржуа» и заставил привередливый литературный истеблишмент, какой существует только в Японии, признать меня писателем. С того времени прошло больше полувека, мне приходилось терпеть унижения из-за того, что я стал писателем, как будто я стал якудзой, и презрение со стороны родственников (что совершенно немыслимо во Франции), кроме того, я пережил долгую войну и послевоенные бедствия. Вдобавок ко всему я страдал множеством болезней — астмой, опущением желудка, бессонницей, обращался к врачам, пользовался лекарствами, прижиганиями, иглоукалыванием, но никогда не выпускал из руки пера. Из-за этого под многолетним давлением авторучки даже искривилась фаланга на указательном пальце правой руки.
Словом, я вполне ответственно отнесся к предназначению, данному мне Богом, но в Японии, в отличие от Франции, ничто в окружающей жизни не говорило о Боге, и я забыл Бога, которому молился вместе с Жаком. И вот, покинутый ушедшей раньше меня женой, бывшей мне помощницей, я лежал на смертной одре. Было мне восемьдесят шесть лет.
Бог-Родитель Великой Природы много лет ждал, когда я вернусь к своей изначальной цели, предупреждал меня, насылал болезни, но я не внимал ему. И вот, наконец, явившись мне на ложе болезни. Он провозгласил:
— Если будешь силой своего пера помогать Великой Природе спасать мир, немедленно верну тебе здоровье. Если откажешься, прерву твое дыхание. Выбирай!..
Малодушный позитивист, я не столько принял решение, сколько сделал ставку в игре, ответив, что согласен помогать. На следующее утро вся грязь, бывшая в теле, превратившись в экскременты, изверглась из меня, и за завтраком я уже ел ту же, что и мои домашние, предназначенную для здоровых пищу.
С того времени прошло восемь-девять лет. Избавившись от услуг врачей, я усердно исполняю долг, возложенный на меня Великой Природой, и каждый год выпускаю по большой книге… И при этом не знаю, что такое усталость. Четыре дня назад (12 октября 1990 года) Великая Природа незаслуженно воздала мне благодарность за труд:
— Твоя жизнь — это «жизнь, полная радости», идеал Великой Природы, благодаря чему твои дети и внуки также живут в радости…
Повторюсь — Бог-Родитель Великой Природы приемлет всех без исключения на Своем радушном лоне, холит и лелеет, как Своих чад. И только просит, чтобы берегли
жизнь, полученную при рождении, и выполняли каждый свое предназначение.
Тот, кто, даже не зная о промысле Великой Природы, всю жизнь совершенствуется в избранной им и понимаемой как долг работе, не только добьется успеха в ней, но избежит страданий внутренних (телесных заболеваний) и внешних (трудностей в быту), и вся семья его сможет жить в радости.
Полвека назад, учась за границей, я прожил пять лет во Франции, и все мои тогдашние друзья и знакомые, живя в духе свободы, равенства и братства, наслаждались «жизнью, полной радости». Вспоминая тот опыт, я думаю, что люди, живущие в радости, независимо от национальности, способны любить друг друга, как братья.
Глава десятая
Осенью и в начале зимы в Токио часто случаются дни, когда небо восхитительно прекрасно. Нет ни облачка, ясная, чистая лазурь — кажется, что именно в такой цвет окрашено мироздание.
Так было и в тот день.
После обеда я не стал отдыхать в кабинете и вышел в сад.
Ни ветерка. Температура около двадцати градусов, солнце ласково сияет. Вдруг я обратил внимание на небесную лазурь, мне показалось, что я вижу ее такой впервые. Чудилось, что небесная лазурь вот-вот поглотит меня, я даже испугался…
Раньше в подобных случаях какое-нибудь садовое дерево заговаривало со мной, но вот уже несколько месяцев среди деревьев нашего сада установился мир и по взаимному уговору никто из них не пользовался моим появлением в саду, чтобы обратиться с жалобой. Все пребывали в мире и покое.
Возле одинокой на вид пальмы лежит большой валун. Я поспешно сел на него, обхватив обеими руками, чтобы меня не поглотили небеса.
Все-таки небесная лазурь страшит. А ну как поглотит все мои мысли?.. Странные фразы всплывали одна за другой. «Когда люди собираются вместе, они не способны к работе», «И все это глупцы, которым хоть кол на голове теши», «Встречаются только для того, чтобы убить время», «Набитые дураки — они возомнили, что этим помогают ближнему», «Надо беречь свое время», «Хоть и прожил я девяносто четыре года, жизнь кажется слишком короткой»…
Спокойно наблюдая, как эти и им подобные фразы одна за другой исчезают в небесной лазури, я чувствовал, как с плеч спадает бремя, и услышал тихую прекрасную музыку. Какая-то симфония, но какая именно, не припомню.
И тут я вдруг обратил внимание на странную вещь. Все небесное пространство едва заметно изменило цвет. Удивившись, я вгляделся. Вот всплыла буква и тотчас растаяла. За ней всплыла еще одна буква и тоже растворилась. Еще одна буква появилась и исчезла. Еще, еще…
Раз буквы всплывали одна за другой, в них был какой-то смысл? Так я подумал, но уже не мог вспомнить, что это были за буквы. Ведь я их только что видел! — занервничал я, но вспомнить не мог и махнул рукой.
И в этот миг отчетливо раздался голос:
— Наконец-то ты уничтожил свое «я». Возрадуйся! Теперь ты сможешь завершить свой труд. Мужайся, Кодзиро!
Этот голос, казалось, шел с неба, и тотчас в моей душе взыграла радость, и я приступил к работе…
Нет ничего трудного. В ясной небесной лазури одна за другой проплыли фразы не только из десятой главы «Счастья человека», но из одиннадцатой и двенадцатой, и моя душа отчаянно взывала — хватай быстрее, а то упустишь! Что это было — высшее блаженство или творческий восторг? При всем своем желании я бы не мог ни с кем поделиться тем, что испытывал, и мне оставалось наслаждаться в одиночестве, пребывая в раю…
— Сэнсэй!
Внезапный оклик вернул меня с небес на землю.
Передо мной стоял он самый — Минору.
— Ты откуда явился? — спросил я, вставая с валуна, и рассмеялся. — Я как раз наслаждался в райских кущах.
— Я тоже решил отправиться в рай, поэтому и пришел к вам с радостной вестью.
Может быть, потому, что он был весь облит дивными лучами осеннего солнца, он вдруг переменился и выглядел весьма торжественно. Я не стал легкомысленно спрашивать, о каком рае он говорит, и молча проводил его в гостиную. Мы сели рядом на диван, и моя правая рука невольно коснулась его плеча. Решившиеся спросил:
— И где же твой рай?
— Место, в котором я оживаю…
— Оживаешь?.. Это наверняка не нынешняя Япония. Даже я это сразу понял, едва взглянув на тебя. Если хочешь ожить, лучше поскорее брось Японию. Иначе ты и сам сгниешь здесь заживо.
— И вы это заметили? — Приподнявшись, он напряженно глядел на меня.
— Я так подумал, когда узнал, какой ты замечательный лингвист. И успокоился, решив, что выдающийся ученый всего лишь беззаботно проводит каникулы в своем отечестве. Всякий раз, когда мы непринужденно с тобой общались, от тебя веяло дыханием
жизни… Спасибо. Я хотел как-нибудь поблагодарить тебя…
Он продолжал молча смотреть на меня. Мне стало не по себе, я тихо спросил:
— Каникулы уже подходят к концу?
Продолжая молчать, он встал передо мной на колени и, глядя на меня снизу вверх, сказал:
— Да, для меня отечество — это страна отца, страна, к которой я испытываю только чувство сыновнего долга…
Увидев, что на глазах его заблестели слезы, я быстро встал, приложил ладонь к левому уху, точно оглох, и, смеясь, сказал:
— Ты говоришь, страна, к которой ты испытываешь только чувство сыновнего долга, так признайся же, что ты думаешь об этой стране?
— Что-то вы сегодня слышите хуже обычного. Раньше левым ухом вы слышали нормально.
С этими словами он усадил меня на диван, сам сел по левую руку и сразу начал говорить, и это был совершенно неожиданный, словно только что уплывший в небесную синеву, странный рассказ, и я, затаив дыхание, весь ушел в слух.
— Действительно, Япония была для меня отечеством — страной отца. Страна, в которой нет никого, кроме отца. И этот отец приказывает: «Ты мой наследник. Если будешь выполнять мои приказы, во всем преуспеешь. Это воздаяние за сыновнюю почтительность, поэтому ни о чем не беспокойся. Ибо в этой стране сыновняя почтительность — главная добродетель…» Так он меня наставлял и под конец сказал: «Немедленно поступай на экономический факультет Токийского университета! Вращайся в обществе. Даже когда меня нет рядом, ходи с важным лицом. Смотри на всех свысока, как на своих подчиненных. Только одного не забывай — всегда будь почтительным сыном. Потому что в нашей стране нет ничего важнее этого». Отец мог и не говорить мне таких слов, я бы и так поступал в согласии с ними. Ведь я живу в стране сыновней почтительности, и у меня просто нет иного выхода…
Но однажды я внезапно спросил себя — куда я исчез? Да, я здесь, но куда делся тот «я», которому вовсе не свойственна сыновняя почтительность? Мне же точно известно, что «я», не чтящий своего отца, существует, но куда он девался? Не иначе, как отправился в страну, где сын не обязан почитать отца.
В этот момент я сильно чихнул и рассмеялся.
Ну уж нет, мир не ограничивается страной, где сын обязан почитать отца! До сих пор мой взор застили штампы типа «сыновняя почтительность», и я не мог разобрать букв, словно уплывавших в ясную небесную лазурь.
«Дурак набитый!» — пропел я во весь голос. И — точно пробудился ото сна — «страны сыновней почтительности» как не бывало, я находился в Японии осенью второго года эпохи Хэйсэй.
Чего только не случается на свете! Вроде бы передо мной мой отец — тот самый отец, которого я знал вплоть до вчерашнего дня? Точно, он. Отец, которому я, опустив голову, поддакивал, что бы он ни говорил. Однако, странное дело, это он, но уже и не он. Это не лицо моего отца, бесцеремонно отдающего приказы… Я вижу его другими глазами…
Ах, это вовсе не страна сыновней почтительности! — рассмеялся я. Может быть, отец и возомнил, что это так, но тогда это не моя страна. Даже если она — отечество, страна отца, для меня она чужая. Мне стало ясно: мы с отцом живем в разных странах. Отец — гражданин этой страны, я — гражданин другой страны. Заставить отца осознать это — дело трудное, но тогда не остается другого выхода, как бросить отца. Как только я принял это решение, облик отца изменился. Теперь он уже не услышит моего поддакивания на любое свое слово. Как бы надменно он ни обращался со мной, пусть даже ударит, правда на моей стороне. Ибо я готов жить как человек мира, как новый человек.
Выслушав Минору, я согласно кивнул. Затем, спеша высказать ему свою радость, сказал:
— Молодец, Минору. Значит, ты вновь стал всемирно известным лингвистом, поздравляю!
— Я еще никому, кроме вас, не говорил о своем решении, — ответил он и, точно подхваченный течением, продолжил свой рассказ.
Его благодетель профессор Б. из американского университета К. уходит в отставку и в качестве своего преемника выдвинул его, Минору. В университете без долгих проволочек решили взять его преподавателем лингвистики. Сегодня в полдень он позвонил в университет и сообщил о своем согласии. И пообещал, как только устроит свои дела в Японии, отправиться к месту нового назначения.
— Значит, скоро уедешь? — невольно вырвалось у меня.
— Все уже в общем решено, поэтому чем раньше, тем лучше.
— Согласятся ли родители? Особенно отец…
— Но мой долг не имеет отношения к отцу, — сказал он, глядя мне в глаза.
Я утомился от нервного напряжения и молчал. А когда опомнился, Минору говорил точно сам себе:
— Отец наверняка рассердится. Бедняга, его предал единственный сын! Хотя я уже и не сын. Мужья сестер помогают отцу в его работе, все они его добрые дети, но он этого, кажется, не осознает. Он ими доволен, но думает только об единственном сыне, это своего рода скупость… А я уже не гражданин нынешней Японии. Я — гражданин мира. Хочу поскорее забыть того себя, который приехал в этот неприглядный край.
Осенние дни коротки, в комнате давно уже стало темно. Я поспешно включил электричество и при свете вновь посмотрел на Минору. Я не находил слов, как лучше благословить молодого человека, прекрасно исполняющего предназначение, дарованное ему Великой Природой.
— Минору, уже все сказано. Главное, цени свою
жизнь.
—
Жизнь?
— Ведь
жизнь — это то единственное, с чем ты сам ничего не можешь поделать.
— Эту
жизнь человек получает от Природы, так? Если
жизнь коротка, завершить ничего не успеешь… А чтобы сделать
жизнь долгой, надо отбросить своекорыстие и эгоизм. Этому вы меня научили, так что все будет в порядке.
— Ну, тогда я спокоен. Да, вот еще что. Постарайся теперь сделать так, чтобы отец тебя понял и чтобы во время отъезда тебя провожала вся твоя семья… Не торопись списывать со счетов отца. Будь ты гражданин мира или японец — все люди братья… Пока ты молод, не следует скупиться на такие усилия. Не забывай любить, так-то вот.
— Да, я собираюсь искренне следовать всему, что вы сказали, — улыбнулся он и ушел.
В ту ночь я собирался уже начать делать гимнастику перед сном, значит, было около десяти. Внезапно пришел Минору. Впервые так поздно. Я проводил его в гостиную.
Не успели мы войти туда, как он, ни слова не говоря, обнял меня. Чувствуя удивительный прилив любви, мы прильнули друг к другу.
Дочь, заварив чай, вошла в гостиную и, увидев нас в такой позе, остолбенела, но мы, заметив ее, расцепили объятья и, улыбаясь, встали лицом к лицу. Дочь поставила чашки с чаем и молча вышла. Тогда Минору торжественно сказал:
— В моем возрасте у человека должно быть право самому выбирать себе отца… До сих пор вы были моим духовным отцом, а теперь я прошу вас просто стать мне отцом.
— Я не слишком хороший отец… Но уже давно втайне вижу в тебе сына…
— Вот как? Я рад, спасибо. Теперь, даже если я стану гражданином мира, Токио будет моей родиной, раз здесь живет мой отец…
— А я, раз ты мой сын, я всегда буду ждать тебя здесь. Но что все-таки произошло сегодня вечером?
— Рассказываю… Сегодня вечером у отца, верно, произошло какое-то приятное событие, против обыкновения он пришел домой к ужину и был в приподнятом настроении. Благодаря этому вся семья смогла насладиться веселым ужином, а я решил, что не следует упускать такой случай, и после ужина рассказал ему о приглашении в университет К. Я не столько хотел получить согласие отца, сколько порадовать его.
Однако он меня обругал — мол, это не моя специальность, ведь я только что поступил на экономический факультет. Отец даже не пожелал меня выслушать, но более того, когда я, набравшись терпения, стал почтительно объяснять ему что к чему, он заявил: «Ты мне не сын! Я лишаю тебя наследства. Убирайся сейчас же!» Расшумелся так, что мне не оставалось ничего другого, как уйти из дома… Ведь не был же он настолько пьян…
— И ты пошел сюда?
— Поскольку я уезжаю в Америку, мне захотелось увидеться с моим духовным отцом. Но, к своему великому счастью, я обрел не только духовного, но и настоящего отца. Хорошо, что я к вам зашел.
— Молодец, что сделал это. Спасибо.
— Mon père (т. е. мой отец), береги
жизнь, полученную от Великой Природы, и живи долго. Во время отпуска сын будет приезжать к своему папочке. Это место стало родиной для нас обоих.
— Все будет хорошо. Я еще молод. Поскольку у меня есть работа, порученная мне Великой Природой, я еще больше двадцати лет должен не только беречь
жизнь, но и трудиться. Так что обо мне нечего беспокоиться, живу беззаботно, знай себе пописываю. Это ты береги свою
жизнь!
— Все в порядке, теперь я живу сам по себе, как гражданин мира… Хорошо, что, придя сюда в столь поздний час, я все же смог встретиться со своим папочкой, так что теперь мне не о чем сожалеть. Что ж, отец, обнимемся на прощанье…
Я поднялся, прижал Минору к своей груди, и вскоре он с успокоенным видом ушел.
На следующий день я втайне надеялся, что он придет вновь, но он не появился. В следующие дни я с утра ждал его, но от него не было никаких вестей. Я подумывал ради него посетить его отца, но не знал ни адреса, ни имени. Через четыре дня, вечером, раздался телефонный звонок. Я с удивлением услышал в трубке французский язык:
— Mon père! — по телефону это «père» прозвучало отчетливее, чем в разговоре. — Вы меня слышите?
— Минору? Откуда ты говоришь? — спросил я также по-французски.
— Из университета К. У меня все благополучно, хотел вас успокоить.
— Когда же ты улетел из Токио?
— В ту же ночь, прямо из вашего дома отправился в аэропорт…
— Вообще-то мог бы предупредить… Я ведь готов был все, что угодно, для тебя сделать.
— Удивительное дело, папа. У вас же были проблемы со слухом. А сейчас вы все слышите.
— Мои уши пропускают никчемные шумы, а истинные вещи слышат. Ты мне вот что скажи, когда устроишься, не пришлешь ли свою работу? Мне хочется все знать о своем сыне…
— Хорошо. Пришлю все, что написал. Но главное, я успокоился, услышав ваш голос, и поразился, как молодо он звучит.
— Пока мне вменено в обязанность своим пером помогать Великой Природе спасать мир, у меня нет возраста. И твоя работа вменена тебе в обязанность Великой Природой, поэтому и к тебе годы не прибавляются. Главное — преданно исполняй свой долг. Не будем с тобой падать духом, мой сын!
— Вы меня успокоили. Спасибо, папа.
На этом телефонный разговор окончился. Продолжая сжимать в руке телефонную трубку, я чувствовал себя бодрым, как юноша.
После этого регулярно раз в неделю из Америки приходило письмо. Всякий раз оно было написано на плохом французском. Что за дурак, писал бы уж по-японски, думал я, но, решив, что его цель — не дать мне забыть французский язык, время от времени также отвечал по-французски. Отец и сын — два сапога пара.
Из этой переписки я усвоил две вещи, которые меня успокоили и в то же время убедили, что Минору и впрямь мой сын.
Ибо он принял решение смиренно, с полной отдачей осуществлять исследования в области лингвистики, следуя воле Великой Природы. А еще я понял, что, с любовью преподавая свой предмет студентам, он найдет себе друзей по сердцу и по уму.
Я успокоился и простодушно радовался, что теперь могу уже не тревожиться о его драгоценной жизни.
Минору прислал мне из Америки огромное количество журналов с опубликованными в них статьями и исследованиями. Все они были на английском, который, увы, мне не по зубам. Я пришел в замешательство, но все же старался их просматривать.
Мои усилия неожиданно были вознаграждены.
Во-первых, в журналах часто помещали его фотографии. Я радовался, поскольку у меня не было его фотографии, и внимательно вглядывался в каждую: на всех он выглядел непривычно для меня энергичным человеком. Не оттого ли, подумал я, что, когда совершенствуешься в любимом деле, лицо начинает излучать уверенность? Я успокоился и обрел в этих фотографиях большое утешение.
Во-вторых, я обнаружил имена и адрес его родителей. Тем самым появилась возможность посетить его отца. Я страстно мечтал примирить его с отцом, поэтому решил, не откладывая, осуществить задуманное.
И вот как-то раз в три часа пополудни я посетил его настоящего отца, господина Киёси Айту, в его кабинете главы компании. Я заранее договорился о своем визите по телефону, и он лично встретил меня с большим радушием.
Первое, что меня поразило, — его невероятное сходство с сыном. Благодаря этому я смог с улыбкой, раскованно попросить прощения за непослушание Минору:
— Достижения вашего сына Минору как ученого-лингвиста признаны во всем мире, продолжать эти исследования — его предназначение, дарованное Великой Природой. Минору всегда осознавал важность своего долга и неизменно чувствовал свою ответственность. Нынешнее приглашение в университет К. — наилучший путь для выполнения этого долга, поэтому Минору решился действовать как гражданин мира. Даже если это идет вразрез с вашей волей, я бы хотел, чтобы вы соблаговолили признать его правоту и простить сыновнее непослушание.
Вот все, что я мог сказать.
Неожиданно Айта схватил меня за руку и, поблагодарив, тихо признался: он не только осведомлен, что сын его — всемирно известный лингвист, но и втайне гордится этим. Однако, сознавая, сколько это потребовало от его сына усилий, усердия, труда, он, как отец, постоянно его жалел. И когда сын добился великолепных результатов, он, отец, решив, что сын уже удовлетворен достигнутым, принял серьезное решение и вызвал его в Токио, чтобы избавить от лингвистики. Кроме того, он хотел, чтобы у сына было более широкое поле деятельности, и собирался привлечь его к работе, связанной со своим бизнесом. Сын честно следовал всем его предписаниям, как подобает послушному сыну, поэтому отец был спокоен. Он радовался, что у него вновь появился сын, а не какой-то там лингвист, и был счастлив. И вот однажды, как гром среди ясного неба, сын внезапно заявил, что уезжает в университет К. Это заявление так его ошарашило, что он, к своему стыду, вышел из себя и наговорил много глупостей, недостойных отца. Когда он пришел в себя, сына уже не было в доме.
Выслушав это, я, улыбаясь, сказал:
— Может быть, в таком случае вы освободите его от отцовского проклятья?
— Проклятье — это ерунда. Я ведь им горжусь.
— Вы меня успокоили.
— Между отцом и сыном часто возникают нелепые недоразумения. Я не откладывая пошлю ему письмо, но и вас прошу выступить посредником.
— Охотно. Поистине, отец и сын — это замечательно.
С этими словами я поднялся.
— Нет, отношения отца и сына бывают идиотскими, вот и вам мы причинили столько беспокойства.
Опустив голову, Айта проводил меня.
По дороге домой я несколько раз вспоминал слова отца Минору о том, что отношения отца и сына бывают идиотскими, и громко хохотал.
Мои с Минору отношения, как отца и сына, были куда более идиотскими…
Я хотел сообщить Минору в Америку о встрече с его отцом, но не было времени писать письма, и я со дня на день откладывал это.
Прошло дней десять, как вдруг вечером от Минору раздался телефонный звонок. Он вновь говорил по-французски.
— Mon père, я слышал, вы встречались с батюшкой. Мать мне сообщила, и тотчас пришло письмо от него. Удивительно.
— Извини, что сунулся не в свое дело.
— Да нет же… Только я не знал, что вы такой деятельный. Вот и адрес отца откуда-то узнали.
— Великая Природа меня оповестила, поэтому я с уверенностью отправился на встречу. У меня не было времени тебе сообщить об этом. Прости. У тебя хороший отец, разве нет? Я успокоился.
— Для других он хороший, а для меня — жестокий.
— Но теперь ты, быть может, поймешь, что и для тебя он хороший отец.
— На расстоянии он представляется ласковым, а когда оказываешься рядом, чувствуешь, будто ты — бельмо в его глазу.
— Просто ты не умел приласкаться к отцу. А он этого ждал от тебя… Попробуй быть с ним поласковей! Но по какому, собственно, делу ты сейчас звонишь?
— Хотел услышать голос своего папочки. Подумал, что это позволит мне лучше понять истинный смысл вашего поступка.
— В этом вопросе ты можешь теперь быть спокоен.
— Да. Кроме того, я узнал, что вы бодры и здоровы…
— Я, старик, не унываю, поэтому и ты не падай духом. Мне было радостно услышать твой голос.
На этом наш телефонный разговор закончился. Но весь этот день меня веселило и согревало душу то, что после долгого перерыва я услышал вживе голос сына.
Нет ничего проще, чем выполнять долг, связывающий родителей и детей. Вот только дети этого не понимают.
Время от времени у меня возникало желание увидеться с сыном. Втайне я надеялся, что он приедет на рождественские каникулы.
Но когда Рождество было уже близко, пришло длинное письмо на французском, из которого я понял, что в Японию он на каникулы не приедет.
Минору учтиво одну за другой перечислял причины: и обустройство кафедры еще не окончено, и университетские лекции надо подготовить, — так что я лишь грустно усмехнулся. Хорошо, если ему удастся за время каникул завершить хотя бы одно из перечисленных дел. Конечно, хотелось бы ему помочь, но, находясь по разные стороны океана, можно быть вместе лишь душой…
Против обыкновения, я сразу записал эти свои мысли по-японски и отправил ему письмо. Хоть и ворчал при этом, что занят и нет времени писать письма, а все же написал это никчемное письмецо, — таково уж отцовское сердце. Как все-таки глупы родители!
В то утро, когда, по моим расчетам, мое письмо должно было дойти до Минору, пришло письмо от него. Содержание было весьма неожиданным.
На Рождество в Японию вместо него приедет А., девушка, работающая ассистентом на одной с ним кафедре, в связи с чем у него ко мне просьба.
А. — ассистент на кафедре профессора Б. Поработав с нею, Минору поразился ее усердию и серьезности и предложил ей на рождественские каникулы съездить вместо него в Японию, о чем она давно мечтала, и даже обещал оплатить ее расходы.
А. интересовалась буддийской скульптурой и стремилась посетить не столько Японию, сколько город Нару. Но она обязательно заедет ко мне, чтобы выразить свое почтение. Поэтому Минору просил меня внимательно присмотреться к А.
По-правде говоря, писал он, ему уже пора остепениться, и эта девушка — первая кандидатка в спутницы его жизни. Вот он и просит, чтобы я на правах отца оценил ее.
Это письмо меня успокоило. Мне, конечно, было любопытно, что за девушку он выбрал, будучи гражданином мира, но глупо с моей стороны выставлять оценки, я заранее был готов поставить ей высший балл.
Из-за своей вечной занятости я не мог написать ответ, и вечером двадцатого декабря Минору сам позвонил мне. Говорил по-французски. Он долго расшаркивался, поэтому я, рассмеявшись, оборвал его, спросив, по каком делу он звонит.
— Просто хотел услышать ваш голос, узнать, все ли в порядке.
— Я совершенно здоров и весь ушел в работу. Никогда в своей жизни я не чувствовал себя так хорошо… Кстати, по поводу А. Я и не встречаясь, выставил ей высший балл. Но хочу, чтобы ее обязательно оценил твой отец. Когда она вылетает в Японию?..
— Завтра вечером. Но о ее встрече с отцом надо еще подумать.
— Что такое? Хочешь, чтоб я оценивал, а для отца это останется тайной?
— Как вы не можете понять! Вам, своему папе, я хочу угодить, а с отцом быть угодливым не могу.
— Стал гражданином мира, а говоришь такие вещи? Кстати, как долго она пробудет в Японии?
— Здесь зимние каникулы короткие, четвертого января ей надо выйти на работу… Папа, вы бодры, как юноша, я успокоился.
— Твой голос вдохнул в меня свежее дыхание. Спасибо.
Странно, но этому бессмысленному телефонному разговору я радовался, как самому дорогому в этом году рождественскому подарку.
Начиная с двадцать третьего декабря я каждый день с замиранием сердца ждал, что девушка по пути в Нару заедет ко мне, но она не появилась до самого вечера Нового года. С первого января я ждал, надеясь, что она непременно заедет на обратном пути из Нары, но за три дня она так и не появилась.
Что же это такое? Я терялся в догадках.
Вечером четвертого января позвонил Минору.
Я взял трубку с таким чувством, будто мы давно не говорили, а мой собеседник явно нервничал. Поэтому я по-французски спросил его:
— Что случилось?
— Mon père, прежде всего прошу прощения. Я подробно пишу в письме о том, почему А. вас подвела, но если коротко, в Наре, в семье, в которой она гостила, была девица, год проучившаяся в Америке… Так вот, эта юная японка предостерегла А., что если она посетит моего отца, это, по японским представлениям, будет означать, что она собралась выйти за меня замуж. Короче, как у вас говорят, я был ею
отвергнут. Смеясь, она сказала, что с радостью будет помогать мне в работе и исследованиях, но о замужестве пока что не думает.
— Значит, неразделенная любовь?
— Может, и так, но мне самому смешно. Поэтому не волнуйтесь. А. посоветовала мне, если я собрался жениться, непременно взять в жены японку, что ж, может, и впрямь надо последовать ее совету.
— Попроси родителей, чтоб нашли подходящую невесту, хочешь — я их попрошу.
— Папа, пожалуйста, не торопитесь.
— Нет, я всего лишь витаю в облаках. Если б мой нью-йоркский сынок остепенился, я, при моем нынешнем здоровье, глядишь, на месяцок слетал бы к нему. Вот о чем я размечтался.
— Правда? Папа, как вы меня обрадовали! Вы настолько здоровы?
— Здоров, как когда был студентом университета. Живи мы вместе, думаю, я б еще дал тебе фору. Сам не перестаю удивляться. И все благодаря
жизни, дарованной Великой Природой.
— Как я рад! Постараюсь осуществить вашу мечту. Хотя бы для того, чтобы отплатить Великой Природе за ее любовь…
— Ты лучше береги свою
жизнь. И с чистым сердцем посмейся над моей назойливостью.
— Как же я рад, что вы в бодром здравии…
На этом наш разговор прекратился.
На следующий день, около полудня, я позвонил отцу Минору и попросил найти время для короткой встречи, чтобы поговорить о его сыне. Тот ответил, что во второй половине дня будет у себя в офисе и готов встретиться, когда мне угодно. Пообедав, я отправился к нему.
К моему удивлению, только я достал свою визитку в приемной, как девушка повела меня наверх, к директору компании. Стоявшая у дверей секретарша сразу же провела меня к нему в кабинет и предложила сесть, сказав, что директор скоро придет.
Тотчас появился директор. Я с первого взгляда понял, что он очень занят, и без околичностей перешел к сути дела:
— Я пришел передать вам просьбу вашего сына… Он хотел бы остепениться и утешить родителей, поэтому просит вас выбрать ему невесту.
— Наш сын обратился к вам с такой просьбой? Я должен перед вами извиниться.
— Наверное, он хотел, чтоб я выступил гарантом того, что это серьезная просьба. Пожалуйста, не отказывайте ему. Он ведь действительно с почтением относится к своим родителям.
— Но какие женщины нравятся… этому парню?
— Он сказал, что полюбит ту, которую выберут родители, — сказал я, вставая.
— Большое вам спасибо! — сказал директор. — Сегодня же вечером позвоню ему и порадую.
Схватил обеими руками мою руку и, продолжая благодарить, проводил.
Выйдя на улицу из огромного здания и ожидая машину, я глубоко вздохнул и посмотрел вверх, но между столпившимися в центре города небоскребами виднелся лишь крохотный клочок голубого зимнего неба.
Глава одиннадцатая
Сейчас мне девяносто четыре года и шесть месяцев.
Как и все люди, я состою из жизни и плоти. Девяносто четыре — это моя плоть, а моя жизнь как будто не имеет возраста, несмотря на прожитые годы, всегда молода и с течением лет почти не меняется.
Что касается плоти, то она с годами претерпевает изменения, но и в девяносто я чувствую себя в безопасности, и это удивительно — все мои друзья и знакомые одногодки уже скончались.
В обыденной жизни я стараюсь жить свободно, как того хочет жизнь, но обветшавшая плоть двигается с трудом, то и дело возникают препятствия, ставящие меня в тупик.
Несмотря на это, в последние год-два меня посещает слишком много людей, они заводят нудные разговоры, и это меня угнетает. Но Великая Природа велит мне встречаться с ними и выслушивать их, поскольку все это весьма поучительно.
Я стал назначать визиты после половины третьего. Среди визитеров всегда много женщин, в день больше десятка, поэтому в последнее время я заранее уславливаюсь о времени по телефону… Все это очень докучливо. Хуже того, женщины, все как одна, приходят с жалобами на то, что они несчастливы, и бесстыдно разглагольствуют о своей личной жизни. За этот год из посетивших меня женщин только трое радостно объявили, что они счастливы. И эти трое показались мне чуть ли не святыми! Ну разве не печально, что это такая редкость?
Рассказы женщин, жалующихся на свою несчастную судьбу, точно написаны под копирку. Чаще всего они считают своим горем вполне тривиальные, заурядные обстоятельства.
Все они домохозяйки, и я каждый раз с недоумением вглядываюсь в их лица — неужто они не осознают, что значит быть настоящей домохозяйкой?
Домохозяйка по своей сути — это солнце семьи, она должна всегда светить, наполняя дом сиянием, а у этих женщин в доме весь день облачно и моросит дождь, и можно только посочувствовать их супругам, детям, всей семье — какая у них тоскливая жизнь!
Беспрестанно жалуясь мне на свою несчастливую жизнь, женщины просят, чтобы Бог им каким-то образом помог, но я в замешательстве — такого Бога не существует.
Задумывались ли эти женщины хоть раз о Великой Природе. О благе родиться человеком. Наконец, о необходимости быть благодарным Великой Природе.
Если б хоть раз задумались, они бы выбросили из себя всю эту дурь.
Исторически эти женщины принадлежат поколению, которое, преодолев долгие годы военных бедствий и послевоенной смуты, создали сегодняшнюю процветающую Японию. Их мужья, да и вообще мужчины их возраста, за редкими исключениями, как на подбор энергичные, достойные люди.
Встречаясь с подобными глупыми женщинами, я всячески стараюсь убедить их прежде всего обратить внимание на милосердие и любовь Великой Природы.
Стоит мне начать говорить на эту тему, как большинство женщин торопятся, глотая слезы, уйти, и лишь немногие потом присылают благодарственные письма, в которых сообщают о результатах нашей беседы, но случается, примерно через месяц, приходит письмо, а в нем рассказ о том, что дом наполнился светом и счастьем.
В хорошую погоду даже деревья и кустарники в саду чувствуют себя веселее, поэтому, когда в доме постоянно сияет солнце и безоблачно, дом наполнен светом и все домочадцы счастливы. В этом нет никакого чуда, это вполне естественно.
В последнее время помимо этих жалобщиц во множестве приходят незнакомые женщины с емкостями для воды. Они стекаются со всех уголков страны, приезжают на поездах, прилетают на самолетах.
В предыдущей книге я неосторожно упомянул о «Божьей воде», они прочитали и теперь едут за ней.
Когда я впервые увидел этих женщин, то пришел в замешательство. Незнакомая женщина достает несколько стеклянных бутылей и просто говорит:
— Ну-ка, дедок, плесни мне «Божьей водички!»
И еще добавляет, точно речь идет о чудодейственном зелье:
— Если вдруг кто заболеет и врач не поможет или сама ослабну, одна надежда — на «Божью воду»!
Я всегда теряюсь и не нахожу слов.
Каждый день приходит несколько таких женщин. Однако «Божья вода» — не панацея. И не святая вода, имеющая какие-то особые целебные свойства. Это обычная водопроводная вода, в которую Великая Природа вдохнула свою любовь, вода, настоянная на молитвах.
Выпивающий эту воду вкушает полноту любви Великой Природы и преисполняется к ней благодарности. Тем самым смывается пыль с сердца, происходит очищение, жизнь перестает лениться и побеждает все болезни…
Но не так просто объяснить, внушить это женщинам, приходящим за водой. Кажется, большинство из них полагает, что можно обойтись без лишних разговоров, была бы вода.
И все же, давая воду, я считаю необходимым объяснить хотя бы в общих чертах, что такое любовь Великой Природы, поэтому, не боясь показаться назойливым, я каждый раз делаю это. Кроме того, приготовить воду — не так-то просто. Посетители приносят множество бутылок, надо все их чисто вымыть, налить из крана воду и, обратившись к Великой Природе, принять в каждую ее дыхание.
В дни, когда меня и без того валит с ног усталость, это довольно-таки изнурительная процедура, но Природа ругает меня, постоянно напоминая, что готовить «Божью воду» необходимо в радостном состоянии духа.
Нередко приходят семейные пары. Жалуются на то, что дети отказываются ходить в школу или что все дети в семье болеют одной болезнью, вываливают передо мной — будто это моя вина — все свои проблемы, и мне остается только молча их выслушивать.
Чаще всего разглагольствует жена, — со стороны это выглядит неприкрытым эгоизмом, если же ты обращаешься с каким-то вопросом к мужу, жена не дает ему и слова сказать, обрушивая на тебя потоки объяснений, а если муж все же пытается встрять, она набрасывается на него, доходит чуть ли не до семейных свар (увы, не однажды супруги устраивали прямо при мне шумную склоку).
В таких случаях очень хочется попросить их немедленно уйти, но при мысли, что Великая Природа любит всех своих чад и в том числе этих несчастных людей, я себя сдерживаю, даю им выговориться и молча слушаю.
И все же даже такие жены являются солнцем в своей семье, только в их доме все дни с утра до вечера стоит ненастье, дождь льет как из ведра, так что не стоит удивляться, если муж попадает в автомобильную аварию или заболевает…
Мой долг — рассказывать этим глупым, вернее, недужным женам о любви Великой Природы, внушать им мысль о благодарности к ней, — задача не из легких, поскольку это можно сделать только на словах, Хорошо еще, что подобные разговоры с супружескими парами занимают не больше часа…
Они уходят, нагруженные бутылями с «Божьей водой». Лично я хотел бы давать воду лишь тем из них, кто преобразил свое сердце, но, помня о безмерной любви Великой Природы, все же даю ее всем.
Приготовить эту воду ужасно трудно. Необходимо очистить свое сердце, но когда готовишь воду в ненастные дни, не знаю почему, сделать это нелегко. Следовало бы попросить подождать до погожего дня, но боюсь нарваться на возмущение.
С начала до конца мне приходится все делать самому, без посторонней помощи, но моему телу девяносто четыре года, и как бы ни спешила душа, оно быстро устает…
В детстве мне казалась странной поговорка, которую часто повторяла бабушка: «В работе убудет, в усталости прибудет», но ныне, когда меня преследует хроническая усталость, каждый мой день проходит по этой
поговорке.
Мне некому жаловаться, некому изливать свою душу, поэтому мне нет утешения, и остается только, набравшись терпения, тянуть свою лямку. Однако порой и на мою долю неожиданно выпадают радостные события, как сияние утреннего солнца.
Прошло восемь лет, как ясиро Юкинага Ито начал передавать волю Бога-Родителя Великой Природы и слова госпожи Родительницы — живосущей вероучительницы учения Тэнри, и за это время он, как хотел того Бог-Родитель, возмужал и, ныне уже в лиловом наряде, способен полноценно исполнять свое предназначение.
В день, когда ему впервые предстояло надеть лиловый наряд, 23 ноября 1990 года, было решено устроить праздник.
Этот лиловый наряд за несколько лет до этого пошила госпожа Симидзу, искусная в традиционном японском шитье, и по повелению Бога-Родителя я принял его на хранение и берег как зеницу ока.
Празднование 23 ноября проходило в «Небесной хижине» ясиро в городе Югаваре. В кульминационный момент, в час дня, мы вместе с Симидзу должны были доставить лиловое одеяние и преподнести его ясиро.
Я вообще не люблю все шумное и яркое и всегда избегал пышных мероприятий, даже когда чувствовал себя обязанным присутствовать.
Кроме того, ныне мое старческое тело передвигается с превеликим трудом, хуже того, любое дело становится тяжким бременем и только утомляет, поэтому мне была невыносима мысль о том, что придется ехать на машине до Югавары.
У моей дочери есть маленький автомобиль, и она обещала в назначенный день отвезти меня и лиловый наряд до «Небесной хижины». За несколько дней до этого она сделала пробную ездку, чтобы познакомиться с дорогой и рассчитать время, и сказала, что в выходной день будет много машин, поэтому надо выехать в восемь.
Домашние советовали мне надеть японскую одежду — хаори и хакама, но Великая Природа приказала одеться в красное, поскольку красная одежда символизирует солнце.
К счастью, я вспомнил об алом кимоно, которое на мое семидесятисемилетие мне подарил мой юный друг и благодетель Киитиро Окано. Я отыскал его, примерил — оно оказалось теплым и хорошо на мне сидело.
В назначенный день к восьми часам пришла госпожа Симидзу. Старшая дочь сказала, что волнуется и поедет с нами. Когда, прихватив ларец с лиловым нарядом, мы вчетвером втиснулись в маленькую машину, я не мог прилечь на сиденье и оказался прижат к окну, и на протяжении почти пяти часов, пока мы пробивались по забитым автомобилями дорогам, я был ни жив ни мертв. В «Небесную хижину» прибыли во втором часу, и, когда вышли из машины, я едва соображал. Нас встретило множество людей; ясиро Ито, одетый в белое кимоно и хаори с черным орнаментом, взяв меня за руку, повел через толпу, и только тогда я почувствовал, что еще жив…
Я уже писал, что несколько лет назад, поздней осенью, мой юный друг, специалист по сравнительному религиоведению профессор Кодайра познакомил меня с юношей Ито, которому тогда только что исполнилось двадцать. Я не испытывал к юноше ни любопытства, ни интереса, но он сказал, что основательница учения Тэнри хочет непременно со мной встретиться, и я волей-неволей, чтобы не обижать Кодайру, согласился.
Все дело в том, что на следующий год после окончания войны я печатал в еженедельном журнале «Вестник Тэнри» биографию основательницы учения. Влиятельные люди из Тэнри много раз приходили ко мне с настоятельными просьбами, и в конце концов, несмотря на занятость, я уступил. И уже собрался начать писать, когда издательская компания Тэнри и влиятельные люди из центра заявили, что у них нет никаких материалов о жизни вероучительницы. Они сказали, что все архивы хранятся у Столпа Истины Масаёси Накаямы, но ни издательство, ни кто-либо еще не потрудился представить меня ему. Мне стоило больших трудов добиться личной встречи со Столпом Истины, когда же я все-таки встретился с ним и попросил помочь, тот наотрез отказался.
Получилось, что эти люди во всеуслышанье упрашивали меня написать биографию Мики Накаяма, а как дошло до дела, были как будто недовольны тем, что я согласился! Я рассердился, восприняв это как издевательство, решил: «Раз так, напишу вам всем назло!» — и, начав публиковать биографию в «Вестнике Тэнри», пожаловался читателям, что мне недоступны архивные материалы.
Верхи прогнили, но низы, читатели (верующие), были здоровы и засыпали меня всевозможными документальными свидетельствами.
Это придало мне мужества, я налегке отправился на поиски Мики Накаяма, и за одиннадцать лет написал-таки «Вероучительницу».
Когда писатель на протяжении одиннадцати лет общается за письменным столом со своим героем, тот становится для него живым существом. То же испытал и я в случае с Мики Накаяма, как позже с Дзиро Мори в «Человеческой судьбе».
Поэтому в то время, когда профессор Кодайра сказал, что вероучительница хочет со мной встретиться, и привел юношу, она уже жила в моей душе.
Юноша, усевшись в маленькой комнатке передо мной и профессором, заговорил словами вероучительницы, и я, к моему удивлению, услышал речь той, что жила в моем сердце.
Этот юноша — Юкинага Ито (Дайтокудзи Тэруаки), ныне он возмужал и стал прекрасным ясиро.
Хочу добавить, что во время печатания «Вероучительницы» тогдашний Столп Истины учения Тэнри Масаёси Накаяма проявил ко мне дружеские чувства и до самой его кончины мы оставались в хороших отношениях. Он был убежден, что вероучительница от рождения была Бог, а не человек, ставший Богом, как утверждал я в своей книге. Когда Столп Истины бывал в Токио, мы часто встречались и беседовали на эту тему, а вскоре до меня дошло: он убежден, что и сам от рождения является Богом. Мне казалось это смешным, я жалел его и прилагал усилия к тому, чтобы Масаёси Накаяма освободился от этого заблуждения и понял, что он — простой человек. Кажется, этот факт оказался для него неожиданным, и позднее он приходил ко мне жаловаться на осаждавшие его невзгоды.
Но возвращаюсь к ясиро Ито.
Когда я впервые с ним познакомился, он жил в городе Кавагути в префектуре Сайтама, в тесном многоквартирном доме вместе с матерью и младшим братом и трижды в месяц вещал речи Родительницы. В эти дни у него собирались сотни людей, доставляя немалые неудобства соседям.
Профессор Кодайра, побывавший несколько раз на этих собраниях, рассказал мне о том, что там происходит. Я и сам был не прочь туда сходить, но все как-то не получалось.
Ничего о юноше не зная, я был ужасно непочтителен с ним, поначалу представляя его чуть ли не босяком. Утром он подрабатывал физическим трудом, по вечерам работал в ресторане в Синдзюку, но я не догадывался, что и это он делает ради духовного самосовершенствования.
Он приходил всегда перед вечерней работой около пяти. Я пытался за чашкой чая побеседовать с ним до или после того, как он, переодевшись в алое кимоно, вещал слова госпожи Родительницы, но он был молчалив и неразговорчив.
Получив от Бога приказ быть его опекуном, я прежде всего задумался, что посоветовать ему почитать для его развития, однако он был совершенно равнодушен к книгам. Впрочем, ведь его постоянно, как мать, сопровождала госпожа Родительница, и Великая Природа его поучала, так что, вероятно, чтение ему было излишне.
Кроме того, хоть он и не говорил об этом, посещая мой дом, он принимал на себя чужие болезни и наверняка испытывал сильные страдания, поэтому я не решался вести с ним воспитательные беседы и только как мог с любовью заботился о нем.
Когда он пришел в начале июля этого года, я, едва увидев его, был потрясен до глубины души, насколько возмужал его характер. Уже недалек тот день, подумал я, когда я передам ему вверенное мне Великой Природой лиловое одеяние и он, облачившись, станет служить Богу как божество Луны и Солнца. Облачиться в лиловое одеяние будет значить для него то же, что в свое время для госпожи Родительницы было впервые надеть алое кимоно…
Между тем ясиро переехал из тесной квартирки в Кавагути в отдельный дом в Югаваре, идеально подходящий для его целей. Удобно, что там был горячий источник, люди, собравшиеся на трудовое служение, пристроили к дому несколько дополнительных помещений, и госпожа Родительница радовалась, что теперь, если ее чада устанут, им будет где найти отдохновение.
Прошло всего сто дней, и Великая Природа велела ясиро (Ито) надеть лиловое одеяние и начать Спасение Мира.
Ясиро, следуя указанию Великой Природы, устроил 23 ноября в «Небесной хижине» церемонию принятия лилового одеяния. По прогнозу погоды обещали облачность и моросящий дождь, но было ясно. С утра в «Небесной хижине» стали собираться сотни людей в ожидании церемонии, которая должна была начаться в час дня. Таким образом, и наша машина, везущая лиловое одеяние, должна была прибыть к часу.
Однако мы приехали с запозданием на пятнадцать минут. Я из-за усталости был в полубессознательном состоянии, поэтому не понимал, что вокруг происходит. И ничего не помню.
Когда я пришел в себя, я сидел один на самом верхнем месте, на ступень ниже сидел ясиро, облаченный в лиловый наряд, и, почтительно сложив руки, говорил, обращаясь ко мне. Слезы текли по его щекам. За спиной ясиро теснилось множество людей, также сложивших руки.
Чудесным образом слезы, проливаемые ясиро, капля за каплей падали прямо мне в душу, становились силой моей жизни и точно пробуждали меня. Я взбодрился и без труда разобрал слова ясиро.
Говорил он примерно так:
— Пока не пресеклась душа, пусть даже погибнет плоть, вместе с госпожой Родительницей продолжу ее духовный труд, ее живосущее служение, душу свою положу на Спасение Мира. Даже если погибнет плоть, задержусь в этом мире и буду трудиться ради всеобщего блага вместе с госпожой Родительницей.
Бог-Родитель Великой Природы был чрезвычайно доволен этой окропленной слезами клятвой и моими устами сказал:
— Да возрадуемся таковой решимости!
— Не буду стяжать успеха на обыкновенном людском поприще. Но да преуспею в делах Бога-Родителя. Бог-Родитель проложил путь, да преуспею как совершенный человек в несравненных, истинных делах Бога-Родителя!
Услышав его слова, я от всей души захлопал в ладоши.
Видимо, на этом церемония завершилась. Ясиро поднял голову, то же сделали сидящие за ним, и я заметил среди них много знакомых мне лиц.
Затем ясиро поднялся ко мне и проводил в соседнюю комнату. Там ждали мои дочери и три женщины.
Ясиро повел меня, моих дочерей и трех женщин по «Небесной хижине», показывая все комнаты вплоть до кухни. Повсюду толпились люди.
Наконец, когда я уже начал подумывать, как бы немного отдохнуть, меня повели к оставленной за оградой машине.
Вокруг толпились люди, видимо вышедшие нас проводить.
Мне казалось, что мы только что приехали, и тут только до меня дошло, как же долго я пребывал в бессознательном состоянии. Ужаснувшись, я хотел извиниться перед ясиро и собравшимися людьми, но машина уже отъехала.
Пейзаж за окном машины, мчащейся вдоль моря, был поистине прекрасен. Прекраснее французского Лазурного берега, и я невольно шепнул дочери:
— Какой чудесный вид!
— Когда мы ехали утром, — сказала она, — холмы озаряло солнце и было еще красивее… Ты, папа, был как мертвый, мы за тебя тревожились, а сейчас, на обратном пути, ты вдруг стал бодрее, чем обычно… Что же произошло?
Я хотел ответить, что сам не знаю, но внезапно Жак, тот самый гений Жак явился предо мною, коснулся рукой моих губ.
И тихо заговорил:
— Поздравляю с благополучным завершением празднования по случаю облачения в лиловый наряд. Этого дня, 23 ноября, Бог-Родитель Великой Природы и госпожа Родительница Мики Накаяма ждали как открытия небесных врат и потому так возрадовались… В Истинном мире сегодня полдня был выходной, и там все праздновали этот торжественный день, происходивший в Мире явлений. Такое редко случается.
Жак умолк, и когда я спросил себя, не сплю ли я вновь как мертвый, он вновь заговорил:
— Все твои знакомые в Истинном мире передают тебе поздравления. Что ж, все подходит к концу. Вот и праздник закончился.
Кодзиро! Борясь с болезнью в заснеженном Отвиле, мы каждый день вчетвером приходили, шагая по снегу, на возвышенность, ставшую нашим храмом, пели священные гимны, молились Великой Природе. Помнишь ли ты, что я тебе посоветовал как-то раз после молитвы? Я призвал тебя осуществить то, к чему мы, французы, трое друзей, были уже готовы. Ибо другого способа исцелиться от смертельной болезни — туберкулеза — не было…
Мы решили, что каждый, отбросив свои желания и помыслы, изберет своей профессией то, чего требует от него Великая Природа. Ты решил бросить занятия экономикой, на изучение которой потратил многие годы, и стать работником пера, облекая в слова волю безмолвного Бога. И в тот же год к Пасхе мы все четверо поправились настолько, что нам позволили вернуться к нормальной жизни, отпустив из заснеженного высокогорья. С того времени прошло шестьдесят четыре года…
В то время ты не верил в Бога-Родителя Великой Природы. Когда я сказал тебе: «Теперь ты писатель, так уверуй же в сердечной простоте!», ты ответил, что был бы рад уверовать, коль скоро такой, как я, гениальный естествоиспытатель верит. И вот теперь ты с Богом-Родителем Великой Природы живешь как сын с отцом… Чего только не бывает в жизни!
Эти шестьдесят с лишком лет ты, сидя за столом, как батрак, без устали возделывал рукописи. Из-за этого твоя спина согнулась, указательный палец на правой руке под давлением пера искривился, так что теперь ты пишешь карандашом. Ты проделал большой труд.
Радуясь, Великая Природа отстранила от тебя помогавшего тебе Небесного сёгуна и все прочие Силы и даровала способность говорить с ней непосредственно. Я пришел объявить тебе об этом, и знай, такое происходит впервые в Мире явлений. Это чудесное, благое событие.
— Но как же я смогу говорить с Великой Природой, она так необъятна!..
— Просто говори как обычно. Не беспокойся… Ибо с сегодняшнего дня в Японии настает «жизнь, полная радости», идеал Великой Природы. Но сколь же прекрасна и драгоценна возможность говорить с Великой Природой! Все твои друзья, пребывающие в Истинном мире, радуются за тебя. Живя в Мире явлений, ты стал таким же, как люди в Истинном мире. Ты должен осознать свое счастье и проводить все дни в радости…
О своем здоровье можешь больше не беспокоиться. Ибо Великая Природа подарила тебе сокровище здоровья. «Жизнь человека», которую ты сейчас пишешь, скоро закончишь, а затем будешь описывать мир Бога — Великой Природы…
— Я пишу о такой простой истине, что каждый человек получает жизнь от Великой Природы, и при этом перо мое спотыкается, я в отчаянии от того, насколько недостаточны мои силы. Когда перечитываю, эта простая тема не просматривается…
— Сохраняй уверенность в себе. До сих пор тебе удавалось хорошо писать, и Великая Природа тобой довольна. Когда приступишь к следующей книге, я смогу тебе во многом помочь и заранее этому рад. Сегодня ты уже не тот, что был вчера. Ты можешь говорить непосредственно с Великой Природой. Ты должен во всем поступать согласно своим желаниям. Как человек Истинного мира. Прости за назойливость, но для того я и пришел, чтобы ты это ясно осознал. Но я спокоен. Ты тоже стал великим…
— Спасибо. Жак, не можем ли мы встречаться чаще? Все близкие мне люди скончались, и печаль от того, что я не могу с ними встретиться, ныне единственный источник моего несчастья…
— Стоит тебе позвать — и я сразу приду. Таким ты ныне стал человеком.
Сказав это, Жак пожал мне руку.
Он впервые пожал мне руку с тех пор, как я с ним расстался в этом мире, но рука его была на удивление теплой…
Однажды я поднялся в свой кабинет, но никак не мог взяться за работу. И тут вспомнил слова, сказанные Жаком. Когда захочешь встретиться, только позови. Я сразу приду…
До сих пор Жак являлся всегда неожиданно, а когда я хотел встречи, его не было. Если позову, действительно ли он появится?
Раз уж душа не лежит к работе, может, попробовать позвать? Такое возникло игривое настроение.
— Жак, если у тебя есть время, хочу встретиться, Жак! — позвал я громким голосом.
Не прошло и минуты, как он появился.
— Ты позвал, вот я и пришел. Какое у тебя дело?
— Никакого особого дела нет… Работа что-то не клеится… Поэтому хотел с тобой немного повидаться.
— Что такое ты говоришь!.. Твоя работа, твой долг с пером в руке помогать Спасению Мира Великой Природой. Великая Природа сейчас употребляет все силы на Спасение Мира.
— Понимаю, понимаю.
— Раз понимаешь, как можно унывать и лениться? Вспомни, как в мрачную годину в юности мы вчетвером взбирались по заснеженной тропе к нашей святой земле… И, вспомнив, возрадуешься своему долголетию и осилишь все.
— Это я знаю.
— О любви Великой Природы к нам, людям, о достоинстве человеческой
жизни — да мало ли о чем ты должен написать?.. Вот, кстати, ты ничего не пишешь о своем духовном испытании.
— Мое духовное испытание — это моя личная проблема, об этом не следует писать.
— Когда ж это было?.. Ты впервые задумался о том, как Иисус, распятый на кресте, искупил грехи людей, и вбил себе в ладонь гвоздь, попытавшись распять на кресте себя. Хлынула кровь, ты взвыл от боли, но наконец к половине шестого утра почувствовал, что ты воскрес. Это испытание не каждому по силам. Ты должен написать об этом… Наверно, ты никак не возьмешься за перо потому, что слишком о многом тебе надо написать.
— Ты прав. Мне ужасно стыдно.
— Ведь ты способен говорить непосредственно с Великой Природой! Когда тебе грустно и одиноко, ты всегда можешь прийти в Истинный мир и встретиться со старинными друзьями и старшими товарищами… Все тебе будут рады.
— Понятно. Спасибо.
— Не каждый может, как ты и я, свободно перемещаться между Истинным миром и Миром явлений, поэтому твой долг написать о том, что ты видел и слышал в Истинном мире и порадовать живущих на Земле людей.
Я точно проснулся и низко кивнул.
— Как же сильно ты возмужал! Мои товарищи по Истинному миру завидуют мне, что я был твоим другом молодости… Подумать только, человек, напрямую говорящий с Великой Природой! Так что, с верой в себя… — Гений Жак положил мне на плечи руки, ласково обнял и тихо удалился.
Некоторое время я был в замешательстве и дивился, вспоминая, что Жак упомянул одно из моих духовных испытаний. Я никому не рассказывал о них, убежденный в том, что не должен этого делать.
Ведь вот юный ясиро постоянно ощущал телесные недомогания и сильные боли — следствие того, что принимал от людей их болезни, но он терпел и никому не признавался.
Меня поразило, что Жак так запросто упомянул об одной из ступеней моего духовного подвига, о том, что я держал в полной тайне.
У меня был период духовных испытаний, когда Великая Природа будила меня каждую ночь в половине второго и я до пяти часов проделывал всевозможные аскетические упражнения. Я мучился тогда болью в пояснице, и в какой-то момент по наущению Великой Природы меня осенило, что аскеза поможет мне избавиться от болезненных страданий. В связи с этим Великая Природа поведала мне об образе распятого на кресте Иисуса:
— Иисуса распяли на кресте в тридцать три года. Он обладал тогда юным телом. Так же, как ты страдаешь от болей в пояснице, Иисус, несмотря на юность, знал, что такое телесная боль, но ради искупления грехов людей. Своих братьев, он с радостью принял смертные муки. В то время ты, в своем прошлом перевоплощении, был Иоанном и, заботясь о матери Иисуса Марии, был с Иисусом до его последнего часа. Однако после ты позабыл о тех телесных муках, которые претерпел Иисус…
Услышав это, я опечалился. Ибо, глядя на образ Иисуса, я никогда не думал о живом Иисусе…
— Ты поистине человек отзывчивый. Но даже ты не задумывался о человеческой сущности Иисуса. Вспомни, каким ты был в тридцать лет…
При мысли, что я и впрямь не изведал подлинности страданий распятого на кресте, я зарыдал и решительно попытался пригвоздить левую ладонь к перекладине креста.
Хлынула кровь. Было больно. Я возопил, но, прижавшись лицом к постели, терпел. И это продолжалось до пяти часов утра.
Я никому об этом не рассказывал. Даже сейчас, если нажать на левую ладонь, немного больно, но это тоже одно из духовных испытаний и нисколько не угрожает жизни.
И однако, как же мне далеко до совершенного человека!..
Глава двенадцатая
Начиная с двадцать третьего ноября, на протяжении почти месяца, в соответствии с замыслом Великой Природы, я прошел через большое духовное испытание.
Было бы долго писать, в чем конкретно оно заключалось, к тому же оно предназначалось лично мне, поэтому рассказывать другим о нем бесполезно.
В начале испытания Небесный сёгун, который всегда был мне опорой, возвестил: проходя через это духовное испытание, необходимо подняться по лестнице до третьей ступени: при восхождении на первую ступень, как и прежде, помогают ангелы, на вторую — поможет только он. Небесный сёгун. Взойти на третью ступень никто помочь уже не может, следует полагаться только на свои собственные силы. Если я одолею подъем своими силами, то обрету способность и право на равных говорить с Великой Природой.
Он подгонял меня приступить к этому безотлагательно.
В моей обыденной жизни в это время ничего не менялось, я никому ничего не говорил и совершал восхождение в одиночестве. Когда все закончилось, Великая Природа сказала мне: «Довольно!» Это было утром двадцать девятого декабря.
Я был свеж и бодр, точно и вправду воскрес. На протяжении многих лет жившие в моем духе и в моем теле ангелы и Небесный сёгун исчезли без следа, стало легко, хотелось громким голосом говорить или петь.
Во время обеда позвонил ясиро. Сказал, что выставка, открывшаяся на Гиндзе, имела большой успех, посетителей не убывало, он очень занят, поскольку послезавтра последний день, но госпожа Родительница велела ему посетить меня, и он зайдет около двух.
Я предвкушал, как он обрадуется моему здоровью и как мы вместе возблагодарим Великую Природу.
Однако без десяти два неожиданно пришла госпожа Г. Счастливая, красивая и знаменитая женщина.
Сказать по правде, нас так мало связывает, что я даже не знаю ее имени. Первый визит она неожиданно нанесла мне в середине октября. Я не мог наглядеться на ее высокую, статную фигуру, дивясь — неужто в Японии бывают такие красавицы? Она рассказала, что со школьных времен любила читать и пробовала писать, после чего вручила мне прекрасно изданную книжку, написанную, по ее словам, для детей.
Я был смущен, как будто ко мне прилетела небесная фея, и даже не попытался спросить об истинной цели ее визита, а между тем она ушла — упорхнула, точно небесная фея.
Некоторое время я в рассеянности продолжал сидеть в гостиной. Никак не мог поверить, что госпожа Г. была реальной женщиной. Однако вскоре зашла дочь, чтобы прибраться, и пробудила меня от дремоты.
Дочь знала о госпоже Г. совсем немного. А именно — что она замужем за известным в финансовых кругах крупным промышленником и что она ревностная католичка… Кажется, дочь тоже была поражена ее благородной красотой. Ей наверняка было любопытно, по какому делу этакая красавица пожаловала ко мне. Прежде чем она спросила об этом, я сказал:
— Она принесла мне в подарок свою книгу.
— Я где-то слышала, что она пишет прекрасные книги, возможно, это одна из них. Я возьму почитать.
Дочь унесла книгу, а после, за ужином, сказала, что книга ей понравилась. Больше о госпоже Г. мы не говорили, как будто забыли о ней.
И вот так же неожиданно она снова пожаловала двадцать девятого декабря, около двух, как раз когда я ждал, что ко мне, выкроив время, ненадолго заглянет ясиро. Она быстро прошла в гостиную, учтиво поклонилась и молча присела на диван.
Я хотел, чтобы она побыстрее покончила со своим делом и ушла до прихода ясиро, поэтому откровенно поторопил ее, сказав, что у нас мало времени — скоро должен прийти ясиро.
— Прекрасный юноша! — воскликнула она так, будто была с ним знакома.
Я в двух словах объяснил ей, что ясиро в моем доме вещает устами госпожи Родительницы, и, поскольку это требует определенного времени, попросил прийти в другой раз.
В этот момент мне сообщили, что пришел ясиро, и он вошел в гостиную. Я собрался проводить госпожу Г., но она спросила у ясиро, нельзя ли ей тоже присутствовать. Ясиро ответил согласием и поспешно удалился во маленькую комнату.
Когда он сказал, что все готово, я провел туда госпожу Г.
Ясиро, облаченный в алое женское кимоно, сразу же начал говорить голосом живосущей Родительницы.
Она рассказывала о том, какие усилия предпринял Бог в прошедшем году, перестраивая мир так, чтобы все люди могли жить в радости в подлинном смысле этого слова, после чего подозвала меня.
Я сел перед ясиро. Как обычно, госпожа Родительница обвеяла все мое тело дыханием, стряхнула с меня осевшую за год пыль, после чего сказала, что Бог-Родитель Великой Природы чрезвычайно рад моему духовному совершенствованию и аскетическим подвигам, перечислив их один за другим.
Мне было невыносимо стыдно в присутствии госпожи Г., и я терпел, опустив голову. Наконец госпожа Родительница сказала: «Будь здоров», и я смог вернуться на свое место.
Ясиро тотчас пригласил госпожу Г. Она подвинулась вперед, и госпожа Родительница, ласково сказав: «Протяните руку!», взяла ее руку в свои и заговорила.
— В этом мире нет ни греха, ни грязи. И детки у тебя — прекрасные, добродетельные. И поскольку добродетельны, значит, способны приять добро. Некоторые люди о судьбе безответственно судят, мол, это в ней пыль, это в ней карма. Не след поддаваться таким голосам. Твоим деткам по силам возложенная на них ноша, они у тебя прекрасные. Ты получила своих детей от Бога, посему не падай духом и будь непреклонна! Тебе нечего бояться. До сих пор ты, страдая, немало блуждала, а потому Бог, установив связь, призвал тебя сюда. Ты пришла сюда не случайно. Ты пришла по зову Бога. Ты проявляла досель чудеса стойкости. Впредь тебя ждет только большое, большое, хорошее. Это подлинная награда тебе от Бога за твое усердие. Она не в только в твоих детях — награда, которую дает тебе Бог за твое усердное сердце. Отныне на пути своем остерегайся блужданий и не теряй уверенности…
Случайно подслушав эти ласковые слова госпожи Родительницы, я почувствовал тепло в груди и невольно навострил слух.
Оказывается, старший сын госпожи Г. во время учебы в Америке попал в автомобильную аварию, повредил ноги, потерял способность ходить и вернулся домой на инвалидной коляске. Госпожа Г., будучи глубоко верующей католичкой, восприняла этот несчастный случай как наказание от Господа (Бога Великой Природы) за ее грехи, без устали каялась и страдала. Зная обо всем этом, госпожа Родительница ласково ее утешала и приободряла. Я так расчувствовался, что перестал вслушиваться, и спохватился лишь какое-то время спустя.
— Ты постоянно упрекаешь себя, что в этом твоя вина, — продолжала госпожа Родительница. — Но никакой вины нет. Бог возложил на тебя великую ношу, великое духовное испытание, поэтому надо стойко терпеть. Я всегда рядом с тобой. В трудную минуту, в минуту одиночества, громко вместе с ребенком позови: «Мама!» Я всегда рядом и помогу. Ни о чем не беспокойся. Раз я сказала, что помогу, значит, помогу. Ему скоро будет лучше, он поправится и обязательно встанет на ноги. Бог приходит на помощь. Он трудится не покладая рук, дабы ты уверенно преодолела выпавшие на твою долю испытания и справедливость восторжествовала…
Твои страдания подходят к концу. Оставь уныние, наберись — в хорошем смысле — прекраснодушия. Ты страдала и боролась вместе с ребенком, поэтому и впредь, прилепившись к сердцу Бога, не падай духом и продолжай искренне переносить испытания. Твои скитания подходят к концу. Отныне идите рука об руку, отбросив сомнения. В знак того, что твои скитания закончилось, даю тебе носки, — говоря это, ясиро снял с себя алые носки и передал ей, — отныне вы избавлены от страданий. Если станет одиноко, посмотри на эти носки и подумай: наш путь страданий уже закончился, дальше будет только хорошее! Желаю тебе отбросить все сомнения и не унывать. Довольно страданий. Бог в помощь. Утвердив свое сердце, возвеселись и ступай. Прощай.
С этими словами госпожа Родительница отпустила руку госпожи Г. Она закончила говорить, обратившись ко всем присутствующим, и я поспешил отвести госпожу Г. в гостиную.
Она опустилась на диван и прошептала:
— Я не заслужила такой милости!
По своей глухоте я не все расслышал. Я не мог оторвать от нее глаз, видя, как она вся трепещет от восторга, и сам расчувствовался.
Вскоре ясиро, переодевшись в пиджак, появился в гостиной и сказал, что торопится, поэтому не может остаться, я же только и проговорил: «Да, спасибо!» — и даже не нашел в себе сил подняться. Госпожа Г. проводила его с опущенными глазами.
После его ухода госпожа Г., судя по всему, старалась унять охвативший ее восторг. В былые времена, когда ко мне были приставлены Небесный сёгун и ангелы, они бы подсказали мне подходящие слова, но ныне я, подобно Великой Природе, только безмолвно изливаю солнечный свет.
Через какое-то время госпожа Г., поблагодарив, поднялась. Я проводил ее до прихожей, и она почему-то не показалась мне такой высокой и статной, как прежде. Надо было бы проводить ее до ворот, но я простился в прихожей. У ворот ее наверняка уже заждался личный автомобиль…
Я поднялся в кабинет, но еще долго не мог освободиться от нахлынувших чувств. Вдруг раздался голос Бога:
— Я давно говорил тебе про тридцатое декабря. И вот приближается срок. На сей раз Я явлюсь открыто и произведу в мире Большую Уборку. Я в корне перестрою сердца людей, которые доселе восседали на вершине горы и бесстрастно взирали на мир. Я приступаю к Большой Уборке. Исправлю и основательно перестрою сердца людей, воссевших на вершину горы, изъеденных алчностью и эгоизмом. Отныне Я созываю людей, живущих по правде, и, ускорив перестройку этого мира, основательную перестройку, проложу путь миру. Чтобы люди продвигались по нему усердно, с правдой в сердце, навстречу дарованной Богом «жизни, полной радости». Взирай на происходящее, как солнце, и тихо радуйся!.. Ну вот и тридцатое декабря!
Мне показалось, что этот голос пробудил меня ото сна.
В последнее время я, совершенно отказавшись от своего «я», радуюсь тому, что живу, воссылаю благодарность и всего-навсего исполняю долг, вмененный мне Богом, — пишу книгу и помогаю людям. Да еще, превозмогая себя, стараюсь следить при помощи газет, телевидения и радио за политическими и экономическими переменами в мире, о которых мне заранее поведал Бог.
Мне было давно уже сказано, что тридцатое декабря будет каким-то благим днем, поэтому я ждал его с замиранием сердца, но когда день настал, по своему неразумию поразился, узнав, что Бог приступает к перестройке сердец людей, изъеденных алчностью и эгоизмом, восседающих по всему миру на высокой горе. Чтобы наступила «жизнь, полная радости», люди прежде всего должны со всей искренностью обрести праведные сердца…
Итак, утром тридцатого я проснулся и услышал обращенный ко мне ласковый голос Великой Природы:
— В прошедшем году ты хорошо потрудился. Бог тобой доволен. Теперь отдохни пару деньков. Приберись хотя бы на письменном столе…
Действительно, ни в этот день, ни тридцать первого, ни первого никто не приходил. Даже живущие в Токио дочь и внучка, обе замужние, ко мне не заглянули. Поистине это были дни отдыха, которые мне ниспослала Великая Природа.
Несмотря на день отдыха, я, по своему обыкновению, с утра поднялся в кабинет. На глаза попалась пачка писем. В свое время я отложил их, с тем чтобы ответить, когда выпадет свободное время.
Взял одно. Отправитель — женщина из префектуры Аити, мне незнакомая. Впрочем, поскольку я стал забывать имена, возможно, мы с ней и встречались. В письме, прекрасно написанном, поднимались серьезные человеческие проблемы. Но, добросовестно прочитав его, я решил повременить с ответом.
Взялся за следующее письмо. Приблизительно то же. Когда закончил читать третье, вдруг посмотрел в окно. Было ясно, ни ветерка.
Привлеченный лучами солнца, я вышел в сад. Каждое утро младшая дочь, встав пораньше, приводит в порядок газон, поэтому сорняки не портят картины, но и без того деревья, тихо наслаждающиеся солнечными лучами, встретили меня улыбками и, не заговаривая со мной, казались воплощением умиротворения. Только две зимние камелии распустились алыми цветами.
Медленно пройдя шагов двадцать по саду, я решил вместе с деревьями принять солнечную ванну. В саду сушились два деревянных щита из ванной комнаты. Я сел на один из них и вытянул ноги навстречу солнцу, сиявшему с небес.
Потом я снял носки и еще дальше вытянул ноги, чтобы погреть ступни. Через какое-то время солнце внезапно заговорило со мной. Я удивился.
Поднял голову — прямо перед глазами в небесной синеве вырисовывался огромный лучащийся диск. Я изумился, а оно начало как ни в чем не бывало рассказывать о мире Бога.
Впервые солнце говорило со мной непосредственно, в душе у меня всплыли слова, сказанные гением Жаком, и я стал прилежно слушать.
Жак тогда сказал: благодаря тому, что начиная с двадцать третьего ноября я прошел мучительные духовные испытания и поднялся на третью ступень Божьего мира, я сильно возрос и приставленные до сих пор ко мне Небесный сёгун и ангелы бесследно исчезли, теперь я могу непосредственно говорить с Великой Природой.
Впервые получив реальное подтверждение словам Жака, я стал прилежно внимать тому, что говорило солнце.
Вскоре оно предупредило меня, что для моего здоровья следует перестать принимать солнечную ванну и вернуться в дом. К этому времени солнечный диск уменьшился примерно на половину.
Я немедля натянул носки, вернулся в кабинет и приступил к разбору писем. Скоро руки дошли до сегодняшней почты. Там, среди прочих, была открытка от моего молодого друга Б. В связи с трауром по старшему брату, умершему в ноябре, он, как принято, писал, что опускает поздравления с Новым годом.
Взглянув на открытку, я вспомнил, что и у меня в конце ноября умер родной старший брат Синъити, значит, и у меня траур, но при этом я не чувствовал ни печали, ни скорби.
В течение многих лет он доставлял мне сплошные хлопоты, а теперь, когда умер, и сам, должно быть, обрел покой. Вспоминая наши отношения, мне не в чем себя упрекнуть.
На третий день, первого января, хотя обычно в это время бывает ясно, неожиданно начал моросить дождь, было зябко и уныло.
Рано утром принесли увесистую пачку новогодних открыток. Дочь рассортировала их по адресатам, на мое имя было больше шестисот. Я молча просматривал их одну за другой, в душе поздравляя каждого отправителя с Новым годом. Не знаю, сколько прошло времени, когда дочь, сидевшая рядом и просматривавшая свои открытки, сказала:
— Если будешь посылать новогодние открытки, воспользуйся этими. Небось ни одной еще не послал?
На открытках, которые она мне дала, был красиво напечатан поздравительный текст, оставалось только вписать имя, и можно было сразу отправлять.
Хотел сказать: «Мертвым ни к чему», но вместо этого только поблагодарил. Вскоре дочь надписала открытки для господина Цуюки из Исэтана и моего благодетеля господина Окано и дала мне подписать. Благодаря чему в этот Новый год, по прошествии стольких лет, я вдруг ожил для двух моих знакомых. Какая глупость!
Второго января, утром, я получил предупреждение от Великой Природы:
— Три дня ты отдыхал, поэтому с сегодняшнего дня приступай к своим обычным обязанностям.
Тут я вспомнил, что, когда учился во Франции, рождественские каникулы тоже оканчивались первого января.
В этот день вновь было облачно, на душе тяжело, и все же в десять, как обычно, я поднялся в кабинет.
И вдруг Великая Природа дала наказ:
— Поскольку ты теперь можешь напрямую говорить с Великой Природой, ну-ка, попробуй, поговори с солнцем!
Однако мне совсем не хотелось ни о чем с ним говорить.
— Ты каждое утро бормочешь про себя, почему, несмотря на Новый год, облачно? Попробуй, спроси об этом у солнца. Ну же, позови его. Не пройдет и двух минут, как оно покажет свой лик.
Так подстрекаемый, я волей-неволей встал перед южным окном.
Прикинул место, где в это время должно находиться солнце — в это утро все небо было затянуто облаками. Наконец крикнул:
— Эй, солнце, покажись!
Не прошло и минуты, как облака в том месте, куда я нацелил взор, стали тоньше и появилось солнце. Я сразу заговорил с ним:
— Что же это за Новый год? Первого января — моросил дождь, второго — облачно… В чем дело? В прежние годы всегда было ясно…
— Это для того, чтоб одумались люди, изъеденные алчностью и эгоизмом, восседающие на высокой горе.
— Подобных людей этим не проймешь. А простые люди страдают, так что давай немедленно делай хорошую погоду!
— Но простые люди обрадуются хорошей погоде на Новый год и побегут на улицу. А когда облачно, они сидят дома и мирно празднуют в своей семье… Давай-ка лучше займись своей работой.
На этом наша беседа закончилась, но солнце отодвинуло густое облако и почти полчаса сияло, изливая лучи, после чего вновь спряталось в тучах, и весь оставшийся день было пасмурно. Те из живущих в Токио людей, кто взглянул в полдень второго января на небо, наверняка заметили это странное явление.
В тот день я благополучно завершил свой дневной долг и собирался уже на боковую, когда раздался телефонный звонок и в трубке прозвучала французская речь. Это был Айта, профессор университета К., который уехал в Америку, посчитав себя гражданином мира.
— С Новым годом, mon père.
— Сколько тебе будет в этом году? Желаю остепениться и тем утешить меня.
— Удивительно слышать от вас такое.
— Ты не знаешь сердца отца. Хотел бы перестать беспокоиться.
— Папа, не говорите по-стариковски… У вас такой бодрый, моложавый голос! Между прочим, я хотел вам сообщить, что сегодня с изумлением обнаружил: оказывается, в авторучке, которой я пользуюсь, тоже есть
жизнь…
— Как, ты только что это узнал?.. Мне кажется, я тебе сто раз говорил. И не только в твоей ручке. Во всех вещах заключена
жизнь. Как в людях, так и в деревьях пребывает
жизнь, поэтому всем назначен свой срок. Ведь и твоя авторучка когда-нибудь выйдет из строя… Поэтому я волнуюсь и говорю, чтобы ты побыстрее остепенился. Не надо мешкать.
— Да, я понял. По поводу ручки напишу в письме. Спокойной ночи, mon père.
На этом телефонный разговор закончился, но я сожалел, что не расспросил его.
Вечно старики чем-то недовольны! — тяжко вздохнул я.
Минору Айта позвонил по поводу авторучки в самом начале нового года, но, точно в наказание за то, что я не воспринял наш разговор с должной серьезностью, на следующий день ко мне пришел странный человек, напомнивший мне об авторучке «Монблан», которой я с любовью пользовался лет тридцать назад.
Этот человек был поклонником моего творчества, в студенческие годы несколько раз приходил ко мне, но, окончив институт, по делам службы больше двадцати лет прожил в странах Европы, и впервые в этом году проводил новогодний отпуск в Токио.
И вот, раздумывая, какой сувенир мне преподнести, он, вспомнив об одном моем эссе, купил и привез бутылочку специальных чернил для ручек «Монблан».
Хоть мы и встречались когда-то, я его совершенно не помнил.
Уже лет десять в Токио невозможно достать специальные чернила для моей любимой ручки «Монблан», а обычные чернила забились внутри и ручка перестала писать. Я пожаловался на это в одном из моих опубликованных эссе.
Мой гость, должно быть, его прочел. Коробочка, в которой помещались чернила, была по форме и по рисунку в точности такой, как десять лет назад. Я невольно воскликнул от удивления и высказал свою радость и благодарность.
— Счастлив, что смог вас порадовать, — сказал он и, довольный, ушел.
Я тотчас порылся в ящике стола и нашел заброшенный «Монблан». Хотелось поскорей попробовать чернила. «Ну что ж, давай попытаемся!» — обратился я к своему старому другу и, окунув перо в чернила, начал писать. Несколько раз попробовал, но получались какие-то каракули. Я решил, что все-таки нужно набрать чернил в ручку, но, как ни старался, чернила внутрь по-прежнему не проходили.
Я сказал дочери наблюдавшей со стороны:
— У каждой вещи есть
жизнь… И эту
жизнь с любовью даровал Бог Великой Природы, но и у нее есть свой срок. Вот, посмотрел на «Монблан» — и взгрустнулось…
— Десять лет пролежать на дне ящика, эдак любая
жизнь умрет!.. Когда буду в Синдзюку, прочищу твою ручку в специализированном магазине. Не зря же тебе подарили чернила!
Через несколько дней дочь обратилась в магазин с просьбой о починке, но там отказались возиться с этакой никчемной штуковиной, когда существует так много удобных, дешевых и хорошо пишущих авторучек.
Вернувшись, дочь со смехом доложила о неудаче и сказала:
— И впрямь, у всякой вещи свой жизненный срок.
— Я тут подумал… Может,
жизнь прекращается в тот момент, когда забывают о любви Великой Природы, с которой она даровала эту самую
жизнь.
— Но, папа, под давлением ручки, которой ты пользовался многие годы, у тебя искривился палец на правой руке и тебе пришлось перейти на карандаш, так что не о чем сожалеть.
Я сунул старую ручку в коробочку для чернил, которую мне привез в подарок, отыскав где-то в Европе, незнакомый господин, и поставил временно на край стола.
Как-то утром, закончив уборку кабинета, дочь вдруг удивленно воскликнула, точно совершила большое открытие.
Дело в том, что писатель Кэндзабуро Оэ, узнав, что я отказался от перьевой ручки и пишу карандашом, и сочувствуя испытываемым мной неудобствам, полтора года назад прислал мне карандаш, сделанный как авторучка. Разница лишь в том, что вместо чернил в него вставляется грифельный стержень. Это удобно и повышает производительность. Я тогда поблагодарил Оэ. А теперь дочь увидела, что этот карандаш по весу и толщине точь-в-точь «Монблан», можно сказать, «Монблан» во втором рождении.
— Господин Оэ прислал этот карандаш, потому что знал о твоем «Монблане»?
— Нет, вряд ли ему что-либо известно.
— Почему же он прислал именно такой карандаш?.. Я их не видела в магазине канцелярских принадлежностей в Синдзюку…
— Оэ не любит громких слов, но это — сила любви. Его книги столь прекрасны потому, что он творит с любовью. И этот карандаш он выбирал, перевоплотившись в меня.
С этими словами я вышел в сад. Хотя стоял сезон холодов, солнце пригревало, как в марте.
Болтливая слива и надменная магнолия, так же как и другие деревья, пребывающие в зимней спячке, тихо принимали лучи солнца. Мои ноги естественно направились в сторону розовых кустов.
Возле ограды посажены четыре куста роз, но все четыре увяли. В давние времена, когда мы осенью переезжали в этот дом, в цветочном отделе универмага сказали, что эти розы цветут круглый год, поэтому мы и купили четыре саженца. И весной следующего года все они расцвели и радовали нас. И все последующие годы, на протяжении тридцати с лишком лет, весной и осенью кусты не забывали распуститься дивными цветами.
Однако и у роз, верно, есть жизненный срок. В последние несколько лет они заметно постарели. Постарели, но, точно выполняя свой долг, продолжали распускаться цветами. Из жалости их удобряли с особой щедростью, но от старости нет лекарства, за последние год-два цветов стало меньше и они выгляди поблекшими.
В конце прошлой осени я подумал, что розы уже не будут больше цвести, и скрепя сердце решил их срубить, но неожиданно два куста распустились чудесными алыми цветами, крупнее и прекраснее прежних.
Это на прощание… Я был глубоко тронут мужеством роз, на глаза навернулись слезы, я приблизил лицо к алым цветам и напоследок насладился их ароматом. Цветы долго не хотели облетать, но я, выходя в сад, обходил их стороной.
И вот теперь я вновь подошел посмотреть на них. На поредевших ветках всех четырех кустов не было ни одного листочка. Видимо, у всех у них
жизнь закончилась.
И тогда я подумал: надо поскорее попросить садовника их похоронить. Это будет выражением благодарности, знаком моей любви к ним.
В конце января в воскресенье после полудня я работал в своем кабинете, когда заметил, что в саду кто-то есть, и подошел к окну. Сын прежнего садовника К. занимался увядшими розами.
К. почти три года, помогая отцу, ухаживал за садом, но потом стал инженером в Токио. После смерти отца он по дороге на работу часто захаживал в сад и присматривал за выращенными им деревьями.
Раскрыв окно, я сказал ему: «Спасибо за труд», но, поскольку в моей работе произошла заминка, спустился в сад. К. уже собирался уходить. Он сказал, что похоронил все четыре куста роз в яме для компоста, так что через год они станут удобрением для своих товарищей.
Я поблагодарил его, а он с серьезным лицом спросил:
— Как вы думаете, Ирак затеял большую войну?
Я был бессилен ответить на такой вопрос, поэтому про себя спросил Великую Природу. И Великая Природа вместо меня ответила:
— Бог в конце прошлого года улаживал проблему с Ираком… Но люди, как оказалось, очень любят ссориться, даже между супругами чуть не каждый день происходят боевые действия, а потом все опять кончается миром… Ничего не поделаешь. Вот и проблема с Ираком… Во всем мире настали мирные времена, люди вздохнули с облегчением, собираясь жить в радости — идеале Великой Природы, и вдруг богатый Ирак, облагодетельствованный нефтяными запасами, но обуреваемый алчностью, вторгся в Кувейт. Миролюбивые цивилизованные страны собираются исправить эту несправедливость, поэтому исход очевиден…
— Во всем мире стало как-то беспокойно.
— По всему миру Бог занят Большой Уборкой, поэтому поднялась такая ужасная пыль.
— Вот как… Бог делает Большую Уборку? В таком случае по поводу Ирака можно не волноваться! — засмеялся он и направился к выходу. Я поблагодарил его за труд и проводил до ворот.
Седьмого февраля ясиро Дайтокудзи, собиравшийся в Париж, несмотря на занятость, обещал зайти ко мне в три часа.
Однако в двадцать минут третьего пришла госпожа А., приехавшая из префектуры Коти, и с ней четыре молодые женщины. Одна из них с ходу начала рассказывать, что присутствовала накануне на праздновании десятилетнего юбилея в «Небесной хижине» и была потрясена словами ясиро, но у меня не было времени ее выслушивать, я спешил поговорить с госпожой А. и остальными тремя женщинами. Все были счастливы, проблемы разрешились, мы закончили беседу ровно в три часа, и они ушли довольные.
Минуты через три пришел ясиро. Он сказал, что делал покупки и из-за этого задержался. Я вздохнул с облегчением, что он не встретился на станции с только что ушедшей от меня компанией. Ясиро, улыбаясь, уселся в кресле в гостиной, и, словно бы машинально, стал потирать руками ноги. Вероятно, вновь перенял от кого-то недуг. Он собирался уехать во Францию на месяц, и я чувствовал невыносимую жалость к своему ребенку.
«К своему ребенку», — бессознательно написал я, но ведь за последние несколько лет он исправно посещал меня каждые три дня, самое большее — пять дней, поэтому во мне естественно зародилась к нему родительская любовь, и я действительно стал воспринимать его как своего ребенка.
К тому же я получил от Бога приказ быть его опекуном. «Ты возмужал, поэтому, если что, можешь без стеснения отшлепать его», — так мне было сказано, но ясиро был ныне столь собран и целеустремлен, что у меня ни разу не возникло повода в чем-либо его упрекнуть.
Я волновался по поводу его поездки во Францию, а, между прочим, сам я уехал учиться во Францию в его возрасте.
Вообще-то, мне полагалось испытывать сильную радость, ведь в знаменитом парижском салоне «AMORC Rose-Croix» с четырнадцатого по двадцать седьмое февраля должна была состояться его персональная выставка. Я слышал, что в этом салоне еще не выставлялся ни один японец, хотя, будь сегодня жив знаменитый в первой половине двадцатого века художник Фудзита, он бы наверняка получил приглашение.
Словом, и для меня его поездка во Францию была большой радостью, но все же я беспокоился, поскольку он был моим ребенком, а по возрасту и вовсе годился мне во внуки. Сейчас ясиро, приготовив для приема по случаю открытия выставки японский наряд, спрашивал меня, не лучше ли будет надеть вечерний костюм.
Как обычно, ясиро переоделся в алое кимоно и начал вещать словами госпожи Родительницы, которая после ободряющего вступления сказала:
— И на Западе много людей, взыскующих новый путь, и на сей раз Бог-Родитель решил послать этого ребенка на месяц в столицу мира Париж, чтобы научить божественному пути и сотворить множество чудес. Что касается чудес, я бы хотела показать тебе, Кодзиро, каким образом он открывает людям глаза на то, как перестроить свое сердце, и не для того только, чтобы исцелять людей от тяжелых болезней, но и нести им «жизнь, полную радости».
Но на этот раз я не могу послать тебя с ним, поэтому вместо тебя посылаю твою старшую дочь. Твоя дочь засвидетельствует, сколь дивны дела Бога, приступившего к Спасению Мира, и доложит тебе… Так что тебе не о чем беспокоиться.
В апреле отправлю ясиро в Нью-Йорк, чтобы он проделал ту же работу в Америке. В мае — в Австралию. Деяния Бога будут вершиться в том же порядке. И в будущем порядок сохранится, но как именно, сейчас сказать не могу. Ты запишешь то, что я тебе говорила, и книга выйдет в июле. К этому времени все осуществится. Будь спокоен…
Люди — завистливые существа. Если все пойдет на лад, обязательно появятся те, кто будут вмешиваться, ставить палки в колеса, причиняя вред себе и другим. Итак, в середине февраля ни я, ни этот ребенок к тебе не придем. Я оставляю тебе вот
это — сокровищем моего сердца и сокровище души этого ребенка, в грустную минуту возьми его обеими руками и потри больное место. Сразу поправишься.
С этими словами она достала короткий матерчатый шнурок красного цвета. С благодарностью я принял его в руки. Вскоре госпожа Родительница ушла, и ясиро переоделся в пиджак. В этот момент я мельком увидел, что его ноги, точно от болезни бери-бери, сильно отекли и распухли. Я удивился.
Он сказал, что ему нужно собираться к поездке, и быстро ушел. Когда я вышел проводить его, красная слива громко меня окликнула.
Я давно уже не слышал ее зычного голоса, поэтому, удивившись, вышел за порог.
— Сэнсэй, мы, пробудившиеся деревья, давеча, по призыву нашего старшины самшита, провели совещание.
— Что-нибудь случилось?
— Нет… Но нам стало известно, что ясиро не будет приходить к вам, и мы решили все вместе охранять ваш дом.
— Спасибо за заботу, но не стоит беспокоиться.
— Для нас удовольствие охранять ваш дом, порадуйтесь же вместе с нами. Только глициния еще в зимней спячке, но, когда проснется, тоже присоединится к нам.
— Спасибо. Вы воплощаете собой дружбу и мир. За это спасибо вам всем, старшине самшиту, красной сливе…
— Сэнсэй, я выразил свое сегодняшнее настроение, выпустив множество бутонов… Когда цветы раскроются, пожалуйста, поговорите с моими друзьями.
— Ну так и быть, — натянуто улыбнулся я, направляясь в сторону самшита.
И вдруг взглянул на небо. В безоблачной синеве мое солнце, улыбаясь, ярко сияло и тихо кивало мне.
Воздев руки, я стал прислушиваться к тому, что говорит мне солнце…
Это были драгоценные речи, которые я передам в своей следующей книге, название которой — «Сон Бога».
Я вновь порадовался тому, что получил от Великой Природы в дар
жизнь, дожил с ее помощью почти уже до девяноста пяти лет, и воздал ей хвалу.
Однако в это мгновение, захваченный внезапной мыслью, я поспешно вернулся в кабинет. Помогать пером Великой Природе спасать мир — мой долг, но, чтобы исполнить этот священный наказ, мне нельзя вставать из-за стола. Так я думал с нежностью в сердце.
— Вот именно, ведь я земное солнце!
1 марта 1991 года
Примечания
1
Сигэо Гото (p. 1954) — журналист, фотограф, профессор Киотоского университета изобразительных искусств. Автор множества популярных эссе на разные темы.
(обратно)
2
Эпоха Мэйдзи — 1867–1912 гг.
(обратно)
3
Эпоха Токугава — 1600–1867 гг.
(обратно)
4
Эпоха Тайсё — 1912–1926 гг.
(обратно)
5
Юката — легкое летнее кимоно.
(обратно)
6
«Луньюй» — древнекитайский сборник изречений Конфуция.
(обратно)
7
Имеется в виду перевод повести А. Шницлера, оригинальное название — «Смерть». В начале XX века, когда японские писатели активно осваивали опыт европейской литературы, художественные переводы оценивались наравне с оригинальными произведениями.
(обратно)
8
Фугу — морская рыба, считающаяся в Японии дорогим деликатесом.
(обратно)
9
Соба — лапша из гречишной муки.
(обратно)
10
Хэйсэй — девиз нынешнего правления японского императора, взошедшего на престол в 1989 г., можно перевести как: «Если земля будет выровнена — возделана, небо довершит работу».
(обратно)
11
Норимаки — вареный рис с начинкой, завернутый в листки сушеных водорослей.
(обратно)
12
Хакама — широкие шаровары, в описываемое время часть японского официального костюма.
(обратно)
13
Хоригути Дайгаку (1892–1981) — поэт, переводчик.
(обратно)
14
Икума Арисима (1882–1974) — художник, литератор.
(обратно)
15
Токуда Сюсэй (1871–1943) — писатель, представитель натурализма.
(обратно)
16
Тэцудзо Таникава (1895–1989) — философ.
(обратно)
17
Юй Дафу (1896–1945) — китайский литератор.
(обратно)
18
Го Можо (1892–1978) — китайский ученый, историк, писатель.
(обратно)
19
Ёсиро Нагаё (1888–1961) — писатель, драматург, литературный критик.
(обратно)
20
LARA (сокр. от Licensed Agency for Relief of Asia) — Агентство по оказанию помощи странам Азии, образованное после Второй мировой войны неправительственными организациями США.
(обратно)
21
Дзабутон — плоская подушка для сидения.
(обратно)
22
Суэкити Аоно (1890–1961) — литературный критик.
(обратно)
23
Ёсио Тоёсима (1890–1955) — писатель, переводчик.
(обратно)
24
Нобуюки Татэно (1903–1971) — писатель, представитель так называемой пролетарской литературы.
(обратно)
25
Наоя Сига (1883–1971) — японский писатель.
(обратно)
26
Тацуно Ютака (1888–1964) — эссеист, специалист по французской литературе.
(обратно)
27
Сикиси — танка или хайку, написанные на полоске цветного картона.
(обратно)
28
«Кэйданрэн» — влиятельная организация промышленников и предпринимателей Японии.
(обратно)
29
Такэо Кувабара (1904–1988) — литературный критик, специалист по французской литературе.
(обратно)
30
«Номура сёкэн» — крупная страховая компания.
(обратно)
31
Хидэо Кобаяси (1902–1983) — известный литературный критик, теоретик искусства.
(обратно)
32
Ален (1868–1951) — французский философ.
(обратно)
33
Нори — морские водоросли.
(обратно)
34
Имеется в виду перевод новеллы австрийского писателя А. Шницлера (1862–1931). Оригинальное название — «Смерть».
(обратно)
35
Хаори — накидка, в описываемое время — часть официального японского костюма.
(обратно)
36
Киёси Мики (1897–1945) — философ-марксист, литературный критик, умер в тюрьме.
(обратно)
37
Фумимаро Коноэ (1891–1945) — премьер-министр Японии в 1937–1939, 1940–1941 гг., сторонник установления «нового порядка» в Азии. После капитуляции покончил жизнь самоубийством.
(обратно)
38
Таби — японские носки из плотной ткани.
(обратно)
39
Хигути Итиё (1872–1896) — известная японская писательница.
(обратно)
40
Имеется в виду «работа» в борделях, организованных в японской действующей армии.
(обратно)
41
Таби — носки из плотной ткани.
(обратно)
42
Хирагана — японское азбучное письмо.
(обратно)
Оглавление
Предисловие: «Книга о Человеке»
КНИГА О ЧЕЛОВЕКЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Счастье Человека
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Воля Человека
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Жизнь Человека
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
*** Примечания ***