Александр Патреев
Глухая рамень


От автора
Дорогой читатель…
После двадцати лет, на протяжении которых отгремели поистине великие события, оставившие в мире, в жизни людей всех возрастов и поколений неизгладимые следы, — я отваживаюсь предложить твоему благосклонному вниманию «Глухую рамень», в пятом ее издании.
Мысленно оглядываясь на прошлое, ушедшее вовсе не бесследно, и раздумывая над этой книгой, повествующей о дремучих, кондовых лесах Заволжья и Омутной, о людях — моих сверстниках эпохи первой пятилетки, — я чувствую себя не вправе менять в ней многое: не потому, что в ней заключен восьмилетний труд писателя, шедшего по свежим, горячим следам жизни, а потому, что события, характеры и нравы, общественные условия и быт, социальные отношения людей тех лет стали уже историей…
Бурная, почти вулканическая была эпоха. Громадным плодоносным пластом переворачивался целый мир. Масштабы новых, невиданных свершений не укладывались в привычные нормы и представления. Историческая емкость событий требовала от человека неимоверного напряжения умственных усилий, чтобы определить границы возможного и невозможного в первом социалистическом веке.
Именно с того срока начался стремительный поход Советской страны. В нем шли десятки миллионов людей — активных, сметливых и дружных, одаренных талантом и силой, дерзновенно смелых, с горячей верой в будущее, одетых в шапки солдатского образца, подчас в отцовских обносках, в бушлатах и телогрейках, распахнутых на ветру и на морозе, с топорами, лопатами и пилами в руках. Они шли по зову партии и собственного чувства. Идеи В. И. Ленина вели, окрыляли моих сверстников, как боевое знамя, ибо они были для нас священны, неоспоримы.
Мне выпало на долю счастье не только быть свидетелем той жизни, но и посильным участником ее, видеть каждодневно своеобразные, неповторимые черты эпохи, видеть радости и горе, орлиный взлет, распахнутое в дружбе русское сердце, первое становление новой семьи, способность на постоянный подвиг — бескорыстный и беззаветный — во имя родины и долга.
Одновременно с этим приходилось нередко наблюдать глубокие ошибки и падения, назревшую или уже совершившуюся драму в семье, ее распад, усугубленный условиями классовой борьбы, которая в то время полыхала.
В глухих таежных дебрях Заволжья, Омутной доводилось встречать лесоводов, инженеров, склонных к постоянному анализу событий, с философским складом ума. Иные из них, к несчастью своему и к общему ущербу для дела, не сумев разглядеть главной дороги в будущее, изобретали свои, особые гипотезы, теории эволюционного устроения мира, считая это своим открытием. (И случалось так, что слабый, отраженный свет открытой небольшой планетки заслонял им солнце и всю существующую издревле Галактику.) Творческие силы, свой недюжинный талант они исчерпали в идейных скитаниях, в напрасных поисках своей особой «истины», своей «объективной правды», не сумели разобраться в проблемах свободы личности, свободы творчества и, оказавшись в идейном тупике, кончали катастрофой.
Ложная вера в свою правоту: «постигли мир от корня до вершины» — постепенно делала их отщепенцами, а жизнь необоримо и властно, иногда помимо их воли и желания, вовлекала в свою орбиту. Потом, в ходе событий, так или иначе побеждала их.
Теперь, когда скорый поезд времени ушел от того рубежа вперед почти на целых тридцать годовых перегонов, когда выросли новые поколения людей, — легко судить о людях и событиях того исторического отрезка, отыскивать «родимые пятна», доставшиеся людям от старой, буржуазной идеологии, и дивиться тому, как причудливо, неправдоподобно переплетались в них черты новизны в идеях, в чувствах с пережитками капитализма в сознании.
Уже никого совсем не волнуют теперь, к примеру, вопросы коллективизации, формы ее осуществления, — даже школьники легко понимают характер обобществленного, механизированного хозяйства и явные его преимущества. А в то время коллективизация — в соединении с новым курсом на ускоренную индустриализацию страны — была острейшим, отнюдь не легким для осознания вопросом современности. Прибавим к тому же напряженность международной обстановки, ожидание вооруженного нападения капитализма, который, подобно океану, окружал одинокий в мире советский остров; нехватка хлеба, одежды, отчаянное сопротивление остатков враждебных классов. В лесных, далеких захолустьях, где на каждом шагу встречались религиозные предрассудки, — классовая борьба проходила в особенно тяжелых формах…
Жестокая война в идеологии продолжается и в наши дни: капиталистический лагерь ведет непрерывные атаки на твердыни социализма, но прежняя борьба приняла, однако, иные формы. И потому отнюдь не бесполезно оглянуться назад, на прошлое, где молодость Советской страны совпала с молодостью моего поколения… Нас озаряло тогда весеннее утро, юность родины, ощущение богатырской ее силищи. И это чувство накладывало особый, незабываемый, неповторимый отпечаток на раздумья и мечты моих ровесников, на их надежды и удачи, искания и ошибки, на их семью, любовь. Благородные дела и подвиги людей — во имя мира и свободы родины — тускнеть не могут, хотя длиннее с каждым годом становится пройденный путь. То поколение неплохо поработало в свои сроки, и, отдаляясь от нас во времени, оно не становится ни меньше, ни мельче, не теряет ничего из завоеванного в те годы.
Все это — и люди, и быт, весь уклад жизни и те отшумевшие события — стало уже историей. Она требует к себе от молодых поколений, пришедших в мир гораздо позднее нас, сугубого внимания, бережности и объективной оценки. И пусть ни одна подробность, ни одна крупица в событиях, в характерах и нравах, в быту и в языке народном не будут позабыты.
Март 1958 г.

Часть первая
Глава I
«Огни заката»

«„Я вчера замечталась, и ночью, как наяву, гуляла с тобой там, где шумели сосны и по-летнему пахло пьяной смолой“, — так начала ты письмо.
Родная, я очень стар. За прожитые мною годы, наверно, обмелело Каспийское море; речка Майдан, где желтой кувшинкой цвело мое детство, перестала быть плотогонной, а я… перестал чувствовать красоту, „стал рыбой“, как в шутку ты называла меня, когда гостила здесь летом. Во мне угасло эстетическое любование лесом, — потому твое полное лирики послание я читал с улыбкой. Ведь я — не мечтатель, не романтик, парить на крыльях чувств и воображения — не мой удел на земле. Я — инженер, лесовод, я произвожу товар, нужный стране, — чем больше его, тем быстрее идет строительство заводов и новых городов.
Зрелые сосны, цвета свежего ореха — как говорила ты — приводили тебя в умиление и восторг, — помнишь, в сто первой делянке?.. Мы срезали их. Позавчера объехал Ольховскую дачу — много зрелых, товарных сосен. Глядел на них… и высчитывал, что выйдет из них и сколько. Нам требуются: французский столб, английская шпала, египетская балка, авиапонтон, рудничная стойка для Донбасса, баланс для бумажных фабрик, бревно, тес и т. д., и т. д.
Все это вырабатываем мы в наших зеленых цехах. В твоем представлении лес — лирика. Так вот: из лирики мы делаем шпалу. В этом отношении здесь простор, работать можно, а это для меня самое главное: ведь я — производственник, а не лингвист и не служитель искусства. Сняв с земли кудрявую шевелюру лесов, не жалею, не плачу, но и не радуюсь.
Юлька, смотри не вздумай рассердиться на меня за иронический тон письма, ведь я хочу лишь одного, чтобы в сердце твоем росло здоровое чувство к природе и людям.
К нам, между прочим, пожаловал новый директор Авдей Степанович Бережнов — когда-то был пастухом в соседней деревне Варихе. Недавно окончил курсы красных директоров в Москве. Первое впечатление о нем: энергичный, к делу и людям подходит смело, решительно. Уже принят курс — быстро вытянуть леспромхоз из прорыва. А леспромхоз наш стал после укрупнения втрое больше, неповоротливее. Трудностей будет немало.
Нахожу, однако, время для научной работы, сейчас пишу книгу „Лес, как сообщество“. Живу степенно в этой тихой глухой рамени, кроме работы ничем не увлекаюсь — видно, отшумела моя весна и впереди видны огни заката. А у тебя еще только утро, потому и хочу повторить тебе несколько советов: судя по твоему письму, ты забыла их, моя дорогая Юлька…
Человеку в жизни нужно место под солнцем. Его никто не даст, его приходится отвоевывать. Например, тем, что я вырос, окреп, я обязан только себе и никому другому.
У кого крепки руки и ноги, тот сквозь лесную чащу людей продерется к своему стулу. Острые зубы найдут пищу, хорошая голова заставит руки работать разумно, работать честно, — в этом общественный долг. Ты понимаешь иначе, живешь чувством, а надо быть трезвым, рассудительным, с жизнью нельзя наивничать, — она отплатит за это.
Вот тебе одно место из моей рукописи — не плохое место, в твоем духе: „Сосна воевала с сосной, ель нападала на березы и сосны, — так в общей ожесточенной драке растет, умирает и снова поднимается лес, густой и плотный“.
Или еще: „На сосны наседала с севера ель“.
Если уйти от метафор (кажется, так называется у вас — лингвистов — подобный ассортимент фраз), если отбросить лирику, — то это и будет общественная жизнь и борьба в ее настоящем, неприкрашенном виде.
Участвуй в ней и не забывай совета: целься дальше. Помни, что недаром на египетских саркофагах высечено: „Жизнь — война. В этом — наука для всех“.
Все еще пребываю в холостяках. Вчера мне исполнилось тридцать два года. Начинает надоедать. Если будет и дальше такое же душевное безветрие — через полгода-год женюсь и, отдавшись в ласковые руки женского правосудия, начну… пить.
По временам вспоминаю Сузанну — на редкость милая, славная женщина. И какая нелепая смерть — утонуть в море! Ты продолжала дружить с ней до самых последних дней, и мне иногда казалось: от меня кое-что утаивают. Теперь это стало прошлым, но, если что-нибудь было еще, кроме того, что я знаю, — то скажи.
Твое подозрение наивно до крайности и обидно. Скажу больше: оно чудовищно! Среди умных женщин нет и не может быть таких, а Сузанна была умом богата. Ее глубочайшее бескорыстие и вера в людей меня волнуют по сие время.
Вспоминая Крым — этот блаженный уголок планеты, — я представляю ее, Сузанну, ощутительно ясно. Мне очень жаль ее: ведь она — самое лучшее, что было в моей жизни.
В шутку скажу: я одинок, как часовня в поле, но унынию не предаюсь, между делом продолжаю стукать зайчишек, учу Алексея Горбатова гонять и тропить русаков. Буран жив, сейчас лежит под столом у моих ног, отчего-то скулит, нервничает…
(— Буран, молчать!..)
Нынче у меня выходной, думаю сходить в лес поразмяться, в лесу так хорошо в начале зимы!..
Тебе — начинающему литератору — дарю фразу;
„В ноябре у реки белы берега, но черна бегущая суводь“. Это не просто деталь пейзажа, а одно из глубоких противоречий, какими богата природа и вся жизнь, если к ним приглядеться внимательно. Продумай и используй.
На каникулы приезжай. Буду очень рад. Ведь у нас, дорогая сестренка, больше нет родных. Крепко тебя целую.
Твой брат Вершинин Петр».
На столе, несмотря на ранний час, уже кипит самовар, сквозь решетку пролетают мелкие угольки, они раскалены и падают один за другим на квадратный кусок жести; жесть эта — чтобы не прогорела клеенка. Домовитая старушка Параня вынула из печки ржаные сдобные лепешки, наложила огурцов, нажарила картошки. Она уже спрашивала не один раз:
— Петр Николаич!.. Скоро будете чай пить?
Занятый делом, он не слышал, и только теперь, когда отодвинулся от письменного стола и немного рассеялось раздумье, он услышал, вернее, вспомнил это. Привалился к спинке кресла и глянул вбок, на стену, где сухо стукали ходики. Было восемь утра.
— Сейчас, сейчас, — неторопливо отвечал он, принимаясь перечитывать написанное. Потом, положив на затылок ладони, он вытянулся, запрокинув голову. В таком положении Вершинину была видна вся верхняя часть комнаты. Он недавно встал, есть еще не хотелось, и глаза непроизвольно остановились сперва на передней, потом на боковой стене: портрет его, пониже — портрет Юли, снятый анфас: свежее, с мягкими приятными чертами лицо, озаренное весенним теплом и лаской, гладкий лоб обрамлен густой и пышной шевелюрой; глаза, немного опущенные, смотрят перед собой, — они будто нашли что-то редкостное и разглядывают удивленно и восторженно. В них не видать боязни, в черной глубине зрачков переливаются огни ума, задора и девичьей удали. Рядом с ней — левитановская «Золотая осень», — это подарила Юля, сказав: «Моя душевная атмосфера. Дыши ею». Вершинин мысленно поднимает палец и шутливо грозит: «Смотри, Юлька, трезвой будь, а то тебе жизнь отплатит». — «Это еще посмотрим», — как бы отвечает она трезвому брату, не отрываясь от своей находки.
Налево на стене стая гончих отмахивает сажени; раскрыты страшные пасти, готовые проглотить целого волка. Но волка на картинке нет, а дальше — кулик. Кулик стоит на болоте и невозмутимо глядит в красные пасти. Стая гончих и кулик заняли самую середину стены, к иконам оттеснив численник с лубочной картинкой. В старом киоте — три святителя: тот, что справа, — бородатый с нахмуренной бровью, с постным узким лицом, слева — более молодой, с усмешкой бывалого, жуликоватого купца, а средний — совсем юноша, веселый и беспечный, — невесть за что причисленный к лику святых угодников.
Вершинин не однажды настаивал убрать эту троицу, но Параня не может без них жить, хотя давно у ней к богу нет прилежания… И осталось им одно — занимать сырой полутемный угол, глядеть на медную лампаду, из которой вынут стеклянный стаканчик, да липовыми спинами укрывать пузатых пауков.
Эти, будто неповоротливые, но ловкие мухоловы изредка заползают на книжные полки, занявшие почти половину стены, и тогда Вершинин сбрасывает их на пол, а Параня осторожно уносит в сени, — убивать пауков, говорит она, не полагается, — Вершинин с ней не спорит.
Он — высок ростом и чуть не задел головой полатей, когда подходил к вешалке. В желтой пыжиковой шапке, в суконном пальто с каракулевым воротником, он с минуту постоял у порога, потом мельком взглянул на приготовленный ему завтрак.
— Сейчас приду, — уходя, сказал он.
Параня смолчала, а заметив, что ее квартирант «не бережет тепло», развела руками, встала и притворила дверь:
— Ученый, а проку мало… Кажинный раз так. И от чаю опять убежал, а вернется, скажет: «Подогрей»… Угольки-то ведь нынче не дешевы.
В избе стало пусто, тихо. Пестроухий Буран лежал без движения, вытянув под столом толстые, с желтой подпалинкой лапы. Параня приглушила раскипевшийся самовар и, поджидая Вершинина, задремала на лавке. В полусне она слышала, как Буран перешел к ней ближе и со вздохом улегся у ее ног. Некоторое время спустя он поднял большую гладкую, с отвислыми губами морду и, уставясь на дверь, зарычал… К крыльцу подходил кто-то…
Вошла Ариша — жена Алексея Ивановича Горбатова, вошла такая румяная, свежая, что Параня невольно вспомнила свою незадачливую молодость и позавидовала счастливой молодке. Зависть брала и на ее серый, пушистый, наверное очень теплый, полушалок и на меховую доху, которая была к лицу Арише.
Молодая женщина начала с того, что ей хотелось бы сшить малахайчик для шестилетней девочки, и, развязав узелок, развернула на скамье заячий мех. Параня привычно помяла его жесткими потемневшими пальцами, нашла по краям желтоватую мездринку и подивилась плохой выделке. Но тут же обнадежила, что даже из этакой овчинки сумеет сшить хорошо. При этом назвала такую цену, что Ариша озадаченно умолкла, думая над тем, стоит ли вообще за мелкий заказ платить большие деньги.
«Скупая», — покосилась украдкой на нее Параня.
В эту минуту появился Вершинин. Он встретил нежданную гостью приветливым, немного удивленным взглядом, а она, ответив на его приветствие, смущенно улыбнулась. Он предложил ей стул, просил раздеться, но она отказалась.
— Петр Николаевич… я просила книгу у вас. Не забыли? — спросила она, словно вспомнив кстати.
— О нет, хорошо помню, припас. Читайте на здоровье. — И в тоне его чувствовалась некая забота, как показалось Арише.
Не торопясь, с заметной бережливостью, она завернула книгу в тот же белый платочек и, молвив спасибо, пошла, провожаемая его взглядом… Слышно было, как скрипнули половицы в сенцах, потом до его слуха донесся и скоро затих звонкий хруст снега под окнами, а в избе, где постоянно припахивало сыростью и гнильцой кое-где поистлевших досок, долго витал освежающий запах фиалок.
«Как похожа она на Сузанну, — подумал он, вспоминая Крым. — Живые, красивые глаза… и сама — тоже».
Что-то хотела сказать о ней и Параня, но не решилась, припрятав до поры свои грешные мысли.
Лесовод не заставил на этот раз подогревать самовар, сам налил себе стакан чаю, и Параня, довольная тем, что не понадобилось подбавлять «дорогих угольков», села за стол — немного поодаль от квартиранта.
Глава II
Ариша Горбатова
Неглубокие пушистые сугробы, надутые первым злым зазимком, лежали всюду, блестя нежнейшей белизною. Было больно глазам смотреть на это неиссякаемое сверканье, зато приятно было слушать похрустывание морозного, возбуждающего снега под ногами.
Над лесом, близко подступившим со всех сторон к Вьясу, обманчиво сияло солнце, не согревая мир, в котором искала Ариша тепла. Минуя посеребренные березы в проулке, поникшие в кроткой красе, она взглянула на них с грустью и почему-то подумала о весне, которую поджидают они покорно, терпеливо… Но весна настанет еще не скоро!.. Череда зимних дней, унылых вьюжных вечеров будет тянуться бесконечно, — так пройдет, пожалуй, и жизнь, если всему безвольно покориться…
Наталкина изба, где временно жили Горбатовы, стояла на самом краю поселка. Позади нее, за околицей, начинался лесной склад. Два года тому назад пролегла мимо поселка железная дорога, и теперь каждый день и каждую ночь — из одной неизмеримой дали в другую даль — с неистощимой силой бегут через глухую рамень поезда, но никогда, наверно, не превратиться поселку Вьяс в благоустроенный город, привычный Арише с детства!..
У крыльца она встретила лесоруба Ванюшку Сорокина, и хотя знала, что вышел от Наталки, все же спросила:
— У нас был, Ванюша?..
— Да, забежал на часок… Купил ей обновку, иди посмотри. Если понравится, скажи Алексею Иванычу — пусть талон выпишет. Только не мешкай, а то разберут: на складе их мало.
Идя полутемными сенцами, мимо своего сундука, окованного по старинке железом, она нечаянно задела за него ногой — и, словно о камень на дороге, споткнулась.
В избе играли в жмурки: Наталка — в белой кофточке, по-домашнему без платка, — сама увлеклась игрой не меньше ребенка. Катя, с завязанными полотенцем глазами, старалась, вытянув руки, поймать «няню Нату», а та, неслышно ступая, двигалась за нею следом. Когда отворилась дверь, Катя сразу почуяла, что вошла мать, и, сбросив с глаз повязку, подбежала.
Слегка отстранив дочь, Ариша начала раздеваться, а Наталку спросила, кушала ли Катя манную кашку… Бумажный платок с кистями — новый Ванюшкин подарок — лежал на столе, и хотя был он не так уж приманчив (Арише хотелось приобрести получше, подороже), однако посмотрела на него не без зависти: с тех пор, как они поселились во Вьясе, Алексей — муж — не принес ей ни одного, даже самого дешевого подарка!
…К обеду Алексей не пришел. Ариша сидела за столом одна, а после, убирая посуду, нервничала еще больше, но уже не ждала мужа. Ближе к сумеркам Наталка в своей обновке убежала к Ванюшке в барак. Должно быть, вернется только к ночи.
Катя залезла на колени к матери, возилась, листала книгу, не давая читать, одолевала всякими вопросами, — отвечать на них было трудно и утомительно. Мимо окон прошли праздной гурьбой парни и девчата, играла гармонь, пели вольные разудалые песни, — от них Арише стало нынче не по себе — будто уходила сама молодость…
А ведь было время — и, кажется, совсем недавно, — когда Ариша не знала, что такое тоска!.. Шумный большой город, просторный, полный света Дворец культуры, где по вечерам не затихали музыка и танцы, залитая золотистыми огнями ледяная дорожка катка, на которой встретились они и вскоре подружились с Алексеем — слесарем инструментального цеха… Незаметно подкралась пора замужества. И вот, в одно весеннее утро, когда загудели на реке пароходы, а ласковый голос рядом разбудил ее, — Ариша открыла глаза… Несколько удивленная и стыдливо-счастливая, она впервые проснулась не в девичьей своей постели в отцовском доме, а в доме Алеши Горбатова. Это произошло полгода спустя, как она закончила среднюю школу.
Однажды семья Горбатовых сидела за ужином. Свекор, вагранщик, очкастый и хмурый на вид, подал Арише деревянную ложку, большой ломоть хлеба и пробубнил, двигая косматой бровью:
— Трудись — не ленись, набивай желудок. У нас, Ариша, попросту, по-рабочему, не стесняйся. И знай: никогда тебя не обидим…
А недели через три, не сказав молодым ни слова, но пошептавшись со старухой, он сходил в сберкассу и принес из магазина доху. О такой шубке Ариша мечтала и несказанно обрадовалась подарку. А свекор щупал добротный мех и, глядя поверх очков, читал наставление сыну:
— Алешка… зимнюю сряду справляй по весне: дешевле и выбор есть. Соху зимой готовят… Понял?..
— А что ты нам не сказал? — спросил сын.
— Не надо, вот и не сказал. Ради сюрприза совет не нужен. — И осторожно тыкал крючковатым пальцем в воротник дохи: — Береги, Аришка, и нас со старухой слушайся. Не будешь, пойду к свахе, к свату — нажалуюсь… Ябедник я… Плохого от нас не ждите, и сами себе плохого не делайте. И то понимать надо: жизнь у вас длинная, ума копить надо, да не ошибаться, когда в самостоятельную жизнь без нас войдете…
И ласковые, и забавные, и строгие были старики, — жить с такими легко… Через год родилась Катя, переменила всю Аришину жизнь, заняла руки делами, сердце — заботами, но и тут не было ничего трудного: одного маленького человека пестовали четверо взрослых…
Так, в этой мирной семье, с заведенным порядком, почти незаметно протекло еще пять с половиной лет. В конце зимы 1930 года пришлось, однако, покинуть город и родных стариков: по воле крайкома партии Алексея Горбатова послали в Омутнинские леса, в самый крупный и самый отсталый леспромхоз, о существовании которого он даже не помышлял!.. Довольно дальний переезд по железной дороге оказался не очень хлопотным, а новизна жизни в незнакомых глухих местах подбадривала и подкупала.
За месяц до приезда Горбатовых сюда перевели лесовода Вершинина, — именно он посоветовал им поселиться пока у Наталки. Впервые встретив Вершинина, Ариша подумала: «Гордый, сильный… какой-то загадочный… Кто он, этот новый сослуживец мужа?..» В нем показалось ей все крупным: и наружность, и голос, и взгляд, и речь — отчетливая и чистая. Имелось у него немало книг, а местная библиотека оказалась на поверку бедноватой, и Ариша, давно пристрастившаяся к чтению, не раз просила Алексея сходить к Петру Николаевичу, принести ей «что-нибудь новенькое».
Летом к нему приезжала сестра-студентка, на редкость общительная, веселая; в ее облике, в характере, в привычке одеваться, держать себя с людьми, в походке — статной и вместе легкой — было что-то напоминающее о столичном городе… Юлия, так звали сестру Вершинина, любила бродить по лесу одна, не заходя далеко в глушь, и всякий раз возвращалась одной и той же дорогой — мимо Наталкиной хаты.
Лесная живописная речка Сява текла крутыми излучинами, близко подходила к огородам, а в двух километрах отсюда снова поворачивала к Вьясу, и тут, за густыми зарослями ольховника, лежали небольшим пляжем желтые рябоватые пески — великолепное место для купанья… Иногда Ариша видела Юлию с братом: они шли обычно рядом или под ручку, как молодые, и помахивала гостья зеленой веточкой… Даже постороннему глазу была заметна большая дружба между ними… Как-то однажды выпал необыкновенно душный, парной день, томились леса от зноя, нечем было дышать. Юля позвала Аришу купаться. Был с ними и Петр Николаевич. Пока обе, раздевшись под кустами ольховника, барахтались в неглубокой Сяве, он одиноко скитался по берегу, вдали от купальщиц.
Выходя из воды первая, Ариша, смеясь от полноты чувств, сказала:
— Хватит, пожалуй. Никогда я так долго, с таким блаженством не купалась. Нырнуть бы глубже, да глубоких мест тут нет.
Едва успели одеться, Вершинин уже подходил к ним. И было всем приятнее идти обратно не дорогой, а полянками, кустами — прямиком к Вьясу. Юля беззаботно пела, а он задумчиво нес высокую голову, держась прямо, о чем-то вспоминая, или какая-то мечта заполняла его всего, — всю дорогу он не проронил ни слова, и только, когда подошли к поселку, сказал с некоторым раздумьем:
— Где бы человек ни жил, он найдет свою радость.
— Если будет искать, — подхватила Ариша, взглянув на Вершинина мельком, сбоку, словно торопилась подсказать.
— Да, конечно…
Три дня спустя, по дороге из магазина, Ариша опять встретилась с Юлей. Та сидела на свежеошкуренных бревнах, беседуя с пильщиками и что-то записывая в толстый блокнот. По-видимому, интересовалась жизнью простых людей, событиями и нравами этой «глухой сторонки», хранящей любопытные черты.
Ариша села на бревна рядом с Юлей, но как-то не о чем было поговорить. Она безразлично слушала беседу москвички с двумя пильщиками и думала о том, что, пожалуй, прав Петр Николаевич: «Где бы человек ни жил, он может быть счастлив… А если тяжело складываются условия, тогда… нужно перешагнуть их?.. Но тогда все увидят и осудят?..» Какой-то неподвижный туман лежал вокруг нее, и разглядеть что-либо определенное было невозможно.
Со смутным чувством, словно находилась в преддверии новых событий, она прожила несколько дней — томительных и долгих, но так и не смогла додумать до конца, прийти к какому-то решению…
В августе Вершинин с сестрой уехали в Крым, а накануне отъезда, перед сумерками, зашли к Горбатовым проститься. Они отказались войти в избу, и тогда Горбатовы — сперва Ариша, потом Алексей — вышли на крыльцо. Был краток этот последний, памятный Арише, разговор:
— Едемте с нами, — в шутку приглашал обоих Вершинин. — В Крыму хорошо, а путевку Алексей Иванович достанет. Отдохнем вместе.
Юля же звала настойчиво, всерьез:
— Едемте, право… с нами не будет скучно. В лесной глуши вы засиделись, наверно.
— Нет, я уже привыкла, — отвечала Ариша.
А самой мучительно хотелось уехать, и, если бы Алексей сказал: «Поезжай, я с Катей один останусь пока», она бы не раздумывал ни минуты.
Но муж рассудил иначе:
— Мы — на следующее лето, а теперь нельзя мне, работы много, — сказал он, на прощание пожимая обоим руки.
Поезд уходил в полдень, у Ариши выдалось свободное время, чтобы проводить их, — но не решалась… зато мысленно провожала их до самого побережья Черного моря! И было в этот день серо, пасмурно, низко над землею плыли облака, а ближе к ночи начался дождь.
Ненастные, нудные дожди тянулись почти неделю, перемежаясь густыми туманами, — и было беспросветно небо, безлюдна улица, сыро в промокшей избе, и отчего-то тяжело на сердце… В самом деле: у других светлее и ярче жизнь, а вот Ариша по вине близкого человека — мужа — томится в тесном чужом углу, который день ото дня становится до безнадежности унылым.
Солнце проглянуло сквозь пелену облаков и тумана, умытые, посвежевшие леса манили к себе, летняя теплынь сменилась жаркой духотою. С рассвета дотемна гомозились противные мухи, липли к лицу, к глазам, к хлебу, который некуда от них деть. Даже в лесу, куда она стала уходить чаще, ей было невмочь…
Через месяц возвратился Вершинин — один (Юля осталась в Москве) и на третий день, в воскресенье под вечер, навестил Горбатовых. Он принес Кате две большие груши да янтарную гроздь винограда, а Юля прислала с ним Арише небольшую коробочку из морских перламутровых ракушек.
Наталка ради этого случая вынесла скамейку на луговину, и так, сидя на ней, слушали Вершинина… Он рассказывал долго — о море, о знойном и шумном пляже, о беззаботных людях, о морском прибое, о горе Аю-Даг, куда он несколько раз поднимался с вечера, чтобы видеть восход солнца в самые первые минуты… «А ночи!.. незабываемые лунные ночи, когда темные, будто задумчивые кипарисы, подобные таинственным виденьям, медленно спускаются тропою к морю»…
Он говорил, иногда улыбаясь, иногда становясь немного грустным; в его знакомом красивом лице — с завышенным лбом, с серыми выразительными глазами — отчетливее проступали сквозь ровный, глубокий загар, какие-то новые черты и довольство самим собою. Только в глазах приметна вдруг стала Арише некая тень тревоги.
— Не влюбились ли там, на юге? — спросила она, заглянув мельком ему в лицо.
— Гм… нет. Это с некоторыми случалось, но прошло мимо меня. Я — уцелел, — едва ли искренне ответил Вершинин. И увидел: статные ноги Ариши покусаны комарами. Она быстро прикрыла их.
— Одним хоть крылышком, наверное, зацепило? — не совсем поверил ему Алексей. — Ну, а теперь ты отдохнул, поправился, надо впрягаться в работу. Сотин — приятель твой — весь месяц два воза вез: и за себя, и за тебя работал. Ему досталось… А зима у нас труднее лета во много раз.
— Да, эта зима будет решающая, — в тон ему сказал Вершинин общей фразой.
Когда уходил он, Арише стало немножко жаль, что не побыл у них подольше…
С того дня минуло ровно три месяца, кругом лежала зима, — но до сих пор помнит Ариша вершининский рассказ о Крыме…
Шаги, раздавшиеся в сенях, отвлекли ее от нахлынувших дум. Отложив книгу в сторону, Ариша привстала с дивана. Вошел Алексей, чем-то озабоченный и даже мрачный, за ним — директор Бережнов. Оба принялись отряхивать снег у порога.
Минуты две спустя заявился лесоруб Семен Коробов — в новом дубленом полушубке, — кислый запах овчины сразу заполнил избу; тут же возобновился, очевидно, незаконченный разговор в конторе или по пути — о конном обозе, о планах вывозки древесины из глубинных делянок, о кузнице, о дровах, — и почему-то горячился больше всех Алексей, хотя особой причины к тому Ариша не находила. Она стала украдкой наблюдать за ним: он сидел на стуле, облокотившись на стол, неловко подавшись вперед, и когда слушал Бережнова, то поднимал брови, морщил лоб, отчего лицо его казалось усталым, постаревшим… Перебив речь Семена Коробова как-то не вовремя, он повернулся к Арише и сказал, что пора Катю уложить спать: будто мать не знает или забыла, когда укладывать ребенка… Затянувшаяся беседа раздражала ее и вызывала утомление.
Она задернула ситцевую занавеску, которой была отгорожена их кровать от Наталкиной, и, чтобы не слушать больше и без того надоевших речей, прилегла на постель, закрыв голову пуховым платком.
Глава III
Холодное утро
Ариша проснулась, когда сквозь окно, оцинкованное морозом, густо сочился голубой рассвет. На сером кругу висячей лампы прояснялась аляповатая роза, медью отливала на подтопке отдушина. Голое плечо зябло, и Ариша, опять укрывшись одеялом, старалась не вспоминать вчерашней размолвки с мужем, когда ушли Бережнов и Коробов.
Рядом спал Алексей, — чуть приоткрытый рот, тонкие ноздри, узкие щеки и гладкий лоб казались в сумраке утра неестественно бледными.
«Как убитый», — неожиданно подумалось ей, и сама крайне поразилась этой странной схожести, никогда не приходившей в голову. Она не была суеверной, но сегодня в этом случайном сходстве с убитым почудилось вещее значение. Тронув мужа рукою, она побудила его, Алексей не шевельнулся. Тогда спросила, не называя его по имени:
— Неужели до сих пор ты можешь спать?
Он открыл глаза, по голосу ее понял, что вчерашнее продолжается, и ответил не сразу:
— Да… Что ж тут удивительного?.. Устал и сплю. Для этого ночь. И вставать еще рано. — Он повернулся к ней спиною, затих.
Пока светало, Ариша передумала о многом: о своей жизни, которая, очевидно, заходила в тупик, и не видать дороги в будущее, да и прежняя терялась где-то в тумане. Думала о Кате, о Юльке… Злая досада копилась в ней против мужа, хотя ни разу Ариша не задала себе вопрос: что же, собственно, происходит в ее душе? Ей всего больнее было, что муж все тяготы жизни, все хлопоты снял с себя, переложил на ее плечи, не интересуясь, посильно ли для нее это, а себе оставил только службу!.. И хуже всего, что такое положение установилось давно, как-то само собою, постепенно, с тех пор, как они поселились во Вьясе.
Другие живут не так, у них все иначе… Вон Сотины: у них двое детей, без Ефрема Герасимыча ничто в семье не происходит, он — всему хозяин, делит с женой работу пополам; он знает, чего не хватает в семье, как и что надо сделать, и ничто ему не безразлично. Алексей же даже не знает, что и где приобретается, даже в магазин никогда не сходит!.. И само будущее не беспокоит его…
В поездку будущим летом на юг ей не верилось: он только обещает, но ничего не предпримет заблаговременно, доведет до последнего дня, а сам забудет или сошлется на то, что уже поздно! И будет откладывать без конца… Не следует ли ей предпринять что-то самой, чтобы как-то переменить эту неясную дорогу?.. Она могла бы с Катей уехать на неделю, на две к матери… но зачем? что там делать? где жить?.. Отец умер три года тому назад. Мать, посидев во вдовах четырнадцать месяцев, вышла за другого… Там, в городе, живет брат — счетовод, с большой семьей, — и конечно, ему вовсе не до Ариши. Ехать к родителям мужа ей не хотелось…
— Ты чего вздыхаешь? — вдруг спросил Алексей негромко, чтобы не разбудить Катю. Ариша не ответила. — Давно не спишь? Всю ночь, что ли?..
— Давно не сплю, — ответила она холодно, с упреком. — Я удивляюсь: как ты спокойно спишь!.. Ни о чем не думать — странно.
Он повернулся к ней лицом и, убирая прядку ее темных волос, лежавшую над самой бровью, сказал так, чтобы избежать ссоры:
— Я спокоен потому, что не думаю… ни о курортах, ни о переводе… Мне хорошо и здесь: у меня интересная работа, интересная жена, есть дочка. Чего же мне надо еще? — Он привлек Аришу к себе, но она капризно и резко отстранилась: — Чем недовольна ты?
— А чем мне быть довольной? — придирчивый тон ее озадачил его. — У тебя есть право хлопотать о переводе в город… Техник вон уже уехал с семьей и ни дня не был в городе без работы. А чем он лучше?
— Какое право?.. Твое желание?
— А разве это не причина?
— Да, ничуть не причина. И как ты до сих пор не понимаешь: я не имею права хлопотать! Меня послали на прорыв. Бережнова и Вершинина — тоже. Строим бараки, два дома, еще не успели наладить хозяйства, а оно, вон какое: на восемьдесят километров в глубь Омутной — все наш лес! А людей сколько!.. Надо ставить две лесопильные рамы, переносить ставёж, строить новую лежневую дорогу, намечен переход на бригадный метод работы… Какая цена мне как партийному руководителю, если я в такое ответственное время приду в райком с заявлением?.. С какими глазами я войду туда?..
— С такими, как другие люди.
— За кого ты меня считаешь!.. Ведь прошлый раз обо всем, кажется, договорились, а теперь — опять за старое?.. И не надоест тебе ныть… Не успели встать, как началась «трудовая зарядка» на день. Не умеешь ты жить спокойно, без драм… Ну, скажи, чего тебе не хватает? Чего ты хочешь?
— Ничего не хочу, — ответила она, отворачиваясь, а голос был на редкость требователен и капризен до боли, до злобы.
Полог над Катиной кроваткой зашевелился, потом постепенно замер. Сквозь тишину угадывалось определенное намерение ребенка — подслушать.
— Не сидеть же мне около тебя, не отходя ни на шаг. Это было бы дико… Сама знаешь — у меня работа.
— И мне дико… Надоело все — и мыши, и стужа… Ты уткнулся головой в свои дела и ничего другого не хочешь знать. Сколько раз ни начинала говорить — ни к чему не приходим.
— Ну, устраивайся на работу, — я предлагал ведь?.. Для Кати найдем няньку. Или матери моей напишем… может быть, приедет… Ведь иного выхода нет?
— Няньку содержать очень дорого, а бабушка едва ли согласится. А самое главное — жить негде. Пойми, ведь в яме живем… даже днем крысы бегают!
— Потерпеть надо. Отстроим щитковый дом — туда переедем, и все устроится по-хорошему.
— Я жить хочу, а не терпеть! — вырвалось у ней. — Вы планируете все, креме личной жизни. На нее наплевать вам.
— Наталка вон не жалуется, а уж который год живет в этой хате.
— У нее другие запросы, мне она — не пример.
— Вон что!.. Договорилась до точки, до бессмыслицы. Ты сперва приглядись к ней хорошенько, тогда поймешь: к жизни она приспособленная, стоит на ногах прочно, ныть — не ноет, Ванюшку она любит, на работе песни поет… Научись жить, как она живет, не забывайся. Кабы ты у меня была такая же, как Наталка, и работа моя была бы легче…
— Ну что ж… разведись, — почти подстрекая, молвила Ариша с горечью, готовая уличить его почти в измене.
— И дождешься! — не стерпев, вскипел Алексей. — Говорить с тобой — как воду толочь.
Наталка принесла в избу охапку дров, легонько опустила у печки на пол, а увидав, что уже не спят, звонким голосом спросила, снимая шубу:
— Проснулись?.. На улице — день белый, а вы все еще лежите.
— День, да неудачный, — ответил Алексей. — Уже спорим.
— О чем это?
— Все о том же: что было и давно прошло. Одна и та же песня.
— Полноте-ка… Зачем себе жизнь портить? Живите дружнее.
Вдруг скрипнула кровать, радостно вздрогнул полог и оттуда высунулась повеселевшая Катина рожица.
— Катя, иди мири отца с матерью! — крикнула Наталка.
Катя словно ждала этого, заторопилась, скатилась с кровати и, съежившись от холода, протопала по полу босиком. Она стиснулась между отцом и матерью и затеялась, потом, припав ртом к самому уху отца, таинственно зашептала:
— Папка, не ругай мамулю.
— Я не ругаю.
— А почему же вы? — И тронула за подбородок мать. — А ты, мамуля, за что его?
— Так… тяжело мне, — призналась Ариша.
Катя недолго молчала, обдумывая, как быть дальше, и принялась поучать родителей, следуя советам «няни Наты»:
— А вы дружнее, а ты, мам, не плачь.
— Я не плачу.
— Папка уедет, я с тобой останусь, — продолжал мировой посредник. — Будем с тобой играть в «дочки-матери». А папка привезет нам еловых шишек. — И добиралась ясными глазами до самого сердца: — Привезешь, да?
— Привезу, — улыбнулся отец, покоренный ее трогательным вмешательством.
— Много? Полон карман?
— Полон.
Катя смекнула, что один уже сдался, и снова принялась за мать:
— Не сердись, он уж вон смеется, погляди.
А Наталка подбадривала:
— Так их, так… Ишь они два сапога пара — им надо вместе идти, а они врозь: один — туда, другой — сюда. В каждом деле добрый мир лучше…
Торжественное примирение состоялось.
Ариша долго расчесывала густую темную косу, — на розовом гребешке остался комок спутанных волос, и она с пристальным вниманием посмотрела на себя в зеркало: оттуда, из глубины отполированного стекла, приблизилось к ней молодое скучающее лицо с рассеянным, немного запавшим взглядом. Она подошла к окну, отдернула занавеску — и в старенькой, отсыревшей от морозов избе стало оттого немного посветлее: в морозном мглистом небе багрово разгоралось солнце.
Она спросила мужа: когда он едет на ставёж? надолго ли? И посоветовала взять с собой хлеба, чтобы там ни у кого не одолжаться… Во время завтрака и после, когда Алексей собирался в дорогу, она не испытывала раскаяния, не очень винила и мужа, считая, что он кое в чем, может, и прав, но ни на минуту не переставала чувствовать на дне сердца лед, не растаявший в тепле примирения.
Глава IV
Мужицкая душа
Директор Бережнов и главный лесовод Вершинин вышли в обход владений. На лесном складе — в три километра в окружности — сплошной затор: высокие бунты бревен, штабеля теса, свежеотесанных шпал, пиловочника, рудничной стойки, авиапонтона. Вся эта, присыпанная снегом, мерзлая древесина холмисто дыбилась вокруг главного здания конторы, на котором реял красный, полинявший, избитый дождями и ветром флаг. Искрилось ясное морозное утро. Цельсий за окном конторы показывал минус двадцать два, но всюду в этих открытых «зеленых цехах» работали люди — на нынешний день их было более трехсот: бригада омутнинских плотников разделывает бревна, варишане стругают пиленые доски для щиткового дома, зюздинцы тешут египетскую балку, три артели кудёмовских мастеров хлопочут над английской шпалой, французским столбом, бельгийской рудничной стойкой, — к заказам иностранных держав здесь особые требования и более краткие сроки. Белохолуницкие дранщики заготовляют сосновую з
аболонь, левее и дальше от них на синей декорации неба качаются пильщики. Сквозь редкие сосны проступает оснастка двухэтажного жилого дома и длинного барака-столовой, — там тоже видны люди.
А из глубинных делянок, по ледяной дороге вереницей ползут сюда тяжело нагруженные американские сани, таврические хода; пологим изгибом ледянка подходит к железнодорожным путям, где шумные артели вкатывают на платформы товарный, отработанный лес. У самого полотна дороги женщины ошкуривают двухметровую тюльку, — и среди них Наталка, румяная от мороза и ветра.
— Эй! Зайдите к нам! — зовет она издали, завидев начальников. — Вчера полторы нормы сделали… Вот взгляните… Не забракуете?..
Оба осмотрели тюльку, но браковать оказалось нечего. Бережнов и Вершинин продолжали свой путь.
— И все-таки у нас за полмесяца — шестьдесят процентов плана! — сказал Бережнов. — И дело не только в том, что мало людей, что вагоны подают нам с запозданием… Из девяти тысяч кубометров дров для электростанции мы отправили только шесть, бумажная фабрика торопит с отправкой баланса… Надо разворачиваться побыстрее, Петр Николаевич, — отстаем!.. А ведь к концу месяца мы должны закончить предварительную сортировку людей, переход на бригадный метод затягивается.
Он поручил Вершинину набрать из артелей одну новую бригаду для погрузки дров, вторую — для баланса, а потом — выехать в Большую Ольховку.
— Я не смогу, — ответил лесовод. — Иностранные заказы требуют постоянного наблюдения; кроме того, неудобно
оставлять строительство без присмотра. Не лучше ли послать Ефрема Герасимыча Сотина? Он ведь у нас специалист по механизации и заготовкам. Он будет там на своем месте.
Бережков подумал и согласился, но прибавил к прежним еще одно задание:
— Тогда вот что: если остаетесь здесь, подстегните кузницу… Семь таврических ходов лежат неокованными, а их надо срочно пустить по лежневой.
Невыполненный наряд на авиапонтоны беспокоил Бережнова больше всего, и он настойчиво потребовал от своего помощника «зачистить долг». А Вершинин напомнил, что с краснораменской лесопилки, находящейся в двадцати километрах отсюда, совсем не поступает половой тес.
— Туда поедет Горбатов, — ответил Бережнов, — поставит новые рамы, а заодно уж завернет в Зюздино — устранит путаницу с договорами. Это займет у него недели полторы. За это время надо по всем участкам провести беседы, а когда Горбатов и Сотин вернутся, созовем общее собрание.
Поездки по лесоучасткам были обычным явлением, но этот отъезд Горбатова из дома, на полторы недели, приобретал особое значение, в чем не сознался бы Вершинин даже сам себе.
В воротах конного двора, к которому они приближались, показался низенький, тщедушный мужичок в засаленном коротком шубнячке, воротник и шапка были посыпаны сенной трухой. Это был Якуб — заведующий транспортом. Он повел их между пустых стойл.
Каждое утро, как только возчики разбирали рабочих лошадей, Якуб с двумя конюхами принимался за очистку. Сам выпросивший у директора эту должность, он обещал привести лошадей и конюшни в порядок… Во всех колодах было чисто, объедки убраны, навоз вывезен на указанное место, на земляном полу настлана солома, в проходах выметено, лишняя сбруя висела на столбах. И так было во всех трех конных дворах, вмещавших по сорок лошадей каждый… В конце ближней к поселку конюшни, ближе к тамбуру, стояли выездные жеребцы… Бережнов почмокал губами, на его зов из первого стойла потянулась небольшая морда с широко раздутыми ноздрями, с серой, точно замшевой, трепетной губой. В темных, дымчатых глазах Орленка светились красные злые огни. Серый, в яблоках, плотный и сильный конь, высоко поднимая переднюю ногу, бил в землю копытом, сгибая лоснящуюся шею.
— Люблю красивых коней, — произнес Бережнов и протянул руку, чтобы погладить.
— Осторожней, Авдей Степаныч… Укусит, — предупредил Якуб. — Он вчера такой номер выкинул, что я диву дался!.. В тамбуре починяю седелку и не слышу, а он стащил с себя уздечку, носом отодвинул засов, подкрался сзади — да цап с меня шапку! — и унес. Я — ловить, он не дается: по конюшне из конца в конец носился как бешеный… Насилу я перехитрил его, стервеца. Дьявол, а не лошадь! — И Якуб кулаком погрозил своему питомцу, которым явно гордился.
Мимо стойла проходил Вершинин боком, опасливо поглядывая на задние копыта Орленка, который полтора года назад насмерть убил молодого конюха Мишаньку, Наталкиного мужа. В соседних стойлах хрупали сено и зло отфыркивались Тибет, Звон и Беркут; — молодые породистые, разномастные жеребцы. Бережнов, правой рукой придерживал за недоуздок, а левой поглаживал, похлопывал по очереди каждого, — и под рукой его вздрагивала чуткая, упругая тонкая кожа, вычищенная до блеска.
Выходя из последней конюшни, Бережнов говорил лесоводу:
— С переходом на бригадный метод предстоит уйма дел. Соревнование с низов начинается… Петр Николаевич, читал «Письмо углежогов» в газете?..
— Филиппа с Кузьмой?.. Читал, как же. — И Вершинин повернулся спиной к Бережнову — должно быть, смотрел на срубы нового барака, куда плотники вкатывали тяжелое бревно, обструганное добела. — Горбатов был недавно на знойках?
— Кажется, был. А что?
— Так, к слову.
Они подходили к конторе, и Бережнов запросто подталкивал главного лесовода под локоть:
— А углежоги-то наши молодцы, право… Пример артелям. Да и молодым нос утерли!
Для него письмо старых углежогов — важный документ, знак новой эпохи; старики почувствовали себя молодыми, сильными, вызвали на соревнование углежогов всего края; хотят помочь делу и увеличить свой заработок. Следовало подхватить этот ценный почин, и Бережнов уже с вечера обдумывал статью в краевую газету, чтобы попутно поднять целый ряд вопросов лесного хозяйствования.
— Не особенно интересно писать, — ответил на это лесовод. — Дадут десять — пятнадцать строк, — что в них скажешь!..
— Что ты, Петр Николаевич… для нас дорога каждая строчка, а пропахать тему поглубже, рассказать поживее, — напечатают, и будет хороший резонанс.
В конторе их поджидал знакомый посетитель — пожилой коневозчик, с лохматой, рыжей, как глина, бородой. Он сидел на диване почти рядом с девушкой секретаршей и немилосердно дымил махоркой.
— А-а, Самоквасов!.. Ну как? Лошадь купил?
— Купил, Авдей Степанович, купил… да еще какую!.. Гнедая, молоденькая, — ну прямо красавица! Спасибо вам, что поддержали. Теперь я денежку зарабо-о-таю!..
Самоквасов — житель Малой Ольховки, с год ходил лесорубом в артели Семена Коробова (сынишка его и сейчас там), но, работая на казенной лошади, затосковал по своей; его выручили, дали ссуду.
— Баба — справная такая, бойкая — никак уступить не согласна, — продолжал Самоквасов, поглаживая бороду. — Я и так, и сяк — не дается тебе и шабаш. «Хошь, говорит, вот так — бери». Часа четыре торговался с ней, уламывал всяко. Нехотя скостила полчервонца. Под конец уломал ее все-таки, — и теперь не нарадуюсь.
Директор и лесовод незаметно переглядывались между собою.
— Ты вот что… — Бережнов заговорил уже серьезно, — ставь гнедуху-то к нам, в обоз.
— Это как то есть? — поперхнулся мужик от неожиданности, изумленно вытаращив глаза.
— А вот как: впишем твою «красавицу» в обоз, тебя переведем в штат, с месячным окладом, оговорим срок. Истечет он — забирай лошадь и ступай. А если понравится — оставайся дальше.
— А если я испорчу ее на работе — тогда как?
— Дадим казенную. На ней будешь возить.
Директора поддержал Вершинин, до того молча наблюдавший за мужиком, но не убедил и он. Самоквасов упирался, несмотря на явную выгодность предложения, и Вершинину со стороны казалось, будто загоняют они в хлев упрямого быка.
Или жаль было ему отдавать гнедуху, которой хотел бесконтрольно владеть, как собственностью, или подумал, что начальники хотят таким манером вернуть обратно деньги, или просто объял его слепой страх: затаскивают куда-то — значит не ходи, — мужик растерялся, а когда Бережнов, помедлив малость, пока тот раздумывал, тяжело переминаясь с ноги на ногу, принялся убеждать снова, подыскивая более убедительные слова, — Самоквасов рассвирепел, задергал головой, захлопал по бедрам. Обороняясь всяко, он перешел к нападению, не замечая этого сам. У него на висках вздулись синие жилы, из глотки вырывался хрип, точно его душил кашель. Наверно, таков же был он, когда грызся с соседом из-за отпаханной борозды в поле.
— Что тебе, Авдей Степаныч, никак не втолкуешь! — запальчиво кричал он и совал огромным кулаком чуть не в грудь Бережнову. — Нельзя в таком разе прижим мужику делать. Мужик без лошади — погибель всему миру!.. Чего смеешься? Верно говорю. Мужику свобода нужна и опять же лошадь. Уж на что лучше, ежели собственная животинка имеется. Она мужику — и хлеб, и одежа, и обужа, и удовольствие. Сам ты мужиком был, дол ж он сочувствовать… Эх, вы, человеки-люди! — Он уже пошел к двери, но остановился опять, чтобы сказать последнее: — Прошлой зимой тянули, тянули меня в колхоз, — не шел, никак не шел. А почему? Из-за лошади не шел… А когда продал, распростался — вошел тут же… То бишь, не самовольно я продал ее, а дозволили…
— Проговорился? — поймал его насторожившийся директор. — Лошадей не дозволяли продавать, врешь ты… Тайком, наверно, свел да продал, чтобы в колхоз не отдавать?
— Ну, все-таки жил-то я не помимо колхоза, — вильнул припертый к стене мужик. — Мне что — дело прошлое. Я, как было, говорю. Почуял себя безлошадником — и влился. Вот уж пять месяцев в колхозе состою, а выгоды себе не вижу. Впору хоть опять… — и осекся, сообразив, что наговорил лишнего.
— Ты же не работал в колхозе, — в упор глянул на него Бережнов. — Поработать надо, да хорошенько, тогда и выгода будет.
— Нет вот, — и Самоквасов развел руками. — Со стороны-то оно эдак… Ну, я не про то. Я насчет лошади. За ссуду тебе, Авдей Степаныч, спасибо, ну только гнедуху мою не тронь. На ней я работаю, как умею и как хочу. В обоз ее не пущу, на казенное жалованье не встану. Я поденно буду.
— Посмотрим, — заметил Вершинин не без угрозы. — Не знали мы, что ты такой. Если рвачом будешь — не уживемся с тобой. — И повернулся к Бережнову: — Не напрасно ли, Авдей Степанович, ссуду-то дали?..
— «Напрасно»! — передразнил его Самоквасов, скривив рот. — Молчал бы! Рабочему человеку помочь, по-твоему, не надо?.. Ученый ты, а чудак. Вот тебе что скажу по-приятельски: чудак ты, а ученый… Мужицкой души не знаешь, а хлебушко-то, небось, ешь кажинный день?.. То-то!
— Ты из-за чего раскричался? — мрачно спросил Бережнов. — Не хочешь идти в штат — работай сезонно. Насильно никто не тащит. Если будешь честно, плохого тебе не скажут… А «мужицкие души» разные: одна огоньком горит да светится, другая — как зола холодная, а третья — чернее сажи, а четвертая — дымит да чадит… Посмотрим, у тебя какая…
Только после этих слов, подействовавших как успокоительное средство, Самоквасов опомнился, присмирел.
— Ладно, — вздохнул он, желая кончить миром. — Семь раз, слышь, померяй, а один отрежь. Подумаю, с бабой посоветуюсь; может, и в штат войду. А уж если опять нужда пристигнет — не откажи, Авдей Степаныч. — И, сняв шапку, низко, неуклюже поклонился.
Когда он вышел, притворив за собой дверь, Бережнов покачал головой:
— Вот это номер! Урок нам на будущее: поближе узнавать людей…
Бережнов глянул в окно. Улицей, взрывая снег копытом, мчал молодой жеребчик Звон, впряженный в легкие сани. Алексей Горбатов, одетый в бурый чапан, сидел на сене, привалившись к спинке глубоких саней и загородив от ветра лицо.
Бережнов вышел на крыльцо и окликнул Горбатова. Извозчик завернул к конторе.
— Алексей Иваныч, — сказал Авдей. — На лесопилке подстегни ребят — чтобы при тебе же ставили раму. Опробуй сам, а то не пришлось бы опять туда ехать. А наладишь — загляни в Зюздино. — Он крепко пожал ему руку: — Ну, пожелаю. Проверь там все.
Нетерпеливый Звон рванулся с места, пошел ходкой рысью, вытянувшись могучим телом, — под копытами его взрывался снег.
Глава V
Пронька Жиган и Платон Сажин
Нередко по вечерам Параня уходила к соседке Лукерье на посиденки и до позднего засиживалась у своей горбатой подружки. Вздыхая, дивясь и осуждая, они говорили о жизни, о пайках, о ценах, о том о сем, а больше всего о судьбах человечества, потому что болели за него душой.
Вершинин не сетовал на одиночество и, не замечая, как текло время, читал долго, часто до полуночи. Иногда, разминаясь, шагал из угла в угол, останавливался у книжных полок, с удовольствием разглядывая добротные корешки и золотом тиснутые переплеты. Он любил думать о судьбах людей, известных в мире, но уже ушедших с земного поприща…
В избу ввалились два лесоруба. Вершинин поднялся от стола, унял заурчавшего Бурана, оглядел неурочных посетителей: это были Пронька Жиган и Платон Сажин — лесорубы из артели Семена Коробова.
Жиган — низенького роста парень, лет двадцати четырех, кряжистый, широкоплечий; ноги — ухватом, ресницы жиденькие, белые, как у поросенка. Наверно, для большего форсу носил он зимою бобриковую кепку.
Платон Сажин был гораздо старше и являл собою полную противоположность Проньке: высоченного роста, худой, длиннорукий, с реденькой, словно выщипанной бородой; одежонка на нем потрепанная и не по росту: пиджак расползался, из швов вылезала вата, узкие карманы разорваны. Только заячья шапка с длинными ушами, сшитая Параней, надежно прикрывала его голову от всякой непогоды.
— В чем дело? — спросил лесовод.
— Да вот в чем, — начал Жиган, — все попадаются нам плохие делянки: дерево мелкое, подтоварник… Зарабатываем, Петр Николаич, мало. Отведи нам лесосеку подоходнее.
— Вас прислала артель?
— Ежели принять во внимание общее положение и поскольку я, к примеру, получаю, то, значит, вся артель и плюс Семен Коробов — старшой наш. — Пронькина речь была витиеватой, с претензией на высокую грамотность.
Лесовод задумчиво курил папиросу.
С Сажиным вдруг случилось что-то: засуетился, схватился за карманы, обшарил их изнутри, снаружи и вдруг плюнул в сторону.
— Ты что? — оглянулся на него Пронька.
— Там оставил, в бараке, рубль… Ах, растяпа! — Платон тоскливо мотал головой. — Сопрут, обязательно сопрут — и не скажут. Теперича концов не найдешь, — бежать надо.
Он выскочил из избы, согнувшись под притолокой и хлопнув сильно дверью. Вслед за ним бросилась из-под стола зарычавшая собака, но Вершинин остановил ее. На откровенную усмешку лесовода Пронька Жиган с превосходством заметил, кивнув на дверь:
— Чудак он у нас. К тому же в голове безграмотность, и жадность заела, — из-за этого костюм содержит в нищенском состоянии.
— А дай ему триста-пятьсот рублей — приоденется, и не узнаешь, — усмехнулся Вершинин, не веря, однако, что подобное преображение наступит.
— Еще бы, — охотно подхватил Жиган. — Деньги — сила… Некоторые — и таких не мало — в деньгах не чают души. Примерно, тот же Платон: дай ему тыщу аль две, задохнется от радости и скажет: «Нет ли еще?..»
Пронька Жиган помолчал, оглядел стены, книжные полки, продолжая стоять у порога, потом начал нерешительно издалека:
— Вы, Петр Николаич, человек знающий, ученый… Хочу спросить об одном дельце, зараз уж. Впрочем, пустяки все — не стоит, пожалуй, и спрашивать… В бараках у нас с воскресенья разговоры-слухи идут, а разобраться, что к чему, не умеем: разум у нас в темноту закован. — Он переминался с ноги на ногу, спрятав руки за спину, а лесовод стоял напротив него и сверху вниз выжидательно глядел ему в лицо. — Я к тому это: как, мол, теперь быть рабочему классу, то есть нам, ежели, к примеру, директор или другой кто, повыше его, силком повернет дело к высокой выработке? Непривычны мы вперегонышки играть. Пилим, как умеем, как сила берет, а кое-кому не нравятся такие темпы, против артелей началась война — за бригаду ратуют. А что делать, когда каждый сам по себе живет и свой интерес имеет? Вон Сажин… и пилу-то держать не умеет, много ли с него спросишь, ежели он, можно сказать, вчера только из деревни пришел и с точки зрения пролетария на общественное дело не смотрит.
— Ты о чем спрашиваешь-то? — остановил его Вершинин.
— А вот о чем… Мы стараемся, ежели принять во внимание другие артели, но все-таки Бережнов недоволен: позавчера Коробову Семену обидное замечание сделал, как нашему старшому. Дыма без огня не бывает. Вот некоторые и сомневаются. Вдруг нам скажут: «Сгибайся ниже, пили расторопнее, с утра до темна ликвидируй прорыв, а насчет расценок не заикайся, прибавки не спрашивай…» Я так полагаю: если заставят помогать общему делу даром — рабочие обидятся.
Вершинин сделал резкое, нетерпеливое движение рукой и даже поморщился:
— Сплетни это. Пустые, вредные разговоры. Болтают много, да мало работают. Торчат в делянке целый день, а проверишь выработку — пять-шесть кубометров. Стыд ведь, в самом деле!.. Рыхлый у нас рабочий день, — сжимать надо. Бережнов прав.
— Это правильно, — соглашался Пронька, — только… начнут день сжимать, как бы самого-то человека не прижали по забывчивости или по ошибке. А от этой жесткости может получиться среди рабочих раскол, ослабление дисциплины, упадок выработки и прочее… Так как — деляночку-то? — собираясь уходить, спросил он. — Дадите или откажете?
— А почему до сих пор ваша артель на бригадное положение не переходит? Чего ждете?
— Да как вам сказать… Все думаем да советуемся, как лучше, как поспособнее… С такими, как Платон, повозишься…
Вершинин дал обещание перевести артель Коробова в делянку хорошего товарного леса, как только закончат прежнюю, а выпроводив парня, подумал не без осуждения: «Вот она, хваленая артель».
…Платон Сажин спешил обратно. У лесного склада он почти налетел на Проньку, шедшего по улице поселка.
— Кончили уж? Запоздал я? Опять неудача… Тьфу!
— Да ты что нынче разб
егался? — нешибко толкнул его Пронька в грудь, не ответив на вопрос. — Очумел совсем.
Тот огрызнулся сердито:
— Побегаешь тут, коли…
— Коли что? — насмешливо спросил Пронька, угадывая, что пропажа нашлась.
— Ничего. Кровную денежку жаль ведь.
— Ты нашел же?
— Понимаешь, в кармане застряла… Узкий он у меня, глубокий… Ну, и того… Я так и знал… — Сажин передохнул и еще раз ощупал карман. — Как Вершинин-то, не согласился?
— Насилу уломал я его. Заартачился было, интеллигентная кость, а потом согнулся.
— Ну слава богу, теперь отдышимся. — И Платон взглянул на Проньку благодарными глазами: — Кабы не ты, Прокофий, не видать бы нам хорошей делянки.
Глава VI
Чужие и свои раны
Боковая комната конторы, отгороженная дощатыми переборками, глядела итальянским окном на восток. Тускло пестрели на стенах плакаты, диаграммы, графики; в углах еще было темно — ночь уходила неторопливо. Круглые стенные часы пробили восемь, а лесовод Ефрем Герасимович Сотин уже был в конторе.
В окно виднелась кривая широкая улица Вьяса, кое-где высились на ней, между изб в проулках, одинокие старые, заиндевелые сосны. Над темными лесами дрожал на востоке ярко-розовый полог небес. Проснувшийся поселок дымил, дымилась неподалеку деревня Вариха, белые пушистые столбики дыма из труб прямо тянулись вверх.
Мимо конторы шла небольшая ватажка школьников с сумками, поталкивая друг друга с дороги. Заметив их в окно, Сотин провожал взглядом, пока не повернули в проулок, и опять склонился над бумагами. Документов на подотчетные израсходованные суммы скопилось к этому дню много, и следовало перед отъездом сдать их бухгалтеру. Потом разыскал рабочий чертеж Ольховской эстакады, сделанный Вершининым.
Погрузочную эстакаду намечали построить еще летом, врыли там и столбы, но пришлось отложить до зимы. Сотин мог теперь воспользоваться готовым чертежом, чтобы не тратить бесполезно времени. Желтую маслянистую кальку он рассматривал долго, проверял размеры, — и тут обнаружилась небольшая, очевидно случайная, ошибка в расчетах: высота эстакады оказывалась больше высоты колеса телеги на десять сантиметров, — стало быть, при навалке бревен неминуем сильный удар, отчего оси телег могут ломаться.
«Не внести ли поправку? — раздумывал Сотин. — Впрочем, запас нужен для того, чтобы бревном не задевали обод колеса. Там, на месте, прикину, как лучше». — И кальку положил в портфель.
Стали собираться сотрудники, Петр Николаевич Вершинин появился ровно в девять; был он сегодня вымыт и свеж, словно только из бани и парикмахерской.
— Ты — уже, Ефрем Герасимыч? — спросил он, по-приятельски пожимая руку Сотину.
— Да, завтра выезжаю на ставеж.
— Ну что ж, добрый путь. Там, в папке, чертеж мой, — возьми, если нужен. Заодно уж обе Ольховки обследуешь?
— Придется… Дней на десяток делов. — Рябое лицо его с родинкой над левой бровью было озабоченным, усталым; почти больным казался нынче этот, обычно энергичный Сотин.
— Как твой Игорь? — помолчав, спросил Вершинин.
— Плохо: не спит, не ест. Глотать нельзя, — похоже, дифтерит. Нужно везти в Кудёму. И еще беда: дома остаться некому. Попросить Параню? Может, не откажется?
— Конечно, — согласился Вершинин. — Да ведь в Ольховке и на ставеже не горит, можно тебе съездить туда и после. — Он, однако, умолчал о том, что сам посоветовал Бережнову послать туда именно Сотина. — Я мог бы с удовольствием выручить тебя, но мне Авдей Степаныч надавал много срочных дел…
Разговор был прерван: в комнату входили посетители, а вскоре заявился и Самоквасов, не забывший «должок» за Сотиным: позавчера, в разговоре, Сотин обмолвился при нем, что на днях надо кого-то из коневозчиков посылать в Омутную за керосином. И вдруг Самоквасову пришло в голову, что именно его, а не кого-либо другого, должны послать в Омутную. Стоило Сотину больших трудов доказать мужику, что речь шла вовсе не о нем и что человек — другой возчик — уже послан…
Невидимый в потемках, мельтешил сухой острый снежок, когда Вершинин возвращался из конторы. Кольцо темных лесов вокруг Вьяса придвинулось ближе. В синеющем тумане грудились лесные заторы вдоль железной дороги. Только что ушел со станции товарный поезд, и частый, гулкий перестук колес замирал вдали. И вот, минутой позже, опять наступила чуткая лесная тишина.
Обычно он уходил из конторы вскоре после шести, но сегодня Бережнов задержал его, — и было почему-то немного жаль, что запаздывает… Дорогой, навстречу ему, шла женщина. Он узнал ее, вернее, угадал издали… Да, это была она, — неторопливой плавной походкой, в длинной дохе, Ариша шла от Парани, держа в руке белый меховой малахайчик. В улице было безлюдно, в домах лишь кое-где зажигались огни.
— Вы были у меня? — начал он шуткой, пожав ей руку.
— О нет, не у вас. Я ходила вот за этим… Видите?…
— Да, хорошая, теплая шапочка. — И, нагнувшись, посмотрел Арише в глаза, стараясь прочитать ответную улыбку. — А ко мне когда?
— Зачем? — В ее мягком и оробелом голосе сквозило недоумение. — Это — совсем не нужно ни мне, ни вам, — запомните. И было бы странно, безрассудно, если бы вы… ждали меня…
— Да, я ждал, — сказал он прямо. — И очень жаль, что дела задержали меня сегодня… Вот не застал вас у себя дома.
С недоверием и боязнью она покачала головой. Ей хотелось сказать, что Петр Николаевич позволяет себе лишнее, что он, если осмелился говорить так, стало быть, не уважает ее. И уж совсем не думает о последствиях, какие могут непременно произойти. Ведь она никакого повода не давала ему, чтобы так думать и поступать. Ничего не сказала Ариша, но и не торопилась уйти от опасности, которую сама сознавала. Это двойственное чувство не трудно было понять Вершинину.
— Алексей Иванович уезжает… почти на две недели? — не то спрашивал, не то сообщал Вершинин.
— Не знаю. Может быть. У всех у вас такая работа: постоянные разъезды. — И она неожиданно рассмеялась: — Вам, и мужу, и директору, и Сотину следовало бы совсем перейти в обоз — и ездить ежедневно… У вас вся жизнь — в дороге… Не надоело?
— Конечно, иногда надоедает, — признался он. — А теперь мне никуда не хочется ехать.
Поняв его намек, Ариша все же спросила:
— Почему?.. Много читаете, не можете оторваться от книг?
— Не могу оторваться… от вас.
Она оглянулась испуганно, затихла, невдалеке от них появилась чья-то подвода. Впряженная в легкие санки, лошадь бежала рысцой прямо на них, — оба отступили с дороги в сугроб… Высокий воротник тулупа, перевязанный белым платком, помешал Вершинину опознать возницу. Ариша опять ступила на дорогу и не без тревоги молвила:
— Кто это?
— Не знаю… Скорее всего, не из наших: таких лошадей здесь нет.
— Алеша вернется, заходите к нам, Петр Николаевич, — сказала она, будто не произошло ничего особенного.
После ужина Вершинин сидел за столом и, перелистывая дневник, восстанавливал в памяти только что минувшие события. Параня не мешала ему: молча приткнувшись в свой уголок у печки, щипала льняную мочку и пряла нитки при свете слабой коптилки.
Осмыслив заново нынешний разговор с Сотиным, он остановился на том, что в старое понятие «мой друг» вошло иное содержание. Там, где кончилась прежняя запись, он поставил новую дату и стал писать:
«…Запорошило, замело кругом. Леса — темны, поляны — пусты и белоснежны, — на них видны местами звериные следы… Не пора ль мне выйти на охоту?.. Хорошо зимой бродить одному по лесу, с ружьем, с собакой, и в этой тишине думать о своем…
Сотин едет на ставеж завтра. Он — честный, искренний сосед по службе. Ему, наверно, было больно слышать от меня такое? В горе люди чувствительны, их сильно ранит даже неосторожное слово. Мне дружбой надо дорожить, тем более что он — один, кто так чуток, близок и благожелателен ко мне. И, пожалуй, напрасно я не поехал в Ольховку: не явится ли это потом моей ошибкой?
Бережнов требует, чтобы мы все работали засучив рукава, Горбатов — тоже. Да и нельзя иначе: чтобы не отставать на этих главных перегонах жизни, нужны усилия, энергия и вера…
А углежогов все-таки проверю: наперед знаю, что их вызов на соревнование — не что иное, как дело Горбатова, — он уговорил их начать и сам составил обращение…
Встречи
с ней меня будоражат, волнуют настолько, что трудно становится заставить себя не думать о ней… Что это?.. Как определить это чувство?.. Если бы мы встретились с нею шестью годами раньше, — именно она, а не другая была бы моей женой… И в жизни, наверно, было бы все ясней, осмысленней и проще, — не плутал бы я среди чужих семей, не шел бы этой ложной и, в конце концов, несчастливой дорогой… Тогда бы не могло произойти того, что случилось в Крыму… Мне снится по ночам Сузанна, скопление людей на берегу под вечер… Почему, почему она решилась на это?.. А Юлька до сих пор молчит, — хотя бы один намек!
От Феодосии вплоть до Москвы Юлька была угрюмой, упорное молчание, почти отчужденный взгляд, — значит, она винит меня во многом… А в чем моя вина?.. Я не делал ничего злого, предумышленного. Неужели я повинен в том, что мне — одинокому человеку — понравилась эта милая, на редкость красивая, но избалованная женщина, покинувшая мужа?.. Что было это — иль просто увлеченье? Желание уйти без оглядки от своей тоски, от непривычного тягостного одиночества? Стремленье к перемене жизни во что бы то ни стало? Или все вместе взятое? Не знаю… А может, это была самая глубокая, истинная любовь, чего я не сумел понять?.. Я бездумно пошел к Сузанне навстречу, совсем не предвидя тех последствий, какие наступили так скоро и так трагично…»
Фразы, нанизанные мелким неровным почерком, на этом оборвались. В каких-то густеющих душевных сумерках он мысленно поднялся опять по той же знакомой каменистой тропе на гору Аю-Даг, — но, странно, вместо необозримых просторов Черного, на всю жизнь запомнившегося моря увидел только темные безмолвные леса, подступившие почти к самым окнам его убогой квартиры.
Он встал, прошелся по избе, потом, наклонившись, обнял голову Бурана, а взглянув в его умные, говорящие глаза, понял, что хочет ласки и этот четвероногий давний друг…
Вспомнив о Сотине, Вершинин сказал Паране, что жена Ефрема Герасимыча едет с больным ребенком в Кудёму, что дома у них никого не остается и что надо бы помочь людям.
— Они заплатят тебе за это, — прибавил он. С минуту помолчав, старуха молвила:
— Ин что, схожу, подомовничаю. — И глубоко вздохнула: — Как уж быть беде, никто ее не минует. А людям, правда, надо помочь: на том свет стоит, на том земля наша грешная держится. Только не каждый человек понять это способен. А я что, я не прочь. А коли заплатят, так на что лучше…
Глава VII
В семье лесовода Сотина
В проулке, под старой корявой сосной с повалившейся набок кроной, стоит на просторе двухэтажный каменный дом, принадлежавший когда-то лесному купцу Тихону Суркову, а за ним вдоль усадьбы теснятся полузасохшие березы — воронье пристанище. Каменный амбар, тоже сохранившийся доселе, обращенный глухою стеной к улице, похож на кованый сундук с добром.
Бережнов постоял перед освещенными окнами дома, подошел ближе к старой сосне и, подняв голову, прислушался к тихому шепоту ветвей, спросил, будто человека:
— Живешь, старина, шепчешь?.. Небось не узнала меня? А я тебя хорошо помню…
В сенях послышались шаги, кто-то вышел запереть на ночь дверь.
— Подожди, не запирай! — крикнул Бережнов, идя к калитке. Сотин поджидал его в дверях. — Спать собираетесь?.. А я к тебе надумал.
— Милости просим, всегда рады, — ответил лесовод, пропуская его мимо себя. — Не оступись, Авдей Степанович: тут три ступеньки вниз.
— Э, брат. Я тут все знаю. Я ведь у Тихона-то Суркова коров пас, не раз обедал в этих хоромах, за жалованьем хаживал, пороги обивал по осени. Сейчас вот стоял под окнами и старое вспоминал. — Директор говорил так, словно прошлое было безоблачно и кормило его сладкой сдобой. Между тем впотьмах раздался его легкий короткий вздох: — Да-а… старая быль… просмоленный кнут… дожди… да пироги с полынной начинкой.
Оба вошли в избу.
Жена Сотина — молодая, в сереньком ситцевом переднике, убирала после ужина посуду. При свете лампы Бережнов разглядел на ее узеньком, почти девичьем лице проступавшую сетку тонких морщинок. Она была задумчива, грустна и пришедшему гостю не оказала никакого внимания. Кончив с посудой, она подошла к зыбке, где спала ее девочка, открыла полог, пошептала что-то и тихо отошла к маленькой кроватке, где лежал трехлетний больной Игорь. Ясно слышалось его затрудненное дыхание. Она присела у его ног на краешек кровати и печально склонилась над сыном.
— Давно? — вполголоса спросил Бережнов.
— Седьмой день нынче, — ответила она. — Завтра в больницу собираюсь.
— Ты что же, Ефрем Герасимыч? — сурово посмотрел Бережнов. — В таких делах разве так поступают?.. В больницу бы ехал сам, а в Ольховку я мог послать Вершинина. И мешкать тут не полагалось бы… Ну ладно, раз обдумано, так я менять не буду. Подводу заказал?
Сотин, оказывается, не хотел брать казенную лошадь для поездки в больницу и порядил частного возчика. Бережнов насупился:
— А это уж совсем зря. Лошадей-то у нас сто двадцать… Неужели для срочной большой надобности не нашлось бы ни одной?.. Утром я пришлю подводу, а деньги побереги — пригодятся на другое.
Он сидел, облокотившись на край стола и оглядывая каменные, знакомые с давних пор стены, был полон воспоминаний…
Авдей думал о человеке, которого опрокинул социальный шквал и чей корень вырвали новые ветры… Когда-то гнездовал здесь Тихон Сурков, гильдейский купец, владелец лесных угодий. Внизу, в полуподвале, помещалась бакалейная лавка. Железная дверь, железные ставни, огромная вывеска — золотые слова по черному фону. Перед окнами тянулась бревенная коновязь; дорога к дому была утоптана и уезжена. У коновязи и у ворот с массивным кольцом в столбе редкий день не стояли подводы проезжих. Шли и ехали к нему отовсюду: с докукой, с поклоном, за советом; прибывали деляги-купчики, чтобы сделать ряду, оформить торг. Год за годом воздвигалось величие и набухала жирная слава Тихона Суркова.
Хитрый, ловкий мужик из деревни Варихи, он сперва арендовал землицу, потом соху поменял на плуг, лапти — на лаковые сапожки, зипун — на поддевку суконную. Украдкой от людей бил, со свету сживая, чахлую жену-неродиху, а после смерти ее сосватался с богатым купцом Щепетильниковым.
Получив двести десятин лесу в приданое, Тихон Сурков отолстосумел, отрастил брюшко, пышную бороду, построил вот этот двухэтажный шатровый дом. После брал на подряд мосты, починял дороги от земства, однажды раздобрился — пожертвовал на церковь четыре «катеньки». Через этот щедрый дар поступил он в услужение к самому богу, в чине церковного старосты.
Видно, с этих пор и приобрел он гордую, покровительственную осанку, благопристойную речь, обходительно разговаривал с мужиками-лесорубами, обнищавшими за то же время, в какое разбогател сам. Авдейку Бережнова — пастуха деревенского — перестал пускать в дом, а платил ему за двух племенных коров трешницу да пуд муки в лето.
Расторопно редил леса, подчищал дачи, и что ни весна, то все больше и больше плотов угонял он в низовье. А потом поговаривать стали, что шагнул он за грани русские: действительно, пароходы увозили товар его в далекий Гамбург, в туманный Лондон.
Перед Октябрьской бурей, когда к лесам подходил новый хозяин, овладела Тихоном безудержная стихийная жадность: делянки товарного леса гнал подчистую, не оставляя даже семенников, совсем оголял землю, бросаясь от одной делянки к другой, хапая деньги ненасытно… Потом канул куда-то, исчез.
Думали, что Тихону Суркову пришел законный конец, но как-то по весне слушок приполз, что купец жив, по земле невредимо ходит и будто бы имеет намерение возвратиться. В легкие годы нэпа слух подтвердился: Тихон Сурков вынырнул снова. Попытался было опять завладеть домом и амбаром, ходил на поклон к Авдею Степанычу Бережнову, демобилизованному из Красной Армии, который, как на грех, стал в ту пору в волисполкоме одним из «начальников».
На этот раз обманула купца былая удача — прогнали и, горше всего, напомнили ему кстати о прошлом: о бакалейной лавке, откуда приходилось лесным рабочим забирать нередко порченые продукты в счет жалованья, о племенных коровах, которых берег пастушонок, о побоях за годовалого бычка, которого задрали волки. (Пастуха теперь было не задобрить, не упросить.) А за то, что Тихон надумал вернуть нажитое, Авдей назвал его глупцом и сумасшедшим… У дальних родственников в Вятке недолго пожил Тихон Сурков и умер, не оплаканный никем, года за три до сплошной коллективизации.
Теперь в сурковской хоромине живут другие люди: вверху — уполномоченный поселка, в другой комнате — семья шпалотеса, внизу — Сотин, а рядом с ним — трое холуницких плотников. Рабочий люд заселил гнездовье купца, а пастух (которому не раз говаривал Тихон: «Да ведь ты кто? Никто, голь перекатная… сколь тебе дам за пастьбу, столь и возьмешь, и некуда тебе идти с жалобой») стал хозяином прежних сурковских владений…
Авдей приземист, плотен в плечах, коротко остриженные волосы торчат ежиком, на висках — густая седина, хотя ему всего сорок лет. Смуглое лицо, немного выдающиеся скулы, с маленькой горбинкой нос и карие, с искринкой глаза — обнаруживают в нем человека простого и даже благодушного, но способного понять и чужое горе, и радость, и, когда надо, быть решительным и твердым.
— Вот что, Ефрем Герасимыч… вижу, что вы оба повесили головы. Неужели так безнадежно? Не думаю. Кудёмовские врачи неплохие: что надо, предпримут, а если и случится что, руки-то все же опускать не полагается. Если горе согнуло человека, значит в нем крепости не было… Тебя я считал крепким, а жену — поддержи… Еще вот что… будешь в Ольховке, побывай в семьдесят второй даче, — нельзя ли передвинуть ставеж пониже, чтобы вязать плоты прямо на льду?.. Я припоминаю это Староречье: пойма широкая, берег отлогий, простор есть… А в Ольховке людей копни поглубже: заведующий обозом там… себя ведет подозрительно, и жалобы поступили…
Бережнов собрался уходить, но у порога задержался еще на минуту:
— Петр Николаич чего-то не захотел в Ольховку, а я посылал… Мне это не понравилось. Не поехал, отговорился… Очень странно… Как ты думаешь: в чем тут причина? — спросил он озабоченно.
— Не знаю… Ведь и здесь делов всяких много.
Проводив Бережнова, Сотин запер сенную дверь, вернулся в комнату и сказал жене:
— Ты ложись, я посижу с ним. А часа в три меня сменишь.
Игорь лежал тихо, закрытый до подбородка ватным одеялом: спутанные кольчики волос казались потными, тени от длинных сомкнутых ресниц обозначились резко, по временам он будто всхлипывал, сипел от удушья. Отец легонько тронул рукою его лоб, потом висок. — ребенка знобило. Он снял с себя пиджак и поверх всего одел маленького: хотелось согреть его, — быть может, вместе с теплом придет и облегченье…
Вскоре больного потревожил приступ кашля, он открыл глаза, зашевелился и, повернув голову к отцу, заплакал. Сотин вместе с одеялом поднял его, заходил по комнате. В сдавленной тишине нудно тянулось время. На дворе пропели петухи. Миновала полночь, а он, с сыном на руках, все ходил и ходил, нежно и тихо баюкал песней, рожденной сердцем в эту глухую ночь:
По зеленому лужку
Пробежали кони,
Отшумели под окном
Зеленые клены…
Горячей щекой Игорь доверчиво прижался к отцу, потом — убаюканный — замолк, а он продолжал ступать по половицам; руки онемели от тяжести, стали словно чужие и едва сдерживали дорогую ношу. Бережно, чтобы не потревожить, положил Игоря в детскую кровать, привалился спиною к стене и незаметно заснул…
Утром, когда брезжил рассвет, Ефрем Герасимович вскипятил самовар, потом разбудил жену. Игорю стало к утру как будто лучше: не плакал, дыхание было ровнее, кашлял реже, не задыхался.
У крыльца остановилась подвода. Знакомый возчик, войдя в избу, стал у порога с шапкой в руке и молча пережидал, пока завтракали и собирались в дорогу. Вместе с больным Игорем мать брала также с собою и грудного ребенка — девочку, которой исполнилось на днях девять месяцев.
Расправив сено в глубокой кошевке, Ефрем Герасимович усадил жену с детьми, закутал тулупами. Ни ветра сильного, ни стужи не было в это утро. Подвода тронулась проулком к лесу, и, пока не скрылась за поворотом, Сотин провожал свою семью взглядом. И теплая почти погода, и резвый молодой жеребец Звон, сразу подхвативший машистой рысью, и более спокойный сон Игоря перед дорогой вселяли в него уверенность в благополучном исходе.
Проводив своих, Сотин вернулся домой, где стало вдруг пусто, неуютно, по-сиротски бедно. Деревянную пустую кроватку Игоря он передвинул в угол, прибрал на столе. Тут и вошла Параня, закутанная в большую старую шаль с кистями. Истово покрестилась на передний угол, будто не примечая, что нет икон, потом поздоровалась с Сотиным. С печальным сухим лицом она по-старушечьи чинно, не торопясь разделась и, вздохнув в явном прискорбии, промолвила, что прислал ее Петр Николаич.
Малое время спустя она веничком подметала пол, сырою тряпкой обтирала скамью. Уже рассветало, когда под окнами остановилась вторая подвода. Сотин собрался скоро и, стоя у порога в длинном нагольном тулупе, попросил Параню протапливать печь каждый день, чтобы комната не настывала.
— И натоплю, и приберу, и все произведу в порядок — не сумлевайся, Ефрем Герасимыч, будь в надеже…
Она заперла за ним сенную дверь, а войдя в комнату, опять перекрестилась. В чужой избе, даже среди белого дня, было отчего-то боязно, тревожно и зябко на душе.
За этот день она заглянула во все уголки чужого небогатого хозяйства, обшарила полки посудного буфета, корзиночку со всякой женской рухлядью, пакеты и сумочки с разными крупами и сахаром, заглянула потом и в сундучок, оставшийся почему-то незапертым. Ее глаза — завистливые и недобрые — уже с первого взгляда видели, чего и сколько можно взять, чтобы хозяевам, когда вернутся в разные сроки домой, была неприметна пропажа…
Глава VIII
Судьба Параньки
Мать умерла, покинув Параньку шестнадцатилетнею. Вскоре в дом пришла хозяйкой чужая — с вкрадчивым взглядом, с робкой улыбкой нищенки и тихим нравом. С первого дня она повела себя так, чтобы задобрить, расположить к себе сиротливое сердце падчерицы. Но Паранька сразу невзлюбила ее, замкнулась, стала молчаливой, недоверчивой, злой.
В тот самый вечер, когда отец укладывался с новой, молодой женою спать, Паранька почувствовала к нему жгучую ненависть и горькую обиду за покойницу мать, плакала навзрыд, пряча под одеяло голову и кусая подушку.
Утром с ненавистью глядела она, как хозяйничала в доме мачеха, оголив по локти веснушчатые руки: месила тесто в чужой квашне, доила чужую корову, ступала по половикам, вытканным не ее руками, оскверняя память о покойнице.
Не могла и не хотела Паранька мириться с таким положением и, не скрывая чувств, высказала отцу свою обиду. Он пытался уговаривать, всяко добиваясь мира, но Паранька не поняла его. Некоторое время спустя в доме шла уже открытая, непримиримая вражда, а частые вмешательства отца только отдаляли от него Параньку. И когда он уразумел это, отступился совсем.
Наедине с мачехой Паранька молчала, насупив брови, или, не стерпев, начинала попрекать куском… Так с полгода воевала она с человеком, которого пригнали в эту семью нужда и жалость к вдовцу-лесорубу. Чаще всего мачеха отмалчивалась, а когда становилось непереносно, уходила плакать в сарай. Паранька же, заметив это, стала еще решительнее добиваться первенства… Целые дни отец находился в лесу, заявлялся домой лишь вечером и, если заставал перебранку (Паранька неизменно была зачинщицей), только хмурился, глядел на дочь сердитыми, очужавшими глазами. Однажды вечером, когда сидели за столом, он сказал, обращаясь на этот раз к обеим:
— Почему промеж вас ладу нет? Время бы понять, что к чему… Ты, Паранька, уж не маленькая, — неужто враждой донимать друг дружку?.. Ну сама посуди: до каких пор вдовцом мне жить?..
— Успел бы жениться, когда замуж выйду, — ответила она, не поднимая глаз и слушая отца с тяжелой и злой тревогой.
— Ин что — выходи, тебе лучше будет, да и нам спокойнее. Годы твои подоспели.
— А ты искал его?.. Нашел? — И Паранька покосилась на молодую мачеху: — Себе-то выбрал, а обо мне не позаботился.
— Разум есть, так выйдешь. А нет разуму, так тут никто не поможет.
Ни слова больше не промолвив в ответ, Паранька швырнула по столу свою ложку, улезла на печь и, не раздеваясь, пролежала там до утра… А когда разодняло, ушла из дому, повязав материн черный полушалок.
Падал густой, хлопьями, снег, заволакивая даль морозным туманом. От него было сумеречно в безлюдном, унылом поле и в длинной лесной просеке, тянувшейся почти до Малой Ольховки.
На кладбище, среди чужих могил, занесенных первым молодым снегом, она легко отыскала родную могилу: деревянный невысокий крест, врезанная в нем маленькая медная иконка, не успевшая еще потемнеть, и бедная реденькая ограда из тонких выструганных реек…
Наплакавшись до боли в груди над могилой, Паранька опустилась перед иконой на колени — и так стояла долго, глядя на крест затуманенными глазами, не чуя коленями знобящего снега… Кабы знала мать, какая горькая доля выпала ее дочери, — поднялась бы из темной сырой могилы, обняла бы Параньку и, плача сама, благословила бы ее, гонимую из дому…
Так утомили Параньку слезы, что едва брела заснеженной тропой, уходя от кладбища и плохо видя перед собою. В голом поле кружила метелица, но шум ее, с каким-то посвистом и завываньем, почему-то вселял в нее смутную, несознаваемую веру, что не так уж безнадежна жизнь. А когда шла просекой, попутная подвода нагнала ее — подвезли до самой Варихи.
В сумерки она поужинала одна, чтобы не садиться за стол с ними, а когда вернулся из леса отец — заметно усталый и угрюмый, — забралась на полати и всю долгую ноябрьскую
ночь не смыкала глаз… С дрожкой злобой и возрастающим страхом в душе, охватившим ее впервые, Паранька прислушивалась к неразборчивому шепоту мачехи и отца, лежавших на кровати в потемках. Из неясных, осторожно сказанных слов Паранька поняла главное: мачеха беременна. И ей стало так жутко, что перехватило дыхание. Страх постепенно исчез, осталась одна лишь ненависть к обоим — отцу и мачехе — и к тому третьему, кто вторгался в ее жизнь.
Так оно и случилось: Паранька потом заметила, мачеха стала как-то спокойнее, смелее, прежде заплаканные глаза высохли, даже прояснели, а в движеньях ее появилась уверенность хозяйки. Оставаясь по-прежнему тихой и молчаливой, мачеха постепенно забирала права в доме. Отец, понимая все, держался так, будто в семье ничего особенного не происходит, а сам отдалялся от дочери все больше и больше. Выйти замуж — было для Параньки единственным спасеньем от надвигающейся беды, выйти за кого-нибудь, лишь бы посватали.
С этих пор она стала пропадать по вечерам, не пропускала ни одних посиденок, где около каждой девки увивались парни, — возвращалась домой после полуночи, а то и на свету. Отец не попрекнул, не поругал ее за это ни разу. На святках начались свадьбы, — но Параньку не посватал никто: кому нужна бедная, некрасивая, бесприданная девка. А слухи уже ползли по деревне плохие, и, поняв их неодолимую силу, способную погубить, Паранька ужаснулась своего будущего.
Как-то, в начале великого поста, вернувшись с базара, отец и мачеха застали ее в слезах. Паранька была в избе одна, плакала навзрыд, уронив голову на раскинутые по столу руки.
Выпятив живот и шумно дыша, мачеха снимала новую, купленную шубу и равнодушными, чуть косящими глазами молча взглянула на падчерицу, ничуть не удивясь ее обильным слезам.
— Что, догулялась? — сказала она холодно и безучастно.
Мгновенно вспылив, Паранька вскинулась с мокрым, перекошенным от злобы и горя лицом:
— Молчи, не твое дело… приживалка несчастная! — Присутствие отца только усилило горечь и злость. — Ты рада в петлю меня загнать, в омут головой сунуть, — кричала на нее Паранька. — Змея подколодная… Все одно — не быть тебе тут хозяйкой! — И готова была рвануться к мачехе.
Оберегая свой живот, мачеха прошла в печной закуток, негромко, с явной издевкой пробурчав:
— А вот и буду.
— Не будешь, не дам! — кричала Паранька и в запальчивости обозвала ее нехорошим, оскорбительным словом. Та, более со зла и обиды, притворно заплакала.
— Да уйми ты ее, — обратилась она к мужу. — Всю душу вымотала, окаянная! Отравит она меня.
Он шагнул к дочери — злой, решительный и бледный, но Паранька, не отступив ни на шаг, бросила ему в лицо:
— Не подходи… Ты… ты сам хуже ее… Ты все наделал, один ты. Из-за тебя моя жизнь загублена, погубитель!..
Молча, с размаху, он ударил Параньку, ударил не так чтоб очень больно, но она взвыла диким голосом, рухнула грудью на стол, сотрясаясь в плаче, истошно заголосила.
После этого стало никому не до обеда, — отец отрезал себе ломоть черного хлеба, густо посолил его и, завернув в тряпочку, ушел куда-то.
Выждав немного, Паранька принялась собирать свои пожитки, навязала большой узел — и ушла из дому. На другой день она вернулась, молча отперла семейный сундук, ключ от которого носила при себе на пояске со дня похорон матери, и все, что осталось от покойницы, выбрала оттуда. Отца не было дома, мачеха опасалась раздражить ее чем-либо и только искоса, украдкой следила за ней, примечая, какие вещи выкладывала она из сундука.
Какую-то старую, изодранную тряпку, годную лишь для мытья полов, Паранька издали швырнула к ногам мачехи:
— Возьми… на постель вам, молодым, сгодится! — Она понесла оба узла разом, пинком отворив дверь перед собою… Она уходила совсем, чтобы никогда не возвращаться в эту постылую избу.
Покинув деревню Вариху, Паранька полтора года прожила в Малой Ольховке, где приютила ее родная тетка по матери, жившая вдвоем с незамужней дочерью. На первых порах ей было легче мириться с незавидной долей бедной родственницы, принятой в дом лишь из милости, нежели переносить совместную жизнь с мачехой. А потом, день ото дня, становилось чувствительнее, обиднее: ведь она здесь — только лишняя обуза, и рано или поздно все равно не миновать ей искать другого пристанища. А где? К чужим людям проситься в избу?..
Но вот однажды, на исходе зимы, в самые последние морозы долетел до Малой Ольховки слух… Паранька, сидя на скамье, пряла пряжу, когда в оконную раму громко, невзначай постучал кнутовищем знакомый лесоруб: «Отца-то в лесу бревном придавило… Паранька, поторопись… Не знаю, застанешь ли живого»…
Веретено выпало у нее из рук, покатилось по полу. Так и не подняв его, Паранька собиралась в Вариху, со слезами на глазах торопила тетку:
— Скорее… Не запоздать бы.
Дорогой, отворачиваясь от резкой встречной пурги, они шли до Варихи, не сбавляя шага… Но в живых его уже не было: он умер, не повидав напоследок дочь, умер в тот самый час, когда они вышли из Малой Ольховки. Им рассказали здесь, что с вечера он стал впадать в глубокое беспамятство, а приходя ненадолго в себя, с тихим стоном произносил имя дочери, подзывая к себе…
И вот за гробом шла Паранька рядом с мачехой, вплоть до кладбища не уронила ни одной слезы. Зато над свежей могилой, когда опускали гроб, когда мерзлые комья земли стучали по крышке гроба, она плакала неутешно, переводя взгляд с отцовской могилы на материну могилу, находившуюся рядом.
С кладбища возвращалась Паранька опять в отцовский дом, не видя, как всю дорогу следом за ней шла мачеха, не переставая плакать.
Было холодно в нетопленой избе, пусто, темно и сиротливо. Паранька сама принесла вязанку дров, начала разжигать лучину, пока мачеха, осунувшаяся и постаревшая за эти три дня, ходила к соседям, у которых с утра находился ее годовалый ребенок.
Сидя с Паранькой у потрескивавшего в печке огня, тетка наставительно говорила:
— Тут — твое место, твоя изба, от отца наследная. Не уходи, никто не выгонит.
— И не уйду. Останусь, — решила Паранька. — А вещи мои пришли с кем-нибудь… с подводой попутной…
И Паранька осталась в Варихе… День за днем копилось в ней решительное упорство, а мачеха, застигнутая бедой врасплох, не осмеливалась теперь (да и не умела) воевать за свои права. Скоро стало обеим, особенно Параньке, нестерпимо тесно, друг дружке мешали жить, мачеха очень боялась к тому же и за ребенка: как бы обозленная падчерица чего-нибудь не сделала с ним… Вражда их длилась после того недолго, и вот перед рождеством Паранька выгнала неродную мать…
— Тут все мое, — говорила она, отворачиваясь, чтобы не видеть ненавистное, чужое лицо. — Какая тут жизнь, коли два медведя в берлоге. Ступай, заводи свое…
Мачеха покорно собрала свои немногие пожитки, с которыми вступила в этот дом, не сумев разглядеть будущего, и ушла, добровольно отказавшись от законных прав.
Паранька взялась хозяйствовать: сдавала исполу землю, одна жала свои полосы, носила рожь на мельницу узелками, не желая кланяться в ноги соседям, а на зиму порядилась в жилицы к дьякону в селе Вьяс. Некрасивая бойкая девка чем-то приглянулась духовному отцу с седеющей гривой, да и сама она, не боясь за свою судьбу, охотно приняла мужскую ласку… Но Паранькин грех открылся вскоре, — и «блудницу» прогнали из почтенной семьи, сунув трешницу в руки.
С узелком в руках стояла она у чужого порога, как провинившаяся нищенка, но не просила ни прощенья, ни милости, не возмущалась, она просто не знала, как теперь быть ей с собою, что делать, к кому идти…
— Иди, куда хочешь, — шипела оскорбленная дьяконица, с лицом перекошенным от злобы и ревности. — Потаскуха. Мою семью позорить вздумала? Не позволю. Не на такую напала… Дура я: змею приютила… Убирайся, чтобы духом твоим здесь не пахло!.. Иди в свою Вариху.
Оставалось одно — смириться. Жаловаться было некому.
Что требовалось, сделала старуха знахарка, на которую указала Параньке дальняя родственница ее — горбатая Лушка. Провалявшись в постели два месяца, она встала наконец, — только уж пропала охота жить. После, когда боль пережитого затихла, а молодость брала свое, девку опять потянуло к вольной жизни.
«Все равно уж, — обреченно махнула на себя рукой Паранька. — Теперь я бросовая. Только не голодать бы».
Так, на утеху парням и женатым, начала жить, стараясь не думать о будущем. Но по ночам, когда оставалась в избе наедине с собой, ей все нашептывал чей-то голос:
«Такая доля скоро затрет одинокого. Осмеют люди, затопчут в грязь, и сама же останешься виноватой. Все равно никто не заступится — ни свой, ни чужой. Только и скажут: „Какова баба — такова и слава… Пускай“». (Так говорили в деревне о девке Лошкаревой, чья судьба оказалась схожей с Паранькиной.)
«Пуще всего имей зуб, тогда и место найдешь и харч добудешь. А станешь ртом глядеть — как раз голодать придется, а то и умрешь натощак. Попомни, Паранька, жить надо умеючи, — вразумляла мать. — Береги себя, не давайся в руки: сперва приголубят люди, а после непременно ударят палкой. Остерегайся…»
Надо бы ей блюсти эту заповедь, — ведь давала же Паранька зарок покойнице! Но только теперь поняла свою великую оплошность и горько плакала в своей пустой избе.
Другие девки из деревни Варихи, кончив полевую работу, нанимались к Тихону Суркову в лес. Образумилась и Паранька: всю долгую зиму собирала вершины, сучки, лазая по колено в снегу — мокрая, иззябшая, — и, набрав большими грудами, сдавала десятнику счетом. За три месяца дали ей шесть рублей. Показалось дешево, да и тяжело, десятник сулил другую работу — на лесном складе, — да не дал, а за посулы его опять Параньке пришлось изведать, что хорошей жалости у людей нет. Об этом и говорила она своей горбатой подруге Лушке, сидя в делянке на обледенелых бревнах. Кругом, на болоте, стоял темный непроходимый лес.
— Уйдем давай, — зазывала она Лушку, обозленная на этот мир, несправедливый и равнодушный к женскому горю. — Уйдем. Все мужики обманщики. Не пропадать же тут. На хлеб добьемся. Если что — корову продам, торговать буду.
Ушли обе, потому что не легче жилось и горбатой Лукерье… Всякая базарная мелочь: холст, льняная куделя, нитки, пуговицы, гвозди, яблоки, гребешки, серьги, булавки — все перебывало у них на лотке. В Параньке проснулась жадность к деньгам. Из-за них она потом, перед германской войной, стала шинкаркой: на водку было много охотников.
В избе у нее часто происходили драки, посетители пили, пели и плакали, били посуду, ломали табуретки, лезли на нее с кулаками, не желая платить за причиненный ущерб. Не церемонясь с такими, она выгоняла их вон, толкая кулаками в загорбок. Нередко, со скуки, напивалась сама.
— Нашла свою дорогу, — с издевкой говорили о ней в деревне. — Скряга… У ней, наверно, и деньги есть.
На удивление всем, она вдруг бросила скандальный свой промысел, стала жить тихо, остепенилась. Внезапную перемену эту поняли в Варихе так: Параня решила подыскать себе жениха.
Но женихи, гнушаясь, обходили ее стороной. С каждым годом, с каждой новой свадьбой копилась в ней зависть к счастливым невестам и бабам… Шли годы, подсыхала травой по осени Паранькина молодость, и сама деревня Вариха, казалось, старее стала… А тут — война!.. Завыли бабы, провожая мужей, сыновей и братьев, уходивших по приказу царя в неведомую сторону бить неведомого германца, турка, австрийца. Следом за молодыми двадцатками-новобранцами ушагали хмурые, бородатые ратники, покинув жен, детей, хилых стариков и породневшую с годами, просоленную п
отом лесную землю.
Глядя на них, и Параня, одинокая, плакала: или захватило чужое горе, или прощалась навек со своей мечтой.
Но скоро переболело сердце, и она уже равнодушно смотрела, как бабы, надрывая животы, пахали на лошадях сохой землю, сами сеяли, косили траву на лесных полянах, на берегах Сявы, вили стога, жали хлеба, ворочали мешки на мельнице; по зимам ездили за дровами в лес; сами рыли могилы покойникам. Кривились избы, проваливались повети, постепенно таяло крестьянское стадо, больше прежнего вырастало в полях травы, и привольно цвела она в яровом и ржаном клину на засеянных и незасеянных полосах.
Запоздалым цветком зацвела было в эту пору Паранина жизнь. Ехал как-то мимо кузнец из Вятки, Филипп, дорогой у него околела только что купленная лошадь, за которой и приезжал он в такую даль.
Покланялся одному, другому, — а кто мог из беды его выручить?.. Пометался туда, сюда — и надумал остаться здесь навовсе. В кузницу его компаньоном взяли. Так в деревне Варихе и обжился он.
Проведал о Параньке, стал в гости захаживать, а когда время пришло — она пустила Филиппа в избу и потом ни добра, ни ласки для него не жалела, думала — муж будет… По его уговору продала в Варихе избу и переселилась на лесной поселок Вьяс, куда он незадолго до этого поступил дворником к купцу Тихону Суркову.
Ошиблась: Филипп обманул. Однажды ночью пришел к ней пьяный, улегся на кровать и вроде в шутку назвал ее не Параней, а Краней, и холодно так, по-чужому:
— Я слышал, что ты крадешь. Воровка ты.
Параня подавилась со страху:
— Где это? Окстись, что ты, Филипп. — И, привстав с постели, тревожно заглянула ему в лицо.
— А помнишь, у тебя тряпишник напился? Ты его выволокла из избы на траву, а десять целковых да три аршина кружев прикарманила. Крадешь, вот и — Краня. Пойми, дура: ты ведь мне вроде так, для удовольствия. Ты не баба, а сплошной смех…
Этой же ночью, пока он спал, Параня спрятала сатиновую рубаху, два полотенца и пару портянок, которые когда-то срядила ему сама, а на утро сказала с обидой и ненавистью:
— Убирайсь… Чтобы провалиться тебе в преисподнюю, стервятник… Знай, что краду. От тебя стала такая…
Филипп ушел… Он был старше ее лет на шесть, но, видно, не накопил ума, и все, что было у него с Параней и чего не было, разболтал по поселку… С тех пор у нее стало два имени: Параня и Краня.
А вскоре Филипп женился на пожилой одинокой женщине, у которой посправнее была изба, да и сама она слыла в поселке благонравной, к себе строгой, а к людям очестливой.
Такое горе случилось в середине зимы, когда Паране стукнуло ровно сорок пять лет… До этого собиралась она весной стан поставить, наткать новых дерюг для двухспальной постели — одним словом, собиралась жить. А когда жданная зашумела вода в долинах и оврагах, Параня снова была одна и теперь впервые и как-то сразу почуяла себя одинокой бобылкой, старухой, у которой не за горами смерть. И не дерюги ткала она в эту весну, а серый, как пепел, холст…
Она стала глухой к слухам: прогнали царя!.. Скоро будет всеобщее замирение!.. Но без радости, без печали встречала она солдат, возвратившихся с поля брани.
Хилой старухой стояла деревня Вариха, слушая панихидный ольховский звон и оплакивая любимых, не вернувшихся в родные места…
Потом новая власть собирала людей на другую войну — с белыми; кое-кто из молодых записались идти добровольно, с ними вместе ушел и Авдей Бережнов. В эти дни опять метался по улицам бабий истошный вой, но Параня больше не плакала. Она поняла, что чужая беда — нипочем ей: своего горя напилась досыта… Горе и сласть у всякой бабы свои, мерка для них у каждой особая, с мелкой посудой вернее счет, — и Параня свои пережитые беды готова мерить наперстком.
С горбатой подругой Лукерьей она ходила глядеть, как с лесного поселка Вьяс увозили куда-то купца Тихона Суркова, лесопромышленника, миллионера; как садился частный пристав в вагон с решетками в окнах. Ей хотелось в ту пору одного только, чтобы с ними зараз увезли и Филиппа, — ведь недаром слух однажды прошел, что он убежал из Вятки от мобилизации.
С глубоко затаенной злобой на своего обидчика прожила она много лет и не забудет обиду до самой смерти.
После переворота пошли какие-то другие, новые люди, даже у старых стало меняться обличье. Бабы — не говоря уж о девках — принялись месить свою жизнь, как тесто: как знают и как хотят, а Параню съедала одна забота — о хлебе… Только для этого, видно, и жить осталось!..
По летам из своего огорода она продает огурцы пятками, парами, по одному. Она не стесняется ценой и просит втридорога. Она постоянно воюет с мальчишками, лазающими к ней в огород за всячиной, гоняется за ними, как собака за курами, ловит, а поймав, хлещет крапивой, задрав рубашонки, — Параня бьет без жалости. Они боятся ее, обходят стороной при встречах: не схватила бы за уши. К ней под окна ходят матери ругаться из-за детей; она кричит с ними на всю улицу, отбивается, словно от ос, провожает их от избы с победной воркотней и бранью, вспоминая родственников по женской и мужской линии вплоть до десятого колена…
Однако с прошлой весны наступили в душе Парани тихий мир и надежное успокоение: на квартире у ней поселился лесовод Вершинин… Новый жилец платит за все: за угол, за стирку белья, за баню, которую она топит для него, платит за молоко, за яички, за огурцы, за квас. Иногда по рассеянности он что-нибудь забудет, тогда Параня скромненько напоминает. Совсем недавно был у них по этому поводу такой разговор:
— За огурчики-то, Петр Николаич, полагается ай нет по нынешним временам? Десяточек я приносила.
— Как же, конечно, полагается. Отдам, не пропадет. — И отдал тотчас же. Изредка, пользуясь его забывчивостью, она получает с него второй раз.
Как-то по осени она вязала соломой малинник, готовя его к зиме. Шел дождь. Навстречу ей проулком бежала чья-то собака. С чужого двора воровка несла в зубах яйцо. Параня оглянулась — кругом было пусто. Размахнувшись по-мужичьи, она палкой подсекла ей ноги. Та выронила яйцо, из него вытекал желток: яйцо было прокушено собакой. Параня принесла яичко домой и, добавив еще парочку, сделала яичницу… Лесовод ел и хвалил, не подозревая, что в ней яйцо, отнятое у собаки…
Он — молод и богат, она — стара, бедна и одинока: бог не взыщет с нее, если от квартиранта и перепадет какая-нибудь малость — на то он и квартирант… Не желает она «умирать натощак», глядит в оба и живет только для одной себя. Никто из людей не осудит ее за это…
И, размышляя часто на досуге с Лукерьей или наедине с собою, она убежденно верит, что все люди поступают так же: «На том и свет стоит, на том земля наша грешная держится»…
Глава IX
Там, где шумят сосны…
Вершинин — с ружьем на плече — миновал Лисью гриву, квартал мшистой рамени и, обогнув Боровое озеро, заросшее густым тростником, вступил в сумерки свежего бора.
«Какое древнее божелесье», — подумал он.
В бору стояла глубокая, покойная тишина, только вверху шумел ветер да изредка слышался то тут, то там деревянный стук дятла. Чуть приметный ветер качался на соснах, голых и потемневших от непогоды. Вчера вьюжила сырая с дождем метелица, а нынче тихо, тепло, и немного пристывшие колеи дороги блестят желто-зеленым глянцем. Через несколько минут Вершинин увидал санный след, уводивший в низину, — где-то там и залегли углежоги Филипп и Кузьма. Потянуло горьковато-кислой гарью; она становилась все гуще, ядовитее.
— Дымок отечества не так уж сладок и приятен, — сказал он с игривой шуткой, вспомнив стих любимого поэта. Затем, поддавшись неопределенному безотчетному чувству, закричал во весь голос: — О-го-о!..
Гулкое эхо перекликнулось в чаще, и вслед за ним глухо аукнул тяжелый, нутряной бас Филиппа.
Лес расступился, на небольшой полянке показалась землянка углежогов, занесенная снегом и обставленная кругом знойками. По виду своему знойки похожи на крохотные домушки, вылезающие из-под земли только крышами. Одна дымилась, и кудрявый дымок шел из проделанного вверху отверстия. Углежоги сортировали груду неостывшего горячего угля, вяло передвигая граблями и выбирая уголь покрупнее отдельно. Уголь сухо хрустел.
Старики встретили редкого гостя приветливо, но дела своего не бросили.
— Обожди малость, мы с Кузьмой сейчас зашабашим. Торопимся, Петр Николаич, — сказал Филипп.
Стоя у знойки под старой сосною, лесовод ждал, докуривая папиросу. Дремучий старичок Кузьма, пропитанный углем, сутуло гнулся к земле, снегом гасил тлеющие головешки. Поминутно его схватывало удушье, тогда останавливались грабли в его руках, рваная варьга прижималась к губам, и долго бил старика жестокий кашель.
Филипп на десяток годков помоложе Кузьмы, покрепче здоровьем и выше ростом, у него густая и черная как смоль борода; уши бурого малахая, маленькие и острые, как у медведя, торчат вверх. Филипп — очень известная во Вьясе личность: выжигает уголь самого лучшего качества… Это он давно-давно приехал из Вятки и, потеряв лошадь, поселился во Вьясе на жительство. Это он нанес Паране смертельную обиду, это о нем вспоминает одинокая старуха с великой злобой и ненавистью. Но Филипп забыл, что когда-то случилось, и теперь, иногда встречая Параню, не вспоминает о старом… Обзавелся детьми, домом, пятнадцать годов искусно ковал железо, потрафлял мужикам соседней деревни Варихи и поселка Вьяса; приходилось когда-то работать и на Тихона Суркова, а после перешел в кузницу леспромхоза. Однажды молотобоец по нечаянности отшиб ему правую руку; работать в кузнице стало уже нельзя, и он ушел в лес зноить уголь.
С годами привык Филипп к лесному безмолвию, к запаху гари от зноек, полюбил ремесло, возникшее во мраке древности, сдружился с замшелым старичком Кузьмой и сам сделался ему подобен. Оба они молчаливы, несокрушимо-спокойны, движения их равнодушно медленны… Лесовод с интересом наблюдал за стариками.
Закончив сортировку угля, они взялись закладывать последнюю знойку. Натаскали сухостойных дров, уложили их грудой плотными рядами, забрали «стены» низким заборчиком, сверху укрыли соломой, патьей (трухой угольной), а наверх набросали толстый слой снега. Внизу этой знойки они оставили небольшое отверстие, туда заложили сухого, топором нарубленного смолья, бересты — и подожгли. Когда смолье загорелось и принялись дрова, отверстие внизу старики заложили наглухо, — дрова после этого начинают тлеть почти без доступа воздуха, только в маленькое отверстие, проделанное вверху знойки, тянет дымок. Это и называется — зноить уголь.
В лесу оседал вечер. Филипп подошел к Вершинину и, облегченно отдуваясь, промолвил:
— Ну вот, Петр Николаич, и все. Шабаш, значит… Идем в конуру.
В землянке — кромешная тьма, и пока Филипп шарит что-то в соломе, Вершинин ждет у двери. Вспыхнул огонек, сухая лучинка загорелась, потрескивая. Кузьма выбирал из заготовленных дров смолье и разжигал жарничок на тагане, сложенном из кирпичей в углу. Несколько минут спустя жарничок горел, освещая черный потолок, черные от дыма и копоти стены и две узкие нары, застланные соломой; на нарах лежали портянки, лапти, а на маленькой полочке — хлеб, картофельная шелуха, стоял чугун с картошкой да две железные кружки с чайником на самодельном столе.
В крохотное отверстие, прорубленное над дверью, дым не тянуло, поэтому приходилось часто открывать дверь. Когда Филипп, сутулясь, шел к двери, то плечом задевал лесовода — так тесно было в землянке. Вершинину это жилье показалось убогим, древним, стало как-то неловко перед стариками, что он живет лучше их.
— Напрасно вы запротестовали осенью, — сказал он. — Выстроили бы вам хорошую зименку, и жили бы припеваючи: ни дыма, ни тесноты.
— Ничего, — ответил на это Кузьма, — проживем зиму-то… Кхе… кхе… А летом стройте новую. Ведь я, Петр Николаич, в этой норке тридцать годов прожил. Сам ее своими руками оборудовал… еще при купце, при Тихоне Суркове. Ну и жаль расставаться с ней, свыкся.
— И я — дурак, послушал тебя в те поры, — огрызнулся на Кузьму Филипп сурово, но без злобы. — Вот и маемся. — Потом ухарски подмигнул гостю: — Ты знаешь, какой мы уголек зноим?
— Какой? — поинтересовался Вершинин.
— А вот погоди, я сейчас. — Филипп с непривычной для него торопливостью вышел из землянки и тут же вернулся с куском угля в руках. У него был такой вид, словно он нес Вершинину подарок. — Это не из дров, а из сучка. Дрова экономим… а сучок, чтоб, значит, даром не пропадал, пережигаем. Бережнову скажи… недавно мы… Втемяшилось нам с Кузьмой, что эдак лучше, — ну и давай… Об хороший уголь спичка зажигается. — Он чиркнул спичкой по блестящей поверхности угля, и огонек вспыхнул. — Вишь, как. Одну лишнюю знойку заложили нынче, а еще пяток — после. А вы нам с Кузьмой премию дадите… И гоже будет… и вам, и нам. Так ли? — простовато спросил он.
— Поговорю с директором. Он читал о вас… одобряет.
Счет дней углежоги вели по-старинному, приноровив к неделе свое нехитрое производство: ежедневно разбирали две готовые знойки, две закладывали вновь, а накануне воскресного дня уходили поочередно домой во Вьяс. Новые шесть зноек сломают старый порядок дней, время пойдет иным счетом, по-иному придется и работать и жить. Отдают ли они себе в этом отчет?…
Вершинину хотелось спросить их: во имя чего они закладывают новые знойки?.. Как ответят они ему? Наверное, так: «Побольше заработаем — побольше пропьем, послаще кусок съедим».
Наклонившись к огню, Филипп подкладывал в жарничок дровец. Его черная густая борода, облитая красным светом, казалась багряно-смолистой. Должно быть, поняв раздумье лесовода, он сказал:
— В нашем товаре везде нужда. Значит, дать надо. Не кому-нибудь, не Тихону Суркову, — заводу даем, государству. Так ли, Кузьма?.. Али спишь, проклятый? Спит, — пристыженно заметил Филипп, указав на Кузьму. — Ишь, сатана, насвистывает.
Седенький, с дремучей бородой «сатана» действительно спал, сидя рядом на корточках, а разбуженный — долго позевывал, кашлял, молчал.
— Я вам принес кое-что. — Вершинин вынул из кармана газету и начал читать письмо, чуть не после каждого слова взглядывая на бородатые лица.
«Мы, углежоги знойки № 1, живем в лесу, как медведи. По целым неделям не видим людей. Зноим уголь давно. У Кузьмы Белова стажу сорок годов. До нынешнего дня были не члены союза, манили нас, да мы не шли. Вроде не нужно нам было. Секретарь ячейки тов. Горбатов рассказывал нам, что рабочие на заводах свое задание выполняют с лишечком. А позадь всех оставаться и нам зазорно. По этому случаю нам мало двенадцати зноек, добавим еще шесть. А еще просим прораба сложить печь в нашей землянке и дать лампу.
Углежоги Филипп и Кузьма».
Они слушали с какой-то теплой радостью и удивлением: ведь это было для них целым событием; первый раз в жизни услышали они такое: о них газета говорит громко, на весь край, и это надолго, может быть до гроба, останется у них в памяти. Не находя слов выразить радость, старики молчали.
— Горбатов вас надоумил? — безразличным тоном знающего спросил Вершинин.
— Хе-хе-хе, — засмеялся Кузьма, покашливая. — Зачем Горбатов? Сами додумались. А писал-то Филипп. Кх… кх… О-тя, Петр Николаич, как мы на старости-то!..
Вершинин озадаченно молчал, присматриваясь к старикам недоверчивым, проверяющим взглядом.
— Кузьма, а тетерку-то мы забыли? — вдруг встрепенулся Филипп. — Общипал я ее давеча… жарить давай. Угостим Петра Николаича.
Вершинин поднял брови:
— Что у вас за тетерка?
Филипп принялся объяснять. Сегодня рано утром он вышел из землянки. Обходя знойки, заметил под сосной что-то черное, оно головешкой торчало в снегу. Филипп прошел мимо — головешка зашевелилась. Это была тетерка: одним крылом она застряла в ямке, другим бессильно трепыхалась. Так как ночью моросил дождь и в ямке оказалась вода, которая к утру пристыла, крыло примерзло. Завидев человека, птица порывалась лететь, оставила во льду несколько перьев, но подняться у ней не хватило сил. Она запрыгала по снегу, Филипп бегал за ней, растопырив руки… Он рад, что нынче выпал такой необычный день: тетерка, газета, гость. И погода какая, — конец ноября, а на воле весна. Редко бывают такие дни.
Филипп принялся резать ножом тетерку. Минут пять спустя мясо жарилось в железной плошке на огне, трещало, запах жареной дичины приятно щекотал ноздри.
Вершинин вышел из землянки, сказав:
— Угар у вас… даже голова заболела.
Как только за ним захлопнулась дверь, Филипп заторопился:
— Про купца-то лесного сказать, что ли?.. Кузьма, а Кузьма? — расталкивал он заснувшего старика. — Опять спишь, проклятый? Смотри, сатана, уснешь навовсе. — Кузьма кашлем известил о своем пробуждении. — Хочу сказать про купца-то… Как?
— Кхе-хе… вали… надо сказать. Пущай знают. Низко согнувшись в пояснице, лез в землянку Вершинин.
— Темень-то какая. Едва нашел дверь. Безлунье и звезды.
Филипп потрогал мясо — оно жарилось плохо; тогда он надел один кусок на лучину и стал печь на огне.
— Медведица-то кое место? — спросил Кузьма, желая, очевидно, определить время по звездам.
— Не обратил внимания. Кажись, вот там. — Вершинин показал рукой в сторону поселка.
— Часов восемь есть, — уверенно проговорил старик и обратился к гостю: — Попробуй мясца-то… ужарилось.
Вершинин мягко, чтобы не обидеть, отказался. Кузьма удушливо закашлял:
— Кхе-е… кха-а. А мы, Петр Николаич, недавно еще птицу пымали, страше-енную. Вот Филипп скажет, у меня одышка… Али боишься? Филипп?
— А вот и скажу. Пущай. — Движение убогой руки Филиппа было решительное и нетерпеливое, а широкий нутряной бас прозвучал густо. — Эка оказия дивная! Заявился к нам лесоруб один, выпил с нами вдоволь. А самогонка у меня с перцем настоена, зря шибко дерет… по кишкам прямо сошником пашет. Мы с Кузьмой любим такую: от кашля все лечится… «Гость» наш захмелел порядушком — в темя шибанул его перец-то, оглушил. А мы с Кузьмой возьми да и расскажи человеку тому про нашего лесного купца, про Тихона про Суркова: как он по копейкам с рабочего люда драл, утеснял всяко да свечи толстые богу ставил, всю жизнь хитрил, перед людьми выхвалялся, богател от чужого поту… Вот как тебе же рассказываю, только по имюшку не назвал его, а так: мол, жил здесь один купец знакомый.
Говорю, а у самого сумление: «Что, думаю, человек-то как разволновался? Вроде он интерес свой имеет». А он вдруг и брякнул, гость-то наш: «И я купцом был… только прошлое-то свое забыл уж. Даже не верится, коли вспомню, что был таким пауком в лесу».
Мы с Кузьмой так и ахнули, сидим, в рот воды набравши, потом спрашиваем: «Как уцелел ты, птица нездешняя?» — «А так, говорит… ушел после революции к сыну, у него пожил, — учителем он в деревне. Вскоре нелады с ним пошли: он — за новое, я — за старое, до крику спорили. Ну, все-таки сын надо мной верх взял, убедил окончательно: „Или, говорит, ты — отец мне, тогда на трудовую колею вставай, со мной живи, не прогоню. Или, говорит, если станешь держаться за прежнюю, кровососную власть, — доживай свой век один, без сына, а обо мне забудь, что я живу на свете“… Так вот и привел меня сын к простым людям… Купил я топор — и пошел в лес. Деревья рубить сперва тяжело показалось, на все злобился, а теперь без топора и жить не сумею. Лес-то люблю я, привык…»
И Филипп повернулся к лесоводу лицом:
— Кто человек этот, — угадай, Петр Николаич?.. А мы с Кузьмой последнюю карту тебе не откроем. Ну-ка, насколь ты хитер, показывай. — И Филипп засмеялся, довольный тем, что дал ученому лесоводу не простую задачу.
Вершинина охватило, как жаром, любопытство; он с недоверием оглядел углежогов: в их позах, выражении лиц не было признаков, что историйка эта выдумана на досуге, не было также ни боязни, ни раскаяния, что оглашена чья-то чужая тайна, — наоборот, заметно было другое, нечто похожее на сознание выполненного долга.
«Кто этот человек, поддавшийся вину? В какой артели?» — думал Вершинин, поставив ружье на пол, и долго гладил вороненый ствол. Теряясь в догадках, спросил:
— А давно был он здесь?
— Кхе… недавно. — Кузьма продолжал сидеть у жарника, облокотясь на колено, и хитро поглядывал лесоводу в глаза.
— Неужто догадался? — удивился Филипп. — Эк-ка-а… Мы с Кузьмой ни за что бы… Эх, ты, Петр Николаич, и хитрый!
Лесовод заговорил о другом:
— Старики, угля нам много надо. Со станцией заключили договор, завод дал требование на тысячу кулей дополнительно. Новые знойки закладывайте… А печку велю сложить… лампу пришлю завтра. — Собираясь домой, спросил: — Про лесоруба-то никому еще не говорили?
— Никому… тебе первому… Ты сам, что надо, обделаешь, — Кузьма закашлял, улыбкой ощерил лицо, показав здоровый ряд зубов.
— Да, да… хотя это — пустое дело… не стоит заниматься им. — И Вершинин пренебрежительно махнул рукой. — На всякий случай, скажите Горбатову… а лучше всего помолчите пока.
Углежоги вышли проводить гостя. Оба они захватили с собой ярко горящие головни, чтобы осветить дорогу. Медленно, с трудом пробирались между деревьев, шли молча, неся над головой свои первобытные факелы. Красными отсветами вспыхивала желтая кора на соснах. Потом углежоги вернулись обратно.
Оглянувшись назад, Вершинин видел, как они, то и дело наклоняясь, шли тем же следом, словно две черные тени, и лишь тусклый красноватый свет маячил среди густых молчаливых деревьев.
По бокам дороги потянулся лес, темный, говорливый, полный загадок и тайн. Невнятные звуки и шорохи сливались в монотонный шум, напоминая весеннее пробуждение, — казалось, где-то вдали шумело половодье. Вот проплыла вырубленная недавно делянка: бунты строевой древесины, поленницы дров, они чем-то похожи на маленькую деревушку в лесу, сонную, тихую, в которой погашены огни и время завалило за полночь. Какая тишь, какое пустынное безлюдье!..
Лес кончился. Еле заметная дорога повела его сперва по голубой долине, потом в гору. Темные контуры последних деревьев слились позади в черную гряду леса. Когда он поднялся на гору, лес показался лежащим в яме.
Вершинин глубоко вздохнул: «Годами жила седая древность в этих глухих закутах… Сажа, дым, вместо печи — таган с жарником… Сурова жизнь, убога и неподвижна… А нынче очень удачная „охота“… Интересные экземпляры для наблюдений, особенно этот, случайно разоблачивший себя купец… Посмотрим…»
В левой стороне неба разгорался Млечный Путь, далекий, живой, мерцающий. Ощутив в себе нечто новое, пока неосознанное, шел Вершинин, — и с удивлением вдруг услышал, как тесно стало сердцу.
Эта ночь напоминала мартовскую. Было тепло, до черноты сине небо, звезды горели жарко, не мигая, а ветер дул по горе сильный, мягкий и возбуждающий. В самом себе Вершинин чуял прилив свежего, окрыляющего чувства. Не оно ли наполнило грудь волненьем, не оно ли сделало бодрым шаг и торопило нагнать потраченное в землянке время? Хотелось не идти, а лететь.
Дорога тянулась темной полоской по серому снегу, спустилась в ложбину, потом начала взбираться на гору. Под ногами хрустела пристывшая ледяная галька, нарезанная копытом и полозом. Если бы его не так полновластно обуревали мысли, он бы нигде не сбился с пути и пришел бы на поселок часом раньше. Он торопился, нервничал, когда, теряя дорогу, залезал в сугроб, и радовался, когда находил ее снова. Он теперь жалел, что долго засиделся со стариками. Сейчас, наверно, около десяти, а может, и больше. То и дело запрокидывал он голову и смотрел на звездный ковш.
Невдалеке горели огни Вьяса. Скоро они один за другим стали гаснуть… Теперь он знал, куда и зачем спешит, и вслух произнес имя женщины, к которой шел незванно. И сразу забылась птица, пойманная стариком Филиппом, отодвинулась вдаль чужая тайна, ставшая теперь неинтересной, а шесть угольных зноек, которые будут заложены стариками, потеряли свое значенье… Было только одно желанье, острое до боли — застать одну, увидеть, поговорить, узнать, что скажет, как встретит. Может, рассердится? Пусть будет так, как будет; все равно он благодарен богам за то, что нынче теплое, словно весеннее безлунье и что Алексея Горбатова нынче нет дома.
Торопливо вступил он в улицу. На обоих порядках огни были уже погашены, и только в Наталкиной избе горел огонек.
«Значит, она не спит», — облегченно подумал Вершинин и пошел быстрее, подстегиваемый возбужденьем.
Глава X
Нечаянное признание
Семилинейная столовая лампа коптила одним краем тесьмы, и по стеклу тянулась черная дорожка от копоти. Тихо колебался розовый листок огня. Ариша с открытой головой, в белых чесанках сидела с книгой у подтопка, где потрескивали догорающие поленья, и рассеянно слушала Наталку, а та — румяная от жаркого огня, полноплечая, то и дело нагибаясь к печке и постукивая кочергой угли, продолжала рассказывать:
— У каждой своя судьба-дорога… Всякая баба жизнь начинает по-своему. Ну, а все-таки… бабьему цвету считают только тридцать лет. А счет ведут по порядку после первых семнадцати. До той поры растет девка, набирает силу и разум копит, а в семнадцать годов цветет, как мак… Самый сок молодости. А минует тридцать — знай, что полжизни прожито, полжизни самой хорошей… Вот и я к этой черте подхожу. Ну, только жизнь-то у меня, Ариша, особенная…
Наталкин отец — стрелочник Криворожской дороги — в шестнадцатом году вместе с Якубом покинул родную станицу, объятую огнем войны, и поехал искать спокойного места. Случайно наткнулись на Вьяс и тут поселиться надумали. Мать умерла на этой чужбине вскоре.
Несколько лет спустя Наталку выдали замуж, а отец, когда выпала служба на железнодорожной станции Кудёме, ушел туда, и с тех пор живет одиноко, встречая и провожая кудемовские поезда. На днях наказывал с возчиками, чтобы Наталка его наведала. Но в один день туда и обратно не обернешься, а кроме выходного — все дни у ней заняты.
— Замуж пошла не по любви, а так, по неволе жизни. Не будешь выбирать жениха, когда за столом есть нечего… Это сейчас вот: сама работаю, сама себе хозяйка, а тогда… холодно было в жизни… Ну, забеременела я, родила, конечно, с этих пор и накачалось на мою шею страданьице: как ремень жесткий, ни ножик не режет, ни ножницы не стригут. Как хочешь. Куда от него денешься?.. А муж — Миш
анькой звать — маленький, щербатый, белобрысый, как Пронька Жиган, такой же вертлявый, с норовом — ни с горы не везет, ни в гору, и к тому же хилой. Прямо сказать — нелюбимый муж. И день, и ночь с ним поневоле. Ребенок от него помер на пятом месяце, а после этого муж опостылел навовсе. И стала я приглядывать себе другого.
Ариша взглянула на Наталку с испугом и любопытством:
— Мужа?
— А что? Я — молодая, здоровая, жить охота. — И рассмеялась заливисто, потом продолжала: — Мужа провожу на работу, а этого поджидаю. В окошко все глаза прогляжу — нейдет ли? И страшно, и хорошо. А как придет он — весь страх пропадает, станет ничто нипочем. От людей Миш
анька дознался (соседи нажаловалися) — подкараулил, бить меня полез, а этот не дал.
— Да ты про которого? Про Ванюшку Сорокина, что ли?
— А то про кого? У меня их не десять. Ваня, конечно, бить не дал. «Ты, говорит, что лезешь? Что навязываешься? Тебя она и мужем-то не считает». Я осмелела: «Не люблю, говорю, и не любила. Батька силком за тебя выдал. Думала — привыкну, — не смогла, а теперь у бабы кабалы нету»… Ушел он от меня, потом на конный двор поступил конюхом. Да вскоре беда с ним случилась: Орленок — зверь, а не конь, — убил его до смерти… Когда хоронили, плакала я и все думала: это я в смерти его повинна… И теперь, когда раздумаюсь, жаль его станет: несчастный он.
— Какая ты смелая, — сказала Ариша, вспыхнув от смущенья. — А сердце-то все-таки надвое рвется?
— С живым жить — горе и радость делить, а по мертвому — одна память, — ответила Наталка. — С Ванюшенькой хорошо живем… Боюся, не ушел бы… Говорю: «Давай поженимся», а он все собирается уйти куда-то. Любит меня, а все-таки дума такая есть в нем. «Взять бы, говорит, сумку да идти пешком вплоть до Крыма или Кавказа. На степи, на моря поглядеть, как тамошние люди живут — узнать бы, пожить, а надоест — податься дальше». Я уговариваю его: «Не ходи. Зачем, мол, тебе скитаться по свету, народ везде одинаковый». А иной раз и самой охота на Украину уйти, в станице пожить с ним вдвоем на родимом пятнышке. Может быть, сама виновата, что родину вспоминаю, — вот и запало ему в голову.
Иногда грезятся ей по ночам голубые, с детства знакомые степи да белые при луне хаты под тополями. То снится в степи дорога длинная… по ней уходит Ванюшка с белой сумкой, шитой ее руками, уходит совсем… У хаты одиноко стоит она, на ладонь висок положила и скорбно глядит вослед…
— Вот выстроят новый дом, вы с Алексей Иванычем переедете туда, а я Ванюшеньку к себе позову жить, — мечтает Наталка вслух. — Жить навовсе. Ребеночек родится — обоих одинаково пестовать буду: и дитё и мужа.
— А если уйдет?
Наталка грустно посмотрела в Аришины любопытствующие глаза, впала в раздумье: сама она знает, что может уйти и не вернуться вовсе. Мечтательный у него характер, горячий нрав, — такое горе может вполне случиться. За самое больное место тронула Ариша Наталку.
— Ну что же… коли охота — пускай идет. Мешать не стану. Соберу, что есть у меня, и… отдам на дорогу.
— А сама?
— Одна буду жить… руки у меня вон какие… здоровые… для работы как раз… Знаю: побродит да ко мне вернется.
Аришу до слез растрогала чужая любовь. Она поняла эту любовь, окунулась, как крылом в воду птица, и ей захотелось такой же большой любви.
— А мне вот тяжело, — жаловалась Ариша на свою жизнь. — То на работе он, то на собрании, то в ячейке. Уехал на лесопилку, прошла неделя, а его все нет. А приедет — опять все по-старому будет. Ведь он постоянно молчит: читает — ему не мешай, обедает — думает о прочитанном, куда уходит — не скажет, когда вернется — догадайся сама. Ждешь, ждешь, даже голова разболится…
— Полно, Аришка. Завидный у тебя муж… Зря ты это на себя напускаешь, уладится.
Ариша не слушала:
— Никогда он не поинтересуется, чем живу я, что думаю. Рассоримся, и кажется мне, что не люблю его, да и он… Разве так любят?..
Нынче она была откровенна и высказала, что копилось в душе давно. Неудовлетворенная настоящим, она пытала себя, каково будет будущее, хотела дознаться, придет ли перемена, а если придет, то с какой стороны. Время шло, не возбуждая в ней надежды на лучшее. Она взглянула на дочь, свернувшуюся под одеялом, — стало жаль и Катю, и себя.
Наталка улеглась на кровать и скоро забылась. Потом тихонько и нежно стонала, улыбаясь во сне. Ей снился какой-то сон: может быть, вместе с любимым она уходила в голубые края, где шумят ковыли и волнуется морем пшеница, а может быть, Ванюшка возвращался из дальнего своего путешествия, а она — счастливая — шагала просекой к нему навстречу…
Ариша неожиданно для самой себя подумала о Вершинине, — за последнее время мысли о нем стали настойчивее. Она долго еще сидела одна у печки; раскаленная дверка оставалась
неприкрытой, и жаром пригревало ей бок. С колен упала книга, и Ариша не подняла ее… неслышными шагами подкрался к ней тихий нежданный сон.
Вздрогнув, Ариша испуганно поглядела на дверь. Кто бы мог быть в такую позднюю пору? По легкому, дробному стуку поняла, что это не муж. Наспех накинула на плечи шубку, вышла в сени и, не выпуская из рук скобы, робко спросила:
— Кто?
— Я… не узнаете? — густой голос звучал знакомо.
Она переспросила:
— Кто?.. Это вы, Петр Николаич?
— Да, я. Иду со зноек. Запоздал. Увидел ваш огонек и… прилетел. — Она отпирала калитку. — Боялся испугать вас. Алексей Иваныч вернулся?
— Нет, еще не приехал. Он не говорил вам, что запоздает?
Вершинин ответил с прежней мягкостью и едва уловимой иронией — не то над Алексеем, не то над собой:
— Говорил. Но я подумал, что он все же вернется к сроку. К нему есть одно дело…
Ариша инстинктивно поняла, что причина его посещения иная, на минуту растерялась и, не зная, что сказать, молчала, ждала. Если бы не такая темень, Вершинин увидел бы у Ариши пунцовые от волнения щеки. Ее лоб и неповязанную голову обвевал свежий воздух, он забирался к ней в рукава, щекотал локти, колени, шею. Состояние настороженности и растерянности у ней быстро исчезло, она стала смелее, оживленнее.
— Когда постучались первый раз — я подумала, что это он, а когда второй раз… Он стучит не этак. Войдите, Петр Николаич.
Вершинин вступил в сени, притворил дверцу и остановился, не желая идти в избу.
— Я побеспокоил вас? Ариш? — Ее имя он обратил в мягкую музыку, которая прозвучала для нее, как ласка, как весна, которых так хотелось ей. — Вы не спали?
— Нет… не спится что-то.
— Почему? — Он сделал небольшую паузу. — Простите за такой вопрос… Отвечать на него не надо, молчите. — И она не ответила, а он над самым ухом зашептал во тьме: — Я скажу просто и прямо… Мне хотелось поговорить с вами… увидеть вас.
Ариша с дрожью слушала эту густую, сильную, ломающуюся речь и, когда голос его перешел в шепот, поняла волнение инженера. Ей стало страшно, в темноте она прижалась к двери, обшитой войлоком. Прислушалась, не проснулась ли Наталка или Катя. В избе было тихо, в сенях — темно и тесно.
Вершинин занял собою весь коридорчик, придвинулся к ней так близко, что ее шуба коснулась его пальто. Она схватилась в тревоге за скобу двери, желая уйти. Во тьме он не заметил этого движения и потому не удерживал ее. Подумав, она осталась.
— Ариш, вам не холодно?
— Нет, на мне шубка… А правда ведь, на воле — как весной?
— Да, погода замечательная. Кажется, что и снег готов растаять. Я шел и чувствовал — у меня за спиной крылья. На них и прилетел я, завидев ваш огонек. — Он тихо засмеялся. — А вам никогда не казалось такое — крылья?
— Наяву — нет, а во сне — да.
— Я это угадывал, мне хотелось бы… — и он замолчал, не досказав свою мысль.
Ариша осторожно спросила о его желании, и сделала это не без кокетливости. Вместо ответа он спросил сам:
— Иногда вам, Ариша, не хочется улететь из этого кольца лесов?..
— Некуда мне лететь, — молвила она с грустью. — И нельзя. Сижу постоянно дома, не бываю нигде, скука заедает. Я завидую вам, Петр Николаевич: вы — свободны, у вас — крылья.
— Воля каждого человека должна быть свободна, — сказал он значительно. — Я сегодня был на знойке Филиппа, и это мне дало очень многое… Даже хотел заночевать там.
— Что вы!.. Мне Алеша говорил — грязь у них, теснота.
— Это меня не остановило бы. Я живу всяко, изучаю людей, а человека поймешь не сразу, около него побыть надо.
— А ко мне вы… тоже изучать?
— Нет. Если вы хотите обидеть меня, то… — В его голосе послышалась скорбная нотка.
— Я пошутила… Поверьте, пошутила. — Она говорила искренне, просто, тепло, как бы согревая его сердце.
Она нашла что-то и села. Он сделал полшага влево, пощупал рукой: у стены стоял сундук, покрытый дерюжкой, сел рядом.
— Не надо скучать вообще. Если вдуматься глубже, каждый человек одинок в той или иной степени; одиноко приходит в мир, одиноко уходит из мира. Жизнь очень бедна и коротка. Берите от нее все, что она может дать вам, берите мудро. Делайте жизнь полнее, содержательнее и… не скучайте. Тоска и грусть делают человека неустойчивым. Человек должен быть жестким, смелым, решительным. — У Вершинина было такое чувство, словно сидел перед, ним слабый, неопытный, но очень близкий и дорогой человек, нуждающийся в его помощи. — Когда-нибудь я вам расскажу о себе…
— Я буду очень рада, — вырвалось у нее неожиданно. Этим она выдавала себя с головой, взволнованная необычным свиданием.
Забылся и Вершинин. Он наклонился к ней, крепко обнял за плечи, припал к ее губам. Ариша тихо вскрикнула, поспешно встала с сундука.
— Не надо… уйди… — зашептала она, не называя его по имени. — Уйди… Холодно… Пора домой. — Она была опять у двери и поправила шубку. Вершинин не стал удерживать.
— Спокойной ночи, — сказал он негромко, лишь для нее одной…
Глава XI
Молодая песня
На востоке разгоралась заря, розовело сизое темное небо, хмурые сумерки утра убегали прочь. Белым ущельем бесконечно тянулась просека, слева и справа поднимался высокой грядой красный товарный лес. Кусты можжевельника тонули в сугробах, мимо них и пролегла прямая дорожка — зимник.
Ранним утром по ней шагали лесорубы в делянку, с пилами, с топорами в руках; хрустел под лаптями снег, сизое махорочное облачко взвивалось над головами. В обычном разговоре перемежались шутки и смех молодых с деловитою речью старших. Иногда, неосторожно задетые, вздрагивая, металлически звенели пилы. Вот миновала вырубленная недавно кулиса, где, качая вершинами, шумели семенники, будто окликали они знакомых.
Пронька Жиган поднял белобровое с веснушками лицо и лихо взметнул головой.
— Семен! — окликнул он артельного старосту. — Здорово мы разделали дачу-то!..
Коробов Семен — с русой окладистой бородой старик, шел с топором в руке; оглянулся он на Проньку неласково:
— А похвалить не за что… Бережнов выговаривал за нее, Горбатов — тоже. Этак работать будем — как раз попадем в газету.
— Сам ты, чай, Коробов, к ним с жалобой ходил, — предположил Пронька Жиган.
— Не жаловался, а надо бы… и в первую очередь на тебя, Прокофий… да вон на Платона.
Сажин Платон — высоченного роста, худой лесоруб, бодро вышагивал рядом с Пронькой. Маленькие карие глаза его обычно были озабоченно хмуры, а нынче глядели повеселее: делянка, куда подвигалась артель, сулила немалый заработок.
— Ладно, Коробов, не заедайся, — проворчал Сажин. — В деревне шабрами живем, не надо бы этак-то… А если это шутки — так они ни к чему.
Пронька Жиган небрежно отмахнулся рукой:
— Пускай посвистит… не жаль. И опять же нисколь не боязно. Делянку-то не кто другой — мы с тобой схлопотали… Верно, Сажин? Не Коробов уламывал Вершинина-то, а я. Должны все помнить.
Шел Жиган впереди, сдвинув старую кепку на левое ухо: его не страшил мороз. На выгнутых ногах он вертелся бесом, язвил, озорничал. У него постоянно чесались руки, и не потому только, что были они в чесотке, а такой уж у Проньки беспокойный характер. Когда ему надоела своя болтовня, принялся за кепку: согнул козырек, оторвал ремешок, отгрыз зубами пуговицу и кинул ею в сборщицу сучьев Палашку:
— Лови, хозяйка, сгодится.
— Давай, — ответила Палашка густым, немного охрипшим голосом и сунула пуговицу в карман. Она, должно быть, нынче не выспалась и всю дорогу ежилась от холода.
— Озябла? Давай погрею. — Пронька петухом подскочил к ней, взял под руку, она не противилась. — А скажи, Поля, какие предметы у тебя зябнут в первую очередь? — подмигнул он лукавым глазом.
— Уйди, Пронька, — замахнулась она, — а то вот. Уйди, охальник.
— Ай да, Пелагея Никодимишна… Какие вы, право!..
Балагур Пронька долго увивался, как петух вокруг курицы, ластился, не отставал, понимая, что нравятся Палашке такие речи. Через некоторое время он опять принялся истязать отслужившую ему свой век кепку.
— Видал, Ванюшк, такую? — спросил он Сорокина. — Околыш шведский, козырек норвецкий, английский пух, а наш дух — потому так долго и носится. Ха-ха-ха!..
Ванюшка Сорокин и Коробов Семен до тонкости знали повадки белобрысого парня и на злые шутки его никогда не отмалчивались. На этот раз ответил ему Сорокин:
— Глупый пес и на хозяина лает, а жрать захочет — к нему бежит.
— Правильно, — поддержал его Коробов. — Подсыпь… а то я добавлю: мануфактура — ивановская, вата — туркестанская, а вонь от фуражки — Пронькина.
Лесорубы загоготали. Довольный победой над въедливым парнем, Коробов ускорил шаги.
Было у Семена Коробова четырнадцать человек в артели, и неразбитная девка Палашка в этом числе — единственная представительница от женского пола. Кроме них, здесь мало-мальски приметные люди были: Спиридон Шейкин — пожилой, чернобородый, угрюмый; у него плоское, вытянутое лицо, плотные плечи, широкий, как у женщины, торс; барашковая, колом, шапка делала его фигуру острой; шея кривилась немного вперед и влево, за что и прозвали его Кривошейкиным; с этим прозвищем живет он во Вьясе четвертый год. Гринька Дроздов — невзрачный юнец, да Ефимка Коробов — сын Семена — большие охотники до песни и закадычные приятели Ванюшки Сорокина. Было еще семеро таких, без которых артель могла всякие дела решать и совета у них не спрашивать.
До делянки оставалось два километра. Ванюшка Сорокин и Гринька Дроздов налаживали песню. Ванюшка, любитель старинных песен, на их манер сочинял свои, за это и слыл сочинителем. В песню «Поход» вложил он свою любовь к украинским степям, о которых слышал не раз от Наталки и знал из газет и книг. Запевал он звонким, переливчатым голосом:
На-ши ребята в поход пошли,
Су-умки тяжелы с собой понесли…
Гринька Дроздов взметнул высоко тенорком, подхватил припев и, покачивая головой в такт, выстукивал звонко, как на гитаре:
Ай-да-да, ай-да-да, ай-да люли,
Наши ребята в поход пошли.
Хмелея от песни, Ванюшка пел, растягивал концы, тревожа сердца лесорубов высокой целью похода:
Спокинули жен, детей и сестер,
Чтоб вырвать у белых степной простор.
Палашка не устояла первая, за ней Ефимка Коробов, а напоследок грянул бас Платона Сажина. Песня звенела теперь в пять голосов.
Сорокин явственно видел перед собой просторную даль голубых степей, слышал ковыльный шум, зыбучий, как море.
А степи-то, степи, кругом ковыли…
Наши ребята в поход пошли.
Жиган прислушивался к песне внимательно, иногда хмурил лоб, дергал крутым, широким плечом; косясь, заглядывал высоченному Сажину в рот и со снисходительным высокомерием улыбался. У Проньки был дряблый, неприятный голос, что стыдно с таким выступать на людях, но он хитрил, ничем не выказывая зависти. Нынешняя песня ему определенно не нравилась, он напустил на себя тучу серьезности, в словах его послышалась притворная тревога:
— У Платона, никак, новая трещина обозначилась? Вот беда-то… Платон, лопнул голосок-то?
Сажин повернулся к нему виском и, глядя сверху вниз, пробасил простодушно:
— Пшел к черту, аглицкий петух!..
Белые ресницы на белобровом Пронькином лице замигали часто:
— Ха-ха… молодец Платон. Понимать шутку у тебя есть способность. Молодец. Ванюшке вон далеко до тебя. Эй, Сорокин, откуда ты такую песню достал? Али в Наталкины ковыли лазил?
— На похабство не отвечаю.
Коробов Семен толкнул Проньку под локоть и наставительно принялся урезонивать:
— Ты, Пронька, умный, а дурак. Тебе что до чужой бабы, забота? Грязи прилепить хошь? Баба у него — работяга, крыло твердого содержания. На тебя и глазом не поведет. А ты — туда же.
— Хм, — дохнул Пронька презрительно. — Не поведет, говоришь?.. Может быть. Ванюшка-то вон с начальниками — за ручку, а я что — ни к шубе рукав, пятое колесо к телеге. Ему повышение скоро дадут. Где тут равняться!.. Говорят, что мы будем шпальник пилить, а он поедет в Англию, продавать — прямо самому Чемберлену… Ванюшк, хохлушку свою с собой возьмешь али мне оставишь?
— Кабы что поумнее спросил — ответил бы.
— Где набраться ума? Отец неученый был, стекла вставлял… Да и я не профессор.
— Зато много мест облетел. Летун.
Жиган запрокинул кудрявую голову и раскатился смехом, потом вдруг произнес сухо и приглушенно:
— «Летун»… Сказал тоже… Подумаешь — обидел. Природа моя такая: хочу — здесь работаю, хочу — нет, а у нас везде дисциплина. Ширины нету, кругом плетни, а я — чтобы долой их. Понял?.. Не желаю по одной дороге ходить. Мне чтоб туда — по этой, оттуда — по той… Захочу — и поперек лягу… Верно, Шейкин?… Чего молчишь, Кривошейкин? — Он остановился и, когда чернобородый хмурый пожилой лесоруб Шейкин поравнялся с ним, Пронька Жиган хлопнул его по спине. — Ты что нынче какой? Ровно тебе крыло подбили, а?..
Спиридон Шейкин шел тяжело и более обычного кривил шею.
В лесу запахло гарью: знойки углежогов — Филиппа и Кузьмы — находились поблизости, а тихий ветер тянул как раз из низины. На голом суку березы сидела лохматая, нахохлившаяся ворона: видно, слишком далеко залетела она от поселка и, одиноко скучая, картаво каркала и качалась. Шейкин покосился на нее и шумно вздохнул.
В том месте, где вылез из-под снега межевой столб и дорога повернула под прямым углом вправо, лесорубы остановились. Зрелые, товарные сосны стояли плотной стеной, розовые стволы — прямые, гладкие — тихо шевелились. Свежий бор шумел. Сорокин поднял голову и, чтобы не свалился шлем, придержал рукою.
— Хо-ро-ший лес! — вымолвил он с какой-то лаской и восторгом.
— Да, — подал голос Платон Сажин. — Мы тут денежку зашибем. Молодец Вершинин: в хорошую делянку нас поставил. За денежку ему спасибо.
— Обрадовался? — с осуждением спросил Коробов. — На белом свете денег, брат, много. Гору золотую сложишь, ежели воедино собрать. Всех денег не заработаешь, а вырастишь в себе жадность, и она же тебе аппетит испортит.
— Ничего, не испортит. Денежка — она всему голова, всему королева, — определил Платон Сажин.
— Кто про что, а вшивый про баню! — крикнул Дроздов. — Платон спит и видит, как денежка катится.
— Будешь «паршивый», коли лошадь купить захочешь, — конфузливо оправдывался Платон. — На нее надо припасти три сотни, а они зря не валяются. Вот и приходится… Верно, Прокофий? — оглянулся он на Жигана, ища у него поддержки.
— А то как же… Но ты, Платон, все равно, сколь надо, на лошадь не скопишь. Самоквасов вон — молодец: ссуду у директора выцарапал. Тереби и ты. Рабочему человеку помочь обязаны, раз имеет желание лошадником стать.
— Это как «тереби»? — удивился Ванюшка Сорокин и даже озлился на Проньку за такие советы. — По-твоему, леспромхоз каждому будет ссуду давать?.. Что он, неиссякаемый источник?
— А что? Должны прислушаться, раз нуждается человек? — не унимался Пронька. — Не бойся, не обедняют. На всех хватит. А Платону много не надо… Почему же ему не дать?
— Подумай, тогда сам поймешь, — резко повернулся к нему Сорокин. — А ты, Платон, в колхоз вступай, если в лесу не нравится.
— В колхоз без коня не возьмут, — опять ввернул Пронька и, поглядев сухими и злыми глазами на Ванюшку, передразнил: — «Подумай»… Я уж надумался, ты подумай… Почему Платон должен стать жертвой?.. А ежели он не желает быть жертвой, а желает лично стать хозяином?.. Платон знает, что у директора нашего заботы о живом человеке нет и не было. Это история определенно ясная… Прижим…
— А у меня вот сроду коня не было, — с чувством сказал Коробов. — Я двадцать годов в лесу и уходить не собираюсь… Мне хватает. Я — лесной человек, не жалуюсь.
Крупный плотный сосняк стоял стеной. Коробов осмотрел его с привычной, хозяйственной сноровкой и решил, что с другого конца начать кулису удобнее, — сваленные деревья придутся как раз комлями к дороге, чего и требуют правила. Глубоким снегом он повел артель через гриву бугра.
Выглянувшее солнце хлынуло в частокол розовых сосен.
— Э-гей, начинаем! — скомандовал Коробов.
Под острыми пилами падая, затрещал лес.

Часть вторая
Глава I
«Шумит!..»
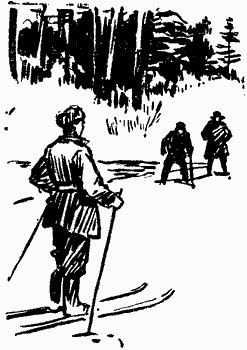
Ближний ставеж, где хотели достраивать эстакаду, находился в двадцати километрах от Вьяса. На всю эту длину тянулась лежневая делянка; она разрезала лесной массив надвое и неширокой, ровной трассой ушла прямиком к складам. Ползли по ней тяжелые сани, груженные древесиной: авиапонтоны, бревна, балки, столбы, крупный пиловочник. На возах сидели, точно застывшие, фигуры возчиков. В том месте, где трассу пересекала узенькая дорожка-зимник, прикорнула лесная будка — тут жили сторожа, на обязанности которых было поливать ледяную дорогу. За будкой виднелась широкая расчищенная поляна и на ней — бунтами лес, вывезенный из глубинных пунктов. В конце лежневой дороги друг за другом стояли подводы; ожидая очереди, навальщики грузили бревна. Это и был ставеж.
Ефрем Герасимович Сотин с плотниками приехал утром: его небольшой отряд, вооруженный топорами, долотами, пилами, высадился у будки. Плотники расселись — кто на завалинке, кто на бревнах — и, не особенно спеша, перед началом работ занялись едою. Сотин поторапливал их. Сам он быстро покончил с большим ломтем хлеба, двумя солеными огурцами и куском мяса с солью.
Рядом с ним на лавочке сидел, привалясь к стене, седенький, щуплый старичок — плотник Никодим, отец Палашки. Жевал он почему-то особенно вяло, словно бездельничал, и то и дело покашливал, вытирая ладонью свои жиденькие усы, потом начал вкрадчивым, осипшим голосом:
— К такой закуске не худо бы… бутылочку, а? Эстакадка была бы зараз готова. — И почмокал губами. — Наше рукомесло вольное, на ветру. Ефрем Герасимыч, не откажешь?
Сотин слушал его через силу:
— Отстань… Да я ведь и не обещал вам…
— Ты разреши только, — приставал Никодим. Плотники засмеялись, а Никодим между тем потихоньку полез в карман и вытащил оттуда литровку. — Вот она, сердешная, забулькала. Ты не препятствуй, Ефрем Герасимыч. Мы — в складчину. Все по маленькой. — Он полез в другой карман и, уже щерясь улыбкой и подшучивая, вынул чайную чашку.
— Ну, пёс с вами, — сдался Сотин, — только поживее. Сам я не буду. — Он отвернул рукав и взглянул на часы: — Через двадцать минут — все на работу.
Круговая чашка начала обходить плотников по очереди, а Сотин пошел на конец ледянки, где навальщики заканчивали погрузку. Подводы двинулись. Впереди всех шагал Мак — чалый пятнистый мерин-тяжеловоз. Он тащил за собой воз в пять кубометров и не чуял тяжести, только поматывал густой гривой да прижимал толстый хвост, а пройдя несколько шагов, тронул рысью. За ним тянулась изо всех сил с таким же возом гнедая сухопарая Динка, но ей было невмочь, и, казалось, она не пройдет полкилометра — упадет и не встанет больше.
Сотин подозвал десятника — руководителя погрузки и сердито спросил:
— За чем вы только смотрите?..
— А что? — не понял и немного смутился десятник.
— Почему вы на сильных и слабых лошадей кладете одинаковые воз
а? Посмотрите на Динку: старенькая, слабая, изработанная лошадь, — с каким трудом она тянет!.. А вон чалому такой воз — нет ничто!.. Тяглом надо распоряжаться по-хозяйски.
— Э-э! — пренебрежительно протянул и даже посвистал десятник. — Тут сотни лошадей. На каждую составлять особый план вывозки?.. Канителиться за бесплатно?
— Лошадей губить проще. Лень пошевелить мозгами.
— Нет, не лень! — повысил голос задетый за живое десятник. Он помолчал, по-видимому раздумывая: или сказать напрямки, или обойти щекотливое дело сторонкой? Потом поднял на лесовода умный тяжеловатый взгляд и приглушенно сказал: — Я номинально считаюсь заведующим ставеж
а, а на самом деле — ноль без палочки!.. И не первый год я такой… За меня наркомат думает, директор за меня решает. До Бережнова у нас два директора было — и оба учили нас другой науке: «Не думай, не рассуждай, слушай без шапки, что говорят, и делай, как прикажут»… Не будешь — сейчас же тебя правым уклонистом запишут, и конец!.. Ну и приучили: как велят, так и делаем, — а уж выгодно это хозяйству или вредно, нас про то не спрашивали. Стало быть, думать мне про это не положено.
— Ну, а если на совесть жить и работать? — спросил Сотин.
— Конечно: для с
амого малого ребенка ясно, что обезличка людей и транспорта пропащее дело, ущерб хозяйству на все сто. А я тут при чем?.. Если вы с новым директором намереваетесь переиначить и ставить дело с головы на ноги — я не против. Дайте мне письменное распоряжение — и я с большим удовольствием… Вон в Большой Ольховке куда зашло дело, — а кто их взгрел?.. Да никто сроду, потому что кое-чем сумели угодить прежнему начальству. Вот тут и бери ответственность на себя!.. Да на кой пес нужно это!.. Только врагов наживать?..
Сотин слушал его внимательно, потом написал докладную директору, в которой указывал на срочную необходимость разбить весь конный транспорт по группам и определить новые нормы вывозки по каждой отдельной группе лошадей.
— Спасибо, что все высказал откровенно. Поезжай-ка во Вьяс и там вместе с Якубом срочно займитесь… Потом долож
ите о результатах Бережнову и послезавтра непременно возвращайтесь сюда.
— Вот это другое дело, — одобрительно кивнул десятник с заметным облегчением и надеждой.
Плотники приступили к работе, заняв свои места: двое мерили нужную длину балок, отпиливали концы, ошкуривали бревна, разгребали до земли снег лопатами. Никодим на пару с молодым парнем пилили тюльку для клеток. Никодим орудовал за старшого. По чертежу Вершинина Сотин нарисовал ему на тетради, какой должна быть эстакада, и пояснил:
— У балок, перпендикулярных к дороге, отлогий подъем. Высота крайних к дороге столбов и балок не одинакова с высотой колеса, а выше. Задних столбов нет, вбивать их в мерзлую землю не будем, придется делать клетку из дров. Ширина обычная. Отступая по дороге тридцать метров, поставим вторую эстакаду, такую же.
— Это зачем вторую?
— Затем, чтобы погрузка шла на две подводы одновременно. А то у нас было так: на одни сани грузят, остальные ждут очереди.
— Хм! — туго соображал подвыпивший, осовелый Никодим. — Пожалуй, будет гоже. Ладно, две так две.
Сотин посмотрел на своего «помощника» коротким проверяющим взглядом и ткнул себе в лоб пальцем:
— Не шумит?
— У тебя — не знаю, а у меня, кажись, немножко шумит.
— Смотри, — предупредил его Сотин, — не во вред ли себе привез бутылочку-то?
— Ничего, пройдет. Тихон Сурков угощал в делянке. Эх, бывало!.. Одним словом: пожито-попито!.. У меня, наверно, и сердце-то вроде Африки: от винца-то оно, слышь, растет до самой смерти.
— Ну, ну, будет.
Сотин не мог ходить сложа руки и смотреть, как люди, сбросив шубы, ворочают бревна, лазят по колено в мокром снегу. Топор и для него нашелся. Он задумал стесать концы балок. С непривычки его руки дали несколько неверных ударов: он рубил сплеча, точно колол поленья; щепа отлетала шагов на пять.
Глядя на него, плотники насмешливо подмигивали друг другу, а Никодим крикнул со страхом издали:
— Эй-эй, Ефрем Герасимыч! Ухо себе не отруби.
Но Сотин приноровился быстро. Толстый торец балки под его топором постепенно становился все тоньше, потом сошел на нет округлым завалом. Тогда он принялся за вторую балку, а закончив ее быстрее и лучше первой, начал выравнивать концы обеих балок. После запиливал шипы стоек, подгоняя под гнезда, — и теперь опытный глаз Никодима уже совсем мало находил изъянов в работе лесовода.
Плотники мастерили клетки, выравнивая концы бревен, скрепляли железными скобами, двое поодиночке долбили гнезда. Когда все было заготовлено, начали сборку. Первую балку подняли кольями, подхватили на руки. Не роняя, нужно было посадить ее вершиной на клетку, а комлем — на шип. Но гнездо оказалось узким, следовало подрезать конец. Никодим взял пилу — и вдруг заметил, что клетка, сложенная на неровном месте, дала перекос; он бросил пилу, поспешно, чуть не падая, побежал вдоль бревна к клетке, сделал клин и полез под балку, чтобы забить его под нижний лежень. Он лег животом на снег и в таком положении работал.
Была теплая погода, около полден даже моросил дождь, поэтому поверхность бревен осклизла, обледенела. От ударов топора его клетка вздрагивала и вершина балки съезжала к краю. Комель еще не был посажен на место, его поддерживали двое плотников, не замечая угрожающего положения, в котором очутился Никодим.
— Готово! — крикнул Никодим и начал было вставать. Но в этот момент вершина балки свалилась ему на самое мягкое место и вдавила в снег. Старичок охнул от неожиданности. Плотники быстро подхватили комель, осторожно опустили со столба на землю, а под гонким концом барахтался Никодим изо всех сил и встать не мог. Бревно было сухостойное, вершина довольно тонкая, к тому же и снег был глубок и мягок.
Придя в себя, Никодим не кричал, не звал на помощь, а только сопел и отрывисто кашлял.
Двое парней подбежали с кольями, чтобы поднять бревно, и один, смеясь над беспомощным старичком, сказал:
— Погоди, не роди, дай по бабушку сходить. — И, стоя над ним, спрашивал: — Что? Прикипел, знать? Целуй мать-землю и вставай на ноги… А впрочем, утешь попа — помри.
Никодим поднялся, отряхнул снег и, как ни в чем не бывало, пошел за топором.
— Нежданная смерть — находка, — подмигнул он своим избавителям. — Вас бы эдак-то.
— Что, шумит? — спросил его Сотин, намекая.
Сконфуженный старик промолчал. После этого происшествия работа шла обычным ходом. К сумеркам первую эстакаду закончили. Вечером топили в бараке печку, сушили мокрые портянки, варили картошку, купленную у сторожа; все вместе ели, пили чай из трех кружек по очереди и, недолго повечеряв, полегли спать. Стеснив сторожей, лесные воины заняли печку, пол и две скамьи. Сотин порядочно устал за день, сказалась и прошлая бессонная ночь, проведенная у кровати больного Игоря. На жесткой наре он уснул крепко и проспал до утра.
Поднялись спозаранок и, как только рассвело, ушли на поляну. Сотин взял топор, с которым подружился вчера, и с новыми силами опять принялся за работу. Со второй эстакадой было хлопот больше: в этом месте глубже залег снег; кроме того, у дороги не было врытых столбов, и взамен их приходилось ставить четыре клетки. Мысль о второй эстакаде родилась у него здесь, на ставеже, и он на свой риск решил строить. Он не торопил плотников, не понукал, даже не указывал ничего, однако дело подвигалось быстро. Работали дружно, без остановок, подгоняя один другого. О вчерашнем происшествии даже не вспоминали.
В обычное время прибыли на ставеж коневозчики, и Сотин с плотниками помогал им наваливать бревна; хлысты длиной в двенадцать — четырнадцать метров, подталкиваемые руками трех-четырех человек, легко катились по гладким, обструганным балкам нового сооружения и сваливались в сани. Сотин с часами в руках подсчитал время, — экономия оказалась значительной.
Ровно через пять часов после того, как уехал обоз, была готова и вторая эстакада. Для пробы плотники выбрали здоровенный хлыст и с триумфом покатили его по балкам. Пострадавший вчера Никодим был настроен особо торжественно: немного пригнувшись, он шагал без всякого напряжения и с явным пренебрежением к тяжести подталкивал бревнышко. Смотрите, мол, какая необыкновенная легкость получается. И запел своим сиплым, дребезжащим голоском, плотники дружно подхватили песню:
А вот идет, бери — пойдет.
Идет, идет, сама пойдет.
Им подпевало отзывчивое лесное эхо. Тяжеловесное бревно задержали на концах балок и немного помедлили, допевая песню.
— Э-гей, берегись! — пронзительно закричал Никодим, предупреждая плотников. — Ать, два, три! — скомандовал он и толкнул комель. Бревно устремилось по наклонной обратно с глухим деревянным гулом и упало в снег.
Сотин стоял на лежневой, распрямив усталую спину и засунув руки в карманы, черный дубленый шубняк его был расстегнут. Потом он снял барашковый малахай, провел ладонью по лбу, отирая пот. Открытую голову и лицо приятно освежал ветер.
— Все… конец, — произнес Сотин.
Никодиму тоже хотелось выразить свои гордые чувства, но слов подходящих у него не было, и только нашелся сказать одно:
— Шумит! — и, хитро подмигнув, закашлял.
Глава II
Ольховские воры
Чуть занималось утро, когда Ефрем Герасимыч отъезжал от ставежа. По извилистой узенькой дороге, зажатой с обеих сторон плотной стеной леса да сугробами, бежал ходкой рысью вороной Тибет, пофыркивая и прядая чуткими ушами. Мимо мелькали гладкие стволы товарных сосен да телеграфные столбы, прятавшиеся по кромке леса, а на просеках кое-где попадались мохнатые кусты можжевелей да пирамидки молодых елок, окутанных снегом.
На большом ставеже сплавной речки Ольховки Сотин будет лишь к вечеру — впереди почти целый день пути… Он обычно ездил один, дорога редко утомляла его, — любил подремать в глубоких кошевых санках, подумать на досуге обо всем, что приходило в разум, подсчитывать в уме: каков товарный выход той или другой лесной делянки?.. Но сегодня он думал только об одном — об Игоре… Было мучительно больно от того, что ничем не мог он помочь своему сыну!.. Вчера жена звонила из больницы в контору, и перед сумерками один возчик привез ему известие от Бережнова: Игорю стало хуже!..
Плотные седые облака застилали все небо — свинцовые облака, и нигде нет среди них просвета! А лес казался суровым и тревожным… И только эстакады, сделанные за эти два дня, не утратили первоначальной прелести и значения.
Сотину хотелось поскорее добраться до Ольховки, покончить дела в один день и, не задерживаясь ни минуты, проехать в Кудёму. Но трудно предвидеть, что ожидает его в Ольховке…
Долго, нескончаемо тянулась эта знакомая дорога — лесами, ложбиной староречья, потом небольшим полем, где на склоне пологого бугра виднелась в перелеске деревенька — всего четыре избы, и снова непролазная чаща. Сотин прислушивался к неясным шумам и редким вскрикам птиц, иногда пролетавшим низко. Неподалеку пискнула белка, где-то в стороне долбил кору хлопотливый дятел.
В том месте, где дорога повернула к прореженной делянке, Ефрем Герасимыч увидел длинный обоз по лежневой: везли по ней бревна из лесосеки, направляясь на Ольховское катище, где вяжут на реке плоты, и еще увидел восемь подвод, нагруженных молодыми елками.
Речка Ольховка виднелась уже вблизи, довольно широкий плес, и на льду — само катище. Слышались топоры лесорубов в ближней делянке, потом — раздался сухой треск и хруст падающего дерева.
Отсюда проезжая дорога шла почти прямиком, рядом с лежневой дорогой, вплоть до самого ставежа…
Вязать плоты елками от пятнадцати до двадцати лет — обычное, почти повсеместное явление. Елка мягка, прочна и жилиста, и нет другой породы, которая могла бы заменить ее. Каждый леспромхоз, имеющий сплавные задания, заготовляет молодые деревца. Вьяс ежегодно губит их сотни тысяч!.. Печальная участь молодых елей впервые заинтересовала Сотина. Можно ли мириться с такой преждевременной жестокой рубкой, которая объяснялась, конечно, только равнодушием лесных работников к судьбе беззащитного поколения? Он даже удивился: почему до сих пор на эту беду не обращают никакого внимания? И так ли уж беспомощны лесоводы, чтобы разрешить эту насущную хозяйственную задачу? Ведь в технике, в науке, в промышленности совершены удивительные, несравнимые по трудности открытия…
Память подсказала ему: техническая отечественная литература и посейчас еще мирится с дикой патриархальной вязкой плотов, а давно следовало бы поискать молодым елкам замену. Это была бы очень ценная находка, можно легко и быстро применить ее… Наспех, взволнованно он обдумывал один вариант за другим, перебирая в уме лесные породы, пригодные для этой цели, но ничего не находил пока.
Густой березник сменился мелким ольховником, дорога начала спускаться в низину, а вырвавшись на опушку, побежала по отлогому берегу Ольховки, — и вот впереди показались бараки плотовщиков.
Убедившись в бесплодности торопливых изысканий, Сотин решил на время отступиться, а в оправдание привел обычный довод: «Ель выбрана опытом многих столетий, а вязать плоты цепями на малых реках невозможно».
Катище было безлюдно, рабочие разошлись по баракам, в конторе, стоявшей поодаль от строений, Сотин застал одного только заведующего конным обозом Староверова, но и тот собирался домой.
— У вас всегда так рано бросают работу или только нынче? — спросил Сотин.
Тот посмотрел на стенные часы, которые определенно спешили, и с тяжелой, давившей его леностью ответил, что «время-то уже вышло».
— Нет, не вышло. — Нежданный начальник осмотрел маленькую канцелярию, стол, заваленный бумагами, потом подошел к часам и перевел стрелку: — Если ваши ходики врут — проверяйте по радио… у вас есть оно… Добейтесь, чтобы рабочие вырабатывали полный день.
Староверов — высокий, тучный, средних лет человек с черными длинными усами и белым заплывшим лицом флегматика, стоял перед ним молча.
— Ну как живем, хозяин?
— Да ничего, понемногу. Закусить вам надо с дороги… Идемте ко мне, — предложил Староверов.
Перед уходом Сотин позвонил в Кудёму, — ему ответили не сразу, а ждал он с нетерпением, предполагая самое худшее. До него донесся шум и говор — значит приемные часы в амбулатории не кончились. Он попросил дежурную позвать жену к телефону. Унимая волнение, ждал. Наконец послышался женский, словно незнакомый голос: «С Игорем плохо: крупозное воспаление легких. Остаюсь в Кудёме»… Сотин положил трубку и вышел из конторки с опущенной головой.
После обеда Староверов нехотя повел Сотина на конный двор.
Около двора лежала копна сена; его ели коровы, вминали под ноги, растаскивали чужие телята и козы. У ворот был рассыпан овес, и никто не позаботился собрать его. В проходе между стойлами набросаны какие-то ненужные доски, щепа. Сбруя не имела своего определенного места и валялась как попало, а старший конюх, родственник Староверова, ходил мимо нее и будто не замечал. Он спрятал руки: одну в карман, другую за пазуху, а голову держал несколько набок, будто сводило шею. Годовые запасы сена он ухитрился стравить уже наполовину, через три месяца нечем будет кормить лошадей.
При первой встрече с Сотиным Староверов и старший конюх держались все же почтительно и довольно спокойно, потом настороженно, словно опасались сказать лишнее, опрометчивое слово, а когда Сотин второй раз обходил конный двор, вникая во многие мелочи, оба несколько раз, украдкой переглянулись между собою. С этого часа встала холодная стена между ольховскими начальниками и приезжим лесоводом…
Утром Ефрем Герасимович пришел на ставеж, осматривал вязку плотов, размещение будущего сплавного «воза», выкатку бревен к плотбищу. Но идея — найти елке замену — овладевала им все глубже и глубже. Неожиданно зародившаяся, она приобрела значение большой экономической проблемы, ставшей на очередь, и он уже знал, что не отступится от нее.
На снегу лежала перекрученная и лопнувшая вязка, — он поднял ее, вертел, раскручивал, свивал снова: в его сильных руках, действовавших с напряжением, она не ломалась, только пружинисто гнулась, а при кручении давала узенькие трещинки вдоль, — вот такие же свойства надлежало ему найти в иной древесной породе.
Ставеж шевелился от множества людей, глухой деревянный гул раскатывался над закованной в лед рекою. Один молодой парень уманил Сотина за штабель бревен:
— Скажу вам по секрету: плохи у нас дела. На днях кто-то увез стог обозного сена. Лес продают направо-налево. Пьянкой скрепляют круговую поруку. Староверов тут царь и бог. Всех запугал, все боятся. Иной раз до того туго становится, что даже и жить-то страшно…
Ольховские дела оказались запутанными. Следовало в них покопаться, чтобы отыскать концы… И вот Староверов опять стоял в конторе перед Сотиным, потупив упрямую голову. На висках его вздувались синие жилы, а пухлые дряблые щеки покрывались иногда серой мимолетной тенью. Глаза он прятал, от прямых вопросов Сотина увиливал, и чем дальше, тем неискуснее. Сотин едва сдерживался, чтобы не закричать на него, не затопать:
— Что вы мне лжете?.. Я все понимаю, все вижу. Не вихляйтесь: я вам — не зритель, а вы — не на сцене. Спектакль вы уже сыграли, остается только снять маску и актерский костюм.
Отказываться от всего решительно было бы глупо, и Староверов счел за лучшее кое в чем, с глазу на глаз, признаться, рассчитывая на то, что, проигрывая сегодня частично, он сможет завтра выиграть все, — и тогда Сотин не будет ему опасен… Да, сено продано, но не целый стог, а только небольшой воз, чтобы купить лошадям овса. Остальное сено вовсе не украдено, а растащили местные жители: бабы, девчонки, ребятишки. Да и от чужого, частного скота нет спасенья!.. За каждым не углядишь… Пусть Сотин выслушает его, — он говорит, как перед богом, всю правду. Он еще вчера вечером хотел рассказать все, но побоялся, да и стыдно: люди не слушаются, самовольничают, растаскивают корма. Бывает, что ночами поворовывают и лес из делянок… Он просит пощадить его — хоть ради детей (у него их пятеро!). Ефрем Герасимыч — добрая душа, у самого есть дети…
— Перестаньте! — оборвал его Сотин. — Когда пришло время расплачиваться, вы готовы заслониться даже детьми!.. Что, они вас на воровство толкают?.. Иметь отца-хищника постыдно и детям.
Староверов притих, ссутулился, даже стал вроде ниже ростом. Обкусывая вислые черные усы, он уже озирался украдкой по сторонам, но никто не появлялся к нему на помощь.
Заваривалась неприятная канитель. Сотину пришлось остаться еще на двое суток: медлить было нельзя, — он приступил к ревизии всего ольховского хозяйства. Провозился целый день, нашлось лишь полчаса сходить в столовую пообедать. Себя он чувствовал взвинченно, был сердит, раздражителен, а поздно вечером придя в барак к плотовщикам, почувствовал необычайную усталость, — лег на чьи-то нары и беспамятно проспал до утра.
Утром наступило в нем то душевное равновесие, которое было необходимо. Уже спокойно, чисто по-деловому, с официальной вежливостью, он продолжал последнюю беседу со Староверовым, потом принялся за акт проверки. Староверов сидел напротив него и по временам по-воровски заглядывал на форменный бланк, заполнявшийся все новыми фактами и цифрами… По-видимому, был Староверов отнюдь не трус: пока Сотин писал, тот с довольно безразличным видом курил папиросу, смотрел в заиндевелое окно, будто поджидал надежного защитника. В упрямых, немного прищуренных его глазах таилась угрожающая решимость.
— Ну, все написал? — нагло спросил он Сотина.
— Кажется, все. Остальное прибавят другие. А теперь вот что: распорядитесь, пусть принесут мне лыжи… Только нельзя ли поскорее, я тороплюсь. А часа через три запряжете лошадь.
— Хорошо… А на лыжах-то вы куда?
— В семьдесят вторую дачу… хочу посмотреть староречье: наверно, придется передвинуть большой ставеж.
Они говорили, не глядя друг на друга.
— Идите берегом Ольховки — тут прямее, а потом повернете от межевого столба к вырубленной делянке, и тут уже будет рядом, — посоветовал напоследок Староверов и вышел из конторы участка, провожаемый долгим настороженным взглядом Сотина.
Глава III
Один против двоих
На лыжах, с палками в руках Сотин катил по берегу Большой Ольховки, оставляя позади себя ровный след. Легко было идти по гладкому, плотному насту: не встречалось ни ям, ни оврагов, ни косогоров. Лес от берегов отодвинулся, дав простор колхозному полю. Местами попадались кусты ольховника и молодых берез, которыми так богата речка в верховьях.
Здесь она исхлестала равнину петлями, ими ловила весной уплывающую вниз древесину. Сплавной лес задерживался в частых ее извилинах, «размазывался» по берегам, как обычно говорят сплавщики; нередко получались заторы… Сотин воочию убеждался, насколько прав Бережнов, задумавший перенести ставеж ниже.
Семьдесят вторая дача, сплошь состоявшая из мелкого березника, виднелась неподалеку. Серой грядой она отлого спускалась до самой реки. Он быстро прошел это расстояние, сильно напирая на палки, и теперь, пройдя половину пути, нагрелся, устал с непривычки, потому что давно не ходил на лыжах.
У опушки вырубленной делянки, на крутом яру, он сел отдохнуть на старый спиленный пень, посбив с него обмерзлую снежную шапку. Стояла вокруг такая всеобъемлющая тишина, что он, глядя на пойму, задумался… У ног его лежали на снегу лыжи, кругом было безлюдно, пустынно, бело, ровная долина тянулась вдаль, тусклое небо плыло на запад.
В двух километрах отсюда начинались отлогие берега, широкая низина староречья, — русло Большой Ольховки выпрямлялось с этого места значительно. Ледянка, проходившая мимо, была неподалеку… Как недогадлив был прежний хозяин, купец Тихон Сурков, пренебрегший этой поймой!
Опершись на лыжные палки, Сотин осматривал долину, думая о том, что в скором времени здесь развернется битва — ее успех обеспечен самой историей: явятся сюда знакомые и близкие ему люди, построят бараки, расчистят заросли, проложат лежневую дорогу, и по ней заскрипят сани под тяжестью бревен. Он ясно представлял себе, как оживет пустынное староречье, как будут копиться бунты древесины на новом катище, — и стоит ему только зажмурить глаза, как прямо перед ним начинают двигаться на реке и на берегу люди и черными большими квадратами ложиться на снег связанные плоты, чтобы весенний паводок унес их в низовье.
Постепенно сгущались сумерки, с поля подул ветер, знобило спину; ноги, пристывшие к снегу, немного зябли, клонило ко сну. Он поднялся, зачерпнул полные пригоршни чистого зернистого снега и начал растирать лицо. От удовольствия фыркал, покрякивал, словно умывался холодной, ледяной водой. Щеки горели. Он утерся носовым платком, потом посмотрел на часы:
— Ого… пора ехать.
Надев лыжи, полным ходом пошел обратно. Сильные движения скоро разогрели его, приятная теплота разлилась по всему телу, в голове было свежо, в груди просторно. Он чувствовал в себе такую уравновешенность и силу, что, если бы даже встретил стаю волков, ничуть
не оробел бы перед ними…
Обогнув кусты ольховника, он увидел двоих лыжников, шедших к нему навстречу.
— А-а, злой дьявол! — заворчал Сотин, не останавливаясь. — Ты думаешь, поймал меня в ловушку?.. Ничего ты мне не сделаешь. Я еще давеча понял, зачем ты выспрашивал меня, куда еду, и отворачивал рожу…
Рядом с черноусым тучным Староверовым шел на лыжах старший конюх с толстой палкой в руке. Поджидая его на берегу, они о чем-то говорили, а может, только делали вид. Сотин заглянул под крутой берег: там в густеющих сумерках зияла черная полынья, дышавшая густой испариной. Не трудно было догадаться, почему именно здесь остановились воры.
«Однако, черт возьми, их двое… Не напрасно ли я взманил их?.. А впрочем…» — подумал Сотин, продолжая путь.
Он подошел к ним на лыжах и спросил с некоторой начальнической строгостью:
— Вы что же со мной не пошли?.. Собрались после времени.
— Он — растяпа, — кивнул Староверов на конюха, — не догадался, и мне невдомек. А потом видим — запаздываете, решили сходить, — мол, не завяз бы где али в полынью не свалился. — Он уставился лбом в землю и что-то уж очень внимательно разглядывал увесистую ореховую палку в руках конюха, а тот, угрожая Сотину, и сам определенно робел.
— Спасибо, что пожалели, — усмехнулся Сотин принужденно. — Только напрасно беспокоились… здесь трудно пропасть человеку: за Ольховкой следят… Ну, айда обратно… Лошадь готова?..
Конюх задержал его, перегородив дорогу:
— Постой, не торопись. Коли зашел, так надо… надо покалякать с тобой.
— Не возражаю, давайте… Только вы все равно от меня ничего не добьетесь… Скрывать ваши грехи не могу, другого акта писать не буду. — Его смелость поразила обоих, Староверов поднял на Сотина белое, как тесто, расплывшееся лицо и нервно задергал усами. — Если бы, — продолжал невозмутимо Сотин, — я сделал это, жалеючи вас, то через несколько дней приехал бы Горбатов или сам директор. И так, и этак от суда не уйти вам.
— Ведь у меня дети! — вдруг зарычал Староверов, потрясая поднятыми кулаками.
Сотин чувствовал, что скажи он теперь хоть одно неосторожное, резкое слово — и вор или упадет к нему в ноги и начнет реветь, или вырвет у конюха ореховую палку и размозжит ему, Сотину, череп.
Уже более мягко Сотин сказал:
— Вы же взрослые люди… Сами понимаете, что я не по злобе на вас пишу директору. Мне лично вы ничего плохого не сделали… Если бы вы были неисправимые воры и трусы, вы могли бы выместить на мне, а потом… стать к стенке… Я вам вот что посоветую, по-человечески: дождитесь суда, расскажите правду. — И, помолчав, добавил: — Если хотите, я доложу Бережнову только то, что есть в акте, и ничего больше.
— Не скажешь? — облегченно вздохнул наполовину прощенный Староверов. Все же по глазам было заметно, что не верит.
— Не скажу, — твердо обещал лесовод. — Ну, пошли обратно, — пригласил он обоих.
Все трое встали на лыжи, тронулись вдоль берега. Сотин шел впереди, а оглянувшись на конюха, шедшего позади с палкой в руке, чуть усмехаясь, посоветовал:
— Брось палку-то… А то увидят, подумают что-нибудь плохое…
Конюх размахнулся изо всей силы, — палка, переметнувшись несколько раз в воздухе, булькнула в полынью.
Глава IV
Омутнинский угол
Пока Сотин занимался Большой и Малой Ольховкой, Алексей Иванович Горбатов, выполняя поручение Бережнова, колесил по делянкам зюздинского участка. Сегодня пробирался он в само Зюздино, и перед ним, на козлах саней, сидел старик возница.
От Вьяса до села Зюздино — сплошные хвойные леса. Высокой стеной стоят они по сторонам дороги, которая, бесконечно извиваясь, ведет на север. Может быть, только чудилось Горбатову, что чем дальше, тем все больше становится елей в почти нехоженой здесь Омутнинской тайге.
После полден они вступили в просеку. Похожая на белое глубокое ущелье, она протянулась километров на девять прямиком… Задумчив и красив бор зимою!.. Какие-то грустные старинные напевы слышатся в его неугомонном вечном шуме. Горбатов заслушался невольно, очутившись в их сладком плену, и будто в полусне припоминалось ему что-то свое, родное, над чем он уже не властен… Или далекое непозабытое детство вернулось к нему опять, или первое свидание с Аришей, или продолжается сказка, которую, придумав сам, он рассказывает Кате, а она, сидя у него на коленях, глядит в глаза, светло и доверчиво улыбаясь…
Молчит его возница — почти столетний старик в буром чапане, подпоясанный кушаком. Его седые длинные усы прожелтели дотемна от махорочного дыма, а глаза почти совсем потерялись под лохматыми, кустистыми бровями, — и было не понять, как смотрит он через этот волосатый навес… Древний старик, он едет, наверно, из одной вечности в другую, чтобы взглянуть и подивиться на новый мир… Сутуля спину, он задремывал в дороге часто, но резвый жеребчик Звон все время не переставал чувствовать его вожжи, — недаром сказал Горбатову Якуб, когда провожал от конного двора: «Ты не гляди, что старичок будто дряхлый; среди возчиков — хоть по человеку перебери — не найдешь такого: в любую метель отыщет дорогу, не собьется. И быстро ездит, и коня сбережет…»
Старик, мельком глянув на межевой столб, наконец подал голос — хриплый, простуженный:
— Недалеко осталось, Лексей Иваныч, — молвил он. — За час на месте будем. В конце просеки этой делянка вырубленная, а за ней и Зюздино будет, а рядом — Красный Бор.
Рукою в самодельной варежке он отогнул воротник чапана и повернулся к Горбатову бородатым заиндевелым лицом:
— Сказывали мне: отсель зыряны недалеко, — мол, за двое суток добраться до них можно… Вот удивительный народ!.. В шубах, слышь, и зиму и лето ходят — что бабы, что мужики. А покойников своих будто бы в снег сидя закапывают… А комы — племя такое — в соседях у них проживают… Партийных, слышь, там совсем нет.
— Болтают много, ты не всякому слуху верь, — ответил на это Горбатов. — А партия, она, дед, по всей земле.
— Неужто по всей? — не поверил старик. — А ты ее, землю-то, всю прошел? Всю самолично видел?
— Нет, не всю.
— То-то вот и оно, что не всю, — сказал старик участливо, как бы снисходя к неведению молодого. — А еще толкуешь, что комов нет… Есть, тебе говорю… Не может того быть, чтобы комы не жили: всяких племен на белом свете много — и комы есть… В лесах они, только тамошние леса еще выше, от земли до неба. И до того густые, что зверю тесно… А как выйдет из тайги на полянку али к речке, тут его, конечно, больно просто достать — из ружья али каким другим манером… Вот эти комы зверем и промышляют, — все до мала охотники… То белка, то медведь, то рысь, то куница, а олень у них — заместо лошади… Лоси тоже попадаются, ну, их убивать нельзя — это зверь чистый, святой, вреда никому не делает…
И, докурив свою цигарку, старик продолжал:
— А Пронька Жиган убил лося, убил в те поры, когда еще в Зюздине жил… Бедовый парень, ловкач, силища в нем большая. И с норовом, занозистый, самовольник… Лося он убил по осени: голову с рогами топором оттяпнул, зарыл их в землю, а мясо продал… Как же, большие деньги огреб… Да сплошал малость. То был сверх плута на два фута, а тут опростоволосился: люди наткнулись на рога-то — из земли торчали малость, ну и нашли, дознались… Из партии его выгнали, потом судили… А после того он опять на берег выбрался: в Зюздине пожил, потом в Красном Бору лесорубом жил. Оттуда его за что-то турнули, не поладил с начальником… Ну, и пришлось ему на другое место сматываться: в позапрошлом году во Вьяс к вам пожаловал… Его ты должон хорошо знать… Сучковатый он, с норовом. — И, показав вперед кнутовищем, прибавил: — А вон, гляди, и Зюздино.
К самой лесной стене приткнулось унылое сельцо — десятка два приземистых, снегом задутых изб, а вблизи от них, в прореженном сосновом лесу, новый поселок Красный Бор, где находилась и лесопилка…
В этот глухой, непролазный угол пришли планировщики и строители в двадцать пятом году. Древние леса расступились перед ними, и на свежих, необжитых просторах, рядом с раскольничьим сельцом, возник новый рабочий поселок с населением в восемьсот душ… Он имел свою неписаную историю борьбы с непокорством людей старой веры, но постепенно побеждал, разрастался — и уже помечен теперь на новых картах. Возникшее здесь лесное хозяйство в прошлом году вошло в состав Раменского леспромхоза…
Подъезжая к Красному Бору, Горбатов видел издали, сквозь редкие сосны, большие рабочие бараки, избы с голубыми и зелеными наличниками, огороженные палисадами, и точно впервые любовался этой нарядной иллюстрацией к книге, которая повествовала о молодой стране. Было приятно думать, что молодость ее совпала с его собственной молодостью. И если бы с ним рядом, в этих удобных плетеных санях, сидела Ариша, он рассказал бы ей, как возникала здесь жизнь, как люди начинали обживать этот угол, — в прошлый раз, в начале июня, когда Горбатов приезжал сюда впервые, старожилы много порассказали ему о старом и недавнем прошлом…
На лесопилке тоненько и протяжно загудел гудок, оповещая о конце рабочего дня. Старик возница прислушался, подставив ухо, и с облегчением вздохнул:
— Вот и дома… Ишь кричит-заливается «соловей наш»… Мертвое тут было место, а теперь повеселее стало… Много расплодилось народу — редко помирают, живут…
В поселке навстречу им стали попадаться по дороге люди, шагавшие из делянок, с лесопилки, с лесного склада, и некоторые, узнав Горбатова и старика, приветливо здоровались.
Горячий и потный, покрытый изморозью Звон, прядая чуткими ушами, озирался по сторонам, потом, рванув сани, круто повернул к конному двору, стоявшему на бугре поодаль…
Канадская диковинка не сразу далась красноборским «мастерам». Сняв старый железный обносок — лесопильную раму, они уже перевезли из Вьяса в разобранном виде новую раму и с утра до вечера потели над ней, постигая ее премудрость… После шестидневных напрасных трудов, когда уже потухала у ребят всякая надежда, и появился кстати Алексей Иванович Горбатов…
Он пришел на лесопилку в тот же вечер, чтобы приглядеться к заморскому чуду, как прозвали раму на поселке. Ему светили двумя фонарями «летучая мышь», и этого тусклого света хватило, чтобы разглядеть не найденные ребятами простые секреты… Взаимное сцепление частей поражало своей бесхитростностью. На металлургическом гиганте Горбатов не с такими имел дело; лесопильная рама — только дальняя, самая маленькая, наивная родственница тем, какие он знал. Руки его уже тянулись к отполированным станинам, знакомый маховичок с противовесами сам просился на свое единственное место и почти кричал о работе. Семь пил готовы были по первому знаку вытянуться в челноке вертикально между стоек, цилиндрические валики-рябухи, подающие дерево в раму, как бы сами собой располагались попарно по обе стороны рамы, а стол с зажимами оказывался самой обыкновенной тележкой.
— Завтра начнем пилить тес, — только и сказал Горбатов, уходя от несобранной пилорамы. А тронув одного юнца за локоть, прибавил ему в назидание: — Не проспи завтра, пораньше приходи: тебе первому освоить надо — ты комсомолец. Я тебе все растолкую, сам поймешь. Тут дело совсем нехитрое…
На второй день новая лесопильная рама дала первую партию полового теса в триста штук. В перспективе, которая уже угадывалась, эта цифра непременно окажется самой меньшей из тех, что будут записаны позднее, потому что безусый юнец уже глядел на машину горящими глазами влюбленного, а девушки-откатчицы лукаво подмигивали ему: не осрамись, мол.
Возница-старик приплелся тоже сюда и, путаясь в ногах, перебегал с места на место, чтобы доглядеть за всем, что делали проворные горбатовские руки.
— А зыряны и комы тоже заводы налаживают? — спросил он.
— А как же, — не улыбнувшись, взмахнул бровью Горбатов. — Большевики, дед, по всей земле.
— Хм… большевики, значит? Та-ак… теперь понятно. Должно быть, по всей земле, — уже сам себе он втолковывал это для большей ясности.
Глава V
Сказка и жизнь
Увидев отца, Катя захлопала в ладоши, запрыгала, — белое, с оборками, платьице отдувалось ветерком движенья. Потом подбежала к отцу и, подняв на него серые, материны глаза, спросила нетерпеливо:
— Привез?
Отец не торопился с ответом, должно быть решив ожиданием и неопределенностью потиранить детское сердчишко. Ариша стояла рядом и наблюдала.
— А вот посмотрю… может, привез, а может, и растерял в дороге. — Катя следила за его рукой, опустившейся в карман. — Впрочем, сама поищи.
Шустрые ручонки обследовали один карман снаружи, потом — другой.
— Привез, привез! — громко закричала она.
Действительно, в кармане у отца было много еловых шишек — холодных и бугристых на ощупь. Подставив подол платьица, Катя уже командовала:
— Выкладывай, выкладывай все!
Он зацепил полную горсть и, пересыпая из ладони в ладонь, сам любовался прекрасным подарком, который «прислала белочка».
— Тут сколько? Тыща?
— Немножко поменьше… В дупле у ней лежали… Половину тебе отдала, половину для себя оставила. У вас с ней теперь поровну…
— А ты ей про меня сказал? — допытывалась Катя.
— Все рассказал… Живет, мол, во Вьясе одна маленькая девочка, звать Катей. Говорю, шесть лет ей скоро. На именины приглашал ее, — не хочет.
— Почему?
— Нельзя ей покинуть свою избушку. — Усадив дочку на колени, он продолжал рассказ. — Если она уйдет, то избушку ее займет другая белочка и орешки перетаскает… А орешков-то она запасла себе на всю зиму… И в дупле у ней разных сортов орешки! — Он вынул из портфеля пакет с орехами и пряниками и отдал Кате: — Вот тебе подарок от нее — на именины… Когда я с ней разговаривал, она в дупле сидела; сама в дупле сидит, а носик — желтый, остренький — выглядывает наружу… Хорошо у ней там, интересно…
— Давай к ней съездим? — встрепенулась Катя. — Я не озябну… у меня шапка новая, беленькая, в ней тепло… Поедем завтра?
— Да надо бы, только туда очень далеко… Летом лучше… Мы с ней так и уговорились: летом поедешь к ней в гости…
Маленькими щипцами он раздавливал орехи, а Катя ела, потом занялась опять еловыми шишками: собрала в подол платьица, понесла куда-то в свой уголок — и остановилась, о чем-то раздумывая. Вдруг шишки рассыпались по полу. За одной, укатившейся под Наталкину кровать, бросился из печурки котенок — серый, пестрый, с высоко поднятым хвостом. Поймав одну лапами, он свернулся мягким комочком и перевалился с боку на бок. Отец и дочь принялись собирать шишки, пригнувшись к полу.
Несмотря на приезд мужа, Ариша была рассеянной и задумчивой, но не сразу заметил это Алексей. Он подошел к ней, ласково погладил ее плечо:
— А ты… соскучилась?
— Почему, ну, почему так долго? — Вместо ответа она спрашивала сама, чтобы не выдать своего замешательства…
Но разве она не ждала Алексея с нетерпением? Разве без него ей не казались вечера и ночи бесконечными?.. И вовсе не ее вина, что он часто и подолгу бывает в разъездах!.. То, что случилось ночью в сенях, без него, никогда больше не повторится… Оно пройдет, забудется само собой… Но, прислушиваясь к себе, она с некоторым удивлением и беспокойством обнаружила, что к прежнему чувству ее к мужу примешалось нечто другое, цепкое, постороннее. Попытка изгнать его оказывалась тщетной: оно только забилось куда-то глубже, сжалось в комок и вовсе не собиралось покидать места, случайно найденного.
— Пришлось задержаться, — говорил между тем Алексей, — ставили раму, движок пробовали… Пилы жарят вовсю!.. Теперь на лесопилку можно подольше не ездить. Дело налажено. — Он не замечал и тут, что Ариша, слушая его, не слышит и через все его слова проносит свою, спрятанную от него думу. — Что-то Сотин привез из Ольховки? Он, наверно, приехал?
— Да. Ванюшка Сорокин сказывал… Заведующий там — Староверов — оказался вором. — Это было с ее стороны уловкой перекинуть разговор на более отдаленное, чем то, о чем они заговорили вначале.
Известие ошарашило Алексея, он был поражен.
— Вором?! Как то есть? Что за чертовщина! Надо сходить. — Он торопливо оделся и вышел, не сказав ей, когда вернется.
— Недолго там, я баню буду топить! — крикнула ему Ариша.
А оставшись одна, с досадой — не то на мужа, не то на себя — подумала: «Ушел. Не успел приехать, ушел опять… Ну, живет ли кто-нибудь, как я?.. Ведь это мученье».
Пожалуй, она не сознавала или не хотела понять, что лжет себе: ведь ее нисколько не огорчает уход Алексея — наоборот, сейчас ей хотелось остаться наедине с собой, потому и сказала о Староверове. Стараясь додумать что-то до конца, принять какое-то решение, от которого будет, как ей казалось, зависеть многое, она растерянно глядела перед собой, стоя посреди избы встревоженная, беспомощная, будучи не в силах овладеть своими мыслями. С немым взглядом, обращенным в себя, она в эту минуту чем-то напоминала Катю, неожиданно рассорившую по полу еловые шишки…
Катя никак не хотела остаться дома и пошла тоже.
— Вымоем папку, он у нас и будет чистенький, — рассуждала она, идя мелкими шажками позади матери по узенькой тропке, закутанная в меховую шубку и малахайчик.
Ариша принесла в баню вязанку дров, наносила воды, потом затопила печку. Сырые дрова принимались плохо, гасли, и стоило большого труда разжечь их. Сложенная по-черному, печь ужасно дымила. Точно в неволе, сидела Ариша в предбаннике на лавке и ни о чем не думала больше. Дым медленно выползал из открытой двери — желто-синий, густой, неприятно пахучий, от него кружилась голова — и Ариша почувствовала слабость, вышла из бани, села у плетня огорода на столик, сколоченный Ванюшкой по осени.
Отсюда через плетень виднелась баня — старенькое, закопченное строеньице, показавшееся безнадежно убогим, — с ним она сравнила свою безотрадную жизнь.
От бани кричала Катя:
— Мам… а воры тоже буржуи?.. Они плохие?..
— Да, — ответила она нехотя.
— С ними чего делают?
— Судят.
— А потом? — Дочь одолевала расспросами, на которые и отвечать было не просто.
— Ну, перестань… Тебе не надо это… Ступай домой…
С лесного склада Наталка вернулась перед сумерками, собралась было пообедать, но, заметив в углу на гвоздике чапан, сообразила, что Горбатов приехал и что Ариша для него топит баню. Сунула за пазуху кусок хлеба и ушла помогать ей. Вымыла лавки и пол, еще принесла воды, настелила свежей соломы в предбаннике, потом побежала за Ванюшкой.
В бараке стоял содом, лесорубы галдели, о чем-то споря. Ванюшка сидел на койке и переобувался, Коробов Семен варил на плите пшенную кашу, Гринька Дроздов подкладывал в печь поленья, а Шейкин, помогая ему, чистил картошку в общий котел. Низенький, кривоногий Жиган стоял у дощатой переборки и, размахивая руками, старался перекричать Семена Коробова.
Когда Наталка вошла, Жиган повернулся к ней и смерил глазами с ног до головы — взгляд его был пристальный и тяжелый.
— А впрочем, — сказал он, — мне от того, что подпишутся на заем или нет, ни жарко, ни холодно. Кому охота — тот пускай жертвует… Пускай начнут, а мы… поглядим.
— Да уж начали, — сказал Коробов, помешивая кашу. — Всем подписаться надо. Я — староста, другим пример показать должен. Подписываюсь. Ванюшка, пометь.
Ванюшка — одна нога в лапте, другая босиком — подошел к столу, на котором лежал подписной лист:
— Есть: Сорокин и Коробов. Черед за Дроздовым.
— Пиши, — охотно отозвался Гринька Дроздов. — Вызываю Платона.
Платон Сажин испуганно откинул голову назад, сказал со злостью:
— Не дам!.. Государство налоги берет? Берет… Пусть и строит, а я тут ни при чем. Я получаю какую-нибудь сотню рублей, и если начну строить аэропланты да подводные лодки, то что от меня останется? В таком разе я должон без хлеба сидеть… А с пилой без хлеба зря отощать можно. Охота поесть послаще… И лошадь мне нужно…
Коробов Семен, Ванюшка, Сорокин и Дроздов обступили Платона.
— Не ты один, а все понемножку. Из немножка, глядишь, тысячи соберутся, из тысячи миллионы, — а нам их и надо.
— Ты башку поверни, — советует ему Сорокин. — Аэроплан ст
оит, к примеру, десять тысяч или сколь, а нас по Союзу одних лесорубов триста тысяч. По маленькому рублю — и двадцать штук готово… А рабочих сколько, а колхозников, а служащих. Ежели все по одной бумажке дадим — видишь, какая оборона стране получается!..
— А кто мне на лошадь даст? — огрызнулся Сажин. — Николай угодник, что ли?.. То-то вот и оно. В таком разе мне и лошадь купить будет не на что. А Самоквасов вон деньги зашибает…
Наталка заинтересовалась: этот высоченный, костистый Платон, с маленькими карими глазками, отбивался, как норовистая лягунья-корова, которую трогают за вымя.
— У нас нынче, — вмешалась Наталка, мягко улыбаясь, — все бабы подписались, и девчонки — тоже.
Пронька смотрел на нее, не спуская глаз:
— А вы?
— И я подписалась.
— Известно, вы женщина передовая, — хихикнул Жиган. — Коли так — и я… Запишите там. Я хоть не староста, — сказал он ядовито, подмигнув Семену, — ну, все-таки могу соответствовать. Платон, не упирайся.
Сажин пошарил в карманах.
— Я так и знал, — проронил он с сожалением, — придется уделить толику.
Наталка подманила Ванюшку и на ухо ему шепнула:
— Собирайся… баня у нас.
— Ступай, приду.
Она уходила, чувствуя на себе Пронькин острый, завистливо-жадный глаз.
Пока Горбатовы мылись, Наталка катала на столе белье. Первой пришла из бани Катя и начала, как взрослая, не торопясь и молча раздеваться. Ванюшки все еще не было.
— Экий пес, — ругала его Наталка вслух, — придется за ним второй раз идти… Мучитель… Не пойду, одна вымоюсь.
Она так и сделала бы, если бы у ней было пожестче сердце. Не кончив с бельем, она накинула шубу и вышла опять за ворота.
Ванюшка попался ей навстречу. Идя поселком, она беззлобно пожурила его. Но и теперь, в избе, когда он, не снимая красноармейского шлема, сидит на лавке с бельем, Наталка продолжает нападать на него. Брови ее — темные, дугой — сердито хмурятся:
— Не изомни… видишь, припасено. — И указывает ему на белье.
— Вижу.
— Ничего ты не видишь. Припасай ему всё, бегай за ним, ухаживай, а он… Другой раз и звать не буду. — Ее голос, немного огорченный, воркующий, заполнял всю хату. — Звала ведь? Мало тебе? Что долго не шел?
— Ну что ж, — оправдывался Ванюшка, взглядывая на нее с лукавой хитрецой. — А приди не вовремя — прогонишь.
Наталка поняла, что он притворяется, однако спросила:
— Разве прогоняла?
— А как же, было дело.
— Когда это?
— Помним, — уклончиво отвечал он.
— Смотри у меня! — погрозила она тяжелым вальком. — Не расстраивай.
— Да я ж пошутил.
— То-то… не забывайся.
Толстый валек и скалка, которыми она пользовалась, были под стать ее сильным рукам, и Ванюшка не без гордости смотрел, как ловко она работала. Широкая, плотная спина ее сгибалась мерно, легко и, казалось, не уставала. От напористых движений ее дрожал, сотрясаясь, стол.
— Все подписались? — спросила она.
— Все… Жиган расщедрился… видала?
— Что это он?
— Так, из самолюбия: меня с Коробовым укусить норовил, да не вышло.
После Ванюшкиных зеленых брюк Наталка катала себе новое ситцевое, с синим горошком платье. Он сидел у нее под рукой и, от нечего делать перебирая белье, опять капризничал:
— Себе небось белого припасла, а мне…
— Укусить норовишь? Сам ты — Жиган, не умеешь носить, а просишь. Не стоишь и того, что дают… Чего смеешься? Доживи до лета — дам белую… или сатиновую… Сошью, так и быть.
— А из чего?
— Есть. — Она посмотрела на него долгим взглядом. — Купила недавно… Лучше меня тебе вовек не найти!..
— Я не ищу… толстуха.
— А все уходить собираешься. Пожалеешь потом, да поздно будет…
Алексей после бани не торопясь отхлебывал из стакана чай и читал газету. Катю одолевал сон, но она крепилась, молча допивала теплое молочко. Потом уложили ее спать. В избе было тепло, уютно, за стеной шумела метелица.
Привычка берет свое. Весной расцветают сады и в ненастье. Выбившийся из колеи человек опять находит свою дорогу… В этот вечер Ариша успокоилась, нашла себя: то, что недавно мучило и пугало ее, перестало быть тяжелым и страшным. Все устроилось по-хорошему, как обычно говорит Алеша…
На нем синяя сатиновая рубашка с расстегнутым воротом, которую Ариша в добрую пору сшила ему сама. Эта пора не миновала; Арише всегда было приятно помыть его, нарядить во все чистое, и, когда он сидит с ней рядом, ей больше ничего не надо. И пусть он молчит, работает, уходит, куда нужно. Ведь ей достаточно и того, что Алеша знает, как заботятся о нем, как любят его и ценят.
Нежным, ласковым взглядом она погладила его волосы, шею, к которой прижимался узенький воротничок белоснежной сорочки. Алексей, почувствовав это прикосновение, ответно улыбнулся. В новом сереньком платье, которое к ней шло, Ариша была в этот вечер по-прежнему ласкова, молода и красива… В ее душевном саду опять цвела весна и по-прежнему пели птицы.
Ей не хватало только одного — уверенности, что так было и так будет впредь. Хотелось убежденно верить, и, кажется, она верила, не обманывая себя, — нынче удавалось и это. Разбирая на ночь постель, она уже больше ни о чем не думала…
Глава VI
Встречи в клубе
Авдей Бережнов не любил ни часовых речей, ни аршинных резолюций и своим подчиненным, любителям красных слов, частенько говаривал:
— Покороче, товарищ, и поконкретней.
Сегодня на производственном совещании, где обсуждался план дальнейших работ, он выставил только три пункта: открытие курсов для бригадиров, перестройка обоза и перенос большого Ольховского ставежа.
Самая большая комната конторы была запружена народом: лесорубы, коневозчики, собравшиеся со всех участков, работники лесного склада, конного парка, десятники, техники, они заняли двенадцать рядов скамеек, теснились у стен и в углах, напирали к столу президиума, где восседали Бережнов, Горбатов, Сорокин и Коробов. На третьей от стола скамье сидели заведующий обозом Якуб, Сотин, недавно вернувшийся из Ольховки, плотник Никодим, старший кузнец Полтанов, а рядом с ним Ариша, пришедшая сюда от скуки. (Наталка с Катей остались дома.)
Полтанова больше всего интересовали расценки да мягкая сталь, которая ему нужна до зарезу. Вот и пришел послушать — не порадуют ли его чем-нибудь на собрании.
Авдей Бережнов и выступавшие после него обходили эти мелкие дела стороной, Полтанову надоело, и, посидев недолго, он незаметно ушел.
Ариша слушала речи, не вникая в их смысл, и, положив нога на ногу, смотрела на потертый рукав дохи. Ей хотелось справить новую шубку. Заметив на чулке прилипшую черную ниточку, она наклонилась, чтобы нитку снять, и не обратила внимания, что в эту минуту кто-то сел рядом, на освободившееся после Полтанова место. Вдруг над самым ухом ее прошелестел знакомый шепот:
— Привет… и добрый вечер.
Она вздрогнула, смутилась, а Вершинин взял ее руку повыше кисти и легонько стиснул. Ариша кивнула молча. В комнате была всего одна лампа — на столе президиума, и до них едва доходил ее слабый мигающий свет. От курева висел такой плотный чад, что трудно различить лица в президиуме, — должно быть, поэтому Вершинин и осмелился подойти к ней. Именно так подумала Ариша. Чтобы не навлекать на себя ничьих подозрений, она решила не говорить с ним сегодня и, сделав некоторое усилие над собой, приняла вид полного равнодушия.
Он, очевидно, понял и тихонько, вполголоса заговорил с Сотиным. Арише хотелось послушать, о чем говорят они, но разобрать что-нибудь было невозможно: в дальнем углу, у двери, где было темно, послышались возня и смех поселковских парней и девок. Громче всех раздался Пронькин голос:
— Убегла.
Возня стихла, когда поднялся Алексей. Одна рука его пальцами касалась стола, накрытого красной материей, а другая ладонью рубила воздух наискосок. Сухо смотрели глаза исподлобья, на узкощеком, освещенном сбоку лице заметно двигались мышцы — обычный признак его душевной приподнятости. Говорил он просто, толково, вразумительно, но Арише речь его показалась сухой, угловатой, излишне громкой и неспособной разбудить чувства.
Откуда-то взялась сборщица сучьев Палашка, она втиснулась между Якубом и Вершининым, прижав последнего к Арише, — стало тесно сидеть. Палашка сердито отпыхивалась, поправляя сбившуюся на затылок шаль, прятала под нее волосы и неразборчиво на кого-то брюзжала.
Ариша от безделья полюбопытствовала:
— Ты что, Поля, какая растрепанная?
— Вон черти-то… робяты.
— Одолевают?
— Тискают, — призналась простодушно Палашка. — А Пронька прямо проходу не дает. Как увидит, так и — под шубу лезет… Когда-нибудь дождется, кудрявый пес… огрею палкой.
— Это он про тебя сказал «убегла»?
— Про кого же… С ним стоять нельзя — ушла: стыд прямо.
Вершинин опять склонился к Арише и, улыбаясь, дохнул ей в самое ухо:
— Нравы…
— Что? — переспросила она, не расслышав.
— После, — ответил он неопределенно.
— …На курсы, — сказал под конец Горбатов, — пошлем тех, кто отмечен высокой цифрой выработки.
За ним выступал Ефрем Герасимыч Сотин; он не пошел к столу и с места сказал несколько коротких, каких-то буднично-серых слов: на курсах он будет бесплатно читать «Учет и заготовку».
— А вы, Петр Николаич? — спросил Бережнов, отыскивая в зале Вершинина.
Ариша невольно взглянула на соседа с нескрываемым любопытством.
Вершинин встал, подошел к столу и, медленно снимая пыжиковую шапку, оглядел присутствующих. Ей подумалось, что все видят, какой он высокий, сильный, какой у него белый умный лоб. Он должен сказать то, что не тронуто еще другими, и то, чего она ждет. У него богатый опыт и знания. Ариша уже настроила себя услышать нечто красивое, неожиданное. И вот действительно запорхали над головами звонкие, крылатые фразы, острые, как стрижи. Лесную жизнь он красиво расписал узорами фактов, портретно подал старателей и лентяев, о которых вскользь упоминал Алексей, и очень кстати вспомнил о стариках углежогах.
— Крупно шагает новое время, — сказал он, — но в нашей глухой рамени оно идет медленнее, чем нужно: у нас много старого, косного — и в работе, и в быту. Но есть на общем фоне отрадные, радующие огоньки: например, в жизни углежогов Филиппа и Кузьмы уже ясно проступают признаки нового.
На этом месте прервал его директор:
— Покороче, Петр Николаич, и поконкретней.
По мнению Ариши, Бережнов поступил опрометчиво, и уж совсем непонятно, чему улыбнулся Алексей, прикрыв лицо ладонью. Вершинина ей стало немножко жаль, а о муже она подумала: «Господи, как он нетактичен».
Вершинин начал спешить, не выходя, однако, из прежнего равновесия. Конечно, его не могло сбить неосторожное замечание Бережнова, и он продолжал с еще большим жаром. Одна фраза, сказанная лесоводом в конце, почему-то запала Арише в память:
— Роль педагога возьму на себя охотно. Это мой общественный долг.
Сотин, сидевший рядом с Аришей, все время был рассеян и, похоже, собирался покинуть собрание: он часто взглядывал на ближнее окно, за которым стояла темень, шумела поднявшаяся пурга и плакал ребенком ветер… Вдруг громко, тревожно застучали в наличник. Все сразу смолкли, обернулись к окну, в комнату упала мертвая тишина.
— Ефрем Герасимыч здесь? — кричал чей-то голос с улицы. — Домой пошлите! Скорее!
Сотин, тяжело надавив рукой на плечо Якуба, поднялся и медленно пошел к двери, провожаемый сотней понимающих глаз. В сердце Ариши толкнулось беспокойство за Катю, оставленную дома с Наталкой.
Собрание, неожиданно выбитое из колеи, остановилось, точно кадр после обрыва киноленты, потом со стола президиума ударил звонок.
— Товарищи, продолжаем!
Подбирали курсантов надежных, проверенных; все тридцать человек, фамилии которых назвал Горбатов, не вызывали ни у кого сомнения. С задних рядов в президиум пришла записка. Горбатов и Бережнов молча уткнулись в нее, потом передали Семену Коробову. Прочитав, Коробов сощурился, пощипал русую бороду и, посмотрев на Горбатова, черкнул ногтем по красной материи крест-накрест.
— Поступила записка, — объявил Горбатов. — Прокофий Жиганов просит записать его на курсы. Я полагаю, что мы…
— Воздержимся! — громко выкрикнул Сорокин. — Пусть он на работе докажет, а потом поглядим.
Вслед за Ванюшкой выступил Коробов:
— Мы все за то: как есть наша новая власть, так и новая работа. Теперь вот как надо: вперед сколько хошь, а назад — ни шагу. А Пронька — наоборот всегда, потому и качество его пока невысокое.
— Я не напрашиваюсь, — ответил из угла Жиган.
— А почему же писал? — спросил Горбатов с недоверчивой усмешкой.
— Это не я.
— Кто же о тебе позаботился?
— Не знаю.
Горбатов покачал головой и при общем смехе сказал:
— Вот и пойми его, ерша щетинникова…
Решено было курсы открыть через неделю, завтра же начать паспортизацию обоза, а в начале декабря перенести ольховский ставеж и проложить к нему ледяную дорогу.
Принесли киноаппарат. Авдей Бережнов оповестил, что картина обещает быть интересной. Молодежь грудилась к передним скамейкам, шумно толкаясь, наперебой занимая места. Старички и пожилые двинулись по домам. Взобравшийся на стол Якуб приколачивал к стене простыню. Арише хотелось посмотреть картину, она любила кино, но, подумав, все же решила уйти: нынче весь день она стирала белье, устала, затянувшееся собрание утомило еще более, вдобавок к тому же ей после ухода Сотина стало почему-то боязно и за Катю.
— Домой надо, — сказала она себе. — Пришлю Наталку… пусть посмотрит.
Она поднялась, застегнула доху и пошла к выходу. На широкой площадке крыльца в темноте стояли трое и негромко разговаривали. Она недолго посидела на перилах крыльца, пережидая бушующую пургу.
— Ты, Прокофий, не обижайся, — сказал один. Судя по голосу, это был Семен Коробов. — Смотри, не начни буянить.
— А что мне курсы-то? Наплевать только. Я знаю больше, чем лесорубу полагается… Затевают много, да испекут мало. Угонят людей в Большую Ольховку, а кормить будет нечем.
— Нет, брат, на это не кивай. Авдей Степаныч сказывал, что продуктов запасено на целый квартал.
— Запасено? — переспросил Жиган.
— А как же. Иначе нельзя. Надо вперед прикидывать.
— Наперед прикидывать трудно: ошибиться можно. Не такие головы, и то мажут.
После этого Коробов и еще один, высокий, в малахае — наверно, Платон Сажин, сошли с крыльца и молча зашагали по тропе к бараку. Пронька же остался тут; он сел на перила напротив Ариши и закурил. При свете огня она увидела белобровое мрачное лицо, старую кепку и кудрявую волну волос, свисавшую над левым прищуренным глазом.
— Товарищ Жиган, — обратилась она к нему, — говорят, вы в Красном Бору убили лося?
— Говорили да перестали.
— А правда это?
— Убил, конечно, что за вопрос, — ответил он грубо и мрачно. — Во всякой охоте я мастер. А лося мне — проще простого.
Ариша больше не спрашивала: его злой глуховатый голос испугал ее. В темноте она не могла видеть его лица, но ей казалось, что сейчас глаза у него тяжелые, решительные, наглые и глядят на нее в упор. Инстинктивно она подалась к сенной двери, притихла, — ей захотелось скорее уйти отсюда. «Зачем я завела с ним разговор?» — подумала она.
Пронька спрыгнул на пол, напугав ее еще более, — она чуть сдержалась, чтобы не вскрикнуть, — бросил окурок в сторону и исчез в темноте сеней.
В двери появился Вершинин. Ариша узнала его сразу и облегченно вздохнула; узнал и он ее. Пурга улеглась, кругом было сине и тихо. Из комнаты доносился мягкий стрекот киноаппарата.
— Вы не ушли еще? — спросил Вершинин.
— Я жду… мужа. Какой у вас этот… Жиган… право. Он сидел тут, и мне почему-то было страшно.
— Жиган? Парень он с норовом… но вам бояться его совершенно нечего… Как понравились сегодняшние выступления?
— Скучно.
— Спасибо, — не без упрека сказал Вершинин. — В таком случае, желаю доброй, приятной ночи. — И он ушел, крепко пожав ей на прощанье руку.
Ариша постояла еще немного, а когда Вершинин скрылся в темноте, пошла по улице, не дожидаясь Алексея.
Глава VII
Прямым прицелом
Наталка бегом бежала к конторе, — на счастье подоспела к первой части картины и села рядом с Палашкой. Обе впились глазами в экран и, глядя на мелькавших живых страшных разбойников, ограбивших «Виргинскую почту», шушукались, вздыхали, ужасались и ахали.
Пронька в этот вечер не находил себе места, шатался один по улицам, обошел лесной склад, несколько минут простоял у освещенных окон клуба, потом, плюнув, отбежал прочь. Над ним висело тяжелое черное небо, дорогу перегораживали бараки и избы, и от этого было тесно ему и душно на вольном свете. Кому-то погрозив кулаком, он скрипнул зубами. Он слышал, как выли за околицей голодные волки, и понимал этот заунывный звериный вой.
«Вот выгнать к ним из сарая лошадь, — подумал он с жестокой надсадой, — облепят и разорвут на части…»
И самому захотелось сейчас встретиться… ну, хотя бы с Ванюшкой Сорокиным. Схватить за шиворот, тряхнуть и крикнуть: «Ага, значит, „воздержимся“?..» Ванюшка заодно с Горбатовым и Семкой Коробовым, они общую линию гнут, у них одна компания… Пронька пока одинок… Ну и что ж? У него голова на плечах, он тоже умеет прикидывать наперед и знает, что, когда и как надо делать.
— Хм, «запасли на квартал»… Увидим. Может случиться и так, что затеют много, да нечего станет жрать.
Разбежавшись, он прыгнул через бревна к Лукерьиной избе и грохнул кулаком в раму:
— Отпирай!..
Горбатая Лукерья отворила сенцы, булгашного парня впустила в избу и, дверь затворив, осторожно спросила:
— Зачем, мой родимый, пожаловал?
— Известно, за водкой. Полмитрия давай… а денег не спрашивай. — Он стал посреди избы, даже кепку, басурманин, не снял.
— Что ты?! Что ты, родимый, — беспокойно завозилась на лавке Лукерья. — Где мне взять? Что ты!
— Ну будет! — цыкнул Жиган. — Вынимай. Нечего черта тешить. Не притворяйся. Мне не много, пол-литра. — И, не снимая шапки, уселся за стол.
Лукерья всегда побаивалась Проньки, а нынче и подавно: даже страх обуял старуху, ноги и руки дрожат, в груди холодеет и язык к гортани прилип, не шевелится. Как на грех, в этот вечер не пришла и Параня: вдвоем-то с ней не так уж страшен был бы Жиган.
— Ну, вынимай… живо! — и кинул на стол деньги.
Лукерья еще больше сгорбилась, выползла в сени, — в чулане она постоянно держала украдкой водочку. Принесла, поставила бутылку на краешек стола и спросила робко:
— На вынос али здесь разопьешь?
— «На вынос»? Ха-ха-ха… — раскатился Пронька. — Значит, всяко дозволяешь? Это гоже. — Он хлопнул в дно бутылки ладонью, Лукерья едва успела увернуться — пробка пролетела мимо носа, а в щеку ударили винные брызги.
Пронька увидал это и загоготал еще шибче:
— Хо-хо! Извиняюсь.
Ему на глаза попался соленый огурец, лежавший на блюдце в открытом судничке. Жиган указал на него пальцем:
— Подай, закушу я.
Он единым духом выпил целый стакан, налил еще, остолбенело поглядел на Лукерью, молча стоявшую у дощатой переборки, и вдруг переменился в лице, затих, о чем-то думая.
Лукерья хотела спросить, о чем он, да струсила: осмеет и матюков наложит.
Но перед уходом парень сам поведал ей кое-что по секрету. Один человек, надежный, приехал из города и привез с собой тревожные, нехорошие вести — грозит народу беда… Со дня на день, с часу на час ожидай ее, припасай для себя, что можно… Война!..
Об этом и думала горбатая Лукерья, оставшись наедине с собой. Долго не тушила лампу, сидела сгорбившись, опустив руки между колен. Значит, беда совсем близко, ежели Пронька пригрозил ей перед своим уходом:
— Если будешь звонить, что я у тебя был, узнаю зараз и сообщу о шинкарстве твоем куда следует… Житья не дам! Смотри, тут дело серьезное. Помалкивай, а не то…
С палкой в руках, взятой из Лукерьиных дров, вышел Жиган на дорогу. Он бросил окурок в снег и, остановившись, глянул по-воровски вбок. В бараках и избах горели огни, над ними — темный вечер, тихий, безоблачный. Пурга улеглась. Поднявшаяся над лесом луна улыбалась ему насмешливо… Но Пронька верил в свою удачу, как в свои сильные руки, которые когда-то свалили в Красном бору лося.
У конного сарая, где свежим ометом лежала солома, привезенная нынче Якубом, он случайно встретил Наталку.
«Ага, вот она!.. Сорокина полюбовница… Не сам Ванюшка, так она попалась. Это еще лучше…»
Он вспомнил обидную речь Семена Коробова, когда шли поутру в делянку: тогда Семен сказал, что Наталка на Проньку не взглянет. Теперь время пришло, и он попытает свою фортуну.
— А-а, Наталочка! — ласково пропел он. — Давно я с тобой хотел свидеться, да за делами все как-то некогда. Подожди-ка.
— А чего такое?
— Именинник я скоро… Погулять хотим… Придешь, позову если?
— А что не прийти. Я веселая, веселиться люблю.
— Знаю. Такие мне нравятся. Посидим давай, — и указал на солому.
— Недосуг.
— Полно. Какая ты, право.
— Какая?
— Просить все надо. Ну ничего. Я не гордый, и попрошу… Кончилось кино-то?
— Нет еще. До конца я не досидела: завтра рано вставать.
— Мне завтра на работу тоже. Ничего, выспимся… Посидим давай, побеседуем. На воле-то нынче гоже — тихо, луна вон. К тому же мне скучно что-то… Присядь. — Он взял ее за руку и потянул к копне.
— Недосуг, — упиралась она, вырывая руку.
— Полно, не капризничай. — Бойко обхватил он Наталкины плечи и ртом припал к уху. — С Ванюшкой-то али поссорилась? Так и надо… О тебе говорит он негоже. Недавно все хвалился, что ты больно любишь его. — Наталка прислушивалась к голосу парня и, выжидая примолкла. — Сдобная, говорит, девка, только… сердце к ней не лежит. Хочу, говорит, уйти: надоела.
— А вот я его спрошу.
— Чудачка… об этом не спрашивают. Все равно соврет, коли на обман большую способность имеет. Ты сама гляди хорошенько… да слушай, что говорят. Ведь добра желаю.
Пронька ластится, заглядывает ей в лицо, выпускает украдкой рыжеватые густые кудри на волю.
Наталка прикинулась доверчивой и ласковой:
— Я знаю, что болтун Ванюшка-то… Верно, пожалуй, любить его не за что… Ну, а что, если… уйду от него али прогоню, ты чего скажешь?
— Я?
— Да.
Парень рванулся к ней и обнял еще крепче:
— К тебе прямо с ночевой приду, и тут же поженимся… Не как он, я с тобой буду жить… семья будет… распишемся.
Он вытянул губы, на нее пахнул водкой
и руками полез к ней за пазуху. Наталка отшибла его руку и, на шаг отступив, сердито сказала:
— Не замай чужую, заведи свою. Али думаешь, я взаправду с тобой? Почуял волю. Руки держи подальше! Ишь полез…
— А что? Не привыкла, что ли?
— Привыкла, да не с таким.
— А что он, лучше? — Пронька сдвинул кепку со лба и тряхнул кудрями.
— Еще бы. Он мне — муж.
— Муж… экое диво. А я, может… — Он хотел сказать, что он умнее Ванюшки, но сразу смекнул, что задорить ее невыгодно. Стал перед ней фертом и, заигрывая, тронул тихонько локтем. — А я?..
— От баланса шкура! Вот кто… Ступай, куда шел, и прохожих не лапай, не про тебя.
Даже откачнулся Пронька от этих неожиданных, обидных слов и сдернул на глаза кепку:
— Сама ты шкура! Сука хохланская… Думаешь, так на тебя и позарились?.. Попытал твою бабью глупость, и хватит. Не хуже твоих ковыли найдем… Чистюля пшеничная!.. К партийным льнешь? Они тебе обломают колосья-то.
Она обернулась к нему и с вызывающей откровенностью кинула:
— С ним я живу и жить буду! Живу по добровольности. А ты, пьяный козел, забудь и думать!..
Он готов был броситься на нее сзади, подмять под себя и распластать на дороге, — пусть Ванюшка почувствует!
— Ладно! — пригрозил он. — Будешь у меня выть на луну, попомни!..
— Безрогого козла не боюся, не испугаешь. — И пошла не оглядываясь.
Размахнувшись, он хотел ударить ей в спину тяжелой палкой, но тут же опомнился и только скрипнул зубами:
— У-ух!..
Он шел к бараку, угловато ворочал плечами, задыхаясь от злобы и зависти.
Глава VIII
Заветная тетрадь
Дверь широко распахнулась, и в облаке стужи появились на пороге знакомые люди, а Параня, покосившись на дверь, в которую валил холод, молвила:
— Затворяйте скорее, не лето ведь.
Закутанная в пуховую шаль, Катя боязливо вступила в избу, — к ней первой ткнулся мордой Буран. Вошел Алексей Горбатов с ружьем в руке, слегка подталкивая дочку, а за ним — лесоруб Ванюшка Сорокин. При виде ружья собака заволновалась, крутилась по избе, обнюхивала ноги то одному, то другому, но больше всего увивалась вокруг робеющей девочки.
— Только что протопила — застудите, — продолжала свое Параня.
— Ничего, — успокоил ее Ванюшка, — обдует свежим ветерком, сама свежее будешь, дольше не помрешь.
Старухе не понравилось это:
— А тебе жизнь-то моя зачем?
— Известно, за молоком пришел, — пошутил парень.
— Знаю, что не из жалости.
— Стара маленечко, а то пожалел бы. — Но уж эту развязно-веселую шутку Параня встретила таким суровым, исподлобья, взглядом, что Сорокину стало неловко.
На вопрос Горбатова, где Петр Николаевич, она ответила:
— Да ведь он какой?.. В воскресенье и то дела всякие. Ушел к Сотину, скоро придет, посидите.
В избе стало тесно от незваных гостей, Ванюшка торился у порога, Горбатов присел за вершининский стол; его ружье нечаянно громыхнуло прикладом, Параня вздрогнула. Она вообще десятка неробкого, но безотчетно боялась этой железной палки: на беду, как раз и выстрелит!.. Умышленно отвлекая себя от этих страхов, она подвела к столу девочку, усадила на табуретку, заулыбалась сама:
— Ну-ка, ты, какая красавица! Вся в тебя, Алексей Иваныч, вылитая… Разденься, сними шубку, давай сюда шаль. Не бойся Бурана, не тронет.
Сорокин гладил Бурана, придумывая ласковые слова, потом обвел глазами Паранино гнездышко. Оно было разнаряжено картинками по стенам, тесно заставлено городскими вещами лесовода: два шкафа с книгами, письменный стол, кровать, прибранная Параней, вымытый пол застлан дерюжными половичками, — должно быть, не жалела сил хозяйка, наблюдая за чистотой не только из желания угодить квартиранту.
Горбатов сидел за письменным столом, от нечего делать разглядывая книжные полки двух шведских шкафов. Были тут знакомые имена, были и совсем неизвестные, о других кое-что слышал, но имел о них очень неясное представление. Наугад он взял «Парадоксы» Нордау и, перелистывая, увидел на отдельных страницах подчеркнутые карандашом фразы. Горбатов перечитал их:
«Кто прячется за кустарником, тот будет там забыт», «Скромность — украшение, но без нее уйдешь дальше», «Дорогу в жизни можно проложить двумя способами: своими заслугами или чужими ошибками. Спекуляция на чужих ошибках всегда удается», «Честность — самая хитрая политика»…
Эти фразы показались ему чужими, но запомнились сразу. Думая о Вершинине, который в пометках, должно быть, выражал свое определенное отношение, Горбатов спросил себя: «А все-таки какой дорогой идет Вершинин?» До сих пор Горбатов считал его ценным работником, своим человеком, знающим цель, во имя которой идет строительство новой жизни.
«Зачем понадобилась ему эта коллекция чужих мыслей? — спросил себя Горбатов, стараясь разъяснить загадку. — Впрочем, книги-то старые, мог еще прежний хозяин, задолго до Вершинина, подчеркнуть для себя интересное…»
Большая тетрадь, прикрытая газетой, приковала его внимание: знакомый вершининский почерк — мелкозернистая россыпь букв, — это была его рукопись. Горбатов пробежал глазами первую страницу и, озадаченный чем-то, вернулся опять к ее началу.
«Жизнь деревьев в лесу во многом напоминает жизнь человеческого общества: борьба всех против всех, каждого с каждым — за свет, за место под солнцем, за воздух. Выживают только наиболее сильные, приспособленные, выносливые — таков закон веков и поколений. С вероятной точностью можно предсказать: сколько деревьев останется в энной лесной даче через двести, триста, пятьсот лет, если не рубить ее…
В понятие „жить“ входит непременно другое понятие — борьба. В союзе с „единомышленниками“, с союзниками бывают более успешны защита и нападение. (На сосны наседает с севера ель.)
Эта система, перенесенная мною на общественные отношения, также становится непреложной. Из века в век как бы в пределах этой системы возникают и копятся причины больших и малых схваток. Здесь разрешаются вопросы бытия, здесь наступают периоды широкой по пространству, жестокой по существу, иногда кровопролитной битвы двух станов… Та или иная война, возникнув однажды, может перекинуться на ближние и дальние пространства, она длится долго или мало и потом все же неизбежно затухает. А борьба никогда и нигде не прекращается. Бывает: будто наступит тишина, мир, — но это лишь обманчивое умиротворение: в малозаметных или вовсе незаметных формах продолжается все та же вечная борьба.
В мире господствует одно — желание жить! „Кусок хлеба“ — добытый или недобытый — вот что определяет поведение индивидуума. В этом смысле и верна основная, почти общепринятая формула: сознание определяется бытием. Этот вечный биологический закон диктует волю группе индивидуумов. На нем вырастает политика класса (группы). Борьба групп живых индивидуумов — это все та же самая борьба — классовая, если мои группы назвать классами.
Наивысшего напряжения борьба достигает в момент революции. Революционная буря „ломает тайгу“, рушит старое, непригодное к жизни, прореживает, очищает „лес“. После нее становится просторнее, — новое победило, молодое растет… Революция — разумна, необходима, исторически неизбежна. Сцепленья различных обстоятельств, не изменяя общего исторического хода, могут лишь только затормозить или ускорить развитие событий.
У враждующих „станов“ — свои вожди. Это — ели, пробившие лес. Они живут над общим пологом леса (человеческого массива) и руководят им… Но они не опровергают моей системы, а подтверждают ее… Из гения бывает тот же пепел, а имя уходит в туман столетий…»
Горбатов случайно вторгся в эти сокровенные мысли лесовода, — они изумили его своей необычностью. Негаданный, неопределимый свет вдруг упал на облик Вершинина и до неузнаваемости изменил привычные черты, — Горбатов мысленно отшатнулся от него. В раздумьи он поднял голову: на стене горела «Осень» Левитана — бездымно, пышно. В желтеющих зеленях плутала безымянная голубая река. Рядом с пылающей осенью глядела на него со стены Юлия — сестра Вершинина, — и было не понять, чему она так весело, бездумно улыбалась…
Горбатов вырвал листок из своего блокнота и красным карандашом написал: «Путаница и чепуха!» Записку эту положил на рукопись Вершинина и опять прикрыл газетой.
Между тем Катя долго разглядывала клеенку на столе: мелким серебристым горошком усыпана она, — и не собрать, не сосчитать его! Каждая горошинка лежала будто в своем гнездышке, из которого можно каждую выковырнуть ногтем. Водя пальцами по столу, Катя попробовала одну, другую ногтем.
Но Параня зорко следила за каждым ее движением, отчего тонкий нос ее обострился, как у хищной птицы — вот-вот готова клюнуть, — и в самый нужный момент, отвела от клеенки Катину руку:
— Не трогай, исковыряешь.
А сама подумала: «Экая бойкая, пострелец, озорная! Вся в Аришку»… Материнского чувства изведать не довелось, а чужих детей она не любила, потому и не может спокойно, без зла видеть детских шалостей.
Катя притихла и, сидя на табуретке поодаль от стола, слушала, запоминая, как Ванюшка торговался с бабушкой.
— Нет, уж, родимый, не скупись. Ты молодой комсомол, денежку завсегда добьешься, а мне — на старость.
— Ты цену выше базарной просишь. Я же не для себя интересуюсь, а для всей артели. Общественные деньги-то, не мои.
— Вот и хорошо, что не твои, а чужие. Молочко у меня сладкое, густое, без подмесу… А ежели кажется дорого, ну, ин что — не бери, мой товар федицитный, кто хошь возьмет.
Сорокину пришлось согласиться, а старуха, заслышав шаги Вершинина, мотнулась к печке, гремела железной трубой, подкладывала угольков — и самовар запел, как шмель. Расставляла на стол чайные приборы, потом подала ириски заместо сахара и, положив их в вазочку, отодвинула от Кати подальше.
Лесовод заметил, нахмурился и нарочито громко спросил Катю:
— Ириски любишь?.. Бери.
На Паранино горе, немало ирисок уместилось в детскую горсть. Словно дразня ее, Катя посасывала сладость, облизывала губы, считала ириски, складывала стопочкой… Она была в дружбе с дядей Петром. Иногда в бесчисленных табунах за печкой он ловил для нее таракана и клал под увеличительное стекло. Катя с удивлением разглядывала, как ворочалось живое огромное чудовище, а когда отнимали линзу, оно превращалось опять в маленького таракана. Иногда она прикладывала круглое стекло к глазу и важно расхаживала по избе.
Вдруг, что-то вспомнив, она спросила:
— Дядя Петр… дашь мне вамп
езу?
— Чего? — Вершинин не понял. — У меня нет такой.
— Линзу просит, — подсказал отец.
— Хм, это интересно придумано, — улыбнулся Вершинин. — Вот словотворец!.. «Вампезу» дам. — Он подошел к столу, отодвинул один ящик, поискал, полез во второй, в третий — линза исчезла!.. Он отлично помнил, что прошлый раз клал ее именно вот сюда. Параня уткнулась головой в печку, гремела ухватом.
— Катя, — сказал Вершинин, — линзы нет, пропала… потерял я где-то.
Он передвинул рукопись, поднял газету и, словно наколовшись на что-то, отдернул руку… Он не взглянул на Горбатова, но понял все.
Несколько минут длилось неловкое напряженное молчание. Горбатов уголком глаза приметил: белая крупная рука лесовода, протянувшаяся за хлебом, немного дрожала.
Глава IX
На охоте
«Едва ли теперь Вершинин пойдет на охоту», — подумал Горбатов. Но тот, быстро овладев собою, встал из-за стола и обычным тоном, потирая руки, произнес:
— Нынче я вас, признаться, не ждал, один собирался в лес… Что же, сходим втроем.
— А я… с пустыми руками? — спросил Ванюшка Сорокин.
— Нет, и тебе дадим. У меня есть… — Лесовод направился к двери, но с полдороги оглянулся на Параню подозрительно и будто себе, уже неуверенно сказал: — Вернее, была шомполка…
Параня подняла на него кроткие невинные глаза и тихо молвила:
— В чулане, родимый, в чулане. Там на гвоздике висит. В уголке, за дверью.
Лесовод вышел.
Горбатов отсыпал Ванюшке дроби и пороху, а Параня достала ватки для пыжей — она тоже вкладывала в это дело свою толику, и не без расчета.
Вершинин вернулся в избу.
— Возьми. Она не безнадежно старая: ей всего только тридцать три года, ровесница мне. Бьет без отказа, — говорил лесовод, передавая Ванюшке шомполку. — Будешь стрелять, бери на четверть влево и на четверть вниз, — на шестьдесят шагов уложишь волка… С ней покойный отец мой виртуозничал.
Сорокин осмотрел диковинку, погладил вихляющийся ствол и, вскинув к плечу, целился в угол. Параня, отойдя от него подальше, даже зажмурилась, а Катя не сводила глаз с ружья и, полная страха, ждала выстрела. Но вместо грома раздался сухой слабый щелчок, и тогда она крикнула:
— Пу!..
Сорокин засмеялся, потом с явной опаской принялся осматривать толстую стволину, заглядывая туда одним глазом:
— А зубы не вышибет? Кажись, не всё у ней в порядке…
Вершинин успокоил его в том смысле, что разок-другой выстрелит, авось не разорвется…
Они вышли на улицу. Густой иней висел серебряной бахромой на деревьях. Буран бежал стороной — бодрый, нервно-подтянутый, на бегу он окунулся в снег и возбужденно уркнул. Впереди всех мелкими шажками подвигалась Катя. На обочине дороги она увидала чьи-то следы, громко спросила:
— Это чьи следы?
— Кошкины, — ответил отец.
— А это кто шел? Лошадь? Медведь?
За ночь выпавший снег пушком покрывал дорогу; следы, отпечатанные на нем, принадлежали кованой лошади.
— А это след твоего папы, — ответил на этот раз Вершинин.
Горбатов, поняв, на что намекал Вершинин, ответил ему вопросом:
— Платишь?..
Лесовод шагал, не оглядываясь. У предпоследней избы поселка их встретила Ариша. На ней были белые чесанки, такой же, как и на дочке, серый пуховый платок, она улыбалась издали, а Вершинину чудилось: не его ли встречает она такой сияющей улыбкой?.. Она протянула руку лесоводу, не снимая перчатки, и ему было приятно пожать ее:
— Здравствуйте… и вы с нами?
— О, что вы!.. Я очень боюсь, когда стреляют, а у вас — и лыжи, и столько оружия, даже идти с вами страшно. — Ничего не выражающим взглядом она скользнула по его лицу.
С минуту Ариша шла рядом с ним, а спохватившись, взяла под руку мужа. Миновали Наталкину хату, взобрались на крутой бугор, и здесь Ариша остановилась.
— Папа, поймай мне маленького зайчика, — просила Катя. — Я его кормить буду… а когда вырастет большой, мы его выпустим в лес…
— Ладно, посмотрю там…
Трое охотников на лыжах продолжали свой путь, а, стоя на бугре, долго смотрела им вслед Ариша… Потом взяла Катю за руку и повернула к дому.
— Где же, в самом деле, лупа? — вспомнив, спросил Горбатов. — Не Параня ее случайно?..
— Нет, не «случайно», — сухо ответил Вершинин. — Одолевает этим… Нет другой квартиры, а то ушел бы давно.
— Достроим щитковый дом, тебе дадим квартиру.
Оба они были довольно мрачны, зато Ванюшка Сорокин пребывал в самом отличном настроении: с важным видом охотника двигал лыжами, по временам подергивал плечом, поправляя сползавший ремешок ружья, с которым шел на охоту впервые. Пока подходили к лесу, он рассказал им одну историйку… Прошлым летом, по вечеру, он с товарищами гулял по улице поселка и случайно приметил: какая-то старушка крадучись вышла с Параниного огорода и припала к окну. В избе огонь, окно занавешено, а старушка, озираясь по сторонам, все в окно заглядывает, следит за кем-то… А заметив ребят, шмыгнула опять в огород, за плетень спряталась.
— Параня это была, — закончил Ванюшка. — Наверно, за тобой, Петр Николаич, шпионила?..
— За кем же еще… Тогда сестра у меня гостила. Целую неделю старуха не верила, что это моя сестра…
С горы горизонт был широк, как море; темно-зеленые шумели леса. Они были действительно чем-то похожи на волны — зеленое море хлестало в бугры, теснило поля, кольцом сжимало лесной поселок… И вот снова пришли к лесоводу Вершинину знакомые мысли, которых Горбатов, как видно, не понимает: он еще молод, а жизненный опыт его недостаточен… Три года работал в горячем цехе Сормовского завода, в литейном осела на его глаза болезненная краснота, и по совету врача он перешел в инструменталку, окончил курсы по подготовке в институт, но учиться дальше не пришлось — послали во Вьяс.
— Алексей Иванович, — начал Вершинин. — Ты слышал что-нибудь о классификации Крафта? О теории Дарвина?
— Слышал… и у тебя прочитал немного.
— Это — не «путаница», не «чепуха», брат, а очень серьезная вещь… — И широким взмахом руки указал на неоглядное скопище деревьев: — Всмотрись внимательно: не есть ли это — самая убедительная иллюстрация к тому, что прочитал ты в рукописи?..
Высокие зрелые сосны, перегоняя одна другую, вымахали вверх и там, на высоте в восемнадцать метров, схлестнулись в жестокой схватке. По летам падают вниз перебитые в драке ветви. (Это Вершинин представлял ясно.) Взамен их вырастут выше по стволу другие и с новой весной вступят в драку за место под солнцем, за свет, за воздух. Кое-где отвоевала себе место гнездовая поросль берез, высоких, под одно с верхним пологом леса, прямых и голых, как сосны. Вдогонку им прут суровые ели; настигая своих врагов, они пробивают острыми пиками густоту сосновых и березовых сучьев; те расступаются покорно, начинают расти вкось и, оказавшись слабее других, умирают, падают, гниют, выстилая трухой землю. У берез и сосен, что попали под лапу ели, та же судьба — уйти им некуда: ель душит их в хмурой тени.
— Посмотрите, как она стремительно шагает вверх, — говорит Вершинин. — Через двадцать — тридцать лет ель нагонит «главные силы противника» — верхний лесной полог — и в новой битве, битве опять не последней, победно вскинет, как знамя, острые темно-зеленые пики над лесом… Без шума, без огня, без видимых слез идет борьба, идет из часа в час, из года в год — злая, жестокая, затихая только по зимам…
Он говорил об этой нескончаемой войне увлеченно, с каким-то самозабвением, открывая перед ними давно выношенную идею, а Горбатов и Сорокин слушали, глядя то на лесовода, то на лес, видневшийся впереди, и было Ванюшке приметно, как менялось выражение лица Алексея Ивановича, становясь решительным и несогласным. Вдали от них Буран обнюхивал, наверно, следы косого, кружась вокруг можжевеловых кустов.
— Все-таки лес нельзя равнять с человеком, — первым возразил Сорокин.
— Он не равняет, а объединяет в одно целое, — поправил Горбатов. И обратился к Вершинину: — У вас там еще кое-что есть… и я не совсем понял: куда ведет ваша теория?.. В таком «лесу», пожалуй, и головы не сносишь.
Спохватившись, Вершинин решил за благо несколько отступить:
— А для меня, думаешь, все ясно?.. О, далеко не всё… Не такие люди, как мы с вами, и то… в тайге плутают.
— Вот это верно, — согласился Горбатов.
Через несколько минут они уже вступили в лес. Шли просекой. У межевого столба заметили следы зайца. След уводил в чапыгу, Буран обнюхал тропу косого и, подтянув живот, понес.
— Тропить? — живо спросил Сорокин, употребив слышанное от лесовода слово.
— Какое «тропить»?.. Распутывают зайчиные петли без собаки, — сказал Вершинин. — Но если хочешь, бери Бурана — и вали.
Сорокин не знал охоты, никогда не имел ни ружья, тем более охотничьей собаки, и теперь с особенным волнением уходил на этот забавный подвиг. Только бы самому не сплошать!.. Он свистнул Бурана, улюлюкнул, толстую стволину повесил на плечо и заскрипел на лыжах в кусты, куда уводил заячий след.
Вершинин и Горбатов пошли поляной. Начал снег падать, и все видимое окутывал туман — мелькающий, легкий, просвечивающий. Кругом было необыкновенно тихо, и вдруг невдалеке взорвался оглушительный выстрел, будто железная балка лопнула над самым ухом. Вслед за эхом, укатившимся вдаль, раздался крик, неистово радостный:
— Э-гей, Вершинин… убил!
Обернувшись в сторону Горбатова, лесовод удивленно поднял брови и сдвинул шапку со лба:
— Неужели?.. Странная удача. Ведь ружье — утиль. Я стреляю отлично, но из него ни разу не попадал в цель. Ванюшке везет — и в любви, и на охоте. Не правда ли?
Горбатов не ответил, продолжая думать о самом Вершинине.
За ближними кустами зарычал Буран, с звериным гневом, с жадностью, словно отнимали у него изо рта кусок мяса. И вдруг — растерянный зов Сорокина… «Охотник» звал лесовода на помощь, жалуясь, что собака никак не подпускает к убитому зайцу.
Вершинину, как и всякому охотнику, было приятно лишний раз убедиться, что у его собаки навыки настоящей гончей. Сейчас она сидит над тушкой зайца и ждет хозяина. Вершинин повеселел, ускоренно задвигал лыжами.
— Ученая собака всегда так: кто бы с ней ни был — она отдает трофеи только хозяину, — с чувством повторил он.
Верно — на снегу лежал большой, фунтов на шесть, беляк, затихший под лапами Бурана, а Сорокин, немножко бледный, стоял в стороне с ружьем. Лесовод ласково потрепал свою умницу за теплые уши и взял зайца. Тушка беляка отдавала желтизной, белое ухо с черной кисточкой внутри было разорвано дробью, голова разбита, на снег капала кровь.
— Как удалось тебе? — спросил Вершинин.
— А вон Буран: убежал куда-то, тявкнул. Я остановился, припасся на всякий случай, жду. Вдруг заяц, и — прямо на меня… Я — на четверть влево, на четверть вниз и — бабах!.. Он, конечно, вверх пузом.
Лесовод умелыми руками, не торопясь торочил тушку, потом повесил Сорокину через плечо на спину:
— Неси домой, угощай лесорубов, а мы с Алексей Иванычем постреляем еще.
С видом человека, которому неожиданно привалило счастье, Сорокин направил лыжи обратно, взглядывая через плечо на убитого зайца…
Оставшись вдвоем, некоторое время они шли вместе, и Горбатов сказал раздумчиво, со вздохом:
— Да-а… твоя «старушка» заинтересовала меня.
— Чем же? Параня — мелкий человек, обыватель, мещанка, ей десять тысяч лет.
— Не меньше… Но я, собственно, имею в виду не Параню Подсосову, а другое… Изложи мне поподробнее твою систему, только ничего не темни, а так, начистоту давай, — не то просил, не то требовал Горбатов. — Я не желаю тебе ничего плохого и спрашиваю не ради простого любопытства…
Лесовод молчал, очевидно не осмеливаясь развивать свои идеи до конца, а может, и для самого они были пока незавершенными… Отпереть свою кладовую и показать соседу свое накопленное добро полностью, особенно такое, не всякий решится, тем более что Вершинину отнюдь не легко досталось такое накопление. И он уклонился от дальнейшего разговора.
Он досадовал на себя: ведь надо же было оставить на столе рукопись!.. Кто знает теперь: не воспользуется ли Горбатов его оплошностью, чтобы его систему предать партийной гласности?.. Трудно сказать, как может теперь повернуться вся эта история… Неудачной казалась ему и нынешняя охота, — не вернуться ли на поселок? Кстати, они в это время пересекали проезжую дорогу. По ней, направляясь к Вьясу, уходил человек — в заплатанном бушлате, пожилой, узкоплечий, неуклюжий.
— Кто это? — спросил Горбатов. — Не Шейкин ли?
— Да, он. Старый, хороший лесоруб… Ты не записал его на курсы? — спросил лесовод с глубоко припрятанной усмешкой.
— Нет.
— И Проньку Жигана?
— Тоже.
— А Жигану хотелось. Он ведь парень честолюбивый, мстительный.
— Ну что ж. Из ихней бригады и так двое: Гринька Дроздов да Ванюшка Сорокин… Из других артелей брали по одному только… Однако откуда Шейкин идет? От углежогов, что ли?.. С Филиппом они дружат? — спросил Горбатов.
— Кто их знает. Особой дружбы между ними не замечал я. Да, — вспомнил Вершинин, — ведь нынче какой-то праздник. Должно быть, раздавили баночку во имя святого угодника и выходного дня. Шейкин не дурак выпить.
А сам об этом коренастом лесорубе думал иное: «Опять у Филиппа был? Наверное, упрашивал стариков, чтобы молчали?»
Шейкин крупно, размашисто отмеривал шаги, словно опасаясь, не нагнали бы его и не стали бы расспрашивать.
Они свернули с дороги в кусты и, миновав лощину, вышли на просеку. Она тянулась белой гладкой холстиной, а по ней — новый след косого, разбросистый, широкий. Буран ткнулся мордой опять и исчез в чаще. Слышно было, как большим кругом мчалась собака по лазу зверя.
Лесовод ушел в сторону, молвив Горбатову:
— Не подшуми. Начеку будь. Идет ходом.
Горбатов подхватил ружье и, слыша отдаленный хруст, застыл… В немой тишине леса шла борьба. Скоро он почувствовал по каким-то неясным шумам, что Буран овладел полем, что идет уже обратно и ведет впереди себя зверюшку. Теперь уже яснее слышались мягкие прыжки Бурана, слабый шум и треск сухих ветвей. Через две-три секунды заяц будет здесь. Горбатов вскинул ружье… Кусты качнулись, уронив снег… Выстрел грянул на какую-то долю секунды раньше, чем следовало. Заяц взметнулся и исчез, оставив после себя дым в кустах, и в ту же секунду там ухнуло эхо, такое же громкое, как неудачный выстрел Горбатова. Это, очевидно, ударил Вершинин. Пулей пролетел туда и Буран.
— Дошел! — торжественно прозвучал голос лесовода, а некоторое время спустя он принес матерого зайца и, как нарочно, положил у ног Горбатова; снял лыжи, присел и на кунную шерсть косого положил руку. Белое пушистое тельце вздрагивало в последних конвульсиях, уже затухала жизнь…
— Шубка-то на нем какая! — восторгался Вершинин. — На шапку только!.. Теплая, легкая. Прелесть!.. — И, поднявшись, Вершинин вскинул зайца на плечо.
— А я промазал, — сказал Горбатов, идя за ним следом. — Целился и жаль было убивать… Думаю: поймать бы живого да принести домой… Вот было бы радости у Кати!..
Лесовод выдержал небольшую паузу и осторожно полюбопытствовал:
— Жаль убивать?.. А если когда-нибудь… обстоятельства заставили бы тебя… Ведь в жизни бывает всякое… Если бы пришлось стрелять в человека… Тогда как?
— Это особое дело. В интересах защиты родины, если скажут, что — надо, тогда раздумывать нечего.
— А если придется решать самому? На свою совесть, на свою ответственность?
— Не знаю. Не доводилось. Но если передо мною окажется враг, тогда… не дрогну…
Они кружили по лесу, были в свежем бору, бродили по берегу Сявы, были в Сурожке, за Лисьей гривой, лазили по кустам, обогнули Боровое озеро и вышли на поляну… Ни птицы, ни зверя!.. Словно всего два зайца жило в этом лесу, разлившемся многоверстным волоком. Глухая тишина, безлюдье и сон деревьев, скованных крепким морозом. А воздух — как тонкое голубое стекло: дать залп — и он разлетится колючими брызгами.
Тянулась по бровке канавы дорога, на которую вышли охотники; она влево ушла от котловины, вправо прогнал ее лобастый бугор, посторонилась от старой ели, а наткнувшись на частокол сосен, повернула почти обратно… Вершинин попытался представить себе путь безвольного человека за день, за год, за всю жизнь… Не таков ли будет он, как эта вот лесная дорога?..
Охотники повернули к дому. Глубоким настом поляны катили они на лыжах и сняли их у маленького выгнутого мостка, где поле начинало отлого подниматься в гору. На спине Вершинина обвисала длинная тушка зайца. Сквозь густую сетку падающего снега проступили серые, запорошенные бараки, избы, дворы и конные сараи. Над поселком кружился шум, смягченный сумерками.
Глава X
Проросло ядовитое семя
Ванюшка Сорокин с пустою кринкой в руках шумно вошел в избу. Было еще рано, Вершинин спал, и Параня, оберегая сон квартиранта, погрозила вошедшему темным изогнутым пальцем. В черном повойнике, остроносая, сухолицая, с блеклыми выцветшими глазами, с седыми прядями волос на висках, немного сутулая и очень худая, она показалась Ванюшке чем-то похожей на лесную ведьму.
— Налей три литра, — сказал он вполголоса.
Параня пересчитала деньги, зажала в костистый кулачок, — так, с ними, и цедила она молоко, для верного счета меряя стаканами. На медной густой цедилке тихо вскипала по краям и таяла белоснежная пена. Стаканы не доверху наливала старуха, говоря при этом уважительно:
— Все равно, Ванюшенька, по дороге расплещешь. Али оступишься где — не донесешь сполна-то… На той неделе шла от коровы, запнулась да полкринки как есть пролила… Добро-то, гляди, какое… жирное молочко, сладкое…
Оглянувшись на лесовода, она вышла вслед за Ванюшкой в сени и, держась за скобу двери, спросила:
— Овчинку-то с зайца кто снимать будет?
— Пронька Жиган снял… Он у нас мастер.
— За сколь?
— Ни за сколь. Овчинку я отдал ему на шапку, а мясо съели. А что?
— Так я, к слову. Передай ему: пусть ко мне овчинку несет — шапку ему сошью. Принесет — не покается. Шапки-то мои, сам знаешь, многие лесорубы носят. Никто не жалуется.
Она оглянулась на дверь и еще тише спросила: — Ружье-то Вершинин али тебе задаром отдал?..
— Кто отдает даром? На охоту только. Принесу обратно.
— Знамо дело, разве отдаст. Жадный он, скупой… Ему, слышь, общим собранием жалованье прибавили. Правда, что ли?
— Никому не прибавляли, да он и не просил.
— То-то, то-то. Значит, наболтали. А я, глупая, поверила.
Сорокин ушел, а Параня, качая головой, жалела, что выдумка ее пришлась впустую: стало быть, Вершинин будет платить за квартиру по-прежнему.
Пока лесовод завтракал, она не притронулась ни к хлебу, ни к соленым грибам, молча наливала ему чай и украдкой косила на него глаза.
Петр Николаевич вообще не словоохотлив, а с Параней постоянно молчит, только и слов у него: подай то-то, сходи туда-то, собери поесть. Сейчас он торопится на работу, пьет чай и в то же время взглядом следит за Бураном, который у порога лакает сыворотку.
Еще вчера вечером была у Парани Лукерья и сказывала… надежный человек приезжал из города и кому-то тайком поведал, что грозит народу беда… Со дня на день, с часу на час ожидай ее, запасай для себя что можно. Параня не спала всю ночь, тревожно прислушиваясь к беспокойному ветру: чудилось ей, что кто-то ходит в сенях, царапается в стену, заглядывает в окна зеленым глазом. Чудилось ей, что война приближается. И только один человек во всем мире мог в этот черный надвигающийся год прокормить ее подле себя.
— Сам-то пил бы. Пса накормлю я. Мешает он тебе, — говорит она, чтобы задобрить на будущее.
Вершинин холодно смотрит на хозяйку: на темные, костлявые руки, на блеклые, выцветшие глаза, на острый кончик платка, покрывающего ее седые волосы. Все то же в ней, как и прежде, только нынче она больше сутулится и делает много лишних, бестолковых движений. Понимая ее с полуслова, с полунамека, он знал, что вот сейчас старуха обратится к нему с какой-то новой просьбой, и грубовато спросил:
— Зайца сама обдерешь?
Она согласилась скромно, послушно и как бы нехотя:
— Да уж ладно… Не в деревню же к старику нести. Сама как-нибудь. — И с видом печальным, по-нищенски продолжала: — Мук
у, слышь, давать станут нынче… Может, и мне схлопочешь?
— Не полагается тебе… незаконно это.
— Хоть немножко… килочка четыре бы. Похлопочи, Петр Николаич. Будь добрый. Может, дадут. Ее ведь в магазине много. Не обедняют от того, что старухе поблажку сделают.
— И хлопотать не стану, не полагается.
— Плохой ты за старуху заступник. Что жалеешь чужого-то? Скажи Авдею Степанычу. Он, слышь, навозил на целый квартал. Война подходит, похлопочи. Ведь кажинный человек для себя живет. Запасти надо на черный день.
— Откуда узнала, что война?
— Слух идет. Человек приезжал из городу. Война определенно ясная. Заморская страна подымается, и папа римский перстом грозит.
— Сплетни. — Он оделся, уложил в портфель бумагу и, надевая шапку, с минуту постоял у порога. — Хотя, что же, время довольно тревожное, — раздумчиво и хмуро произнес он.
Параня осталась одна. Упало в ней сердце, целиком захватила ее тяжелая, безысходная дума… Не все ли равно: для себя ли сказал последние слова Вершинин, для нее ли, — она уверилась теперь окончательно, что городской человек говорил правду… Запирая сени, думала о том, как жить дальше. Пока у ней есть картошка, соленые огурцы, мука; урожай с огорода каждый год снимает, налогами не обременяют ее, но все-таки… рыба ищет, где глубже.
Внесла из чулана зайца, как ребенка обхватив руками, подвесила тушку на веревочку к брусу, подол подоткнула, засучила рукава и принялась за дело. В руках быстро заходил сапожный нож.
Раньше она не знала, как снимают овчинку настоящие шкуродеры, и потому самой пришлось доходить до всякой тонкости этого не бабьего дела. Оно все же не отбилось от рук, и вот уже с полгода Параня снимает шкурки: лесовод бьет, а она снимает; носит их в деревню Вариху к овчиннику для выделки, а потом продает на базаре или шапки из овчинок шьет лесорубам.
Разворотив ножки русака, она спокойно полосовала кожу. Потрескивая, хрустела пленка, словно лопались пузыри, покачивалась и крутилась на веревке тушка. Буран не мог равнодушно смотреть на старухино дело, беспокойно урчал, переходил с места на место, иногда завывал, как в непогоду, а когда шубка зайца съехала на пол, он не вытерпел, подскочил к старухе сзади и ткнулся мордой в ноги. Параня вскрикнула от неожиданности, наотмашь, изо всей силы ударила пса ладонью, и он уполз под кровать.
Через минуту-две ей послышался стук в сенях; она отворила дверь, но сенцы оказались запертыми. Она вернулась, а вернувшись, не нашла на прежнем месте ножа, — совсем запамятовала, старая, куда положила. Нож очутился в шкурке… Кто-то чихнул под печкой, — не лукавый ли шутит над ней? А может, чихнул Буран? Да нет, едва ли: у собаки чих не такой. Зябко ежась, она стала посреди пола — между тушкой и святителями и, глядя на строгие лики святых угодников, зашептала обычную молитву:
— «Господи, владыко живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия не даждь ми…»
Лики святых смотрели на нее предупредительно и спокойно, как продавцы на базаре. Страхи исчезли, душа обрела покой, и Параня с зайцем быстро покончила.
— На четыре в
аревца хватит, — сказала она, пересчитав нарубленные топором куски.
Надо было сегодня же получить паек на квартиранта по карточке и, главное, не забыть бы спичек: объявят войну, спички исчезнут в первую очередь. С этими думами и подходила она к ларьку. Там уже толпилось десятка два старух, с корзинами, мешками; горбатая Лукерья толкалась в очереди, держа на плече сумку. Параня тоже стала в очередь.
Толстощекий, угрястый продавец метался между весами и бакалейными полками; засучив рукава, он пылил мукой и бойко покрикивал на стоявшую у прилавка Палашку:
— Ну, ну, поживее, красавица. Спичек не надо?
— Нет, не надо. — И «красавица» пошла к двери.
Лукерья что-то шепнула ей на ухо. Та сразу переменилась в лице, зачесала нос, вернулась и запросила спичек. Очередь копилась, в лавке стало теснее; кроме старух, появились молодые бабы, подростки, девки. Лукерья шепталась с Параней. Кто-то из молодых, теснившихся сзади, подслушал и уличил их:
— Не сплетничайте. Зачем волнуете народ? Что за война? — Параня оглянулась: позади нее стояла Ариша: — Я вот Петру Николаичу скажу, — погрозила она Паране.
— А может, он сказал ей? — поддержала одна из баб. — Он ученый человек, не нам чета, на вершинке сидит, далеко видит… Вот и сказал, старуху жалеючи.
Но Лукерья, вступившись за Параню, разъяснила иначе:
— Вершинин тут ни при чем: он с ней слова лишнего не скажет. Городской человек приехал, вот и сказывал… Уж это известно доподлинно. — И махнула рукой с отчаянием: — Война… определенно ясная!
Приказчик — весь седой от мучной пыли — ворочал мешки за прилавком и громко сопел, отыскивая пропавший карандаш:
— Треплется народ. И вы тоже. Из-за вас пропажа случилась. Кто схватил карандаш?.. Ах, вот он, — извиняюсь.
Параня осмелела, — спичек было достаточно, а очередь уже подходила к ней:
— А что нам народ? Народ про себя сам знает.
Бабьими встревоженными голосами загудела лавка:
— Знамо дело. По всему чуется.
— Что касается войны, то, пожалуй, конешно.
— И я слыхала. Лесорубы баяли. Тут вранья — ни пылинки.
— И партийно-комсомольское было ночью. Все по самому по этому, не иначе. От огня завсегда дым.
— Коли пушки забухают, — спички пропадут в первую голову, потому как самый ходовой товар.
— И без того чуется: накануне войны живем… А может, и началась уж, только народу не оповещают. Бери, бабы!..
Продавец стал унимать вдруг затосковавших, взбудораженных баб, отвешивая товар на обе руки и громко стуча гирями:
— Перестаньте брехать, а то отпускать брошу! Спички у меня завсегда будут. Вон их сколько… А ну, подходи веселее! — К прилавку подошла Параня. — Поживее, касатка, растопыривайся.
Бабы приутихли малость. За прилавком, в углу, спичек было действительно много: три полных ящика, одна полка снизу доверху завалена клетками и треугольничками, аккуратно выложенными из коробков. Все видели, что спичек хватит, помнили, что и раньше недостатка в них не было, и не особенно волновались, — спокойно забирали муку, сахар, рыбу, нитки, махру и уж заодно просили… спичек.
— Дай-кось и мне.
— Сколько? — хмурился приказчик.
— Пачку.
— А тебе?
— Две.
— А тебе сколь?
— Три…
Приказчик уперся руками в прилавок и, покраснев, заорал:
— Да вы что… Белены объелись? Дьяволы! Еще привезу… Больше трех коробков — хоть режьте — давать не буду… Кто следующий? Подходи!
Этот крик Параня слышала уже за дверью ларька и подумала: «Узнает Вершинин — осердится. Пожалуй, скажут, что я народ взбулгачила. Вина на меня одну падет. Страдать без вины неохота». И, что-то решив, поплелась с корзинкой к главной конторе. Навстречу стали попадаться конторские люди. На ходу, незаметно, она потеснее уложила спички, прикрыла их тряпочкой и поднялась на крыльцо.
Большой дом, только недавно выстроенный, был разгорожен дощатыми перегородками на несколько комнат. Много столов, людей и всяких шкафов, слышится бумажный шум и щелканье на счетах. Параня в этакой тесноте не скоро нашла лесовода… Вершинин сидел в комнате-боковушке, был занят с другими и еще что-то писал, иногда ероша свои волосы левой рукой. Стало быть, спешка у него, если три дела зараз делает. Паране пришлось подождать, пока уйдут от его стола чумазые кузнецы, поставила корзиночку на пол и тихомолком стала в угол. Лесовод увидал ее, правой рукой отстранил одного посетителя и сухо спросил:
— Тебе что?
— Спички выдают, — просунулась к нему Параня. — Слышь, народу много, а спичек в ларьке мало. Слышь, так и хватают, так и хватают… Взять, что ли?
— Ну и взяла бы.
— Сколько брать-то, не знаю.
Она отрывала его от дела, и он торопился прогнать ее:
— Ну, пачку, две. — Старуха не уходила. — Еще что?
— А керосинцу взять?
— Тебе виднее. Ну, все что ли?..
— Все, родимый.
— Ступай.
В дверях она задержалась, почтительно уступая дорогу Горбатову, и косила глаза на свою корзинку, проверяя, не видать ли там спрятанных спичек.
Осторожно шагая скользкой тропой, она облегченно вздыхала: «Господи, владыко живота моего… кажись, дело уладилось. Верстушку — туда и обратно — отмахала недаром».
В проулке встретился ей Ефрем Герасимович Сотин с маленьким тесовым гробиком под мышкой. Шел он медленным шагом — постаревший, бледный, рябой, с темной родинкой над левой бровью. Параня пустилась в расспросы, желая выказать свое участие:
— Али, родимый, помер сынок-то?
— Вот видишь, — указал он на пустой гробик глазами.
— Когда?
— Позавчера ночью. Только я прибежал с собранья, застал еще живого, а ночью… погас он.
— Умненький был паренек. Жаль-то как, господи. Когда хоронить-то будете?
— Завтра.
— Я приду, посижу у вас, пока вы там, на кладбище-то.
— Спасибо, как-нибудь обойдемся, — сказал он.
Параня поняла, по какой причине отклоняют ее предложение, увела глаза в сторону, замолчала. Потом потрогала крышку гроба пальцами:
— Плотники делали?
— Никодим.
— Да, — вздохнула она, сокрушенно покачав головой, — кажинному человеку конец уготован — и старому, и малому, всякому в свое время… Супруга-то, чай, убивается?
Сотин пошел, не ответив на это ни слова. Походка его, обычно легкая, размашистая, была сегодня тяжелой, неуверенной, словно он устал невыносимо.
Параня повернула к лесному складу, чтобы по дороге домой набрать щепы. На складе — и там, и тут — рабочие тесали бревна, шпалы; бабы и девки ошкуривали баланс, грузчики таскали в вагоны тюльку; на высоких козлах качались пильщики, мерно взмахивая руками; плотники клали последние венцы на новом бараке.
От полустанка Вьяс отходил поезд, груженный лесом. Прислушиваясь к гомону рабочих будней лесного склада, Параня думала о том, как много здесь разного люда кормится, пайки получают и, кроме всего прочего, добывают денежки чистоганом… Неплохо бы и ей приткнуться куда-нибудь. Разве не сумела бы она, как вон Наталка, ошкуривать бревна, или как Палашка — собирать в делянке сучки. Когда-то Параня была на этом деле.
«Нет уж, — решила она напоследок, — об этом и думать нечего — стара… А вот кабы Петр Николаич похлопотал, мне бы дали паек, как вроде члену семейства… Да вот поди ты: „незаконно… не стану хлопотать“… Ученый, а проку мало».
Захватив охапку щепы, тихонько поплелась со склада к дороге и вдруг увидала рядом мальчишек… Их было семеро, один на другого похожи: чумазые, курносые, покрасневшие от мороза, они сидели верхом на досках и, не замечая Парани, горланили:
— Краня-Параня! Краня-Параня! — И каждый изо всех сил старался перещеголять остальных, при этом, как в барабан, били кулаками в доски. Паране стало страшно, помутнело в глазах, остановилось сердце, — будто они били в крышку ее гроба… Лишь после того, как перекрестилась, вернулся к ней разум и стала опять на место захолонувшая душа.
Уже прояснившимися глазами она смотрела на них и, толкаемая нестерпимой злобой, готова была рвануться к этим «г
алманам», первому заводиле вцепиться в волосы, швырнув с него в сторону шапку, сшитую не так давно ее же руками, и крикнуть:
— Ага, бесстыжие, попались!..
Холодная дрожь пробирала ее до костей, тряслись застылые руки, — но что она сделает с чужими детьми?.. Их — не один тут, а семеро!.. Ни битья они, ни бури господней не убоятся, а тем паче безбольной ругани…
Раньше не слыхивала она такого нешутейного баловства, — значит, имя ее стало забавой мальчишек недавно. Раз началось, остановить уже трудно… Скрепя сердце, ни слова не промолвив, Параня прошла мимо, — жить надо умеючи…
Глава XI
Забушевала стихия
Кузнец Полтанов просил Вершинина повысить расценки на поковки, резонно доказывая, что
работы стало вдвое больше, а расценки остались без изменения.
— В кузнице тесно, — полозья для таврических ходов приходится резать из полосного железа на улице… Измотались. Подков готовых нет. Каждую подкову делаем сами, а лошадей стало более сотни… Ну, мы не против, лишь бы побольше платили… А уж ежели не нужны мы здесь, то уйдем. Без работы не останемся: в кузнецах нужда повсеместная.
Вершинин подсчитывал, — выходило так: для леспромхоза гораздо выгоднее накинуть на старые расценки еще немного — общая сумма получается не ахти значительная, зато в кузнице дело пойдет полным ходом и транспорт будет обеспечен полностью всеми видами кузнечных работ. Он обещал им рассмотреть заявление и поддержать их просьбу.
— О чем они? — спросил подошедший к столу Горбатов.
Лесовод начал рассказывать, не замечая некоторого замешательства на лицах кузнецов. Горбатов слушал, постукивая пальцами по столу, потом посмотрел прямо в глаза Полтанову:
— Сколько ты получаешь в месяц?.. «Прожиточный минимум»?.. А именно?..
Второго ответа от кузнецов не последовало. А когда счетовод принес раздаточную ведомость, то Горбатов нашел: цифра полтановской заработной платы оказалась намного выше той, какую называл старший кузнец. У остальных кузнецов было примерно то же… Горбатов вернул ведомость счетоводу, а Вершинину и кузнецам сказал:
— Видите, как у нас получается: одни требуют незаконного, другие сулятся поддержать… Да где это видано, чтобы без особой нужды повышать расценки!.. А почему вторая смена кузнецов не просит? Им что, хватает, а вам нет?.. Знаете, друзья, как это называется?.. — Кузнецы, переминаясь, молчали. — Плохое вы дело затеяли… Получаете достаточно, живете в теплых бараках, не платите за дрова, за свет, за жилище, есть столовая… Если все сосчитать, вы получаете больше, чем я… Но я же не прошу прибавки. Вот и Петр Николаевич… спросите его: собирается он требовать прибавки? — Лицо Вершинина порозовело, словно обожгла крапива. А Горбатов продолжал: — Надо повышать выработку, стремиться к качеству, а деньги придут сами собой: мы — не Тихон Сурков, не обсчитаем… Давайте вашу «просьбу», я с директором посоветуюсь.
Но Полтанов уже взял со стола Вершинина свое заявление, сложил его небрежно и сунул в карман.
— Ладно, — сказал он, — без директора обойдется. Пойдемте, ребята, пора нам, работы много нынче.
И кузнецы ушли. Тогда Горбатов, глядя в упор, сказал Вершинину:
— Вы — помощник директора, а потакаете рвачеству… Чем объяснить это?.. Оплошность?
Только что начатый разговор был прерван: вошли плотник Никодим, пильщик с лесного склада, потом столяр, делавший рамы для бараков и нового щиткового дома. Следом за ними заявились коневозчики с Якубом во главе, а малое время спустя поверх их шапок поднялась неожиданно голова медведеобразного человека, — это был старый знакомец, углежог Филипп, только что пришедший из лесу.
Чтобы увидеть, тут ли Вершинин, Филипп встал на порог и вытянул шею.
— Эк-ка-а! — распахнул он голос широкой октавой.
Якуб, стоявший рядом, вздрогнул и прикрыл ухо шапкой:
— Ну и глотка у тебя, парень! Испугал даже. Никак не привыкнешь к твоей ерихонской трубе. А ты потише.
Филипп продолжал:
— Набито вас тут, как баб в лавке. А ну-ка посторонись. — Он не хотел ждать, пока Вершинин отпустит ранее пришедших посетителей, — ему некогда было, и он крикнул зычно, прямо через головы: — Эк-ка-а! Петр Николаич, кулей мне выпиши, кулей! Мы с Кузьмой четыре новые знойки зажгли, как тебе обещали. Помнишь?..
Мужики загалдели:
— У нас свои дела. Пришел, так стой, сосна на тебя не валится.
— Не семеро по лавкам. Не напирай.
— Не смейтесь. Насчет семерых-то правильно. Ну, только некогда мне, за керосином тороплюсь. Баб там — видимо-невидимо. Растащут все… В потемках сидеть придется, а у меня — самая жара: в лес бежать надо, готовую знойку разворочал, а уголь в груде оставил. От углей убег… остался Кузьма там, да он, сатана, без меня ничего не сделает… Что будешь делать? Суматоха какая. Хоть разорвись напополам: и уголь, и керосин. — И забасил еще сильнее и гуще: — Так кулей-то мне прикажи привезти. А я пойду…
Он шагнул в коридор и остановился. Правая изуродованная рука его легла на плечо рядом стоявшего Якуба:
— Вот задача, Якуб… скажи, куда плюнуть: на угли или на керосин? И уголь жалко, и без керосину нельзя. Что будешь делать?..
Якуб ответил:
— И думать нечего. В лавку пошли свою бабу, а сам на знойку шагай.
Вершинин, слушая этот разговор, перегнулся через спинку стула и смотрел в окно, выходившее на улицу. Ему видно было, как старик Филипп спускался с крыльца и долго стоял в нерешительности, потом взял бидон под мышку и неуклюже побежал по дороге к ларьку.
Бабы штурмовали ларек…
Неистово, с криками, с толчками, с бранью лезли в двери, махали корзинами, мешками, остервенело пробиваясь к прилавку. Из рук молодого продавца рвали спички, махру, крупу, нитки, тесемки, пуговицы, перец, горчицу. Уже к вечеру спичек не было ни одного коробка, и кому не досталось — те шли к соседям, к знакомым, выпрашивали, перекупали, платя тройную цену за коробок.
В тот же день по поселку проскочил быстро, как молния, слух: керосину не будет!.. И бабы толпой повалили к керосиновой лавке.
Очередь толкалась и бушевала, гремели бидоны, блестели бутылки, четверти, а вскоре загромыхали ведра. Продавца отшибли в сторону, он едва успевал получать деньги. Бабы хозяйничали вовсю сами: выкатывали из сарая бочки, откупоривали, качали сифоном, наливали из бака, — продавец только получай деньги!..
Желая взять керосин вне очереди, бабка Лукерья чуть не со слезами, христом-богом просила у продавца «покачать», и как только получила это дозволение, сбросила шубу, засучила рукава и, стукая рычагом сифонного насоса, закачалась сама. Трудилась Лукерья с необыкновенным усердием, то и дело озираясь на оставленную шубу и конное ведро, — как бы не украли в такой суетне, бестолковщине… Минут в пятнадцать она выхлестала бочку, и ей дали керосину без очереди. Горбатая, как верблюд, кривобокая от тяжести, чуть не бегом побежала она с ведром и тотчас же вернулась обратно.
Ее встретили остервенелым галдежом, воем, бабы метались, точно в жару больные, кричали, как одержимые; куда ни глянь — везде сбившиеся платки, шали, растрепанные космы, злые, усталые, беспокойные лица. Мужики пытались навести порядок, а Филипп упрашивал, внушал густым басом:
— Бабы, да где же ваша дисциплина?
Ему отвечали истошные, визгливые голоса:
— Какая тут исциплина! Очумел?
— Наливай живее, бабы, а то не успеем!
— Не давайте Лукерье, она второй раз.
— Выкатывай бочку!
— Эй, Матренка, беги за посудиной. Конное ведро у конюшника… Беги! Скорея!
— Война!..
— А-а! А-а!..
Запарившийся продавец выбился из сил, вертелся направо-налево, отталкивая от бочки баб. Прилавок трещал под напором этой взбунтовавшейся силы. В общей суматохе чья-то морщинистая сухая рука просунулась под барьер и начала шарить у кассы. Продавец заметил.
— Куда лезешь? — закричал он. — Отойди от прилавка, тут деньги, черт тебя побери!
— Не пужайся, паренек, — послышался жиденький Паранин голос, — не возьму чужих денег, не надо. Прижали меня, как ужа вилами, негде рук развести. Поспособствуй старухе: дай и я покачаю.
В ответ мужики и парни дружно и громко загоготали:
— Прорвало нынче старух.
— Беда-а! Гони их к черту! Обворуют еще.
— Уйди! — замахнулся на Параню продавец. — В шею дам!
Филипп взял четыре литра, Параня выпросила три. Лукерье не досталось второй раз ни литра, — керосин уже кончился.
В дверях ларька была настоящая давка. Филипп едва продирался сквозь толпу, впереди него шла Параня, подняв ведро на высоту груди. Она была уже на последней ступеньке крыльца, и тут кто-то сзади толкнул Филиппа; его нога сорвалась, и он руками ткнулся в снег, а падая, подмял под себя Параню. Та лежала под ним и визжала истошным голосом, — под самым носом у ней разливалась зеленоватая керосиновая лужа. Гулко, отрывисто булькал бидон.
Филипп схватил его за горлышко и сгоряча замахнулся на Параню.
— Убью! — зарычал он октавой. И пошел от лавки. — Мечутся, как чумные. Кнутом вас!..
Параня с плаксивым, перекошенным, мокрым от снега лицом поднималась с земли, опираясь на обе руки. На помощь ей спешила Лукерья, но сперва она подхватила пустое Паранино ведро и, заглянув в него, ахнула:
— Ни капельки, сухое дно! — Затем взяла Параню под руку и подсобила встать.
С галдежом, с перебранкой бабы долго толпились у складочного сарая, где лежали пустые бочки, и все ждали, что скажет районная нефтелавка: продавец без шапки убежал в барак звонить по телефону. Но ему сообщили: норма вся выдана. Следующая получка будет не раньше как через декаду…
Бабы подняли вой, ругались между собою, ругали директора Бережнова, Горбатова, приплетали свою и районную власть, а кое-кто — поострей на язык — поминал и московскую.
Лукерья заметила Горбатова первая и тихо, по-старушечьи ахнула, зашептала что-то своим соседкам… Он стоял неподалеку от сарая и молча прислушивался к этой бушующей стихии. На плечах его и на шапке лежал толстым слоем снег. Над толпой кипела и бесновалась метель…
Глава XII
Голоса двух станов
Утром этого дня, принесшего столько тревог и волнений, Вьяс просыпался медленно: как обычно, дымили избы, на подводах везли к баракам воду в бочках; медленно кланялся, скрипя от мороза, колодезный журавель, лесорубы спозаранку ушагали в лес, а еще раньше — вереница порожних подвод потянулась по лежневой дороге…
Ровно в восемь прогромыхал мимо полустанка товарный поезд, — жизнь в стране шла своим чередом, да и здесь, во Вьясе, ничто не предвещало беды.
Бережнов по дороге в контору зашел на лесной склад. Плотники, пильщики, шпалотесы уже приступили к работе, две артели грузчиков, напирая плечами, толкали пустые вагоны в тупик для погрузки авиапонтона.
Бережнову сегодня нездоровилось: мучил застарелый бронхит, открылся кашель, в обоих висках стучало. К постоянному недомоганию он привык, на работе оно почти не отражалось, но сегодня с самого утра чувствовал головную боль. К ощущению этой боли примешивалось некоторое беспокойство: как быть с Вершининым?..
Он знал: Петр Николаевич — самолюбив, горд, замкнут, обидчив, и нужна в подходе к нему осторожность. Внимательно прочтя вершининскую рукопись (тот дал ее с великой неохотой и боязнью), Бережнов понял: довольно старые пороки живут в сознании лесовода. Требовалось как-то лечить их, потому что они были отнюдь не безопасны. То, что придумал Горбатов, взявший инициативу в этом деле, Бережнову не нравилось, но пришлось уступить: Горбатов настаивал.
Раньше директора заявился в контору плотник Никодим — отец Палашки. Поджидая, он надумал позвонить в Красный Бор:
— Лесопилку мне… Это кто со мной разговаривает? Заведующий?.. А вот тебя мне и надо… Раму поставили вам, теперь дело за тобой: давай тесу, нечем нам полы настилать… Я — кто?.. А не все ли тебе равно? Ну, плотник, Никодим. Чего смеешься?.. Нет, мне до всего дело: я ведь не у Тихона Суркова работаю, а в леспромхозе… Коль не видишь человека, зря лишнего не болтай, — ничего я не с похмелья… И ты меня не поил… Отвечай: когда дашь тесу?.. Самого директора надо?.. Сейчас придет.
В этот момент и подоспел Бережнов, а увидав за столом плотника, улыбнулся:
— Здорово, «директор».
— Эй, погоди! — закричал Никодим. — Пришел он, вручаю трубку…
Но и настоящий директор подкрепил «распоряжение» Никодима — немедленно отгрузить половой тес.
— Ты их, Авдей Степаныч, почаще подстегивай, — дал совет плотник, — они тогда повеселее забегают… А нам, как мы есть настоящие ударники, — он прищурил глаз и подмигнул, — выставь винца: барак скоро кончаем… Работа наша — вольная, на ветру все время, — сугр
ева требует. Без него нам никак невозможно… Погода, видишь, какая: то мороз, то ветер… А ныне даже суставы ломит…
— Насчет водки — не заикайся… Выпил в Ольховке, полежал под бревном, мало тебе этого?
— Бывало, Тихон Сурков ссужал. — Плотник стоял на своем, переминаясь у порога.
Следовало припугнуть его, чтобы покончить, однако, миром:
— Если будешь просить водки, старшим над артелью поставлю другого. Приучил тебя Сурков попрошайничать… Купец давно помер, а ты все еще по-прежнему «на чаек» клянчишь. Как не стыдно!..
— Да я ведь не всурьез, а так, к слову. Не велишь — не стану… А с тесом-то их поторопи… Ну, я пошел, прощай пока, Авдей Степаныч.
— До свидания…
Во второй половине дня пришел Горбатов. Бережнов сидел, расставив на столе локти, широкоплечий, с чисто выбритым лицом; на нем был серый поношенный костюм и черная сатиновая рубаха, темные густые стриженые волосы торчали ежиком. Он то и дело подносил ко рту ладонь, откидывался к спинке стула и кашлял.
— Ты у нас — кашлюн, как углежог Кузьма, — сказал ему Горбатов. — Тот сорок годов в лесу живет — и сорок годов кашляет… Он хоть водкой с травами лечится, а ты чем?
— Ничем. Некогда заняться путешествием по врачам. Погода вон нехорошая, — кивнул Авдей в сторону окна.
Потом шла речь об Ольховке, о Староверове, о кормах, о красноборской лесопилке, о новых заказах на пиловочник, полученных от заводов, выбирали день, когда двинуть рабочую силу на ольховский ставеж; о кузнецах, приходивших к Вершинину за прибавкой.
— Позовите Вершинина! — крикнул Бережнов в соседнюю комнату. Через минуту лесовод явился. — Послезавтра получим деньги — зарплата и прочее. Планируйте точнее, и без моего разрешения никому никаких прибавок не обещать. Прибавка — не выход из положения… Никодим вон даже водки требует!..
— Я знаю. Это случилось по моей оплошности, — ответил лесовод, потупив взгляд. Нелегко далось ему даже это признание, как приметил Бережнов.
Некоторое время все трое молчали.
Угадывая, что позвали сюда не ради напоминания о деньгах, Вершинин опустился на диван, выжидая. Неприятное чувство досады и какой-то раздвоенности он носил в себе с того дня, как были на охоте, а невозможность устраниться от дальнейших объяснений усугубляла тревогу. Метнув взгляд на Горбатова, он понял, что именно сейчас начнется неминуемый разговор. И начал сам:
— Авдей Степанович… вы что-то хотите сказать мне?
Но вместо Бережнова ответил Горбатов:
— Нынче надо поговорить… о ваших теориях. Рукопись читали мы оба. — Он сел на место, соседнее с директором, и Вершинин очутился напротив них. — У вас там перечислены «киты», на которых держится мир. Моя хата с краю. Не упускай, что в руки плывет. Падающего толкни и займи его место, если оно понадобится. Каждый американец может сделаться Фордом, и так далее.
— Этого у меня нет, — не совсем понял Вершинин. — А во-вторых, все это слишком элементарно.
— Ну как нет? Есть. Они самые. И еще много такого же. Это всё очень старые киты. Им плавать только в капиталистическом море…
Дверь в кабинет отворилась, на пороге остановился бухгалтер с папкой бумаг.
— Подождите, нельзя, — запретил директор, и дверь плотно закрылась. Вершинин оторопел.
— Суть не в том, что старая это теория или нет, — сказал он, — а в том, что она… имеет многовековую живучесть — по ней жили и живут миллионы… Она вовсе не является моим открытием.
— Возможно, — согласился Горбатов лишь затем, чтобы тут же досказать свою мысль. — Но вы там позабыли еще одного кита, знакомого нам: Параню Подсосову!.. Она — живое воплощение вашей системы; она практик, а вы ее философ, теоретик.
Наступила большая пауза. Вершинин долго катал папиросу между пальцами, потом закурил. Густые клубы дыма обволакивали его крупное белое лицо с залышенным лбом, серые глаза казались воспаленными.
— Ну, ну, кромсай живое тело, — только и нашелся сказать лесовод.
— В том-то и суть, что не живое, — вмешался Бережнов. — Что ж тут неверного в оценке?.. Ваша теория в своем логическом развитии действительно ведет и к Паране. Подкладывает под ее практику теоретическую базу… Но дело вовсе не в этом…
— Нельзя упрощать, нельзя доходить до примитивов, — мирным тоном возразил Вершинин.
— И не надо, — поддержал Бережнов, посмотрев лесоводу в лицо. — Я тоже против примитивов… Да и что мы будем тут ссылаться на старую безграмотную женщину?.. Подумайте только: она всю жизнь прожила в нужде — голод, бесправие, одиночество… Ведь ее сшибли с ног, отняли всё, а саму затоптали в грязь!.. Исковеркали душу!.. А кто?.. Много их было: то были «киты» настоящие — сильные, жестокие, жадные, лицемерные и вооруженные до зубов: самодержавие, капитализм, церковь, полиция, быт — наконец, вся система сверху донизу!.. Вот чьи когти вылезают из вашей, Петр Николаевич, теории!..
Вершинину стало не по себе, но было невозможно пока возражать директору, который прервал речь лишь потому, что его душил кашель:
— И были у них (и теперь есть, и немало!) свои «апостолы», идеологи, философы, адвокаты — все эти штирнеры, канты, мальтусы, бертсоны, максы нордау, продажные богословы в рясах разного покроя. Все они — человеконенавистники по своей сущности!.. Петр Николаевич, они давно жили, давно умерли, но до сих пор отравляют сознание многим… Извините меня за откровенность, но я скажу: их теории гораздо глубже вашей, глубже, потому что вы лишь доморощенный философ, отщепенец, сторонник вульгарного материализма, ревизионист-подражатель. Недостроенное здание мира вы потихоньку, тайком подгоняете под чужие образцы. Вам было бы полезно побывать… Впрочем, вот что, — по-видимому, передумал Бережнов, — лучше всего загляните в себя трезво, критически… Я понимаю цену умственных затрат, но все-таки советую: выкиньте из головы эту «теорию», иначе совсем запутаетесь… Нехорошо получится, прежде всего для вас… Что, вы обижены? оскорблены? — спросил Бережнов с удивлением, но и сам сердился на себя за горячность и на этот одолевающий его кашель. — Напрасно обижаетесь, напрасно… Тогда я скажу попросту: я — директор, вы инженер-лесовод, беспартийный, но оба обязаны для родины делать одно, общее дело… Давайте подойдем к вопросу с другой стороны — практически, подсчитаем, взвесим, подведем итоги… Начнем с самых главных, известных величин: народ и партия… Сколько трудов, сил положили они, сколько пролили собственной крови, чтобы опрокинуть самодержавие, вырвать с корнем капитализм, разбить интервентов?.. Сколько лет, в каких битвах рождался новый мир!.. Четырнадцать государств — одновременно — ходило в поход против молодой республики!.. А у нас хлеба мало, оружия мало, армия-то только-только нарождалась… Ну какой воин из пастуха?.. А я всю гражданскую прошел — и на коне, и в пешем строю… Вот эта рука — видите?.. — саблю держала, винтовку — четыре года… И сабля была иной раз в крови!.. Со мной вместе и жена была, два года воевали рядом… в конце февраля, во время одной атаки убили ее. На Дону под Белым Хутором похоронил я ее… А сам еще два года пробыл в огненном пекле, но уцелел… а Тани в живых-то нет!..
Бережнов говорил с горечью и гневом. Не осмеливаясь больше молчать в такую минуту, лесовод проговорил стесненно:
— Революция разумна, необходима, неизбежна. Я — за нее…
— Да… в рукописи у вас это сказано, — кивнул Бережнов, сверяясь опять взглядом с Горбатовым. — Только вы там, кажется, забыли… о диктатуре пролетариата и о партии. Забыли? — и теперь он смотрел на лесовода, предоставляя возможность высказаться. Вершинин не воспользовался ею. — А ведь жизнь-то теперь мы строим! Мир вертится на новой оси… Страна поднялась из развалин, мечтая о будущем, и это будущее становится настоящим… Прикиньте на весах еще одно обстоятельство: вокруг нас, за рубежом, клокочет ненависть империалистов: Ватикан с весны зовет весь мир еще раз пойти против нас крестовым походом… уже две буллы к католическому миру написал папа римский!.. Мы и они — два противоположных стана.
В дверь опять постучались, Бережнов резко крикнул:
— Нельзя! Все это реальные факты, — продолжал Бережнов. — Капиталистическое окружение — это не соседство добрых, бескорыстных друзей, а огненное кольцо!.. Вам это хорошо известно… Пока никакая чужая армия не перешла наших границ, и дай бог, чтобы этого не случилось! Но в идеологии война идет большая!.. Это вы тоже знаете… Вот и скажите: помогает ли ваша теория народу укрепить социалистическое государство? Укрепляет ли она веру наших людей в собственные силы, веру в будущее?.. Тогда я за вас отвечу: нет, не помогает!.. Она уводит в бездорожье, в тупик, затуманивает сознание. А ведь надо поднимать массы, чтобы народ продолжал вершить великие дела! Поэтому и теория должна быть прогрессивной, ленинской! Вот в чем вопрос! Уж кто-кто, а вы-то, Петр Николаевич, должны бы знать дорогу… Определите же твердо, куда вам идти? Вперед, вместе с народом, с партией, или назад к прошлому? Выбирайте! — И, переменив тон, закончил более мягко: — А мой совет попомните: спокойно разберитесь — пока не поздно.
Близился конец занятий. За окном гудела, выла разыгравшаяся метель, которую Бережнов только теперь заметил, глянув в окно. Ветер со снегом хлестал ожесточенно в стекла, шумел, ударяясь в стену, царапался, крутил по железной кровле. Помолчав, Бережнов значительно переглянулся с Горбатовым — и Вершинин понял: решается главный вопрос — о нем лично, и зябкая дрожь проскочила по его спине.
— Я думаю, что мы, — заключил Бережнов, — на этом поставим пока точку? Хорошо, если не придется возвращаться опять к тому же… Возьмите вашу рукопись.
— Я могу быть свободным? — спросил Вершинин изменившимся голосом, тяжело приподнимаясь.
Но ему не успели ответить: зазвенел телефонный звонок, заглушивший трескотню машинок в соседней комнате. Бережнов взял трубку — оттуда слышался очень встревоженный крик продавца. Горбатов увидел: стало вдруг хмурым, почти злым лицо директора — и спросил, не дожидаясь:
— Что случилось?
— Толпа у ларька, толпа у магазина, кто-то взбудоражил людей… Алексей Иванович, сходи узнай, в чем дело. — Бережнов медленно, в раздумье положил трубку: — Тут что-то есть… какая-то пробежала по Вьясу черная кошка… Петр Николаевич, а вы что предполагаете?
— Трудно сказать, — пожал плечами лесовод. — Не знаю.
И подошел к окну. С возрастающей непонятной тревогой Вершинин смотрел на улицу, дивясь переменчивой стихии: в кипящей суводи дымились повети и крыши соседних изб, под окнами навивало высокие сугробы, в проулке бурлило, как в котле. А вскоре он уже не мог различить даже ближнего барака — все исчезло в тумане снежного неистового шторма. Железная крыша конторы сотрясалась, громыхала над головой… Циклон шел с запада, и, наверно, утихнет не скоро.
Впервые в жизни закрадывался в душу Вершинина страх перед завтрашним днем, который грозил ему из этой буранной приближающейся ночи. И он сказал:
— Что касается меня лично, я верю в силу партии, верю в людей. Работаю честно и, насколько могу, выполняю свои обязанности.
— Нет! — возразил Бережнов. — Это только слова, декларация. В наших условиях мало одного выполнения приказов, нужна глубокая, идейная убежденность, ясно видимая цель. Сомнения, неверие сводят на нет работу… Вы понимаете, что я имею в виду?
— Да, понимаю… Но я бы хотел подчеркнуть одно обстоятельство: теория, о которой шла речь, она, собственно, аполитична…
— Ложь! — решительно отверг Бережнов. — Пересмотри внимательно — и ты убедишься сам.
Перед глазами Вершинина, на выцветших обоях, вьюжила метель цветов. Он слышал, как из конторы, торопясь домой, уходили последние сотрудники, вошла уборщица с вязанкой дров и, положив их у печки, быстро ушла опять. В эту минуту снова рассыпалась металлическая дробь телефона, — на конце провода находились уже двое: Горбатов и заведующий магазином. Слушая, Бережнов впился глазами в пространство за окном и вдруг вне себя закричал:
— Какая там к черту «война»?! Кто-то взбаламутил баб… Немедленно прекратите торговлю, заприте помещение, надо разобраться… Идите оба ко мне, я жду. — И, с силой бросив трубку, взглянул на Вершинина: — Вот доказательства, которых вам недоставало!..
Лесовод с мучнисто-серым лицом, с потухшим окурком в тонких, плотно сжатых губах, стоял неподвижно у двери…
Глава XIII
У гроба Игоря…
— По обычаю надо сказать «добрый вечер», — войдя к Сотиным, произнес Бережнов стеснённым голосом, — а у тебя, Ефрем Герасимыч… горе.
В тягостном настроении застал он Сотина, сидевшего у стола, подперев рукой голову… Посреди комнаты, на двух табуретках, гробик, а в нем — Игорь, любимый первенец Сотина: непокрытая курчавая головка, в белой скорбной холстинке застывшее детское лицо цвета чистого воска: опущенные веки с длинными ресницами, от которых лежали тонкими полукружиями тени в глазницах; под красной дорожкой сатина угадывались тоненькие кисти рук, сложенных одна на другую. В углу избы прислонилась крышка гроба с венком искусственных цветов. На кровати, лицом к стене, лежала жена Сотина, свалившаяся от долгих бессонных ночей и невозвратимой утраты. В зыбке, у кухонной перегородки, спал ребенок под закрытым пологом.
— И ты, Ефрем Герасимыч, сильно опал с лица, — продолжал Авдей, подсев к Сотину. — Так убиваться не следует, держи голову повыше: в жизни бывает всяко… Мне вот сорок третий год идет — гораздо тебя постарше, и знаешь, сколько я пил горькой полыни!.. Отца схоронили, когда мне и двенадцати не было, а через год и мать на погост ушла… Как сейчас помню: осень, дождь, холод, а мы с братом да с дедом Антипом зарываем мать в могилу… Рассказать невозможно, что было на душе!.. Идем домой с кладбища, в лапотках, без шапок, — дед Антип плачет, а нас утешает: «Ничего, ничего, робятки, не пропадем: вы уже большие, мужиками скоро станете. Втроем-то нам — ничто нипочем!.. Три мужика — ого, брат, сила!.. Полем пройдем — хлеб вырастет, в лес шагнем — дрова будут. Так что нам и плакать-то не положено… Уладится как-нибудь…»
И остался нам дед Антип заместо отца и матери, — спасибо старику, крепкий был человек… С ним и жили, коров по летам пасли. Не померли с голоду. Однажды приходим по осени к Тихону Суркову за расчетом; две коровы держал он — хорошие коровы: рога калачиком, головки маленькие, обе породистые, черные, вымя чуть не до земли… Порядились пасти их за трешницу в лето и за два каравая хлеба… Пришли по осени за расчетом, а он нам и «отвалил» — серебряный целковый: «Хватит, говорит, не больно заслужили. И то сказать: не медными даю, а чистым серебром — оно дороже…» Дед просит хлеба: «Сделай милость, Тихон Иваныч, не откажи. Робятки мои сироты, взять больше негде, а поесть и им охота, тем паче что заработано»… «То-то и оно, что сироты. Пущай брюхо-то пояском подтянут потуже, а на чужой каравай рот разевать не приучаются. Избаловать ребятишек больно просто — подачками… Нищих полна Рассея, — что я, один буду кормить всех!.. И рад бы помочь, да у самого забот полон рот. Идите с богом»…
Дед покорился, а я рассерчал, обозвал Тихона кровопивцем. Он меня — за волосы. А я его за руку-то — зубами!.. так укусил, он даже ойкнул… Схватил кирпич да в спину мне хотел, а я увернулся, успел за дерево стать, — кирпич-то мимо… Если бы не этот вяз, что у тебя под окошком стоит, убил бы он меня, право… После, бывало, мимо дома его пройти опасно: подкарауливал меня… И дед Антип за меня боялся… После того пришлось ему с нами в Вариху в пастухи наниматься. Туда и ходили втроем каждый день, только в сильные дожди ночевали в Варихе, где кто пустит… Вот как, Ефрем Герасимыч, доставалось! А у тебя детство другое было: семья-то ваша под крылышком матери была да под рукой отца… А в общем-то и у меня плохое забылось, а хорошее, доброе помнится — ведь и хорошего было немало: деда Антипа есть чем вспомянуть, женщин-соседок, стариков, — бывало, нет-нет да и помогут… не отказывали, не шпыняли…
Сотин впервые от него слышал такую откровенную исповедь и был благодарен ему, что пришел вовремя.
— А в нашем положении теперь, — продолжал Бережнов, — голову вешать никак нельзя… как раз топором оттяпнут. Ударили уж… слыхал?
— Да слышал…
— Ты знаешь людей лучше, чем я… как ты думаешь? Откуда эти слухи?.. Кто-то сработал хитро. Чувствуется опытная рука.
— А что за человек приезжал из города? — спросил Сотин. — О нем болтают.
— Никого не было, — припоминая, ответил Бережнов. — Решительно никого не было.
Они долго говорили о беде, нахлынувшей нежданно в дни, когда все было тихо, — словно прорвалась плотина… Теперь зальет тревогой бараки, избы, перекинется на участки с воем: «Нет спичек, нет керосина, — теперь уж война! Война…» Как это отразится на производстве? За последнее время, в связи с перестройкой всей работы на новый лад, они — работники крупнейшего в крае леспромхоза — были заняты самым важным, а эта вот «мелочь» ускользнула от их внимания; запасли необходимых товаров, успокоились, полагая, что сделано все, — и вот не стало никаких запасов.
— На днях еду в город, — сказал Бережнов, — придется просить. А нынче пойдем по баракам: надо успокоить людей.
— А Вершинин? — задумчиво спросил Сотин.
— Перекинулся на ту сторону.
— Не понимаю. — Сотин изумленно взглянул на директора. — На чью сторону?
— Не наш он… не наш. Сегодня спорили… Да разве его словами проймешь! — Видя, что Сотин не понимает, о чем идет речь, Бережнов добавил: — В то, что делает партия, он не верит. И в людей не верит. Для него жизнь одинаково плоха при любом социальном строе.
— Я ему подал недавно идею, — припомнил Сотин, — написать книжку для лесорубов.
— Пишет, но не для лесорубов…
Сотину все еще не верилось. Они были друзьями, весной более месяца прожили вместе в Белой Холунице, строили там лежневую дорогу, такую же дорогу оба строили в Красном Бору и вместе вернулись. Живя во Вьясе, хаживали друг к другу запросто, подолгу иногда беседовали откровенно. Но никогда не слыхал Сотин ни одного осуждающего слова… Неужели Вершинин настолько скрытен?.. Напрягая память, Сотин искал подтверждений, признаков, даже намеков, — и вдруг откуда-то из глубины сознания всплыло, вспомнились разговоры о письме углежогов, о газете, о соревновании. Идею Сотина — найти замену молодым елкам для вязки плотов — Вершинин назвал однажды «химерой»… Соединяя эти разрозненные факты, Ефрем Герасимыч начал яснее видеть идейный облик Вершинина.
— Стало быть, мы его плохо знали, — молвил он с чувством разочарования.
— Подействует ли на него наш разговор, но… вопрос поставлен перед ним прямо… Решиться на оргвыводы, рубануть с плеча — рука на него не поднимается… Сам-то он жестко относится к людям, с черствинкой: даже тебя не выручил в самое трудное время, не поехал в Ольховку…
— Все же с оргвыводами я советовал бы подождать. — Сотин, по-видимому, жалел своего приятеля и был явно встревожен неожиданным известием о нем. — Ведь бывает же: одного товарищи покритикуют, другого подтолкнет сама жизнь — и смотришь: выправился человек, пошел по верной дороге…
— Предвидеть нелегко, как тут повернется дело: обстоятельства довольно сложные.
Провожая Бережнова до калитки и прикрывая глаза от жесткой, колючей пурги, Сотин сказал тоном извиняющегося человека, что сегодня не может с ним вместе идти по баракам.
— И не надо, побудь дома. А жену поддержи: ты — мужчина. На похороны завтра приду.
Вернувшись в избу, Сотин долго, неподвижно стоял у гроба, уронив на грудь сына теплый, немигающий взгляд. Игорь спал непробудным сном. От курчавых темненьких волос, к которым бережно притронулась рука отца, веяло холодом… Угасла жизнь — безвременно, в самом начале, оставив на белом воске детского лица невинную улыбку сожаления и робкой покорности… И Сотин в последний раз, под шум неумолкающей метели, пропел родному сыну свою песню, рожденную однажды ночью, в часы глубокой, неутешной скорби:
По осеннему лужку
Пробежали кони,
Отшумели под окном
Зеленые клены…
Низко опустив голову, он приник губами к желтой холодной щеке и тихо отошел к окну, чтобы не зарыдать…
Глава XIV
«Кольца Сатурна»
В темной пурге, бьющей в лицо, Авдей пробирался улицей. Кое-где по сторонам передутой сугробами дороги маячили притихшие избы, редкие огни светились неверным, колеблющимся светом, и чудилось Бережнову: где-то за этими занавесками и затаился тот, кто первым — по злому умыслу — пустил коварный слух о войне…
Кто-то, появившись из проулка, переходил ему дорогу, Авдей пригляделся, узнал Проньку Жигана, окликнул:
— Ты куда?
— Куда, известно… теперь побегаешь, — ответил Жиган с нескрываемой досадой и раздражением. В руке у него была четвертная бутыль. — Мы с темного утра до позднего вечера в сугробах лазим, гнем спину в лесу, бревна ворочаем, а тут — лавки и магазины громят. Сволочи, черт их в душу!.. В бараке у нас как в погребе: темно, ни капли керосина…
— Куда идешь, спрашиваю?
— Везде блукаю: к Полтанову бегал — не дает, к Якубу — тоже не дает. Говорят: у самих нету… А кто им поверит? — Пронька Жиган развел руками. Бутыль у него была действительно пустая. — Куда идти? Не знаю. Хочу к Паране сходить… Наварили каши — ешь теперь, давись, — продолжал возмущаться Пронька, уходя от директора.
Посмотрев ему вслед, Бережнов пошел своей дорогой.
А Пронька нырнул в проулок и, миновав Паранину избу, завернул… к Лукерье.
Горбатая старушка только было села поужинать перед сном, как задрожали ее воротца. Осенив себя крестным знамением, она вышла в сени, а узнав Пронькин требовательный голос, отперла послушно, без слов.
Он незаметно сунул четверть в угол у порога и сделал шаг к столу, тенью своей заслонив бутыль.
— Ужинаешь, чертовка? — набросился на нее Жиган. — Ты что наделала с рабочей массой? — Он рычал на нее, как собака на кошку, сгорбившуюся от страха. — Ведь я тебе, темная твоя душа, сказал по секрету, что мне люди сообщали. Сказал, жалеючи тебя: мол, запасет чего-нибудь… Каналья ты!.. Ты должна была прийти в лавку и молча взять, что тебе надо… А ты начала звонить, народ взбулгачила. Сообщу вот про тебя кому следует, найду свидетелей, что слухи вредные распускаешь, — знаешь, что тебе будет?.. Тюрьма! Нынче прихожу в барак, — все галдят, содом настоящий, лампу зажечь нечем… Хоть не ужинавши ложись. Чертова перешница!.. Ну ладно, если больше бухтеть не будешь — промолчу. Так и быть… А если, — погрозил он увесистым кулаком, — высунешь еще язык — гляди, что тебе будет! Не стану жалеть, не погляжу, что ты старая да одинокая… Все партийцы, все комсомольцы поднялись на ноги — доискиваются. А ты у них на плохой примете. Как у шинкарки, конфискуют все имущество и саму угонят на Соловки… Ты этого добиваешься?..
Бледная, с осунувшимся лицом Лукерья возилась на табуретке, хватала ртом воздух, точно под ножом рыба, вынутая из воды. Лукерья пыталась что-то сказать, но Пронька не дал:
— Ладно, не трясись. Искупай вину — давай керосину.
— Да ведь у меня, родимый, у самой немножко. Не дали, сколь просила… Что ты пристал ко мне? Спасенья от тебя нету!.. Господи, наказал ты меня, знать, за грехи великие!..
Пронька сел на конец лавки, вытянул ноги и снял шапку:
— А я вот посижу у тебя часов до двенадцати… — и глянул на старуху сумрачным, тяжелым взглядом. — Как все затихнут да уснут, так и… нальешь мне. — Лукерья сжалась в комок от страха. — Умеешь кусаться, собачья душа, умей и раны зализывать.
У Лукерьи сморщились губы, плаксивым стало лицо:
— Господи, у самой ничего не останется… Во что налить-то?
— Вон у порога бутыль.
Лукерья ушла к печке, вынесла оттуда бидон, воронку и трясущимися руками взяла Пронькину четверть.
— Прольешь… давай сам налью. Не пугайся, не полную мне, а половинку. — Он налил ровно полчетверти, сунул ей в руки воронку, выложил на стол деньги: — На, бери, не обижаю… Только смотри — не пикни больше! Теперь давай водки, пол-литра мне. Ну вот и квиты с тобой…
Лукерья была в душе рада, что легко еще отделалась от страшного парня: могло случиться и хуже.
Увязая по колена в снегу, Пронька лез серединой улицы, легкими прыжками перепрыгивая сугробы, и все кому-то подмигивал в этой беспокойной тьме:
— Уладил. Теперь сам черт не раскопает…
В зимнюю непогоду Параня сразу как-то затихала, горбилась, больше морщин и желтизны появлялось на узком, остроносом лице, а в походке, прежде неровной, порывистой, начинала резче проступать старчески неуверенная поступь, — и когда шла, то со стороны казалось, что она вот-вот упадет вперед.
А в эти дни и ночи такого невиданного прежде в этих местах бурана больно кололо у ней в груди, ломило невмочь суставы… Оставив постояльцу ужин на столе под салфеткой, рано забралась на печь, и в этом укромном гнезде, прижимаясь к теплым кирпичам спиною, проводила долгую ночь, думая о чем-то своем. По временам она забывалась коротким и смутным сном, а после опять в тишине и думах тянулась томительная ночь. Не замечая за собою, Параня стонала тихо, тягуче, как стонет в непогоду старое сухое дерево в лесу…
Последние вечера Вершинин не выходил из дому. Он подолгу ходил с папиросой во рту или усаживался в кресле, часами не меняя позы, просиживал в глубоком раздумье… В эти вечера он совсем не разговаривал с хозяйкой, — да и о чем? Он просто не замечал ее.
Все, что было прежде найдено им в жизни, что перечувствовано и пережито, теперь переоценивалось сызнова — с начала и до конца. Цепь прежних умозаключений рвалась, распадалась на части, и ничто новое не возникало пока взамен. В эту ночь, когда за стеною особенно клокотал темный омут, в его сознании происходил повторный процесс плавки его теории, отливались новые формулы… Но, сравнив их с прежними, он не обнаружил разницы, которой ждал.
Перечитав свою рукопись, долго передумывал опорные звенья, на которых держался его «мост»… Дорога вела в лес фактов, о которых говорил ему Бережнов: народ, его мечты о лучшей доле, революция, гражданская война, новый курс страны на индустрию, события последнего времени за рубежом… Но были они слишком далеко отсюда, и до Вершинина доходило лишь неясное, еле ощутимое движение злобных ветров. Здесь же, во Вьясе, почти врываясь в комнату Вершинина, кипела неистовая метель страстей, к которым он не остался безучастным и равнодушным… В кромешной тьме, казалось ему, нет ни одного огня, чтоб осветить и указать ему дорогу…
За эти дни переменились здесь люди. Он не желал того, что случилось, но угадывал, что рано или поздно это могло произойти вполне. Он положил перед собою рукопись и начал писать дальше…
«…Горбатов додумал мою систему, — но только не „она ведет к Паране“, а сама эта женщина вошла в мою систему на одинаковых правах с другими. Лишь по причине моих субъективных чувств я не думал об этом раньше. Теперь я с ней мирюсь, как с предельной суммой низменных чувств и быта…
Выжить во что бы то ни стало — вот основной биологический закон. В его пределах возникают, формируются и крепнут инстинкты, чувства и „характеры“ индивидуумов. Это как бы внутреннее кольцо Сатурна. Оно сплетено из низших чувств и состояний: корыстолюбие, жадность, лесть и клевета, властолюбие и угодничество, мстительность и жестокость, высокомерие и низкопоклонство, злоба, страх, ревность и т. д. Я тоже пригвожден веками к внутреннему кольцу. Из него мир вырвется не скоро, — нужны столетья…
Когда же разум человека вырастет настолько, что будет в состоянии подчинять себе все эти низменные чувства, тогда и наступит (постепенно) иной период в человеческом обществе: низменные чувства затухнут, умрут, и взамен их (также постепенно) возникнут чувства высшего типа (какие именно — я не знаю, и не мне определить их). В их сфере — как бы в наружном кольце Сатурна — будет жить новый человек, человек будущего. Мир к этому кругу еще только приближается. Путь долог и сложен…
Причинная цепь бесконечна. Я охотно принимаю без поправок положение о триадах, о прогрессе, как категории вечного движения в пространстве, о классовой борьбе, о неизбежности социальной революции, — но я не могу сейчас принять желаемое за действительное, чего так настойчиво требовали от меня Бережнов и Горбатов. Из нас троих — пусть им обоим принадлежит право давать директивные оценки явлений, но что мне делать с собой, если и во мне живет неистребимая потребность мыслить?..
Горбатова и Бережнова интересуют только суммы больших чисел, а меня — единицы этих слагаемых. Человеческим единицам они отводят слишком мало прав и почти никакого поля для самостоятельной деятельности. Им (да и не только им) следовало бы внимательно приглядеться к тому, какую роль играют эти единицы в истории мира, в жизни повседневной, и какова их природа и характер…
Я вижу пока одно: вода отовсюду стекает в низину, в море, а люди — в мою систему… Последние события во Вьясе подтвердили ее правоту: они явились ее апофеозом… Я мог бы, пожалуй, сказать: „О, теперь я вижу: мое дитя начинает жить, как главный герой романа… Выращивая его, я изнашиваюсь, старею. Я продолжаю любить его и в то же время начинаю ненавидеть. Ненавидеть потому, что оно — злейший враг моему разуму! Ведь разум, как единственное орудие познания, должен быть свободен!.. А вместе с тем нигде и никогда в мире ничей разум не был абсолютно свободен: пределы свободы ограничены в условиях времени, общественных отношений и множеством прочих причин… Здесь начинается противоречие… Весь мир есть неразрешимое противоречие, загадка, хаос!..
Я верил в разум, как в работоспособность солнца, верил в разум человека-творца, способного, наконец, обезглавить этого змия — свои низменные чувства, и позабыть их навсегда!.. То, во что я верил, наверно, не настанет никогда… Довлеют над миром мрак, вьюга, стихия…“»
Вершинин лежал на постели с закрытыми глазами, размышляя уже о том, как сильно измучили его непогодные дни и ночи… Вьюга все не унималась: с воем и визгом рвала темноту в клочья; кружилась и дзенькала черная карусель времен, рождая перед глазами Вершинина мираж бесконечного, бесцельного, необъяснимого движенья…
Зыбучее волненье измотало его, и когда шумящий шквал заплеснул его с головой, поднял и, раскачав, кинул в пучину, — он уже ничего не почувствовал…
Глава XV
Волчьи следы
До белого вала железной дороги тянутся к Вьясу волчьи тропы. С разных сторон идут они к конным сараям, к дворам и ометам соломы, а на околице звериных следов не
счесть.
В сумерки вышла из своей землянки Палашка, сборщица сучьев, и у самых ворот заметила такой же волчий след.
— Вот окаянные! — дивилась она. — Никого не боятся — осмелели. Проньке надо сказать… Что лодыря корчит, шел бы с ружьем, коли больно храбрый. За волчиные шкуры деньги дают…
Она нагнулась к темному оконцу своей землянки и закричала, стукая кулаком в наличник:
— Тятя, волки у нас были!
В ответ послышался дряблый и приглушенный голос Никодима:
— Нехай! К нашим овцам не залезут: нет у нас их.
Узкой тропой шла Палашка к седьмому бараку ленивой, утиной походкой, вперевалочку, перелезая с сугроба на сугроб, — теперь трудно было идти широкой улицей Вьяса.
В бараке лесорубов горел огонь. Коробов сидел на поленцах, топил подтопок и, глядя в горящие угли, щурился. У него русая борода лопатой, домотканая суровая рубаха с узеньким воротком, который завязан тесемочкой, новые лапти с онучами. Сажин Платон стоял у плиты и чистил сырую картошку. Сорокин Ванюшка приткнулся бочком к Семену и, напрягая глаза, читал газету. Ефимка Коробов — сын Семена и Гринька Дроздов — артельный певун, теснились тут же. Топка пылала пепельно-красным огнем, заливала розовым дрожащим светом газету, русую бороду Семена и наклоненные слушающие лица парней. Остальные лесорубы, в том числе Спиридон Шейкин и Пронька Жиган, лежали на нарах в ожидании ужина.
Палашка молча прошла к окну и села на лавку. Она часто приходила сюда от скуки, садилась и слушала, о чем говорят, — к этому давно привыкли.
Под ногами Платона что-то вдруг звякнуло, покатилось под нары.
— Платон, чего это? — спросила Палашка.
— Ась? Чего? — бестолково оглянулся на нее Сажин. А догадавшись, в чем дело, бросил нож, сунул в карманы руки и сокрушенно зачавкал: — Фу ты, пес тебя дери!.. Я так и знал: карман худой, укатилась…
Он взял из-под подушки спички и, согнувшись в три погибели, полез под нары. С зажженной спичкой он искал свою «кровяную копеечку», царапал ногтем в щелях, шарил у плинтуса стен и охал.
— Ты чего там? — спросил Жиган сухо. — Домового ищешь?
— Его самого, — пропыхтел из угла Платон. Потом попросил нож.
Палашка кинула ему, и он принялся ковырять в щели. То и дело зажигал спички: они, недолго погорев, гасли, он зажигал еще.
— Прямо напасть какая-то, — вздыхал он, ерзая по полу. — Три копейки потерял.
— А может, гривенник? — язвительно подсказал Жиган.
— И куда, пес дери, укатилась? Наверно, в щель. Я так и знал. — Последняя спичка меркла, обжигала пальцы. — Тьфу! — плюнул Платон со злостью, вылезая обратно.
— Напрасно трудился, — сказала ему Палашка, — спички тоже денег стоят: двугривенный коробок… Вчера я у Парани купила.
С багровым лицом, с надувшимися жилами на висках, Платон разгибал спину и таращил на девку глаза:
— Двугривенный?! Неужто?.. Значит, я кругом в убытке? Десять на двадцать, кровяная копеечка. Тьфу!..
Палашка вынула из кармана бутылку и заговорила о деле, за коим пришла:
— Уважьте мне керосинцу… С отцом в потемках сидим.
— Ни глотка не дадим, — уважил Платон. — У самих мало. Кабы не Прокофий вон — беда совсем… Знаешь, как нынче играет этот товарец! Спички вон и то, говоришь, двугривенный. У самой не было заботы запасти? Спала бы дольше.
— Дать надо, — сказал Семен Коробов. — Привезут скоро… Отдаст.
Но Платон отказал наотрез:
— Не дам, хоть режьте!.. Не привезут теперь. Своя рубаха к телу ближе.
Жиган спрыгнул с нар, не говоря ни слова, выхватил из рук у Палашки бутылку и выбежал в сени. Через минуту он вернулся с четвертью и, нисколько не остерегаясь огня, начал цедить керосин у самой печки.
— Женщину должон жалеть, — внушал он Платону строго. — Иди, Поля, справляй свою женскую домашность… Платон, убери бутыль. Ну, ну, не хорохорься, а то… пролью по нечаянности… вспыхнет…
Угроза подействовала: Платон обхватил четверть обеими руками и унес в сени.
Палашка только что отошла от крыльца, — ее окликнули, она оглянулась. Перегнувшись через перила, стоял на приступках Пронька в шерстяных носках, раздетый, и манил ее.
Она вернулась:
— Чего ты, Прокофий?
— Где вчера вечером была?
— Спала… а что?
— Я к тебе заходил, а у вас заперто и огня нет. Покружил у окошка — и обратно. Скучно было, хотел с тобой погулять.
— Так это ты наследил? А я думала — волк… Взял бы ружье, покараулил. Развелось их везде много.
— Дурёха. В волка ночью попасть нелегко, к тому же картечью надо. — И, понизив голос, спросил: — А нынче опять дрыхнуть будешь? Вечером выходи. Посидим на соломе, там тихо.
— В бурю-то? Ты что, очумел?
— Я такую погоду люблю — волчиную.
Пронька приглаживал ладонью свою густую гриву и, закуривая папиросу, глядел на Палашку властными глазами. Он понял, что ей и выйти охота и побаивается его. Чтобы рассеять эту боязнь, он еще раз назвал ее ласково дурехой.
— Отец заругает, — нестойко сопротивлялась она.
— Никодим — сморчок. Чего боишься?
— Нет уж, лучше спать. — Она сказала ему спасибо за керосин и ушла.
— Рябая сдоба, — пустил ей Пронька негромко вслед. — Все равно не уйдешь, моя будешь.
Хмурясь, он ложился опять на нары. Ванюшка Сорокин читал о Восточной железной дороге, о битвах китайцев с японцами на полях Маньчжурии, о коричневых фашистских блузах, которых все больше становилось в Германии. Газета хранила обычное настороженное спокойствие, но здесь за последние дни ей не верили. Продолжали слушать молча, потом начали думать вслух — кто о чем; потом понемногу заспорили: о войне, о спичках, о керосине…
— Насчет войны мне наплевать, — высказал свое мнение Платон Сажин, — она меня не заденет.
— Это как сказать, — заметил Ванюшка Сорокин.
— Нет, не заденет: отсидимся в лесу. Я свое отслужил уж… Только бы на лошадь скопить. Куплю, лошадником заделаюсь и буду поживать — сам себе хозяин… Вон Самоквасов как ловко ухитрился: ссуду выцарапал, своих добавил и лошадь купил… Молодец… живет теперь и в ус не дует, как сыр в масле. Кажинный день, почитай, выпимши. — Платон определенно завидовал.
— Тереби и ты, — посоветовал Пронька. — Я же давно говорил тебе: рабочему человеку должны помочь. Давай, мол, — и всё тут. Проси хорошенько, требуй, тереби, — дадут!..
— Это как «тереби»? — встрепенулся Сорокин. — Если каждому на лошадь давать, тут Бережнов штанов не удержит.
Пронька съязвил:
— Пусть без штанов походит, раз Платону лошадь иметь желательно. Доход даем государству большой, частичку отколоть могут.
— «Большой»… Что вам на этот доход, лошадей накупить?
— Не всем, — ответил Платон, — а мне только… Эх, и зажил бы я вольготно!.. Плохо вот, что спички все расхватали.
У Проньки насчет войны было особое мнение. Он шумно привстал и плюнул к порогу:
— Не в спичках вопрос и тем паче не в керосине. Вчера вон Бережнов с Горбатовым были, говорят — привезем. И привезут. Это дело уладится. А вот война — тут посерьезнее. Народ говорит — значит правда. Война определенно ясная; кругом весь мир кипит, к нам волна подходит, — и напрасно от нас скрывают… А я, может, добровольно в окопы уйду. — И ударил себя в грудь кулаком. — Все равно скитаться по белу свету!.. Там еще лучше. А пуля меня нигде не поймает!..
— А что? — вдруг спросил Платон, когда укладывались после ужина спать. — Как ударит война, пожалуй, отсюда все разбегутся — кто куда, а?
— А как же, — подтвердил Пронька авторитетно. — Какой тут смысл оставаться? Спасайся кто может… Правильно, Шейкин?
— Не знаю. Скорее всего, что нет.
Семен Коробов до сего времени не вмешивался в разговор, а тут не вытерпел и принялся урезонивать Платона и Проньку:
— Охотники вы до всякой паники. Как бабы: жу-жу-жу, жу-жу-жу. Параня с Лукерьей тоже, наверно, стонут да мечутся… Бережнов вчера успокоил народ, а вы опять… Суматошники. Спите давайте, черти… Завтра подниму спозаранок. Будет, замолчи, Платон!..
В бараке понемногу стихало.
Всех дольше не засыпали Платон Сажин и Пронька Жиган: ворочались на нарах, словно их кусали клопы, молча сопели, и каждый про себя думал свою думу.
А в лесу, на знойках, две ночи не спалось старику Филиппу. Досадовал он на себя, чавкал и черной пятерней скреб затылок: покинул тогда горячую груду углей, — пока ходил во Вьяс за керосином, ветром раздуло огонь и вся груда сгорела. А Кузьма — окаянный — проспал.
— Эк-ка-а! — вздыхал Филипп могучим нутром, ворочаясь с боку на бок в своей берлоге. — Суматоха чертова… Двадцать кулей было бы… Двадцать кулей первосортного!..
И принимался тормошить седенького, дремучего старичка, утомленного работой и метелью:
— Кузьма! Очнись, сатана, а то заснешь навовсе… Вот беда, незадача-доля!.. Двадцать кулей!..
Но Кузьма не просыпался, тяжело всхрапывал, сопел, свернувшись на жестком топчане, а Филипп лежал с открытыми глазами и не мог заснуть. Долго слушало его мохнатое, чуткое ухо, как стонали, скрипели в лесу деревья, как волчиным воем выла вьюга и лизала снегами крышу землянки…

Часть третья
Глава I
Жиган покупает ружье

С тех пор как Ефрем Герасимович Сотин побывал в Ольховке, его не покидала дума — найти замену молодым елкам, которыми обычно вяжут плоты, — хотя Вершинин назвал мечту его химерой и советовал не трудиться впустую… Сотин не отступался, и когда снарядили в Ольховку две бригады лесорубов и двадцать человек сезонников, чтобы, расчистив место, проложить к новому ставежу ледяную дорогу, он запросился туда сам, — и вот уже двенадцатый день сидит там безвыездно…
К удивлению Петра Николаевича, вчера перед концом занятий из Ольховки сообщили Бережнову — ребус решен: можно вязать не молодыми елками, а сучками старых елей… Так изумительно просто был найден выход, суливший колоссальную экономию… По подсчету Вершинина, она выражалась цифрой почти астрономической — в двадцать миллионов елок, которые прежде губил леспромхоз за одно десятилетие!
Бережнов потирал руки от удовольствия, читая сотинскую статью, написанную по этому поводу, потом тотчас же отдал ее на машинку, и оба экземпляра сам опустил в почтовый ящик для областной газеты и лесного журнала… О Сотине уже заботились, имя Сотина отныне могло стать громким, — но успех Сотина не радовал его друга…
Вечером появилась в дневнике Вершинина новая запись, только одна строчка: «Мой прежний друг — опасный конкурент». С этим неприятным чувством он лег в постель и с ним встретил раннее утро.
Сознание прояснялось лениво и медленно, как горизонт на заре, откуда уползают, поднимаясь, тучи. Напрягая еще не окрепшую после сна мысль, Вершинин опять думал о Сотине и ощущал в себе что-то острое, колючее, обжигающее, — это была зависть…
«Надо жить и работать так, чтобы не обогнали», — думал он, усаживаясь за стол завтракать.
Заявился Пронька: он был нездоров в эти дни и гулял по больничному листу. Стоя у двери и не смущаясь присутствием лесовода, он шутил над Параней:
— Ну, колдунья ведьмовна, шапку сшила? Хорошо… Дай-ка примеряю. — Смахнул с головы драную кепку и кинул на печь. Кудрявая шевелюра его поднялась копной, качнувшись словно от ветра. Он погладил заячий мех, развязал узелок тесемки и в новенький пушистый малахай сунул голову, а поглядеться — красиво ли сидит — подошел к зеркалу. — Эх, гоже и недорого… Сколько тебе? Говори живей, без стеснения дери шкуру. Только уговор: не до крови, а то… обижусь.
Параня запросила сходную цену, и Пронька, даже не поторговавшись, выкинул деньги. Вершинин заинтересовался: как живет он? с кем из лесорубов дружит? Пронька безнадежно махнул рукой:
— И не спрашивайте, Петр Николаич.
— Что?
— Нет здесь подходящих людей… не как в Зюздине или на лесопилке… До компаний всяких я любитель. Там людно было, просторно. Бывало, парни-погодки слушают меня, как главного, передом шел, а тут затирают, — на курсы вон и то не взяли… Да и неохота мне. Я вам, как беспартийному человеку, скажу напрямки: врут, выслуживаются, карьеру строят. Мне зажим кругом, и куда ни пойди — везде на дороге бревна: туда не ходи, сюда не пустим, и все вроде этого. Работай как лошадь, под началом живи… А я не хочу! Нынче я выполняю план на сто, а завтра гулять буду, и никто не мешай мне. Понравишься мне — последнюю рубаху отдам, а рассержусь — бомбу брошу.
— Напрасно. В вашей артели хорошие ребята есть, дружить можно: Коробов, Ефим, Сорокин, Сажин… Ну, и Шейкин тоже…
— Шейкин породы не такой… тихоня и пожилой. Разве на худой конец только. Сажин — попрямее, с ним можно… Он все понимает, что скажешь… слушается, а остальные так — ни рыба, ни мясо, с ними каши не сваришь… Сорокин — тот комсомолец, в песнях и то агитацию подпущ
ат. Коробов Ефимка — ему смена. Семен Коробов — наш начальник — угодник казне, бригадир… И выходит, что я кругом в плетне, нет мне ни ходу прямого, ни жизни вольной.
— Дорогу надо самому прокладывать. Бывает и так: идет толпа по дороге, а ты покачнулся, упал, — ну, и сомнут. Или уйди с дороги, или не падай.
— А я не уйду! — капризно мотнул головой Жиган. — Поперек дороги лягу.
— Растопчут — и не оглянутся.
— А я бомбу брошу, — тогда все оглянутся, да еще как!..
— Ты не понимаешь меня, Прокофий.
— Понял, ей-богу понял! И приветствую…
— Чудак ты.
— Ничего не «чудак». Я понимаю. И в вашем деле — то же самое, как у нас: вон Сотин… думаете, почему он так старается, изобретает и тому подобное? Известно: вас перешибить норовит. Он перегонит: покладистый, с начальством не спорит, а начальство любит тихеньких, послушных… Вот помяните мое слово: по службе ему скоро повышение дадут. А вы — с характером, у вас своя линия, — таких-то как раз недолюбливают, и поэтому Сотин для вас человек, я бы сказал, опасный.
Лесовод старательно жевал воблу, не глядя на Проньку: он вовсе не хотел говорить с ним обо всем этом.
— Ерунда. Он работник честный, мы с ним друзья. — И, чтобы кончить, завел речь о другом: — Жиган… так ведь и не нашли тогда, кто взбулгачил поселок?
— Разве найдешь… Тут, видно, с умом сделано или… скорее всего, по темной, несознательной глупости.
— А ты… ни на кого не думаешь?
— Э-э… мы этим не занимаемся. Наше дело маленькое, лес валить. — Он закачался на гнутых ногах, мял шапку и торопливо заговорил: — У меня к вам просьба: ружьецо-то продайте, Петр Николаевич. Ванюшка Сорокин все равно не купит: удавится, а не купит, — ему за бесплатно бы. Да он и не охотник… А мне — в акурат: буду хоть зайцев выслеживать да стукать, а то скучно жить на белом свете.
— А Горбатов вон… жалеет убивать-то.
— Я про себя не скажу этого, у меня рука сухая, — сказал, точно отрубил, Пронька.
Вершинин, немного подумав, продал ему ружье, продал почти за бесценок, и когда Жиган отдавал деньги, — даже неудобно было брать такую мелочь.
— Ну вот и спасибо, — уходя, благодарил Пронька. И выпрыгнул из избы.
Мимо окон мелькнула его белая заячья шапка.
Глава II
Катя в опасности
По зимам бывают нередко дни, когда не спасают от стужи ни мохнатый тулуп, ни глубокие санки, набитые сеном; когда солнце, само замерзая, искрится в глубокой синеве блестками снега. В такое холодное утро Бережнов и Горбатов уезжали в Ольховку, где достраивали новый большой ставеж. Под окнами конторы уже стоял молодой жеребчик Тибет, впряженный в легкие глубокие санки, пялил взнузданный рот, нетерпеливо бил в снег копытом.
— Ишь, у стервеца дрожат бока-то, — молвил Бережнов, залезая в сани и покрякивая от стужи. Тибет рванул с места, помчал машистой рысью, забрасывая седоков комьями снега из-под копыт.
— Ты не легко ли оделся? — спросил Авдей. — Продрогнешь.
— Ничего… Чапан теплый, — ответил Горбатов.
Вершинин, к которому был приставлен надежный человек, на эти дни остался замом директора.
Нынче на работу он вышел раньше обычного, еще дома заглянув в блокнот: погрузить семь платформ английской шпалы, двести кубометров дров и отправить на электростанцию; закончить в щитковом доме и в новых, только что достроенных бараках печи; сложить печь на знойке, где живут Филипп и Кузьма; разделать еловую дачу, а баланс отправить на бумажную фабрику.
Двумя длинными улицами, изгибаясь, тянулся к лесу поселок Вьяс. В двух километрах от него, через дорогу, виднелась деревня Вариха. В лесу загудел паровоз, белый дым вырывался вверх и, застывая, повисал над деревьями. На линии рабочие грузили английскую шпалу, бревна и тес. Вершинин подошел. Бригада работала дружно, курили редко, укладка была нормальная… Он молча прошел мимо.
Кругом громоздились бунты бревен, столбов, балок, козлы с пиловочником, груды свежей щепы и опилок. По лежневой тянулись подводы, груженные строевым лесом. Гудя по рельсам, подкатил резервный с пустыми платформами.
Поодаль от дороги, где стояла конторка склада, затерявшаяся в лесном заторе, работали ошкуровщицы и громко над чем-то смеялись. Полная, краснощекая от мороза Наталка стояла к нему лицом, заправляя выбившиеся из-под платка русые волосы; завидев лесовода, она толкнула смеявшуюся соседку в загорбок, та сразу оборвала смех, но, не сдержавшись, опять прыснула. Сама Наталка крепилась, но смехом были полны ее глаза, лукаво блестевшие.
«Уж не поделилась ли чем Ариша с Наталкой? — подумал он опасливо. — Если да, то скверно. Что это — хвальба?.. Надо будет узнать».
Между тем Наталка ухватила скобель, нажала руками и продрала желтую дорожку почти в половину длины всей тюльки. Потом еще и еще, — сосновая кора только хрустела под ее скобелем, длинными лентами падая под ноги.
К щитковому дому везли на подводах кирпич. Вершинин перенял его на дороге, и через несколько минут кирпич шел по местам: три подводы к столовой, четыре разгрузили у щиткового дома, остальные он послал на знойки. Кроме Филипповой, таких зноек было четыре. К приезду директора у Вершинина все будет готово, — он тоже, как и Сотин, не ударит в грязь лицом.
Однако нужно было позвонить дежурному. Проходя мимо конного двора, он услышал ржанье лошади, кажется Орленка. Ворота были отворены настежь, внутренность двора виднелась черным квадратом, в котором стояли двое. Лесовод подошел. Это были коневозчики, они стояли в воротах, с любопытством посторонних наблюдая за происходившим внутри двора. Он спросил: тут ли Якуб?..
— Вон там он, с Орленком возится, — ответили ему. — Глядим, кто кого перехитрит… Опасно все-таки с ним, плохая у Якуба работенка.
Орленок — жеребец-пятилеток, он дик, зол и норовист, он имеет немало талантов, которые сделали его известным: развязывает зубами любой узел, отпирает задвижку у ворот, вынимает из скобы шкворень; он уходит со двора, когда вздумается. От него сторонятся возчики, а женщины, завидев его, разбегаются с визгом. Он крупномер и сбивает с ног своих соплеменников, если кто-нибудь из них осмеливается вступать с ним в драку. Сейчас он ушел от своего стойла, отворил кладовушку, пристроенную в углу двора (там хранится дневная норма овса для обоза), разыскал овес и пожирает. К нему пройти почти невозможно: проход тут узок, и Орленок, кованный на все четыре, намеренно стал к воротам задом. У Вершинина сжалось сердце от ужаса и изумления: Якуб, наружно спокойный, лез к лошадиной морде, лез уже между пряслом и Орленком. Уговаривающий голос его был ласковым и в то же время строгим.
Ждали беды: если бы Орленок вздумал прижаться к забору — Якуб был бы раздавлен. Ждал беды и сам Якуб, и все-таки лез: больше некому было выполнить эту опасную обязанность — поймать дикую лошадь и избавить людей от беды…
Орленок осадил назад и, поджав хвост, оборачивался, — морда была уже взнуздана. Вдоль стойл, по проходу, его вел Якуб — низенький и тщедушный мужичонка.
— Все мешки распорол, черт, — ругался он, — с полмеры овса съел… Подержите его, ребята, я подберу овес… Я тебя, черта! — погрозил он Орленку. — Подержите, ребята.
— Да нам некогда… мы пойдем. — И возчики, оглядываясь, пошли восвояси.
Якуб озлился, позеленел:
— Глазеть есть когда, а помочь — некогда… Трусы! Хоть ты, Петр Николаич, подержи… Я сию минуту.
Вершинин заглянул в глаза Орленка: в их синем омуте блуждали дикие красные огни. Стало страшно с ним остаться наедине, но отказаться было нельзя. И вот Вершинин, сурово покрикивая, держит дрожащей рукой под уздцы. Мимо проезжала пустая подвода. Орленок увидел, заворочал белками, завизжал так, что задрожали бока, и, вдруг поднявшись на дыбы, вскинул передние копыта над самой головой лесовода. Тот выпустил из рук повод и покатился кубарем под ворота, — если бы не расторопность Вершинина, быть бы ему с клеймом: именно в этот миг Орленок взыграл кованым задом, — дощатые ворота треснули, — и понес вдоль улицы, всюду поднимая панику. Бежали от колодца бабы, ребятишки, катавшиеся с ледяной горы. Бросив бельевую корзину и размахивая руками, жалобно визжала на дороге девка, застигнутая врасплох. Из окон, из ворот, из-за углов пугливо высовывались головы мальчишек. Орленок облетел весь Вьяс и на конце улицы остановился: на снегу лежала оброненная кем-то охапка сена, а подле нее стояла Катя Горбатова, пересчитывая на стебле коновника вызревшие сухие пистонки семян.
Орленок потянулся к сену, Катя взмахнула длинным стеблем и шла прямо на лошадь. Из калитки противоположного дома выскочила Ариша — без шубы, без повязки, она бежала, чуть не падая… Орленок косил глазом на девочку и украдкой подворачивал зад. Он уже поднял одну ногу, пружинисто сжав в колене, точно прицеливаясь… В тот момент, когда Ариша, схватив Катю, бросилась в сторону, ослепительно сверкнули кованые копыта.
Подбежавший Якуб изловчился как-то схватить его за уздечку и повис на морде, — из цепких рук Якуба Орленок не вырвался. Вершинин подивился мужеству и ловкости Якуба.
Когда Якуб увел Орленка, а Ариша унесла Катю, голыми руками выхватив ее из полымя, и села на крыльцо, подошел Вершинин. Ему было вдвойне стыдно: почему он бросил поводок, когда Орленок поднял над его головой копыта? Почему не он, а другой человек поймал жеребца?..
— Ариша, какая ты… смелая, — сказал он.
— Когда тут думать: одна секунда и — смерть, — не поняла Ариша. — Она еще совсем ребенок, глупышка.
Он не знал, что и сказать ей в эту минуту умиления, жалости, восторга и стыда.
— Ты не бережешь себя… Холодно. Иди домой.
Ариша обхватила Катю обеими руками и принялась целовать, прижав ее к груди.
На обратном пути Вершинин повстречал Филиппа. Тот — черный, большой — шагал серединой дороги, неуклюже выбрасывая в стороны истрепанные, черные от угольев лапти, сердито хмурясь. За несколько шагов он снял перед лесоводом шапку и, опустив голову, хотел пройти мимо. Вершинин остановил его:
— Что, Филипп? Сожег уголек-то?
Углежог тяжело вздохнул — это был вздох кузнечного меха.
— Эк-ка-а, — октавой протянул он. — Беда-а… Прямо беда-а. Двадцать кулей сгорело… первосортного!
— И как же теперь?
— Да ить как же, — Филипп развел руками, — не знаю, что и придумать. Голова кругом идет, места себе не нахожу… тоска… прямо убил бы того, кто этот слух пустил. Узнаю — все равно убью… вот до чего дело доходит!..
— Всегда так, — ворчал лесовод, — работают люди хорошо, для дела иногда себя не щадят, а как чуть коснется поближе, так и работу бросают и добро портят… Бегут за спичками, за керосином, а общественное добро хоть все сгори — не жаль…
В голосе его слышал Филипп обиду за людей и стыд.
— Да, темны мы, Петр Николаич, темны… Медведи мы с Кузьмой-то… вот что… и весь секрет тут темнота.
— Да я не только о вас, и не только в темноте дело. — Будто успокаивая Филиппа, Вершинин сказал: — Кирпич вам нынче посылаю, а печники придут завтра…
— Ну вот и гоже. Спасибо за хлопоты. А насчет угля не сомневайся: мы с Кузьмой нагоним… Слышь, что ли? Нагоним!..
Глава III
Как падают сосны…
В сто девятую кулису, которую требовалось разделать экстренно, Вершинин направил коробовцев и сам на другой день поехал проверить.
Артель Семена Коробова в пятнадцать человек, работая парами, тройками, валила столетний сосняк и ельник, лишь не трогая сосновые семенники, отмеченные инструктором. По временам слышались громкие предупреждающие возгласы, затем раздавался хруст ломающихся сучьев и точно выстрел — удар по земле стволом. Эхо ухало гулко, протяжно, и вслед за ним начинали тукать топоры-дятлы: ко-об, коб, ко-об, коб…
Семен работал без шубы, несмотря на крепкий мороз; согнувшуюся спину его, вспотевшую и мокрую, покрывал иней, на русой бороде висели сосульки. Увидав Вершинина, он выпрямился и, стоя под высокой стройной сосной, приветно щурился; в глазах, острых и наметанных, светился здоровый блеск, словно ему только сейчас принесли из деревни радостное известие.
— Ага, вот и гость заявился, — сказал он, снимая перед Вершининым шапку. — Хорошо, когда ближе к массам. — И, тронув глазами комель сосны, сказал Ванюшке Сорокину и Гриньке Дроздову, обминавшим у сосны снег:
— Комелек гожий, пилите пониже.
В нескольких шагах от них трое лесорубов, расположившихся в низинке на бревнах, разговаривали, курили, побросав топоры.
— Эй! — окликнул их Коробов. — Не стой, не стой!.. Попиливать надо…
Остальные работали где-то тут рядом, но их не видно было: еловый подрост заслонял их от глаз Вершинина. В просвете густых елей иногда появлялась Палашка с охапкой мохнатой хвои и исчезала снова.
Сорокин и Дроздов, широко расставив ноги, пилили; острая пила быстро переедала мягкую древесину. Крона сосны качнулась, посыпала вальщиков снежной пылью, а стальное полотнище, сжатое с боков страшной силой, остановилось. Коробов подпер сосну рогатиной, и пила, почуяв простор, засвистала торопливее и звонче. Скрипнула и снова качнулась сосна и, направляемая рогатиной, уронила крупичатый снег, — вслед за ним взвыла вершина, ломая по дороге сучья; прогнувшись посередине, стремительно падал гладкий ствол и через секунду хлобыстнул в землю гулким тяжелым взрывом… Вершинину лишний раз довелось увидеть, как кладут деревья опытные вальщики и какую при этом они имеют сноровку. И похвалил расторопного старика:
— Неплохо, дядя Семен, неплохо. Снимаешь по всем правилам.
— А то как же, — оживился старик. — По-другому не быть. Доверили — оправдать надо. Если я хоть один столб испорчу — меня совесть закусает. До того меня порченый столб доймет, что иной раз — беда!.. Глядишь-глядишь, да какой, мол, я есть мастер, коли брак сделал!.. Ну и стараюсь. — Он вскидывал голову, размашисто двигал руками и, покрякивая, подгонял лесорубов.
Вершинин знал, что Коробов иногда сделает через силу, не пощадит рук и спины, а спиленное дерево в брак не пустит, — зато и считали его надежным человеком, старателем. В его отношении к людям была заметна искренняя теплота и учтивая обходительность.
На снегу — и тут, и там — виднелась неприбранная хвоя.
— Захламили мы делянку, — сказал Коробов. — Сборщик один заболел, Палашка не поспевает, а из лесорубов никто не соглашается. Нам бы еще работничка, а то неудобно.
— Некого прислать-то, — ответил Вершинин. — Я говорил коневозчикам. Они сами разберут дорожку.
— Не больно разберут. Самоквасов вон сучки на дороге собрать так и отказался. Другие, правда, собирали.
Вершинин лазил по глубокому снегу и видел, как, разбредясь по низине, работала артель. Порядку тут все же не было: отдыхают в разное время; вон на груде зеленой хвои сидит Палашка, а вокруг нее увивается Пронька Жиган и зубоскалит; высоченный Платон подтаскивает дрова и сам же укладывает их.
— Э-гей, какого черта! — кричит Платон с досадой. — Я ломай тут, а вы сидеть да зубоскалить?.. А деньги поровну?..
Пронька не думал отходить от Палашки и Платону ответил насмешливо:
— В таком разе хлопочи себе персональную пенсию.
Палашка первая заметила «гостя» и своего кавалера толкнула в бок. Жиган притих. Вершинин прошел мимо и неподалеку от них остановился за густыми елками. У Проньки с Платоном продолжался спор: никто не хотел собирать сучья.
— Я не буду, — кричит Платон, — наплевать я хотел, гнуть занапрасно спину… Так на лошадь никогда не скопить. Мне цена пять целковых в день, а вы на сучки поставить хотите. — Платон раздраженно бросил к ногам топор, сдвинул на затылок шапку и, сев на бревно, вытянул длиннущие ноги.
Пронька напирал на него, и белые брови хмурились:
— Сучки — это тоже профессия. Тебе в самый раз. Не воображай из себя. Пожалуйста, без вывертов! — И вдруг властно скомандовал: — А ну, становись!.. Берись за дело, живо!
В ответ ему Платон бросил с каким-то упорным отчаянием:
— Пшел к черту, свиная морда! Заездить хошь? И так прошлую декаду один я собирал. Больше, Пронька, не стану, хоть зарежь.
— И зарежу. У меня не дрогнет. Собирай сучки. Нельзя же разлагать производство!.. Я пилить с Шейкиным стану. У нас быстрее идет.
— Ну ладно, пес с тобой, — покорился Платон.
Лесовода крайне заинтересовал этот поединок, а сама победа над Платоном поразила до чрезвычайности. Как слепа оказалась природа, дав Платону большую физическую силу, огромный рост и такую ничтожную по сравнению с Пронькой волю.
Проверяя заготовленные бревна, Вершинин осматривал торцы — нет ли защепы, залысины, по правилам ли кряжут нужный ассортимент… По глубокому снегу он забрел в глубь делянки и не мог видеть того, что произошло с Сорокиным получасом позже…
Жиган и Спиридон Шейкин, с привычной ровностью в работе, пилили под комель сосну, а вблизи от них, за молодыми елками, перетаскивал обледенелую тюльку Сорокин, складывая в груду, рядом с поленницей дров.
— Давай, давай, Спиридон! — торопил Пронька своего напарника. — Видишь, как Ванюшка старается при начальнике-то… в ударники лезет, на выслугу, премии ждет, а мы — ртом ворон ловим… Нажимай. — Но сам-то «нажимал» не очень, только голос был нарочито громок, чтобы другие слышали.
— Не треплись, пересмешник, — отозвался Ванюшка за густым ельником. А проходя мимо, прибавил не без угрозы: — Не забывайся, знаем твою подноготную!..
Жиган распрямился, оставив пилу, и поглядел ему в спину долгим бесстрастным взглядом. Потом шагнул к Сажину, взял из рук у него рогатину с двумя остриями на длинном стержне и повелительно буркнул:
— Помоги Шейкину, устал я что-то…
Платон не возразил на этот раз ни словом… Острая Пронькина пила, о которой в делянках ходила слава, въедалась легко, шипя и мерно посвистывая. А Пронька медлил подпереть рогатиной ослабелое, перепиленное больше чем наполовину дерево, — и пилу зажало… Ванюшка опять проходил мимо, и тут удалось Проньке исправить дело: побагровев от натуги, он поддерживал девятнадцатиметровый, уже нестойкий ствол и, никого больше не видя, следил лишь за тем, чтобы в нужную сторону падала сосна, и вот с судорожным напряжением процедил сквозь зубы:
— Быстрее, черти, торец испортим!..
В этот момент Сорокин застрял в сугробе за ельником, поднимая тюльку, соскользнувшую с плеча… Сосна дрогнула, заскрипела, стремительно ринулась вниз; тогда истошно, на всю делянку заорал Пронька:
— Береги-ись!..
Жесткий ледяной хруст раздался над головой Сорокина, — не помня себя, он метнулся в сторону… Окатив его снегом, трухой, обломками сухих сучьев, гулко, со стоном врезалось в землю дерево…
— Эй, берегись, растяпа! — еще громче прокричал Жиган, злобно махнув рукой, словно ударил кого-то наотмашь.
Но было уже поздно… Спиридон пошатнулся, замер, скривив шею, будто падало на него, а Сажин Платон, с пилою в руках, вытянулся, побледнел и таращил глаза на ельник, в котором скрылся и совсем затих Ванюшка.
Злясь и не веря, что именно там, в ельнике, очутился Сорокин, Жиган ковырял рогатиной свежий пень:
— Ведь он за тюлькой пошел, порожний?.. Это я видел… А когда же он обратно?.. Тебе невдомек, Платон?.. Спиридон, а ты не заметил?..
Шейкин очнулся — бросился прямиком, через сугробы, в придавленный и поломанный ельник. В трех шагах от изуродованной вершины лежал ничком, без памяти Ванюшка, уткнувшись головой в поленницу дров… С минуту тормошил его Шейкин, став на колени, а заслышав стон, обеими руками начал приподнимать его голову, потом взял под мышки и с трудом повернул к себе лицом.
Жив остался Ванюшка чудом: в последний момент падения дерево чуть отклонилось — смерть прошумела над головой, но задела лишь только крылом… Открыв глаза, Сорокин не сразу узнал Сажина и Шейкина, нагнувшихся к нему, и с большим трудом вспомнил, что произошло с ним… Уже на Спиридоновом полушубке, разостланном на снегу, лежал он у поленницы, развороченной упавшим на нее деревом, чувствуя нестерпимую боль в правом плече и правом виске, в голове остро звенело.
Он тяжело приподнялся на ноги, хотел вытереть пот с лица, — рука не действовала, голова кружилась. Болезненно морщась, он крикнул неистово и злобно:
— Сволочи! Душегубы!..
— А при чем тут вальщики? — с обидой сказал Пронька. — Беда причину найдет, оплошность может случиться с каждым… А ты не бегай: услыхал, трещит — посторонись чуток, гляди, куда падает… Не первый день в делянке, должон знать… А вам, — повернулся он к Сажину и Шейкину, — не болтать во время работы, а слушать команду… Я же сигналил?..
Сдерживая стон, но покряхтывая от острой боли, Ванюшка присел на дрова, Жиган отошел от него в сторону, закурил, а Палашке — сборщице сучьев, подошедшей к нему, сказал вполголоса, что Ванюшка Сорокин виноват сам.
Оповещенный о беде, прибежал Вершинин. Лесорубы всполошенно теснились у дров, одни спрашивали Сажина, другие — Спиридона, но ни тот, ни другой не мог ничего объяснить толком. Тут подъехал Семен Коробов на вершининской подводе, стоя в глубоких плетеных санках.
Вершинин пытался докопаться до истинной причины.
— Это не я, — бормотал Сажин. Его редкобородое лицо перекосила гримаса тоски и страха. — У меня назади глаз нету… Что я увижу? Вот беда!.. Я так и знал…
— Ты зна-ал?! — шагнул к нему лесовод, готовый схватить его за шиворот.
Платон совсем опешил:
— Не виноват я, право, не виноват… Поговорка у меня такая. Пилю, так я в землю гляжу, ничего не вижу… Ей-богу, ничего не видал, ничего не знаю. — И теребил концы мочальной веревочки, которой был подпоясан. Дубленый засаленный пиджак был узок, не сходился в полах, мокрые портянки сползли вниз, заячий малахай сидел боком — все в нем имело вид жалкий, подчеркивая необычайную растерянность и ожидание наступающей расплаты за происшедшее, к которому едва ли он был причастен.
А Шейкин, когда спросили его, едва выговаривал слова, но в глаза Вершинину смотрел прямо:
— Пилили мы, это верно. Пронька предупреждал, а уж как оно, — это бог знает… Значит, тому так быть написано, а мы неповинны.
Плосколицый и узкоплечий, он сидел на поверженной сосне в двух шагах от лесовода, разматывая дрожкими, немужичьими пальцами бордовый кисет, придерживая бумажку губами. Пришлось ему второй раз насыпать махорки, потому что первую щепоть сдуло с бумажки ветром… Тайна кривошеего лесоруба была у Вершинина еще в руках… Неужели этот человек задумал сегодня отомстить комсомольцу за потерянное лесное богатство, за все то, чего лишили в жизни?.. Пришло на ум сравнение: Катя накрывала таракана лупой, и перед ее изумленными глазами начинало ворочаться многоногое чудовище… Вот и он, Вершинин, как в лупу, видит перед собой случайно уцелевший, живой осколок старого мира… Но очень не похоже на то, чтобы Спиридон Шейкин — в таких условиях — слепо полез на рогатину…
Пронька Жиган оставался спокоен, даже равнодушен к происшедшему: по-видимому, оно мало касалось его. Стоя рядом с Палашкой, ото всех в сторонке, он переговаривался с нею негромко. Белобровое его лицо иногда поворачивалось в сторону лесовода, глаза с зеленоватой искринкой глядели мутно и холодно, как ледяшки. Плотная, коренастая, на выгнутых ногах фигура казалась Вершинину кряжистым свилеватым пнем, о который искрошишь не один топор…
— Ну, а ты что скажешь? — подступил к нему лесовод. — Ты не мог не видеть, куда падало дерево… почему не предупредил?
— Ошибаетесь, Петр Николаич, — ответил Жиган, переступая с ноги на ногу. — Когда валили, я два раза предупреждал… Поблизости было двое — Поля вот да Ванюшка. И оба, конечно, крик мой слышали. И даже не могли не слышать, — я на всю делянку орал!.. Почему Ванюшка не отбежал, не знаю…
— Но ты ронял дерево?
— Так это ж не имеет значения: когда падает, так тут не зевай, а то самого комлем убьет до смерти.
Палашка вступилась за него рьяно:
— Верно, верно… я была тут и все самолично видела… Прокофий тут ни при чем, Ванюшка разиню пымал. За таких ответ держать — сроду не слыхано… И нечего вам под невинных людей яму копать…
Прямых улик действительно не было, а три свидетеля стояли за Проньку. Вершинин пожал плечами, пошел к санкам. Когда усаживались, Вершинин отдал Ванюшке тулуп, Семен Коробов взобрался на козлы, чтобы проводить их из делянки на дорогу. Остальные лесорубы, переговариваясь, разбрелись по своим местам.
Когда строптивый жеребчик Тибет выбрался из сугробов на твердую дорогу, Коробов слез с саней. Вершинин сказал ему, что в артели работают недружно, часто отдыхают, на перекур собираются кучками, тратят много времени зря.
— Так, пожалуй, вы долго не кончите, а кулису надо разделать срочно. — И, приубавив голос, дал совет: — За Пронькой надо послеживать… и сам-то остерегайся. Кто знает, что у него на уме…
Тут, на дороге, они расстались… В пути Ванюшка, закутанный в тулуп, сидел молча, ни слова не сказал о случившемся, а Вершинин не спрашивал, чтобы не тревожить больного… И больше всего думал о Проньке: «Что это значит?.. Или в самом деле случайность… или — злобный замысел, который не удалось осуществить?.. И ничуть не испуган… На глазах у него погиб было человек, а он… Но люди-то видели, подтверждают, что он ни при чем. А что, — вдруг токнулась догадка — не „бомба“ ли это, о которой Жиган однажды говорил мне?..»
Глава IV
Самоквасов грозит
Мужик плакал… Высокий, широкоплечий, зажав в узловатых пальцах войлочную шапку и переминаясь в лаптях возле стола в кабинете Вершинина, он всхлипывал, захлебывался, и, кажется, не уймется долго: сильнее стыда перед людьми было его нечаянное горе.
Тяжело видеть пожилого, с густой рыжей бородой, здоровенного деревенского человека таким несчастным и слабым. Петр Николаевич приглашал его присесть, успокаивал, но и сам был встревожен этим коневозчиком.
— Самоквасов, ты же не женщина… Успокойся и расскажи, как случилось…
Было это, как обычно бывает в несчастных случаях: крайне неожиданно и до удивления просто. А после, как беда уже стряслась и больше нечем было помочь, он жестоко ругался, бил себя кулаком по лбу, озверев от горя, выл, чувствуя в груди острое, обжигающее пламя. Коневозчики выпрягли в делянке его гнедуху с переломленной ногой и положили на сани. Тихонько тронулись к Вьясу.
Лес дымился, словно после пожара; закрытое морозной хмарью солнце светило тускло и холодно; под полозьями снег потрескивал, как догорающие головешки. Он шел за санями следом, а перед ним, почти у самых ног, волочился хвост гнедухи. Глаза ему застилало туманом, и шел, шатаясь, не видя дороги. Когда-то шел он за гробом отца, и то не переживал такого горя!..
Сегодня утром выехал Самоквасов в сто девятую дачу. Артель Коробова только валила деревья, а прибирать сучья не успевала. Вершинин дал распоряжение возить древесину, не дожидаясь уборки сучьев, так как срочно требовалось доставить баланс к складу. Отсылая коневозчиков, он говорил:
— А сучья уберите сами, за это заплатим особо.
…И вот Самоквасов в лесу. Неприбранная хвоя как постелью выстилала делянку, по ней осторожно ступала его недавно купленная гнедуха. Впереди и позади самоквасовского воза двигались другие подводы.
— Э-гей! — кричал на гнедуху Самоквасов. — Лодырь. Так с тобой не ахти много заработаешь… Растуривайся, ну-ну!..
А когда возчики принялись в одном месте раскидывать сучья, очищая место, чтобы проехать, он назвал их дураками, которых работа любит. Кнутом он заставил свою лошадь лезть прямиком через колючую груду хвои, на которую лесорубы накатали тюльки. Лошадь оступилась в какую-то яму, метнулась в сторону и угодила прямо на обледенелые катыши… Самоквасов слышал, как хрустнула кость, слышал: хрустнула! — и белый мосол выскочил наружу. Растерянно, дико закричал он, подзывая коневозчиков на помощь. С кнутом в руках он стоял — немой и растерянный, глядя, как распрягали лошадь чужие люди: он сам настолько ослаб, что даже не мог развязать супонь.
Теперь его гнедуха лежит у конного двора на разостланной соломе, стонет, порывается встать, бессильно падает и от костной боли хватает зубами снег…
— Давай, Петр Николаич, помоги чем ни то. Беда ведь, почти полтыщи за нее отдал. Недолго и поработал на ней. Эх, беда-лиходейка! — стонал Самоквасов. — Не ногу лошади, а руки мне переломило. Ссуду на лошадь дали, так — поверишь ли? — ссуду-то еще не всю отдал… Как же быть, а? Опять помогайте…
Но что можно теперь сделать?.. Вершинин может только одно: принять Самоквасова в обоз штатным рабочим — пусть возит на казенной лошади… Но то ли от горя, помрачившего разум, то ли своенравный каприз упрямца был тому причиной, — не понял разнутрившийся мужик предложения главного лесовода, обозлился только и закричал:
— Эге! Вот так поспособствовал! Такое способие я везде получу. Вот они руки-то, вот… Нечего сказать, «помог», а еще ученый челэк, высокого полету. Ты должон душу мою наскрозь понять: слышишь, она как нарыв стала? А ты что, а?.. Может, ты мне за старое мстишь: тогда я тебя бестолковым чудаком назвал?..
— Нет, не мщу. Но помочь не могу ничем.
— Отказываешь, значит?
— Отказываю.
— Категорически и сполна?
— Сполна и категорически.
Самоквасов стал к нему боком и войлочную шапку, как камень, заложил за спину, словно намеревался ударить лесовода. Он с болью и злобой выжимал слова и, сцепив зубы, хрипел:
— Жестокий ты человек. Чужое горе тебе как снег на лапте: стряхнул, забыл и — ничего больше. Жалости в тебе нету. Ну где, где у тебя жалость?!
— Я не благотворитель, я — на государственной службе.
— Та-ак!.. А кто делянку захламить велел? Не ты ли? Почему не убрал сучки, а нас погнал возить?
— У других возчиков беды не случилось. Вина не моя, я всех предупреждал, чтобы сучки убирали сами.
— Х-м… не ваша? А моя
лошадь, может, с норовом? Тоже, значит, не моя вина? Постой! К прокурору пойду: за вредительство ответишь… Почему не приказал очистить делянку? Из-за тебя я искалечил коня!..
Вершинин поднялся — высокий и гневный, лицо побелело, словно кто присыпал пудрой. Он держал в карманах сжатые кулаки, но старался говорить спокойно:
— Когда приедут Бережнов и Горбатов… Я знаю, что они скажут… они скажут: лошадь тебе покупать не будем, денег не дадим. И первый-то раз незаконно дали. — И он не пожалел, что сказал так резко.
— Эх вы, господа-директора, секретари-товарищи! Себя ублажаете только. Управы на вас нету. Себе дома строите, а тут человеку обе руки оторвало — помочь не хотите… «Незаконно»… Ну что ж, ладно! Поживем-увидим. — Самоквасов уходил из комнаты с шумом, с негодованием, и все в конторе слышали его злобно-решительный, угрожающий стон: — Эх, жалости у людей нету! Нету жалости!..
Его провожали серые, полыхающие гневом глаза лесовода… С этой минуты желание работать исчезло… В самом деле, можно ли спокойно снести эти нелепые оскорбления: «За вредительство ответишь»? Такой человек пойдет и к прокурору, и всюду, не постыдится даже клеветы… Тут лопнет всякое терпение, даже заобручеванное железом воли. Лопнет, как полый чугунный шар, в котором налитая вода замерзла. Кипя гневом, Вершинин позвонил на станцию:
— Алло! Станция… да, Раменский леспромхоз. Я — заместитель директора… Товарищ дежурный, почему паровоз № 0799 вчера пришел резервом? Сообщите, какой головотяп задержал в Котласе наши платформы под экспорт?.. Что?.. А распоряжение начальника узла для вас обязательно или нет?.. Слушайте: если к вечеру не подадите вагоны, я буду жаловаться! — И, не желая ждать ответа, раздраженно бросил трубку.
Вошел техник-строитель и, мельком взглянув в лицо Вершинина, понял, что разговор с Самоквасовым обошелся Вершинину недешево: он был бледен. Техник придвинулся к столу и спросил учтиво:
— Что нахохлился, Петр Николаич?
— Пять раз нынче принимался сердиться и сейчас чувствую себя прескверно.
— Вы отослали кирпич на знойки?
— Да, отослал.
— Тогда не хватит для печей в бараке.
— И не надо. Кладите печи в щитковом доме, а когда привезут следующую партию кирпича, сложим печи в бараке.
— Ловко ли получится? — слабо запротестовал техник. — Не поругал бы Авдей Степаныч…
Вершинин зажигал папиросу, она долго не принимала огня — очевидно, отсырел табак.
— За что ругать?.. Квартиры уже распределены, люди ждут, надо торопиться. А лесорубов переселять в барак — не так уж срочно, могут немножко и потерпеть.
Разговор на этом кончился, и больше вплоть до конца занятий у Вершинина не случилось никаких щекотливых, затруднительных дел…
Глава V
Тайное свидание
Чистый, какой-то целебный воздух повеял на него, когда Вершинин вышел из дому. Голубые, прозрачные сумерки, с далекой видимостью предметных очертаний, обступили Вьяс. Отчетливо видны крашеные, расписанные наличники изб и бараков, а у конюха, идущего с конным ведром к колодцу, далее видны варежки, заткнутые за пояс… Нет и ветра — лишь слабое дыхание природы, от которого едва приметно шевелятся тонкие, опущенные ветви берез. Ничто не напоминало о том, что происходило здесь в буран, бушевавший трое суток.
Густели сумерки. Избы тонули в сугробах, надутых поперек поселка, и Вершинин, идя улицей, не без труда взбирался на эти застывшие голубые валы… В тихом, дремотном полусне лежал среди них поселок с лесным складом, с полустанком…
Хотелось ни о чем не думать, забыться… забыть Самоквасова, ссора с которым — неожиданная, удручающая — оставила в нем тревожные следы; и Проньку Жигана, которого стал ненавидеть и опасаться; забыть тесный, затхлый Паранин угол, где обворовывают его постоянно… Вчера пропали деньги, оставленные в столе… Пропадают все мелочи, не стоящие большого сожаления, — но когда донимают человека изо дня в день, становится невмоготу!..
События последних недель шли так густо, что он, не будучи суеверным, начинал остерегаться их грозного нарастания, однако посторониться или предупредить их не имел возможности. И получилось так, что, даже помимо воли, он становился их участником, хотя вмешиваться в жизнь, как Бережнов или Горбатов, он не умел, да, пожалуй, и не желал… Лишь одно утешало его нынче: через две-три недели у него будет своя, удобная квартира в новом доме, где как-то по-иному потечет и сама жизнь… Стараясь приблизить этот срок, он, как инженер, вложил немало усилий и сноровки, чтобы ускорить окончание отделочных работ… Они проходили без перебоев…
Кто-то окликнул его сзади. Оглянувшись, Вершинин увидел Ванюшку Сорокина с перевязанной рукой, висевшей на полотенце, но бодрого, неунывающего. Они поздоровались, и само собой определилось, что они после происшествия в делянке стали как-то ближе друг другу.
В легко завязавшемся разговоре Вершинин спросил, снисходительно улыбаясь:
— Ты что же, прозевал ружье-то? Зачем уступил Проньке?
Оказалось, Жиган обманул их обоих: Ванюшку убедил в том, что лесовод никому не продаст ружье, поскольку оно досталось от отца, а Вершинину сказал, что Ванюшка жаден на деньги и ружье покупать не будет… Только потемки помешали Ванюшке приметить, каким настороженным стало лицо лесовода.
— Напрасно я продал ему: ружье-то ведь действительно отцовское, — сказал Вершинин. — Я прошу тебя: перекупи его у Проньки обратно. Пусть вдвойне запросит — возьми…
Ванюшка не понял и сослался на то, что теперь оно не нужно ему вовсе: рука-то, видите, какая? Висит, как мертвая. Вершинину пришлось сказать пояснее:
— Это мне нужно, мне. Я верну тебе деньги… Он — капризный, упрямый, может заартачиться, но ты… как-нибудь сумей уговорить его. И не откладывай, поскорее сделай.
Сорокин обещал, вполне надеясь на успех, а на вопрос Вершинина, куда идет он, ответил запросто:
— По семейным обстоятельствам, к Наталке… В читальне сегодня выходной, собрания никакого… А у нас с ней жизнь семейная, лучшего я и не ищу.
И Ванюшка пошел улицей, на самый конец поселка, туда, где ждут его… Вершинин, миновав еще несколько изб, остановился на дороге… Никто, никто его не ждет, и некуда было идти ему, а возвращаться на квартиру — тошно…
Дойдя до проулка, посредине которого достраивали двухэтажный дом, в потемках видневшийся отсюда, он повернул к нему.
Дверь в сени оказалась открытой… Он вспомнил, зачем сюда пришел, и внимательно огляделся. Техник-строитель сделал всё, как велено: кирпичи уже привезены, и завтра начнут класть печи.
По лестнице он поднялся на второй этаж, дернул за скобу. Новая дверь с первого раза не поддалась, потребовалось усилие… В пустых комнатах — их было две — зашуршала у него под ногами разбросанная стружка… Вот здесь будет он жить. Сюда поставит оба книжных шкафа, сюда — кровать и стол… Дом почти готов, немногое осталось в нем доделать. Потом — новоселье… Въедут и Горбатовы, будут жить по соседству с ним — только внизу… Вспомнилась ночная встреча с Аришей в сенцах Наталкиной хаты, — и новое волнение охватило его.
Немного спустя послышались внизу чьи-то шаги. Он прислушался: там, где будут жить Горбатовы, отворилась дверь, и опять стало тихо. Он подождал минуты две и, ступая в темноте осторожно, спустился по ступеням, отворил дверь. В этот миг тихо, с испугом вскрикнула женщина.
— Не бойтесь, это я, Вершинин.
Посреди пустой комнаты, напротив простенка, стояла Ариша и в темноте едва была заметна. Но он узнал ее, вернее, догадался, и, подходя к ней, уже ликовал душой… Нечаянная встреча в новом, еще пустом доме показалась Арише чрезвычайно странной, а Вершинин угадывал в ней какое-то вещее значение… Он молча взял Аришины руки в свои, крепко стиснул, и она не отняла их…
Уже несколько раз — обычно в середине дня — приходила сюда Ариша — то одна, то с Катей — посмотреть на свою будущую квартиру, а нынче в сумерки Наталка поджидала Ванюшку, Катя уснула рано, Алексей же не вернется домой с неделю, и ей захотелось сходить к Елене Сотиной, у которой не была давно… И вот — очутилась в новом доме…
— И сама не знаю, почему я пришла сюда, — как бы оправдываясь, молвила она, немало дивясь происшедшему с ней.
— А я знаю, — улыбнулся он и остановился в нерешительности.
— Почему?
— Вас привела та же причина, что и меня.
Она, подумав, согласилась:
— Возможно. — И уже сама, заметно осмелев, спросила шутя: — А почему не постучались?
Вершинин с мягкой и осторожной фамильярностью ответил:
— Пожалуй, я знал, что это вы. Я спешил, забылся…
— Тем более, — настаивала она таким же тоном, и впотьмах было видно ему, что она улыбается: — Вы способны ломиться в дверь?.. Давно это с вами, Петр Николаевич?
— Вообще — нет… но если надо войти, тогда…
— А что станет, когда будем жить по соседству? — В ее шутливых словах он услышал некоторое беспокойство и робость. Стало обоим уже не до шуток.
— Не знаю, — в раздумье сказал он. — Знаю одно: будем жить рядом. И как бы там ни было, я не могу не радоваться этой перемене.
— А я… боюсь, — призналась она.
— Вы об этом уже думали?
— Да, и не один раз… Мне кажется, вы обязаны дать слово — не искать встреч со мною.
Он не отвечал ей долго. Наконец произнес:
— Я не смогу так, мне очень трудно… Да и нужна ли эта жертва?
— А по-моему, это все-таки не жертва, — возразила она, видя, что он заходит слишком далеко. — Нет, не жертва, а просто… мы не должны мешать друг другу жить. — И, словно напоминая ему о главном, о чем забыл он, промолвила как бы через силу: — Ведь я… замужем… и у меня дочь.
Оба умолкли, натолкнувшись на преграду, которая показалась неодолимой… В проеме синего окна, наполовину запушенного морозным инеем, на них глядело безучастно небо. Ярко и холодно горели звезды… Вон одна, падая с высоты, пролетела небыстро по наклонной, оставив после себя золотую черту. Метеор сразу сгорел, исчез во тьме, и, проследив за ним, Ариша сказала с грустью:
— Упадет звезда, а люди… гадают по ней о счастье… Правда, наивно? А без этого — иногда скучно… хочется верить только в хорошее. Не грех погадать по звездам. — И, не утерпев, тихонько над собой посмеялась. — Иначе для чего же тогда они?..
Он понял тревожную грусть ее и эту неясную мечту, которая, подобно падающей звезде, проходит стороной, мимо ее семьи. Этими словами Ариша многое сказала ему о себе.
— Да, пожалуй, наивно… если юность осталась позади, — сказал он. — Но ведь и взрослый, поживший человек молодеет от счастья. Тем более каждому хочется заглянуть в завтрашний день, в конец года, в грядущее десятилетие. А границы возможного так узки… Почему же и не спросить «кудесника», как спрашивал когда-то Вещий Олег… помните? Наверно, у каждого человека свой «кудесник»… Был и у меня, и не один, но я с ними не в ладу и давно расстался…
Ариша притихла и чего-то ждала, чувствуя необъяснимую к нему жалость. А он, приподняв лицо, стоял перед ней и, глядя в окно, на небо, произнес почти печально:
— Я был все время очень несчастлив.
— Почему? Скажите, я пойму, — горячо и торопливо она подалась к нему.
Он начал издалека:
— Если человек счастлив, он не думает о счастье, не ищет: счастье — в нем, оно с ним. Человек не чувствует и сердца, если оно здоровое. Он не думает о хлебе, когда сыт, — так и счастье… А я — все думаю, и все ищу… Когда я один, без вас, то иногда кажется: устал я от этих исканий, состарился, никому стал не нужен. Огни мои погашены, время подходит к полуночи, звезды упали, а их предсказанья не сбылись… А вот теперь вы рядом со мной, близко — и я больше не думаю о счастье: оно со мной и во мне… Я только радуюсь, что мы — вместе. — И, наклонившись к ее лицу, спросил тихо: — А тебе?..
— Мне хорошо сейчас, — прошептала она.
Было уже поздно, плыла густая темная ночь и ярко светились горние огни, когда Вершинин и Ариша вышли на крыльцо нового пустого дома. Потом, не замеченные никем, осторожно озираясь, разошлись в разные стороны…
Млечный Путь, как белесое накатанное шоссе, тянулся через всю пустыню неба, а в том месте, где неисчислимые россыпи золотистого песка выдавались на восток длинным неровным мысом, чуть виднелась какая-то туманность, похожая на двух путников, идущих рядом в какой-то дальний неизведанный путь.
По железной дороге, громыхая на стыках, полз товарный состав с прицепленными в хвосте порожними платформами, о которых Вершинин говорил утром по телефону. Замедляя движение, они катились мимо, не возбуждая в нем ни чувств, ни мыслей.
Глава VI
Надежды не сбылись
Несколько дней спустя после памятного разговора о ружье Сорокин пришел к Вершинину в контору и, улучив время, когда остались вдвоем, сказал негромко:
— Не продает. И слышать не хочет… «Что, говорит, у меня в руках, то — мое. Хоть сам Вершинин приди, не отдам ни за какие деньги… Продавалось одно ружье в Ольховке, другое в Кудёме, а я за семь верст киселя хлебать не желаю… А стрелять я изо всякого ружья могу — никто не проскочит, не увернется»…
Прошла минута, другая, а Петр Николаевич продолжал молчать, перебирая бумаги с непонятной медлительностью. Не поднимая головы, он спросил, ходит ли Жиган на охоту.
— Ходит… каждый раз приносит по зайцу, а позавчера — двух. Стреляет он здорово, без промаху.
В мало ношенном полушубке, подпоясанном широким ремнем, Ванюшка скорее походил на красноармейца, нежели на лесоруба: молодо светились его голубые глаза. Сидя на стуле немного поодаль от вершининского стола, он неловко повернулся — и от боли в плече поморщился.
— Что, болит еще? — взглянув, спросил Вершинин.
— Да, тревожит… но гораздо полегче — можно терпеть… Наталка лечит — то припарками, то массажем, помогает, — улыбнулся он. — Только надоело дома сидеть, в лес тянет…
— Как ты думаешь? — осторожно начал Вершинин. — Неужели
то была случайность? (Ванюшка молчал, соображая.) Может, чей умысел?.. А на Проньку это непохоже?..
— Едва ли, — также гадателыю произнес Ванюшка. — Было бы уж очень… по-вражески.
— Вот именно. Но остерегаться его надо.
Они помолчали.
Название маленькой книжки, которую вынул из стола Вершинин, было искусно выведено дымчатой краской, как номер на улье, а затейливый рисунок на корке чем-то напоминал пчелиные соты. Сорокин подался вперед и несколько разочарованно прочел название вслух:
— «Идэн»… А у вас, Петр Николаевич, по пчеловодству ничего нет?
В библиотеке Вершинина такой книжки не имелось.
До Вьяса Ванюшка с отцом жил в лесу на собственной пасеке, и первыми в волости стали они сеять гречку, которая, словно повинуясь местному поверью, никогда не родилась здесь раньше, да и сами пчелы, как толковали старики, водиться в этом краю не станут. А у Сорокиных привились пчелы и гречка стала родиться добрая — пчеле приволье. А ведь ничего особенного и не предпринимали, а просто хорошенько вспахали землю, в лесной подзол положили перегоревшего навоза, сеяли в срок, по погоде глядя, а траву пропололи…
Ванюшка на пасеке красил и нумеровал ульи (их было двенадцать штук), ставил в гнезда вощину, сахарный сироп, следил, как и с чем садится рабочая пчела на полочку летка, возвращаясь из поля; проверял магазины, отраивал семьи, подсаживал маток, а когда наступал срок — качали с отцом мед, густой, янтарный, душистый.
Незаметно проходили недели, месяцы, пчела полюбилась Ванюшке, и, кажется, никакой приманкой было не отвлечь его от пасеки. На досуге он часто уединялся в тени ольховника с книжкой в руках, и больше всего нравились ему путешествия… безотчетно манила просторная даль нехоженых степей, подернутая дымкой испарины, какою дышат здесь, в лесной стороне, вспаханные по весне поля; чудились иной раз непроходимые тропические дебри, где только самый отважный и сильный следопыт мог проложить себе дорогу… О том, куда и когда уйти самому, Ванюшка, за неимением товарища, советовался лишь с лесом… А пасека все-таки оставалась милей.
Но вот однажды по осени, когда закурлыкали длинные косяки журавлей над пасекой, а ульи перевезли в деревню, товарищ к Ванюшке пришел: то был Гринька Дроздов, недальний родственник из соседней деревни, и шел он на строительство в Омутную.
А Ванюшкин отец, рассудив иначе, сказал:
— И ты, Гринька, на журавлей в небе заришься, как мой Ванюшка?.. Не гонитесь за журавлями в небе, а берите синицу в руки: руби дерево по себе. Идите в Рамень, порядки ныне повелись новые, притесненья нету, вы люди простые, вам не звезды в небе хватать… Ступайте с богом, рубите лес, как я рубил когда-то.
И ребята пошли в Рамень… А на второй день были уже в артели Семена Коробова. Не замечая того сам, Ванюшка скоро стал среди погодков-лесорубов первым. Оттуда, из делянки, добрая молва о нем пришла в кабинет директора, в комитет комсомола — ценили его за старание, сноровку, цепкость в работе и неунывные веселые песни, которые он сочинял сам.
Когда впервые появился здесь лесовод Вершинин, Ванюшку Сорокина уже знали во Вьясе… Но история разлада Наталки с мужем как-то не уронила Ванюшкиного имени, а смерть незадачливого Мишаньки, убитого Орленком, приглушила и последние разговоры о них…
Теперь Вершинин мог воспользоваться Ванюшкиной услугой, поскольку тот бывал у Наталки ежедневно, и хоть кое-что передать с ним туда… Что произошло с Аришей? Уже неделю он не мог встретить ее нигде, сама же она не подавала никаких о себе известий… Вершинин предполагал даже самое худшее: уж не видел ли их кто-нибудь в ту ночь, когда выходили из нового дома? Может, дошли до Алексея слухи — и теперь в семье у них полыхает пожар, все трещит, все рушится?..
Но Ванюшка между прочим упомянул о том, как недавно, перед отъездом Горбатова в Ольховку, они вчетвером обсуждали: где справлять новый год? Из этого Вершинин понял: там не произошло пожара. Стало быть, Ариша сама, обдумав наедине с собою, решила за лучшее на том и кончить?.. Следовало проверить: прав ли он в своем предположении?
Еще раз обдумав, пока тут был Ванюшка, Вершинин написал записку и — украдкой от него — положил в книгу, которую он просил передать Арише. В записке содержалось несколько намеков, понятных только ей одной:
«Я знаю вашу любовь к книгам. Из моего закрома я выбрал наилучшую… Прочтите, обдумайте. Я знаю одного человека, которого однажды, в трудное время, поддержала эта книга, во многом помогла ему. Обратно верните поскорее. Она мне нужна»… Предпоследнюю фразу рука пыталась написать так: «Обратно
вернитесь поскорее…»
Ванюшка Сорокин положил книжку в карман, не догадываясь о значении этой передачи.
Они вместе вышли из конторы. Навстречу им шагал спорой развалистой походкой Якуб — заведующий конным обозом. Подойдя, он обратился к Вершинину с жалобой:
— Что-то надо делать с Самоквасовым, — сказал он. — Вы распорядились дать ему лошадь — я дал, записал в обоз… Говорю ему: «Надо подковать Динку, а потом ехать в делянку», — а он не повел в кузницу. Вечером вижу: у лошади нет ни задних, ни передних подков. И как он ехал с возом такую даль — понять невозможно. Лошадь пришла вся мокрая, одни кости, и дрожит… А вчера он работал только до обеда, привез один воз, после обеда не поехал: «устал»… а вечером попадается мне в дымину пьяный. Готов за горло меня взять — требует, чтобы я выписал ему за полный рабочий день: мол, прогул не по его вине, а по слабости лошади… Что за дикий человек! Шлея под хвост попала, что ли? Директора нет — вот и чует слабину. Я завтра не дам ему лошадь. Как ваше распоряжение, Петр Николаевич? Не давать?
Застигнутый врасплох, Вершинин озадаченно и торопливо обдумывал: как быть? Он ясно представил себе коренастого, с рыжей, как брага, бородой Самоквасова — жадного стяжателя, скандального мужика, с дикой гримасой кричавшего на всю контору: «К прокурору пойду! За вредительство ответишь!..»
То, что предлагал Якуб, не являлось надежным средством, а, кроме того, могло еще больше озлобить мужика.
— Заставьте его подковать лошадь, — уклончиво ответил Якубу Вершинин. — А по вечерам проверяйте сами. Скоро вернутся Бережнов и Горбатов, тогда решим и все остальное.
Якуб неохотно подчинился. Откуда-то из-за пазухи он достал и отдал Вершинину измятый листок бумаги, исписанный крупными неразборчивыми каракулями.
Углежоги писали:
«Из лесу тебе, Петр Николаич, превеликое от нас спасибо за печку, ее сложили нам. С лампой светло, с печкой тепло и вовсе даже не холодно. Прежнему не в пример хорошо стало. Мы с Кузьмой пишем тебе, которые знойки обещали, те заложены все сполна. Вроде как это первый опыт с нашим примером, то мы опасаемся — сладим ли. Вот и приходится нам всю декаду напролет дежурить, значит домой мы с Кузьмой не придем вскоре, а посему этой бумажкой о делах своих извещаем кого следует — технический персонал.
И еще у нас с Кузьмой за тобой должок, попомни. К чему и подписуемся.
Филипп с Кузьмой».
Сорокин подивился «на поворот жизни старых людей» и добавил более для себя:
— Ишь расписались: статью для газеты сочинили, и тут опять… Интересно. Молодцы. А что за должок такой? — спросил он, когда Якуб пошагал обратно к конюшне.
Вершинин молча уклонился от ответа: ему напоминали старики о Шейкине и о том, что Вершинин не выполнил своего обещания, которое дал на знойке.
Ясный морозный день клонился к закату. По дороге скрипели подводы — с мешками муки, фуража, с ящиками спичек и махорки, которые шли в расход всегда бойко. Серый, в темных яблоках Орленок легко тащил огромный воз сена, взрывая снег мохнатым копытом, а поотстав от него, натужно тянул буланый мерин окованные железом сани с бочками керосина с базы.
За четыре года, пока живет здесь Ванюшка, разросся поселок Вьяс значительно… Еще вчера Никодим с плотниками одевал тесовой крышей столовую, а нынче уже струится из трубы сиреневый жидкий дымок; достраивают двухэтажное щитковое здание, большой барак для лесорубов, кончают баню, начали ставить срубы для клуба… Но поди разбери, угадай в этих «ульях», какие ячейки в «сотах» вылеплены его — Ванюшкиными — руками? Да и надо ли разбирать, когда все зовется общественным!.. Широко раздвинулся лесной склад вдоль железной дороги, а бараки на расчищенном пустырьке вольготно дышали свежими, желтыми, как воск, стенами.
У высоких козел сидели на досках пильщики. Когда Вершинин и Сорокин поравнялись с ними, один из пильщиков — сын углежога Филиппа — пригласил:
— Петр Николаич, присядь с нами. И ты, Ванюшка.
Пильщики — их было шестеро — ломали сухой, крошившийся на морозе хлеб и ели. Филиппыч указал на увязшую в бревне пилу с длинными изогнутыми и обращенными вниз зубьями и устало молвил, как бы оправдываясь:
— Выматывает здорово. Видишь, Петр Николаич, всухомятку жуем. Теперь посередь работы мясца бы хлебнуть в столовой. Мы — пильщики — народ прогонистый. И, конечно, столовая попадает в самую что ни на есть точку. Скоро попробуем, что за обеды!..
Один из пильщиков поднялся, скинул с плеч шубу и крикнул по-командирски:
— А ну, по местам!.. Филиппыч, полезай на качели… я уж наигрался.
Пильщики приступили к работе. Дрогнув, качнулись прямые пилы. Через минуту по мягкой крупе переступали три пары лаптей, приминая прежние следы, а сверху свистела пурга опилок.
Глава VII
Однажды вечером
Лесорубы вернулись из делянки в сумерки, и, как обычно, Семен Коробов сам затопил печь, а Ефимку — сына своего — услал к Паране: за молоком ходили ребята по очереди. В ту минуту, когда Ванюшка Сорокин вошел в барак, Пронька Жиган, усталый, злой и немного посиневший от холода, разувался, сидя на пороге, и не посторонился, когда через порог ступил Сорокин, — уже несколько дней они не разговаривали друг с другом.
Промерзлые лапти Пронька выстукал об пол, а скомканные портянки бросил к ногам Сажина:
— Подсуши, мокры, — приказал он.
— И сам не барин, — огрызнулся незлобиво Платон, как жена на мужа. — Что у тебя, рук нету? Вон, повесь на веревку, как люди прочие делают, и высохнут твои портянки.
— Несрушный я для таких дел. — Жиган прошел босиком в угол, где стоял его топчан, разлегся на постели.
Платон, почти вдвое выше Проньки ростом, мягколицый, сговорчивый, поднял грязные Пронькины тряпки и развесил над горячей плитой на веревке… Никого уже не удивило это: Платон был слабоволен, уступчив, а Пронька — упрям, капризен, нажимист. С тех пор как Платон впервые появился в бригаде, Пронька взял над ним полную волю. Сперва лесорубы возмущались, протестовали, стыдили Платона, но, увидев, что подобные средства не действуют, отступились.
С неделю тому назад Платон даже пилу свою, лучшую во Вьясе, отдал Жигану, который тайком от всех подарил за это добряку два целковых. Пилил Жиган на пару то со Спиридоном Шейкиным, то с Платоном Сажиным. Теперь он уже подсмеивался над Сорокиным, что, мол, давно зарабатывает гораздо больше, чем он — комсомолец. «И дело тут не столь в его больной руке, сколь в его общем неумении»… Ванюшка косился на Жигана, но неправды его не оспаривал, считая напрасным трудом. Зато Платон Сажин поддакивал Проньке, не понимая своей позорной подчиненности белобровому парню.
Попав однажды в цепкие Пронькины руки, Платон уже не мог вырваться и, кажется, смирился с таким положением: он бегал ему за махоркой, за пайком, чинил на штанах прорехи, пришивал пуговицы, не прося за это никакой мзды. И только ворчал иногда, если не в меру требователен бывал Пронька.
Сейчас Жиган, с папироской во рту, лежал на постели и, будто нарочно, пытал степень его покорности:
— А когда высохнут, Платон, сунь их в печурку.
— Отстань… без тебя знаю, — отозвался тот.
С закрытыми глазами лежал на топчане Спиридон Шейкин, вытянувшись во всю длину, но заснуть не мог. В тревоге и страхе он думал об одном: что теперь будет? как поступят с ним? Или будут судить за сокрытие социального положения, а потом сошлют куда-нибудь в глубь омутнинских лесов? Или, учтя его покаяние, простят и оставят здесь?.. Неделю тому назад, тайно от лесорубов, он пришел вечером к Горбатову и начистоту рассказал о себе все…
Его выслушали, расспросили о семье, о разном, а потом сказали: «Пока работай по-прежнему, живи в бараке, потом с директором решим»… Оба начальника были в разъездах, томительная неизвестность продолжала мучить Спиридона Шейкина, и не с кем было ему здесь, в бараке, поговорить о себе… Он слышал, как Платон возился у печки, припасая ужин себе и Проньке, и как, сгибаясь над плитой, все вздыхал, чавкал, брюзжал:
— Беда… Ну-ка ты — кажинный день припаси себе жранину… Неужто не надоест? Хоть кому доведись, любая баба и та переломится.
— Ничего, — успокоил Жиган, — не переломишься, ловчее будешь.
— Я про то, что — канительно. В лесу устанешь, а сюда придешь… вместо того, чтобы лечь отдохнуть, приходится возиться с чугунами.
— Да, рост у тебя неподходящий, — будто соглашался Жиган. — Сгибаться трудно. Ну ничего, привыкнет спина, разовьется… Потом в цирк пригласят — на большое жалованье…
— Замолчь, Прокофий, — нисколько не обидевшись, отмахнулся Платон. Потом окликнул Сорокина: — Ванюшк… меня все диво берет: почему ты нам за бесплатно зайца стравил?.. Я так думаю: этой самой зайчатиной ты к артели примерку сделал — сгодимся ли мы для коммуны, чтобы полной коммуной жить, чтобы от своих харчей отступиться?..
— Ты, Платон, или дурак, — ответил Сорокин, — или чужие речи говоришь.
Платон сконфуженно умолк, зато Пронька с каким-то ленивым безразличием сообщил: мол, один паренек уже и вывеску для столовой пишет (имелся в виду Ванюшка Сорокин).
— А по краям разными красками — и лимон с апельсином, и окорочок с сосисками: глядите, мол, как у нас!.. А на эту кормушку не каждый надеется: будет там всякое
меню-переменю, а переменить нечего. Почнут душить одними щами, как в Зюздине… Разве что на первое время только.
— Хм, вон что… «Угадал» наперед, что будет? — отозвался на это Семен Коробов, зашивая толстой иглой овчинную варежку. Он в это время стоял у плиты и поджидал, пока вскипит огромный чайник из красной меди. — Еще обеда не попробовал, а уже не нравится. Ты дома-то чего жрал? Котлеты али сыр с маслом?
— Не помню.
— То-то.
Семен Коробов зацепился за Пронькино, обидное для человека, слово «кормушка» и, пока варилась у него каша, открыл целую дискуссию: как надо в рабочем положении столовую понимать. Пронька стоял на своем, а Коробов Семен при поддержке Сорокина свое отстаивал: мол, столовая есть одна из дорог, по которым идет неуклонно вверх общественное питание.
Пронька не отступал:
— Давно бы пора столовую выстроить, а они… одни кирпичи только три дня возили да неделю будут печи класть. А я вот попробую разок… Если плохо — не пойду больше.
Коробов сказал на это поучительно:
— Я тебе, свиной выкормыш, притчу скажу: цыркал воробей из-под хвоста на жито, а проголодался — эти же зернышки клевать пришлось.
Пронька не сдал и тут:
— Была одна старая овца, да к тому же «умная», набралась репьев — думала, молодой баран полюбит.
Семен рассерчал на эту бессмыслицу и стукнул по столу кулаком:
— Ты молод, умен, да башкой дурен. Молоды опенки, да черви в них. Кто таких поест — отравится. Робяты, слушайте да мотайте на ус.
Жиган умолк и больше не вступал в споры.
После обеда все улеглись отдохнуть, в бараке стало тихо. Семен Коробов, пригревшись под одеялом, быстро заснул и начал посвистывать носом. Проньке не спалось никак, все подмывало его идти куда-то.
— Платон, давай портянки, — негромко сказал он, привстав на койке.
— Ты сам должон обуваться, — коротко напомнил ему Платон. — Что я, век с тобой нянчиться буду?
— Ну, ну… не в службу, а в дружбу. Обиделся уж.
— Стерва ты, Пронька! — вскипел Платон, однако поднимаясь с постели. — Совести в тебе ни капли нету, вот что. Женился бы, раз ни к какому делу аккуратности нет. Ровно из графов каких — все подай да принеси, — брюзжал Платон, подавая ему портянки. — На… просохли они. Уходи с глаз долой, дай отдохнуть.
Молча и быстро одевшись, Жиган вскинул на плечо свою шомполку и вышел за дверь. В бараке заговорили. Пронька остановился в сенях за дверью, прислушался…
— Ты брось, Платон, ублажать его, — сказал Коробов. — Чего посадил себе на шею? Едет на тебе и кнутом погоняет. И так парень на нет избалованный… Куда он с ружьем-то? В лес, что ли?
— Так, для форсу, — ответил Сорокин. — Гнать из артели к черту. Из таких опасные люди выходят.
— Уж надо бы хуже, да нельзя: как есть кулацкий подпевало.
Пронька отшатнулся от двери и выбежал из сеней на улицу. «Хорошо, — хихикнул он себе в кулак, — раз так говорят, значит насчет сосны не догадались. Теперь будем молчать и на работе стараться»…
Где бродил он в этот вечер, что и кому готовил, осуществляя свои планы, никто в бараке не знал, а когда близ полночи вернулся и молча лег в постель, никто ни о чем не спросил, — в бараке все уже спали…
А Жиган в этот вечер бродил с ружьем по околице, у кладбища, прошел по кромке леса за полотном железной дороги, высматривая лютого зверя. Однако зверь не всегда бежит на ловца, — и Пронька вернулся с пустыми руками. Когда стемнело, он повернул к Палашкиной землянке, сперва заглянул в окно, потом постучал в раму — тихонько, чтоб не слыхал Никодим.
С того самого дня, когда в бараке лесорубов ей дали керосину, она не переставала думать о Проньке… Забыть ли его доброту! Платон Сажин отказал наотрез, а Прокофий заступился, сам налил керосину почти половину бутыли: «Иди, Поля, справляй свою домашность»… А перед этим подходил украдкой к воротам, и Поля его следы узнала… Однажды Пронька пригрезился ей во сне, и целый день после того она не могла успокоиться.
В самое сердце — доверчивое, не занятое никем — вошел Пронька полновластно, как хозяин.
С тех пор, особенно по вечерам, она думала о нём постоянно, ждала, а сегодня даже устала ждать: она видела, как прошел он к кладбищу, угадывала — как только стемнеет, он непременно придет к ней. И когда постучали в окно, уже знала, что это он, и начала торопливо одеваться.
— Куда ты? — спросил Никодим, не слезая с печки.
— На одну минуточку… Прокофий что-то требует. — И, не успев как следует надеть шубу, выбежала, кинув отцу: — Не маленькая, не двух по третьему, не учи.
Неподалеку от конного двора, где лежал омет соломы и где Жиган когда-то повстречался с Наталкой, они остановились. Пронька разрыл солому, усадил Палашку рядом с собой. Здесь было тихо, людей поблизости никого. Они сидели долго, Пронька был ласков, шутлив и нежно настойчив, а она тихо вскрикивала, отшвыривала его руку, дрожала, должно быть от холода, и оглядывалась по сторонам. Понемногу она сдавалась.
— Постой, — вдруг отшатнулась она. — Идут.
Он осторожно высунул голову и всмотрелся во тьму. Мимо по дороге шли двое — Семен Коробов и Ванюшка Сорокин. «Куда они? зачем? — спрашивал себя Пронька. — Похоже, хотят посекретничать? В бараке ведь больше полста человек живет… Пожалуй, напрасно я нынче скандалил с ними. Нет, похоже идут на курсы…»
Он опять подсел к Палашке и, настраивая себя на прежний лад, стал было смешить и тискать ее, — но появился на тропе сам Никодим. Он шел по следам и, поняв, в чем дело, остановился поодаль соломенной груды и сурово крикнул:
— И куда ее пес утащил? Уж домой бы пора. Кто в такую погоду гуляет? — И вернулся обратно в землянку.
Полчаса спустя Палашка поднялась, отряхнула подол и сказала с притворной суровостью:
— Ишь куда заманил… охотник. (Пронька сидел в соломе и, разнежась, подремывал.) Не усни тут… давай подниму. — Она протянула ему обе руки, и он встал. — Ружье не забудь.
За руку она вела его вплоть до калитки, и тут они простились еще раз. Пронька сказал, что он в то воскресенье именинник и что неплохо бы созвать гостей в ее землянке.
— Место лучше этого не найти: и в сторонке, и близко, и мешать не будет никто. Поговори с отцом… Он на именинах будет за старш
ого. Только предупреди, чтобы загодя не болтал зря — никому ни слова. Слышишь? А мы с тобой, Поля, эх, и гульнем! На всю жизнь вспоминать хватит…
Глава VIII
Пронькины именины
— Ты не сердись, Лукерья, что тебя изругал тогда, — мирно просил Жиган, рассовывая по карманам бутылки. — Характер у меня такой — сучковатый. Иной раз, под горячую руку, и хорошего человека обнесешь… А тем паче ты — женщина. — И лукаво прищурился: — А в общем и целом, если на тебя поглядеть, ты — старуха с головой, десятку не робкого: когда надо, молчать умеешь. Одобряю…
— И Горбатов приходил, и Наталку подсылали, и мальчонку стриженого, — а я им одно: знать ничего не знаю, ничего не ведаю. Отступитесь, окаянные. — И, говоря это, она подмигивала, ухмылялась, кланялась, будто и теперь стоял перед ней не Пронька, а кто-то другой, подосланный начальством. — Отступились.
— Молодец! Хвалю за твердость. Ты — не баба, а провод в землю… Но все-таки будь начеку: могут, пожалуй, и на мягких колесах к тебе подкатить.
— А хоть и на мягких… у меня всем один ответ, — подмигивала Лукерья. Она стояла к нему близко — горбатая, свалив голову набок, спрятав под передник руки, и глядела ему в лицо. В этот темный вечер Жиган ей был совсем не страшен.
— В столовке-то, мой родный, хорошо ли вас кормят? — спросила она.
— Кормят-то неплохо. Каждый день мясо. Целыми тушами с базара возят. Потрафить стараются… А в общем, мне некогда. Прощай.
Не затворив сенную дверь, он махнул с маленького крылечка в снег и зашагал к землянке плотника Никодима. Там поджидают его товарищи, позванные на именины.
Пронька не Дурак, чтобы сложа руки сидеть, когда позади у него Сорокин и Коробов роют ему яму и удобной минуты ждут, чтобы столкнуть. «Из артели — к чертовой матери!» — эти слова Ванюшки Сорокина он сам, своими ушами слышал, да и другие после сказывали. Дальше медлить нельзя: пока начальство в отъезде, он обделает все, что следует. С нынешнего дня будет у Проньки своя компания.
— Вернем свое… не уйдем с дороги, пускай хоть и много их.
В землянке, занесенной сугробами, с двумя маленькими оконцами, сидели за столом Платон Сажин, Самоквасов и Спиридон Шейкин; в полутемном углу у посудной лавки Палашка резала соленые огурцы; лампа светила тускло и светом едва доставала ее пухлую щеку. Рядом с Палашкой стоял отец — низенький щуплый старичок Никодим и дрожащей рукой подливал в огурцы масла.
Палашка оглянулась на вошедшего Проньку и строго, по-хозяйски спросила:
— Ты что, шатун? Назвал гостей, а самого жди. Забыл, что ли?
— А ты, Поля, будь с гостями поласковей, — засмеялся Пронька.
Когда она села поодаль от стола, он украдкой от Никодима кинул ей в колени свою белую шапку. Палашка вздрогнула, взметнула на него глаза, а потом, погладив пушистый мех, положила малахай на лавку рядом с собой.
— Поля, потрудись ради моих именин — подогрей самоварчик. И сама присаживайся к столу…
— Нынче вроде и Прокофьев-то нет? — сказал Никодим, заглянув в календарь.
— В теперешних календарях никаких имен нет, — ответил Пронька. — Одни компании. Напрасно трудился.
— И без них нельзя, — сощурился Никодим, качнув головой. — Такое наше дело.
— Ну, это кому как… а мне… — Пронька начал расставлять бутылки, — а мне нравятся вот такие компании, как наша. Ну, считаю открытой, — объявил он торжественно и вышиб пробку из первой бутылки.
Наливал он чайные чашки до полного, угощал старательно, сыпал остротами, смеялся, вскидывал кудрявую гриву и тайком от отца подмигивал Палашке. Самую большую чашку он взял было себе, а потом, расщедрившись, отдал Никодиму:
— Держи… тебе первому, по обычаю… Почет хозяину.
И Никодим пил, пил до дна, закусывая солеными огурчиками, грибками, луком, а ему наливали еще и еще.
— Пей, — настаивал и хвалил Пронька. — Ты вон какие бараки сгрохал — любо глядеть!.. Столовую, баню… Ежели тебе не выпить ради такого случая, тогда и топор у тебя отнять надо!.. Пей, Никодим… в кои-то веки собрались!.. Пей до дна, по-бывалошному.
И плотник пил опять, морщась, крутя ошалелой головой, вытирая толстые мокрые губы, и мычал неразборчиво, наваливаясь грудью на стол:
— По-ра, бра-атцы, пора. У до во… удоволился…
— Не пора еще, — доказывал Пронька. — В честь бараков, в честь моих именин: дважды два — четыре. Без четырех углов, сам знаешь, изба никакая не строится.
Выпив чуть не до дна последнюю, Никодим начал вставать, но его качнуло в сторону, и Палашка едва успела поймать его. Пронька ухватил отяжелевшего плотника под мышки и так держал над лоханью, пока Палашка, нагнув отцу голову, лила ему на затылок холодную воду. Потом подсадили его на печь, Палашка задернула цветастую занавеску, отгородив отца от прочей компании.
— Наклюкался, жадный пес, — брюзжала она, усаживаясь с Пронькой рядом. — И когда он насытится?!
— Ничего, не обращай внимания, — утешал Пронька. — Старость — не радость… Давай с тобой, Поля, чокнемся? — И Пронька улыбался, подмигивая.
— Не стану.
— Полно, выпей. — Он держал на весу чашку и ждал. — Не капризничай, а то… рассержусь.
Поля отказывалась, а он подносил ей к губам, придерживая за плечо. Она отворачивалась, загораживала рот ладонью, но Пронькиным увещаниям поддалась наконец и опять выпила полную чашку. Он похлопал ее по мягкой плотной спине:
— Люблю за храбрость… Вот огурчик, закуси. А теперь, Поля, чайку нам.
Она разливала чай, едва держась на ногах, улыбалась широкой, охмелевшей улыбкой, а Пронька, задымив махоркой, приступил к делу:
— Самоквасов, ты как о себе думаешь?.. Теперь без лошади-то они скрутят тебя: переведут на штатное положение, копейки сверх положенного не дадут заработать… Потому и всучили тебе самую плохую лошадь, — хуже Динки во всем обозе нет.
— Знаю, — пьяно икнул Самоквасов. — Мне Якуб прямо сказал: «Свою сбрушил, а казенную и подавно искалечишь. Когда увижу, что лошадь бережешь и заботишься, дам другую, а до тех пор не проси — не моли».
Пронька решительно тряхнул кудрями:
— Не получишь. Я их знаю: сам когда-то с билетом ходил. Ну, только мое анархистское поведение им пришлось не по вкусу. Как ухлопал лося, решили окончательно, что я элемент случайный… Они ведь идут не по Ленину. Ленин еще на Восьмом съезде Советов говорил: «Мужик — собственник, к нему надо особый подход». А они ломают мужика всяко, хотят скроить на рабочий манер… К примеру, спроси Платона: что ему требуется?.. Коммуна или что?..
— …Лошадь мне надо! — хватил Платон Сажин по столу кулаком, не дождавшись, пока Пронька доскажет до конца. — А они в деньгах отказали.
— Тереби… Мы, насколь можно, заступимся, поддержим. — И Пронька повернулся к Шейкину. — Шейкин, ты как? Что все молчишь?
Кривошеий, плосколицый Шейкин пил мало и неохотно, а теперь завозился на лавке, беспокойно оглядываясь на окна и дверь.
— Я что же… Я тут ни при чем. Если ему посодействуют и дадут ссуду, рад буду, а помочь… чем мы поможем?
— Сумеем. У нас сила есть.
— Жалости у людей нету, — промычал Самоквасов.
— Тут не жалость, а политика. Я у Вершинина был, так он мне откровенно сказал: дорогу, говорит, никто никому не дает, ее надо самим отвоевывать.
— А мне, небось, отказал категорически, — вспомнил Самоквасов.
— А как же? Приказ, значит, дали ему такой. Вот и делает через себя, сцепя зубы, — ничего не поделаешь: приказ нарушать опасно… Он молодец!.. У нас с ним одна голова. Ты, Самоквасов, на него не гневайся, а начальникам не поддавайся. — Он помолчал. — Как дело дойдет до бригад, давайте все заодно — в артели останемся. Под начало к Коробову не пойдем. Самоквасов, сыну-то своему и товарищам его скажи, чтобы за нас тянули руку.
— Скажу обязательно. Через мою волю не перепрыгнет.
Пронька допил из стакана остатки водки и шустро забегал по бородатым лицам глазами:
— Семку Коробова бригадиром поставят, он у них за старателя. Гонять почнет, свободы не будет, дыхнуть не даст. Если в бригаду собьют нас, — другого бригадира назначить, а не Семку.
— Тебя надо, Прокофий, — прямо сказал Сажин и вытянулся во весь рост, — тебя в бригадиры, а Семку — хоть он и шабер мой — долой, к чертовой матери! Надо мной смеется. А я — в поле обсевок, что ли? Негодный элемент?.. Кто я? — И бил себя кулаком в грудь, подпирая головой потолок.
— Не ори, — остановил его Пронька, — услышат… А ты как, Шейкин?
— Я пришел на именины… а вовсе не ради этого. На такие дела я не согласен. А насчет работы… как ни работать — так всё пилить, а не с портфелем ходить…
Пожалуй, с бригадой лучше. Попробуем — увидим.
— Во-он что-о! — Пронька закусил губу и, прищурив один глаз, хватил по столу ребром ладони, как топором. — Говори прямо: за нас или против?.. Ну? Я тебе по душам: я и один колею пробью, а все-таки с компанией легче. Помни и то: я ведь догадался, что ты с целью ронял сосну на Ванюшку Сорокина.
— Как то есть?! — Шейкин откинулся к стене, его бледное, заросшее черной бородой лицо стало еще более плоским, вытянутым и растерянным.
— Да, догадался… меня не проведешь. Платон не виноват, а ты… ты видал Ванюшку-то — это точно, и мне не подал сигнала…
— Не наговаривай, чего не было. Ты что? За этим призвал? Вероломец!.. Сам торопил нас пилить, а теперь — на меня?..
Пронька, отвернувшись, глядел в темный угол:
— Не бойся, я пошутил… Ну, говори прямо: за нас или против?..
В разговор вмешалась молчавшая доселе Палашка:
— Ну да, за нас. Вино пил, а — напротив?.. Так никогда не бывает.
— Ай да Пелагея Никодимишна, ввернула, — пьяно заржал Самоквасов. Но, заметив Пронькины сухие острые глаза, остановился и поскреб скулу. Пронька весь потянулся к Шейнину, придвинул к нему вплотную одеревенелое от водки лицо и прохрипел:
— Даем три дня сроку… думай.
— И думать нечего. — Он встал, чтобы уйти.
Палашка принялась убирать со стола, руки ее не слушались: блюдце с красным колечком посередине вырвалось — по полу брызнули белые черепки. Нагнулась, чтобы подобрать их, но голова закружилась и Палашка чуть не упала.
— Что, Поля, — спросил Пронька, ласково улыбаясь, и легонько стукнул ее по спине. — Толстый черт, сдоба… шумит в голове-то?
Шейкин, уже надевший шубняк и острую, колом, шапку, стоял у порога, знаками манил Сажина. Тот неуклюже заторопился и, одевшись, кивнул Самоквасову:
— Идем. Тут именины, да не знаю чьи…
— Так подумай, Шейкин… У нас сила есть. — Жиган глазами проводил Шейкина и Сажина, продолжая сидеть за столом. Он помедлил малость и, когда шаги за стеной стихли, развалился на лавке. Палашка подошла к нему, наклонилась и заботливо заглянула в лицо:
— Ты что?
— Башка болит, Поля… посиди со мной. Чаю там не осталось?
Она нацедила полную чашку и, расплескивая на полу, подошла:
— Пей.
— Добрая ты.
От Пронькиной похвалы побледневшее лицо ее расплылось в улыбке, а глаза стали необычайно теплы, ласковы.
— Останусь ночевать, не прогонишь?
— Нет. Иди ложись вот тут, — и указала на разостланную в углу отцову постель.
Оправляя одеяло, она стояла на коленях. Он повалился нарочно мимо подушки. Палашка одной рукой подняла ему голову, другой подсунула подушку и хотела встать, но у ней подломились ноги: она качнулась и упала к нему на грудь. Он крепко обхватил ее плечи и жадно припал к мягкой, податливой шее.
— Не оммани, — дохнула она жарко в ухо.
— Не обману… постольку, поскольку ты зрелая.
Палашка не дослушала его до конца, не поняла его хитрости; с отяжелевшей головой, с распущенными волосами она стояла над ним на коленях и жадными, большими глазами смотрела ему в лицо. Потом, тихо застонав, придавила его грудью, отыскала губами колючую, небритую щеку и судорожно прижалась.
С печки несся густой, с присвистом храп Никодима. На столе тускло горела позабытая лампа…
Глава IX
В бурю деревья стонут…
— Ты, сатана, пошевеливайся… вот стукну поленом, побойчее забегаешь, а то и помрешь навовсе, — гудел могучей октавой Филипп, ворочаясь, как медведь, у груды сухостойных тюлек.
— Я те стукну, — огрызался Кузьма тонким, жиденьким голоском, едва поспевая за своим собратом. — Таскай не по две, а по три штуки, тогда успеем…
И Филипп послушался: брал в охапку по три тюльки зараз и, перелезая сугроб, тащил к знойке, которую выкладывал Кузьма старательно. Оба торопились, подгоняемые поздним временем и завывающим холодным сквознячком.
С того дня, как случилась у них беда с углем, они стали поосторожнее, заботливее — утром вставали рано, позже обычного уходили в землянку на ночь… Каждый день закладывали по четыре знойки, столько же раскрывали готовых, выполняя свои обязательства. Последняя — пятая — знойка давалась им с превеликим трудом: слабосильный кашлюн Кузьма уже едва шевелился, тюлька то и дело вырывалась из рук, а Филипп, посматривая на него хмуро, подбадривал:
— Э, слышь: с каждой пятой знойки святые угодники сорок грехов сбрасывают. Стоит потрудиться недельку-другую — тебя, сатану, непременно в рай примут.
— Куда там! — не веря, усмехался Кузьма. — От нас с тобой и святые-то все разбегутся… Что? — сердито закричал он. — Опять начал по две таскать? Ах, в рот те дышло!..
— И рад бы я, да рука мешает, — гудела Филиппова октава. Он с досадой и сожалением поглядывал на свою кисть, изуродованную когда-то в кузнице.
Действительно, она мешала: будь здоровы обе, он мог бы носить по четыре тюльки зараз. Но сегодня, не в пример прошлым дням, дело подвигалось туго: с раннего утра обоим что-то недужилось; кроме того, и сумерки пришли раньше обычного — завыл ветер, навалившийся вдруг с полночной стороны, начал сеять сухой, беспокойно вьющийся снег, — так и не кончив знойки, они решили отложить на завтра.
Зажмуренными глазами приглядывался Кузьма к мутному небу, принюхивался к холодному ветру, слушал нарастающий шум лесов. По верным приметам он угадывал, что к ночи придет «непогода-матушка».
К вечеру разгулялась метель, Филипп зачавкал, застонал от ломоты в суставах и в пояснице… Часом позже он вылез из землянки за дровами, — и пришлось долго раскапывать руками сугроб, под которым очутилась поленница. С большой охапкой дров спустился в свою нору и несколько раз пытался поплотнее притворить дверь: в притвор уже успело надуть снегу.
— Эк-ка-а, — вздохнул он, почуяв, как тихо в землянке. — И несет, и несе-ет! Не дай бог, кого захватит такая в дороге. Беда-а!.. У тебя знойки хорошо ли прикрыты?.. Не раздуло бы, погляди поди. Я затоплю пока.
Нахлобучив шапку, Кузьма выполз за дверь. Осмотрел крыши зноек, под которыми неслышно тлели дрова, закрытые патьёй, соломой и снегом; похватал рукой кудрявую струйку дыма и, убедившись, что все знойки окутаны надежно, отошел на пустырь. Он поднял голову, старчески приоткрыв рот, и снова прислушался к буре. Вверху качались и выли сосны, словно кипело небо, с горних высот срывался тучами снег. Старику залепило глаза, целый сугроб обрушился на голову, плечи и посыпался за воротник шубы. Кузьма уполз обратно, дивясь могучей воле ветров и слабости человеческой…
— Их-и-и, разгулялась бурюшка! — Он долго рылся в зарослях памяти и, обшарив все, что сгодилось на этот случай, безнадежно махнул рукой: — И не помню такой… не было, не было… Беда человеку, кой в дороге… Филипп, лес-то стонет, слыхал?
Затопили печку, поставили кипятить чайник со снегом и молча думали каждый о своем… Кузьме хотелось, чтобы Филипп еще принес охапочку дров, а то за ночь выстынет землянка и к утру скопится стужа. Но Филипп едва ли пойдет сам — пожалуй, его пошлет, а ему уже трудно подняться с места. Присел он у печки на соломе и глядит, как жарко горит смолье.
А Филипп, поставив на колени локти и подперев ладонями красные от огня щеки, глядит на чайник, как стаивает снег и шипучими ручейками стекает на горячую плиту; думает еще о том, что Кузьма «догадался» вчера сделать в новой печке одно «усовершенствие»… Недавно печники сломали старый таган, на расчищенном месте в углу сложили печку с плитой, и с того самого дня не стало дыма, угара и с обметенного потолка не сыплется в волосы сажа.
Но скоро старики загрустили о прежнем жарничке, разведенном на тагане, хотелось дымку, как душистой махорочки, хотелось, сидя на дощатых нарах, палочкой пошвырять угольки, где пеклась картошка. И вот Кузьма вчера, с косырем в руках, принялся за дело: он выломал четыре кирпича у горнушки — повыше пода, у верхних кирпичей стесал углы; увеличив чело, он добился, таким образом, некоего, правда отдаленного, сходства чела с прежним таганом. И Филипп не поругал его за это.
Грелись старики у огня, ужинали — жевали хлеб с картошкой и запивали горячим. И всё молча, потому что все давным-давно пересказано и не один раз. Когда стали прогорать головни, Кузьма сказал:
— С огоньком закрою… або угар только?
Ближе к ночи, когда старики погасили лампу и, не раздеваясь, улеглись на нарах — один у одной стены, другой напротив, у другой стены, — ревмя заревел буран. Они прислушивались, как кипела над ними пучина, как небо воевало с землей, штормовым ветром сгибая стонущие деревья, разметывая целые тучи снега и засыпая землянку сугробами. В кромешной тьме мерещились диковинные звуки: то стучал топор, будто подрубали сосну, то пищала какая-то птица — жалобно так и длинно, то мяукала кошка, а потом аукнул человеческий голос. Филиппу почудилось, будто к землянке подъехал кто-то и фыркнула лошадь. Но опять выл, не стихая, буран, всякими гудами-перегудами отзывалась ему земля, не давая старикам в эту ночь покоя. Лошадиный фырк повторился уже совсем близко. Филипп встревоженно поднял голову, заслышав стук в дверь, и начал шарить в печурке.
— Слышь, Кузьма, — будил он только что заснувшего товарища, — Кузьма, в самом деле кто-то… того…
— Слышу, отвори, — отозвался тот, силясь поднять отяжелевшее, непослушное тело.
— Кто там? — спросил Филипп заспанным голосом, но так громко, что Кузьма зябко вздрогнул.
— Горбатова везу… замерзли, — откликнулся кто-то за дверью.
Филипп толкнул ногой дверь, она со скрипом отошла, но мало, и, чтобы пролезть в землянку, кто-то рывками отжимал ею пригруженный к притвору снег.
— Кузьма, слышь-ка, сам Горбатов… Ах, беда какая! — вздыхал Филипп, зажигая лампу.
Целым сугробом ввалился в землянку Горбатов и начал отряхиваться:
— Филипп, затопи, пожалуйста, печку. Зазяб… руки прямо отваливаются, — говорил он, ежась и растирая ладони.
Мохнатая спина Филиппа завозилась у чела печки, а Кузьма, сипло отдуваясь в усы, силился стащить с Горбатова жесткий, задубенелый чапан и сокрушенно качал головой:
— Або дело большое? Зачем поехал?.. Не время, никак не время. Пока молод — беды не чуешь, вертишь здоровьем и так и эдак… Сгодится оно, право сгодится. Дитятко, Лексей Иваныч, стонать после будешь… Отколь ты, бедный?..
— С Ольховского ставежа. Думали дотемна добраться до Вьяса, — хвать, застала… — У него стучали зубы, очужал голос, став густым и хриплым.
— А где Авдей Степаныч? Уж не потерялся ли где?
— Нет, директор в Кудёму поехал.
Филипп не поскупился заготовленным «первосортным смольем», которое берег под нарой, и наложил в печку вдоволь. Костерок дружно принялся, залил землянку красным дрожащим светом. На полу и нарах четко обозначились отдельные соломинки. На темной от дыма стене висел на гвоздике черный ременный пояс Кузьмы с медной бляхой, похожий на ужа.
Филипп заметил, с какой судорожной жадностью Горбатов припал к огню, протянув к нему скрюченные красные пальцы.
— Эк-ка-а. Дай-ка я… того… поближе их. — И Филипп оттеснил закоченелого человека от печки, обхватил черными руками горящие поленья и услужливо выдвинул их на шесток. — Так тепла больше, грейся на здоровье. Огонек в таком разе — спасенье… Печку-то мы немножко того… переделали. Не ругай нас.
В дверь протискался возчик, наскоро сбросил шубу, размотал шарф и тоже сунулся к огню. На бороде его розовым светом зарделись ледяные сосульки; он принялся их ощипывать, сделав воронкой губы:
— Вот, старики, беда-то!.. И не знаешь, где тебя караулит смертушка. Еще бы малость — и пиши обоих «за упокой»… Филипп, я лошадку-то там пристроил, под навесом, где угли… а сани опрокинул, чтобы поменьше на нее дуло.
— Ин что, пускай стоит: там ветру нет. Только бы уголь наш не искрошила копытами.
— Вас насилу нашли… Кажись, объехали кругом. Занесло с головкой.
Кузьма, захватив пустой чайник, вышел за дверь, из нанесенной косы пригоршнями хватал снег, набивая свою посудинку. Зажмурив от ветра глаза, он искал в темноте покинутую животинку и не скоро нашарил глазами в бушующей суводи расплывчатое, едва различимое пятнышко.
Горбатов нетерпеливо ждал, пока вскипит вода и испечется наложенная в угли картошка. Заторможенное сознание подсказало ему, что он болен, да и Филипп, косо взглянув на дрогнувшую, неестественно румяную щеку Горбатова, сразу понял, почему появилось на этом молодом и прежде бойком лице такое безразлично-равнодушное, усталое выражение. Когда захлюпала крышка чайника и Горбатов попытался встать, старик остановил его:
— Сиди, я подам, — и сам подставил к нему чайник.
Ослабевшей рукой Горбатов держал железную кружку и, обжигаясь, жадно глотал чай. Филипп пальцем вышвыривал из углей картошку, сдирал с нее черную шелуху и совал Горбатову в руку, как ребенку:
— Ешь, пока горячая… може, пойдет на пользу.
В темном углу завозился Кузьма:
— Филипп, слышь-ка, я и забыл: ромашки ему. У меня была где-то. Ужли затоптали? Ага, нашел. — Он поднес к свету старый кисет, помял в ладони. — Есть, на-ко, заваривай…
Ромашку ошпарили кипятком, подбавили водки для крепости, целебным настоем Филипп напоил Алексея, снял с него валенки, а холодные портянки сам растянул у жаркого зева печи…
— Не жжет? — спрашивал он Горбатова, обматывая ему ноги горячими портянками.
— Не чую.
— Хм… «не чую», а у меня пальцы не терпят — жжет… Ну, теперь ложись, отсыпайся.
— Спасибо, доктор, — невесело пошутил Горбатов.
— И рад бы еще, ну больше помочь нечем.
Крепыш возчик, привыкший к стужам, не боявшийся бурь, только покрякивал. Стали укладываться спать; на этот раз пришлось мириться с исключительной теснотой: возчик и Филипп легли на нару вдвоем, не раздеваясь и плотно прижавшись спинами.
— Иди, ложись рядом, — звал Горбатов Кузьму к себе на нару.
Старик отказался:
— Я посижу… вот тут, на соломке. Все равно по ночам не сплю. Або дровец подкину, або что, и животинку покараулить надо… Лежи один, тебе спокой нужнее.
Кузьма вытянул шею, наклонился над лампой и фукнул. Огонь подпрыгнул, оторвался от фитиля — и землянка провалилась в кромешную тьму. Одно поленце, сунутое в дотлевавшие угли, скоро вспыхнуло, жарничок затрещал снова. Кузьма дремал, прислушивался к незатихающей буре, к храпу Филиппа, к громкому горловому свисту возчика. Через некоторое время его ухо отличило от прочих звуков тяжелое, воспаленное дыхание больного. Было слышно, как лихорадит его, как стонет он под чапаном и шевелит ногами.
— Видно, прозяб, — зашептал Кузьма и, сняв с себя шубу, накрыл Горбатову ноги.
— А ты сам-то как? — спросил Горбатов в полусне.
— Ничего, грейся. Я уж таковский, мне ведь семьдесят шесть, а ты…
Дрова успокоительно потрескивали в печке, Горбатов засыпал… Чья-то густая, дремучая, как лес, борода качнулась в полосу красного света — и будто заполыхала сама. Слышатся где-то вдали то неурочное протяжное уханье филина, то глухой стук топора, — а вон, в другой стороне, но ближе, где-то упало дерево… И не понять: куда ведет эта длинная, совсем незнакомая просека, где высокие прямые стволы сосен вспыхивают кровавым отсветом заката… Среди метели кто-то гонит по дороге… в сугробах вязнет по колена Тибет, скачет вдогонку. Остановились… Кто-то слезает с саней — высокий, в тулупе… подходит ближе. В расступившейся на мгновение тьме Горбатов узнает Вершинина… Почему он здесь? почему такое бледное, без кровинки лицо?..
— Я заблудился тоже, — угрюмо говорит он.
Но уже нет Тибета, и нет саней, только один Вершинин, в тумане налетевшей метели, уходит, уходит вдаль…
— А вот и готово, — слышатся теперь явственно голос и кашель Кузьмы. — Заварил я: малины сухой… На всякий случай берег, ишь как сгодилась!.. Пей, родимый, от нее великая польза бывает: застылую кровь начисто разбивает и голове полегченье дает… Пей, не бойся, дело давно проверено.
Через малое время, напившись вдоволь, Горбатов затих, и будто ровнее стало дыханье, — как определил Кузьма, прислушиваясь к больному.
Среди ночи старик бесшумно подошел к Филиппу и в ухо ему дохнул:
— Спишь?
— Не-ет.
— Насчет «птицы залетной» утром скажи ему… Ежели Вершинин не хочет, надо поиначе сделать.
— Об этом и думаю… да стоит ли больного тревожить ради этого? И то сказать — одиннадцать годов прошло… Капля по капле и камень долбит. Может, наша работушка по своей мерке перекроила Шейкина-то?.. Может, потому Вершинин и слуху не подает?.. Помолчим, пускай как хотят сами.
Глава X
По зову чувства
Трескучие морозы и бешеная метель заполонили глухую рамень, пока Горбатов и Бережнов находились в разъездах по дальним лесным участкам. В эти дни Наталкину хату — крайнюю в улице — задуло до крыши, и обе они — Наталка и Ариша — выходили утром с лопатами, чтобы отбросать от воротец снег, прорыть в сугробах узенький коридорчик для прохода. На помощь к ним прибегал иногда и Ванюшка. Налипший на оба оконца снег Ариша обметала веником, но от этого не становилось светлее в хате… Колодезный журавель, обледенелый на ветру, раскачивался над сугробом, и нужно было отрыть колодезь, чтобы достать воды.
В эти длинные декабрьские вечера, под шум неистовых метелей, прошла перед нею незнакомая, чужая жизнь, — Ариша читала книгу, присланную Вершининым, с тем упоением, какого не бывало прежде никогда…
Она возмущала, эта бездушная красавица Руфь, дочка богатого мистера Морза… Читая о ней, Ариша была полна презренья. Ей даже не верилось, как мог Идэн когда-то любить такую: у Руфи не было ни чувств своих, ни принципов, ни убеждений. Все в ней соткано из золотых нитей, в паутине которых легко запутаться, погибнуть. Ее класс воспитал в ней отвратительное отношение к человеку — измерять его ценность и значение банковыми чеками; класс приучил ее лгать, притворяться, заискивать перед сильными, не подавать руки тому, кто беден. Руфь не способна была понять Идэна, оценить его таланта, творческую силу воображения: в глазах общественной среды, к которой Руфь принадлежала, поэт Идэн не представлял цены, — он был только труженик, а Руфь презирала труд.
Идэн работал не разгибая спины неделями, месяцами, годами; он голодал, закладывал в ломбарде последнее, чтобы купить почтовую марку и отослать готовые рукописи. Его звали лентяем, советовали служить, отнимали право на жизнь, право на радость… А он все шел и шел каменистой трудной дорогой, сопутствуемый сочувствием одной Ариши. Она понимала его вполне, жалела и любила… Ей было тяжело сознавать, что только слепой случай внезапно вынес Идэна на гребень славы. И тогда все изумились его таланту, вскочили на ноги, как бы приветствуя его, и стали уже заискивать, ложь вокруг него не прекращалась… Теперь пришла к нему и Руфь со своей мнимой любовью. Если бы при этой последней встрече могла присутствовать Ариша, то она не была бы такой мягкой, каким был Идэн. Достигнув славы, он должен был мстить своим врагам по классу, а он только слабо уличал, опять страдая…
Его страдания доплеснули до сердца Ариши, как волны до далекого берега; она глубоко чувствовала, как в этом измученном, усталом, но еще сильном и гордом человеке постепенно умирало желание жить. Она была потрясена его судьбою…
Ариша долго думала над прочитанным… То, что было узнано ею, перечувствовано и пережито за эти дни, не исчезнет из памяти, не пропадет бесследно. Оно уже всколыхнуло, подняло ее, и теперь ей стало виднее и других, и самое себя. Сравнивая себя с Руфью, она с удовлетворением отмечала свое преимущество.
— Если бы я встретила такого, как Идэн, я полюбила бы его. Пренебрегла бы родственными узами и пришла к нему, несмотря ни на что… Да, и пусть думают про меня что хотят! — сказала она и от чего-то вздрогнула, невольно оглянулась на Наталку, отдыхавшую на постели.
Ей показалось, что она произнесла вслух имя того, о ком думает все эти дни неотступно… Он властно тянет ее к себе, настойчиво шепчет по ночам у ее изголовья, и как она ни спорит с собою, все равно мысли идут к нему, как облака по ветру. И не хватает воли остановиться, сказать: «Нет! на
этом все надо кончить!»
Она осуждает Руфь, а сама боится произнести его имя, живет оглядываясь, страшась, — раскаивается в совершенном. Почему она лжет себе и другим, таясь и укрываясь?.. Почему не скажет открыто о своих чувствах?.. Что это? Только ли робость? Или паутина привычек, которыми она связана?..
«А зачем тебе нужен этот чужой, случайный человек?» — спросил ее внутренний голос.
«Затем, что я… люблю его», — ответила она.
Все, что знала она о Вершинине, что видела в нем раньше, повернулось к ней иной стороной, и она — удивленная и очарованная — познала впервые, что он чем-то похож на Идэна.
Ариша вспомнила: Алексей недавно сказал ей, что они серьезно спорили с ним, что ему трудно работать.
«А может, ему трудно и жить? — спросила она себя. И, подумав, решила: — Я пойду к нему… узнаю… мне самой ничего от него не нужно…»
С лампой в руке она вышла в сени и, придерживая грудь, где сильно стучало в тревоге сердце, несколько минут стояла у сундука, окованного медью. Ей казалось, что эти медные полосы опутывают, стягивают ее живое, рвущееся на волю чувство, и ей хотелось разорвать их без сожаления, без раскаяния. Она догадалась, с какою целью пришла сюда и зачем в ее руках ключ. Отперла сундук и вынула синее, самое лучшее платье, которое любила.
Она не замечала кипящей за окном вьюги, не слышала, как все усиливающийся ветер напирал на стены, на окна, как шумел и ухал в проулке шторм: в ней самой бушевала буря, оглушающая, неукротимая, и, кроме нее, Ариша теперь ничего не чувствовала, не знала и не хотела знать.
Почуяв шаги на крыльце, Буран вылез из-под стола, где дремал, свернувшись у ног хозяина и подняв уши, ждал у двери… Вершинин даже глазам своим не поверил, увидев ее на пороге. Сдерживая с трудом волнение и беспокойство, он быстро поднялся от стола и подошел к ней. Шаль и шубку ее занесло снегом; сама, чуть побледневшая, смятенная, не знала, что сказать в эту минуту встречи. Заговорила о том, что на ней — целый сугроб, что директор передал с кем-то для Петра Николаевича вот эту записку… книгу — тоже… Что она пришла ненадолго, всего на одну минутку, и сейчас уйдет… Дорогу так передуло, ничего не разглядеть, хотя еще времени всего семь часов… Тьма, метель, от ветра можно задохнуться…
— Ничего, я сама, спасибо, — слегка отстранилась она, когда он подошел к ней с одежной щеткой, чтобы смахнуть с нее снег.
Параня грела на печке спину, а заслышав знакомый голос гостьи, всполошилась, проворно сползла на пол, заохала, что у ней слаба стала память, что надо бы еще засветло сходить к Лукерье за пряжей, — а вот поди ты, ненароком заснула, а сходить непременно надо… Наспех надела шубу, обвязалась шалью и, обратив постное лицо к квартиранту, сказала, уводя в сторону затаенный взгляд:
— Я скоро… часика на два, на три… А как приду, ежели ничто не задержит, то и самоварчик поставлю… Ничего эдак-то?
— Все равно мне, — ответил он.
— А уж ежели буря поднимется, так я там останусь, ночую, — втолковывала старуха, держась за скобу двери.
И они остались одни — стоя напротив друг друга, в двух шагах, не смея переступить какую-то невидимую, но обозначенную между ними черту…
— Я рад, что ты пришла, Ариша… Ведь я не переставал думать о тебе с тех пор… помнишь? Целых полторы недели не виделись совершенно. Сам я не мог… Но сегодня у меня — большой праздник… самый большой в жизни!
Она распахнула доху — темно-синее платье, мягкого глубокого цвета, как южная ночь, встало перед его глазами. Он помог ей раздеться, принял от нее шаль, подставил стул свой, приглашая сесть… Знала ли Ариша, как хороша она в этот час — робкая, смущенная и в то же время бесстрашно идущая неизведанной дорогой по зову собственного чувства!.. Восторженными глазами смотрел он на нее, сжимая руки ее повыше кисти, и Ариша не отнимала их, улыбаясь робкой, смятенной улыбкой, готовой исчезнуть при первом неосторожном слове, даже намеке. Он понял это, и говорил с какой-то бережной любовью, не спуская с нее глаз.
— Все эти дни я был так одинок, такие закрадывались сомнения, что готов был… прийти сам… Не веришь?
— Нет, я верю… Нас занесло совсем, ко мне пройти нельзя, — сказала она. Ее глаза — большие, черные — светились жарко, и она, чувствуя, зная это, не делала и малого усилия над собой, чтобы притушить это пламя. — Мне прийти сюда, к тебе — чуть-чуть безопаснее. — И перевела речь на другое: книга, которую прочла она, очень понравилась. — Впрочем, — не то слово. Я в душе как-то одинока, одинока уже давно, и вот в этой книге мне стало понятно: что-то надо переменить самой, переменить все, что было во мне прежде. Захотелось работать, жить самостоятельно, независимо… любить человека ничего не таясь… открыто…
— Конечно, ты права, Ариш… насчет работы тоже. Тебе надо работать. — Он настойчиво употреблял слово «ты», ибо чувствовал, что имеет на это право.
— Да, и я буду… Я уже решила бесповоротно.
Он подсел к ней ближе, заговорил горячо и торопливо:
— Хорошо, что ты проснулась, Ариша… Ведь ты спала!.. А чтобы жить, надо бодрствовать, надо воевать. Мне тяжело, обидно сознавать, что быт железным обручем стянул свободную человеческую волю… он давит… Вот мы с тобой, Ариша, украдкой от людей…
— Я не боюсь быта. Он мне не страшен! — решительно проговорила она. — Человек — хозяин жизни, ее творец. Если бы я боялась, я не пришла бы сюда.
— Да, да, ты, Ариша, смелая, и я хочу, чтобы ты… — Он не высказался до конца, смутившись перед чем-то большим, к которому их приближало время. — Да, у меня есть яблоки. Я берег их для тебя.
Она взглянула на него словно издали, улыбнулась задушевно, потом с приятным хрустом ела свежее яблоко, доверчиво отдав Вершинину руку. На красивом лице ее была нарисована веселым узором радость, и, когда он положил на ее плечо руку и привлек к себе, она не испугалась, не оттолкнула его, спросила только, доверчиво взглянув в глаза:
— Ты любишь? — и опустила голову, затихла, ожидая ответа. Она не подняла шаль, свесившуюся с плеч чуть не до полу, не промолвила ни слова на его тихий вопрос: «Я уберу ее?» Она забыла, что сидит в чужой избе, что пришла ненадолго; а когда сильные горячие руки подняли и принесли ее на постель, она трепетно прижалась к нему, притихла и припухлыми от страсти губами жадно пила мужскую силу…
Глава XI
«Я тебя люблю…»
Он стоял перед ней, высокий и сильный, глаза были большие, темные и обволакивали ласковой теплотой. Арише захотелось узнать: как жил он до этого? любил ли кого? что он думает о ней, пришедшей к нему по зову чувства?..
— Ты можешь любить крепко, надолго, на всю жизнь? — спросила она.
В эту минуту Вершинин не мог ей лгать, но также и не мог ответить, что никогда никого не любил. Потупя взгляд, ушедший в пространство, он припоминал:
— …Случалось так, что больше меня любили… Но одна оставила во мне следы глубокие. — У Ариши загорелись глаза, нетерпеливое обидчивое движение губ выдало ее ревнивую тревогу. Вершинин поторопился успокоить ее:
— Но это уже прошло, Ариша. Звезда перед восходом солнца обычно гаснет.
— Перед восходом? А если оно уже…
— …взошло, Ариша, взошло! — Он наклонился к ней, ее щеки вспыхнули от поцелуев, она по-женски ликовала, празднуя свою победу.
— Как звали ее? — продолжала она допытываться уже более спокойно.
— Сузанной…
Ариша больше не спрашивала, но он сам ощутил потребность рассказать ей о том, что случилось в море у Биюк-Ламбата летом.
— …Она — художник, жила искусством, но не понимала, что это было ей не под силу… Доброе, избалованное матерью существо, сбитая с толку родными, она покинула мужа… Жила какой-то странной мечтой, витала на крыльях, а когда спустилась на землю, наступило разочарование. Большого таланта у ней не было, твердой воли — тоже, а хотела добиться больших успехов, — так в жизни не бывает… Юлька — более устойчива, верит в себя и в людей. Талант у нее есть, она идет прямой дорогой. А Сузанна другого склада человек: поняв все, она ужаснулась… Я не знаю, как это происходило в ней, но предполагаю: в ней иссякла вера в свои силы, в талант, стало гаснуть и само желание жить… Я не собирался на ней жениться… За два дня до моего отъезда из Крыма Сузанна пошла с Юлькой на пляж, смеялась, пела, — но что-то заметила в ней Юлька нервное, затаенное…
…На море качалась зыбь. Они поплыли рядом, потом Юлька отстала, крикнула: «Вернись!..» А Сузанна плыла дальше и дальше… Юльке стало подозрительно, она выбралась из воды и побежала берегом к водной станции — за лодкой… Поднялась тревога. Я случайно в этот день оказался с приятелем на скале, над морем, и сверху, издали, мне было видно: чей-то белый платок, подобный чайке, качался на волнах, удалялся, потом пропал совсем. Потом от берега поплыла в ту сторону лодка, затем вернулась обратно. На пляже собралась толпа. Моторная лодка понеслась в море — тоже в ту сторону, кружилась там долго, — но и она вернулась ни с чем…
Вершинин умолк, затем, вздохнув, докончил еще более тихим голосом:
— Вот и всё…
— Она не вернулась?! — изумленно раскрыв глаза, воскликнула Ариша.
— Да…
Наступило тягостное молчание.
В голове Ариши начали путаться мысли, под ногами качнулся пол, ей почудилось, что если она не привалится к изголовью кровати, то может упасть. Она пугливо сжалась в комок, подобрала под себя ноги и притихла, — в глазах стояли недоумение, растерянность и разочарование. А что… если он знал, что это была Сузанна?.. Неужели он мог равнодушно, безучастно стоять на скале, когда Сузанна навсегда покидала берег? Поразительно!.. необычайно… Если действительно так происходило дело, то… какой же он — Идэн?
«Не может быть, не может быть», — уговаривала себя Ариша, напутанная своей догадкой. Она не могла больше оставаться в неведении, не могла ждать: ее терзало сомненье, и она спросила его об этом.
Для Ариши многое оставалось неясным в загадочной и странной судьбе Сузанны, а он медлил, будто припоминал с начала и до конца.
— Нет, — ответил он со вздохом. — Я узнал после, от Юлии, когда было уже все кончено и там, у каменных заплесков, шумела толпа любопытных.
Ариша подняла взгляд: на стене, в мягких зеленях, уже тронутых последним увяданьем, текла прозрачная голубая река; вода в ней показалась Арише холодной, как и его взгляд — напряженный и равнодушный.
«Правду ли говорит он? Не обманывает ли? Не скрывает ли чего от нее?» — спрашивала себя Ариша. И сама же отвечала: «Нет, он говорит правду, доверяет ей беспредельно и обманывать ее не может. В чем-либо подозревать его — несправедливо. Во всем виновата Сузанна»… И когда он положил голову к ней на колени, рассеялись ее последние сомнения; она больше не думала о той женщине, которую случайное стечение обстоятельств привело к печальному концу…
Опустив глаза на лицо его, Ариша застыла в неподвижности, любуясь им, думая о нем: отныне он принадлежал только ей, одной ей: ни Сузанна, ни другая женщина не имела над ним власти.
— Ты — мой, — шепчет она тихо и гордо…
Без нее он был одинок, несчастен, а теперь, когда она, лаская, гладит его лоб, щеки, волосы, он не чувствует этого одиночества. Она сознает какую-то ответственность за его жизнь, отвечает за нее перед кем-то и в то же время чувствует зависимость от него: вот если бы сейчас она захотела уйти от него, он имеет право не отпустить от себя; скажет одно только слово — и она останется… И в новом приливе горячей, полыхающей страсти она целует его глаза. Покорность и всепрощающее снисхождение заполняют ее душу… Вот она, жизнь, которую искала Ариша и нашла, наконец!.. Вот оно, Счастье, познанное всем ее существом — сердцем, глазами, пальцами!..
— Ты — мой, я тебя люблю, — повторяет она. — Как хорошо жить любя!..
Однако пора уходить… Освобождаясь из этого сладостного плена, она приподнялась. Он помог ей одеться, подал пуховую шаль. Улыбаясь, она шла сенями, улыбаясь, спустилась по ступенькам крыльца, поддерживаемая под руку. Он проводил ее до дороги: дальше идти она не разрешила, и он вернулся.
Заснеженной трудной дорогой шла Ариша, не замечая бушующей метели, и вплоть до Наталкиной хаты была в каком-то приятном беспамятстве, не чувствуя, как в щеку хлестал жесткий снег…
Вскоре после ее ухода пришла Параня. Она ввернулась в избу как-то боком, торопливо затворила за собой дверь. Снимая шубу, обшарила кругом глазами — искала прямых улик и скоро нашла: появившаяся складка на одеяле, взбитая подушка, приткнутая к самому изголовью кровати, и что-то новое, появившееся на лице Петра Николаевича. Ее мучило любопытство, заставляло заглянуть ему прямо в глаза, и когда она сделала это, ей сразу понятно стало, какую сладостную муку принял он сегодня, и, кажется, принял смело, без тревоги за будущее…
Не снимая пиджака, Вершинин прилег на кровать лицом к стене и скоро заснул.
Параня привернула его лампу, зажгла свою, унесла ее к печке и принялась ставить хлебы. Негромко стукалось решето в ладони, совсем неслышно сеялась на клеенку мука, и опять вспоминалось ей свое, давно пережитое… Наливая в квашню теплую воду, она спохватилась, вытерла подолом мучные руки, подошла к киоту и вынула из-за иконы зеленый конверт.
— Ишь ты, — шептала она, — память-то какая стала. Совсем забыла. На стол положу; проснется — увидит.
Время ужина Петр Николаевич проспал, а старуха не решалась его тревожить. Она поставила на стол ужин и улеглась на печи…
Глава XII
Человек — не салангана!
Открыв глаза, он услышал громкий стук маятника и суетливую беготню тараканов за печкой. В окно просачивалась густая темень, сквозь которую не видно было улицы. Зеленый конверт, облитый с абажура лампы мягким светом, подозвал его к письменному столу. Письмо было от Юльки.
«…На задворках жизни дотлевает некая порода людей, веривших во власть имен. Стоит-де назвать новорожденную Еленой — и девушка созреет более красивой и мудрой, чем сами родители. Наречешь сына Павлом — вырастет надменный и мрачный псих. (Примеры, очевидно, брались с царей и апостолов. Даже книги такие были.) Назовешь Петром — вырастет камень, крепыш по уму и — немного от себя добавлю — сухарь по чувству. Хочу на минуту поверить в эту нелепость и сказать, что — ты действительно Петр, с тремя таврами на теле.
Одно воспоминание…
Море Биюк-Ламбата шумно плещется в берег. Летняя нарядная ночь стоит в темно-синем поплине. Мигают звезды, улыбается луна, скала, накаленная за день, отдает тепло. В лицо веет горячим ветром и тянет к морю. Туда по тропам спускаются высокие темные кипарисы. При медном свете луны хорошо виден мохнатый горб Аю-Дага: легендарный окаменелый медведь, он неутолимо пьет, окунув морду и передние лапы в шторм. Мы оба стоим над скалою, и голубая, почти опаловая даль моря сливается с небом… И где-то там, вдали, рождаются белые гребни волн и катятся все ближе, ближе, становясь крупнее, внушительнее, и вот уже грозно обрушиваются у подножия скал… Чьи-то паруса подплывают к скалистому берегу… Тогда с твоих губ сорвалось желанье (теперь мне оно понятно). Ты в шутку сказал: „Бушующий космос воды возбуждает в человеке чувство большой и гордой свободы. Я хочу быть пиратом“…
Вспомнила твою „шутку“ по ассоциации: сегодня в ячейку МОПР, где я работаю, пришло письмо, письмо оттуда, где колыхается море и стоят недвижно берега. Только берега и море другие, иная страна и сам автор — инженер Каломпар, грек по национальности… На скалистом обрыве тюрьма, а Каломпар — ее жертва. Он не был революционером, он только металлург одной известной английской фирмы. Впрочем, поговори с ним сам, — вот кусок его письма в переводе.
„…Утром 1 мая я был дома, садились с женой пить кофе, семилетняя дочка Софи убежала куда-то, ничего не сказав нам. По улице в это время двигалась рабочая демонстрация. Я забеспокоился — не убежала бы Софи туда. Вышел на улицу и, миновав квартал, остановился на углу. На панели было много детей, но среди них я не нашел моей девочки… Вдруг со стороны Вокзальной площади ворвалась в улицу ватага конных и пеших усмирителей. Они погнали толпу безработных, а навстречу им летели кирпичи и булыжник. Полиция озверела, началась невообразимая свалка. Дети смотрели и выли не то от возбуждения, не то от страха, у многих наколоты были красные бантики. На детей наскочил горбоносый грек в мундире, они бросились кто куда. Среди них я увидел розовое платьице и тоже с бантом на груди. Я испугался: это была Софи. Горбоносый, размахивая палкой, ударил ее. Я кинулся вперед и несколько раз ударил горбоносого. К нему подоспела своя помощь, а ко мне — помощь со стороны рабочих… Потом я унес дочь, обозвав полицейских бандитами.
На другой день меня арестовали „за активное участие в демонстрации“… Фирма уволила меня, прицепившись к случаю. Надо же было увольнять и инженеров, раз остановились заводы…
Иногда я залезаю на стол и гляжу сквозь решетку окна на море. Море здесь просторное, темно-синее. Оно глубже и синее неба… Когда-то в старину здесь разбойничали эгейцы. У нас маленькая страна, но много разбойников — и своих и чужих. Они захватили все. Это жадный Брама, а земледельцы и рабочие — только парии. К презренным париям Брама не клонит уха… Я стал его ненавидеть и о своей ненависти кричу — пусть он слышит!.. Во мне нет страха, и если меня отсюда не выпустят — это не будет дивом… Я не салангана, которая лепит свое гнездо на обрыве скалы, не интересуясь ее природой и назначением.
Я жду, когда вулкан начнет трясти и крошить этот мир произвола и бесправия, как когда-то Везувий — Помпею. И если придется, я буду помогать вулкану“.
Правда ведь, Петр: какое широкое поле было бы дано Каломпару в нашей республике? А там он — прикованный к скале Прометей!
Ты пишешь мне: „целься дальше“. У меня есть цель, и я вступила в комсомол… Хочется жить долго, работать много — для родины, для себя и прожить свою жизнь так, чтобы потом не раскаиваться ни в чем… Это хорошая даль!.. Хотя ты, кажется, подразумеваешь под словом „даль“ нечто совсем иное. А что именно — я не поняла. Не понимаю и того, почему ты записал себя в старики… так рано? Давно ли у тебя такое?
Помнится, в нашей семье не было уныния, тяжелой и грустной иронии над жизнью, а у тебя появились они. Откуда? Где их начало? Куда они ведут?
А ведь время-то было какое!.. В восемнадцатом году умер наш папа — „лесной старец“, как называл его ты. Мама болела, мне было всего десять лет. Помнишь, как мы, почти не умея ничего делать, сами занимались хозяйством. Ты учился в лесном институте, где когда-то преподавал папа, а я, по очереди с мамой (а нередко и ты) стояли в очередях за хлебом, сменяя один другого. Прозябну, бывало, окоченею, со слезами бегу домой, чтобы меня сменили… Тебе было еще труднее: ты не чурался никакой работы — разгружал вагоны, расчищал снег от складов, работал носильщиком на багажном дворе станции… Ты не бросил учиться, преодолел много тягот, но ты не сбился тогда с дороги на какую-то боковую, вязкую тропу. И мне помог во многом, в самом главном — в жизни, в учебе. Ты был мне вместо папы, я очень благодарна тебе, — поэтому и не могу, не имею права пройти безучастно мимо того, чем и как живешь ты теперь…
Между строк, написанных в твоих „скрижалях“, я прочитала: „В жизни надо быть пиратом“… Неужели в самом деле это превратилось в твою систему? Неужели в этом кроется смысл жизни?.. Со всей глубиной откровенности скажу: твое письмо оставило во мне ощущение тяжести, предчувствие какой-то назревающей в тебе личной драмы… Я не хочу ее, я боюсь за тебя.
Мей родной друг, брат и „папа“! напиши мне обо всем откровенно, подробно, — я беспокоюсь о тебе. И не сердись на меня за это, не надувай губы… Чтобы этого действительно не случилось, поднимаюсь на цыпочки и целую в щеки — раз… и два…
Деньги получила, — благодарю. Я живу экономно, я от прошлой посылки у меня немного осталось… Рада за тебя, что пишешь научную книгу, — желаю успеха. Мне тоже есть чем порадоваться: на днях закончила повесть о деревенской девушке (лесной дичок, она жила, росла, не видя места в жизни, не понимая себя и близких. Наступление белых разбудило ее сознание… И вот — в солдатской шинели, с винтовкой в руках она проходит сотни верст лесами, болотами, участвует во многих боях, воюет за свободу родины. Ее душевная история — тема моей повести). Повесть принята большим журналом. По этой причине неистово радуюсь, вешаюсь подругам на шею… Эх, земля моя, что ты кружишься!..
Не осуждай меня, философ, за мое сумасшествие: оно — от радости и великой любви к жизни, к людям.
До свидания… Твоя Юлька.
На каникулы непременно к тебе приеду».
Вершинин поднялся от стола, достал сверток карт и, отыскав одну, разложил на столе, придерживая края руками… На 36 — 40-й параллели материк висел огромным куском сталактита… Словно отрываясь от него, летели в море камни — острова; заливами, бухтами, устьями рек побережье изрыто, как короедами…
Страну, где сам никогда не был, Вершинин представил себе силой воображения: вот море… голая скала… за серой стеной — тюрьма из такого же серого камня… и в окне — он, Каломпар, инженер, коллега, устремивший вдаль глаза, тоскующие по воле…
«Человек — не салангана!.. Я жду, когда вулкан начнет трясти, крошить этот мир произвола… И если придется, я буду помогать вулкану», — повторил Вершинин, стараясь осмыслить Каломпара в жизни, в борьбе, понять неизбежную, логическую закономерность, принять сердцем историю его души…
Все же в его воображении возник только мираж, как бывает в пустыне; Каломпар-Прометей мелькнул лишь видением, и, словно под тяжелым камнем родники, бились его слова и чувства, они не коснулись души Вершинина, прошли где-то стороной, мимо…
Очнувшись от дум, он услышал опять вой и клокотанье за стеною; снеговулкан не затихал, и тучи белого пепла продолжали сыпать на маленькую «Помпею» — лесной поселок Вьяс…
Уже в третий раз принимались петь петухи, голосисто перекликаясь по темным дворам; пес просыпался не однажды, и, кажется, улеглось беспокойство в природе.
Вершинин подошел к окну, поднял занавеску: в безлюдной улице, занесенной снегом, редел, прояснялся ночной туман и отстаивалось голубое, кристально чистое утро.
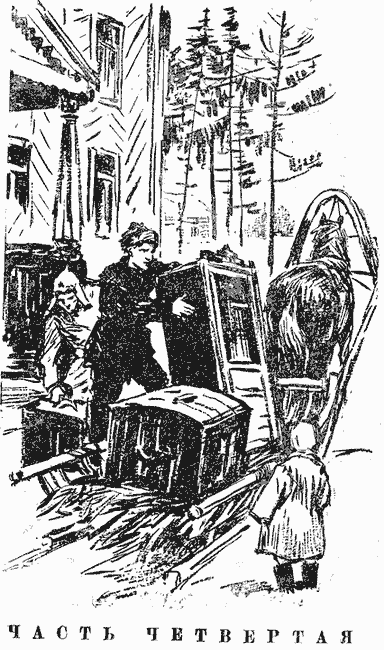
Часть четвертая
Глава I
Одна Катя не понимает…

В
день приезда мужа у Ариши, как на грех, скопилось много дел, и, занятая ими, она едва удосужилась спросить: как съездил он и все ли благополучно? Краткий ответ не вызвал на этот раз дальнейших расспросов.
После обеда, не успев даже убрать со стола, она торопливо собралась в кооператив, чтобы купить сатину, бумазеи и еще чего-то. Алексею же нынче больше, чем когда-либо, хотелось, чтобы жена отложила всякие домашние мелкие заботы, побыла с ним. И немного грустно стало, когда за нею закрылась дверь.
Алексей остался вдвоем с Катей, ожидая Аршинного возвращения с минуты на минуту.
Девочка сидела с ним рядом на кровати, немного привалясь к подушкам, и складывала деревянные раскрашенные кубики, а отец смотрел на ее маленькие ловкие пальцы, на кругленькие приподнятые плечи, на розовые раковинки ушей, потом обнял ее, прижал к себе:
— Ну, Катёнок, поцелуемся?
Она повисла у него на шее, смеялась и, чтобы целовать отца, вытягивала губы:
— Ну, еще, еще…
Взяв друг друга за руки, они покружились по полу, потом ей пришло в голову сравнить, у кого больше руки.
— Ого, — удивленно сказал он, — к весне рука у тебя будет больше моей… Вырастешь и будешь такая же сильная, как я.
Но Катя, не дожидаясь весны, хотела помериться силой сейчас же, — они схватились бороться.
— О-о! Какая ты стала сильная, — смеялся отец.
Она и сама чувствовала это и знала, откуда у нее такая сила:
— Я соленых грибов наелась.
— Да-да, — подтвердил он, — от хлебца да от каши тоже поздороветь можно. Ты больше кашки ешь. — А сам норовил поймать ее за руку.
Угадав его намерение, она отбежала к окну и там, смешно сутулясь, поплевала в ладони, потерла их. Пока он засучивал рукава рубашки, она неожиданно напала сбоку, начала теснить его к постели, а скоро и совсем смяла. Лицо разрумянилось, глаза блестели…
— Ура, сборола! — кричала она, забираясь к нему на грудь.
— Ой, какая ты стала крепкая, никак не осилю, — сдался отец. — Ну, теперь иди одна поиграй.
Катя строила щитковый домик из кубиков, а он читал газету. Росли стены, крылечко, а потом появилась внутри домика постель для маленькой Аленушки.
— А меня туда пустишь? — спросил отец.
— Пущу. Все вместе будем жить. И маму пущу, чтобы не плакала.
Он насторожился:
— А разве мама плакала?
— Нынче ночью… и вчера после обеда. Только недолго…
Алексей отложил газету, но тут же взял опять и спросил:
— О чем?
— Глупая потому что.
— Кто тебе сказал, дочка?
— Сама знаю. Мама говорит: «Господи, какай я глупая». Только она не велела тебе сказывать.
— Ты и не сказывай. Маму слушаться надо.
— Я слушаюсь.
— Ну вот и хорошо, — сказал он дрогнувшим голосом. — Ты ведь у меня умница…
Алексей встал с постели, прошелся несколько раз из угла в угол и надолго остановился у окна. Отсюда был виден знакомый лесной пейзаж с чистой, прозрачной глубиною неба. Из-за леса медленно всплывало темное облако. Оно ширилось, росло, расстилалось мутно-серым пятном по чистому небу. Ветер гнал облако с той стороны, откуда приходит по летам ненастье.
С тревогой и грустью Горбатов отошел от окна к Кате, обласкал маленькие родные плечи, поцеловал в висок…
Отец усадил девочку на колени и, глядя в лицо, начал рассказывать: о белках в лесу, о буре, которая застала его в дороге и чуть было не занесла снегом, о лошаденке, сбившейся с пути, о том, что простудился он и что старики лечили его прилежно и с толком.
— А ты не езди ночью-то, а днем, — советовала Катя, жалея отца.
— Дня, доченька, не хватает. Работы много… Ну, ничего. Теперь у нас построено все, что нужно… Истопят баньку, я помоюсь — и все пройдет. А через недельку будем переезжать в новый щитковый дом.
Несколько минут спустя Катя уже укладывала в ящик свои игрушки и куклы, готовясь к переезду, а он опять прилег на кровать.
Быстро покончив свои сборы, девочка забралась к отцу и молча водила по его груди еловой шишкой, выписывая по-печатному любимое слово «папа».
Долго, очень долго не приходила мать, и Катя, прижавшись к отцу, даже заснула у него под рукой. Кажется, задремал и он, утомленный дорогой и ожиданием.
Оба проснулись сразу, заслышав голоса и хрустящие шаги в сенях.
— Идет! — воскликнула Катя, быстро приподнимаясь. На ее розовой примятой щеке отпечатался кружевной рисунок наволочки.
Но ей было уже не до сна.
Ариша пришла не одна, а с Наталкой, и начала показывать покупки, жалуясь на грубость продавцов, на недостаток мануфактуры, на очередь:
— Ну, прямо затолкали… даже голова разболелась.
У нее был утомленный и немного болезненный вид.
Алексею стало жаль ее: ну, зачем ходила сегодня? неужели нельзя было выбрать другой день, когда народу будет меньше? Наконец, он сам мог сказать завмагу, чтобы отложил, что ей нужно…
Покупками была Ариша недовольна, а они, право же, удались: голубая бумазея с легким рисунком — хороша на платье для девочки, кстати были и валенки и шерстяные детские рейтузы. Покупки переходили из рук в руки и, кроме Ариши, всем нравились, особенно Кате, которая примеряла каждую вещь, а валенки тут же надела и уже не хотела снимать. Для себя Ариша купила только два метра батиста на блузку — больше ничего подходящего нет.
— Измучилась только, — сказала она, швырнув от себя батист.
В избе стало холодно, и Горбатов попросил Наталку затопить подтопок. Но Ариша пошла за дровами сама, а Наталке велела собирать на стол.
Обрадованная покупками и тем, что все дома, Катя ни минуты не сидела на месте, без умолку болтала о скором переезде, вертелась под ногами. Когда она, ковыряя лучинкой в темной щели, выгоняла мышку из-под пола, глаза у ней блестели. Теперь она уже ничего не боялась, потому что уезжает в новый дом.
Вошел большой незнакомый дядя, в черной острой шапке, вошел так неожиданно, что Катя испугалась даже и спряталась за спину матери… Он стоял у порога, этот плосколицый и кривошеий человек, и долго переминался с ноги на ногу. Горбатов придвинул ему табуретку и два раза предлагал сесть, но тот остался стоять у двери.
Пока шел разговор — а говорили о крайне непонятных вещах, — Катя изучала неизвестного ей человека с пугливостью и удивлением. За спиной у матери она так и просидела до тех пор, пока не ушел плосколицый, которого называли Спиридоном Шейкиным.
— Это кто? — спросила она. — Такой страшный… Он торговал или в лесу жил? — И почему-то засмеялась.
— И торговал… и в лесу жил, — ответил отец, несколько нахмурясь, когда Катя забралась на подоконник.
Она заметила на лбу отца глубокую морщину и по этому признаку, хорошо знакомому ей, сразу поняла, что играть не время.
Ближе к ночи «забежал на минутку» дядя Авдей. Как всегда, он был разговорчив и весел с Катей, и смутное, нехорошее чувство ее, вызванное чернобородым, быстро рассеялось.
Все, кроме тети Наты, были дома, пили чай и, кажется, радовались тому, что Бережнов собирается поехать в город — хлопотать тракторы. По крайней мере Кате так думалось.
— Когда мы впряжем в американские сани трактор, — говорил Бережнов, — вывозка нагонит заготовку, и, кроме того, сможем сократить обоз, а лошадей поставим на подвозку к ледяным дорогам. И тогда… знамя будет наше.
— А где возьмешь тракторы? — сомневался Горбатов. — Их ведь не хватает и для колхозов. Поработаем на лошадях, управимся без машины, — продолжал секретарь, мирясь на малом.
— Нет. Раздобыть надо, — возражал Авдей. — Мы исстари привыкли ворочать горбом или на лошадях; пора пересесть на машину.
Горбатов напомнил, что в Суреньском лесхозе тракторы лежат на боку. То же самое может произойти и здесь. А лошади работают безотказно.
— Не тракторы лежат, а люди. В Сурени ленивы и несообразительны, вот в чем причина, — продолжал директор. — Из Красного Бора мне нынче звонили, что за смену дают уже триста кубометров. Вот что значит — подобрать людей… Трактористов у нас нет… Пошлем в город на курсы, а?.. Охотники найдутся, и мы даже выбрать можем из них — кто достоин.
— Ну что ж, давай планировать так, — согласился Горбатов. — Поедешь в город — поговори в крайкоме… Что же у нас: строим бараки, столовая готова, склад расширили, а сидим с керосиновыми лампами… Дело за установкой столбов, за проводом, а движок возьмем из Красного Бора. Второй там не нужен.
Алексей сидел в тени, за большим самоваром, и, разговаривая с директором и угощая его, украдкой взглядывал на Аришу… Она была все та же, как десять дней назад: вьющиеся волосы, небольшое, как у девочки, матово-белое с розовинкой лицо, большие выразительные глаза. Пестрое цветистое платье, которое ей очень шло, добавляло что-то новое к ее красоте, казавшейся теперь тревожной.
На секунду их взгляды встретились, и Алексей увидел в ее черных глазах и лице огромную, спрятанную от него перемену… Или это подумалось ему после разговора с Катей?.. Но ведь она не обрадовалась его приезду? Ее не взволновало и то, что случилось с ним в дороге. Никогда прежде она не была такою: молча слушает, совсем не вникая в разговор и думая о чем-то своем, одной ей принадлежащем.
Горбатов, принимая от жены последний стакан чаю, задержал руку, надеясь вызвать знакомую улыбку. Это был давно испытанный жест, но на этот раз улыбка не удалась ей.
За весь вечер Ариша вступила в разговор только однажды, когда Горбатов передал Бережнову все, что узнал о Шейкине.
— К людям надо относиться мягче, великодушнее, — сказала она, значительно поглядев мужу в глаза. — Мало ли что бывает в жизни. За ошибку судят черствые и жестокие. Человека надо понять… и простить. Он беспокоится, потому и приходил второй раз.
Горбатов подумал, что она говорит не о Шейкине, а о ком-то другом, и, смутившись, ответил строже, чем того хотел:
— Тут не в ошибке дело, не в черствости. Есть жестокость справедливая, необходимая, а иногда и мягкость бывает глупая, непростительная. Великодушие — не всегда добродетель. Дело в том, что он десять годов лес рубит, и я вполне верю, Авдей Степаныч, что он уже не тот человек, каким был когда-то… Вот почитай, что пишут…
На запрос Горбатова Белохолуницкий сельсовет писал: «Спиридон Шейкин в царскую пору являлся лесовладельцем и хотя над бедным людом не зверствовал, а со время Великой Октябрьской революций жил смирно и явного сопротивления не оказывал, но, как безусловно чуждый элемент, подлежал полному раскулачиванию: дом и хозяйство изъяты, а лес в количестве двадцати десятин стал в 1918 году государственной собственностью.
Семья кулака Шейкина состояла из жены, дочери и сына, из которых вышеозначенная жена умерла четыре года тому назад, дочь в настоящее время замужем, живет на Рябовском руднике, а сын Шейкина проживает в данное время по прежнему адресу — в Белой Холунице — как школьный учитель и ведет значительную общественно-массовую работу»…
Бережнов читал, вникая в каждое слово, ибо ясно представлял, какое затруднение испытывал белохолуницкий председатель, давая отзыв о таком человеке.
— Значит, насчет сына Спиридон не лгал нам… Не будем рубить сплеча, — заключил Бережнов. — Кое-где гонят «бывших» без разбору, а я, говоря между нами, не очень одобряю подобную перестраховочную строгость: в людях происходят процессы сложные, и мерить всех одной меркой несправедливо… Пусть работает.
Горбатову тоже не казался вредоносным этот человек, требовавший, однако, определенного контроля в будущем, — судьба Спиридона Шейкина была решена обоюдным согласием.
Ариша укладывала дочку спать, уже не принимая участия в разговоре, впрочем не переставала слушать с жгучим затаенным вниманием, примеряя на себя их суждения и оценки, в которых находила нечто относящееся непосредственно к себе самой, ибо в чем-то, по-своему, она провинилась и теперь нуждалась в том, чтобы ее поняли и не осуждали, если уж не смогут простить… Не о ней ли думает и Алексей, расхаживая в тесной хате, что случалось с ним только в минуты беспокойного раздумья.
— Послушай, Авдей Степаныч… — Горбатов повернулся к Бережнову, остановясь у порога. — Представь себе — война вдруг, мы опять, как в девятнадцатом, окружены врагами, повсюду фронт… Какую позицию, чей стан выбрал бы тогда он?
— Кто? Шейкин?
— Нет, Вершинин. — Алексей заметил, что Ариша при этом вздрогнула и наклонилась, к дочкиной постели еще ниже.
Задумчиво и сухо Бережнов поглядел себе на ладонь, словно там и были написаны его мысли:
— Я уже думал об этом. Он может повредить нам… А с работы снять — тоже хорошего мало.
Горбатов продолжал:
— Удивительная теория… Когда он пришел к этому?.. Он убежден, что жизнь одинакова при любом социальном строе… И он не одинок — этот инженер-философ. У него немало «родственников». Только те более активны, а этот — просто кабинетный мыслитель… до поры… А там — черт его знает!
— Ну что ж, подождем, посмотрим. Пока ведь работает не плохо? — раздумчиво, как бы припоминая, произнес Авдей.
Собираясь уходить, директор протянул Арише руку и полуофициальным тоном сказал:
— В щитковый вселяю послезавтра Сотина и Якуба, а через недельку и вы зовите на новоселье. — И широко улыбнулся.
Ариша остановила его у порога:
— Вы, Авдей Степаныч, возражать не будете?.. Я хочу поступить на работу.
Он обменялся взглядом с Горбатовым: у того от удивления и неожиданности вспрыгнули на лоб брови. Не желая быть свидетелем назревающего спора, Авдей поторопился уйти, пошутив:
— Не возражаю… Одним ударником будет больше.
Какими-то путями и до него дошел слух о неблагополучии в этой семье, но Горбатов утаивал, а Бережнов, жалея о случившемся, все стеснялся спросить, откладывая до более удобного случая.
Ариша принялась убирать со стола посуду. Алексей подошел к детской кроватке и прислушался: Катя спала.
— Ты скучала? — спросил он вполголоса, чтобы не потревожить сна ребенка.
— А как ты думаешь? — Она понесла к буфету стеклянную вазочку, которую купила сама накануне замужества.
— О чем ты плакала?
— По хорошей жизни.
— Почему не посоветовалась о работе?
— Не с кем было. — Ваза выскользнула из рук, и только случайно Ариша поймала ее на лету. Перемывая посуду, она ни разу не взглянула на мужа.
С горечью и досадой он отошел к окну, где стоял на полу в кадочке высокий, почти до потолка фикус — Наталкин питомец; оглядел его продолговатые, тяжело повисающие листья, потрогал их плотные вощаные края, — и стало еще тяжелее на сердце…
За стеной у крыльца заскрипели чьи-то шаги, потом в сенях: очевидно, возвращалась Наталка… Разговор пришлось отложить.
Утром, улучив минуту, когда Ариша ушла за водой, а Горбатов, собираясь на работу, намеренно задержался у вешалки, Наталка таинственно подманила его к печке и торопливо зашептала:
— Алексей Иваныч… ты надолго-то не отлучайся… скучает она… А примета такая есть: коли молодая баба одна, да к тому же скучливая, — за ее голову ручаться нельзя… Понял, что ли?.. Не сердись… Мне ведь вас всех жалко.
Он ответил глубоким вздохом.
Глава II
Дружба остыла
Тоскливые думы об Игоре не затихали с месяц. Потом постепенно стали спадать, приходить реже… Только забвенье излечивает такие раны, и скорее заживают они, если меньше думать о них…
Ефрем Герасимыч, закончив дела в Ольховке, возвращался во Вьяс — не проезжей проселочной дорогой, а прямо по лежневой ледянке, чтобы проверить ее состояние. На всей ее длине — в двенадцать километров — он только в двух местах нашел выбоины… Надо сказать, подумал он, чтобы исправили…
Породистый золотисто-рыжий Зазор — жеребец-пятилеток, не чувствуя тяжести, нес кошевые санки, строптиво подогнув могучую шею. Пушистые снега на лесных полянах блестели, искрились, утомляя глаза, но Сотин пристально смотрел на ту кулису, где зимовали под сугробами молоденькие сосны, посаженные его руками семь лет назад…
Практического склада человек, он, любя лес и веря в силу человеческих деяний, отчетливо представлял себе, что будет здесь через сорок, пятьдесят лет… Шумят уже высокие сосны — с прямыми стволами, с шелушащейся кожицею вверху. Незаметно от людей заселила их всякая лесная живность… Появились ушастые, трусливые зайчишки, шустрые и сметливые белки с черными, как пуговки, глазами; прошагает иногда топтыгин, оглядываясь по сторонам, прорыщет серый в поисках добычи; осторожно пройдет сквозь чащу к реке на водопой умный, благородный лось с послушной самкой, с маленьким неуклюжим лосенком, показывая обоим только ему приметную тропу. И даже кукушка, сидя над чужим гнездом, кому-то отсчитывает сроки… Год за годом продолжается лесная жизнь, как и во всяком другом лесу, что не сажали человеческие руки…
У каждого деревца свой нрав и сила, свои желания, своя судьба, своя способность устоять в борьбе, — и надо потрудиться много, чтобы уберечь каждое от бесчисленного множества больших и малых невзгод.
Богатые сокровища зеленых дворцов очень легко расхитить, исчерпать до конца, — и Сотин, при поддержке Бережнова, немало отдал усилий, чтоб ежегодный план порубок возмещался размером новых насаждений… Уже растут саженцы в Ольховке, в Зюздине, на полянах в Красном Бору…
Было бы неплохо, подумал он, написать книжку об этом опыте. Новое катище, где вяжут плоты, эстакады, лежневые и ледяные дороги, расширение производства лучших сортов древесины, углежжение, американские разводки для пил, по-своему переиначенные Сотиным… Полезно на ее страницах рассказать о людях, дать фотографии достойных умельцев лесного дела, и в придачу ко всему — картины хвойного леса… И почему бы эту книгу не написать им вдвоем с Вершининым, у которого есть искусство точной и даже красивой речи?.. По осени его статья была помещена в краевой газете, и Сотин, прочтя ее с приятным удивлением, поздравил удачливого друга с «талантом и успехом»… Наверно, с тех пор и зародилась у Вершинина мысль расширить тему — только слишком долго затянул он сроки. Быть может, нуждается в практических советах, в характеристиках людей?.. У Сотина найдется чем восполнить эти пробелы…
Он сдал Зазора конюху, а сам, не заходя домой, пошел к Петру Николаевичу. Тот встретил его у двери, сам подал стул. Параня, сидя на корточках перед подтопком, разжигала сосновую щепу берестой, и когда принялось гореть, огонь осветил сухое, почти без кровинки, лицо старухи.
— Если хотите, Ефрем Герасимыч, самоварчик поставлю, — предложила она.
Сотин мягко отклонил услугу.
— Ну, как живем? — спросил он Вершинина, усаживаясь ближе к столу.
На его высоченных валенках видны мелкие комки оттаивающего снега, волосы прилипли ко лбу, мороз и движение разрумянили его свежее лицо с родинкой над левой бровью. Выражение глаз энергичное, настойчивое и чуть-чуть возбужденное.
«Вот он, карьерист, идущий в гору», — подумал с неприязнью Вершинин. И сказал:
— Живем по-прежнему, потихоньку, без шума. Столовую выстроил, в щитковом сложил печи, в бараках докончил отделку дверей и рам. Видал, наверное? — Петр Николаевич сделал небольшую паузу. — Я говорил с Бережновым: ты можешь переезжать на новую квартиру, Якуб — тоже.
— Хорошо… отлично. — И Сотин погладил себе колено. — А ты? А Горбатов?
— Мы после вас. Героев в первую очередь.
Последнюю фразу Вершинин произнес не то с завистью, не то с иронией.
Сотин умолк, несколько озадаченный: не иначе что-то произошло здесь в его отсутствие, но не решился спросить, полагая, что Вершинин расскажет сам. Ефрем Герасимович попросил папироску, Вершинин молча придвинул портсигар.
— Да… ты кончил книжку для лесорубов? — спросил Сотин, чтобы хоть что-нибудь сказать.
— Нет… И не буду.
— Напрасно. Ты, должно быть, просто не учитываешь, насколько важна и необходима нам такая книжка.
— «Нам»? — Вершинин неопределенно намекал на что-то.
— Да, нам… всему производству. Между прочим, опять был в Ольховке — там все благополучно пока… Так вот, я с лесорубами везде разговаривал. Все жалуются: нет для них книг по производству, нечего читать. Огромная была бы польза. Я сам собирался написать брошюрку, но нет литературной фантазии. У тебя бы вышло. Не держи капитал на запоре, отдай, у кого взял, — народу… Или — давай вместе?
Вершинин молчал, доставая с этажерки толстую книгу, не выказывая никакого внимания ни Сотину, ни тому, о чем говорил он.
А Сотин продолжал:
— Горбатов поделился своими соображениями насчет твоих записей. Меня, признаться, это крайне удивило: ты ведь никогда ничего не говорил мне… Какой-нибудь краснобай на моем месте сказал бы тебе вот что: «Я не приемлю твоих заветов…» А я просто: брось ты свою философию и пиши то, что будет иметь общественную, производственную пользу… Помнишь, я советовал тебе?.. Ведь какая нужда в такой брошюрке!.. У тебя дар есть, пиши… а я помогу: цифирь всякую дам, материалов у меня много, и если хочешь, соберу еще.
— Ты что ко мне пристал?.. Возьмись и напиши. Ты же нашумел своей статьей об изобретении?.. Так продолжай.
Вершинин говорил, прищурив глаза, и потом, после длинной паузы, спросил значительно:
— Ты почему-то стал очень старательным?.. А?
— Я?.. Я всегда такой. И вот тебе лишнее доказательство.
Сотин, примирительно улыбаясь, полез в карман и, к новому удивлению Вершинина, вынул маленькую блестящую машинку. Любуясь своей находкой — это была американская разводка для пил, — Сотин вертел ее перед лампой: разводка поблескивала сталью.
Лесорубы обычно разводят пилы железными, приготовленными в кузнице, разводками, иногда портят, ломают зубья. У некоторых артелей по сие время имеются даже деревянные разводки, кустарные, уродливые. Американская разводка сохранит сотни пил, увеличит выработку.
— Где нашел? — спросил Вершинин.
— Случайно… Услыхал я в Медо-Яровке: приказчик в кооперативе продал ее одному гражданину как принудительный ассортимент. Я пошел к нему. «Верно, говорит, было такое нехорошее дело. Всучили. А на что мне железка эта?» — «Где она?» — спрашиваю. «Все там же». Иду в кооператив. Говорят, продали в Киселиху (четыре километра от Медо-Яровки). Я — туда. Зашел к Модесту Иванычу. Оказывается, она у него.
— Кто это — Модест Иваныч?
— Секретарь Киселихинского сельсовета… Денег у меня оказалась трешница, а тот просит пятнадцать. У Ивана Перкова занял я… Перков кто? Перков — лесоруб… знакомый… ха-ха-ха! Я ведь там многих знаю. И вот американка в наших руках. Надо завтра хоть почтой отослать ему деньги… Разводка дешево нам пришлась: восемь километров отмахал я в оба конца — и баста. Все бы ничего, только холодно и пурга была. В ухо малость надуло, звон слышу. — Сотин приложил ладонь к уху, свалил голову набок, словно хотел вылить из уха воду, и потряс рукой. — А самый буран я переждал в Киселихе. Одним словом, гладко вышло.
Вершинин легко представил себе Сотина: в барашковом малахае, в высоких сапогах он идет пустынным, безлюдным полем, в пургу, чтобы перехватить эту разводку, идет восемь километров… Ночевка в избе у какого-то мужика в Киселихе… И рядом с Сотиным он поставил себя: в ту бурную ночь Вершинин сидел дома, было уютно, тепло, и гостила у него Ариша… Вершинин радовался тому, что испытал тогда он, и вместе с тем завидовал Сотину.
— Да, — молвил он раздумчиво, продолжая разглядывать стальную машинку, — ты, Ефрем Герасимыч, родился под счастливой звездой. С тобой повенчана удача. Разводка — ценная вещь. Мы можем дать заказ омутнинской мастерской, и по этому образцу изготовят для всех артелей.
— Действуй. Я свое дело сделал, черед за тобой, Петр Николаич…
— Я привык работать без понуканий…
Сотин недоуменно пожал плечами: на что он сердится? чем недоволен? И почему он прямо не скажет, не откроется ему, другу? Ведь он понял бы его с полуслова. Странный человек этот Вершинин! Если бы подобная удача пришла к нему, то Сотин первый приветствовал бы его и обо всем расспросил бы. А Вершинин… почему он так недоброжелательно настроен?..
Сотин поднялся и, пригладив ладонью волосы, не торопясь надевал шапку. Вершинин не удерживал его.
— Послезавтра суд Староверову. Придешь? — спросил Вершинин между прочим.
— Конечно, конечно. Тем более что со мной в Ольховке случилась небольшая историйка. Если хочешь, расскажу… только по секрету, — предупредил Сотин и, получив от Петра Николаевича заверение, начал рассказывать о встрече у полыньи, не упуская ни одной подробности.
Вершинин слушал сначала лениво и неохотно, но потом — уже с большим вниманием.
— Черт возьми, ведь это же настоящее покушение! — молвил он, изумленно глядя в лицо Сотину, который стоял у порога и улыбался. — Почему же «по секрету»? — недоумевал Вершинин.
— Потому что… я не хочу усугублять наказание. У них у обоих дети.
— Это что, игра в великодушие?
— Никакой игры. Я дал им обещание серьезно.
— …В опасный для тебя момент?
— Нет, как раз после.
— Не понимаю, — развел руками Петр Николаевич.
К станции подходил пассажирский: сильно задребезжали окна и дрогнули стены избы. Сотин уходил от Вершинина с чувством большой досады и отчуждения.
В щель непритворенной двери лезло кудрявое облако стужи. Параня, сразу заметив это, стукнула себя по бедрам:
— Вот люди-то! Не жалеют чужого тепла, да и только. — Она уцепилась одной рукой за скобу, другою уперлась в косяк и прихлопнула дверь изо всей силы. Потом обратилась к Вершинину: — Петр Николаич…
— Что?..
— А разве дети суду помеха?.. На мой разум так: дети детям рознь. Ежели такие, как у нас вон по лесному складу шатаются, басурманят всяко, добрым людям проходу не дают — такие не помеха. Нет им прощенья, нет никакой жалости! А Ефрем Герасимыч, ба-атюшки, какой… на него двое с палкой, а он — «по секрету». — И старуха, перекосив рот и сощурившись, тоненько захихикала. — Зуб за зуб, око за око — святой закон, вот она, правда-матушка человеченская… А он… экой чудак, экой мякиш!.. Так ведь его и укокошить могут. Правду ли я говорю?.. Жить на вольном свете надо, ой-ой, умеючи.
— Конечно, правда. Жизнь — как палка о двух концах: за один поймаешь, а другим она тебя по голове стукнет. Брать ее — так уж брать за оба конца… Ты все-таки насчет этого не болтай.
— Да мне что… Моя хата с краю… Не меня палкой-то, а его… Как хочет.
Старуха принесла из сеней новый березовый веничек, смочила водой и принялась подметать пол:
— У стола-то твоего дай подмету хорошенько.
— Ведь мела нынче?
— Ну-к что. Почище — получше…
С особым старанием вымела она под ногами Вершинина, под столом, смахнула тряпочкой с книг пыль, сдула со стола рассыпанный табачный пепел, в углах сняла паутину.
Покоренный таким усердием, лесовод невольно подумал: «Все-таки она заботливая».
Выгоняя пса из-под лавки, чтобы подмести и там, Параня ласково обозвала его теленком, потом сполоснула чашку, из которой лакал он, и даже вытерла ее своим фартуком. И думала: может быть, Петр Николаевич не покинет ее, хотя и переедет в щитковый дом: пригласит пол помыть, белье постирать, воды принести, постряпать чего доведется, а то и в прислуги возьмет, если Арише будет нужда в ней; а нужда в простом человеке у образованных людей всегда есть.
Ей почему-то верилось, что Ариша скоро уйдет от мужа.
Буран вытянулся, зевнул и, заурчав, сунулся носом в притвор двери. Параня хотела выпустить его на волю, но дверь отворилась сама, и Параня изумленно ахнула, — перед ней стояла молодая, в белом полушалке, девушка с чемоданом в руках. Прямо на брови лезли курчавые локоны.
Вершинин оглянулся, вскочил с кресла и с радостным криком рванулся навстречу:
— Юлька!.. Гостья долгожданная!.. Москвичка!..
Они крепко обнялись у порога.
Глава III
Брат с сестрою
Параня и сама, пожалуй, не знала, почему с первого же дня Юлька начала мешать, как лишний и даже опасный для нее человек. Конечно, не потому, что к молодой и свежей девушке старуха инстинктивно чувствует неприязнь и зависть, не потому, что она вмешивается в домашние дела и, сама заботясь о сытном обеде для брата, отстраняет Параню от печки; все делает быстро и с шумом, а старуха уже давно привыкла к тишине и домашнему покою.
И была еще другая причина: с появлением Юльки стало Паране думаться, что именно теперь и наступит в жизни ее перемена к худшему, чего смертельно боялась. Недаром же к ее теплому, уютному гнездышку, которое она устраивала много лет, не жалея сил, комсомолка питает явное пренебрежение и ненависть. Эти чувства прорываются в молчаливом Юлькином взгляде, в звонких, почти крикливых словах, сказанных будто бы с добродушной простотой и сердечностью. В каждом ее движении Паране чудится, что Юлька торопит брата уйти отсюда скорее и навсегда, чтобы никогда не вспомнить об этом.
Вечером, в день приезда, заглянула Лукерья посмотреть на московскую гостью, но не застала… Паранино горе она поняла вполне и по-дружески строго принялась утешать ее:
— Счастью не верь, голубушка, а беды не пужайся. Все будет, как скажет царица небесная. Пускай квартирант уезжает, по миру с сумой не пойдешь: своя у тебя избушка, хлебца земля уродит, а в остальные дни, пока он не уехал от тебя в щитовидный дом — не зевай. Учись у курочки: шаркай да подбирай что можно. — И Лукерья, засмеявшись, стукнула ее по сухой коленке. — Не тужи, родимушка, поскрипим еще во славу божию. На миру живем, не в пустыне.
Эта житейская мудрость окрылила сердце, и минуту спустя Параня поведала своей подружке по секрету, что было у Ариши с Вершининым, кстати вспомнила и Наталку с Ванюшкой, которые живут не венчаны, «не стыдясь людей». Потом уж обе взялись за сборщицу сучьев Палашку и Проньку Жигана, — было о чем поговорить им нынче…
Какими-то неисповедимыми путями слух быстро дошел до старух: будто бы Пронька в день своих именин проспал у Палашки до свету, а утром, когда протрезвившийся Никодим увидал парня в постели и полез на него, полусонного, с кулаками, Пронька чуть не избил его.
Полотном железной дороги брат с сестрой ушли далеко от Вьяса. Падал крупный и редкий снег, во тьме маячила одинокая будка. После шумных, громыхающих улиц Москвы, залитой по ночам электрическим светом, Юле казались эти места необыкновенно тихими, безлюдными и глухими. Петр вел сестру под руку и выспрашивал: как живет она, какие планы «сочиняет на будущее»?.. Они говорили, как близкие друзья, как родные, рано оставшиеся вдвоем после смерти родителей и нашедшие свою дорогу в жизни…
— А как у вас, милый друг, с сердцем? — улыбаясь, заглянула Юля ему в лицо. — Все спокойно?
— Не совсем… скажу тебе откровенно. — Он прижал ее руку к себе и со вздохом ответил: — Только, пожалуй, не на радость ни мне, ни ей.
— Замужняя? — спросила озабоченно сестра.
— Скажу потом.
— Она с детьми?
— Узнаешь после… Пока мне трудно говорить об этом. — И хотя огорчала такая скрытность, но Юля не стала расспрашивать.
Навстречу громыхал пассажирский поезд: три красных глаза светили во тьме, озирая прямые скользкие рельсы. Грохочущая масса ураганно пронеслась мимо, сотрясая землю и обдав обоих ветром.
Вершинин схватился за шапку, чтобы не сорвало ее. На снегу под колесами стремительно бежало розовое большое дрожащее пятно. Юля невольно повернулась в ту сторону, куда уходил поезд, и слушала, как уже вдали умолкал металлический речитатив колес.
Опять наступила тишина; падал снег и мельтешил перед глазами.
— Недавно я была на машиностроительном заводе, — заговорила Юля. — Испытывали паровоз новой серии. Это был настоящий праздник… Трибуна — на паровозе, кругом плакаты из красной материи. Тысячная толпа… И вот заиграл духовой оркестр, паровоз загудел, тронулся… аплодисменты, крики… Какую радость переживали люди, которые сделали эту машину!
И Юля повернулась лицом к брату:
— Я не выдержала… заплакала даже…
Петр сделал несколько шагов молча и потом сказал:
— Ну, слезы — это чисто женское… А как с зачетами?
— Вполне благополучно… А у тебя?
— По службе? — переспросил он.
— Да… и вообще в жизни?
— По-обычному…
— А с научной работой?.. Ты писал мне о рукописи…
Вершинин ответил не сразу и, кажется, не совсем откровенно:
— Получилось некоторое осложнение… скажу потом.
— Ты все такой же скрытный, а я думала…
— Что делать… время заставляет иногда быть таким… Вообще в жизни больше неудач и разочарований, нежели побед и радостей… Поживешь подольше — узнаешь и ты.
Стало не о чем говорить больше, и они, молча побродив с полчаса, пошли к Параниной избе, где светил тусклый, точно неживой огонь.
Юля спускалась с невысокой насыпи железнодорожного полотна, и ей казалось, что спускается в какую-то яму, наполненную холодом и тьмой.
Глава IV
Соперники
По глянцевой дороге в делянку мчал трехлеток Тибет, увлекая за собой глубокие кошевые санки с двумя седоками. Не в меру пугливый и резвый, он не доверял лесному обманчивому безмолвию и настораживал уши. Заслышав дятла, косился, перебирал ногами, а в том месте, где елка неожиданно сбросила с себя шапку снега, шарахнулся в сторону, и его сердито ругал, резко осаживал, изо всех сил натянув вожжи, Горбатов, в тоне которого звучало плохо спрятанное раздражение.
Вершинин молчал, сидя рядом с Горбатовым, и когда раскатывались санки, сильнее наклонялся влево, чтобы ненароком не толкнуть соседа. Они ехали долго, каждому было тяжело по-своему, но ни один не решался заговорить о том, что тревожило с недавних пор обоих.
Неимоверную обиду и горечь обмана чувствовал в душе Горбатов, и мог ли он теперь радоваться тому, что леспромхоз шел на подъем, что труды и заботы многих людей — и его личные усилия — не пропали даром: для рабочих выстроены два новых барака, столовая, баня; в Ольховке проложена ледяная дорога, плотовщики работают уже на новом ольховском катище; леспромхоз — первый в крае — стал вязать плоты не елками, а сучками, что дает большую экономию в расходе леса; зюздинская лесопилка, которую налаживал Горбатов, отгружает ежедневно по три вагона тесу; на курсах бригадиров учится тридцать лесорубов и коневозчиков — и через месяц они вернутся, сдав экзамены. Вчера Бережной подсчитал заготовку и вывозку, — цифры по всем шести участкам подтверждали право Раменского леспромхоза занять среди других лесопромышленных хозяйств не только своего края, но и республики почетное место.
Прошла неделя с того дня, как Горбатов воротился из дальней зюздинской поездки — а уж сколько раз чужие люди давали ему разные намеки: он нередко заставал сотрудников конторы, умолкавших при его появлении, замечал их затаенные, косые взгляды. На лесном складе девчата и женщины смотрели на него то участливо и жалливо, то с усмешкой, а Параня, найдя часок и место среди лесного склада, порассказала всего довольно, — и где тут быль, где тут небылица — не разобрать!..
— Ежели я сама всему самовидец, тому, родной, верь, — кивала она, оглядываясь по сторонам. — Для твоей же пользы хлопочу… Что она, Аришка-то, али совести нету? С дитем ведь, замужняя. Неужто с Палашки-баловницы пример берет?!
А однажды вечером, войдя в барак, когда лесорубы, теснясь над плитой, толковали о разном, он услышал, очевидно, конец разговора. Пронька Жиган крикнул кому-то в ответ:
— С жиру, от безделья почему ей в разгул не пойти?.. Святых-преподобных среди баб и раньше не видано, а теперь тем паче… Все люди из одного теста сляпаны…
Было оскорбительно и больно слышать такую молву, уже растекшуюся по поселку… Даже по ночам, просыпаясь на постели, которая стала ему жесткой и холодной, Алексей не забывал ни Пронькиных, ни Параниных слов, — они преследовали его всюду…
Его сердце, обманутое Аришей, саднит, кровоточит, душевный мир потрясен, разрушен, и нечем восстановить его… Как тут быть? Что делать? Как относиться к жене, которая в семье стала ему чужою?.. Быть может, он и сам виноват в чем-то?.. Да, виноват в том, что мало интересовался, чем жила она. Предоставленная самой себе в дни частых и долгих его разъездов, она не сберегла себя, оказавшись слабовольной, — и ее жестоко обманули… На минуту становилось жаль ее, хотелось выручить семью из беды, как-то помочь и Арише исправить ее ошибку… А ошибка ли это?.. Нет!.. Скорее всего беда получилась потому, что Арина, избалованная свободой, которой пользовалась неразборчиво и своевольно, пошла по избитой, самой легкой тропе… А может, не любя мужа, она полюбила Вершинина?.. Стало быть, рушится семья?.. Да полно, — любовь ли это? Кто такой Вершинин, чтобы из-за него пожертвовать семьей?.. Но ведь с любовью, если она сильна, бороться трудно. Может, Ариша страдает сама больше всех?.. Нет и нет!..
«Нечего тут выискивать особых тонкостей, когда и без того все ясно!» — Он спорил сам с собой, доказывал, все больше воспламеняясь горючей ненавистью к жене и к тому — другому, что сидел в санях рядом.
Смертельная отрава текла волнами по жилам, окутывая тьмою его мысли:
«К чему оправдывать то, чего оправдать нельзя?.. Ей двадцать шесть лет, ведь она знала, что последует за этим… Ну, как мне дальше жить, работать, если всякий теперь может ткнуть пальцем и крикнуть при всех: „Чего нас учишь?! Чего требуешь?.. Ты сперва жену поучи да в семье своей наведи порядок…“»
В самом деле: какое тут безволие с ее стороны? Наоборот, не безволие, а собственная воля: Арина пришла к нему сама?.. «Ведь ее не тащили насильно… Пришла ночью, бросив дочь на чужие руки, пришла в чужую избу, не стыдясь посторонних глаз, не боясь людской молвы, пренебрегая моей честью!.. Пришла к
нему в тот поздний вечер, когда пурга заносила меня снегом… А что, если бы я не вернулся живым?.. Наверно, не только плакать обо мне не стала бы, а даже обрадовалась бы такому исходу! Мол, слава богу, развязал руки!.. Теперь я совершенно свободна…»
Горбатов и сейчас видел ее перед собой — такою же, какой была нынче утром дома: немного бледная, она сидела на кровати, положив ногу на ногу в белых чесанках. Взгляд — грустный, пугливый, затаенный и ждущий — был устремлен мимо шитья в пространство; казалось, она готова заплакать… И опять становилось жаль ее, особенно жаль Катю, которая, не подозревая ничего, играла утром в куклы…
Ретиво бежал Тибет, мелькали сосны по сторонам дороги. Молчание длилось. Первый заговорил Вершинин:
— В лесу, в сугробах, умирает артель, и мы с вами, Алексей Иваныч, заняты похоронами, — раздумчиво обронил он.
— Ну и что же? — спросил Горбатов, ухватившись за это. — Вы жалеете, что ли?
— Нет, не жалею. То, что старо, что отжило свои исторические сроки, не годится для нашего времени. Я спокойно встречаю молодое и без жалости и стеснений провожаю уходящую старину… Нам нужна бригада и механизация.
— А чужих жен… — рванулся к нему Горбатов, выпалив прямо в упор, — чужих жен вы тоже спокойно провожаете после свиданий?
Лесовод побледнел, откинув назад голову, и в тревожном ожидании слышал беспокойное биение своего сердца. Опять легло молчание, глубокое и темное, как овраг.
— Вы знаете всё? — спросил Вершинин, явно нервничая, но стараясь держаться спокойно.
— Знаю, только не все. А мне нужно знать все. У меня есть это право… Так вот: вы можете быть откровенным?
— Пожалуйста.
— С женой я не говорил еще, сперва — с вами… Вы… — Нужное слово выговорилось с трудом: — Вы любите ее?.. Или только так, мимоходом?.. (Вершинин молчал.) Что? Неужели нечего сказать? Или стыдно сказать правду?.. Когда мужчина любит искренне и глубоко и у него честные намерения, он отмалчиваться не будет: он знает, что его поймут. Большую любовь люди не осудят… Ну, говорите же прямо, всю правду, какая есть. Молчите? Тогда я кое-что скажу… Да, человек она во многом наивный, неопытный, слабовольный. Вы поняли это, учли — и вот… захотели себя потешить. — Горбатов повысил голос: — Вы же должны знать, что делаете! За последствия-то надо отвечать! Зачем вы ломаете чужую семью? Неужели — от скуки? из баловства? соблазнила легкость добычи?
— Любовь и семья — не вечная цепь, а свободный выбор. Каждый человек имеет право не связывать себя навек… У вас отсталые взгляды в этом вопросе.
— Во-он что!.. Где это вычитали вы, — может, из Мальтуса?.. Где речь идет о прочности, о здоровье семьи, о семье нормальной, там ваши взгляды — плесень. Прочная семья — это норма, а не отсталость.
— Нормы и право в человеческом обществе…
— Подождите, — остановил его Горбатов. — Не пускайтесь в свою философию и не кормите меня мякиной… Мякина эта легковесна, летит по ветру и засоряет глаза… Тут ей не место.
— Казалось бы, — не уступал лесовод, — что и ревности здесь не место. Вы человек высокого сознания, член партии и потому… должны бы учесть реальный факт, а вы — злитесь, мечетесь, кричите… и, наверное, будете мстить, заставите меня уйти отсюда?
— И ее увезете с собой?
— Не знаю… Там будет видно.
— Да вы… не любите ее! — гневно и запальчиво произнес Горбатов. — Вы должны отойти в сторону, оставить мою семью в покое: у нас есть дочь… А уж уезжать вам отсюда или нет — это ваше дело… Теперь мне совершенно ясно: вам от нее было нужно только одно…
Вершинин ждал оскорбительного слова, но не услышал его: Горбатов умолк, очевидно спохватившись вовремя… Так они сидели рядом, и когда Горбатов дергал вожжой, лесовод боком чуял нервно двигающийся его локоть.
Прошло несколько долгих, тягостных минут. Свежий бор тонул в тишине, и только изредка в вершинах сосен посвистывал ветер. По сторонам дороги поднимался частокол деревьев. Вдруг Тибет, сорвавшись с иноходи, метнулся с дороги и вырвал вожжи из рук. Несколько сажен они волочились под санями, Горбатов не скоро поймал их. Отогнув воротник бурого чапана, он оглядывался по сторонам, отыскивая, что испугало гнедого… Поодаль от дороги, на небольшой поляне, разветвилась кряжистая, с густою кроной сосна. В ее зелено-матовой хвое царапалось что-то и ожесточенно пищало. Горбатов нащупал глазами серые прыгающие комки в ветках. Услышав повторившиеся необычайные звуки, Тибет рванул сани и понес, стреляя в седоков жесткими комьями снега из-под копыт.
— Видал? — нетвердо спросил Вершинин, когда Тибет успокоился и снова перешел на иноходь. — Белки дрались… дрались за место на сучке… или из-за сосновой шишки, а может…
— Что же не договариваете? Ну, смелее… Из-за самки? Так что ли?..
— Да.
— И что вы хотите этим сказать?
— Хочу сказать, что я… меня мучает то, что произошло между нами, но я удовлетворен одним обстоятельством: сегодня в мою систему вошел еще один человек, как новый экземпляр рыбы в аквариум.
— О, теперь на вас снизошла откровенность… Кто
он?
— Вы. — И Вершинин, помолчав, досказал: — Вы — белка, как и все, а не исключение…
— Носитесь вы с своей «теорией», как с писаной торбой, и то и дело заглядываете — кстати и не кстати: не прибавилось ли в этой котомке? У вас в голове одни сплошные схемы. Хаос!.. Мрак… Вы болеете им!.. Полечитесь.
— А вы не мстите.
— Я не мщу, а говорю о жизни. И мстить не собираюсь. Не м
ести учит меня партия. — Горбатов отвернулся от лесовода, чтобы на этом и кончить разговор.
Черная большая птица перелетела над дорогой впереди них, крылья свистели от напряжения, и скоро канула в лесную тишину. Устало бежал Тибет, отфыркиваясь, прядая трепетно ушами. Вдали, слева от дороги, стучали топоры лесорубов и раздавалось короткое, отрывистое эхо…
Глава V
Пронькин проигрыш
В делянке красным огнем горело смолье. Стаивал снег, и серое кольцо лежало вокруг костра. Еловые неприбранные сучья виднелись зелеными пятнами. Расположившись на бревнах, лесорубы спорили… Горбатов открыл собрание, давая полную свободу высказаться каждому. Вершинин стоял у костра, слушая и наблюдая. Пронька молча набивал цигарку, придерживая топор между колен.
Первым выступил Сажин:
— Все это гоже… я так и знал. А только с этим… как его… с переходом на бригадное положение не насидимся ли без хлеба?
Коробов Семен быстро соскочил с бревен:
— Как это так? Да неужели я или другой кто в бригаде меньше заработает, нежели в артели? Не может этого быть. Ты, Платон, не расстраивайся. А касательно насчет работы — работа будет. Теперь у нас браку много, ассортимент даем не такой, какой требуется, и все — вразброд, кому как вздумается, а в бригаде все по линейке пойдет… Вы с Пронькой второй день одни бревна режете. Бревно кривое — на тюльку резать надо… Да еще хвалитесь, что у вас задание — на сто, а по-моему, это сплошной брак. В бригаде этого не допустим. После курсов голова у нас посветлее стала — видим, как дело вести надо, и потому старую артель — дубинушку — к шаху. По-новому надо работать и жить по-новому.
Сразу в несколько голосов загудело собрание, но не трудно было понять, кто какое отстаивал мнение.
— Рано в бригаду-то, — опять пробасил Платон, — не дорос человек до социализмы этой. Рано! Пущай молодежь попробует, а мы поглядим, полюбуемся.
Низенький Пронька замигал белыми ресницами и покосился на Платона. Он не мог удержаться от едкого словца даже в такой решительный момент, но сказал добродушно, как бы щадя Платоново самолюбие:
— Ты, верно, не дорос, Платон, и большое нас берет сомнение — дорастешь ли когда. С таким «билетом», как у тебя, в социализм не пускает контрольная, у двери с метлой комиссия. Жди пригласительного билета.
Покатился дружный смех, заглушая кроткое протестующее мычание Платона. Все же Платон понял, что Пронька шутит и что это нисколько не мешает им вести общую линию, о которой был уговор в землянке у Никодима…
Пронька продолжал:
— Ну, давайте так решать… Коробов говорит, что браку много, что лес портим, режем на бревна. Ладно… А по моему мнению, браку нет: рабочему классу бревна нужны? Нужны… Везде стройка идет — пятилетка в четыре года. И как же ей нейти, коли социализму дверь открыли? Столовую, два барака, баню сгрохали, и еще бараки строятся — бревен только давай. Одному Автострою пригони тыщу вагонов — все возьмет!
— Да чудак ты, — принялся убеждать его Горбатов. — Бревно кривое и сучковатое идет как третий сорт, а шпала из такого же бревна идет первым и вторым сортом. Они леспромхозу выгоднее. А потом, мы не можем заготовлять одни строевые бревна, и шпала нужна, и тюлька нужна, и рудстройка. У нас задание, а вы душите одними бревнами. Так нельзя.
Сажин хитро прищурился и, чуточку помедлив, пока затихнут, сказал:
— И нас, и всех городских рабочих домами надо ублаготворить, потому по самому и пилим больше бревна, а не тюльку.
— Верно, — поддержал его безусый юнец Микишка — сын Самоквасова.
Сорокин протянул вперед руку, будто поймать хотел завравшегося Сажина:
— А что допрежь говорил?.. Ты говорил, что резать тюльку тебе невыгодно, что на целом бревне заработаешь больше… не так, скажешь, а?.. А теперь — за рабочих?
Уличенный во лжи, Платон рассердился и встал во весь свой огромный рост.
— Не треплись, Сорока, хвость прищемишь, — ответил он Пронькиными словами. — Знамо дело, невыгодно. На лошадь работаю. Она стоит пятьсот целковых, как одна копеечка.
Слово попросил белобровый Пронька. Его голос зазвучал предупреждающе и властно:
— Дело не только в этом. Надо, братцы, вот что понять: в артели мы на свободе, а в бригаде как раз хомут наденут… Бригадир — он заставит всех под своим началом ходить. Ему скажешь: «Устал», а он тебе: «Пили и всю силу свою выкладывай»… Руководить — надо талант иметь и к тому же совесть. А Коробов Семен — человек без понятия.
— В бутылку загонит, — подхватил Платон.
Гринька Дроздов вскочил как ужаленный:
— Молчи, подпевало!
— Не затыкай глотку, заноза!
— В бригаду!
— По-старому! — раздался капризный, осипший Палашкин голос. — Нас большинство. Прокофия бригадиром: он всех умнее.
Кругом засмеялись:
— Ай да Палагея Никодимишна! Подмахнула, да мимо. Вот умница-то!
Шейкин молча сидел на бревне и, разматывая кисет с махоркой, держал папиросную бумажку губами, не обнаруживая никакого желания вступать в спор. И только расплылось в улыбке его плоское лицо, когда Палашка ввязалась так некстати. Лесовод украдкой наблюдал за ним с острым любопытством. Предоставляя ему слово, Вершинин определенно хитрил.
— Я всяко думал, и так и эдак, — сказал Шейкин рассудительно. — А теперь скажу окончательно: пора в бригаду и нам… Тем больше, что в Красном Бору и в Кудёме бригады уже работают, и недовольства нет. А бригадиром, кроме Семена Коробова, выбирать некого. Я кончил. А Платон и Пронька должны понять и от народа не откалываться.
«Так… Теперь ты мне больше не нужен», — подумал о нем Вершинин.
Пронька не ждал этого от Шейкина — пригнулся даже, точно над головой у него пролетел камень, потом беспокойно завозился на месте и, глядя на Шейкина так, что оставались одни узенькие темные щелки, сказал с видимым примирением:
— В таком случае — мое дело сторона… Я работать всяко сумею. В хвосте у прочих плестись не буду.
— А что касается меня, — начал Коробов, поняв нечистую игру Проньки, — я в бригадиры не лезу. Должность эта новая, большая. Глядите, гражданы: может, есть получше меня. Будет другой кто — конфуза мне нет, а ежели меня выберете, почет приму с благодарностью.
Поглядели, поискали, но лучшего не оказалось — и Коробов Семен стал бригадиром… А ведь Сажин Платон по деревне сосед ему, здесь в одном бараке живут, делали до сих пор одно общее дело, — а вот для себя незаметно Платон пошел против… Уж не дружба ли с Пронькой виной тому?.. А кто этот Пронька? Пришлый, чужой человек, совсем незнакомый; от своих деревенских отшиб Платона, как овцу от стада, в беде Ванюшки Сорокина соучастником сделал. И Платон впервые почувствовал свою отрешенность, свою вину перед Коробовым, и еще больнее стало, когда Горбатов по-приятельски улыбнулся Семену.
— Алексей Иваныч! — вдруг взмолился Платон. — И я в бригаду. Одному оставаться не резон мне.
Пронька что-то писал на снегу пальцем и, не глядя на людей, сквозь зубы цедил:
— Сажин может распоряжаться собой по своему образу и подобию, как создал его господь бог в прошлое столетие… Никто ему рук не связал, напрасно он тут разоряется. Все равно в бригаде пилить не будет, отступится: кто ж его не знает?! Только и норовит, где выгоднее… Накопил, наверно, с тыщу рублев да в деревню послал, а все мало…
— Пошел к черту! — рванулся с места Платон. — Аглицкий петух! Ты драку любишь, а я — работать хочу… У меня семья, дети, двор без столбов и плетень в проулке… Десятку-две пошлешь туда — как в прорву!.. Все купи, все достань, сам припаси себе жранину… Уж сколь годов топором в делянке машу, а до сей поры беднее меня во всем Омутнинском полесье нету. Вот и пили где хошь — в бригаде али в артели… Карты, как ни верти, — одни шестерки попадают!
— А ты под туза сними, — ехидно посоветовал Пронька.
— Хорошо тебе «снимать», ежели ты картежник отчаянный, а я — не игрок сроду… О лошади думаю, плант в голове держу, а все топчусь на одном месте. А ты — один, от моей нужды в стороне стоишь, тебе издал
я и не разглядеть ее. А кабы знал, тоже сказал бы, что беднее никого нету. А ты — про карты…
За всю зиму случилось впервые, что так длинно и горячо ораторствовал Платон, испуганный и в чем-то уличенный, совсем не замечая, как Жиган, сидя на бревнах и кутаясь в дыму папиросы, посматривал на него издали прищуренными, догадавшимися глазами…
— Тузы, они заместо счастья, — с заминкой на этот, раз прибавил Пронька. — Один туз хорошо, а два еще лучше. А уж если четыре, то все желания непременно сбудутся…
Однако было ему не до шуток: у самого-то вываливался из рук последний козырь: Платон от него уходил, оставались с ним только Палашка да безусый пустой Самоквасов Микишка, не имевший в артели своего голоса. Пронькина карта оказалась битой: проиграл все — и артель, и чин бригадира… Горбатов знает только Сорокина да Семку Коробова, а другие таланты не ценит… Ну что ж, придется пока в бригаде пилить, покориться Коробову на первое время, а там… идти своей дорогой. Ведь Пронька во много раз умнее Коробова, вдвое моложе, расторопнее впятеро, и поэтому под началом у Семки никогда не будет, разве только для виду, и то на первое время…
«Ладно, придет срок — за обиду сквитаемся… И этот тоже, ученый спец, беспартийная размазня: болтать болтал у себя дома, а здесь не поддержал. Боится, что ли? Когда-нибудь с ним еще встретимся. А Платону „тузы“ припомню…» — Так думал Пронька, когда, положив на плечо топор, уходил из делянки — одинокий, озлобленный, неусмиренный, с большими, пока неясными планами в голове…
Спускались сумерки. В лесу было поразительно тихо. Лесорубы шли по дороге молча, а впереди них мчался Тибет, унося глубокие санки.
— А Жиган — вредный, опасный тип, — сказал Горбатов Вершинину. — Надо поговорить с ним с глазу на глаз и перевести в другую бригаду… к Рогожину… тот построже.
После продолжительной паузы лесовод таинственно припал к уху секретаря:
— Сегодня передаю в твои руки Спиридона Шейкина, — прошептал он с некоторой торжественностью. — Он — бывший купец, лесопромышленник.
— Ты знал разве?
— Недавно услыхал, — увернулся Вершинин. — Так, стороной слышал… и решил вам сказать, чтобы приняли необходимые меры.
— Он приходил ко мне… признался сам, и меры уже приняты: оставлен на той же работе.
Лесовод недовольно замолчал, поджав тонкие губы.
Глава VI
Клятва русскому лесу
Ефрем Герасимыч Сотин кончал Лесной институт уже женатым человеком. Из-за небольшой стипендии приходилось перебиваться уроками — удел большинства студентов. Однако обстоятельства сложились так: девятнадцатилетняя девушка, дочь паровозного машиниста, которую он готовил, стала потом его женой.
Сотин поселился у тестя; в семье был добрый мир, и Сотин последний год перед окончанием института прожил не в пример спокойнее, чем в пору беззаботного своего холостячества. Его уважали и любили, а Елена, так звали жену, готова была кормить из своих рук, как маленького. И так бы оно, пожалуй, и было, если бы тесть не подтрунивал над молодыми супругами… Он же и доставил своего «зятюшку» от Москвы до Нижнего Новгорода, когда тому наступил срок ехать на практику в Омутнинские леса.
Пассажирский поезд подошел к станции утром, когда весеннее солнце — молодое, радостное — неистощимым потоком света поливало землю, одетую первой зеленью. Ефрем Герасимыч, выйдя из классного вагона, пошел к машинисту еще раз проститься и поговорить напоследок. Тот спустился к нему с высокой паровозной лесенки и, обтирая мазутные руки пучком пакли, осведомился шутливо:
— Ну, как? Жалоб на машиниста нет, товарищ пассажир?
— Спасибо, отец… всё в порядке — ни аварии, ни запоздания. Может, довезешь до Омутной?
— С удовольствием бы, да паровоз мой туда не ходит: там другая дорога…
В Медо-Яровку Сотин приехал вскоре после троицы. Тихое сельцо, маленькая контора в деревенской избе, обилие хвойных лесов, подходивших вплотную к ус
адам, — все пришлось ему по душе.
Четыре месяца практики пролетели незаметно, — он успел написать жене всего-навсего два письма: в первом длинно и восторженно расписывал своей приезд и начало работы, а во втором кратко сообщал о скором возвращении. Время летело. Каждый день был забит до отказа работой. Вечера, пропитанные теплой смолой, пряным запахом трав, цветов и можжевельника, заставали его в лесу.
Избирая себе специальность лесовода отнюдь не по внезапно возникшему влечению, он здесь убедился окончательно, что нашел свою родную стихию, нашел самого себя, с величайшим удовлетворением осознав, что встал на свою дорогу. Эти нехоженые Омутнинские леса были для него частицей родины, которой он начинал служить, неся перед ней определенную ответственность, и не было никакого желания сидеть в московской лесной конторе, как называл он трест.
В город вернулся поздоровевшим, загорелым, необыкновенно подвижным и точно наэлектризованным. В анфиладах лесного треста ему стало душно. От этой духоты, пестрого многолюдья, бесконечного потока бумаг, от несмолкаемого даже по ночам грохота городского движения его потянуло опять в лес… А тут, по счастью, Медо-Яровка известила его о вакансии, жена согласилась ехать, — таким образом, ничто не привязывало к городу, и Сотин, наскоро собрав пожитки, укатил с семьей в знакомые места.
Прощаясь на вокзале с товарищами по институту, он не испытывал горечи расставания, не пожалел и свою комнатушку, которую называл в шутку полустанком, где не задерживаются дальнего следования поезда. На подножке вагона он стоял, махая кепкой, подставив лицо упругому ветру, и еще раз мысленно произнес клятву на верность русскому лесу, с которым начиналась дружба навек…
В леспромхозе оказались всё те же люди, те же дела: старенький директор некоторые из его начинаний еще не успел довести до конца. В отчетах и сметах стояли знакомые цифры, выведенные самим Сотиным месяц тому назад, — словно он вернулся из кратковременной командировки. Старик встретил своего молодого знакомца радушно, как сына, и с первого же дня дал ему полную волю. Кстати сказать, старина собирался уйти на пенсию.
Ефрем Герасимыч как бы продолжал свое дело… До него не велось углежжения, он подыскал людей, этой же осенью выстроил с десяток зименок для углежогов, и когда зима окутала землю снежком — в лесу задымились знойки… Помня о том, что лес — драгоценная кладовая, что надо выращивать леса, а потом осмотрительно рубить, он этой же весной заложил питомник на тридцати гектарах, летом гнал из сосен живицу, собирал ее разными способами, используя опыт французов и американцев. Медо-Яровка стала в этом отношении опытной.
Сотин знал лично многих работников соседних леспромхозов, иногда заезжал во Вьяс, а на последнюю краевую конференцию ездил вместе с Горбатовым и Вершининым. Медо-Яровкой управлял он два года.
Родилась дочь. Маленькая тиранка привязала накрепко свою мать к дому. Сотин с утра до вечера пропадал на работе, а жена ходила на досуге в лес и каждый раз приносила оттуда или полную корзину грибов, или ведёрце ягод. Ролью матери и хозяйки она удовлетворялась вполне.
Так и жили.
Вскоре медо-яровский лесхоз слился с Вьясом, и Сотин получил новое назначение — в главную контору.
Вьяс не имел ни ледянок, ни лежневых, древесину возили по обыкновенным дорогам, и, чтобы осилить план, держали огромный обоз. Такая вывозка вставала в копеечку. Решили строить… У Сотина и Вершинина этого уменья не было, и Бережнов послал их в Верхокамье.
Целый месяц эти ходоки, соглядатаи и портфельные люди ночевали в сеннице, ели из одной чашки, ходили по лежневой и честно уворовывали опыт верхокамских строителей. А после засели за чертежи.
Бережнов собрал плотников, землекопов, пильщиков, пешим дал на подмогу конных людей и услал свое воинство в лесную трущобу. Неподалеку от Вьяса отряды раскинулись табором, для трассы валили под корень лес, с каждым днем пробиваясь все глубже и дальше.
Сотин в высоких, легко промокаемых сапогах лазил по болотам, кочкарникам, таскал за собой нивелир-треногу, а Вершинин вымерял кубометры насыпей, выемок и через быструю речку Яр тянул стосаженный мост. Закончив его, Вершинин уехал с сестрой в Крым, а Сотину в помощь прибыл Горбатов, занявший потом вершининский топчан в палатке.
В специально сделанных ямках горели костры, на козлах кипятили чай, варили обед и ужин и тут же, около палаток, точили лопаты и топоры…
В тот день, когда костры погасли, по лежневой дороге впервые прошли подводы, нагруженные лесом. В конские гривы вплели комсомольцы на радостях красные ленточки, нарезанные Наталкой, а вечером в бараке торжественно восседал президиум за красным столом, присуждая премии лучшим. В их числе Сотин был, кажется, самым первым и самым чтимым. Тут и дали ему огромные, но уже непромокаемые и неизносимые сапоги. Пропитанные дегтем, на толстой — в палец — подошве, скорее похожей на броню, они и теперь, полгода спустя, внушали уважение.
…В них-то нынче, не боясь мороза, и пришел он к директору на квартиру.
Бережнов встретил его радушно, похлопал по плечу и спросил:
— Приказ мой читал?
— Нет еще. Какой?
— Завтра почитаешь. Тебе за ставеж и сучочки еловые — премия.
Смущенный и немного застыдившийся, Сотин начал было разуверять Авдея: во-первых, сама премия кажется ему излишней щедростью, тем более что он и первую еще не успел износить (в подтверждение слов он выставил в огромном сапоге ногу, — Бережнов громко расхохотался); во-вторых, неудобно забывать и Петра Николаевича, который за время их отлучки сделал тоже многое.
Бережнов при упоминании о Вершинине отмахнулся с досадой:
— Я приказы не даю зря.
Он в это время на корточках сидел у подтопка и мешал кочергой догорающие уголья. Коротко подстриженные волосы, с ранней сединой на висках, светились розово.
— В щитковый пора тебе… Перебирайся. Все уже готово.
— А Вершинин?
— Скоро и его устрою, и Горбатова… — Он прикрыл печку и, сидя на поленце, курил. — Между прочим… твоя эстакадка Петру Николаевичу не нравится.
— Почему?.. Что — на клетки поставил?
— Нет. Говорят: она выше обода колеса, у телег могут прогибаться оси, когда будут наваливать бревна.
— Выше? — изумился Сотин. — Так я же не по своему чертежу строил… Чертеж он сам делал. Однако… хм… какой он… странный человек. — Вершинин возмутил его. — Я скажу ему, обязательно скажу. Он прибегает к нечистым средствам. Ведь такая нелепость… Уж этого я никак не ожидал от него. — Он говорил взволнованно, недоумевая, почему Вершинин позволил себе сделать такой явно нечестный и опрометчивый наскок.
«Стало быть, забыл, что ли? Забыть, конечно, не трудно: прошло с тех пор уже пять месяцев. Но я же помню, а почему он?» И сказал вслух, продолжая думать:
— Черт с ним, пускай! Может, одумается.
— Едва ли, — качнул головой Бережнов. — Но для нас другое в нем важно… куда он наконец придет?.. Он на большом распутьи.
Сотин долго молчал:
— Не знаю… гадать трудно. А вы как, Авдей Степаныч?
Бережнов уклонился от ответа, не считая нужным высказывать своих преждевременных опасений, тем более что они были только предчувствиями.
— Да-а, прискорбно… Хотелось бы, чтоб обстояло дело по-другому, — только и сказал он, прикрывая дверку печи. — Видишь вот, сам топлю. Прихожу с занятий и — за дровами. Хозяйка вон немного дрейфит, заболела… Ну, а печка не обременяет меня. Люблю огонек. Бывало, у табуна всё костры жег… Привычка… Сижу вот и мечтаю… о тракторах. Думаю — дадут. А на примете у меня есть такие. В Сурени без дела стоят… Если пошлю — съездишь за ними?
У Сотина была слабость — не сидеть на месте, и Бережнов иногда злоупотреблял ею. Ведь Сотин только что приехал, можно послать другого: Вершинина, например, пускай проветрится.
— Он тяжеловат для этого, — ответил Авдей, — да я и не особенно надеюсь на него. Ты сделаешь лучше и скорее… А отдохнуть еще успеешь: ехать придется тебе, когда вернусь из города.
На следующий день рано утром Сотин вошел в свою новую квартиру и принялся мести пол густым еловым веником. Потом затопил печку.
Будто улыбаясь чистоте и простору новых комнат, солнце глядело прямо в окна, заливая потоками света свежие, как вощина, бревенчатые стены, покрашенные полы и выбеленный подтопок. Медная отдушина на подтопке блестела, словно кто начистил ее ради праздника. Пустыми комнатами расхаживал Ефрем Герасимыч, любуясь всем, что переходило отныне в его собственное владение. Даже обе форточки распахнул он на несколько минут, чтобы еще свежей, еще ароматней стало в этих сосновых хоромах, как мысленно назвал он новую квартиру.
К крыльцу приближалась по дороге подвода с его домашними вещами, и рядом с возом, держа вожжи в обеих руках, степенно шел Якуб: он помогал людям переселиться. Пока Якуб развязывал веревки, которыми увязан воз, Елена — жена Сотина — с закутанной в голубое одеяло девочкой подошла к окну, постучала в наличник и крикнула шутливо:
— Эй, хозяин! Встречай гостей…
Выбежав на крыльцо, Ефрем Герасимыч принял у нее с рук десятимесячную дочку с соской во рту и, ликуя душой, понес в дом… Так начиналось новоселье…
Глава VII
На суде
В полдень был суд над Староверовым и старшим ольховским конюхом… В здании клуба собралось более ста человек — лесорубы, коневозчики, сотрудники главной конторы. Свидетели, приехавшие из Ольховки, — их было шестеро — сидели особо и, глядя то на хмурого черноусого молодого судью, то на бледного, ссутулившегося своего сослуживца Староверова, молча переглядывались. Когда судья приступил к допросу, вошел Вершинин с сестрой.
Старший конюх сидел на передней скамье, рядом со своим соучастником, без надобности вертел в руках шапку, нервно оглядывался, косил глазом на дверь, с нескрываемой боязнью поджидая кого-то. В дверях появился Сотин. Конюх наклонился к уху Староверова и что-то шепнул. Тот еще более сжался и, облокотившись на колена, опустил голову. Неподалеку стоял Самоквасов, беспрерывно царапая в рыжей своей бороде и шумно вздыхая.
Бригада Семена Коробова теснилась в углу, держала себя свободно, как на спектакле. Гринька Дроздов улыбался даже, а Платон Сажин, выше всех на целую голову, прислонился спиной к стене и, подняв кверху лицо, пускал облака махорочного дыма прямо в потолок.
Усталый, флегматичный Староверов сбивчиво давал объяснения. Он жаловался, что людей было у него в подчинении много — и не слушались, а за всеми не углядишь; что с большим делом не мог он справиться, что детишек у него «скопилась целая дюжина» и что сено разворовали другие, а он не углядел, — и что сам он не может понять, как случилась такая «проруха». Глядя себе под ноги, он просил суд вникнуть в дело и пожалеть его хоть ради детей.
Вершинин с неослабевающим вниманием слушал его корявую речь и силился определить, что происходит сейчас в душе этих обоих воров. Он разглядел в выражении осунувшихся, пожелтевших лиц мстительную злобу, которая не смела выскочить наружу…
«Волки в клетке, — подумал Вершинин. — А выпустишь на волю — уйдут в лес, и страшно будет с ними встретиться… Сотин попал им в лапы… Счастливец, что вырвался».
Он кивком головы указал Сотину на старшего конюха и тихонько молвил:
— Скажи. Прибавь им.
— Ты бы, наверно, «прибавил», — так же тихо, но холодно ответил тот. — Если нужно тебе, так скажи, а я не буду. — И Сотин быстро вышел из клуба.
Петр Николаевич нагнал его на крыльце.
— Зайдем ко мне, — предложил Вершинин, наружно спокойный. — Ты перед Ольховкой обещал меня без туры обыграть. — Он заставил себя улыбнуться. — Если хочешь, идем… поговорим. Ты у меня уже давно не был.
Раньше схватывались они в шахматы частенько, играли подолгу, с азартом заядлых любителей. Сотина сбивали с толку удивительные маневры и какие-то всё новые и новые методы партнера. Свои поражения он переносил терпеливо, зато, когда удавалось ему припереть Вершинина к стене, уж не давал пощады: шутливо издевался над ним, называл плохим игрочишкой и советовал немножко подучиться у кого-нибудь.
Сегодня он не поддался прежнему искушению.
— Нет настроения. Пойду домой, — сказал Сотин.
— Я замечаю, ты сердишься?
— Да, сержусь… на себя. Эстакаду сделал не так… Досадно, что по плохому чертежу строил. На другой раз сам чертить буду: друзьям доверяться не следует… и в дружбу, видно, тоже верить нельзя.
От крыльца они разошлись по разным дорогам: один — к щитковому дому, другой — к Параниной избе. Вершинин с жестоким равнодушием к себе подумал: «Вот и дружба… надвое… как под топором полено».
Из клуба валил народ, громко переговариваясь; одни ругали ольховских воров, другие жалели их и всяко поносили суд, ошарашенные его решением. Расходились не торопясь, останавливаясь и поджидая своих. Пронька Жиган и Самоквасов вышли почти последними.
— Видал, как кроют? — спросил Жиган. — И детишек в расчет не берут. Понял?
— Да-а, припаяли зд
орово… Почему бы не дать года три условно? Ведь не убили кого, ни что… Эх, человеки-люди, секретари-товарищи! — Самоквасов тряс густой бородой, осуждая и негодуя. — Жалости у людей нету… Нету жалости.
— Политика, брат… У них какая жалость? Ты вон просил у Якуба хорошую лошадь, а тебе — шиш. Хуже Динки на всем свете не сыщешь… Я бы такую, хоть убей, не взял, а ты присмирел… теленок. Как раз, пожалуй, они и на веревочку тебя привяжут.
Самоквасов не замечал подзадоривающего тона. Казалось ему, что Пронька совершенно прав. И Горбатов, и директор, и Якуб — все начальники, кого ни возьми, — будто сговорились против Самоквасова: они к нему несправедливы и не только не хотят помочь в беде, а нарочно травят, затирают. Будто обрадовались все, что над ним насмеялась судьба. Некоторые коневозчики действительно работали на крепких лошадях, зашибали деньгу, а ему дал Якуб старую, слабосильную Динку.
— Не стану на ней возить… пес с ними! — запальчиво вскрикивал он, взбудораженный Пронькой. — Пусть другую дадут!.. Теребить буду, не отступлюсь.
Самоквасов не слышал, что Якуб, заведующий конным обозом, зовет издали, стараясь нагнать.
— Тише ори, — удерживал его Пронька. — Не видишь, твой начальник идет.
Якуб не успел еще подойти, как Самоквасов набросился на него:
— Какого беса ты меня прижимаешь? Смени Динку-то… Другие огребают почем зря, а я — самый пустяк. За что на меня взъелся?..
Низенький, узкоплечий, с веснушками на лице, Якуб остановился и остро взглянул на Самоквасова:
— Я тебя спрошу, а ты ответь: почему Динку бьешь? У прежнего коневозчика она безотказно возила, тот умел с ней… никогда, бывало, зря не тронет… А ты почему?
— Бадр
о, а не лошадь… не ходит… То и дело кнута просит. Неужто не стегнуть ни разу, ежели она с норовом?..
— Не ври, я знаю ее — она строптивая, кнута боится. Гляди у меня! — погрозил Якуб. — Услышу, что опять бьешь, отберу и эту.
Самоквасов удивленно таращил глаза:
— Это как то есть? Лошадь — и вдруг «не бей». Ты в уме, что ли? Давай Тибета — не трону…
— Научись сперва за Динкой ухаживать, а там… увидим. — И Якуб засмеялся: — Тебе не на конях, а на волах ездить.
Когда Якуб повернул к щитковому дому (он сегодня перебрался тоже на новую квартиру), Жиган нешибко толкнул Самоквасова в бок:
— Получил?.. То-то. Они смирных любят, а не таких, как мы. Людей они хлыщут почем зря — с уха на ухо, а лошадей — скотину — берегут…
— Жалости у чертей нету. Ну погоди!.. Я им тоже кориться не буду.
— А покоришься — замучают. Съедят целиком, как пряник. Нам с тобой надо идти напрямик, наперекор насилию, но осторожно, чтобы не подкопались. Если у тебя разум да смелость есть, должон понять… Так ли я говорю? Краем оврага пройти — и не оступиться.
— Еще бы, — согласился Самоквасов. — Тут дело ясное: свое взять и шкурой не поплатиться.
Пронька позвал его к Палашке попить чайку. Никодим нынче поутру ушел в деревню Вариху, Палашка дома — одна. Самоквасов не отказался.
Глава VIII
С открытым сердцем
Наталкина хата опустела. Кровать уже увезли, стулья тоже. На том месте, где стоял комод, Наталка поставила свой сундучок, маленький, деревянный, без баляс и запора. На лавке стояла немудрящая посуда, на вешалке висело только Ванюшкино короткое пальтецо, зеленый шлем да ее шуба. Короба с куклами тоже не видно: Катя забрала свое, уезжая с первым возом.
Если бы не Ванюшка — он был эти дни с Наталкой особенно ласков, — Наталка, наверное, плакала бы: жаль было расставаться с людьми, к которым так привыкла.
В избе было сумеречно, тихо, Наталка сидела в белой кофточке на лавке, положив на колени руки. Оглядевшись кругом, как лучше расставить то, чем они владели, поднялась и подошла к кровати:
— Давай, Ванюшенька, передвинем ее… на Катино место. Тут лучше.
— Как хочешь. Давай.
Они долго возились с огромной деревянной кроватью, которую называли в шутку рыдваном, сняли старую занавеску, гвозди вколотили в другие потолочины, и Наталка, привязав к ним веревочку, закрыла кровать новой занавеской, потом взбила матрац, поправила одеяло, села к подушке ближе и, улыбнувшись, поманила Ванюшку к себе:
— Иди… синеглазый.
И когда он улегся к ней на колени, она опустила пальцы в волосы ему и тихонько сжала:
— Ты ведь вот не чуешь, пес, как тебя… люблю.
Чуть приоткрыв глаза, Ванюшка продолжал лежать, по-кошачьи щурясь.
— Не знай… Может, и чую.
— Все намеками, — беззлобно брюзжала Наталка, домогаясь ответной ласки. — Мытаришь ты меня этим «не знай». Сказал бы уж прямо. Ну?.. Не притворяйся.
— А чего сказать-то, толстуха?
— Ну, окажи, что… любишь. А то мне все думается.
Он обхватил ее мягкие плечи и крепко прижал к себе.
— Ну, а теперь?.. не думается?
— Кажись, нет…
Она была спокойна и счастлива — больше ничего и не надо. Им и впредь никто не будет мешать, станут жить вдвоем, хата простоит еще долго, — пожалуй, хватит на всю жизнь. Наталка об иной и не мечтает даже: хорошо и тут, лишь бы Ванюшка был рядом. Она радовалась всему, что давала ей жизнь. И вдруг явственно послышался тяжелый Ванюшкин вздох.
Подозревая мужа в новом притворстве, Наталка шутливо потеребила за ухо:
— Ты о чем это, а? Чего тебе не хватает?
Осторожно, чтобы не спугнуть ее радость, Ванюшка ответил:
— На курсы посылают. Скоро поедут за тракторами, а людей — своих трактористов — нет…
Наталка сразу переменилась в лице:
— Это как то есть?
— А так вот, велят ехать.
— Что допреже болтал, то и сбывается. Стало быть, уходишь все-таки?
— Да не навовсе же… Ты умная у меня, должна понять… Дисциплина. Нельзя… я — комсомолец. Как же не ехать.
— Знаю, сам напросился.
— Да нет же… Горбатов да Бережнов посылают. Четыре дня тому назад разговор был.
Это признание еще более опечалило Наталку:
— Почему же до сих пор не сказывал?.. Обмануть хотел?
— Раньше срока чего расстраивать? Жалел тебя.
— А выучишься — найдешь другую, стриженую, — чуть не плача, сказала она и испугалась, что вырвалось для самой неожиданно.
— И искать не буду, — с глубокой искренностью уверял Ванюшка. — Не веришь, а? Не веришь? Чудачка ты эдакая. Вот честное слово…
Несколько минут она молча думала: как же быть теперь? Чем удержать его? Плохо ли то, что посылают на курсы? Если все благополучно кончится, самой тогда приятно будет, что он — ученый, образованный — сядет управлять машиной. А родится, подрастет сынок (она почему-то предчувствовала, что будет непременно сын) — Ванюшка будет катать его на тракторе — и стало от того светло, радостно, даже застучало, запрыгало сердце. Нет, не обманет, не такой уж Ванюшка безжалостный… Пускай идет… Но четыре месяца все-таки большой, непомерно великий срок.
— А поскорее нельзя?
— Чудн
ая ты. Как же скорее, если курсы трудные?
Наталка стремительно подняла его голову, повернула к себе и, глянув в лицо большими полыхающими глазами, поднесла к самому Ванюшкиному носу увесистый кулак:
— Ну, смотри у меня!.. Если что — не прощу… Алексей вон молчит да терпит, волю ей дал, распустил вожжи, а я молчать не стану… У меня — гляди в оба!..
Ванюшка рассмеялся откровенно и весело:
— Молодец ты, Наталка… Решительная. У нас с тобой дело выйдет.
Через несколько минут он послал ее в щитковый дом: сейчас Горбатовы приедут за сундуком, за посудой, за ведрами, которые не уместились на первом возу. Катя не захочет остаться дома, а надо помочь им убраться дотемна. Наталка и сама это знала, надела Ванюшкин шубняк, закутала голову шалью и, молвив: «Не ходи до меня», — вышла на улицу.
Глава IX
Чему улыбались звезды…
Под окнами двухэтажного щиткового дома переминался привязанный к стойке крыльца Орленок. Алексей развязывал вожжи и что-то говорил Арише, стоявшей на крыльце в дверях.
— Ах, вон сама идет, — обрадовалась Ариша, увидав Наталку. — Иди посиди у нас, а то Катю оставить не с кем.
— Езжайте оба, — махнула рукой Наталка, — я подомовничаю. — И поднялась на крыльцо.
Алексей едва сдерживал жеребца: Орленок гнул шею, вырывал из рук натянутые вожжи и никак не стоял на месте, у него ходили бока, словно распирала могучая сила. И едва Ариша уселась в санки, жеребец помчался по улице размашистой рысью, не сбавляя хода на поворотах. Сани раскатывались, Ариша испуганно вскрикивала и хваталась за рукав мужа.
Орленка было трудно удержать. Раздосадованный Алексей стегнул вожжой, — Орленок подпрыгнул, вытянулся, прижал уши и припустил прыти. Теперь он не хотел видеть давешнего своего следа и вместо того, чтобы завернуть к Наталкиной избе, рванулся по дороге в поле, вымахал на косогор и, забрасывая передки снегом, понес к лесу.
С замирающим сердцем Ариша прижалась к Алексею, уперлась в нахлестку ногой, зажмурилась. В ушах свистел ветер, и вдруг над самым ухом ее раздался голос мужа:
— Э-гей, Орленок! Шалишь?!.
Едва опомнясь, Ариша открыла глаза: взбесившийся конь бежал неукротимой рысью, из-под копыт летела буря снега. Через несколько минут он вихрем ворвался в лес и только здесь, на глубокой в сугробах дороге, стал сговорчивей, послушней.
— Вот черт, — дивился Алексей, — не удержишь никак. Полторы версты пропер… Еще час — и на станции Кудёма… к Наталкиному отцу в гости, — хочешь, довезу?
— Что ты! — всполошилась Ариша. — Поворачивай назад, уже вечер, мне страшно… Скажи: почему так случилось?
Муж отпустил вожжи и, резко повернувшись к ней, посмотрел неожиданно в упор:
— Нет, не я, а ты скажи: почему все так случилось?.. Почему?
Она поняла, о чем спрашивали ее здесь, в лесу, с глазу на глаз, и застыла в неподдельном страхе, словно ее поймали на месте преступления и держат за руку.
— Ты что имеешь в виду?
— Не притворяйся, говори правду… Какая бы она ни была, я пойму. Но я не могу — и не буду терпеть лжи… хватит!..
Она не находила слов, чтобы ответить, а уклониться от объяснений было уже нельзя, но, и застигнутая врасплох, искала второпях каких-то оправданий, а они не давались никак, и знала сама, что им нельзя верить. Это еще больше повергло ее в озноб и трепет.
— Ты решила уйти к
нему совсем?.. Дочь бросишь?
— О, нет! — вырвалось у ней невольно. — Я не хочу этого.
— А что же ты хочешь? (Она молчала.) Ты же любишь
его. И живешь с ним почти месяц… Любишь?
— Не знаю.
— Зато все, кроме тебя, знают. Знают давно… судачат на поселке, кому не лень.
— Пускай болтают.
— «А я, мол, буду продолжать свои свидания»… Вон что!.. Чужим людям позволено «болтать», а вот тебе кто позволил? Где стыд, где совесть?..
— У нас с ним ничего нет… Пустые сплетни, наговоры.
— Не лги! — произнес он гневно, сверкнув глазами. — Когда ничего нет, так ночью на свидания, тайком от мужа, не ходят… А впрочем, ну-ка, объясни причину: почто ты ходишь? Почто?
— Так… За книгами от скуки.
Это было хуже всякой лжи. В нем закипело такое зло, что даже бледные губы перекосились дрожью:
— За кого ты меня считаешь? За дурачка, который ничего не смыслит и не видит?.. Вы с
ним «умны» очень… Нечего играть в прятки, нам не по девять лет… Конечно, насильно мил не будешь. Но если он для тебя дороже, иди к нему прямой дорогой, а не виляй по темным закоулкам, не лги. Это унижает… — Молчание жены выводило его из последнего терпенья. — Да говори, наконец, правду!..
— Не спрашивай, не надо. Я все равно не скажу.
— Но я знаю: ты живешь с ним!
— Думай как хочешь.
— Подлее этого нельзя ничего сказать. Если тебе безразлично мое мнение о тебе, так зачем ты нужна мне и Кате?.. Как жить мне? Как работать?.. Смеяться станут… а может, уже смеются?..
— А зачем веришь сплетням? — Она говорила так, будто пробиралась по тонкому льду на глубокой реке.
— Спасибо за признание… На другое ты не способна. — Он глядел на нее в потемках тяжело, мрачно, с презрением и гневом. — Я спрашиваю потому, что пора выяснить наши отношения окончательно: надо решить и судьбу Кати… Говорю прямо: Катю я не отдам! Нечего тебе портить ее… Тебе придется уйти к
нему одной… Живи в Паранином уголке, наслаждайся… А когда помрет она, вступишь в права полного «наследства», как «дочь приемная»… и будешь там хозяйкой. — Эти последние слова были полны ядовитой насмешки. — Да, тебе честней уйти на днях… Когда намерена сделать
это?.. Сегодня? Завтра? — Она опять молчала, широко раскрыв темные глаза, смотревшие куда-то мимо него, будто не узнавая. Он досказал яснее. — В новый дом переезжать тебе с
нами — на одну-две недели — нет никакого смысла: все равно скоро уйдешь… а оттуда уходить труднее будет, — так лучше пока не трогаться тебе с места… Думала об этом?.. Ты как с ним сговорилась?
Даже во тьме было видно ее побелевшее, вытянутое лицо.
— Ни о чем я не сговаривалась. — И вдруг, упав к нему на плечо, заплакала громко, навзрыд. — Я сама не знаю, как все случилось… Не гони, я так несчастна!.. Я не буду больше…
Ее тело — такое маленькое, слабое — сотрясалось в плаче, вздрагивала голова, повязанная пуховым платком, который два года тому назад покупал сам Алексей и был тогда очень доволен такой удачной покупкой, а еще больше радовалась тогда сама Ариша…
С силою натянув одну вожжу, он заставил Орленка повернуть обратно, и тот, застревая в лесных сугробах, легко выбрался опять на дорогу, пошел спокойным широким шагом.
В душе Алексея словно пылал огонь, испепеляя прежнюю горчайшую обиду… Даже такую боль он был готов перенести, лишь бы она сдержала клятву. Он снова хотел верить ей и, пожалуй, смог бы заставить себя позабыть измену, в которой теперь сама призналась, и никогда не вспомнить потом… Крепки, живучи корни, какими сплелись когда-то их жизни в одну жизнь, и разорвать их было обоим не под силу.
Высвободив руку, он обнял ее, тихонько привлек к себе, — и сердцем поняла она, что в эту минуту примирения он брал на себя какую-то — немалую — часть ее вины, хотел загородить ее собою не только от людских пересудов… Конечно, сама она глубоко страдает, и оттолкнуть ее, не простив, — было бы несправедливо и жестоко…
Исчезло отчуждение, растопился лед в ее сердце, страх рассеялся, и она заплакала опять, но это были слезы раскаяния, благодарности к нему — своему мужу, готовности искупить вину и веры в то, что больше не повторится впредь… Как тогда произошло все
это?.. Странная, чужая воля подкараулила ее однажды и, чем-то сказочно прельстив, захватила сердце — и оно, к несчастью, покорилось!.. Как хорошо, что прежний чародейский морок свалился, как бремя, с ее души. Теперь она чувствовала себя так, будто выздоравливала от тяжкой, коварной болезни… Да, она обманулась тогда, окутало точно густым туманом, — и вот она сбилась с пути… Ведь любила же она Алексея!.. И любит сейчас… он близок, дорог ей, и никто другой быть для нее таким не может: с ним они прошли дружной парой семь лет: за этот срок она привыкла к нему настолько, что не может не считать его
своим, не может не чувствовать его частью своего тела, и нарушить, оборвать эту связь — значит перестать жить, исчезнуть или стать тем, кем она быть не хочет.
Сани медленно плыли в гору, густели сумерки, яркие в небе загорались огни. Захлебываясь слезами, Ариша жалась к нему, заглядывала в глаза, — верит ли он искреннему раскаянию? может ли простить ее вину?..
— Ты понял меня, Алеш? Алеш?.. Господи, какая я была глупая! Ты прости меня, Алеш… про-сти-и… Я больше не буду, — просила она с непосредственной простотой ребенка, которого нельзя не пожалеть, нельзя не простить.
Он не мог выносить таких слез и сказал бережно, с глубоким вздохом:
— Давай не будем вспоминать об этом. — И как прежде, в добрую пору, поцеловал ее.
Притихшая у него под рукой, она молчаливо смотрела вперед, на темную ленточку извилистой лесной дороги, чувствуя благодарность даже к этому капризному Орленку, который насильно унес их сюда. Не будь этого, — кто знает, произошло ли бы такое объяснение? Быть может, жуткое чувство недоверия, унижающих и горьких взаимных обид продолжалось бы долго, росла бы с каждым днем отчужденность, — и мог наступить распад всего, чем они прежде жили… Что было бы тогда с Катей?..
— Ну что ты, Ариша!.. Нет, этого все же не могло быть… Я хотел поговорить с тобой на другое же утро, как вернулся, а ты…
— Мне было стыдно… и страшно. Я боялась тебя, не знала, что ты скажешь…
Мягко хрустит под полозьями снег, вечер тих и ласково нежен… Как хорошо в лесу зимним вечером! Неизъяснимая тишина подступающей ночи, и небо синее-синее. В его бесконечных просторах сияют, будто умножаясь, горние огни. Эти завистливые глаза звезд глядят с непостижимой высоты на землю, где живут, страдают, любят и радуются люди… В любую минуту жизни можно ранить сердце, а болит оно острейшей болью долго, и даже забвеньем лечить его нелегко… Зато когда затихнет боль, какое облегченье, какая радость — быть понятой, прощенной и, может, вновь любимой!.. Ариша опять взглянула в синий, бездонный океан небес, и ей показалось: крупные, как золотые зерна, излучая на востоке яркий, хоть и далекий свет, звезды мигали ей, вспыхивали и чему-то
улыбались — радостно, молодо и нежно.
Орленок опять перешел на рысь, Ариша подумала с боязнью, что Алексей забылся, и сама схватилась за вожжу, чтобы сдержать лошадь.
— Не трогай, — сказал он, — мимо не пробежит. Орленок — умница, каких на свете мало.
— А в лес-то умчал нас.
— Тогда — другое дело, — уклончиво ответил муж, и в голосе слышались усмешливые нотки.
Только тут начала догадываться Ариша, что в лесу они оказались вовсе не случайно.
— А-а, теперь поняла я: ты нарочно давеча пустил Орленка мимо? (Алексей молчал, но улыбался.) Что, не признаешься? Ведь так? — И, уличая, радовалась тому, что муж у нее такой догадливый и добрый.
С пологого холма, где хвойный лес кончался, Орленок бежал к поселку ускоренной, машистой рысью. Серый, в темных яблоках, с широким, раздвоенным крупом, он только покосился в сторону конных дворов, навострил уши, но не свернул туда, хотя и видел открытые ворота и Якуба с фонарем в руках: конь знал, куда нужно людям.
Лишь поравнявшись с новым домом, он круто, с разбега, рывком повернул к крыльцу — и стал. Алексей прыгнул из саней и подал Арише руку, помогая слезть.
Наталка выбежала на крылечко — без платка, в шубе, и, держась за скобу двери, смотрела на обоих пытливо, настороженно. А потом умный ее взгляд блеснул удовлетворенно и лукаво:
— Вот и жди их! А они в лесу катаются… Рождественский пост вам — не масленица… Переезжать-то когда будете? Завтра, что ли… Темно уже…
— Придется завтра, — отозвался Алексей.
Глава X
В Нижнем-Новгороде
Синие глухие шторы на окнах, спокойный свет зеленой лампы, мягкие кресла, диван, чисто прибранная постель делали этот необжитой номер городской гостиницы уголком отдыха и сладкого сна. Авдей Бережнов вступил в него, точно усталый, с дороги — в ванну.
Его случайный сожитель по комнате сидел за столом и что-то писал. Это был простой деревенский житель, мешковатый с виду, пожилой и небритый, но с новой судьбой и новым взглядом на мир. Должно быть, памятуя пословицу «готовь телегу зимой», председатель колхоза приехал за тракторами.
Бережнов, бросив на диван портфель, стал раздеваться, тесное хромовое пальто поскрипывало; он ходил по комнате, засучивая рукава нижней рубашки. Повоевав день, он будто опять готовился к тому же, но было уже не из-за чего…
Нацедив полные пригоршни воды, Авдей бросал в лицо, растирал ладонями шею, щеки, виски. Уши стали розовыми, как волжанки, а он все возился в своем углу, охал, покрякивал, наслаждаясь, а когда подошел к трюмо, задорно и плутовато подмигнул своему двойнику — румяному, свежему, с мокрыми седеющими висками:
— Ну вот… так-то. — Эта фраза означала: «Все обстоит пока благополучно».
Было неизъяснимо приятно лежать, вытянувшись во всю длину, на мягкой постели после утомительной ходьбы по учреждениям, которая все-таки окупалась вполне, и вспоминать хлопотливый день свой уже на досуге.
— А тебя, ходок по мирским делам, есть с чем поздравить? — спросил он, поглаживая себе грудь.
— Нет, пока не выгорело… Вместо трех тракторов дают один. А я разве управлюсь с одним-то? У нас земли необозримое поле, и колхоз должен ее всю привести в порядок.
Бережнов вздохнул, явно сочувствуя ему, но уже думал о своем… Десять тонн овса придутся как нельзя более кстати: Ольховка сидела без фуража. Автострой, который был должником два месяца, расплатился по счету и дал новое требование на тес и столбы в пятьдесят вагонов… Бережнов рискнул, взяв аванс, но теперь уже и риск был не страшен. Переход артелей на бригадный метод быстро сказался на заготовке и особенно вывозке: зюздинцы — зачинатели этого дела — накануне его отъезда в город дали полуторную норму. С ольховского нового катища, с лежневых ледянок, с эстакад, с лесопилки, с Медо-Яровки, с Красного Бора начали поступать радующие вести…
Наверно, в столовой ужинает сейчас вторая смена, и, может быть, Семен Коробов вот в эту самую минуту сидит над чашкой с молочной кашей и гадает: привезет ли директор движок, провода и разрешение на покупку «стальных лошадок». Бережнов мысленно разговаривает с Горбатовым, с Коробовым, с Сотиным, и возникают в его воображении освещенные бараки, конные дворы, по улице Вьяса загораются электрические солнца.
— А у вас как дела? — спрашивает сосед, возвращая Бережнова от мечты к действительности.
— Я именинник нынче. Завтра утречком сматываюсь домой, в свои родные лесосеки. Леспромхоз-то у меня — на двести верст вокруг. Есть где размахнуться, была бы сила!..
Большая удача хоть кого окрылит, тем более Бережнова. На его плечи взвалили тяжелую ношу и сказали при этом: неси… Вьяс не вылезал из прорыва полтора года, а тут последовало распоряжение — укрупнить леспромхоз, соединив с соседним. Один директор ушел, другого прогнали, — так Бережнов, вскоре после окончания курсов красных директоров, очутился в глухой рамени.
Вчера секретарь крайкома выслушал его с большим вниманием, спросил о трудностях, а он ответил, что их много, как деревьев в лесу, — и сам застыдился этой неуместной вольности. Но секретарь улыбнулся и опять начал спрашивать, обнаруживая осведомленность в делах Вьяса.
Представив себе Вершинина в кабинете секретаря крайисполкома, Бережнов подумал:
«Эх, Фома нового века!.. Как ты жалок в своем мнимом величии. Сюда бы вот тебя на часок…»
Уже во сне он видел перед собою неглубокий, зеркально чистый пруд. В нем отражалось солнце, купались дети, оставив на луговинке свои трусы и рубашки. Они кричали, плескались водой, а маленькая девочка, почти кругленькая, смуглая от загара, щурясь от солнца, входила осторожно в воду…
Может быть, это был не сон, а сама мечта, волновавшая по временам Бережнова.
Привыкший рано вставать, он вышел из гостиницы в пять утра. Поезд во Вьяс уходил на рассвете. Неторопливо идя по верхней волжской набережной вдоль невысокой чугунной ограды к кремлевским стенам, которые едва приметно проступали в потемках, он видел справа, по круто спускающемуся откосу, заснеженные старые вязы, смутные сугробы внизу, а дальше и еще ниже белесоватую равнину застывшей Волги и неразличимые отсюда поселки, деревни и леса заречной стороны.
А слева громоздился древний, огромный город, знакомый Авдею с зимы семнадцатого года… Посмотреть его в раннюю пору, когда еще безлюден простор площадей и улиц, увидеть первое пробуждение — в этом есть своя особенная прелесть…
Вчера днем он видел те же, но запруженные людьми тротуары, большие книжные витрины, высоченные здания, недавно возведенные вновь или с надстроенными этажами, — но теперь, при ярком свете электрических фонарей, тянувшихся в два ряда, все казалось необыкновенно новым… Заасфальтированная, чисто выметенная, лоснилась глянцем широкая площадь, город выглядел строгим, тихим, даже таинственным и был словно нарисован акварелью мастера.
Зазвенел сзади и пронесся первый трамвай, громыхая железом. Следом за ним из кремлевского парка покатились другие. Через некоторое время они, наполняя город звоном и грохотом, пересекали улицы, спускались и поднимались по съездам, гремели по набережным Оки, по дамбам, по железному мосту, который гудел под ними ровным напряженным гулом.
За три года, пока Авдей был на курсах в Москве, здесь стало много нового, неузнаваемого, — даже берега съезда раздвинуты и скрыта гора, у подножия которой стоял за стеной монастырь…
Бережнову известно: камнем, асфальтом, цементом, стальными рельсами скреплена земля, пугавшая прежде нижегородцев грозными оползнями. Убогая, опасная дорога, проложенная с трудом нищей страной в давние времена, стала теперь просторной, безопасной и даже красивой…
С верхнего, высокого откоса ему открывалась заволжская лесная низменность, простираясь вдаль… Редеющая тьма, нарушив обычную перспективу, сдвинула вместе Канавино, Сормово и Автострой, образовав один огромный город, усыпанный неисчислимым множеством огней. Непрерывно и нежно мерцали они, эти звезды нового века, светились лучисто, затухая и вспыхивая опять, а над ними, вверху, струилось белое разливное зарево. Невольно хотелось зажмурить глаза и продлить эту минуту любования… Теперь, вместо зимнего утра, вместо трепещущих огней, Авдей видел вдали то, что мыслимо только в сказке: будто золотые лодочки с парусами на черной воде, они покачиваются, и вместе с ними качаются их золотые отражения. От этого и все неоглядное пространство кажется живым; оно шевелится, местами легко вспучивается, оседает и на миг только становится спокойным. Гудит железом широкий горбатый мост, и так легко в эту минуту сравнить его с дорогой в будущее: наши мосты ведут туда!..
Проснувшийся спозаранок город полон звуков, голосов и движения — гудки заводов, верфей, мельниц ревут протяжно и долго, перекликаются паровозы у вокзалов. Слышно, как к станции подошел из Заволжья товарный… Страна уже работала. Бережнову чудилось, что в этот ранний час отсюда он видит ее всю, слышит напряженный, торжественно-спокойный гул земли, необозримой, сильной и прекрасной.
Посмотрев на север, где густая темень, постепенно редея, прояснялась, он представил себе на миг глухое с детства родное местечко на тихом берегу лесной речки Сявы — и помечтал: «Придет время, и там когда-нибудь над новым городом будут гореть огни, а на карте вместо маленькой, теперь едва заметной точки поставят новое обозначение… И для того, чтобы зажглись они, придется много и многим поработать».
И думая так, он чувствовал себя только одним из многих…
Глава XI
У колодца
Нагруженные работой дни шли друг за другом. Из делянок возили к складу бревна; сотни людей превращали их в шпалы, столбы, тес, балки, рудничную стойку, авиапонтоны, шпалы, бревна, дранку; сквозные бригады воевали в лесу на ставежах и на ледяных дорогах. Росли цифры заготовок и вывозок, росла уверенность Авдея.
Омутнинские мастерские уже прислали сорок разводок, сделанных по образцу «американки», — их сразу пустили в ход. Из глубинных участков начали поступать отзывы, и Сотин, отыскавший этот клад, слушал и читал их с удовлетворением.
Он выглядел теперь свежее, чем месяц тому назад, но так и не сгладились морщины на его лице, а в глазах — задумчивых и строгих — видна тоска по Игорю. Его семья уже пребывала в новом щитковом доме и обставлялась на новый лад, а этажом ниже обитал одинокий Якуб.
Нынче рано утром Якуб вышел в сени и, аккуратно притворив дверь, повесил замочек; потом на конных дворах осматривал лошадей, следил за кормежкой. Стоя в воротах, он аппетитно глотал махорочный дымок и, поглядывая на свое новое обиталище, ухарски и лукаво подмигивал молодому конюху:
— Живем, значит, живем…
— Тебе что не жить, — заметил ему конюх, прикуривая от его цигарки. — Ты вон Вершинина переплюнул. Он только сейчас вселяется, а ты уж давно живешь.
— А что мне Вершинин-то. Он на своем месте хорош, а я на своем. Орленок вон меня боится, а его загнал в подворотню… Вот тут и сравнивай.
— Это конечно. А Шейкина-то, как по-твоему, оставят?
— Да, на собранье речь шла… Ты не был разве?.. Пронька Жиган против него здорово кричал, ну, только напрасно. Горбатов и Бережнов зря человека не тронут.
— Вон что. Шайтанистый он, беспокойный, Пронька-то, право. Вострый, стервец, как наточенный ножик.
За спиной у них в полутьме двора хрупали и переступали по деревянному настилу выходные кони.
— Самоквасову-то опять Динку дал? — спросил конюх.
— А то какую же?.. Он и нынче позднее всех уехал… Лодырь. Так будет делать, я и эту отберу. Еще Тибета просил, — вот дурень. Дам я ему Тибета, дожидайся. Он хорошую лошадь в один день сорвет. Вчера такой воз наклал, что Динка-то, сердешная, чуть дотащила… Как приедут, Динку повнимательней огляди, — не надеюсь я на него что-то…
В полдень, морозно-сухой и ветреный, Лукерья встретила у колодца Параню. Наполнив по первому ведру (вторые стояли пустыми), старушки занялись разговорами, повесив коромысла на плечи.
С печальной душой Параня поведала, что случилось с ее черной кошкой:
— И сказывать-то негоже… Ночью этак проснулась я и слышу: на дворе безобразный крик… как есть ребенок ревет. Вышла в сени, через перильце фонарем осветила и всё — с молитвой… Ан, милая ты моя, она и беснуется, и беснуется! Прыгнет на плетень — отскочит, прыгнет — отскочит. И отчего это — ума не приложу. И манила ее, кошку-то, издали осеняла крестом, и всяко, — скачет тебе, да и только. Всю ноченьку не спала я от страху такого, а утром привязала ей на шею липовый крестик. Уж теперь не знай, чем меня ночка порадует…
Лукерья дала ей добрый совет — придушить сумасшедшую:
— В веревочку вздень ее — и успокоится. А другому никому не сказывай, а то нехорошие слухи пойдут: примета.
— Слышу… Ну, только не к добру это. Не умереть бы, мне, Лукерьюшка! — Старуха всхлипнула, в кулачок собралось морщинистое лицо ее, и в напуганных глазах, мутных, как лед на срубе, копились скупые слезы. — Не моя ли грешная душа металась перед кончинушкой?
Горбатая Лукерья утешала подругу, насколько хватало сил, и заодно уж передавала ей новости, что вчера и нынче успела проведать:
— Бережнов — дотошник, хочет пустить машину по ледянке. На днях ездил в какую-то бюру, и там его сполна обнадежили. Говорят: «Не сумлевайся, Авдей, трактора будут». И только ждут теперь в городе самого главнеющего начальника, чтобы печать поставил и руку свою приложил, а все остальные дела улажены. Будут лес возить на машине, а коневозчиков, слышь, прогонят всех до единого… и справку такую дадут: на все четыре стороны, куды хошь… Только не знаю, отколь эти трактора?.. Тебе невдомек, где они водятся?
Параня не хотела и не умела сознаваться в неведении и, малость почесав в затылке, ответила:
— Отколь? Известно. Помнишь, собирались войну открыть?.. Ну так вот. Сгрудили их и, конечно, туда угнали. А войне еще срок не пришел: ошиблись… Ну, с фронту их, эти трактора-то, и возворачивают обратно, раздают, кому сколь требуется.
— Так, так… Аришка-то ай в библиотеку поступила?
— Поступила, поступила. И всё, голубынька, для того, чтобы поближе к Вершинину быть. Бросит она Алешку-то, право-слово бросит. Расщепай меня господь на мелки дребезги, бросит.
— Чай, у ней дитё?..
— Нынешним-то детей не жалко. Им море по колено. Вздернут вот юбку-то выше колен — голяшки видать — и бегают за мужиками без стыда, без совести… Ну-ка ты, ведь какая разбалованная, бесстрашная: пришла к мужику чужому на дом. А мы, бывало… — Параня замахнулась своим прошлым на настоящее, которого не одобряла, осуждая и ненавидя, словно хотела ударить, но ударить оказалось все-таки нечем, и, поняв это, она перекинулась на другое: — Ну, все равно: Алешка узнает, навертит ей космы-то.
Параня утаила даже от Лукерьи, что недавно ходила к Горбатову с наветом на Аришу, причем порассказала ему гораздо больше того, чем знала, и даже сама удивилась необычайному расстройству, какое произвела в нем… С тайным приятством и подмигивая себе, уходила она от лесного склада, оставив Горбатова в тяжелом раздумье.
— Надолго ли гостья-то приехала? — спросила Лукерья.
— Юлька-то?.. На две недели… Летось гостила, и опять нелегкая принесла, — возмущалась Параня. — Не сидится на одном-то месте, окаянным!..
— Известно, — вставила свое словцо Лукерья, — с жиру бесятся. А может, от мужика сбежала. Она — такая, по роже видать: не разберешь — не то замужняя, не то девка…
— Знамо. — Паранин голос перешел на шепот. — Почти кажинный вечер играют в шахманы: уткнутся в доску и двигают, а что к чему, сами не знают. Он ей ставит на гарды, а она его пугает шахом. Играют и всё спорят, а о чем — не поймешь. Молоденькая, а зря хитрущая, не поддается… Собирают багаж, переселяются… Видишь вон, — указала она пальцем на двухэтажный дом, у крыльца которого стояла подвода. — Давеча, родимая ты моя Лукерьюшка, сама она, Юлька-то — вяжет узлы и поет не переставаючи… Поет и поет, а он, как индюк, топырится, книжки свои укладывает и даже на людей не глядит.
— Не жаль, что уходит?
— Жалей не жалей — уходит, — откровенно призналась Параня. Но тут же спохватилась, что выдала себя напрасно: — Да и жалеть-то нечего: грязь за ним вывозила, собаку кормила, его обихаживала… Сама, бывало, не съешь, а все ему норовишь, все ему. А спасибо сроду не слыхивала. Одна забота и никакой пользы, ни радости. И скушно с ём, беда! Все сопит себе и сопит, слова с тобой не скажет. Пес с ними, пускай уходят…
Она безнадежно махнула рукой, словно сама отрекалась от незадачливого квартиранта. Утешала она себя тем, что за такой «дивидент» найдет другого…
И опять утаила Параня, что просила остаться, сбавляла цену, обещалась стирать на него бесплатно. Он пугал Параню своим деревянным молчанием и даже посмеялся нынче над ней: «Возьми, бабка, пригодится. Возьми-и» — и подал ей старые ремни и рваные варежки. Может быть, сделал он это спроста — кто знает, но ей подумалось, что он — с нехорошим намерением.
— Ну, теперь Аришка с ним начнет в открытую, — продолжала Параня.
— Конечно, конечно… теперь им что… — поддакивала Лукерья, захлебываясь.
Потом вспомнили Шейкина и заново, точно они раньше всех узнали о его прошлом, судили, рядили, гадали, дивились и ахали, наливая по второму ведру. Только холод и сумерки прогнали их от колодца. Лукерья пригласила Параню к себе на весь вечер, — благо подходили рождественские праздники (а церковь во Вьясе давно закрыта), и о всякой всячине поговорить им было непременно нужно…
Глава XII
Разбитая ваза
Правы были Якуб и Юля: все, чем владел Вершинин, убиралось на одни дровни, и не к чему было задерживать лошадь на два лишних часа.
Сестра уже хозяйничала в его новой квартире, расставляя вещи, привезенные с первым возом, а Петр Николаевич с Якубом, приехав второй раз, выносили последнее… Кажется, уже все свое взято.
Он стоял посреди опустевшей комнаты, придерживая на плече за ремень берданку, и молча смотрел на старуху, которая, пригорюнясь, как обделенная родственница, сидела в углу на лавке. Над ее головой, перед киотом, немощным огоньком горела лампада, тускло освещая бездушные, деревянные лики святых угодников, и мутным маслянистым светом просвечивал по краям стеклянный зеленый стаканчик… Именно в этот день зажглась она опять, знаменуя окончательное крушение надежды и возвращение Парани к богу.
Вершинин увидел на стене левитановскую «Осень», позабытую сестрой, и, не снимая ружья, отколол ногтем кнопки и, свернув картинку трубкой, сунул в карман; на стене, на потемневших от времени газетах осталось чистое квадратное пятно… Только стаю собак да кулика на болоте не тронул он, не посмев взять того, что обжилось здесь, кажется, навеки…
Не сводя глаз с хозяина, Буран нетерпеливо ждал у порога, пока все это кончится, и нервно стукал об пол хвостом. Из окна было видно, как Якуб, осматривая вещи в возу, обошел вокруг саней, потрогал веревки и потом, взяв вожжи, пошел рядом с возом…
Вершинин все еще не уходил. В последнюю минуту он оглядывал старую, убогую свою нору, куда однажды ворвалось к нему само солнце… Вот на этом месте, где теперь пусто, тогда стояло кресло; Ариша в тот метельный вечер сидела так близко, отдав ему доверчиво свою теплую руку, а в другой держала желтое яблоко, и запах сочного плода мешался с запахом жасмина. Она улыбалась, большие черные глаза ее горели нежностью и страстью… Так памятно все… все…
И стало жаль уходить отсюда, оставляя здесь часть себя… Только сейчас он понял, как дорога и нужна ему Ариша… Что будет там, на новом месте, которое дано ему не по заслугам?.. Жить рядом, значит — часто видеться. Не лучше ли остаться здесь и вместо частых, случайных в тех условиях встреч открыто и прямо пойти навстречу счастью?..
— Петр Николаич, — услышал он надтреснутый, скрипучий голос, — я и забыла совсем… и вы, знать, запамятовали… В те поры яичек-то приносила я от Лукерьи не три десятка, а четыре… Припомни-ка.
Он круто повернулся к ней:
— Заплатить за десяток? Сейчас?
— Есть, так на что лучше, — и, подняв голову, задвигала руками по столу в ожидании денег.
Лесовод обшарил карманы, но столько денег не нашлось.
— Ну, за мной не пропадет… Отдам. Загляни на новоселье-то, — через силу улыбнулся он напоследок и пошел из избы.
Параня побежала за ним следом до калитки, как-то согнувшись набок и спрятав сухие, сразу озябшие руки под мышки.
— Не осуди уж… Я — старуха, — продолжала она, навязчиво и скорбно заглядывая ему в лицо. — Ежели дельце когда случится — позови, я приду… Или перемена какая выйдет, не забудь меня, я поспособствую. — Она не договаривала главного, а только намекала, как несколько дней тому назад, надеясь на его догадливость.
Он понял, что Параня напрашивалась в прислуги к Арише, стало быть старуха верила в это, — и промолчал опять.
Подходя к щитковому дому, он увидел в квартире Горбатовых огонь, занавесок еще не успели повесить, — и Вершинин не поборол в себе нескромного желания заглянуть в чужие комнаты… Там прошла в сереньком домашнем платье Ариша, без повязки, с темной заплетенной косой, свисавшей через плечо на грудь. О, как молода и красива она!.. Никогда прежде не доводилось ему видеть ее такою: перед ним была сама девическая юность… Наверно, в ту пору именно так носила Ариша косу.
Вблизи от окна Вершинин остановился даже, будучи не в силах оторваться. На какую-то маленькую долю минуты она повернулась к нему лицом… Уж не заметила ли его? Несколько оробев, он пошел вокруг дровней, выбирая, что нести к себе наверх, нагнулся и опять украдкой посмотрел туда, где жило его недосягаемое счастье. И было такое чувство, будто ушла она совсем, навсегда… и даже не ушла, а украли ее у него, заперли в неволю… И будто, одолев не одну сотню верст, он нашел ее снова… Но только одно право — смотреть украдкой, издали и мучиться — оставили ему, лишив всего другого…
Он долго возился перед лестницей с огромной крышкой письменного стола, приноравливаясь всяко, а она вырывалась, тыкалась в ступени. Вдруг краем уха он уловил голоса за стеной, — сдерживаемые, немирные, — еще труднее стало ему пронести мимо перил и бревенчатой стены эту тяжелую, скользкую, квадратную доску…
— Вот и разбили, — говорил Горбатов. — Надо было завернуть газетой. Ты всегда вот так.
— А почему все я должна, а не ты? — послышался усталый, несколько раздраженный голос Ариши.
— Но ведь не я укладывал?
— И я говорю про то же.
— Твоя ваза-то. — Он, должно быть, хотел свести на шутку, не желая омрачать первый день на новом жительстве, но после короткой паузы сказал опять: — Я не знаю, о чем ты думаешь?.. Тебе не семнадцать лет…
— Ну, а вы полно спорить-то, — вмешалась Аришина мать, приехавшая к ним на днях. — И ваза-то не стоит того…
Нет, не об этой дешевой вещице, разбитой при перевозке, шел запоздалый разговор — значит, непрочным было примирение…
Чувствуя на плечах тяжесть, Вершинин с тревогой, но и с надеждой, встрепенувшейся вновь, быстро понес свою ношу вверх по лестнице.
Глава XIII
Опять за старое…
В далеких Суреньских лесах, обозначенных на карте зеленой краской, лежали под снегом калеки-тракторы. К ним тянулась серая графитовая дорожка, которую прочертила волосатая, с круглыми, аккуратно обрезанными ногтями рука Бережнова.
Трое — Горбатов, Вершинин и Сотин — внимательно вглядывались в серую точку, где остановился карандаш директора. Беседа подходила к концу. Большая ладонь лесовода Сотина лежала на карте, в другой руке зажата путевка в Сурень. Его отъезд намечен на завтра.
Авдей давал последний наказ:
— В Верхокамье тебе пересадка, а там — до Сурени. Погрузишь тракторы на платформы — телеграфируй. Не задерживайся долго.
Сотин еще с минуту простоял над картой, придерживая скручивающиеся поля ее, потом поднялся, отнял от стола руки, и карта с шумом свернулась в рулон.
— Сделаю. — Он пожал на прощание руку Бережнову, Горбатову и после всех Вершинину. — Пойду собираться. Всего наилучшего…
Бережнов порылся в настольном календаре и, отыскав страничку с красной пометкой: «Курсы — Сорокин — 2», остановился.
— Алексей Иваныч, — обратился он к секретарю, — что же второй кандидат нейдет?
— Придет сейчас. Сорокин — парень аккуратный.
Вершинин взял из пачки Бережнова папироску и вышел. Через коридор, в двух соседних небольших комнатах, помещалась библиотека. Неторопливой походкой он добрался до новенькой двери и, заглянув в нее, ступил через порог.
На стуле стояла молодая женщина в сером халате. Протянув руки к полке, она переставляла книги, стоя к нему боком и не оглядываясь. Свежий матовый цвет щеки был ему хорошо знаком и по-прежнему приятен.
— Приводите в порядок? — негромко спросил он.
Ариша оглянулась, но на лице не пробежало улыбки, которой он ждал: глаза смотрели мимо него. Она склонила голову к полке и предостерегла незванно пришедшего гостя:
— Здесь курить нельзя.
В голосе ее не было прежней, волнующей музыки, какую он когда-то слушал, а только скупое и даже холодноватое предупреждение. Ариша словно указала черту, за которую он переступить уже не имеет права. Под ее руками послушно лежала стопка книг, а у ног — две связки только что полученных и еще не разобранных, положенных на разостланные газеты. В этом хранилище, отстроенном плотником Никодимом, был приметен порядок, говоривший не только о старании, но и любви ее к книгам: она теперь самостоятельно владела и распоряжалась ими… Увидев такую перемену, Вершинин невольно отступил назад.
— Я на одну минутку. — Он помедлил с уходом и смотрел с мольбою в ее глаза: — Ариш… мне хочется увидеться с тобой снова.
Она быстро прошла к столу и ответила вполголоса:
— Я раскаиваюсь и в том, что было.
— На вас так подействовал разговор с мужем?
— Нет. Он мне не говорил ничего.
— Значит, ничего и не скажет.
— Может быть.
В этом холодном «может быть» нельзя было не понять: его прогоняют. Вершинин попросил, чтобы она пришла хоть к Юльке:
— Сестра — одна, и ей скучно.
На это Ариша ответила:
— Если скучает, пусть придет ко мне.
Больше говорить стало не о чем.
«Побили», — подумал он про себя, уходя с горькой надсадкой в сердце.
Вернувшись в кабинет директора, лесовод сел рядом с Ванюшкой Сорокиным и, мельком пробежав глазами по лицу Горбатова, заметил острый, но пристальный взгляд, брошенный как-то мимо, через плечо Сорокина.
На парне новенькое просторное ватное пальтецо сидело неуклюже, сдвинутый на затылок шлем готов был свалиться за спину. Ванюшка не оглянулся, когда вошел Вершинин, и, слушая директора, о чем-то думал.
— Ну, так решай… окончательно… Ты, говорят, все собирался странствовать. Переключи-ка, брат, свою «лирику странствий» в учебу. Так будет лучше и для тебя и для дела. Через четыре месяца ты — тракторист. Гринька Дроздов уже был здесь — дал согласие. На пару с ним и начнете «пилить» науку. — Бережнов улыбнулся.
Жизнь Сорокина делала крутой поворот — от ковыльных степей к машине. Шум высокой травы, степное раздолье, о котором часто вспоминала Наталка, как о своем далеком детстве, надлежало ему поменять на металлический рокот. Звала сама жизнь, так почему же на этот зов не пойти комсомольцу?.. Что даст ему степь, незнакомая, чужая? Ничего. А тут — живое, бойкое дело: править рулем и вести за собой по ледяной колее с десяток комплектных саней с лесом. Тогда подивятся на него лесорубы, позавидуют, узнав, на что способен.
И он решительно поправил на затылке шлем:
— Еду!..
— Ну вот, — удовлетворенно вздохнул Бережнов, приподнимаясь. — Еще одна «проблемка» разрешена… что нам и требовалось…
А Вершинин думал об Арише: «Неужели конец… В самом начале? Не может быть, чтобы она так быстро, так решительно подавила в себе чувство… Под пеплом долго лежит жар… Огонь должен вспыхнуть снова… Пережитое имеет над человеком власть… Еще поговорю с ней… узнаю…»
Сорокин — курсант и Горбатов вышли из конторы вдвоем. Дорога вела их к щитковому дому мимо лесного склада. Высоко над головой простиралось голубое небо, блестя на западе позолотой заката. К югу тянулись мелкие пухлые облака, и на белых кромках их трепетали нежные розовые блики. Оттуда, из сизой дали, и послышался в этот миг металлический рокот. Он с каждой секундой рос, становился острее, оглушительнее, раскатываясь подобно грому. К нему навстречу они повернулись оба: на распластанных неподвижных крыльях летела живая машина-птица. Она пронеслась над ними с такой могучей силой и так гремела, что у Ванюшки Сорокина задребезжали в ушах перепонки. Должно быть, отважен человек, владеющий такой машиной!
— Ррррр! — вдруг зазвенел рядом с ними детский голос.
Заглянув за штабель досок, Алексей увидел Катю, в заячьей шапке и закутанную в шаль, — она нагуляла лицо докрасна. Бабушка, приехавшая вскоре после того, как Ариша поступила на работу, несколько раз стучала в окошко. Катя не хотела идти домой и, чтобы ей не мешали гулять, далеко убежала от дома, на лесной склад.
— Эй, гулена! — позвал Катю отец. — Ишь куда зашла… Давай-ка я домой прихвачу тебя. Ишь щеки-то горят.
Катя не слушала. Подняв лицо вверх, она провожала эту огромную, непонятную птицу и во весь голос кричала песенку:
Ероплан, ероплан,
Посади меня в карман.
А в кармане пусто,
Выросла капуста.
Провожал ее и Ванюшка Сорокин, и сам мыслью уносился вместе с нею в рокочущую даль, светлую, яркую, как позолота заката…
За конюхом точно гнались: он бежал спотыкаясь, расстилая по снегу полы своего чапана и сильно размахивая руками. Еще издали заметил его из окна Якуб, доедавший свой поздний обед. Якуб сначала подумал, что конюх торопится нагнать Горбатова и Сорокина, но конюх свернул к его окну и загрохал в наличник — резко, нетерпеливо. Значит, что-то случилось на конном дворе? Может быть, вырвался из стойла Орленок? Не убил ли кого?..
Якуб припал к стеклу, и в тот же момент ему в уши вонзился перепуганный крик:
— Скорее, беда!.. Самоквасов!..
— Чего? — переспросил было Якуб, не поняв, в чем дело, но конюх уже убегал прочь.
Якуб сорвал с вешалки шапку, пальто и, одеваясь на ходу, захлопнул ногой дверь.
— Алексей Ваныч, на конюшне беда! — крикнул он через дверь Горбатову и выскочил на волю.
Горбатов только было разделся и взял газету, как вдруг тревожно задрожали стены оттого, что хлопнули дверью, и тотчас же его позвали. Голос Якуба он узнал и заторопился: бросил газету, отстранил от себя Катю, которая еще не успела раздеться. Поспешно одеваясь, Горбатов не мог найти рукав.
Лицо обдавало холодным ветром. Впереди бежал Сорокин. Более легкий на ногу, он легко обогнал Горбатова, которого одолевала одышка. Алексей Иванович пошел крупным шагом.
У ворот конного двора стояли трое, а рядом — привязанная к столбу понурая лошадь, очевидно Динка. Эта старенькая, но выносливая кобыла работала еще безотказно; ее ставили иногда на лежневую ледянку, иногда на подвозку бревен к вагонам; прежний возчик возил средние воза и ни разу не жаловался на Динку. На обычные вопросы Якуба: «Ну, как?» — тот неизменно отвечал: «Ничего, ходит не хуже других. Уметь надо с ней… Кнута не любит. Ударишь, начинает артачиться… Я разузнал ее норов, без кнута езжу». Возчика премировали, потом дали ему лошадь получше, а Динку передали Самоквасову.
Подойдя к двору, Горбатов увидел Динку: болезненно обвислые бока вздрагивали, взъерошенная шерсть была мокрая, и по ней расползались темные пятна. Особенно много их было на крестце и ребрах. Приложив к одному пальцы, он увидел на пальцах кровь. Зашел спереди, — умные большие сливы глаз глядели на него мутно, словно у Динки кружилась голова и, боясь упасть, она боролась со своим страшным бессилием. Над правым глазом мокрое пятно кровоточило.
Самоквасов пошатывался на нетвердых ногах, царапая рыжую густую бороду, и отмалчивался на злые и негодующие замечания Якуба. Он все искал кого-то глазами, оборачиваясь по сторонам. Не Проньку ли искал, чтобы тот помог ему выпутаться? Но Проньки здесь не было.
Послали конюха за ветеринаром.
— Ты что? Пьян? — строго спросил Горбатов.
— Н-нет… Немножко тово…
— Ты за что ее? — наступал гневный Якуб. — За что избил?
— Стерва она, кнута просит… вожжой я ее, стерву, вожжой, — бормотал Самоквасов.
Подоспевший ветеринар осмотрел кровяные пятна: Динку били железным крюком от цепи, которой возчики увязывают на возу бревна. Низенький, тщедушный Якуб держал повод, уставясь на Динкино копыто; у него был такой болезненный, жалкий вид, словно его, а не Динку, истязали так жестоко.
Негромко почмокивая губами, Якуб тянул ее за повод, она не двигалась с места и поворачивала только голову. Якуб понял, что не меньше как на десять дней надо поставить ее на поправку, — а в лошадях была такая нужда!..
Якуб метнулся к пьяному и с силой плюнул ему в лицо:
— Подлец!..
И повел лошадь во двор.
Писать протокол пошли к Якубу на квартиру, так как контора уже была закрыта.
Глава XIV
Опасные встречи
Встреча состоялась поздним вечером…
Побродив по темным улицам, Вершинин пришел в клуб, надеясь на последнюю возможность. Тут было людно, светло и даже не без уюта: на столах, накрытых красным полотном, зеленели в плошках цветы — хороший почин Ариши; вразброску лежали газеты, журналы, а в переднем углу стоял массивный бюст Ленина на черном постаменте, а рядом — высокая пальма.
Посетители — молодежь и старики — сидели тихо, разместившись на лавках и стульях, занятые кто чем… На сосновом некрашеном диване Гринька Дроздов — безусый юнец — приглушенным голосом читал о корабле, зазимовавшем в Ледовитом океане; Якуб разглядывал в журнале породистых военных лошадок. Влюбленный в них, улыбался, щурился, восхищаясь «достижениями на этом фронте». Семен Коробов, нагнувшись над шахматной доской, с необычайным ожесточением вел атаку на кузнеца Полтанова. (С недавних пор эта трудная и увлекательная забава стала во Вьясе почти всеобщим недугом.)
— Ты думай, — возмущался старик, когда кузнец брал ходы обратно. — Это тебе не лошадей ковать…
Вершинин, стараясь не привлекать ничьего внимания, молча сел в дальний угол с газетой в руках. Так просидел он с час, чувствуя, как с каждой минутой растет нетерпение. То и дело входили и выходили люди, поскрипывала дверь, и он каждый раз вскидывал глаза. Наконец она появилась… Сквозь поредевшие, жухлые листья цветка он увидел ее лицо, немного бледное, озабоченное. Ариша отперла шкаф и, позвав Дроздова, стала выкладывать наушники.
— Мне некогда, — сказала она, — а в девять часов — доклад из Москвы, о строительстве метро… Наушники раздай, а после соберешь… Запри только, слышишь?..
Вершинин стал пробираться к двери. Проходя мимо, поклонился Арише легким коротким поклоном, тронув пальцами шапку. Она почти не заметила его полувоенного жеста и продолжала свое дело… Легкие наушники, соединенные стальными изогнутыми пластинками и перевитые зеленым шнуром, поблескивали в ее руках. Они лежали на столе грудой, и Гринька Дроздов тут же начал их раздавать по рукам.
— Меня не забудь, — напомнил Коробов, не меняя своей сосредоточенной позы. — Люблю послушать, как рабочая масса трудится… Там, слышь, плывун-то на двадцать метров вглубь.
— А как же, — ответил кузнец. — Земля…
— «Земля», — передразнил Коробов. — Чего короля-то за вершинку вертишь?.. Ставь куда-нибудь.
За столом игроков послышался смех и новое победное восклицание Семена. Ариша ушла, оставив клуб на попечение Дроздова, чего раньше не водилось за ней, но и домой не спешила она, медленно шагая тропой… Тут, на ровном расчищенном пустыре, и поджидал Вершинин, во тьме тлелся красный огонек его папироски.
— Ну вот… и встретились, — вырвалось у него, когда она остановилась рядом. — Ариш?..
— Ну, что вам? — и с мольбой взглянула в глаза. — Оставьте меня… Скажите себе, что всему… конец.
— Я не могу так. Пойми — не могу. Я не в силах поверить… Неужели всему конец? — Дорожа каждой минутой, он говорил быстро и почти шепотом, но это был вопль, полный горечи и жалоб. — Неужели ничего, кроме равнодушия, я не стою?
— Как вы не понимаете меня? — с удивлением спросила она и, поскользнувшись на льдистом бугорке, схватилась за его рукав.
Петр тут же взял ее под руку.
— Ну в чем, в чем ты раскаиваешься? Что надо забыть?.. Разве ты давала обет не любить?.. — Она боязливо оглянулась, хотя позади никого не было. — Разве ты нарушила клятву?..
— Да… нарушила и… нарушаю. — И почти вскрикнула с болью: — Ведь мы помирились с ним!.. Он простил… А теперь вот… Я не знаю, что делать… Даже из-за вазы поссорились…
— Я слышал.
— Я старалась не думать о тебе, не видеть… Муж, конечно, все понимает, все видит… Мне жалко его, мне стыдно перед всеми… я измучилась… Что же делать теперь?.. Ему кто-то наговорил опять… Я чувствую, что теперь не исправишь.
Несколько шагов прошли молча. Невдалеке виднелись темные бараки с рядами освещенных окон. За каждым окном текла своя жизнь.
Он сильнее прижал к себе ее руку.
— Я думал всяко: выход один, один, — повторил он, не осмеливаясь произнести последнего слова, сказать которое наступил срок.
— Я перестала спать… дома ничто не мило… одна Катя… Она ведь ни в чем не виновата!.. Что я скажу ей? — У ней заплетались ноги, прерывался голос, и, готовая заплакать, она кусала губы.
Они остановились. Вершинин понимал ее, и было жалко ему этого близкого, родного человека, с которым соединяла судьба. Наклонив голову, он поцеловал ее руки, затянутые в белые перчатки… Бывает, что и малый знак внимания остановит слезы… и вот она уже с улыбкой просветления смотрела ему в лицо…
— Ты что решил? — спросила она с покорностью и надеждой.
— Уехать… — ответил он. — Если отпустят.
— Один?
— Да… если ты не поедешь. — Она молчала. — Давай уедем, Ариш? Катю возьмешь с собой.
Кажется, они забылись оба, плененные одним и тем же чувством, и смотрели друг другу в глаза, — а между тем навстречу к ним шли двое, едва заметные во тьме. Ариша вздрогнула, спряталась за Петра, а он, сам растерявшись не на шутку и загородив ее собой, искал на темном пустыре другой тропы… Но ее пока не протоптали люди… Разобщенно, чуть не на три шага друг от друга, они пошли вперед, нисколько не веря в эту наивную свою предосторожность.
Наталка и Ванюшка Сорокин — это были они — посторонились, уступая дорогу, и, удивленные встречей, молча стояли в глубоком снегу, тесно прижавшись друг к другу.
— А-а, это вы? — будто обрадовалась Ариша, торопясь пройти.
— Мы, — отозвался Ванюшка. — Доклад слушать… Не поздно?
— Не-ет… Семь с половиной только. — Вершинин явно привирал на целый час, желая хоть немножко рассеять подозрение, вызываемое такими поздними прогулками. Слова нужны были и для того, чтобы заполнить эту долгую и неудобную минуту.
Через несколько шагов Ариша оглянулась. Наталка и Ванюшка оглянулись тоже.
— Как ты думаешь? — спросил он не без тревоги. — Передадут?
Она обреченно улыбнулась:
— Мне все равно теперь… — и сама взяла его под руку, как бы принимая всю ответственность на одну себя, готовая к неминуемой расплате.
Тихо надвигался поселок, глядевший на них сотнями глаз, удивленных, осуждающих и жадных до сплетен.
У первого барака, где следовало разойтись (затем лишь, чтобы прийти в щитковый дом в разное время), Ариша остановилась, молча подала ему руку и долго не отнимала. Не легко было ей уходить от Петра, когда привычный дом стал страшен и ко всему прежнему привязанности больше нет…
Именно так и понял Вершинин глубокое раздумье Ариши. И еще раз спросил ее о главном, что было уже почти решено в дороге:
— Так едем, Ариш?..
Она долго не отвечала.
— А все-таки это не приведет к добру, — тихим, колеблющимся голосом сказала она, растерянно глядя перед собой. — Счастье, пожалуй, не там, где ты… Не лучше ли нам кончить, а?..
Он отшатнулся. Освещенное лунным жидким светом лицо его казалось бледным, худым. В порыве чувств он схватил Аришу за руку:
— Ну как же быть?
— Не знаю… не знаю, — беспомощно шептали ее губы. — Я запуталась совсем, потерялась…
Удивительно не вовремя скрипнула дверь в ближнем бараке и послышались шаги по лестнице. Пришлось мгновенно разойтись, чтобы не дать повода для новых сплетен.
Глава XV
Рождество
У Бережнова было немало причин стать в эти дни беспокойным. Нынче утром из Ольховского участка пришла телефонограмма: вчерашнее собрание лесорубов сорвали четверо пьяных. В Красном Бору кто-то украдкой напоил лошадь вином и пьяную спустил со двора. Из Медо-Яровки звонили по телефону: продавец до того «расхворался», что третий день ларек на замке. О вербовщике, посланном недавно в Белую Холуницу для набора новой партии плотников, приполз слух: парень загулял, сорит деньгами и «славит по домам». По участкам начали расти прогулы. В седьмом бараке случилась кража: у Проньки Жигана пропала бутылка водки, произошла драка, — наступали «святые» праздники.
Из соседней деревни Варихи валили во Вьяс парни, горланили песни, шатаясь с гармонью по улицам. Пьяная волна уже катилась, потому Авдей и собрал своих подчиненных и долго не отпускал из кабинета.
Эта маленькая комната нынче походила на штаб более, чем в другие дни. Авдей сидел за столом в обычной позе, широко расставив локти по столу; волосы, стоявшие ершом, он то и дело приглаживал, немного хмурые, цепкие глаза его были строги. Вершинина, Якуба, Коробова и других, он спрашивал по очереди, но все его вопросы сводились к одному, главному:
— Готовы ли?..
Якуб здесь человек не новый, живет во Вьясе уже много лет. Он вместе с Наталкиным отцом пришел сюда с Украины и обжился. На постройке одноколейки сперва они рыли песок в карьерах, жили в землянках, спали на голой земле, на костре варили в котелке похлебку. Когда прямая одноколейка протянулась лесами, Наталкин отец поступил в Кудёму стрелочником, а Якуб ушел на лесную работу. Здесь во Вьясе в Ленинский призыв он первым подал заявление в партию, дав клятву идти вместе с нею всю жизнь. («Работу я люблю, и пока сила есть — буду помогать партии», — говорил он тогда на приеме.) Четыре года тому назад жена у него умерла, он стал жить одиноко, вдовцом, — новых корней почему-то не пустил он.
Якуб знает обычаи местного населения и каждый двунадесятый
праздник встречает с тревогой. Он не любит вина и на пьяное буйство жителей глядит с отвращением. Не раз доводилось ему бывать свидетелем пьяных уличных свалок, происходивших в деревне Варихе, во Вьясе, и удивлялся тому, как на глазах люди теряли рассудок, переходя от буйной радости к слезам, от душевных разговоров — к драке, от слюнявых лобызаний — к звериной жестокости и кольям.
Почти всегда эти праздники вызывали в «зеленых цехах» заминку, а иногда и разрушения… Недаром, ожидая рождественских праздников, Якуб велел убрать солому от конных дворов, где стоят сто сорок лошадей обоза; поодаль от построек сложил копнами сено, сделал запас воды и кошмой укрыл от мороза; две пожарные машины привел в готовность, и сухие шланги со вчерашнего дня висят на столбах. Кажется, все было готово, чтобы какая-нибудь беда не застала врасплох.
Бережнов одобрительно кивал Якубу, поглаживая пальцами седоватый висок и мельком взглядывая на Вершинина. Недавно заметил он, что лесовод стал удивительно много курить. Нынче, пока совещались, он опорожнил портсигар, хмурился, морщил лоб и больше всех молчал, занятый своими мыслями… О чем он думал?
— Мне кажется, — молвил между прочим Вершинин, — Проньку Жигана надо стукнуть.
— Выгнать совсем? — переспросил Бережнов.
— Да… анархист он, буян. Выгнать сейчас же.
— Почему же именно сейчас, а не после праздников?
Очевидно, Бережнов, не раз вызывавший до этого к себе Жигана, решил применить ту же строгую меру. Речь шла теперь только о сроке, так как перевод в другую бригаду результатов не дал.
— Как сказать… лучше от него освободиться поскорее, — настаивал Вершинин, не договаривая чего-то. — Дело в том… у меня есть подозрение, что происшествие с Ванюшкой Сорокиным в делянке — не случайность.
— Едва ли… Не может быть, — не согласился Коробов. — На мой разум так: не гнать его пока — скандал наживем с этими пьянками. Вчера он с Самоквасовым на деревне шатался, и оба вернулись пьяные. Родня там у Самоквасова-то. За обоими следить надо.
Не получив поддержки, Вершинин больше не настаивал.
Бережнов положил руку на плечо бригадиру:
— Ну, Коробов, свое обязательство чтоб сдержать: ни одного прогула на праздниках!.. Вызов ваш почти во всех бригадах принят. Держитесь. А Жигана возьми пока в свою бригаду…
— Не сомневайся, Авдей Степаныч. Кроме Проньки, за всех головой ручаюсь.
На этом директор и закрыл совещание.
Выходя из конторы, они встретили Ванюшку Сорокина, Наталку и Гриньку Дроздова. Курсанты зашли проститься. За спиной Дроздова — бордовая сумка с пожитками и едой на дорогу, у Ванюшки — суковатая палка в руках, как у дальнего пешехода, а Наталка несла его белую сумочку, сшитую своими руками. В верхнем углу на холсте виднелся вензелек «И.С.», вышитый красными шелковыми нитками.
На обоих курсантах новые сапоги, короткие ватники, на Ванюшке неизменный шлем, на Гриньке — барашковый малахай… Так как местный пассажирский приходил в двенадцать ночи, к тому же в Кудёме им все равно пересадка на поезд вятской дороги, — они решили идти пешком, прямо на Кудёму. Здесь не так уж далеко, к вечеру будут на станции.
Вершинин первый протянул им руку:
— Ну-с, желаю успеха. — И повернул домой к щитковому.
Бережнов и Коробов вызвались проводить их дальше.
— Глядите, ребята, в оба, — наказывал бригадир. — Наука, слышь, больно капризная. С ней не шути, хватай за рога, не прохлаждайся… а то обернет вокруг пальца и кукиш покажет.
Ванюшка засмеялся:
— Откуда ты знаешь?
— Слыхал… и опять по газетам вижу. У меня, — по-отцовски погрозил он, наставляя их уму-разуму и сноровке, — у меня никоторый не забывай: в город
у развлеченьев всяких наворочены горы, за ними не гонись, не теряй ни часа. Ежели устал, посиди, побегай и — опять за тетрадку. Пили ее, науку-то, и так и эдак, кряжуй, чтобы гоже вышло.
— Так, так, дядя Семен, — поддержала Наталка, — пробери хорошенько, пусть помнят.
— А как же?.. Нам ученых надо. Ну, прощайте. — Он приподнял шапку, кашлянул, вытер усы… Что-то еще хотел наказать старик и поэтому медлил. Потом сказал: — Вернетесь — Ефимку моего подучите. Молод он у меня, стервец, а то бы и его с вами. А Наталку, Ванюшка, не забывай… Хорошая она баба, крыло твердого содержания. Поискать такую.
И Коробов неохотно зашагал обратно.
Посреди поселка стояла ватага парней, загородив дорогу. Были тут все деревенские: пальто нараспашку, шапки набекрень, на шеях шарфы и кое-кто в чесанках с галошами.
Лузгала ватага семечки, курила дешевые папиросы, яростно плевала на стороны. На глаза Бережнову попался парень — гармонист из деревни Варихи; за воровство двух бревен заплатил он штраф, бревна вернул, а спьяна однажды грозил «искалечить» директора. Гармонист, свернув голову набок, ворочал плечами и до отказа растягивал гармонь. Наяривал он «Заграничное яблочко». В проулке, поджидая парней, стояли тихие девки, лузгая семечки.
Бездельную ватагу курсанты и Авдей обошли стороной молча, и каждый по-своему объяснил косые, недружелюбные взгляды, которыми провожала их ватага.
Пьяная гармонь плакала и заливалась, парни вразнобой старательно пели:
На-ас про-гна-али от девычонок
И-и-и побили на задах,
Проломили мне головку
В двадцати пяти местах.
Через два двора жаловалась другая гармонь, и с десяток охрипших голосов заунывно выли:
Изо-ры-ва-ли-и-и юбку нову-у-у
И под-би-ли правый глаз. Эх!..
Мотив сломался, а припев застукал деревянно, словно кулак в наличник:
Не ругай меня, мамаша,
Это было в первый раз.
И снова тоскливый, угрожающий вой с кулачным стуком в припеве:
Сербиянка, сербиянка,
Сербиянка модная. Эх!
Бери ложку, жри картошку,
Не ходи голодная.
Слушая песню, Бережнов смотрел на Ванюшку и Гриньку, шагавших рядом, и думал вслух:
— Молодежь, а песни-то — дикие, стыдно слушать. И время свое транжирят во вред себе… А ведь если человек смолоду возьмется за разум да пойдет в ученье, сколько полезного может сделать за свою жизнь!.. Недавно прочитал я на досуге про Ломоносова, Ползунова, Кулибина… Ходу им не было, стена перед каждым стояла каменная, а все-таки — пробились… Среди народа русского сколько талантов было и есть — как звезд на небе! В жизни каждого из них много поучительного, вам, ребятки, надо их знать… Читайте побольше, вдумывайтесь, а к себе будьте построже, временем надо дорожить: оно уже не вернется. Самому мне не пришлось в молодости учиться: тоже стена стояла, — не прошиб ее, не перелез, а вам выпадает счастье, ценить это надо… Ну, давайте прощаться.
Он подал курсантам руку, остановившись у крайней избы в проулке, а взглянув в заплаканные Наталкины глаза, сказал:
— А ты не завидуй: по осени пошлю и тебя… Тогда уж пускай Ванюшка погрустит по тебе…
Авдей Степанович повернул обратно, а они — трое — пошли дальше, на взгорье. Несколько минут длилось молчание, а когда вступили в ближнюю к поселку делянку соснового леса, Гринька Дроздов воскликнул:
— Вот она, сорок вторая… Прощай, деляночка, до весны!..
Шагая рядом с Наталкой, Ванюшка прислушивался к лесному шепоту, и было ему в эту минуту и грустно, и весело, а будущее вставало перед ним, как туманная, покрытая лесом голубая гора… Ветер шумит вокруг, а ему кажется: где-то вдали звенят топоры лесорубов и женские голоса тихонько напевают там песню…
— Наталк… сумку-то давай… небось устала? Может, и тебе пора вернуться?
— Нет, пойдем еще немного.
Она задержала его, сняла с себя сумку, помогла ему повесить на плечи и с тихой печалью подумала: «Пора и мне».
Гринька Дроздов молча пошел один, не оглядываясь.
Наталка взяла Ванюшку за руку и не отрываясь глядела ему в лицо с тоскою, любовью и жалостью, словно хотела запомнить надольше любимые черты. Он шагнул к ней, положил на плечо руку и поцеловал во вздрагивающие губы. Наталка, почувствовав, что этого мало, — ведь расстаются на целых четыре месяца, а может, и больше, — обвила его шею и, не выпуская из рук, целовала долго, страстно, по-матерински нежно, и посторонний мир для нее исчез в этом прощальном поцелуе.
— Ну, Наталочка, жди весной, — проговорил Ванюшка, с сожалением освобождаясь из крепких ее объятий. — Не скучай…
— А ты не забывай меня, пиши, — напомнила она в сотый раз, — пиши обо всем, а то думать буду, беспокоиться. Прощай, Ванюшенька. К отцу-то моему зайди, зайди непременно. Скажи, что поженились, мол, окончательно. Чайку у него попьешь… на тебя поглядит. Теперь ты родной ему.
Ванюшка встряхнул сумку, поправил тесемочку, улыбнулся и хотел было идти, но Наталка держала его руку и тянула за собой:
— А то вернись… Не уходил бы… Идем назад, Ванюш?..
В глазах у ней стояли слезы.
— Нельзя, нельзя… сама понимаешь. Пусти, а то… и в самом деле останусь.
— Ну, ну иди, милый, иди. Я погляжу.
На горке Дроздов поджидал Ванюшку. Вдвоем зашагали они по дороге и звонко запели свою задушевную:
Наши ребята в поход пошли,
Сумки тяжелы с собой понесли.
Ай-да-да, ай-да-да, ай-да люли,
Наши ребята в поход пошли!..
А Наталка продолжала стоять, песню любимого слушая, и вместе с веселым припевом понемногу уходила от нее печаль. Зачем тосковать и плакать, ежели он вернется опять, вернется уже трактористом?.. И все глядела она на белую сумочку, становившуюся все меньше и меньше. Как маленький комок снега, виднелась она вдали, потом исчезла за косогором.
— Счастливый путь…
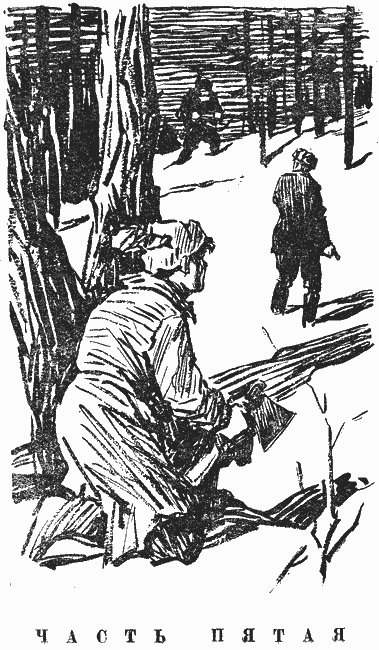
Часть пятая
Глава I
В чем истина?

Вечером разгорелся спор, назревавший исподволь. Юля не сдавала своих позиций, а по временам наступала сама.
— Неправда, Петр… Жизнь — это бесценный дар, неповторимое благо на земле. Оно дано человеку природой. Люди преобразуют мир, меняют свое духовное обличье. Обновление мира, творчество разбуженных масс — вот что должно быть для исследователя главным объектом познания… А ты проходишь мимо, закрываешь глаза, — поэтому и день кажется тебе ночью.
— Да, ночь, — произнес он убежденно и мрачно. — Жизнь, по-твоему, это — лирическая поэма, а на самом деле: жизнь есть непонятная трагедия… хаос, стихия. Познать причину появления человека на земле, его назначение, целесообразность его кончины — невозможно! Сама конструкция мира и человека настолько несовершенна, что едва ли какие преобразования изменят их природу… Пожалуй, остается повторить одно:
Бог нашей драмой коротает вечность,
Сам сочиняет, ставит и глядит…
От этих «божественных» спектаклей — на одной и той же сцене, в старых, но подновленных декорациях — можно сойти с ума!..
Петр говорил, откинув голову на спинку стула, и смотрел куда-то мимо, вдаль, испытующим, усталым взглядом. Его тяжелая ирония над миром не изумляла Юлю, как в первые минуты спора; она вслушивалась в его слова, в интонации голоса — глухого, разочарованного, и в ней самой происходила та внутренняя работа, какая никогда не пропадает для ума и сердца. Острая жажда узнать о брате как можно больше заставила ее не поддаваться порыву, а дослушать до конца, не прерывая.
— Не странно ли, — продолжал он: — человек одиноким приходит в мир, одиноким уходит из мира. Жизненный путь его — безжалостно короткий — усыпан острыми камнями: даже больно ногам идти!.. Усталый раньше срока, он несет на себе груз разочарований, неудач, ошибок, горечи и злобы. И только изредка, на короткий срок, проглянет ему сквозь тучи солнце, мелькнет любовь, удача, крупица счастья — изменчивого, иллюзорного… В борьбе за хлеб, за место на земле он вынужден бороться почти всю жизнь… Потом — уходит навсегда… А переступая последний порог свой, с горечью видит, что можно было бы прожить иначе, добиться чего-то большего… Но пройденный путь и потраченное время — необратимы… Океан времен несет его куда-то во вселенной, к непостижимому пределу, в одну сторону — к закату, откуда никому нет возврата!.. Зачем все это? Кому это нужно? Для чего все это?.. К чему вся эта борьба? К чему напрасные исканья, отреченья, когда «нет правды на земле, как нет ее и выше?..» Где же тут свобода? Где простор сознанию, разуму и действию человека?.. О каком счастье может идти речь?..
То, что высказал он, отнюдь не лежало за пределами ее понимания, — по-видимому, в цепи его умозаключений определенное место занимало и ноябрьское письмо, присланное ей в Москву, недаром оно тогда так поразило ее.
— Мне трудно говорить с тобой, — призналась она, — ты — старший брат, тебе я обязана многим. Но я с тобой не согласна. Нет и нет!.. Мне больно и страшно за тебя… Я вижу, тебя все это мучит… Чем кончится, я не знаю, но едва ли кончится добром. — Она говорила, обдумывая каждую фразу и собирая в памяти все, что годилось на этот час. — Ты очутился, Петр, в какой-то… безысходности… И по-видимому, заблудился давно… Прости, — но я не могу молчать. О каком человеке ты говоришь? Чей путь имеешь в виду? — спросила она. Он не ответил. — Ты говорил о себе?..
— Нет, вообще о человеке…
— Но в мире никогда не было и нет человека «вообще», человека абстрактного. Он всегда реален, живет в определенной социальной среде, живет во времени и пространстве. На него воздействуют законы общего исторического процесса, законы общественных, классовых отношений.
— Это известно мне стало раньше, чем тебе, — хмуро напомнил брат с недовольным жестом.
— И все-таки: маленькая частица воды — пусть капля — живет в большой, полноводной реке… Может ли она существовать обособленно, единично, независимо от своей естественной среды? И человек — также.
— Пример неудачен, — подсказал он, усмехнувшись.
Юля смутилась, краска залила ей щеки, и он сразу заметил это, но тот догмат, за который так твердо держался он, и его предубежденная настроенность разбудили в ней силы, прибавили настойчивости и веры в себя.
— Пусть неточен… Но ты же построил все на абстракции, а мир во всех проявлениях — конкретен, овеществлен, историчен. Никто из людей не может быть вполне независимым, абсолютно свободным — только
в себе и для себя. Не пустота окружает его. На него непрерывно воздействуют законы общественно-исторического развития, законы движения вперед — от капитализма к социализму… Острота классовой борьбы не терпит никакой двусмысленной позиции. Всякое мировоззрение — политично, партийно. Суждения и оценки любой идеологии — это политические суждения. Даже молчание является в этом смысле политической оценкой… Я искала к нашла тот камень, о который ты споткнулся на своей дороге.
— Какой же камень? — с любопытством он вскинул глаза.
— Вопрос о
свободе, точнее — о
свободе творчества, и вопрос о коллективизации.
— Меня интересует не только это. Меня интересует все, и особенно — так называемая
«гармония мира», его Платоновская и Кантианская
«красота».
Он расширял границы спора, наверно, для того, чтобы несостоятельным оказался молодой оппонент. Невольно настораживаясь, Юля готовилась к новым возражениям и поэтому молчала какую-то долю минуты.
— Это вполне естественно, — отвечала она. — Непонятно другое: мир познается в совокупности реальных противоречий, а почему же только такие индивидуумы, как Жиган, Платон Сажин, какой-то Самоквасов и подобные им, стали для тебя почти единственным объектом
познания действительности?.. Натурализм никогда не был верным отображением жизни в искусстве, он даже уничтожает само искусство. Так и твоя теория: она не в состоянии дать полномерного отображения общества — таким,
каково оно есть.
Юля остановилась, чтобы собрать мысли, которые нелегко давались ей в этот вечер, а Петр молчал, следя за ходом ее доказательств, и не спешил опровергать, задетый больно сравнением его теории с натурализмом. Она воспользовалась этим промедлением:
— Твоя система
обесчеловечивает человека, искаженно отображает и саму природу и уничтожает начисто истинную свободу личности, — о чем так озабочен ты.
— Нет ее, этой свободы вообще! — почти крикнул он с надрывом. — Мечта одна и «пожеланья в добрый путь»…
— Язвительность не всегда усиливает логику доказательств, — заметила она не без осуждения. — Да… в твоей теории нет свободы. И не может быть, потому что твоя система — устаревшее мировоззрение. Ты хочешь продлить веру в отжившую идеологию, — напрасный труд… Где бы ты ни жил — в столице или в глухой рамени, — она говорит об отрыве от жизни, она — признак отставания и деградации… Ты не согласен, но ты не можешь доказать, что твоя теория — передовая, прогрессивная программа.
Юля наступала теперь сама, в голосе сквозил едва прикрытый гнев, она торопилась досказать главное, что определила себе еще в начале спора:
— Буржуазная демократия торгует свободой — продает на деньги. А где есть эксплуатация, угнетение, там нет истинного равенства, нет свободы, а есть иллюзия свободы… Свобода — это правильно понятая необходимость. И только в стране социализма есть равенство людей. И чем выше стадия социализма, тем больше свободы будет иметь человек, свободы подлинной, а не ложной… Ты скажешь: все это — простые вещи? Да, простые, элементарные, но ты отвергаешь даже их… Почему?.. Я не пойму никак… Почему величайшие преобразования жизни, обновление земли не превратились для тебя в главный объект исследования?.. Тень заслонила тебе человека. — Не дождавшись ответа, она произнесла взволнованно: — Петр, жизнь полна молодости, она — хороша, неповторима!
Сотри случайные черты,
И ты увидишь: мир — прекрасен…
— Ты любишь лес, траву, звезды, влюбленно смотришь на людей. Ты, как шалью, закутана лирикой, она мешает тебе разглядеть жизнь, — ответил он с неуступчивой холодной силой. — А лирика — того же Блока — убедить меня не может…
— Тогда зачем ты процитировал из Гёте? — таким же отвергающим тоном спросила Юля.
— Не из Гёте, а — из Омар Хайяма… Он жил за несколько столетий до Гёте и, как видишь, более глубок, нежели Гёте.
После долгой паузы она спросила еще:
— Скажи откровенно: кто такой этот Жиган, которому ты продал ружье?
— Жиган?.. Это — низкий, озлобленный тип, по натуре — бунтарь. Но когда выгоним его, я посмотрю, как он — сломленный и покорный — будет просить у Бережнова и Горбатова прощенья, цепляясь за кусок хлеба, за жизнь… И это будет именно так: сильнее инстинкта жизни ничего нет.
— История классовой борьбы доказывает как раз обратное… Скажи: кому ты помогаешь?..
— Никому… кроме тебя.
Она побледнела, поняв его недвусмысленный намек на ее иждивенчество, но не подала вида, что оскорблена этим.
— Я изумляюсь, — заговорила она быстро, словно торопилась выведать остальное, а потом ответить с тою же прямотой, свойственной горячей юности. — Я не понимаю: как это можно?.. Человек выносил идею, обосновал ее, признал непреложной. Идея — оружие… Как ты используешь его? Что оно дало тебе, наконец?.. Ведь твоя теория только мешает тебе жить, работать и, наверное, вредит общему делу.
— Ты рассуждаешь, как второступенка… Тебе бы пора знать, что теория — не всегда оружие. И не всегда лезут с оружием в драку. Я — простой смертный, хочу спокойно жить и для себя осмыслить общественные явления, — отвечал он, сидя к ней спиной, наклонив голову и опустив руки между колен. — Для меня теоретическая, научная истина — самоцель. Чистое знание ради знания.
— А потом?.. Что же дальше?
Он будто не расслышал вопроса и тем же тоном продолжал, не глядя на нее:
— Я бескорыстно, без грубого утилитаризма пытаюсь познать мир и дать отображение жизни, не забывая также и минувшие столетья… Я люблю истину, мечтаю о свободе и стремлюсь к ним… Моя теория живет, подобно тому…
— …Она — мертвая! — отозвалась Юля, прервав его. — Ты берешь одиночные явления, упрощенные связи этих явлений. Вместо настоящих людей ты изучаешь примитивные инфузории, каких много в любом золоте.
— Ладно, не учи. И давай чаю…
Юля подняла на него изумленные глаза и, что-то прошептав, ушла на кухню, где давно кипел забытый ею самовар. Обоих утомил тяжелый, затянувшийся спор, о многое оставалось еще неясным…
Она несла самовар, до боли обжигая руки, громко стучала посудой, расставляя ее на столе, оба не смотрели друг на друга.
— Тебе в чай положить сахару? — спросила она после недолгой паузы. — А знаешь, мне почему-то казалось: твоя жизнь, поведение даже в мелочах совпадают с твоей теорией, — не сдавалась Юля. — Ты странно живешь.
— Не вышучивай того, что добыто трудом долгих раздумий. На этом я вымотал силы, постарел… Но не стал «странным»… Впрочем, тебе виднее.
— Прости… я дурно пошутила.
К горлу подкатывал горький комок, но она крепилась, желая доказать Петру, что она не так слаба и безвольна, и в то же время откровенно добивалась того, чтобы хоть чем-нибудь приблизить минуту примирения: разгоревшаяся ссора была ей тяжела, мучительна.
— Ты… писал мне, что собираешься жениться, — начала она, улыбаясь через силу. — Если не секрет, скажи — кто она?
Плотно сомкнув губы, он смотрел в одну какую-то точку на карте, висевшей от него налево; Юле был виден его профиль с прямым тонким носом, крупным лбом и выдающимся вперед подбородком. Она придвинула брату стакан, а он не притронулся даже.
— Я ходила к соседям, к Арише, — продолжала Юля. — Она была рада… Она — красива, у нее очень запоминающееся лицо… какое-то одухотворенное, нежное, но беспокойное… И она очень неглупая. Такие симпатичные женщины встречаются не часто… Звала меня заходить к ней. — Петр все молчал, Юля взглянула на него быстрым взглядом: — Я почему-то сразу почувствовала, что это —
она.
— Обо мне… не спрашивала тебя?
Юле ясно теперь, кого он любит… Конечно, любит, если спрашивает о ней: ведь он одинок, красив, здоров, пора его давно настала.
— Но как же так?.. У ней — муж, дочь. — Юля понимала, на какую скользкую дорогу вступил брат. — Как бы ни были сильны взаимные чувства, это очень осложнит вашу жизнь, хотя бы на первых порах…
Брат молчал.
— Мы с ней станем дружить… Петр, ты любишь ее?
— Да, люблю… но есть какое-то предчувствие… что кончится, пожалуй, печально.
— Это что — эпизод? — с испугом отшатнулась она, отодвинув от себя стакан недопитого чая. — Я отказываюсь понимать тебя… Ты стал неразборчив. Разрушая чужую семью, ты тем самым разрушаешь свою будущую семью. Идти через чужое горе и потом опять вернуться к прежнему своему порогу?.. Это же безнравственно… это нечестно, Петр!..
Он заговорил не сразу, медленно выдавливая холодные, тяжелые, как булыжник, слова:
— Нравственность и право относительны. Нормы моего права — во мне самом. Я — законодатель моей этики. И людям до меня нет дела… Я не интересуюсь, кто как живет, пусть и мне другие люди не навязывают своих рецептов… Я не могу запретить своему сердцу… и не могу отталкивать ее, когда люблю… Впрочем, давай кончим говорить и об этом…
— Но разве это любовь! — изумленно вскрикнула Юля, почти не веря тому, что совершалось.
— Не знаю… Время сильнее нас… Там будет видно.
Она взглянула на него умоляюще, точно просила милостыни или пощады, — и увидела все то же замкнутое, белое, мраморное лицо.
— Какой ты все-таки… бесчувственный… жестокий, — вырвалось у ней невольно. Она уже не в силах была сдерживать гнев и раздражение, в ней все кипело, но не было нужных слов, которые следовало оказать со всею резкостью суждения, — в голове мелькали только обрывки мыслей: — Тебе никого не жаль… ты не в состоянии чувствовать по-человечески. У тебя каменное нутро… Сузанна погибла из-за тебя… Да, ты виноват в ее гибели!.. А теперь хочешь…
— Ложь! — вскричал Вершинин, не дав ей досказать. — Сузанна была экзальтированной женщиной… считала себя талантливой художницей, ее хвалили, а она рисовала только плохие портреты для клубов… Я первый сказал ей правду в противовес другим… и доказал, что она глубоко ошиблась, выбрав путь искусства. Она обманывала себя и публику, а когда поняла это, очутилась у пропасти… За таких не отвечают…
— Нет, отвечают! — воспламенилась Юля. — И сам ты писал мне другое… вспомни, вспомни, что писал. Забыл?.. Забыть такое преступно… Когда я вернулась с пляжа, я нашла ее письмо у себя под подушкой… Могу прислать тебе, если не веришь… Она писала мне, что ты… разрушил в ней желание жить и работать, что она любила тебя, просилась с тобой сюда, а ты не взял, ты бросил ее, потому что не любил… Ты обманул, ушел…
— Ты очень наивна, — процедил он. — Если она писала тебе именно так — значит находилась в состоянии невменяемости. Это своего рода злоба и месть… Ты веришь всем, только не мне. А я — очень несчастлив… И не по моей воле многое происходит не так, как бы хотелось… В этом моя драма…
Глоток остывшего чаю остановился у нее в горле. Отодвинув стул, она медленно встала из-за стола, ушла в другую комнату, где было темно, и, облокотившись на подоконник, долго смотрела в окно… Видны бараки, вдали — конные дворы на пустыре, за ними — лес, глухой и темный, а влево — тусклые огоньки деревни. Чужие места, чужие люди… И брат… Она ехала сюда с такой нетерпеливой радостью — повидаться с ним, единственным братом, который старше ее, которого она любила. Ведь, кроме него, нет у ней никого родных… Приехала — и вот нет брата!.. Он стал для нее чужой, далекий и непонятный человек…
Ночью она не могла уснуть: запах сухих сосновых бревен сводил ее с ума, тишина давила и пугала. Молчать было страшно, а говорить — не с кем и не о чем. Все же среди ночи она окликнула Петра, но тот не отозвался… Ну что ж, это была ее последняя попытка заговорить, чтобы как-то, хоть немного, примирить непримиримое… Бессмысленно протягивать руку и звать человека, который стоит на другом, далеком берегу… Чувствуя свое бессилие, мстительную ненависть к нему и непомерную жалость, она беззвучно плакала в постели, уткнувшись лицом в подушку…
А утром сказала, что едет в Москву: отпустили ведь только на восемь дней. Он не удерживал. Собираясь в контору и не глядя на нее, он сказал с внешней примиренностью:
— Живи… в семье мало ли что бывает…
Она солгала ему, солгала впервые:
— Я не поэтому… мне пора ехать.
Не дожив до срока, она уезжала, жалея об одном, — что напрасно сюда стремилась. Если бы осталась на каникулы в Москве, то, возможно, не постигла бы ее такая тяжелая неожиданная утрата… Он нес ее чемодан до вокзала и не проронил ни слова.
Простились холодно, будто и не жили ни в дружбе, ни в родстве, и каждый про себя подумал: «Суждено ли встретиться? Когда и как? Да и нужна ли будет встреча?..»
Глава II
Начало конца
На четвертый день после отъезда Юли к Вершинину заявился среди бела дня нежданный гость.
— Здравствуйте, хозяин, — развязно сказал Пронька Жиган, и в комнате запахло водкой и махоркой.
Под жестким взглядом лесовода он стоял у порога, снимая белую пушистую шапку и немного пошатываясь на выгнутых нетрезвых ногах. Всю неделю — перед крещеньем — Пронька (по слухам) пил.
— Что скажете? — холодно спросил Вершинин.
— Пришел опять… Пришел за советом и за помощью.
— А именно?..
— Плетни хотим рубить.
— Какие?.. Где?
— «Какие»? Известно… которыми нам дорогу перегораживают… Помнишь, ты насчет «дороги» говорил: ее, мол, отвоевывать надо… Давай помогай. Ты образованье имеешь, в тебе мы очень нуждаемся. Мало нас, а с тобой…
— Что-о?! Ты с ума спятил? Память-то где потерял?..
— Нашел, а не потерял. Стало надо — и вспомнил. Нужда гузном подопрет, так вспомнишь… и человека найдешь, какой требуется… А у нас с тобой одна голова — анархистская…
— В тебе очень много зла. А еще больше фантазии.
— Чего?
— Дурной фантазии. Блажь у тебя в голове, вот что.
— Ну, это как сказать. Фантазия или нет, а ежели вас разобидят до белого каления — тоже, наверно, не обниматься полезете, а огрызнетесь… да и ук
усите. — И белые, как у поросенка, ресницы нервно замигали. — Ну как?.. Пойдешь с нами? — Был он сильно пьян и, по-видимому, соображал туго. — Пойдешь?..
— Не обожгись, парень, — колючим, ненавидящим взглядом уставился на него лесовод.
— Я — не тушить, я — чтобы огня было больше. — Его приглушенный голос, косые взгляды на дверь и эти иносказания, к каким обычно прибегал Пронька, показались Вершинину зловещими. Выжидая, не скажет ли «гость» поопределеннее, он молчал. — Кругом зима, сугробы — обжечься тут негде… А так, ради красного словца сказать, я и большого огня не струшу… Я в самый огонь полезу… А вы?.. Что, трусишь?.. Вы извините: я, конечно, немножечко в данное время выпивши. Но и трезвый сказал бы то же.
— Что именно?
Жиган помолчал, очевидно не решаясь:
— А вот что… скажу напрямик, без игры в прятки: если нужен я вам, то — скажите. Не сейчас, так в любое время, когда занадоблюсь… Когда скажете, тогда и пойду… Любое поручение выполню.
Вершинин вскипел:
— Пошел вон!.. Вон убирайся, вон!
— Не кричи, — спокойно остановил его Пронька, заслоняясь корявой, сильной ладонью. — Шум ни к чему, можете сорвать голос, а меня испугать трудно. А выгнать насильно — еще труднее: вам это опаснее, нежели мне… Прибегут люди: снизу — Горбатов с Якубом, Сотин — за стенкой, рядом живет… Поинтересуются: что за шум, а драки нет?.. И мне придется людям растолковать… Я, конечно, молчать не буду и скажу: он, мол, зазывал меня уговором и подкупом на плохие дела, а я — не пошел на это… Мне могут не поверить, а вам — давно доверия нет: себя-то вы ой-ой как запачкали!.. — И ледяными глазами уперся в глаза Вершинину: — Ты у меня — во! В кулаке. Шепну Бережнову или Горбатову одно слово — и тебя в клетку… А там найдут причину, в протокол запишут полностью… Жалеть вас, кроме Арины, некому, а остальные… и не заметят, что вас не стало: был, скажут, какой-то Вершинин, а теперь — нет… Пришьют правый уклон, вредительство… Подумай, Петр Николаич… Прощевай пока. Завтра вечерком зайду опять.
У Вершинина лязгнула челюсть:
— Зайдешь — пристрелю, как волка!
— Э-э, — отмахнулся Жиган, — этим нас не испугаешь: у меня тоже ружьишко есть, стреляю без промаху… Ни в правого оппортуниста, ни в левого загибщика не промахнемся.
— Не смей болтать! — рванулся к нему с кулаками Вершинин, весь дрожа, и глазами искал ружье.
— Попробуй, — предостерег Жиган. — А лучше всего — помалкивай…
Ничуть не робея, но немного отрезвев, «гость» вышел… В спину ему хотелось запустить табуреткой или, выбежав за дверь, сбросить с лестницы… Вершинин метался из одной комнаты в другую, и было так тесно ему, как никогда не бывало даже в Паранином углу. Стрелка будильника, который почему-то оказался у него в руке, не двигалась с места, а стенные часы, точно набатный колокол, пробили в тишине пять раз… Обессилевший от яростной злобы, Вершинин опустился на кровать, колени дрожали, сердце колотилось неровными толчками. Никогда в жизни он не был так взбешен…
Кто-то постучал в дверь — должно быть, вернулся Пронька. Вершинин угрожающе поднялся, уставясь на дверь. Вошел Горбатов.
— Ах, это вы? — с облегчением вздохнул хозяин. — А я подумал… Садитесь, Алексей Иваныч. — В совершенном изнеможении он придвинул кресло, указав на него рукой.
Но Горбатов оставался у двери:
— Что у вас тут было?.. Зачем приходил Жиган?
— Я знаю так же, как вы, — ответил лесовод, лицо которого было бледно, как беленый холст.
— Мне послышалось… Я подумал, как бы он… не позволил чего лишнего… На чем же «столковались»?
— А что может быть общего у меня с ним?.. Нахал, негодяй, оголтелый пьяница… даже не помнит, куда лезет и что болтает. Трепался тут, — выражаясь его блатным жаргоном… Собирается мстить. — И лесовод, раздраженный, злой, опять прошелся по комнате.
(А сам молча ругал себя: «Вызвал ты нечистого духа своей ворожбой и укротить теперь не сможешь, вот и ври и бойся всего».)
Горбатов молча стоял у двери, что-то намереваясь сказать, но ему мешала эта неистовая взволнованность и раздражение Вершинина.
— Говорил я тогда: прогнать надо. Не послушали, — продолжал Вершинин. — Прощать ему — опасное великодушие… Вот и шатается, мутит воду, интригует, готов на всякую клевету. А мы терпим. — Он взглянул Горбатову в лицо и вдруг понял, что не из-за Проньки пришел тот, а по другой причине… Наталка, конечно, не преминула сообщить ему о поздней прогулке Ариши с Вершининым, и не сейчас ли начнется решительное объяснение… Оказавшийся в невыгодной позиции, Вершинин молчал, выжидая.
— Куда пошел он? — спросил Горбатов. — Не в барак?
— Должно быть… а может, в клуб… непременно затеет скандал.
— Надо туда сходить. — И Горбатов ушел, почему-то не сказав о главном ни слова: или не решился, или несвоевременным показалось объясненье.
Глава III
Схватка
Грузно ввалился Пронька в барак. Не снимая шапки, так и стоял, оперевшись локтем о печь и глядя в пол остекленевшими, мутными глазами.
Бригада только что пришла из лесосеки, и каждый занялся своим обычным делом. Семен Коробов, развернув газету и шевеля губами, водил по строчкам полусогнутым пальцем, читая про себя; Платон Сажин и Ефимка Коробов затопили плиту и чистили картофель в большую кастрюлю; Спиридон Шейкин, сидя на нарах, переобувался.
Коробов с нескрываемой злостью посмотрел на пьяного парня поверх газеты:
— Что, прогульщик, «ударничаешь»?
— Ты уж ударничай, — огрызнулся Жиган, вытирая мокрые губы и морщась от тошноты. — Лезь из кожи, кричи ура, служи начальству: может, орден дадут или персональную пенсию.
— Смотри, как бы тебе не перепало… Таким огаркам, как ты, коленкой под задницу — самая лучшая «премия».
— А мы — боимся? — весь изогнулся Пронька. — С купцом вон премию-то разделите поровну, коль дадут после праздников. А я на такое добро не зарюсь. Купец Шейкин — кандидатура самая подходящая: только и осталось — возвести его в почетное звание и написать портрет-икону… и подпись дать крупными буквами: «Прощенный угнетатель».
Спиридон Шейкин поднял на него плоское, недоумевающее лицо, но промолчал. Жиган подошел к столу, стоявшему посреди комнаты, сел на скамью верхом и нагло спросил Спиридона издали:
— Тебе кто шею-то свернул? Медведь или революция? А, Кривошейкин?.. Хватит денег на фотографию или взаймы дать?
— Подлец ты, Жиган, — хмуро и глухо произнес Шейкин и опять наклонился, переобуваясь в портянки. — Душегуб…
Жиган будто нехотя поднялся, молча пошел к нему с тяжелыми кулаками:
— Ты, лопата-рожа, чего сказал, а? На что намекаешь?.. Подлец я, душегуб?.. Клинья под меня бьешь?.. Клинья? — И с силой ударил его два раза — в левое ухо и по лицу.
Все лесорубы слышали эти здоровенные, хряснувшие удары, от которых качнуло голову Спиридона сперва в одну, потом в другую сторону. Побелев, отшатнулся Спиридон, но с места своего не встал, не произнес ни звука, а когда Жиган отошел от него, опять принялся обувать ногу, руки у него тряслись, а из губ, рассеченных, вздувшихся, густо капала на пол кровь.
Всех возмутила, встревожила дерзкая расправа над пожилым, беззащитным человеком, но лишь один Семен Коробов поднялся против Жигана:
— Ты что, поганец, распустил руки?! — закричал он гневно, с угрозой. — Отрастил рога — и думаешь, пырять можно?.. Что тебе он, неправду сказал?.. Тоже и я скажу: подлец ты, доподлинный подлец!.. Ишь вояка нашелся… налил зенки, людей не узнаёшь. Смотри: так отхлещем, что на полу растянешься, как собака. И к чертовой матери из барака выкинем… живи, где хошь, ходи по белу свету, как с волчьим паспортом…
Семен Коробов знал, что не посмеет на него напасть Пронька, да и ребята поднимутся, как один. Пронька понимал это, но угроз бригадировых не боялся.
— «Выкинем», — передразнил он, и его белые, свиные брови передернулись. — Выкинули одного такого, так сами потом покаялись… Волчий билет отдайте по принадлежности — купцу бывшему… или Вершинину, — он тоже хорош хлюст. А мне — лесорубу простому — хватит и грамотки с печатью, удостоверения личности… Уйти с ней завсегда можно, в любую сторону. И уйду, сам уйду!.. Моя воля вполне свободная. Под началом у тебя, Коробов, все равно не буду… В другом леспромхозе место найду, плакать не стану. Лес рубить — не с портфелем ходить, завистников мало.
Он снял со стены пилу, дверь отворил пинком, и вышел, оставив лесорубов в большом замешательстве. Послышалось явственно, как стукнулась о косяк пила и тонко, с дрожью заныла.
Пила у Проньки была редкостная: гнулась упруго тонкая сталь, звоном звенело широкое полотно, долго не тупились острые зубья. Хороший лесоруб мог пилить ею без точки двое-трое суток, а Коробов, если попадались ему нетолстые бревна, то этой пилой один раскряжевывал их. Осенью записали ее на Ванюшку Сорокина, потом она перешла к Платону (который первые месяцы при своей малоопытности и плохой пиле, «тянулся в хвосте у прочих»). Платон с ней проценты нагнал — для этого Ванюшка и отдал ему пилу. Вскоре к Платону подсыпался Пронька, улещал, как девку, уговаривая настойчиво «поменять пилу на дружбу», и за это давал ему десять рублей. Платон уступил, поверив на слово, — но денег Пронька не отдал, а спрашивать их за казенную пилу Платон не осмеливался… Пронька после над ним же потешался: «Что у тебя, Платон?.. Или заворот мозгов получился?.. Жаль мне тебя, ну только нищие теперь не в почете. Проси пилу у Семена, ежели ты добровольно стал у него под начало… он тебе свою отдаст. У него пила тоже хорошая»… Жиган владел пилою три недели и выпускать из рук вовсе не собирался.
После ухода Проньки первым опомнился Коробов:
— Эй, Платон, Ефимка, Рогожин! Задержать надо… Ведь он казенный инструмент взял… Пропьет.
Лесорубы выбежали из барака, бросились следом за Пронькой и разом настигли. Он очутился посредине и, озираясь, ждал нападения, а улучив момент, ловко выпрыгнул из кольца и, остановившись в стороне, глядел озлобленно и дерзко, смело. Ухмыляясь Коробову, он начал сгибать пилу все больше и больше.
— Бери пилу-то, бери, — подзадоривал он. Пила гнулась, звеня и подрагивая.
Семен Коробов не стерпел и, вскрикнув, бросился к Жигану, а тот быстро, без видимого усилия, сделал руками резкое движение и сложил пилу вдвое, — она хрустнула, как стекло, и в тот же миг полетела в лицо бригадиру:
— Лови, начальник! — взвизгнул Пронька неистово.
Коробов успел увернуться, — две стальные половинки профырчали мимо, а Пронька большими, волчьими прыжками побежал в проулок.
— Связать бы, притащить домой да так отутюжить, чтобы надолго запомнилось! — возмущался Семен Коробов, подходя к бараку.
Лесорубы молчали. Никому не хотелось лезть в открытую драку с Пронькой, которому по колено любое море.
Из-за угла барака вскоре вывернулся Горбатов и, подойдя, спросил Коробова, был ли здесь Пронька.
— Сейчас только что был… И вот смотрите, что подлец натворил. — Семен показал две половинки пилы. — Нагадил и убежал.
В бараке гнев и возмущение развязали языки ребятам. Перебивая друг друга, кричали наперебой:
— Хватит, натерпелись!
— Выгнать из барака, пускай идет на все четыре стороны.
— В бригаде от него нет спокою, только и жди беды… Алексей Иваныч… примите какие-нибудь меры: ведь всем надоел до смерти.
— А куда он ружье-то дел? — первым спохватился Ефимка Коробов, случайно взглянувший на стену. — Утром оно висело.
— Наверно, пропил, дурья башка, — решил Семен Коробов. И было похоже на то, что вершининское ружье Жиган действительно пропил. — И вот — человека избил.
Горбатов подошел к Спиридону Шейкину: тот сидел в стороне от всех, в углу за печкой, вытирая с разбитого лица кровь холстяным рушником, но кровь по усам и щеке только размазывалась.
— За что он тебя?
Спиридон ответил не сразу:
— Не пошел в его компанию… за это, должно быть, со зла и мстит.
— А что у него за компания такая?
Пронькиных запутанных ходов Шейкин не знал: когда справляли «именины» в Никодимовой землянке, Жиган открыть свои главные козыри не успел, — Шейкин и Платон Сажин ушли раньше, не досидев до конца, а после даже не допытывались, на чем именно сговорился Жиган с Самоквасовым. Путаться с такими боялись оба — и Шейкин и Сажин, а об «именинах» решили молчать, чтобы не навлекать на себя напрасных подозрений.
Но Горбатов ждал и задал вопрос вторично.
Спиридон посмотрел на Платона, молча лежавшего на своем топчане лицом к стене, и, обдумывая каждое слово, сказал:
— Жиган вообще всех тянет обратно к артели, бригадный метод ему не по нутру. А как напьется, то — совсем бешеный… Таких в старое время вязали веревками…
Горбатов из барака ушел.
Глава IV
Кого называют сироткой
Уже наступала пора применить законную меру к бесшабашному парню, — и если бы не два обстоятельства, загородившие Проньку, Горбатов не колебался бы ни минуты…
Неделя была крещенская, пьяная; упрямый, седой обычай туго шел на слом, — недаром глухая рамень, по сводкам райисполкома, отмечалась как наиболее «трудный угол» Омутнинских лесов. А главное, у самого Горбатова вторично рушились те своды, под которыми жилось до этой зимы спокойно.
Три дня назад Параня Подсосова, встретив его на лесном складе, по секрету поведала о тайном, повторившемся свидании Ариши с Вершининым… В ее обнаженных словах правда совмещалась с жестоким наговором старой въедливой сплетницы, потому что для нее пересуды о чужой жизни были самой сладостной пищей, заботой и утешением… Случилось так, что Горбатов не мог избежать этой нежданной встречи с Параней; ее сообщение, полное вздохов и киваний, выслушал поневоле и как-то вскользь, — тем не менее оно оставило в душе горький, разъедающий осадок. А днем позже Наталка — уже из искренних побуждений — рассказала о вечерней встрече на улице Вьяса, когда шли с Ванюшкой в клуб, и на дороге, лицом к лицу, столкнулись с Вершининым и Аришей… Наталка была чувствительной и доброй и, скорбя о незадачливой судьбе Алексея, не могла ничего утаивать.
Да и без этих сообщений копились новые улики, доказательства новой неверности жены… В щитковом доме, в неугаданный час, Арина снова
поддалась соблазну. В плену опять разгоревшейся страсти она утратила остатки сил к сопротивлению и безвольно, покорная попутному ветру, шла куда-то без пути-дороги, с завороженными, широко открытыми, но невидящими глазами…
Душевный переполох, в котором она металась опять, не укрылся от Алексея. Скользящий мимо взгляд, изменившееся лицо с припухлыми, несытыми губами — стали ему чужими, ненавистными и вызывали в нем клокочущее раздражение… Данная в лесу и скоро нарушенная клятва представлялась теперь лишь одним звеном в цепи давным-давно скрываемой измены, и будь люди поглупей, попроще, Арина сумела бы, наверно, долго, без конца хоронить свою тайну.
Затаив тревогу в душе, Алексей выжидал — озадаченный и изумленный, а она продолжала свое. Когда оставались вдвоем хоть ненадолго, торопилась скорее куда-нибудь уйти, в клубе задерживалась дольше, чем требовала работа, а придя в сумерки, а то и вечером, принималась за домашние дела, — чтобы Алексею было трудней найти время для неминуемых объяснений. На ночь она укладывалась вместе с Катей, а он сам готовил себе постель на широком диване в другой комнате.
Неожиданный приезд тещи из города и неопределенный срок ее гощенья лишь подтверждали одно — далеко идущее намерение Арины; мать приехала в такое время неспроста: она не собиралась к ним зимою в гости. Не иначе, Арина вызвала ее сюда.
Пожилая, с мелкими чертами хорошо сохранившегося лица, чистенько одетая, молчаливая женщина (на сороковом году вышедшая замуж вторично) вызывала в Алексее недоброжелательное, почти враждебное чувство… Обе они — дочь и мать — имели, казалось ему, одинаковую натуру, и теперь в сговоре против него. Теща старалась держаться в стороне от их семейной драмы, но, судя по всему, виноватым считала не дочь, а зятя, и сама ни словом не обмолвилась о том, что успела приметить за Ариной.
Квартира Вершинина была над ними, во втором этаже, и деревянная, в два марша, лестница вела наверх от двери горбатовской квартиры, — поэтому было легко устраивать свидания почти в любой день, и, кроме тещи, никто не мог бы заметить…
Утром, перед уходом в контору, когда Арина с ведрами ушла на колодезь, Алексей подошел к теще и, осуждая ее в душе, сказал отчетливо, чтобы дошло каждое слово:
— Ты — ей мать… (Она выжидательно, с испугом молчала.) Неужто не видишь, что Арина… распустилась? Почему ей ничего не скажешь?
— Алеша, милый… вмешиваться в ваши дела не могу я. Без меня ведь жили семь лет. Человек я временный — побывать только. Уеду, а вам опять жить одним… Тут я и не знаю, на что решиться.
— Она тебе как писала?..
— Когда? — будто не поняла и припоминала теща.
— В последнем письме… Она ведь звала тебя?
— Особенного ничего… И не звала даже… Я сама собралась… Как вас рассудить, кого винить — право, трудно. Тебе-то, мужчине, начать сподручнее… поговори с ней, уладьте сами…
— А ты за ней… ничего не замечаешь?
— Как будто ничего… — Пряча глаза, которые умели видеть многое, она ушла к печке: там что-то зашипело на горячем поду, и это для «гостьи» было достаточной причиной прервать нелегкий разговор.
После обеда, когда теща (наверно, с целью) ушла в магазин, он затворил дверь в спальню, где Катя играла в куклы, и, остановившись у окна, сказал жене глухо, лишь для нее:
— Конца не видно обману… Я надеялся тогда, простил, думал — опомнишься. Ошибся… Больше не стану навязывать тебе своей воли… поступай, как подскажет совесть, если… хоть крупица осталась совести. Но от нас — уйди… Давно пора это сделать.
Будто разучившись говорить с мужем, Арина промолчала. Дрогнув темными бровями и чуть побледнев, она отвернулась и суетливо, без надобности принялась оправлять детскую постель; белые, словно надутые пальцы ее бегали по зеленому байковому одеяльцу, разглаживая складку вдоль.
Но Катя услыхала. Потихоньку, робко отворяя дверь, она сперва выглянула из спальни, потом, обойдя стол, стоявший посредине комнаты, усадила Аленушку на диван и подошла к отцу.
Арина взглянула мельком, и хотя обоим пора идти на работу — часы показывали ровно три, — ни тот, ни другой не уходили. Она долго вдевала нитку в игольное ушко, надумав пришить оторвавшуюся вешалку у Катиного пальтеца.
— Оставь, — не стерпел Алексей, — не об этом тебе забота.
Она все же закончила и, оставив пальтецо на спинке стула, начала одеваться — молча, пугливо, будто муж и дочь станут у порога рядом и собою загородят ей дверь. Перед уходом напомнила Кате:
— Вернется бабушка, сходи погуляй. Сегодня тихо, тепло.
— А когда она придет? — спросила Катя.
— Наверно, скоро.
Дверь затворилась за нею. Отец и дочь остались вдвоем, и оба, обнявшись, смотрели в окно: улицей, среди сугробов и редких сосен, по глянцевой, накатанной дороге вдаль уходила мать… Отец сидел, привалившись к спинке стула, а Катя стояла у его колен, обхватив его шею рукою. Другая рука лежала на подоконнике, и отец, разглядывая маленькие пальцы с тонкой белой кожицей, заинтересовался чернильным пятнышком на мизинце:
— Пальчик-то зачем разрисовала?
— Так, — вздохнула она. — Карандаш пробовала.
— Кукле тоже разрисовала?
— Да… одни мизинчики. — И, подняв на него задумчивые, печальные глаза, опять (как несколько дней тому назад) запросилась в Наталкину хату.
— Что ты, Катенок! — вздрогнул сердцем отец. — У тебя здесь две комнаты, тепло, светло, играть просторно, а там — сыро, тесно и холодно.
— Нет… там лучше.
Собираясь в контору, он попросил дочку проводить его до лесного склада, и она быстро, как взрослая, надела беличью шубку, заячий малахайчик и пошла с ним, держась за его руку.
В сторонке от дороги лежали на снегу сброшенные с воза еловые ветки. Катя сравнила их с «травкой, с лужком», а оторвавшись от руки отца, побежала по плотному насту, не проваливаясь. Немножко попрыгав на зеленой хвойной подушке, в которой тонули белые валенки, Катя вернулась к отцу, — видел он: не до игры ей было вообще.
Подойдя к лесному складу, он сказал:
— Не пора ли, доча, тебе вернуться?..
Она подняла задумчивые, темные, неспокойные глаза:
— Папа… если у которой девочки уйдет мама, то сироткой звать будут?
Застигнутый врасплох и уличенный, он не скоро нашелся, что сказать, а отвечая, сам чувствовал фальшь в словах и в собственном голосе.
— А если папа уйдет от девочки, она тоже будет сиротка? — Не дослушав его, она с тревогой и грустью спросила еще: — Ты уйдешь от нас?
Отец ужаснулся:
— Что ты, дочка?! Разве я могу от тебя уйти? — Нагнувшись, он обнял ее рукой и заглянул в тревожные, ждущие детские глаза. — Я люблю тебя, ты — моя родная дочка.
— А мама… уйдет?
На этот прямой вопрос он ничего внятного не мог ответить, но и не мог лгать. Он только обещал дочке — «поговорить с мамой».
— Катенок мой, не волнуйся… Иди домой… Вон бабушка идет из магазина. Беги к ней. И никогда не думай про это.
— Я не буду думать… а вы — помиритесь…
И она пошла обратно, и не оглядывалась, хотя он долго смотрел ей вслед: в ее неуверенной, не по-детски медленной походке видел что-то одинокое, сиротливое и беспомощное. Сердце сжалось у него до боли… и вплоть до конца работы не затихала в нем эта мучительная, обжигающая боль.
Чувствуя неладное в доме, девочка затихла, насторожилась, — она понимает все… Прежде звонкий, повелительный голос ее стал робким, неуверенным; капризы и громкие, раздраженные слезы перемежались тихими, в уголке, слезами и долгим молчанием… Иногда по-прежнему она подбегала к порогу, заслышав отцовские шаги в сенях, а когда входил он, уже не кидалась к нему с радостным криком, не обшаривала его карман, где всегда оказывались на случай орешки или конфеты, а молча ждала, пока вынут и дадут ей. А вчера даже не вышла встретить его, — так и осталась в уголке за своей кроваткой и смотрела на отца издали, молча, почти пугливо.
Весь этот день он видел перед собою ее растерянное лицо с глазами оробелыми, полными грусти и страха. В детской смятенной душе происходила своя борьба. Кому верить — отцу или матери? Кто из них лучше? Кто ей нужнее? На чью сторону перейти ей?.. Избрать одного из двоих — ей не под силу, и она не хочет избирать: ей нужны оба, оба вместе. Для нее они — «оба лучше», и никого нет дороже «папы-мамы», как часто произносила она раньше, воедино сливая два разных слова.
Катя чувствовала, что они — отец и мать — уже опять не вместе, короткий мир почему-то кончился, и она боится, угадывая, что один из них уйдет от нее куда-то, и ей будет плохо, «трудно всю жизнь» (так говорили ей девочки постарше), но изменить что-либо она не может, а сами они не говорят между собою, молчат об этом. Поодиночке ласкают Катю, словно стыдятся друг друга, и она не знает, как примирить их… Примирить так, как бывало в Наталкиной хате, — чтобы они улыбнулись, обнялись, поцеловались, и Катя забралась бы к ним на постель, чтобы лечь между ними и обнять обоих разом…
Глава V
В ожидании
Назревших событий Вершинин ждал отнюдь не сложа руки — он уже списался с одним из вятских леспромхозов, где обосновался его приятель по Верхокамью, и на прошлой неделе его известили о подходящей вакансии. На конец января приурочивая переезд на новое местожительство, он предупредил Аришу, и в первую минуту она даже всполошенно обрадовалась выпавшему жребию, а потом, оробев, отступила назад:
— Ты не торопи меня, Петр… я обдумаю и дня через два скажу. Я не могу так, сразу…
Он нервно ждал, веря, что это рано или поздно должно произойти, но было б очень жаль упустить единственную возможность переезда, которая, в случае Аришиного промедления, неминуемо выскользнет из рук. Условленный вчерашний день — пропал: Ариша, живя в нижнем этаже того же дома, не передала даже короткой записки!..
Возможно, Арише не хватало решимости порвать с Алексеем сразу и, переступив порог, не оглянуться назад. Или она, любя Вершинина, все же не вполне доверяет ему, боится за себя?.. Недаром сказала однажды: «Счастье не там, где ты». Значит, мало любит?.. Тогда что же, в конце концов, ей нужно? И до каких пор будет тянуться эта неопределенность — угнетающая, опасная, обкрадывающая их обоих?..
Он прилег на постель, чтобы забыться, заснуть хоть ненадолго, но сон не шел, мысли перебивались воспоминаниями, которым не хотел давать над собой воли.
Смеркалось. В неровном тускнеющем свете поблескивал вороненый ствол берданки на стене. Видимые в окне березы, опушенные густою бахромой и чуть тронутые по самому верху набегающим последним отсветом заката, грустно никли в холодной красе, покорные своей судьбине… Было досадно, что у Ариши нынешний день не уживался со вчерашним и однажды решенное пересматривалось сызнова, а вполне ясная и, казалось, прямая дорога в будущее представляется ей сейчас перепутьем неиспробованных, скользких дорог в тумане… Где ж ее счастье? В прежней семье? Но она не любит Алексея!.. А счастье — не вещь, его не делают ни по заказу, ни по плану… Не будь Ариша такой неустойчивой, мятущейся безвольно, расчет Горбатова — оттолкнуть соперника со своего пути и новым примиреньем с женой постепенно оживить давно подсыхающие в семье корни — несомненно оказался бы ошибочным…
Впрочем, не однажды мирились они, и пусть ненадолго, но Вершинин каждый раз вынужденно отходил в сторону… Не перемирие ли там опять?.. Как же теперь уведомлять Вятский леспромхоз о сроке переезда, о чем настаивал, как на непременном условии, приятель, упомянув при этом, что ждать долго, с полмесяца например, ему нельзя. До срока, оговоренного в письме, Вершинину оставалась одна неделя. И уж совсем не ко времени занемог Буран, никогда не хворавший прежде. Расставаться с собакой жаль, а везти больную поездом не разрешалось, как узнал он на днях у сотрудника станции.
Вершинин зажег настольную лампу. В недочитанной книге полистал страницы с собственными пометками, — ничто не увлекало сегодня в привычный поток. Постояв над Бураном с полминуты, спросил раздумчиво:
— Ну-с, мой друг, как же быть с вами?
Буран даже не привстал с места, — ватная подстилка на полу была ему теперь всего нужнее, — только шевелил черным мохнатым хвостом да следил за каждым движением хозяина умными помутневшими глазами, как бы говоря, что сам здесь остается поневоле…
Обеспокоенного пса Вершинин погладил по голове:
— Ничего, лежи, лежи. Потом сходим вместе…
С ружьем на плече он тихо спустился по лестнице, а проходя мимо горбатовской двери, не услышал ничьих голосов…
Бесцельно шел он по лежневой дороге, углубляясь в лес. За поворотом уже не видно стало поселка. Огромная — нигде ни звука — тишина легла над миром, и в мглистом небе не видать ни одного далекого огня.
У первой рубленой и незаконченной делянки он становился, постоял недолго, потом, посбив заледенелую корку снега, долго сидел на старом пне, опершись обеими руками на ствол берданки… Слышалось вокруг, подобно далеким всплескам моря, шумное дыхание обступивших его лесов, звенела вдали чья-то напевная, бесконечно грустная легенда о счастье, которое приходит с нежданной стороны, приходит лишь на короткий срок, потом, так же неприметно на первых порах, покидает тебя, чтобы не повториться в жизни — ни в чьей и никогда…
Среди поредевших облаков он приметил народившийся недавно месяц… И одновременно с этим хлынули опять воспоминания, каких невозможно отогнать… Среди них неодолимо надвинулся на него трагический образ Сузанны, возникший в далекой беспокойной тьме… Петр Николаевич оглянулся: кругом темно и безмолвно, только в вершинах сосен, под низким пологом неба, шумит монотонно ветер да едва-едва, почти неощутимо, кропит светом луна — единственный и безучастный свидетель его тоски, новых надежд и скитаний… Зажатое между колен ружье Вершинин почему-то сравнил с надежным другом до конца — и не подивился внезапно пришедшей мысли…
Вскинув берданку на плечо, шагал обратно, а взбираясь на пригорок, опять вспомнил тот, казалось, далекий час, когда ноябрьской ночью возвращался от углежогов, смутно мечтая о первой встрече с Аришей… И опять наступала в памяти метельная, оглушающая ночь, когда отважно, всему наперекор, по зову чувства пришла к нему Ариша, найдя в кипящей суводи дорогу к Параниной, на самом краю поселка, неприметной в сугробах избе…
Подходя к щитковому дому, он видел яркий свет в окнах нижнего этажа, где жили Горбатовы; во втором этаже горел огонь — у Сотиных, а три окна в его квартире были пусты и черны, словно выгорело все в этой части дома…
В потемках сеней, у лестницы, он неожиданно встретил Аришу, — она только что вышла от жены Сотина и на минуту задержалась у своей двери.
— Вам письмо, — сказала она.
Он обрадовался ее голосу, посмотрел на нее долгим ждущим взглядом, но тьма мешала разглядеть что-либо. Так с полминуты они простояли молча, у самой двери Горбатовых. (Алексея нынче вечером не было дома.)
— Давно принесли? — спросил Вершинин, принимая письмо.
Вместо ответа она произнесла торопливым шепотом, неразборчиво два каких-то слова и, рванув на себя дверь, ушла, не дав переспросить; а то, что недослышал он, было: «Не жди… не приду».
Его сердце билось неровно, и совсем не скрипели ступеньки под ногами, когда он поднимался наверх…
В комнатах, когда зажег столовую лампу, все показалось ему чужим, ненужным, фальшивым… На синем поле конверта мельтешили незнакомые строчки, не вызывая и малого любопытства. И только затопив печку, он взял его…
Писал старый приятель, с судьбой более удачливой, нежели у Вершинина. На последнем курсе они дружили, вместе были на практике в Верхокамье, а разойдясь по разным меридианам страны, переписывались не часто, делясь в основном запоздалыми лесными новостями да кое-чем, чуть-чуть о себе… Уже с нового места — из Соликамска — протягивал сюда «десницу» неугомонный сосед по студенческой парте.
«Строим лесохимический завод, — сообщал приятель все тем же зычным голосом, будто опять объявлял на всю аудиторию очередную новость. — Прекрасная тайга! Болот не счесть, непуганой дичины — туча, пострелять есть чего, коль забрести подальше да не жалеть времени. Я же охоту бросил — по той единственной причине, что отпущено мне времени вдесятеро меньше, чем отцу — пахарю в лаптях, зато общая цена работы приблизительно в миллион раз превышает отцовскую и дедовскую. Как видишь, арифметика не в пользу ружья с собакой. Итак, пишу наспех: помня о тебе, делаю одно предложение, — не без гордости, очевидно, добавлял приятель. — Если хочешь, приезжай, устрою. А коль женился, с чем давно бы пора поздравить, то — низкий поклон избраннице! — забери ее с собою… Жилье найдем, людей нам надо много…»
Жизнь, необыкновенно щедрая в одном и удивительно скупая на другое, заставила Вершинина улыбнуться:
— Спасибо, Виктор, за услугу… Ну вот… две отличных вакансии, а ехать не могу: все жди, считай пропадающее время…
В сердцах брошенный конверт упал мимо, на пол, — так и ходил он, ступая через него по новым, купленным Юлей, дерюжным дорожкам.
Сухие поленца звонко, наперебой потрескивали в печке, розовый сноп света падал поперек комнаты. Буран перебрался поближе к огню, но, не решаясь занять новое место, поднял на хозяина затуманенные недугом глаза и улегся не раньше, чем разрешили:
— Ложись, ложись, грейся…
Письмо на полу кололо глаза, начинало даже раздражать; он поднял его и бросил в печку, чтобы предать огню, как окончательному забвению… Жадное, прилипчивое пламя уже пожирало край, живое становилось пеплом, — и только в этот, последний момент Вершинин выхватил его обратно, заметив что-то: на нетронутом углу конверта было написано рукой Ариши:
«Жди, я приду»…
Глава VI
Советы друга
Авдей Бережнов был в этот вечер немного грустен — с впалыми глазами, с непобритым лицом, но встретил Алексея радушной улыбкой.
— Кстати пришел… Я ведь именинник нынче: с утра сорок третий пошел.
— Так угощай, — невесело напросился гость.
Скоро из другой половины избы квартирная хозяйка принесла самовар, начищенный ради праздников до блеска, и сама, одетая в новую кофточку и юбку, простоволосая, степенно-приветливая, расставляла на столе посуду.
— Мы чай-то попили, это для вас, — сказала она Бережнову. — Вот и Алексея Иваныча попотчуйте пирожком… с груздями… Одни управитесь — у меня еще корова не доена. — И ушла.
Авдей вынул из буфета портвейн, две больших стопки, по привычке засучил обшлага черной сатиновой косоворотки и принялся угощать. Горбатов через силу пошутил, что «новорожденному» следовало бы поторопиться со вторым браком: не век же коротать вдовцом.
Но вдовец, давно похоронивший близкого человека в далекой, изрытой снарядами, украинской степи, еще многое берег в своем сердце… И нынче, точно наяву, Таня явилась к нему опять — по-прежнему молодая, с заветренным, свежим, раскрасневшимся от мороза лицом, с живым напряженным взглядом бойца, — пришла к нему опять, но был грустен, суров этот праздник встречи, где только в воспоминаниях вставал перед ним оживший образ…
…Именно такою — в шинели, с красным крестом на рукаве — и помнит жену Авдей… Рассказывая Алексею, он смотрел перед собой взглядом задумчивым, сосредоточенным, далеким…
— В Старобельске мы нашли друг друга… случайно встретились: пошел в санчасть навестить раненого товарища и повстречал ее. Смотрю: идет из полевого госпиталя, от палатки, такая… свежая, прочная, быстрая, а рука вплоть до локтя забинтована… День-то был теплый — конец мая, — так она в гимнастерочке под ремень и без картуза. Вижу: боль прохватывает ее до самых бровей, а ничего, терпит, глядит бодро. «Поранили?» — спрашиваю. «Ничего, пустяки, заживет скоро». — «А как случилось это? Не в бой ли сунулась?» — «Как то есть сунулась?.. Я медфельдшер, на войне бывает всяко. А почему так удивленно смотрите?» — и улыбнулась.
А я, действительно, гляжу в ее глаза — и не могу оторваться. И чувствую: вот это она самая и есть, какую мне надо в жизни… Так, с этой думкой, и проводил ее до хаты, где расквартировались ее подрули… Таня Роговая звали ее… По счастью, задержались мы в Старобельском, три недели полностью прожили, отдыхали, формировались после боев заново. Почти каждый день удавалась встреча: на перевязку ее провожу и обратно провожу до хаты… Ну, так вскоре и поженились, а потом вместе пошли по дорогам и бездорожью гражданской войны…
Как-то летом, под Богучарами, в самом разгаре боя, на глазах у командира нашего, нагнал я одного «штабса» и рубанул со всего плеча… Здоровый был дядя, а развалился. Пока офицер сползал с седла, я конька-то за поводья схватил, — уж очень хорош был конь… И привел командиру, а тот мне подарил… Добрый конь: меринок крупный, гнедой, на лбу проточина, задние ноги в белых «носочках». Умница, в боях бывалый, а горячий, как ветер!.. Громом я его прозвал… По осени когда переходили Дон, убили подо мной Грома — пулей в самую грудь. Метров сто пробежал — и рухнул… Тяжело умирал конь, долго бился…
Вскоре начались страшные бои, даже земля гудела, и пыль такая — ни зги не видать, а вместо солнца — багровое пятно колыхалось в тумане. Случилось в ту пору быть с нею вместе в пешем бою… Конный полк беляков прижал красноармейские цепи к самому берегу Десны, смерть гремела над головами, волна за волной, озверело кидались конники в атаку. В круговой обороне занимал и Авдей свое место стрелка. Кто-то подполз к нему сзади, толкает в ногу: «Авдей, голову береги, голову!»
Он оглянулся: Таня!.. И как она в таком непроглядном аду нашла Авдея, трудно понять…
На этот раз только пулеметчики спасли дело: атакующих пьяных конников подпускали метров на триста и били из максимов в упор. Навзничь весь полк опрокинули, немногим удалось ускакать от смерти… Так военная буря тех лет и носила Авдея и Таню по степным просторам — то вместе, то порознь…
— И как хотелось от нее сына! — вспоминая, горевал Авдей…
Осенью, на первых месяцах беременности, она осталась в Коростени в полковом госпитале, а часть, где находился Авдей, бросили на Овруч, а когда снова проходили через Коростень, Тани уже здесь не было… Через два месяца удалось найти ее след. Редкие вести, какие стал получать он, не подтверждали постоянных его опасений за ее жизнь.
В зимних боях, в метелях двадцатого года пропал ее след, и он даже не знал, в каком направлении искать ее… Только в начале марта в Черкасах, куда подоспели на вызов утром, он узнал о ее гибели, настигшей врасплох… Накануне грянул на Черкасы отряд махновцев — полторы тысячи сабель. Что могли против них сделать две сотни бойцов да полторы сотни раненых, лежавших на койках в школе?.. Была неравная схватка, длившаяся, однако, до полуночи, — из числа защитников уцелело менее тридцати человек, но среди них не оказалось Тани…
Авдей не предполагал, к кому на выручку скакал на коне целых двое суток. Когда на пятый день не осталось в Черкасах ни одного махновца, он пришел в школу, где ранее помещался госпиталь, и вдруг догадался опросить о Тане Роговой…
— Такой у нас не было, — ответила ему уцелевшая в одном из погребов пожилая санитарка. — Таня Бережнова у нас была… но ее уже нет… Позавчера схоронили…
И она повела его к кладбищу, к братской могиле…
— Не поверишь, Алексей… словно мне горячей золой засыпали всё в груди, — проговорил с трудом Авдей. — Ни жены, ни сына не стало…
Он отошел к окну и смотрел в темноту зимней ночи, откуда пришли к нему не забытые за десятилетие родные тени…
— Пирог-то с грибами — бери… и чай у тебя остыл, — заметил Бережнов, опять подходя к столу. Он допил портвейн и, понуждая к тому же и гостя, поделился еще одним воспоминанием: — Два года тому назад встретилась мне одна… хорошая, умная женщина… Совсем было сладились, но… поглядел, поглядел — нет, думаю, Таня была лучше… Так и тяну вот… Конечно, с бабой потеплее живется, особенно если человек любимый да девочка или сынок растет. — И к слову спросил: — А у тебя как?
Горбатов будто не расслышал, но по тону Авдея, по выражению лица, по взгляду понял, что не сейчас он надумал спросить об этом.
— В семье-то неблагополучно, — повторил Авдей, не спрашивая, а утверждая.
Тяжело говорить о собственных недугах, не всегда помогает и друг, к которому придешь за советом, но Авдей надеялся: вдвоем легче найти выход…
— Наверно, придется разойтись, — с трудом выговорил Горбатов.
Он начал исповедь свою с конца, потому что был к нему всего ближе, и, опустив голову, ни разу не взглянул в лицо Авдею, который, слушая с вниманием обостренным, смотрел на него пристально.
— Ты, Алексей, не торопись, — остановил Бережнов. — Ты обстоятельно мне всё… Понять мне надо: что у вас и как?..
Горбатов топтался на одной мысли, заслонившей все остальное, говорил о том, что эта мера будет иметь уже то положительное значение, что Арине не нужно будет лгать, все разместится по своим местам, приобретет форму законности, которой не нужны личина и обман, и тогда пойдет все по-другому…
— Еще бы, — почти согласился Бережнов. — Время, говорят, хороший хирург: оно вылечивает и не такое.
Наливая вина себе и гостю, сказал требовательно:
— Давай выльем… и поговорим напрямки… Тебя я виню во многом.
И когда выпили, Бережнов посмотрел на него придирчиво и жестко:
— Почему ты проглядел то, что назревало исподволь? Неужто было невдомек тебе, что в семье ненормально?.. Ведь не одной же работой семья держится… Надо — где строгостью, где лаской, где внушением, где добрым словом, но линия должна быть одна — сохранять семью… А ты сберег ее?.. Присматривался я: ты — сам по себе, Арина — сама по себе. Друг за друга вроде не отвечаете. Ты — мягок, уступчив, не зорок. Она — безвольная, а из-под твоей воли ушла. Уходила постепенно, — ты даже не заметил, когда началось. С какой стороны становится уязвимой твоя семья — ты даже не задавал себе вопроса… А теперь ты просто малодушен, плывешь по течению… Арина избаловалась от твоей мягкости, потеряла уважение к тебе и к себе. А твоя отдаленность от семьи ускорила ее падение, — вот и разрыв… Хочу сам потолковать с ней… как она на все смотрит?
— Не надо… Это не поможет, — махнул рукой Горбатов.
— Почему? Неужели уж так безнадежно?
— Я прошу тебя: не надо.
Авдей помолчал, опять посмотрев на него взглядом, полным удивления и укора:
— Разводов всяких много. И в каждом люди считают, что они
вынуждены пойти на эту крайнюю меру, что они
вправе так поступать… А я осуждаю, решительно осуждаю!.. Тебя и Арину я перестану уважать… Можно и понять и оправдать развод, но какой?.. В старое время нередко выходили замуж по принуждению, по тяжелой неволе. Бывало, продавали девушку, как товар. Любовь и семья зачастую не совмещались, — уклад жизни был такой! Жизнь становилась для женщины невыносимой… Конечно, в таких условиях уход от мужа (или развод) — явление вполне законное, справедливое… А вы что?.. Ты выбирал себе жену сам, выбирал из многих. Арина выходила замуж добровольно, никто ее не принуждал, не приневоливал. Женились по любви… Так ведь? И у вас есть дочь. Всё у ней еще впереди, даже букварик!.. А вы собираетесь сделать ее сиротой… За что вы ее?.. Во имя какой цели отец и мать изготовились калечить своего единственного ребенка?.. Изломать семью просто, тут никакого ума не надо… И странно: прожили всего семь с половиной лет — и уже всё?.. А что дальше? Плыть по волнам? Заводить другие семьи? И тоже на время?.. Ишь какая легкость в ваших рассуждениях!.. И даже с ней говорить «не надо»?..
— Я не запрещаю, — промолвил на это Алексей, уступая.
— А надо сказать: Арина — слепая, эгоистка, бредет в тумане, а туман этот напустила на себя сама. Не умеет разобраться: где счастье и долг ее, а где — пропасть, позор и горе. Да, не умеет!.. И ты не помог ей в этом. Ты опустил руки, отступился. Вместо трезвого учета, анализа, вместо собранности сил и воли — у тебя только раздражение, обида и уязвленное мужское самолюбие. А где характер, воля и энергия коммуниста? Не вижу их… А очень хотелось бы видеть именно сейчас, в трудное для семьи время… Ну, что молчишь?.. Я ведь еще тогда все понял, когда она запросилась на работу…
Поднявшись от стола, за которым сидеть на одном месте стало невмочь, Горбатов прошелся по комнате:
— Что я скажу, если от меня зависит не все? Если бы я…
Бережнов нетерпеливо перебил его:
— Про то и речь идет: от тебя не зависело, а должно было зависеть главное… Блажь вступила Арине в голову — сперва от безделья, от того, что дела себе не нашла, сидела дома… Стало «скучно», «примелькался» муж. Забыла, что она — прежде всего мать, жена коммуниста, ответственного секретаря парткома… Обмещанилась, потеряла чувство гордости за свою семью, забыла честь и долг матери… Вот и поползло все под гору, как по мокрой глине. Я убежден: она даже не отдает себе отчета: что ей надо? куда идет? Вслепую идет!.. Мол, «не в силах бороться с новым чувством»… И держит про себя мысль — о
честности ухода от мужа… Ох, совсем не новы эти банальные мысли! — Авдей досказал это с досадой и огорчением.
Горбатов молчал, понурясь.
— Ты, Алексей, плохо Арину знал. А следовало бы не пожалеть труда — не только узнать с исчерпывающей полнотой, но и что-то сделать для ее воспитания и роста… Почему, например, у Арины нет подруг? Ты думал об этом? Нет… Почему бы ей не дружить с Еленой Сотиной? Умная, молодая, неизбалованная женщина… А ты даже не интересовался этим. Ведь это имеет в жизни огромное значение. Да и себя ты, Алексей, знаешь не лучше. И от меня таился. Неужели бы я не пришел к тебе на помощь в самом начале пожара? Даже сегодня начал разговор не ты, а я.
— Хотел я, да не решился, — признался Горбатов с таким убитым видом, что Авдею стало тяжело и больно смотреть на него.
— Ладно… Вот что, Алексей: не откладывая, обсудите с Ариной всё начистоту, прямо. Обдумайте честно и не решайте ничего с маху. Почин должен быть за тобой. Раз уж случилось такое, следует каждому кое в чем поступиться, найти общие мотивы, чтобы обоюдно прийти к справедливому решенью… Только главного не забудьте: у вас дочь… Вы оба в неоплатном долгу перед ней… Пока в семье не сгорело все дочиста, тушите… Ту-ши-те!.. Я на днях приду к вам…
Наступило молчание. Никто больше не прикасался к еде. В двух недопитых стопках струился розоватый обманчивый свет, падавший от висячей лампы. За дверью, в соседней комнате, тоже была тишина, — хозяева уже улеглись спать. Бережнов опять подошел к окну и с минуту смотрел на холмистые сугробы, на темные в отдаленье леса и думал уже о том человеке, с которым так бессмысленно и опасно сплелась судьба горбатовской семьи.
— Вершинина я уберу, — сказал он, додумывая прежние мысли. — Через райком партии уберу… Я рассказал там обо всем.
Алексей отпил, что оставалось в его стопке, и, чуть порозовев, ответил общей фразой, но она была чиста и прямодушна, как сама откровенность:
— Ты думаешь, я не смогу работать, как раньше?.. Смогу при любых условиях, если даже…
— Бессмыслица, — отверг Бережнов. — Жестокая бессмыслица! — повторил он с силой. — Я не хочу, чтобы это у вас произошло… Вершинина я уволю… он мне не нужен. Когда его здесь не будет, у вас в семье скорее наступит порядок.
Почти перед уходом Горбатов напомнил Авдею о Проньке: надо было решать окончательно, как быть с ним. Но тут постучали в дверь.
— Войдите, — ответил Бережнов.
Дверь отворилась со скрипом, и через порог переступил тот, кого никак не ждали в это время. Горбатов обернулся с удивлением, а Бережнов с какой-то особенной серьезностью обшаривал глазами небольшой свой стол, точно выбирал, что съесть еще.
Вошел Пронька Жиган. Кудрявый парень стоял на гнутых ногах, тиская в руках заячий малахай, которому уже успел изорвать ухо. Бережнов увидел его руки — сухие, сильные, но изъязвленные чесоткой, и с брезгливым чувством увел глаза в сторону.
— Что скажете? — спросил Авдей, деловым тоном прикрывая острое желание стукнуть Жигана, чтобы посмирнее был.
Но Пронька и без того присмирел: он пришел в этот поздний час с повинной.
— Авдей Степаныч… вы уж извините, что беспокою… Но что поделаешь… Выпил, людей обидел… а теперь и самому стыдно-противно. Если, думаю, не покаяться теперь же, то и в барак зазорно идти… И опять же праздники, повсеместное пьянство… Я зарок даю, на всем ставлю крест и докажу на работе. Я сумею, если захочу, я стараться буду. Обоим даю обещание… Только и вы, пожалуйста, поддержите: сразу переломить себя едва ли смогу — характер у меня такой, сучковатый.
Опустив голову, он терпеливо ждал приговора. Бережнов и Горбатов незаметно переглянулись, и оба подумали в одно… Широкий мясистый лоб Жигана прорезали две морщины, точно перепутье извилистых дорог…
Его до поры отпустили, ибо не всякий меч рубит повинную голову и не ко всем одинакова бывает даже самая справедливая строгость…
Глава VII
Роковая ошибка
Беседа с другом не разогнала туч, скопившихся над головой Алексея, но значительно пораздвинула синие полыньи на коротком пространстве жизни. Он соглашался с резонными доводами Авдея и хоть мало верил в исцеление Арины, но срочное вмешательство также считал единственным средством остановить жену от последнего — к обрыву — шага.
Близ полуночи он возвращался от Бережнова, с удовлетворением ощущая, как постепенно наступает в нем необходимая ясность мыслей и определенность цели… Чуть-чуть мельтешил редкий легкий снежок, над пустынным безлюдьем улицы светился полумесяц. Алексей безотчетно следил за своей тенью, двигавшейся впереди него.
Сопоставляя события последних дней, он угадывал, что срок назрел и что нельзя откладывать разговора с нею даже на час… Необходимо начать сейчас же, при теще объясниться до конца, не поднимая, однако, крика, не унижаясь до обид, до оскорблений и не тревожа дочь… В мыслях своих он торопился, а шаги его, чем ближе к дому, тем становились медленнее…
И вот уже близок щитковый дом… Алексей взглянул на окна своей квартиры: там не было огня, — очевидно, все спали. Но там, наверху, в вершининской квартире, горел до сих пор огонь и, кажется, шумел примус. Алексей остановился напротив чужих освещенных окон, сплошь завешенных белыми занавесками, и вдруг, словно толкнули в грудь, отшатнулся: на занавеске среднего окна он узнал по тени Арину!.. Тень скоро исчезла, примус умолк, лампу перенесли в другую комнату.
Приступ леденящего озноба сковал его, никакой мысли не возникло при этом, — и не мог в первую минуту понять: что означает эта тень?.. Потом пошел по дороге назад, а сделав несколько шагов, опять вернулся… Теперь он уже знал:
там все
кончено!.. Чувствуя слабость в ногах и необыкновенную, никогда не испытанную тяжесть во всем теле, присел на холодные ступени крыльца, опустив голову.
На осторожный его стук дверь отперла теща, — она вышла тотчас же, как постучал он: очевидно, не ложилась спать. С лампой в руке, в большой шали на плечах, в валенках, она стояла за порогом и знаком предупредила, что дома неблагополучно и что Катя спит… Она заперла за ним дверь, поставила на стол лампу, привернула фитиль, — но Алексей успел разглядеть: глаза у нее сухие, испуганные, лицо бледно, а руки мелко дрожат.
—
Она ушла, — сказав тихо, полушепотом, теща заплакала.
— Давно? — спросил он, не глядя.
— Еще с вечера… Я не знала, надо ли посылать за тобой… Да и где ты был, я ведь не знаю…
— При Кате ушла?
— Нет… Она уже спала…
Раздевшись, он остановился среди полупотемок комнаты и огляделся: будто все оставалось по-прежнему на своих местах, но каждая вещь кричала о великой перемене… На спинке кровати, где еще днем висело ее платье, — пусто; на вешалке нет ее пальто; у сундука, окованного по углам медными пластинками, висел отпертый, с ключами замок, и Алексею казалось, что ключи на медной цепочке еще покачиваются, — не перед самым ли его приходом она решилась уйти?.. Впрочем, это уже не имело значения…
Не раздеваясь, он прилег на диван, где спал один последнюю неделю, закурил папиросу, а теще сказал:
— Иди в ту комнату, к Кате… Загаси лампу и ложись спать.
Новый жилец в квартире наверху появился задолго до полуночи, предупредив Вершинина запиской. И когда Петр Николаевич прочитал на чужом конверте, выхватив его из огня:
«Жди, я приду, с Алексеем все кончено», то с волнением и не без страха начал ждать ее прихода… В один миг все сдвинулось с привычных своих мест, закачалось в тумане, пошло кругом. Через минуту он уже отчетливо представил себе: вот она взбегает по лестнице, вот входит к нему в комнату, взволнованная, в слезах, в домашнем сереньком платье и с заплетенной второпях косой… Она говорит… но слов ее он так и не мог придумать… Вздрогнув, Вершинин оглянулся на дверь: в самом деле, послышались шаги по лестнице. Стараясь быть спокойнее, он открыл дверь, уже заранее улыбаясь улыбкой заждавшегося и теперь обрадованного мужа.
Ариша вошла в знакомой ему дохе, в пуховой шали, в белых чесанках и с большим узлом в руках… Все произошло быстрее и проще, чем рисовало воображение Вершинина.
— Запри… я боюсь… — почти задыхаясь, произнесла она.
— Он дома?..
— Нет… но скоро… — Не договорив, она убежала в дальнюю комнату, где не было огня, точно спасаясь от погони, и там, бросив на диван узел, затихла в кресле, не раздеваясь. Теперь от него требовалось многое, чтобы хоть первые минуты ей не было страшно.
Стоя над ней и положив на плечо руку, он говорил какие-то успокоительные слова, а сам волновался не меньше… Но, по-видимому, даже у края пропасти человек способен пережить радость и упоенье.
— Вот оно, солнце, взошло опять! — произнес Вершинин. — Взошло, Ариша, свершив положенный свой круг… Я это чувствовал, я знал… Ведь ты мне всего дороже… Смотри: здесь все, здесь все твое, — бери, живи… А скоро мы с тобой уедем… там я сделаю для тебя все, чтобы ты не раскаивалась ни в чем…
Но она и половины не понимала, что говорил он; почти не слышала, как снял с нее доху, а принимая шаль, он спутал ей волосы и сам же поправил их. Она подняла глаза, полные преданности, любви и страха. Ее трясло, точно в лихорадке, и, чтобы согреть ее, он передвинул кресло к печке. Она послушно села и, глядя на прогоравшие поленца, подавленно молчала… Для чувств, подобных половодью, какими была опять объята, наверно, вообще не существует слов, и, поняв ее состояние, он говорил ей о письме из Соликамска:
— Вот видишь: мы с тобой из двух открывшихся дорог можем избрать себе любую. Мне думается: в Верхокамье будет все же лучше.
— Мне все равно… я ничего не помню, не слышу… Ты запер дверь? — взглянула она, подняв на него глаза, и тотчас же опустила голову. А через полминуты порывисто кинулась к окну.
— Он, наверно, у Бережнова, — будто вспомнив, прошептала она.
Собственные руки, сжатые в ладонях, почему-то казались ей такими длинными, большими, что некуда стало их деть, а сама все порывалась встать, бежать куда-то… Но путь, избранный ею, был уже найден, и теперь начинался иной маршрут, тягостей которого ей не дано предвидеть… Не подлежало сомнению одно: все прежние родственные связи порваны, самые близкие ей люди отступали куда-то в туман, становились получужими, а на том месте, где еще так недавно отстраивалась первая ее семья, копилась груда пепла…
— Ну что ж, — произнесла она со вздохом. — Будем жить так.
— Конечно, конечно, — подхватил он, — будем жить хорошо.
Как бы осваиваясь с новым, Ариша оглядела комнаты. Лампа горела тусклым красным огнем, и требовалось подлить керосину, на письменном приборе заметила пыль, на подоконнике — лоскутки каких-то изорванных бумажек, занавески пора постирать, — все ждало рук хозяйки… Так понемногу зарождались в ней новые заботы.
Часа два спустя, когда она, уже овладев собой, улыбнулась здесь впервые, он предложил ей чаю и, не дожидаясь ее согласия, зажег примус, загудевший ровным и гулким воем.
— Не надо! — испугалась она. — Услышат… — Хотя и самой было понятно, что без этого не обойтись впредь.
Он растерянно развел руками:
— А как же быть? Не к Паране ли переселиться опять, а? — И попытался улыбнуться.
— Ну что ты, Петр… — В первый раз она так легко и естественно произнесла его имя, становившееся родным, привычным.
— Я пошутил… к Паране мы больше не пойдем.
Он сам поспешил на кухню, а она, будто пробуя себя и примеряясь, пошла по комнатам, переводя изумленный взгляд с одной вещи на другую. И каждая вещь говорила о нем и о ней… Увидев кровать, она порозовела от смущения, но это тут же прошло — правда, не без усилия воли… На каждом шагу ее подкарауливал кто-то, ловил, уличал и ахал, дивясь ее легкодумью и опрометчивости, внушая ей мысли, которые она старалась заглушить…
Пока нельзя было оставлять ее одну, — Вершинин понимал это и позвал к себе. На плите шумел примус, из рожка эмалированного чайника уже вырывался острый пар; нарезанный кусками белый хлеб с маслом — двойная порция — напомнил Арише, что она весь этот день не ела. На скатерти увидела пятно от пролитого чая, и ей пришлось тут же вынуть из узла свою… Так начали смешиваться и вещи.
Он — какой-то неуклюжий, смешной — забрался на табуретку, чтоб закрыть печную задвижку, измазал сажей пальцы и под ее трогательным взглядом в замешательстве вытер руку о полотенце.
— Петр, ну разве так можно… Иди, вымой, — сказала она, будто в поученье ребенку, каким становился для нее второй муж…
Отгороженные стенами от всего мира, они долго сидели на диване, прижавшись в мягком углу. Брезжил в окне рассвет — легкий такой и нежный, поднимаясь над лесом все выше и выше… Уже гасли звезды, а Вершинин все еще никак не мог побороть робость — напомнить ей о сне… Но и тут, под его мягкой большой рукой, ей было тепло, как в постели, и ни о чем больше не думалось…
Утомленная тревогами долгого дня, она заснула, положив голову к нему на грудь… и грезились ей синяя-синяя ночь на Волге и огромный красивый город вдали, на высоких крутых откосах. Мягко подрагивает палуба парохода, ветер веет в лицо, путает Арише волосы, и где-то вблизи, невидимый во тьме, чуть-чуть полощет флаг над кормою… Петр рядом, он дремлет, и хочется Арише разбудить его, чтобы вместе с нею полюбовался он на эту разлившуюся реку — черную, бескрайнюю, как море, — и в то же время жаль его будить…
Правый гористый берег медленно проходит мимо, и едва заметные леса шумят на левом берегу. Кипит под кормой бирюзовая вода, вдали маячит красный бакен, слегка качаясь на волнах… От пьяных запахов стогов, от всей невыразимо чудной ночи кружится голова… А
луна, такая яркая, большая, смеясь безумной щедрости своей, через всю Волгу проложила золотую тропу…
Глава VIII
Родные сормовичи
Ночь была тяжелой, душной, неспокойной, давила мысли тьма, короткие сновиденья, похожие на бред, перемещаясь в беспорядке, незаметно уступали место яви, а в промежутках, подобных синим полыньям на Волге, опять и опять проходил мимо какой-то незнакомый человек с черной тенью по ровному снегу. Кто был он? Зачем и куда шел? — Алексей не спрашивал, но чем-то близок и понятен ему был этот медленный, усталый человек… По гладкой равнине реки он уходил куда-то в ночь, шагал, не сбиваясь с дороги по льду…
Среди предутренних потемок заметно проступил вблизи некрутой знакомый волжский берег… А на нем — завод-громадина и город Сормово. Они слились в одно, сжились одною жизнью, не различить: где город кончился, где начался завод… Внутри огромных корпусов гудят машины, шуршат станки, клокочут плавильные печи, звенит железо, а огненный металл тяжелой вязкой струей течет в изложницы, из раскаленных ковшей в опоки. И сразу не стало тьмы — везде светлей, чем надо! Лишь береги глаза: слепит и жжет яркий, подобный солнцу, свет. Полощет разливное пламя, послушное рукам сормовичей…
Знакомая братва! Друзья-ребята! Родная семья сормовичей!.. О, сколько собралось вас здесь, в литейном цехе — в дыму и гари, в тумане опочной перегорелой пыли: Иван Маркелов, Костя Чистяков, Семен Чувалов, младший Третьяков…
— Алешка наш, Горбатов!.. — кричат, узнав явившегося из «лесного цеха»…
Обступили тесным кольцом, жмут руку, тискают в объятьях, и нет конца расспросам:
— Ну, как живешь? Давно ли заявился в гости? Почему так долго не писал? Черт, ведь за полтора-то года всего лишь два письма, — не маловато ли?
— А мы тут, знаешь, заварили дело, — удастся, прогремим на весь Союз… Конечно, попыхтеть придется. Э, ничего, большие новые дела нам по привычке… А ты как там, Алешка? Может, к нам опять? Делов здесь много — на тыщу лет!.. Давай-ка оставайся с нами.
К концу близка ночная смена, белесый рассвет сочится в заводские окна. От вагранки идет к нему отец, зовет к себе, и вот, отойдя в сторонку, расспрашивает сына: когда и почему случилось это в его семье? И мать — уже старушка — рядом… Им рассказал он все, не утаил ни крошки, — и стало от этого светлее, легче на душе… Потом отец провожает его через реку на левый берег, прошли селом до леса, — и воротился отец, когда наступила в лесу ночь.
Шел Алексей — один — своей дорогой через поля и горы какой-то неизвестной стороны, и, долго плутая по задутым лесосекам, добрался наконец до зноек Филиппа и Кузьмы… Он встретил здесь Вершинина и, странно, не подивился этой встрече… Где-то вдали пропел петух, пробили часы у пожарной сторожки — четыре гулких удара, потом, открыв глаза, он узнал во тьме — по окнам, по дивану, — что находится в своей квартире и что это был всего лишь сон.
Ночь продолжалась, до утра было еще далеко. В груди опять заныло. На привычном месте лежали папиросы, он протянул к столу руку и закурил… Спустя немного времени Катя, не просыпаясь, поднялась на своей постели и, болезненно морщась на непогашенную лампу, закричала с испугом:
— Мама-мама-мама!..
Он вздрогнул, быстро подошел к ней, нагнулся, гладил по головке, поправил спустившееся на пол одеяльце:
— Доча… доча… а ты спи, спи… Тебе спать надо…
— А мама где? Где мама?
— А ты усни, усни, роднуля… Она придет, придет скоро. — И, говоря такое с болью в сердце, он хотел верить в благополучный, справедливый для Кати день. Но едва ли он когда наступит…
Бабушка подбежала к постели, легла с Катей, и та, очнувшись не вполне, скоро опять затихла, не подозревая, что мамы уже здесь нет.
Остаток ночи проспал Алексей спокойней, а утром долго умывался холодной водой, освежая лицо. Душевно распрямляясь, ходил по комнатам с полотенцем в руках, утирая лицо, шею, и что-то шутливое рассказывал Кате о своих «занимательных» снах. А сам думал: как переиначить теперь распорядок дня и всю жизнь, чтобы происшедшая утрата не так губительно повлияла на дочь и на работу?
Когда завтракали, он уже без прежней неприязни смотрел теще в лицо: оно было совсем другим, не похожим на то, что было вчера днем. Ее глаза светились ровным светом, и что-то твердое, обдуманное читалось в них. Не иначе, в эту ночь немало передумала она, да и внучка ее, полусиротка, лежавшая теплым комочком рядом, у самой ее груди, заставила пережить, понять многое, что раньше не касалось ни разума ее, ни сердца.
— Вот что, мать, — сказал ей Алексей. — Тебе придется пожить у нас подольше… Надо расчистить этот
бурелом да проложить дорогу, чтобы Кате ходить было полегче. Обглядимся, поустроимся, тогда — уедешь, если необходимо ехать.
— Да, я тоже об этом думала, — ответила она. — А с
ней я буду говорить сама: надо прекратить
это…
Так порешили они, сами помирившись в это утро.
Алексей не собирался просить Арину вернуться, — разумней было до поры молчать, хотя большие чувства и не безмолвны.
Уходя из дому, он остановился на минуту у лестницы, уводившей наверх. Мгновенно возникла мысль: взойти к
ним (а если не откроют, рвануть дверь), подойти к Арине и твердо сказать: «Отдаешь ли себе отчет в том, что делаешь?.. Если не сейчас, то как оценишь свое поведение, когда стукнет тебе сорок — пятьдесят лет?.. Подрастет Катя, поймет все — и через всю жизнь свою пронесет ненависть к тебе и горечь в душе… Что? Далеки, мол, сроки? Не надо загадывать о них?.. Нет, надо!.. За нее в прямом ответе мы, никто больше… Не забудь: когда-нибудь придет и смерть… О ком ты будешь думать тогда: о Кате или о
нем?.. Подумай, Арина!»
Да, придет срок, Алексей выскажет ей это, но не теперь, не сегодня и даже, может быть, не завтра…
Полынь горька не только в мае, беда оставит в душе следы свои на годы, обиду такую — легко ль забыть! Но уже многое уносит с собою и первый день… На лесном складе, мимо которого проходил Алексей, уже работали — пильщики, шпалотесы, левее от них на пустые платформы грузили шпалу, рудничную стойку, баланс для бумажной фабрики… В обычных заботах и хлопотах прошел у него первый день. Потом — другой, потом — третий. Заведенная машина лесного крупного хозяйства не изменила своего привычного, ровного хода.
Но эти дни прожил Алексей какой-то ложной, искусственной жизнью, стараясь увлечь себя работой… Так наступил канун крещенья — двунадесятого праздника… В субботу лесорубы ушли спозаранок в лес, по лежневым дорогам потянулись подводы с бревнами, пиловочником, везли к тупичку дрова, где стояли под погрузкой вагоны… Качались на высоких козлах пильщики, и, как прежде, женщины-ошкуровщицы пели песни, которые ничуть не мешали их работе… Только в четырех бригадах из двадцати шести, как выяснил Горбатов перед сумерками, не вышло на работу семнадцать человек… Среди прогульщиков оказался коневозчик Самоквасов, а на лесном складе не оказалось ни Палашки, ни отца ее — плотника Никодима…
Перед сумерками заявился в контору Семен Коробов и, повыждав, пока уйдут другие посетители, сказал Горбатову:
— Без понуканья пилит Пронька… А когда из делянки шли, вместе с ребятами пел песни… вел себя тихо, не задирал никого… За пилу изломанную сулится внести деньги… Похоже, обмяк парень, образумился.
Вершинин с утра укатил на кудёмовский лесоучасток, вернулся перед сумерками, в контору зашел лишь на несколько минут. Горбатов, мельком взглянув на его напряженное, чуть вытянутое лицо с появившимися темными дугами под глазами, по его прячущемуся, холодно блеснувшему взгляду, понял: не иначе, решили уехать вскоре…
«Ну что ж, пускай едут… Катю я не отдам».
Ближе к вечеру, когда по улицам Вьяса то там, то тут появились подвыпившие люди, а в конце старой улицы заиграла чья-то гармонь, суждено было произойти одной примечательной встрече, и следовало бы Горбатову поостеречься ее возможных последствий.
Из-за угла Филипповой избы вышел коневозчик Самоквасов, хмельной развалкой пробираясь куда-то. На шаг поотстав от него, плелся — уже совершенно пьяный — толстомордый, коренастый чужой парень, которого видел Горбатов в толпе, когда провожали курсантов в город.
С явным намерением затеять разговор, Самоквасов остановился, как бы загораживая Горбатову дорогу. В шубном пиджаке, подпоясанном мочальной веревкой, в тяжелых подшитых валенках, он комкал пальцами лохматую, огромную бородищу, которой заросло лицо вплоть до глаз, светившихся зелено и мутно. Незнакомый Горбатову парень выжидал, держась на значительном расстоянии.
— Алексей Иваныч… должен ты моему горю поспособствовать, — начал Самоквасов.
— Какому?
— Верни из суда бумаги. Слышь: верни! — требовательно, пополам с угрозой, настаивал он. — Прошу я тебя как человека, а не как партийного секретаря.
— Не могу, — ответил Горбатов. — Я безобразиям не потатчик. Искалечил Динку — отвечай…
— Какая «потачка», коли суд через неделю. К тому клонишь дело, чтобы и меня в холодные края махнули? чтобы в той стороне подох я? Крови моей захотел?..
— Не хочу, но я в судебные дела не волен вмешиваться.
Подобного ответа мужик не ожидал:
— Не «волен»? А кто, как не ты да не Бережнов, в суд на меня бумаги подал? Не ты?.. Верни бумаги! — Самоквасов уже кричал на всю улицу, тараща одичалые глаза: — Э-эх, жалости в вас нету, господа-директора, секретари-товарищи, человеки-люди!.. Управы на вас нету… Видно, приходится терпеть. Недаром Христос родился в те поры на страданье и мученический венец приял.
— Перестань ворошить мякину…
— Знамо, нынче эдак, — сказал Самоквасов неопределенно. — Дают тому, кто не нуждается, а кто действительно в нужде живет да просит, на того только сердятся да отталкивают… Купца вон — мироеда старопрежнего — небось простили, а меня… — И с необыкновенной яростной злостью проскрежетал: — Ежели Шейкин чего запросит, ты, наверно, дашь ему, а? Ни в чем не откажешь?
— Смотря по тому, что запросит.
— Дашь, знаю!.. Секретарь партейный, а к лесным купцам добрый стал… Тайком от народа кулака простили. Эх, человеки-люди!..
Ожесточенно махнул рукой, пошел проулком, а через несколько шагов обернулся опять, с злобной издевкой заорал на всю улицу:
— Эй, добряк, слышь-ка!.. Бабу свою Вершинину отдал?.. Не тому отдал, — Шейкину отдай, авось не откажется, приголубит…
Горбатов стерпел, не промолвил ни слова и, сжав кулаки в карманах, пошел прочь: канун крещенских праздников не сулил ничего доброго…
Глава IX
В крещенье
После полден к плотнику Никодиму пожаловал из Кудёмы нежданный гость… Не киселя хлебать притащился оттуда пожилой своячок Филька Луковкин, охотник пить на даровщину. Зная за собою привычный грех, торопился разуверить хозяина, раздеваясь у порога:
— Думаешь, я к тебе пить пришел?.. Ничего подобного!.. Бондарь к плотнику имеет право явиться запросто, поздравить с двунадесятым праздником: мы с тобой — мастеровщина!.. А уж зараз, конешно, если аппетит появится, тогда можно и горлышко промочить… Душу повеселить никто возбранить не может — однова живем: нынче — живы, а завтра — борода кверху и лапти врозь… Так что ли, Никодим Сидорыч?
— Оно — эдак, — соглашался хозяин, собираясь к Лукерье за водкой. А пересчитывая у печки перед окном деньги в сторонке от гостя, подумал: не дело затеял свояк — сдирать с одного дерева две шкуры: у бондаря карман потолще, мог бы и в складчину…
Палашка молча, с надутыми губами, поставила самовар, потом принесла пластовой капусты, соленых огурцов, нарезала с десяток ломтей черного хлеба. Кое-что еще имелись в запасе, но то берегла для себя и для другого гостя, которого поджидала.
Когда вернулся отец, она сурово шепнула, чтобы насчет пирога с морковью не заикался. Не часто пирог в обиходе у них случается. Водилось за отцом и такое: как выпьет лишечку, до того раздобрится — последний сладкий кусок отдаст!..
«Мастеровщина» сидела за столом, на все лады обсуждая расхлестнувшийся крещенский праздник; разговор велся обстоятельный, с отдышкой, потому что гость был едок крупный: то целый капустный листок навернет на вилку, то пол-огурца в волосатую пасть отправит и, обливаясь рассолом, прожевывает, — впрочем, еда не мешала разговору.
— Эх, гулят народ, радуется! — восторгался бондарь. — А Бережнов — чудак — пить запретил, на работу гонит… Правда, что ли?..
— И ходят, — сообщал Никодим, наливая в стаканы доверху.
— В такие великие дни в церковь надо ходить да в гости, а они лес пилят. Чудно!.. Эх, недоумки-люди!
— Старому заведенью, пожалуй, скоро капут? — не то сожалел, не то одобрял Никодим. — Семен Коробов так бригаду настропалил — удивительно даже!.. И вчера и нынче, как в будни, работали, а глядя на них, другие прочие остальные тоже ослушаться не решаются. — И поднял крючковатый с мозолями палец: — Потому что не смеют. Наверно, только я один домовничаю…
— Не каждый день гнуть спину, — досказал бондарь. — Директор — он сам по себе, его поминать не будем: он — власть, а вот Коробов Семка бригадир — дурак, ежели ни себе, ни людям облегченья не делает… И Филипп вон… одного годка со мной, тезка, а тоже дурак!.. Пил допреже, веселил душу, по бабам ходил, а нынче на что похож? У черта на куличках торчит на знойке, в угольях копается, свету вольного не видит, никакого душе развлеченья, а кому угодит? Никому. Все едино, наравне с нами живет — ни почету, ни премии… Одно скажу: капитально дурак!..
И, придерживая в корявой темной ладони полный стакан наизготове, восхитился:
— А Вершинин Петька, ох, молодчина! Люблю таких. — И, опрокинув стакан, не поморщился. — Одобряю… Изловчился на праздниках-те да — трах! — прямо со двора свел бабу. Во политика!.. Под одной крышей с Алешкой живет, с грязью его смешал — и не боится. Затопчет его Петька, не отдаст бабу, помяни мое слово… Я тоже маху не даю — похаживаю в одно местечко, ну только чтобы люди не примечали.
— Да-а, Ариша бабочка славна, — ответил Никодим, неопределенно подмигивая. — Книжечку мне навяливала. Такую можно бы почитать: про заграничные путешествия. Молодежь вон нарасхват читают.
— Брось, — даже сморщился бондарь, не желая слушать пустого. — Батюшка наш покойный свет уж на что был… полный шкаф разных книжек держал и то говаривал, что от светской книги в душе червячок заводится… Вот и я: никакой сроду не читывал — и не буду!.. Нужды в том нет… Кто я такой: и бондарь я, и плотник я, и в старостах церковных сиживал — на все руки мастер… На что мне книжка?.. Глаза портить?.. Башку туманить?.. Как не так!
Палашка сидела за столом, позевывая, украдкой прикрывая рот кончиком платка, а потом, незаметно от обоих, перепрятала пирог подальше и забралась на печь.
Многое слышал и знал Никодим про своего неутолочного свояка, а все же, забавы ради, полюбопытствовал:
— И как тебе, садова голова, удавалось покойного батюшку околпачивать? Ума не приложу… И могила-то его, наверно, быльем поросла, и церковь-то пять годов прикрыли, а я до сей поры все дивом дивлюсь… На все Омутнинское полесье ходила про тебя слава.
Филька Луковкин огладил мокрые, обвислые, прокуренные до темной желтизны усы и, уже влезая на своего объезженного конька, хмыкнул польщенно:
— Да ведь как… Поп он и есть поп, а я — коренной тутошний житель… Почему наша мужицкая копеечка, в кровь и пот окунутая, должна ему в карман падать?.. У меня на нее прав больше, коль на то пошло… Ну вот, хитростью, озорством и всяко почал я его донимать. Уж что он только ни пробовал, как ни ухитрялся — все одно обману, бывало! От рук у него отбился, а прогнать меня опасается: боится, что первый против него проголосую… И проголосовал бы: я — такой… Всю его подноготную в кулаке держал, берег на случай… Так приструнил его, что ни слова напротив… Обработал его… в двадцатом году притащил даже инструмент в церковь и стал на паперти кадки да корыта делать… Летом там больно просторно и к тому же прохладственно… Пять годов у меня с ним эта карусель крутилась, аж сам измотался…
И малость помолчав, чтобы доесть огурцы, прибавил с суеверным удивлением, понизив голос:
— А знаешь ли?.. Церковные-то деньги не пошли мне впрок: зашибать здорово стал я в те поры… Сглазил кто-то. — Бондарь покрутил головой на свою лихую бесшабашность. — Ох, и пил!.. По две бутылки натощак, а к вечеру — еще пару… Один раз на спор пошло, и выиграл: пятнадцать каленых яиц зараз съел с солью и в один присест, с малой отдышкой, два литра выхлестал, — вот как!.. Без соли не съел бы, а с солью — съел… Почитай, четыре года подряд я как сыр в масле катался: кажинный день пьяный!.. На эти деньги, что я за свою жизнь пропил, можно бы теперича… так гульну-уть!.. Дым столбом, пыль коромыслом!.. Одно скажу: капитально пил… Бывало, любому на прахтике докажу, что могу пить еще больше… И ничего со мной не случалось, — вот как!.. Только детишек да бабу жаль стало: уж больно кажинный раз, как напьюсь, плакали… Да еще с попом тут канитель заварилась: его забрали, на церковь замок повесили, колокол сняли. Я, конечно, добровольно ото всех церковных делов отвалился: мне что, меня топор кормит… В те поры, значит, ребятишкам и бабе своей обещание дал — помногу не пить… Да-а, ученый был поп, а несмышленый, отступчивый… Может, как ты говоришь, где и помер в одночасье или как, — а вот без него да без звону церковного по праздникам-те бывает скушно… — И вдруг ударил Филька по столу всей пятерней: — Никодим, в рот те дышло! Идем ко мне?.. Самогону у меня — ведро стоит… Как слеза, чистый. Две ночи гнал, чуть баню свою не спалил: два раза гореть принималась… Идем?..
Бондарь Филька допил последний стакан, опрокинув прямо в глотку, и потащил захмелевшего плотника Никодима к себе в Кудёму:
— Идем… у нас погулять умеют, не как у вас… и то сказать: в кои-то веки доводится попотчевать родню досыта… я — не жадный… идем… Если что, у меня ночуешь, найдется место.
Перед уходом Никодим строго-настрого Палашке наказывал:
— Гляди у меня в оба: сени и дверь запри, а в избу, если что, никого не пускай, ни под каким видом. Дивись: по улицам ватаги пьяных ходят, — не ровен час, силком ворвутся.
— Знаю, не глупенькая, не двух по третьему, — отозвалась дочь, не слезая с печки. — Когда воротишься? Поутру, что ли?
— Как дело покажет. Обо мне не сумлевайся, я — не девка, не пропаду… Бывало, у Тихона Суркова — э-эх! пожито-попито… Так запрись, говорю, и не пускай, — еще раз напомнил он, погрозив пальцем.
— Ну, ну, ступай, шатун… — А когда дверь за ним затворилась, прибавила сердито: — Налил глаза-то… Почнут теперь по гостям шастать — до утра не воротится. — А сама была рада, что полную свободу предоставлял ей отец на долгий срок.
Глава X
Ночью в землянке
Вскоре после ухода отца Палашка доела капусту, убрала со стола посуду, подмела окурки, плевки и мусор, нарядилась в зеленую сатиновую кофту и ушла на улицу.
Ходила с подругами по поселку, пела песни, лузгала семечки, — парни нынче были добры и ласковы, а которые позволяли себе лишнего, — отвечала толчками и руганью. К вечеру, помня наказ отца, вернулась домой и заперла воротца, а дверь — на железный крючок. Проходя по темным узеньким сенцам, она задела за что-то плечом.
— Кой пес, — подивилась она, — никак ружье?.. Прокофьево!.. Что это он, заходил вчера, а ничего про ружье не сказал… Придет — отлаю. — И, насупив нарочито брови, посмотрела в угол, будто там и прятался Пронька. Ей было необычайно лестно, что свою дорогую вещицу принес на сохраненье именно ей.
Палашка поела пирога с морковью и, сняв кофту, прилегла отдохнуть на кровать, что стояла вдоль стены, занимая собою половину землянки. Завтра с утра надо было идти в лесосеку. Нынешний день прогуляла и теперь немного побаивалась Семена Коробова: строг он бывал и к ней, тем паче накануне предупреждал: «Смотри, Палашка, выходи. Не порть бригаду…»
Малое время спустя она уже мечтала о Проньке:
— Ишь, пес кудрявый… чего нейдет? Шел бы, пока отца нету. Неужто не догадается?..
Время шло, спиралась в землянке темень, а его все не было. Ей наскучило ждать, и она задремала. Разбудил ее чей-то — не Пронькин — голос в окно. Она вышла в сени и, глянув в щелку между досок, спросила:
— Кто?
— Я это, — нетерпеливо отозвался Пронька. — Что заперлась, трусиха? Отец-то дома или по гостям пошел?
Она отперла, обрадованная и немного испугавшаяся.
— Нету, в Кудёму ушел, к бондарю. А это кто? — недружелюбно спросила она, увидав бородатого мужика, пролезавшего мимо нее следом за Пронькой.
— Не узнаешь своих-то? Самоквасов.
— Ты пошт? — спросила она оторопело и грубо.
Пронька нешибко стукнул ее по плечу:
— Будь поласковей. Праздник ведь…
Палашка впустила их, заперла воротца; она была довольна, что Пронька пришел, но досадовала, что поздно и, главное, не один.
Пронька словно понял ее тревогу:
— Хорошо, Поля… лучше и не надо. Отец наверняка загуляет, дня два не придет… Сходи-ка нам за литровочкой. — Ей не хотелось никуда идти, и она, кидая на него косые, намекающие взгляды, отмалчивалась. — Ступай, коль посылают. Удружи. Только не к Лукерье… у ней нет. Распродала все… Валяй к Паране.
— А у нее и вовсе нет. Она не торгует.
— Хо, «не торгует». Торгует, да еще как! После Вершинина занялась. Ступай, Поля, — выпроваживал он, — тут недалеко.
Палашка нехотя взяла из рук у него деньги и, уходя, сердито хлопнула дверью. Пронька свободно, как у себя в бараке, сбросил пальто, шапку, сел в передний угол и локти положил на стол.
— Так во-от, — начал он, продолжая незаконченный разговор, — запомни мое слово: ольховскому заву семь годов вляпали за пустяк, можно оказать… а тебя за Динку — совсем допекут. Определенно ясно. Конечно, со мной нигде не пропадешь: я стреляный… Пугнем на последок и в суматохе — айда. Сын у тебя подросток, с него взыскивать по закону не полагается: он ни при чем тут. Значит, концы в воду. Пугнем, что ли?..
Самоквасов через плечо глянул сквозь мутное заиндевелое окно на дорогу.
— Не бойся, — подтолкнул его локтем Жиган. — Тут самое надежное место. А Палашка меня не выдаст… Слушай сюда: кто такой Бережнов?.. Пастух прежний, без никакой тонкости — теленок, а не директор. Шейкин и то сумел обхитрить его. Простили… А Горбатов Алешка — мякиш… Терпит… Случись это со мной, да я бы лесоводу глотку перехватил! А жену за косы таскал бы по полу до потери сознания, каблуками затоптал бы насмерть… Оба они — и Горбатов и Бережнов — ни с кем справиться не умеют. А мы-то их на кривой объедем… и в башку не втемяшится… Пугнем напоследок, а сами — ходу… Лови там, в лесу, ветер… В любом колхозе пристроимся: мужиков везде нарасхват… У меня в Зюздине свой человек есть, зараз паспорта сделает. А с ними — на любое строительство: там людей тыщи, — одни приезжают, другие бегут — такой проходной двор, что нас с тобой сам черт не отыщет… Ручаюсь… Пугнем, что ли?..
— Да-а, — вздохнул Самоквасов нерешительно, — отплатить надо, коли жалости у чертей нету… Только как бы того… Ведь за это, знаешь, что бывает?..
— Кому как. Суметь надо… А у нас голова на плечах… Я им все карты спутал… козыри у меня на руках.
Палашка вернулась скоро. Вбежала запыхавшаяся, с немного раскрытым ртом и на ходу сказала:
— Сдачи у нее нету. Бери, говорит, больше… не одну, а полторы взяла. Расставляй, Прокофий…
Самоквасов исподлобья уставился на рябую, полную, в зеленой кофте девку и не знал: или изругать ее, что лишние деньги, не спросясь, извела, или промолчать ради такого важного сговора; денег ему было очень жаль.
— Напрасно, не надо бы, — нахмурился он и переглянулся с Пронькой.
— Ничего, — ответил тот примирительно, — сгодится. Не мы, так Никодим допьет… опохмелится завтра… Поля, припаси закусочки, какая есть, да и сама с нами того… подсаживайся, по-свойски. — Говорил он спокойно, немного вкрадчиво и так же ласково, как в те разы. Это и подкупило ее. Она раздобрилась, вынула пирог и с улыбкой положила Проньке на стол:
— Закуси, Прокофий.
— Обоим уж давай, — молвил он.
Палашка отвернулась и сказала сердито:
— Не только ему, а и мне нету. Весь гости поели.
Пронька понял нехитрую ее уловку, рассмеялся так заразительно, что рассмешил ее, и за руку тянул к себе:
— Садись поближе, теплее будет.
С ним ей было совсем не страшно, а об этом хмуром, вздыхающем мужике — он ей мешал очень — думала так: выпьет и уйдет.
Прокофий наливал по второй и предлагал «хоть раз в жизни выпить без женских капризов»:
— Кто нас стесняет? Никто. Праздник большой, все пьют. Никодим — старик, и то ушел получить свое удовольствие, а мы с тобой, Поля, молодые. Жить надо и случаем пользоваться… Эх, Поля, пей до дна, люби сполна, играй на свою последнюю карту в открытую! — Не стесняясь Самоквасова, он обхватил ее шею правой рукой, подтащил к себе, а левой поднес ей к губам полную чашку:
— Пей. Будет упрямиться, а то рассержусь… насильно в рот вылью.
Поля выпила все до дна. Водка сразу отшибла ей память, — она забыла, что скоро уже ночь, что в лампе мало осталось керосину и огонь вот-вот потухнет. А Прокофий — сумасшедший буян! — наливал ей еще и еще, потчевал, просил, настаивал, а когда слышал ее слабое протестующее бормотанье, опять обнимал плечи, шею, насильно запрокидывал ей голову и лил в ее полуоткрытый лягушиный рот. Оглушенная водкой, она все же заметила, что Прокофий и особенно Самоквасов пьют мало, а больше поят ее: от такой доброты Прокофия ей стало только весело.
— И-их ты… добрый какой! — прошептала она, едва держась на лавке. Рябое лицо ее расплылось пьяной, бессмысленной улыбкой, в голове приятно шумело. Глядя перед собой и плохо различая, Палашка прижалась к Проньке плечом. Землянка медленно кружилась, переворачивалась, лампа то гасла, то загоралась опять, рыжая борода Самоквасова то удалялась, то приближалась. Прокофий спросил:
— Керосин-то у тебя где? Гаснет вон…
— Там… н-налей, — говорила она заплетающимся языком. — Четверть т-там, в чу-улане. Да я са-ма. — Она поднялась, сделала от стола два шага, но ее качнуло в сторону. Растопырив руки, она упала на постель отца, разостланную на полу в углу.
Пронька кивнул Самоквасову на дверь:
— Иди принеси.
И когда Самоквасов, похотливо оглядываясь, пошел за керосином в сени, то видел, как Пронька тихо тянулся к Палашке…
Она через силу открыла слипающиеся глаза, в землянке стояла кромешная тьма, и кто-то шепотом проговорил, шаря в дровах у печки:
— А где ж Никодимов
кормилец? Иди поищи.
Она не узнала, чей это голос, не сообразила, кого и за чем посылают, а когда прикоснулись к ней чужие, не Пронькины руки, в страхе откатилась в самый угол и, защищаясь, обеими руками ударила кого-то по голове… Поняв бесплодность сопротивления, заплакала в бессильной тоске.
— Пронь… Про-оня!.. — звала она на помощь.
Ей не откликнулись…
В избу ползла стужа, кто-то вошел, затворил дверь за собою, впотьмах мелькнул огонек папироски… Палашка больше ничего не слышала, заснув пьяным непробудным сном.
…Самоквасов шагнул к столу, ощупью нашел куски недоеденного хлеба, посовал в карман. Упала со стола и разбилась глиняная плошка. С жестокой жаждой разрушенья он раздавил черепки ногою. Пронька Жиган, стоя у порога, зажег спичку и, оглядевшись в полупотемках, указал на вершининскую шомполку, лежавшую на широкой скамье:
— Не забудь. — Голос его был сухой, напряженный, требовательный. — Пора уходить… скорее надо. Теперь — все равно: ни мне, ни тем паче тебе назад дороги нету. — Догорающей спичкой он осветил бородатое, злое, перекошенное гримасой лицо мужика, как бы проверяя в последнюю минуту… Такие, как Самоквасов, назад не поворачивают с полдороги… — Пошли!..
Захватив, что нужно было, они выбежали в проулок. Пронька затворил воротца и, по-воровски вытянув шею, прислушался. В землянке было темно, кругом тихо. Из-за барака поднималась луна, освещая землянку сбоку.
Глава XI
Поджог
Не слышно было пьяной гармони, шалых, неистовых песен, — после полуночи угомонился Вьяс. Ни одного человека не встретил Якуб на улице, выйдя из дому, никто не попался навстречу, когда спускался с бугра к конным сараям, расположенным у самой кромки леса.
Он постучал в ворота первого сарая, на оклик молодого конюха Догадаева назвал себя и вошел внутрь конюшни, полной тепла и привычного запаха. Кони спокойно жевали сено, глухо переступая по деревянному настилу коваными копытами. Фонарь на столбе, посвечивая в облаке стужи, ворвавшейся с воли, освещал тусклым светом повешенную на деревянных штырях сбрую и черный земляной пол в проходах. Утренняя норма сена, припасенная с вечера, лежала в тамбуре…
Зато на воротах второй конюшни, в которые дважды постучал Якуб и не получил ответа, в потемках нащупал замок… Нельзя было не подивиться странной беспечности пожилого человека, предупрежденного накануне не один раз…
Томимый неясным предчувствием, Якуб заторопился к третьей конюшне, построенной Бережновым… Крайняя от леса и самая большая из всех — с двумя тамбурами на концах, она вмещала шестьдесят лошадей и была разделена дощатой перегородкой на две половины: в одной стояли рабочие кони, в другой — жеребцы и разъездные… Будто бы надежных людей подобрал сюда Якуб, но сегодня усомнился и в них…
Шагах в пяти от тамбура он остановился, сам не зная почему… Почудилось вдруг: там, внутри двора, кто-то шумит соломой, будто перетаскивают ее на другое место. Потом затихло, а через минуту началось опять… Он стоял и ждал, ловя неясные шорохи обостренным слухом… Доносился тихий торопливый шепот… слов не разобрать… голоса — вроде чужие… И снова тишина… Ворота прикрывались неплотно, и через узенькую щель в притворе он, прильнув глазом, мог бы разглядеть, что происходит там, если бы горел фонарь…
Люди творили что-то в полной тишине и оттуда могли заметить Якуба: его выдавали хрустящие по снегу шаги, а теперь он стоял на виду, освещенный луной. Следовало на всякий случай выбрать другое место. Поблизости стояли грудой, прислоненные к крыше, длинные жерди, прикрывая собою окно, ближнее к тамбуру. Якуб перебежал туда и в их густой тени затаился… Припав к окну, наполовину задутому снегом, он старался разглядеть, услышать что-либо, но больше ничто не подтверждало его первоначальных опасений…
Через короткое время опять послышались тот же шум и шепот двоих — только еще глуше, еще неразборчивее. Дрожь побежала по спине Якуба: внезапная мысль о готовящемся поджоге блеснула мгновенно, как молния. Но не поверил он этой догадке и уже подумал о конокрадах, выбравших для себя пьяную крещенскую ночь…
Пробираться к заднему тамбуру, лезть глубоким сугробом, значило терять время, упустить злодеев, но ничего иного не оставалось ему… Чуть только выступил он из своего укрытия, как вдруг приотворились ворота тамбура. Якуб замер, — однако никто из ворот не вышел… Он понял, что оказался в ловушке, что за ним следят… Бежать к первой конюшне, звать Догадаева на помощь — могут запороть вилами. У самого же только перочинный ножичек.
— Э-э, пусть что будет!.. — Низко пригнувшись, он побежал к заднему тамбуру, обращенному к лесу, в надежде найти во второй дежурке обоих ночных конюхов.
Но и здесь никакого сторожа не было, кроме замка на воротах — простого, стандартного, какие покупал Якуб для фуражного склада… Нащупав в кармане ключ с тройной бородкой, он долго искал в замке отверстие — руки дрожали…
Осторожно пробираясь темным проходом между стойл, он припоминал выбоины, шел ощупью, чтобы не наткнуться на что-нибудь. И только успел нашарить рукою перегородку, разделявшую конюшню пополам, как позади него, вдали, что-то звякнуло, тихо проскрипело. Он, вздрогнув, оглянулся, опять прислушался: следом за ним никто не шел… Не иначе — померещилось!.. Но он ждал, слыша только гулкие толчки сердца, да еще жевала сено невидимая во тьме ближняя к нему лошадь…
Вдруг вдали вспыхнул слабый (должно быть, от зажженной спички), колеблющийся свет… Кто-то светил сбоку, человека не видно было… Вот появился второй — бородатый, знакомый — с четвертной бутылью в руках: он поливал солому, сложенную кучей у внутренних ворот конюшни, где обычно стояла кобыла Динка… Свет погас.
— Э-гей, сволочи!.. Что вы делаете, подлые души! — вне себя закричал Якуб, колотя кулаками в доски. Рывками, изо всей мочи он толкал плечом в ворота, но запертые с той стороны, они не поддавались его силе.
Где-то послышался короткий, негромкий свист — и вслед за этим быстро пробежал кто-то за стеной, снаружи, к заднему тамбуру, через который несколько минут тому назад вошел в конюшню Якуб…
Обдумывая второпях, как быть, что делать, он двигался быстро к выходу, — и вдруг его охватила оторопь: протянутая вперед рука его натыкалась во тьме то на столб, то на дощатую стену, то на лошадь, — он заплутался!.. и даже по окнам никак не мог определить, где же выходные ворота. Только по загнутому гвоздю в столбе, на который случайно наткнулся, он сообразил, куда следует ему идти…
Ворота оказались заперты: его потерянным временем сумели воспользоваться враги… В щель, куда пролезала ладонь, ему видно стало: по дороге, направляясь к лесу, бегут двое, оглядываясь назад…
Сдирая кожу почти до костей и не чувствуя боли, Якуб силился протолкнуть руку в притвор, чтобы достать деревянный шкворень, засунутый в пробой, и переломить его. Это удалось не сразу… Но даже в распахнутые настежь ворота уже не увидел беглецов — успели скрыться… Тогда, обратившись лицом к поселку, закричал Якуб, призывая на помощь…
Услышали его или нет, он так и не узнал: внутри конного сарая, уже вымахивая через перегородку, бушевало яркое пламя, разрастаясь быстро. В соломенную крышу с таловой обрешеткой летели искры, бил клубами мутно-багровый дым. По всей конюшне колыхались зловещие отсветы, резко проступили в красноватых сумерках сарая два ряда побеленных известью столбов — с хомутами, с седелками на них; медные бляшки на сбруе поблескивали раскаленным металлом… Уже по всей конюшне стлался дым, забивая стойла и проходы, и сквозь него, под самой крышей, плясали огненные змеи… Еще две-три минуты — и начнется невообразимое месиво конских тел… Что можно сделать за это время?.. Отвязывать лошадей, выводить на задворки через задний тамбур?.. Средние ворота заперты, и нигде не мог Якуб найти лома… Пойдут ли без хомутов лошади?..
С ножом в руках он пошел по стойлам, перехватывая ременные поводья, кричал на коней, хлестал кнутом, но ни одна из них не слушалась, ни одна не видела своей единственной дороги, куда он направлял их… Бестолково и упрямо кружась в проходе, они вскидывали гривами, храпели, подворачивали зад… Якуб понимал, что затопчут его, раздавят, что не удастся выйти отсюда живым, но продолжал делать свое, с ужасом прислушиваясь: что происходит во второй половине конюшни?
Дым с каждой секундой густел, дышать становилось труднее, начинало тошнить, и голова кружилась… Подняв с земли случайно обнаруженный лом, Якуб держал его как единственное оружие… Напрягая всю силу, он с яростью сорвал запор и толчком обеих рук, всей тяжестью тела распахнул оба створа… Волна непроглядного дыма хлынула навстречу… он отшатнулся; смертельно перепуганные кони там рвались в стойлах, ржали в тревоге, взвивались на дыбы, вскидывая косматые гривы. Дым душил их, пугало сверкающее пламя, — трещали доски от ударов копыт…
Находясь один среди начинающегося ада, Якуб чувствовал, как нарастала катастрофа, в которой гибнут богатства, вера, воля и сама жизнь… Он пригнулся, чтобы хоть немного разглядеть сквозь эту, не пробиваемую даже огнем, толщу дыма… Как вдруг словно тараном толкнуло его в сторону: злой, как черт, стремительный, как снаряд, первым вырвался из горящей конюшни жеребец — серый в яблоках, и, прижав уши, пронесся к выходу, раздвинув могучим телом сгрудившихся в проходе лошадей. За ним следом ринулись другие кони…
Якуб тотчас же вскочил на ноги: он не выронил из рук ножа, когда падал, а звенящая боль в затылке исторгла только короткий стон…
В безумной спешке он опять бегал из одного стойла в другое, отстегивая цепи, перерезая ременные и веревочные привязи, чтобы не упустить ни одной секунды… А лошади теперь, объятые неудержимым стадным порывом, выскакивали из стойл, бросались в ту сторону, куда проложил им дорогу умный Орленок…
— Молодец Орленок!.. Пошли-и, пошли-и, милые! — не помня себя, кричал во все горло Якуб, не в силах сдержать в себе какого-то яростного восторга…
Голова шла кругом, ноги подкашивались, огненная лихорадка трясла его… Не помнил, сколько лошадей освободил он, но уже почти оба ряда стойл опустели…
В последнюю минуту, когда он у какой-то стены ткнулся протянутыми вперед руками в земляной мокрый пол, была только одна мысль, тупая, тяжелая: он сделал не все, что требовалось, и что никто не сможет предотвратить беды. Потом, через какое-то время, услышал еще, будто где-то неподалеку кричат голоса, что люди бегут куда-то мимо и что их много…
Глава XII
На пожаре
У пожарной сторожки забили в набат. На небе вспыхнуло багровое облако, глянул разбуженный Вьяс, побежали из бараков люди, начался ночной сполох, поднималась суматоха пожара!..
Горбатов прибежал в числе первых, а через минуту увидел Бережнова, потом — Вершинина, а еще через некоторое время сотни знакомых и незнакомых лиц, окружавших двор… Везли на санях пожарную машину, воду в бочках, разматывали шланги. Двое пожарников с ведрами махнули прямо в огонь, начали заливать и топтать солому в тамбуре. Затрещал брандспойт, смывая пламя с дощатых стен и потолка. Горбатов, надрывая горло, звал Якуба, но понял бесполезность этого и отступился. Потом куда-то исчез и сам…
Вершинин схватил чье-то ведро и принялся тушить, впервые в жизни очутившись на пожаре. Из ворот тамбура извергался, как из кратера, багрово-мутный дым и било пламя. С разбега он выплескивал воду на догоравшую кучу соломы, отворачиваясь и пряча глаза. Тоже с ведром в руках, мешая другим, бегал долговязый всполошенный Платон Сажин, обливая себя в пути… Он выдохся быстро и отступился, а ведро его подхватил углежог Филипп…
Горело не только в тамбуре, но и за воротами в конюшне, как определил Вершинин, наскоро заглянув в клокочущую суводь. Он понял: поджог!.. И в тот же миг простегнула его острая тревога за себя: он угадывал, кто именно бросил сюда «бомбу» и почему… Преступление казалось настолько ужасным, что даже самая ничтожная причастность к нему неминуемо повлечет за собой строжайшую меру ответственности…
— Не лейте зря воду! — услышал он позади себя резкий зычный голос Бережнова и невольно оглянулся. — К чему такая суматоха?.. Где ваша дисциплина, товарищи!..
Углежог Филипп таскал одной рукой воду, зачерпывая второпях из разных бочек, подвозимых от колодцев на подводах, и кого-то ругал, не называя по имени. Он замолчал после окрика директора, хотя едва ли то относилось к нему.
Бережнов подозвал начальника добровольной дружины — молодого шпалотеса, недавно демобилизованного красноармейца в брезентовой куртке, подтянутого широким ремнем, неуверенного в себе, ибо сегодня приходилось ему сдавать первый экзамен… Но не только ему предстояло подобное испытание…
Тут подбежал Горбатов, почему-то взглядывая на вентиляционные трубы, из которых валил дым, а из двух первых вырывалось пламя.
— Над третьим стойлом — огонь… горит крыша, — сказал он, указывая в ту сторону и сильно волнуясь.
Бережнов посмотрел туда, но ничего не ответил, потом перевел взгляд на самого Горбатова, словно хотел сказать, что главное заключалось в другом… Вторую машину, только что подвезенную на санях, он велел поставить несколько дальше, продеть шланг через окно в конюшню и с двух сторон вести наступление… разломать внутреннюю перегородку, чтобы легче было выгонять лошадей.
Машина уже тронулась на указанное место, начальник расставлял дружинников, шестеро дюжих парней вскочили на ее площадки и дружно начали качать воду.
— Алексей, — сказал Бережнов, обращаясь к Горбатову, — вторая половина конюшни — твой фронт, здесь — мой… Бери с собой бригаду Коробова… Лошадей выгоняйте всех… Найдите Якуба: он где-нибудь там… Огонь туда не пускать! — отчетливо, тоном приказа говорил он, заметно сдерживая волнение.
Горбатов же был сильно встревожен, испуган, растерянно суетлив, — и, пожалуй, имелась особая на то причина: он прозревал возможную связь одной беды с другою, и обе они, как два огромных костра, горели в его душе… а завтра на месте этих двух пожарищ останется, наверно, сплошное пепелище… Громко выкрикивая по фамилиям, он собрал своих людей, которые уже через малое время бежали к задним воротам…
Пожарник с брандспойтом напористо углублялся в зону огня, волоча за собою тяжелый шланг. Людей на машине оказалось лишь пятеро, а качать воду нелегко, — и Вершинин занял свободное место… Держась за палку и мерно взмахивая руками, он хорошо видел все, что происходило вокруг… Наталка на пару с подругой носит в тамбур воду, с непривычной расторопностью зачерпывая из бочек, подвозимых от колодцев; вот Спиридон Шейкин, лазая в сугробах, заглядывал в окна конюшни, стараясь определить, куда и быстро ли идет огонь… Стоял у тамбура Бережнов — в черном полушубке; пылали озаренные мрачным скачущим светом лица глазеющей толпы, виднелись на задворках разбредшиеся лошади, — их насчитал Вершинин немного, лишь двадцать… На темно-синем фоне выделился на миг розовый вздыбленный силуэт коня с багряной гривой, только что выведенного кем-то из конюшни.
Но внимание лесовода больше всего привлекал сам Бережнов: он продолжал передвигаться с одного места на другое, чтобы лучше видеть, что и как делают люди… В лице и во всей его довольно коренастой, прочной фигуре угадывалось напряжение. Что-то незнакомое, неузнанное раньше находил в нем сегодня Вершинин… Зачем-то подозвал Бережнов кузнеца Полтанова, что-то говорил, указывая в глубину тамбура. К нему в эту минуту выскочил пожарник с брандспойтом и, пригибаясь низко, кашлял, а свободной рукой протирал глаза.
Кузнец, выслушав директора, заторопился, натянул глубже на голову капюшон брезентового плаща и подошел к пожарнику.
— А ну, сполосни для начала, — громко произнес Полтанов, немного нагибаясь.
Тот направил на него брандспойт, прижимая струю пальцем, — поливал щедро, пока не промокнет одежда, а Полтанов, медленно поворачиваясь, подставлял поочередно спину, бока, грудь, голову. Потом кинулся с разбега — с топором в руке
— в дымный, клокочущий омут… Сквозь гуденье и треск огня раздались звучные удары по железу, потом по доскам — что-то заскрежетало, заскрипело, рухнуло, а вслед за этим выплеснулась из тамбура, отшатнув людей, плотная волна дыма. На помощь кузнецу бросились трое, а через короткое время уже тащили на руках горящие, наполовину обугленные ворота — бросили и вернулись обратно…
Немного позже появился здесь Платон Сажин; поднял головешку, на виду у всех прикурил свою папироску от дарового огонька и куда-то пошел: людей и без него хватало!.. Они бесстрашно бросались в огонь — с ведрами, с баграми, с топорами, что-то там делали, — и, пробыв недолго, выбегали обратно. Воду в ведрах таскали туда беспрерывно, — огонь продолжал бушевать, хотя два шланга, распрямившиеся, ушедшие в глубину конюшни, несли туда беспрестанно воду…
На выбегавших из дыма людях тлелась одежда, дымились шапки. Вот выскочил оттуда кузнец Полтанов и, подбежав к Бережнову, о чем-то сообщал, указывая топорищем на ближнее разбитое окно. Что творилось в самой конюшне, было невозможно определить, находясь на площадке пожарной машины, подобно Вершинину, — но по тому, как трещали доски в стойлах, ржали кони, как гудело пламя, как неожиданно для всех обвалилась в одном месте крыша и столб дыма и огня ударил в небо, — Вершинин отчетливо представлял себе размеры катастрофы…
К Бережнову подбежал Горбатов:
— Якуба нашли: лежит без памяти… или оглушили чем, или задохнулся… Вторые ворота оказались отворены, — очевидно, открыл Якуб. — Горбатов, доложив так, уходил обратно торопливо.
Вдруг внимание лесовода, опять прикованное к директору, сменилось изумлением и испугом: Бережнов надвинул на глаза шапку, завязал тесемки под подбородком и, не нагибаясь, пошел в горящую конюшню. За ним нырнул опять и кузнец Полтанов, потом — еще трое молодых добровольцев… Должно быть, начиналась подготовленная контратака, — мелькнуло в голове Вершинина.
Войдя в горящую конюшню, Бережнов осмотрелся, насколько позволял густой, раскаленный дым, забивший все помещение… Далекие призраки пережитых военных тревог и жестоких боев мгновенно обступили его со всех сторон… В шторме огня, шипенья и гула он был опять не один, но здесь являлся первым, главным ответчиком за немалый урон, который угадывался, как неминуемый…
Смертельно перепуганные кони (к ним было страшно приблизиться) рвались в стойлах, ломали прясла, прыгали на кормушки, калеча себя; сорвавшиеся с привязей метались в проходах, а сверху сыпались на них горящие пучки соломы, обугленные прутья обрешетки… Именно отсюда надо немедленно выводить коней… На каждом шагу людей подстерегала смерть или неминуемое увечье. Дым разъедал глаза, дышать нечем… В самой опасной зоне, откуда шарахнулся только что Полтанов, виднелись лошади…
— Э-эй!.. Не пристало кузнецу огня бояться, — закричал Бережнов. — Давай хомут.
Кузнец подошел… Кобыла Динка, самая ближняя к огню, извивалась, корчилась, обожженная кожа вздулась пузырями… Прикрывая глаза рукавицей, Бережнов пробился к ней, обрезал ножом ременный поводок, — такой непрочный, что и сама Динка легко могла бы оборвать его и уйти, а вместо этого она только обреченно жалась в угол… Полтанов поднял уже хомут, чтобы надеть на нее, — в этот момент Динка со стоном грохнулась на землю — и не встала больше…
В соседнем стойле извивалась молодая кобыла Волга, дочь Орленка, — вскидывала гриву, билась головой о стены, обрывая цепь. Бережнов пролез к ней по кормушке, но сильно натянутую цепь нельзя расстегнуть. Полтанов изо всей силы хлестнул Волгу по задним ногам, она присела, скакнула вперед, — и Бережнов успел сделать что надо… Кузнец держал хомут наготове, а Волга задирала голову, пятилась, — все же охомутали скоро, и Полтанов повел ее…
Кашель душил Бережнова, тошнота выворачивала все внутри, становилось невмоготу; чтобы не упасть, он схватился руками за кормушку, присел: внизу было меньше дыма…
— Э-гей! Рябину забыли! — услышал он голос Горбатова где-то неподалеку отсюда. Потом увидел, как в ту сторону пробежали двое пожарников.
Бережнов приподнялся, отошел, пошатываясь на ослабевших ногах. В горячем тумане проплыл мимо него чалый Дунай, умный спокойный мерин-великан с перекинутой шлеей через спину; поводырем его оказался Спиридон Шейкин. Вблизи — в противоположном ряду — на кого-то сердито кричал Семен Коробов, суетясь и откидывая с дороги разбросанные доски… Людей было здесь уже не мало. Пламя выло и гудело от торжества, но яростней его становились люди. Разломанная перегородка давала им простор…
Углежог Филипп работал на пару со Спиридоном Шейкиным, не заметив даже, в какое время и почему объединился с этим человеком, которого называл когда-то в разговоре с Кузьмой на знойке «залетной птицей»; теперь он убедился, что прежний купец в работе цепок, в опасности смел, напорист, но не очень увертлив, как и сам Филипп, — годков поубавить каждому, тогда бы побойчее были!..
Оба осторожно подошли к жеребцу Зазору, только понаслышке зная о его жестоких хитростях. Они протиснулись вдоль стенок, и в этот момент Зазор, подвернув зад, придавил боком Шейкина к тесовой переборке, сдавив ему грудь, — даже вскрикнуть не успел Шейкин: перекосив рот от смертельной боли и побледнев, он распяленными глазами глядел на Филиппа, а у того ни палки в руках, ни кнута, зато уж на всю конюшню загремела его «ерихонская труба»:
— Зазо-ор!.. Сатана, черт тебя в душу! — и колотил кулаком по холке жеребца, а тот, весь дрожа лоснящейся шерстью, — ни с места… как чугунная, неприподъемная плита пудов в сорок весом давила человека…
На крик Филиппа откуда-то возник Ефимка Коробов, легко вскочил на жерди, перевесился животом через стойло и, морщась от дыма, внезапно крикнул:
— Чего у вас тут?
Зазор отшатнулся в испуге, а Шейкин той секундой вывернулся из-под «чугунной плиты»… Обрадовавшись такому негаданному чуду, Филипп ответил Ефимке:
— Ничего… бог дал, без тебя обошлись.
— Зазор — болван неотесанный, вы с ним не сладите: на нем верхом надо, — сказал Ефимка.
— Еще бы! — сердито огрызнулся Филипп. — Ты садись, коль жизнь надоела… А мы поглядим.
— И сяду!.. Не таких жеребцов видали…
Шейкину удалось дотянуться рукою до цепи и отстегнуть, — а Ефимка уже сидел верхом, вцепившись в гриву намертво. Зазор пятился, поджимая задние ноги, держа острые уши торчком, потом вытянулся в струну, рванул к выходу… Ефимка прилип к телу коня, единственно спасая голову, — и так пронесся конюшней, к изумлению всех, кто смог его в дыму увидеть.
Загораживая глаза, Бережнов и Полтанов пробились к Беркуту: злой, строптивый жеребец-четырехлеток разнес кованым задом обе стенки, обрушил передними ногами кормушку, по всему огромному золотисто-рыжему телу его волнами перекатывалась дрожь; он косил красными глазами, широко раздутые ноздри храпели, и торчал клок сена, зажатый в зубах… Пойманный за поводья, он взмыл на дыбы. Полтанов успел захватить жеребца за челку, но в этот миг хлестнула над ними в потолок вода одновременно из двух брандспойтов, — Беркут дал «свечу», отшвырнув кузнеца к проходу. Бережнов прицелился глазами, бросился прямо на морду озверевшего Беркута и уже не выпустил из рук.
Пока вставал ошарашенный кузнец, путаясь в шлее на самом проходе конюшни, через него перемахнула какая-то одичалая, полоумная кобыленка, устремившаяся к воротам, — и только случайно уцелел кузнец. А Беркут, вырвав поводья из рук Бережнова, ринулся вслед за нею, подкинув задом так, что в лицо Бережнову пахнуло навозцем от мокрых копыт…
— Чуть не влетело обоим, — подмигнул кузнец, подойдя к директору. — Зверье буквально.
Действительно, судьба как-то щадила их в этом адовом пекле, попугивая, однако, то и дело… Зато облюбовала себе того, кто даже не подходил к огню, держась поодаль с трусливой предосторожностью… Ни за что ни про что пострадал незадачливый Платон Сажин: зачем-то вдруг понадобилось ему подойти к заднему тамбуру, откуда выскакивали кони — то на поводьях, то сами, без поводырей. В полупотемках кто-то толкнул его в спину:
— Помогал бы, чего дезертирничаешь… Путается под ногами…
Скорее от неожиданности, чем от толчка, Платон не успел разглядеть, куда падает… Какая-то лошадь с разбега ударила его в грудь — и навзничь полетел Платон… Второпях подбежали двое и — бесчувственного, вытянувшегося во всю длину — убрали с дороги.
— Ничего, не барышня-дворянка, очухается, — сказал Полтанов, проходя мимо.
Потеряв Бережнова из виду, Полтанов добрался до оторванной двери, не нашел директора и здесь. Уже возвращаясь назад, он заглядывал в каждый дымящийся закоулок — и все напрасно… Кстати подвернулся под руку один паренек, которого кузнец опознал не сразу. Это был Ефимка Коробов.
— Дядя Полтанов, это ты? — голосисто крикнул он, задирая голову в заячьей опаленной шапке. — Директор на улице… А батю моего не видал?
— Не барин, не пропадет твой батя.
Кузнеца больно куснули в плечо. Он оглянулся: в дыму крутилась пестрая, совсем безумная лошаденка с обрезанными поводьями. Рассвирепев, он схватил ее под уздцы, потянул за собой, а она уперлась всеми четырьмя в землю и опять прижала уши. Полтанов ожесточился, поддал ей в зубы, а Ефимке крикнул:
— Веди! — и припас кнут образумить глупую животину.
— Только ты подсади меня.
— Чего? — не понял кузнец.
— Верхом погоню… подсади.
— Башку разобьешь, дурень! — обругал кузнец. — Разве в огне, в конюшне верхом ездят?..
— А пешем вести — задавят… Видишь, что делается?
Творилось в конюшне страшное, небывалое, но, кажется, понемногу затихал огонь… Полтанов одной рукой подкинул Ефимку на самую холку лошади, а тот впился в гриву, как клещ, пригнулся низко-низко — и мигом исчез в дыму.
На задворках, в сугробе, Ефимка осадил кобылу, спрыгнул и передал повод в руки Якубу, немного отудобевшему. Тут паренька нечаянно и настиг родитель.
— Что, оголец? Неймется? — строго погрозился Семен Коробов. — Раскроишь лоб, а тебе жить надо.
— Да они ж, батя, как собаки кусаются… Ежели пешим — непременно затопчут, тогда хуже получится, — резонно объяснил сын. — Платона Сажина враз подмяли: ни огня, ни лошади не видал — испекся!..
— Плохо ты его знаешь: дурная трава не переводится. — И будто жалел Семен, что долговязый ленивый Платон цел и почти невредим ходит.
— Так как же мне, батя: пешим али верхом?
— Да уж сам гляди, как сподручнее… домой-то живым вертайся.
— Верну-усь! — обнадежил Ефимка, взмахнув кнутовищем, и опять нырнул в дымный тамбур.
Туда же направился и Семен Коробов.
За конюшней Авдей Бережнов дышал и не мог надышаться свежим, целебным воздухом. Подошедший кузнец, приноравливаясь, чтобы не потревожить свой ушибленный локоть, повалился на снег, вытянулся на спине, как дома в кровати. Был он плотен, кряжист, с густыми черными, вразлет, бровями, с железной силой человек, а сегодня вымотался до изнеможения.
— Вот это да-а! — выдохнул он, подобно кузнечному меху, чувствуя, как отяжелело в нем все. — Поджилки трясутся… и в груди рвет… — Помолчав немного, он повернул голову, взглянул слезящимися, воспаленными глазами на испорченный полушубок Бережнова, хотел сказать, что никакому портному теперь не залатать его, — но даже говорить ему было трудно.
— Ты что сегодня… около меня все? — устало спросил Бережнов. — «Подружился»?..
— Так надо. — И, комкая в ладонях поджаренные варежки, кузнец сказал напрямки: — Народ тут разный… неровен час, пырнут в суматохе… Вон они: за один раз двух петушков пустили и ворота своим замком заперли…
Пора бы уж наступить и утру, а ночь еще продолжалась… Больно было глазам смотреть на ярко блистающую луну, но Бережнову понадобилось определить: как долго пробыли они в конюшне, сколько времени прошло с тех пор, как возник пожар, и далеко ли может уйти беглец за этот промежуток?.. Минут через пять он поднялся, всматриваясь в ослабевающий пожар. Начал вставать и кузнец — чумазый, опаленный, покряхтывая от боли, облизывая пересохшие губы.
Мимо них по истоптанным, черным от пепла, сугробам шагал куда-то вдоль стены, пошатываясь, Платон Сажин — понурый и косоплечий… Наверно, искал такого места, где бы с меньшей опасностью для себя принести больше пользы…
Глава XIII
Четыре туза
В поисках лучшей доли Платону вообще не везло, а постоянная, изнуряющая мечта — о достатке, о деньгах, о собственной лошади — потерпела нынче мгновенный крах… Триста рублей, натесанных по мелкой денежке тяжелым топором лесоруба, пропали!.. Как раз хватило бы на лошадь… Надежно и тайно от всех зашитые в борт шинельного бушлата — сгинули деньги неизвестно когда… Снаружи-то каждый день щупал и, убежденный в полной сохранности, не догадывался распороть кармашек и заглянуть внутрь…
Только вот сейчас, отдышавшись немного после удара в грудь, он, придя в барак, где ни души посторонней не было (все на пожаре), заглянул в свой заветный тайничок… Вынул оттуда плотную пачку, завернутую в синюю тряпочку, а когда развернул — в глазах помутилось, запрыгало… Вместо денег оказалась нарезанная газетная бумага и — в насмешку над ним — четыре туза из колоды игральных карт!..
Выпавшие из рук на одеяло, где сидел Платон перед зажженной коптящей лампой, тузы ехидно подмигивали черными и красными глазами, злорадно скалились, подпрыгивали, в бесовской пляске пыряли ему копьями под самое сердце… Как могло случиться это? когда?.. Ведь кармашек был зашит аккуратно, суровыми нитками, — значит, было у злодея время обдумать, обстряпать дело на досуге!..
С отвалившейся челюстью, весь оледенев, Платон потянулся к сундучку под нарами: там было у него еще тридцать два с полтиной — на расход… Замок отпер, а денег не нашел… Везде обшарили, все взяли!..
У кого спрашивать? Где искать? На кого думать?.. Никто, даже Пронька Жиган, который знает Платона лучше, чем остальные лесорубы, и то не поверил бы, что Платон накопил за полгода столько денег!.. Скажут: откуда взял, если «во всем Омутнинском полесье беднее тебя не было?» — как говаривал сам Платон, когда заходила речь о заработке и о расходах. «У нас наворовал по мелочи?..» И не станешь людям доказывать, что, мол, копил долго, а не полгода, урезая себя во всем, гоняясь за каждым трешником… Укатится в щель копейка — своя или чужая, — и то норовил достать да положить к месту… И, таясь с накопленным добром, он всякий раз старался внушить людям, что он — беден: «И семье отдаю, и себе надо… сам себе все купи, сам припаси жранину…» Все знали это, все верили.
Вчера в столовой за обедом, когда Платон случайно очутился только вдвоем с Пронькой, тот участливо предложил: «У тебя, наверно, от получки опять ничего не осталось? А праздник ведь… Могу одолжить десятку… Когда будут — отдашь…» Платон взял… И вот теперь осталась в кошельке только эта Пронькина бумажка! Действительно, во всем полесье беднее Платона нет!..
Если бы не слезы, которыми пролилось тут горе, Платон, наверно, сошел бы с ума… Безлюдье в полупотемках барака стало невыносимо: даже на пустых нарах, под серыми и пестрыми одеялами — мерещилось ему — шевелились, приподнимались лесорубы, шепчась между собою и пальцами указывая на Платона…
Он глянул в окно, а там, среди обступившей тьмы, валила в небо багровая туча дыма, суматошились вокруг конюшни люди… И все же здесь, в пустом бараке, оставаться наедине с самим собою было страшнее…
Одеваясь, он еще раз ощупал порожний кармашек шинельного бушлата — и опять ушел на пожар. По дороге, с яростью опустошенной души, разорвал тузы в мелкие кусочки и бросил по ветру, чтобы никто не знал о постигшем разоренье… Тупая боль в затылке и пояснице не приглушала другой боли. Свою беду не отодвинула беда чужая, на которую он смотрел уже равнодушно, бродя поодаль… Путались в его мозгу какие-то обрывки мыслей — и не распутать, не найти концов!..
Безразличный ко всему, что происходило вокруг, он передвигался с одного места на другое и даже закурить цигарку не решался… О чем бы ни начинал думать, упирался в одно, как в каменную заколдованную стену: разорили! когда и кто? да еще как! — с издевкой, с местью… А кому сделал Платон что-либо злое?.. Никому… Может, оттого и обокраден, что смирен, покладист и в работе не жалел спины?..
Будто сквозь сон, Платон приметил, как Бережнов и Полтанов сидели вдвоем на сугробе, говоря о чем-то; как Якуб, сильно прихрамывая на одну ногу, ловил на задворках лошадей, называя их по кличкам; как Наталка вместе с другими качала на машине воду и не слезла с площадки, когда машину парой лошадей перевозили на другое место — ближе к тамбуру, где первоначально возник пожар; как жена Сотина сменила стоявшего рядом с Наталкой лесовода Вершинина.
Платон видел, как иногда, шипя и потрескивая, выбрасывался из разбитых окон, из дыр провалившейся в двух местах крыши розовый изогнутый веер воды… Люди тушили усердно: пламя заметно спадало, редел дым, отдуваемый ветром к поселку, становилось темнее вокруг, — а Платону представлялось худшее, что могло быть: столбы, наверно, подгорели, балки и прогоны источил огонь, — крыша вот-вот рухнет и похоронит под собой людей и коней… Но обрушилось новое несчастье на того же Платона, чего никак он не мог предвидеть…
Поодаль от пожарных машин, в кучке любопытных, где находилось больше женщин, продолжался разговор. Подойдя ближе, Платон услышал странные вещи, какие никогда бы не пришли ему в голову… Говорили громко, в открытую, без обиняков, заявляя, что поджог — дело Пронькиных рук. Тоже не шепотком и не с оглядкой упоминалось имя Самоквасова, который-де недаром «стакнулся» с Жиганом и неспроста сидели они до позднего у Палашки в землянке, а Никодима выпроводили в Кудёму — чтобы не мешал… Зябко передернулся Платон по спине поползли мурашки. Рядом с ним знакомый, из соседнего барака лесоруб произнес не так громко и уже гадательно:
— Может, и сами конюха помогали?.. По пьянке чего не бывает…
— Какие тебе конюха! — обернулись к нему и закричали бабы. — Нажрались водки, как свиньи, оба завалились спать… Кабы не подняли за волосы, до сей поры дрыхли бы… Вот и проворонили!.. У директора сейчас оба в ногах валялись… Только, на коленях стоя, и протрезвились… Им бы, окаянным, сгореть в огне!.. Вишь, бегают оба, стараются, кулаками после драки машут, за вчерашним днем гоняются.
— Да такого греха огненного не замолить им во веки веков! — кричала позади Платона пожилая женщина — жена углежога Филиппа. — А Жигана, бабы, найти надо: одно ему от народа уготовано — в огонь кинуть гада!.. Одна на таких управа…
— Да где их найдешь?.. Сбежали, — отозвались в толпе.
— Свинья белобрысая… клыками подо всю конюшню поддел…
Гадая о виновниках пожара, Платон никак не верил и рассердился оттого, что уж очень злы и горячи бабы… Откуда берут они, показывая на Проньку?.. Быстро бежит людская молва, невесть где зародившись, только правды-то в ней много ли?.. Очутись здесь жена Платона, тоже сунулась бы не в свое дело и, не зная ничего доподлинно, сучила бы кулаками… Тогда, месяц тому назад, ларек, магазин растащили, легко поддавшись панике, а нынче галдят, содомятся здесь… Почему на Проньку вину валят? Не нравился многим из-за характера, никому не давал наступать себе на ногу, не любили его, побаивались, а теперь подвернулся случай — хотят от него навсегда избавиться…
Не сообразив обстоятельств, помня о вчерашней Пронькиной щедрости, — ведь никто, кроме Проньки, не поимел к нему сочувствия, — Платон, к изумлению всех, заступился за парня.
— Что, утопить взялись? — выкрикнул он. — К стенке поставить? А он, может, и сейчас у Палашки спит, не виноватый ни сном ни духом… Тогда как?
— О-го-о! — поднялось, загудело вокруг Платона. — Еще один компаньон нашелся!.. Беги, догоняй их!
— Ты, заступник, иди-ка погляди… Спит, да не Пронька…
— В землянке — одна Палашка… Оба ушли… Иди-ка взгляни, что с Палашкой наделали!.. Может, и ты был с ними? — галдели бабы, обступая Платона со всех сторон.
Обозлился, взмахнул длинной рукой Платон:
— Цыц вы!.. Нечего зря языками трепать… Нигде я, окромя барака, не был… А вы что: подслушивать бегали? подглядывали? — не без злорадства, что уличил, глядел на них сверху Платон.
— Были — и видели! — подскочила к нему одна. — Чего подглядывать, ежели двор горит? Пошли Проньку искать, а там — одна Палашка… Кого ты, пострел, выгораживаешь?.. Жердь стоеросовая!.. Дурак безмозглый!
Толпа сдвинулась к нему ближе, угрожающие, озлобленные голоса и поднятые кулаки взметывались вокруг него:
— Прихвостень! Бандитский подпевало!.. В огонь его, бабы, в ого-онь!..
— Э-эй, мужики, отходи в сторону! Не мешайтесь! — предусмотрительно напомнила и торопила одна, разбитная и дерзкая на руку, имя которой знал, а вот сейчас позабыл Платон.
Мужики стали быстренько расходиться. Платон вздрогнул, метнулся, но было уже поздно: убежать не дали, схватили за руки, за полы бушлата. Сдавленный со всех сторон, он начал отбиваться кулаками, — и это еще больше озлобило нападающих… Посыпались градом тучные удары в голову, в шею, толчки в грудь, в спину, его качало из стороны в сторону, в ушах гудело, словно бил набат… Платон уже не сопротивлялся, только сгибался весь ниже, ниже, пряча лицо… Потом всё хлынуло куда-то в омут, поплыло, — Платон упал…
В затихшем вдруг гвалте раздался вблизи мужской голос — сухой и резкий:
— Отставить!.. Прекратить!..
От Платона отступили… Он порывался встать и не мог. Поднимался на колени, опираясь руками, негромко выл сквозь зубы, падал и вскакивал опять. Кто-то второпях нахлобучил на него шапку, найдя не скоро под ногами в толпе, предупредительно посбив с нее снег.
— Утрись, дуралей, кровь из носа, — услышал он чей-то женский, не очень жалостливый голос.
Платон провел под носом рукавом, размазав кровь по щеке.
Долговязый, косоплечий и жалкий, стоял на нетвердых ногах Платон перед директором, потрясенный настолько, что даже не понял своего избавления и только постепенно распознал того, кто подоспел к нему на помощь…
Не помня себя, плохо узнавая людей, он видел, как бабы уходят по одной, по две, оглядываясь через плечо, и с содроганием ждал, что опять обступят его и сломят. Но они уходили всё дальше, к поселку.
Молча, в упор смотрел на него Бережнов, предупрежденный по пути сюда об отместке Платону.
— За что они тебя? — спросил Бережнов, чтобы знать поточнее о происшедшем. Он ждал дольше, чем позволяло время, но так и не получил вразумительного ответа.
Топчась на месте и глядя куда-то мимо, Платон пожевал губами:
— Толкуют: Пронька поджег…
— Да, он… А ты что, не веришь?
— Я заступился… мол, врете… не он.
— А кто же?..
— Не знаю.
Дивясь слепому неведению Платона, Бережнов тяжело покачал головой:
— Эх ты, простофиля… А что плачешь?.. Побили больно?..
— Деньги украли, — неожиданно для себя открылся Платон. И, всхлипывая, рассказал довольно внятно: сколько было у него денег, когда зашивал суровыми нитками… как Пронька вчера в столовой предложил ему «ради бедности» одолжиться на праздник… как нынче, во время пожара, надоумился Платон пересчитать деньги, — а вынул вместо них четыре туза…
— Гм… тузы, говоришь?.. Ловко сработано… Ты понял, когда это случилось? — спросил Бережнов скорее для того, чтобы определить, насколько сообразителен Платон Сажин.
— Не знаю…
— А кто украл?
— Невдомек мне… может, чужие кто…
История с Платоновыми деньгами, всплывшая нежданно, еще яснее раскрывала Бережнову обширность жестоких планов Жигана и глубину его падения.
— Дело, Платон, понятное: беглецы запаслись деньгами… Ну что ж, иди… иди в барак.
А сам стоял еще с минуту, наблюдая, как прозревший, совсем обескураженный Платон уходил тропою, заплетаясь ногами…
Глава XIV
Погоня
Ариша жалась к косяку плечом и, прикованная жуткой, гипнотической силой пожара, не могла оторваться от окна… Или только в оцепенении чудилось ей, или в самом деле доносились сюда испуганно-крикливые голоса, треск и вой пламени, но она слышала их явственно. Перебегая с места на место, суетились там люди — маленькие, черные, с красными пятнами вместо лиц, — и где же справиться с таким лютым, жадным до всего огнем, если застал врасплох ночью!.. В красновато-мрачном озарении лежали снега, и, будто расплавленное от жары, кипело, вспучивалось небо.
Впервые в жизни Арише привелось видеть пожар, но нечто большее, чем он, тревожило и страшило ее так сильно: ее всю трясло от острой, ознобляющей дрожи, до боли щемило сердце, и, как ни куталась в осеннее пальто Петра, накинутое на плечи, и в пуховый полушалок, — было так же холодно и зябко…
Секундная стрелка на розоватом циферблате будильника равнодушно, неторопливо отсчитывала время, а ей казалось: так долго длится пожар!.. все больше и больше выдувает его вправо, к баракам; вдали бродят разбежавшиеся лошади, и никто почему-то не собирает их… Она жалела гибнущее в огне добро, жалела людей, которые там подвергали себя опасности, но хотела только одного — чтобы скорее вернулся домой он… Но Петр не возвращался… Хотя бы на одну минуту пришел, — и она успокоилась бы.
Пламя уже стихало и будто отодвигалось вдаль, не слышно голосов, темнее становилось небо, в наступающем мраке уже не видно людей, только редкие огоньки, извиваясь змеисто, прорывались ненадолго, — а мужа все не было… Что с ним могло случиться?..
Прогоняя от себя пугающие мысли, которых стало теперь больше, и были они смутны, необъяснимы, как предчувствие, — она придумывала разные неотложные дела, какими он мог быть занят сейчас… Конечно, нужно немедленно собрать и где-то разместить поголовье, нужно доподлинно узнать причину возникновения пожара, а для этого придется не только Бережнову и Горбатову, но и Петру Николаевичу говорить с людьми… Когда всё закончат, он тут же придет, и нет, пожалуй, повода для тревог и опасений.
Измученная ожиданием, но несколько успокоясь, она стала одеваться, чтобы идти туда самой, — хотя бы пройти улицу, до конторы, а если не встретит его на пути, то опять вернуться назад. Вдруг в синем тумане ночи возник на дороге человек… шел медленно, нагнув голову, направляясь к их дому… Уже не владея собой, Ариша — в чем была — сбежала вниз по лестнице и отворила дверь. Стоя на крыльце, где сквозил морозный ветер, она ждала с минуту. И вот человек поравнялся с нею: то был чужой, шел вовсе не сюда, а мимо. Окликнув его, Ариша позвала к себе.
— Вы были на пожаре? — спросила она. — Скажите: что там?
Он молча свернул с дороги, и, когда подошел ближе, Ариша узнала Платона Сажина.
— Плохое дело… совсем плохое, — ответил он глухо, неразборчиво, словно говорил сам с собой. — Поджог… Кивают на Проньку Жигана да еще на Самоквасова… И директор сказал тоже: они!.. Все толкуют одно. Народ мимо не скажет.
— Жиган?.. — похолодев, переспросила Ариша.
Мгновенно вспомнился тот метельный вечер, когда она, после собрания в клубе, случайно очутилась рядом с Жиганом на крыльце… «Убил, конечно, — что за вопрос?» — резко и грубо сказал он тогда на ее неосторожный вопрос об убитом лосе.
К удивлению своему, она поняла, что этих Пронькиных слов она никогда не забывала, а только где-то в ней таились они до поры.
— Теперь бы словить их надо… да кто ж решится ночью идти против таких?.. Куда ткнешься, там и обожгешься, а каждому своя жизнь дороже… И где искать?.. У беглецов — одна дорога, а у погонщиков — сто, — рассуждал Платон.
— Сбежали?
— Леса наши — в небо дыра, беги куда хошь, в любу сторону… А может, и здесь где таятся… Ночь прикроет каждого: ей все едино — что добрый, что злой. — Переминаясь на снегу у крыльца, Платон и сам оглядывался, словно мог из-за угла в любую минуту появиться Жиган. — И, наверно, не с пустыми руками в побег ударились… и ружье у него, и кинжал, а коль удумано загодя, то и револьверт в кармане, — ничего удивительного.
Не дослушав до конца, Ариша захлопнула дверь и, не помня себя, поднялась по лестнице.
В пустых и темных комнатах (только в спальне горела привернутая в половину фитиля лампа) Арише стало страшно, хотя Буран, готовый защитить ее от нападения, лежал у ее ног. Кутаясь в пальто, она еще долго после этого сидела у окна, томясь ожиданием и страхом… Неужели Бережнов, невзирая на глухую ночь, пошлет и Петра в погоню? К чему этот бессмысленный риск?.. Неужели никто не отговорит Авдея Степаныча от такого опасного решения?.. Бессильная что-либо сделать, она метнулась к будильнику… Было ровно три часа ночи…
Тем временем в дежурке первой конюшни подходила к концу короткая беседа, и никто даже не подумал отговаривать Бережнова от погони — ни Горбатов, ни Якуб, ни Семен Коробов, ни кузнец Полтанов; уже стояли у ворот наготове три подводы, впряженные конюхом Догадаевым.
Второпях войдя в дежурку, Догадаев рассказал, что подслушал в толпе: кто-то видел, как трое ударились по дороге в лес; кто-то приметил двоих: пробирались на станцию задами, а прятались на лесном складе, выглядывая из-за штабелей теса; да и тот — один, похожий на Самоквасова — лез в потемках прямиком по сугробам к деревне Варихе… Напуганным людям казалось разное, — все было возможно, как возможно и то, что все это лишь пустая, досужая на выдумки молва…
Однако вернее всего было то, что удалось Якубу увидеть собственными глазами в начале пожара, — и Бережнов выбрал себе именно этот, наиболее вероятный путь беглецов — на узловую станцию Кудёма.
Кузнец Полтанов вызвался ехать вместе с ним; Горбатову выпадала дорога через зименку углежогов в Зюздино и Красный Бор; Якуба с конюхом Догадаевым Бережнов посылал в сторону Большой Ольховки. Несколько минут поджидали уполномоченного поселком, ушедшего известить районный исполком о побеге…
Едва ли могло взбрести в голову беглецам сесть во Вьясе на пассажирский, что прибывал в четыре утра, — все же направили к поезду Семена Коробова и двоих комсомольцев понадежней.
— Сколько же сейчас времени? — хотел уточнить Бережнов. — Свои не захватил я. — Он зажег спичку и посветил Горбатову. Тот отвернул полуистлевший обшлаг рукава — ручные часы его оказались разбиты: ни стекла, ни стрелок, — и сумрачно усмехнулся:
— Отслужили.
Подвода уполномоченного подъезжала к конюшне. Бережнов, обращаясь ко всем, произнес, поднимаясь первым:
— Пора «по коням»… Действовать осмотрительно: не наскочите на засаду… Пожар добьют без нас.
Подводы в темноте тронулись по разным дорогам. Горбатов стегнул Орленка кнутом, и легкие плетеные санки, проваливаясь и кренясь в сугробах, качали его из стороны в сторону. У погорелой конюшни он придержал жеребца, отыскивая глазами, кого бы взять с собой, и в эту минуту появился в воротах тамбура Вершинин.
— Алексей Иваныч… там лошадь одна — мучается очень… Может быть, ее лучше… чтобы не мучилась…
— Что надо, сделают без нас. — И вдруг указал ему место рядом с собою: — Садись, едем.
Потрясенный ночным кошмаром, который перебрасывался отсюда на другое пространство, Вершинин стоял возле саней, не двигаясь с места.
— Раздумывать некогда, и так упустили много времени, — торопил Горбатов и, сразу вскипев, почти закричал: — Ты едешь, наконец, или нет?!
Орленок, ошпаренный кнутом, рванул с прыжка, пошел машистой рысью к лесу под уклон. Неслись по лежневой дороге санки; било в лицо седокам комьями обледенелого снега. Отвалившись набок, Вершинин поднял воротник, глубже надвинул шапку, — стараясь не прикоснуться локтем к Горбатову. Оба слышали, как вдали бежало по лесам шелестящее гуденье поезда… Горбатов вспомнил о Сотине, который должен нынче вернуться из Сурени, и пожалел, что не Сотин, а другой, ненавистный ему человек сидит рядом, придерживая между колен чужое ружье.
В лесу, куда ворвался Орленок, не сбавляя хода, дорога тянулась прямиком на километр, потом пологой дугою пошла на север. Лесные нерубленые массивы, подобно отвесным берегам ущелья, висели над нею. Молодой ельник впереди подступил близко к дороге, тут осадил Горбатов жеребца, вожжи и кнут молча отдал Вершинину, а сам настороженно вглядывался в густой ельник…
Однако засады не было.
— Придется проверить зименку, — сказал Горбатов таким тоном, которому надо лишь подчиниться.
На седьмом километре, в лесной трущобе, находились знойки; обоим в разное время доводилось побывать там не раз… Напротив вырубленной делянки лежневая поворачивала влево, а вправо от нее, углубляясь в непролазное старолесье, вела проселочная дорога — в сторону зноек: уже тянуло из низины горьковатым дымком…
Через полчаса подъехали к зименке углежогов. С наганом наготове Горбатов обошел вокруг задутой метелями землянки, едва приметной среди сугробов, потом подкрался к двери, прислушался и только после этого негромко постучал. Вершинин привязал Орленка к сосне вожжами и вслед за Горбатовым спустился в землянку.
Вторично за эту ночь всполошенный старик Кузьма, узнав своих, обрадовался их появлению… Не более десяти минут тому назад были здесь беглецы.
— Хлебушко у меня последний взяли… Никому не велели сказывать, — жаловался Кузьма.
— А что было у них? Не приметил? — спрашивал Горбатов.
— Або в карманах что, али за голенищей спрятано, а в руках ничего сюда не приносили; может, в сугроб чего сунули… Надо бы доглядеть за ними, да не решился: убьют аль что… Их сию минуту нагоните, ежели на лошади, — дрожащим голосом говорил Кузьма, в испуге топчась на месте. И уже тише прибавил: — Опосля-то выползал я к знойкам: на плече-то у Самоквасова вроде ружья висело… А у Проньки, не иначе, топор за поясом. Уж больно смело калякал со мной… и хлебец прямо из рук вырвал.
У Вершинина забегали по спине знобящие мурашки: ему вместе с Горбатовым предстояла кровавая схватка — двое на двое, схватка с людьми, которые переступили черту и стали вне закона… Вспомнил Аришу, которая осталась одна в такую ночь, вспомнил Сотина, кому ольховские воры угрожали расправой у полыньи, — но те обробели сами, а Пронька Жиган не струсит.
— Пошли? — сказал Горбатов Вершинину.
Побледнев, тот сидел, облокотясь одной рукою на стол, и ответил медленно, цедя сквозь зубы:
— Я не пойду… Пусть уголовный розыск, а мы… рисковать бессмысленно.
Гневом загорелись глаза Горбатова:
— Мы — обязаны!.. Живьем или уничтожить. Ни секунды нельзя терять, — слышишь?
На тагане в углу робко потрескивали смолистые поленца, и в красноватом свете лицо Вершинина казалось неестественным, почти белым, а в глазах его Горбатов увидел крупные кровяные зерна, как у кролика.
— Почто же ты ехал? (Вершинин молчал). Зачем ты ехал, спрашиваю?.. Ведь ты же не с пустыми руками!..
Ответа опять не последовало. Вершинин сидел на нарах, поставив в угол ружье и плотно прижавшись плечом к земляной стене… Кажется, никакою силой не взять его с этого места. Из одной руки в другую Горбатов передернул кнутовище и, отступив шаг назад, изо всей силы ударил его в висок наотмашь:
— Предатель!..
И выскочил за дверь. За ним следом метнулся Кузьма — без шапки, без шубы, но крик его, прерываемый кашлем, донесся до Горбатова уже издали:
— Лексей Ваныч!.. Алеша! Погоди, оденусь… Слышь, погоди!.. (Горбатов не остановился.) Стар я больно, помогу ли?.. Вот беда: и Филиппа, как на грех, нету… Або чего не вышло?.. Вернись! Вернись!..
Глава XV
Во имя родины и долга
Горбатов шагал по дороге один, напряженно вглядываясь и слушая. Притаившись в вершинах, молчал выжидающий ветер… Неожиданно вырос из-под снега межевой столб, и его тень — серая, длинная — пугала сходством с человеком, лежащим поперек дороги.
От знойки углежогов прошел он не более километра. Через сотню сажен будет сто девятая делянка, вырубленная с месяц тому назад. Шел он быстро, с чуткой осторожностью оглядывая знакомые места. А вот и она — сто девятая: здесь проводил он собрание лесорубов, здесь родилась бригада Семена Коробова… Заснеженные поленницы дров и темно-зеленые кучи там, где лежали собранные еловые сучья, и вся делянка чем-то напомнила ему холодный цех инструменталки ночью: ни одного человека, кругом тишина, а где-то по домам отдыхает первая и вторая смена. Цех спит, поджидая утра…
Вдруг голос:
— Горбатов! Горбатов! — Секунда полной тишины и молчания. Эхо тенькнуло, как разбитое стекло. — Это вы? — спрашивал кто-то. Самого человека пока не было видно.
Горбатов вздрогнул, задержался на сделанном шаге и, пригнувшись, напряженно глядел вперед, где грудился молодой ельник у дороги. Прямо в лицо ему била желтым светом луна. Невдалеке от себя он разглядел две серые, выросшие вдруг человеческие фигуры — один спереди, другой сзади… Грозила беда. Мысли, ознобляющие до костей, беспорядочно метались. Двое бесстрашно бежали от ельника к кустам дороги, бежали с разных сторон, расстояние до Горбатова быстро уменьшалось.
— Самоквасов! — крикнул он не своим голосом, вглядевшись в смутное, неопределенное лицо, закрытое бородой и тенью.
— К-какой т-тебе Самоквасов… — Это крикнул тот, что в большой заячьей шапке.
Ухо поймало странную растянутость звуков, словно говоривший хотел сделать как можно больше шагов, произнося их. Слова с вздвоенными звуками делали Пронькину речь нелегко узнаваемой. Но Горбатов узнал сразу и отшатнулся. Столб лунного света ударил ему в лицо, глаза поймали желтый обломок луны, и на несколько секунд он потерял обоих из виду. Время остановилось, уши потеряли способность слышать… Потом он увидел их снова. Стало жутко, и не оттого, что к нему приближаются, бегут двое и каждый держит что-то в руках, а оттого, что вдруг зашумела в ушах будто метелица, стужей охватило грудь и в лихорадке застучали зубы. Усилием воли, которую надломила растерянность, он вырвался из этого остолбенения… Стиснув зубы и кулаки, он отскочил с дороги в сугроб и приготовился…
— Здор
ова! — прогремел густой отчаянный голос, словно ударили кувалдой по листу железа, и в тот же момент на дорогу выскочил первый — широкогрудый, в войлочной шапке, рыжебородый. На освещенном сбоку лице казалась перекошенной челюсть, глазные ямы чернели, как у черепа… Это был Самоквасов с ружьем Вершинина в руках.
— О-о, гады! — скрипнул зубами Горбатов и, выхватив наган, рванулся врагу навстречу.
Другой — в белой шапке — по-волчиному прыгнул из кустов, очевидно улучив удобную для себя долю минуты. Горбатов оглянулся… Теперь они все трое стояли на дороге, и он — Горбатов между ними… Провалился куда-то испуг, затих в ушах ветер… Заслышав торопливый хруст приближающихся сзади шагов, он понял, вернее почувствовал, что бородатый ближе, что он бежит, и если он — Горбатов — промедлит хоть одну секунду, тот выстрелит ему в затылок… Круто повернувшись навстречу бегущему, он поймал на мушку рыжую бороду и… выстрелил… Но выпустил из виду того, кто поспешно настигал его сзади. А тот подскочил сбоку, взмахнул топором, крякнул…
Над лесом раскололось небо… Острые тяжелые глыбы начали падать на голову, под их тяжестью подломились колени, согнулась спина, и не было мыслей, кроме одной:
«Нельзя падать… нельзя…»
В ответ кто-то промычал, или так показалось только:
— Тебя мне и надо было… Теперь — сквитались!..
А кто-то рядом — другой — громко стонал, ползал по дороге, выл, плакал, в жестокой, неотмщенной злобе проклиная мир. Потом умолк он, этот пристреленный враг…
Снова вернулась мысль: «Нельзя падать… какой, однако, горячий снег». Он протянул вперед пальцы, шаря что-то по ледяной колее. Кругом загорелись огни — красные, зеленые, багрово-черные, голубые… Качаясь в них, плавает, тонет обломок луны. Рука нашла в снегу и придавила найденный наган, но не было силы поднять его… И будто не своим ухом услышано было такое: в горстях хрустит горячий снег и ерзают по снежным комьям колени…
Потемнела ликом луна… в наступающей могильной тьме шумели леса, как половодье, и в этом шуме, где-то вверху, над головой, алым знаменем развернулось в полнеба облако и прозвучала жизнь, живая, огромная, неповторимая… В багряном отсвете заката, поверх косматых елей, увидел он еще: словно две раскрытые белые чаши с неровными краями проступили на миг и тут же скрылись в тумане рога лося…
Последним его видением, которое ярко запечатлели потухающие глаза, было что-то маленькое, снежно-пушистое… оно катышком катилось по темной кромке леса, потом упало на землю… Теперь оно начинало расти, приобретать какие-то живые, но смутные, неопределенные очертания. Оно выросло до размеров маленького человечка, закутанного в пальто и пуховую шаль… В нем узнал он свое близкое, необыкновенно влекущее, дорогое; оно заставило его неотрывно глядеть, не смыкая тяжелых век… И вот оно ожило, зашевелилось, пошло к нему… Это не оно, а она… Катя… В белом, с оборками платьице она шла к нему, прямо шагая по синему снегу и вдруг, уронив с плеч серое облачко шали, прошла мимо…
Чтобы остановить ее, позвать к себе, он остатком сил свернул свои мышцы в клубок и, сделав нечеловеческое усилие, повернулся со стоном на другой бок. Открыл глаза… и сквозь густое, ползущее облако опять увидел ее… она стояла теперь совсем близко, рядом… протянуть вот руку — и она схватит ее своими маленькими теплыми пальцами… Но рука уже перестала слушаться, перестала жить… В зеленой лужице хвои тонут Катины валенки — и молчаливо-счастливая, она улыбается, радуясь тому, что нашла отца и что в белом подоле у ней так много еловых шишек…
Глава XVI
Расплата
Уже на исходе была эта ночь, полная тревог и пугающих призраков, которые мерещились Арише. Устав от пережитых волнений, она прилегла на постель и, не желая того сама, быстро заснула.
Но был краток ее сон: громко и дробно застучали в дверь… Это возвращался, конечно, Петр — усталый, проголодавшийся, и следовало подогреть чайник. В окнах едва приметна бледная полоса рассвета… В дверь постучали опять. В ночной сорочке и тапочках на босую ногу Ариша подбежала отпереть ему — и вдруг, всплеснув руками и отшатнувшись, ахнула: перед ней, ступив через порог, очутился чумазый незнакомец с красноватыми, воспаленными глазами, в черном полушубке, разорванном на плече. Она мгновенно скрылась в другую комнату, готовая кричать от испуга.
— Извините, пришел не вовремя, — вполголоса, почти строго произнес чужой. — Через часик зайдите… зайдите к мужу: с ним — плохо, очень плохо.
— С Петром Николаичем? — бледнея, спросила она.
— Нет, не с Вершининым, а с вашим мужем, — повторил он еще
более сурово.
Только тут, по голосу, она узнала Бережнова. Пораженная громовой вестью, обмерла, ожидая, что скажет дальше.
— Безнадежно дело или нет — не знаю, — продолжал он, — но обстоятельство весьма серьезное. — И, не глядя на нее, показал рукою себе на голову: — Висок… губительная, роковая неосторожность… — И поторопился уйти, уступая дорогу самим событиям…
А они уже накатывались на нее, точно обвал скалы, и в этой теснине ей некуда стало бежать, чтобы найти спасенье… Одеваясь, она металась по комнате, искала, швыряла вещи, в которые нужно было одеть себя, путалась в них, безумно спеша, — потому что там, внизу, истошным криком кто-то звал ее: плакала ее мать, и тут же детский перепуганный, спросонья, плач вонзился ей в сердце…
Ариша, не помня себя, выбежала в коридор, но тьма и приступ ледяного страха остановили ее на лестнице… Она вернулась опять в комнату, подбежала к окну… Там, у крыльца, стояла чья-то подвода, и люди грудились вокруг саней…
«А что, если Авдей солгал?» — блеснула вдруг мысль, и точно электрическим током ударило ей в голову. Изумление, близкое к догадке, охватило ее. Не зная, как быть, что делать, она в оцепенении глядела на дверь, но выйти стало страшно… Что встретит она там, в прежней своей квартире?.. Вот она входит… Он лежит, вытянувшись на кровати… мертвенное лицо, кровавое пятно на виске… запавшие глаза полны укора и ненависти, глядят на нее в упор… Узнав ее, он отворачивается и еле слышно говорит: «Уйди, уйди от меня…» И все слышат этот последний его шепот. Его запомнят навек люди… Да, ее можно презирать, ненавидеть… К ней, после ее ухода от Алексея, то утром, то перед сумерками прибегала три дня подряд Катя, не постигая совершившейся беды. И что же?.. Приласкает девочку, поиграет недолго и через силу… а не позднее как через час Катя робко и печально уходила, не получив того, что приманило ее к родной матери. И всякий раз, задерживаясь на лестнице, махала рукой: «Я приду к тебе, мамочка… а ты не скучай»… И мать отпускала ее!..
— Какая ты мать! — кричала Ариша на себя беззвучно, и сердце разрывалось в ней на части, кровоточило…
Едва держась на ногах, она с обостренной, болезненной чуткостью прислушивалась к тому, что происходило внизу… Мужские голоса — Бережнова, потом — Сотина (очевидно, возвратился из Сурени сегодня ночью) звучали неровно, неразборчиво, срываясь на низких нотах, — так успокаивают родных и маленьких детей в непоправимом несчастье, когда уже нечего больше сказать в утешенье…
На заре привезли Алексея во Вьяс… У крыльца стоял присмиревший Орленок, будто и ему понятна была людская беда, — все же держал его под уздцы углежог Кузьма, кашляя беспрестанно, а поодаль от подводы, на груде сложенных бревен сидел словно застывший Вершинин. Никто не спросил их, почему оставили там, на дороге, застреленного Самоквасова, зато спрашивали Кузьму и Бережнов и Сотин об Алексее, о всех обстоятельствах, которые произошли в лесу… Рассказывая обо всем, чему был сам свидетель, Кузьма произносил простые, страшные слова, не позабыв ни одной подробности.
Горели в избах ранние огни. Словно разыскивая кого-то, изредка перебегали широкую улицу люди, оглядываясь на двухэтажный щитковый дом…
Глухой одеревеневший голос Бережнова, появившегося на крыльце, раздался громче обычного, потому что все подавленно молчали.
— Беремте… поаккуратнее, — сказал он, не помня, что мертвым не нужна предосторожность живых.
И точно по сговору, подошли к саням Сотин, Семен Коробов, кузнец Полтанов, подняли Алексея, отяжелевшего, как камень, понесли на руках в дом, — несли близкие, друзья, люди одного с ним взлета, только судьбой счастливее, чем он… А Кузьма сел в порожние сани и погнал Орленка к конюшне.
Люди понемногу стали расходиться восвояси. Вершинин остался один… Будто в кошмарном сне, над которым не властен человек, он продолжал сидеть на обледенелых бревнах за углом дома, не решаясь ступить даже на крыльцо… Надо было идти куда-то, уйти от людей, от Ариши, от самого себя, а тело не повиновалось, налитое неодолимой тяжестью… Невольный сообщник преступления, он не смел, не имел права показаться на глаза Арише: «Что я скажу ей?» Даже Сотину, который, выйдя к нему, великодушно пригласил к себе: «Иди, полежи у меня», он не нашел, что ответить.
После Сотина вскоре к нему подошел другой и раздраженно, с уничтожающей силой проскрежетал над самой головой Вершинина:
— Э-эх ты, умная голова!.. «Помог», значит, в беде товарищу?.. Иди, «отдыхай» теперь, она ждет давно. — И человек (по голосу — кузнец Полтанов) оставил его, уходя медленно за угол дома.
Бездомным, как бродяга, отрешенным от людей почувствовал себя Вершинин… Мир глядел на него миллионами потухающих звезд, и они казались Вершинину холодными, ненавидящими глазами. Поджимая плечи, он будто подставлял голову и спину для законной, неминуемой расправы. Несколько минут спустя, когда возле дома никого из людей не осталось, он поднялся с глубоким вздохом и побрел куда-то, не разбирая пути…
Он шел улицей, на самый конец поселка, шел медленно, с трудом переставляя ноги, и всю дорогу со всех сторон завывал над ним ветер. Сквозь эти, физически ощутимые порывы ветра мерещились ему короткие, какие-то стреляющие звуки, будто в железный передок саней летят из-под копыт Орленка оледеневшие комья снега…
Вторично за эту ночь обступили его видения. Происшедшее в лесу у зноек вернулось опять к своему началу… После того как ушел Горбатов вослед беглецам, а Кузьма и Вершинин остались в землянке, ни один не знал, что делать… Очнулись оба лишь в ту минуту, когда вдали прогремел первый выстрел, оповестивший о засаде.
В одно мгновение переборов свои годы, старик легче, быстрей, чем Вершинин, добежал до подводы, отвязал от сосны Орленка и первым вскочил в сани, прихватив с собою топор — извечное мужицкое оружие. Не страшила его опасность, мороз и встречный ветер были нынче ему нипочем, — так и ехал Кузьма, стоя в санях, позабыв застегнуть свой ветхий шубнячок. Когда раскатывались и кренились набок сани, он держался за плечо Вершинина. Все кипело в старике отвагой и силой, которые вернулись к нему опять… Ярко вспыхнула в ту ночь его звезда, которой наступали сроки меркнуть…
Не сбавляя рыси на ухабах, Орленок нес их со скоростью поразительной, и скоро они наехали на то, очерченное смертью место… В сугроб отвернув лошадь, Кузьма выпрыгнул из саней, кинув вожжи лесоводу, а сам, нагибаясь, осмотрел в потемках оба трупа; он шарил голыми руками по дороге, но так и не нашел горбатовского нагана…
— А там что, в снегу? — в сторону указал Вершинин.
Кузьма полез сугробом и через минуту принес ружье, — Вершинин узнал свою шомполку, проданную когда-то Проньке Жигану… Пистон был цел, курок спущен, и Кузьма уже не выпустил ружья из рук, готовясь пустить в дело, если понадобится.
Выезжая опять на дорогу, он с какой-то злой, отчаянной силой стегнул кнутом жеребца, хотя нужды в том вовсе не имелось. Кузьма и сам скакал напропалую, чувствуя себя, наверно, так, как всадник в начале битвы… Но битвы не произошло: беглеца не настигли, — должно быть, уполз, в трущобу… Пришлось возвратиться назад. Кузьма явно жалел об этой несостоявшейся схватке, совсем не помышляя о том, чем могла бы для него кончиться она…
Продутую морозным ветром грудь уже покалывала острая боль, кашель душил его до слез, и только теперь он догадался застегнуть свой нагольный шубнячок, и больше не бил, а придерживал Орленка. Жеребец отфыркивался, заиндевелые бока его то вздувались, то западали. Он сам остановился у того места, где нужно было, и, когда положили Алексея в сани, пошел шагом.
Впереди лежала синяя зыбучая дорога, с обеих сторон теснила ее безмолвная, почти мертвая лесная рамень. Изредка, на раскатах, сани стукались о стволы сосен, на головы обрушивался с ветвей снег, и Вершинин, сидя на облучке с вожжами в руках, вздрагивал…
Он и сейчас, бесцельно бредя один по улице Вьяса, видел перед собою все ту же лесную дорогу… Кузьма, быстро откипев, с совершенным спокойствием, как умеет не всякий, поддерживал убитого, иногда поправляя его согнутую в локте, свисавшую из саней руку, являя собою пример мудрого бесстрашия. (Недаром он годов двенадцать тому назад сам выдолбил себе гроб и до сей поры хранит его в сарае, помня неминуемый срок.)
За всю дорогу ни одним словом не обмолвились они — молчание было сильнейшей потребностью в тот необыкновенный час… Вершинина мучило нестерпимое любопытство — оглянуться, посмотреть на Горбатова, но что-то властно сдерживало его.
— Коней-то… всех спасли ай нет? — уже перед Вьясом спросил Кузьма.
И в тон ему, точно отдаленное эхо, ответил лесовод:
— Нет… Динка да Тибет погибли… Одна переломила ногу, да еще две — с большими ожогами.
— Жаль… животинка — она полезная… А человек — тем паче: цены ему нет, ежели он трудящий да молодой к тому же…
Почти одновременно с ними вернулись во Вьяс и другие гонцы, потому что каждый из них проехал расстояние впятеро большее, нежели мог одолеть пеший беглец… И вот у самого крыльца Вершинин остановил Орленка; уже от конюшни за ними шли сюда люди и сразу обступили подводу… Не предвидя, чем кончатся объяснения, Вершинин начал рассказывать Бережнову, но тот, дослушав до половины, отошел от него к Кузьме… Никому больше не понадобился Вершинин, только кузнец Полтанов с горьким и дерзким словом подошел к нему, найдя за углом дома, где Вершинин одиноко сидел на бревнах… И может быть, именно после полтановских слов осталось в душе такое беспредельное опустошение, когда глух и безразличен ко всему бывает человек… И не все ли равно, куда теперь идти!..
В крайней избе, где когда-то, будто тысячу лет назад, жил он, едва заметный в окне теплился огонек. Совсем не в урочный час постучался в старые воротца Вершинин. Параня отперла ему и, кажется, ничуть не удивилась его странному посещению, словно с часу на час поджидала прежнего квартиранта. Бормоча невнятные слова о «неисповедимых путях господних, начертанных изначала», она пропустила его мимо себя и опять заперла сенцы. Уже войдя в избу, она упомянула о том, что беда не приходит одна, а следом ведет и другую…
— И не ждешь, где тебя смерть пристигнет… Ко всякому горю, ко всякой беде терпенье надо. — И говорила так, будто поучала Вершинина, сама горюя над чужим горем.
На столе под мешковиной лежал в решете хлеб, как и раньше. Параня отрезала большой ломоть, участливо совала ему в руку:
— Поешь… сытому человеку завсегда легче.
— Не надо… Я лягу, — только и сказал он.
Параня постелила что-то на полу, у самой стенки, где когда-то стояла его кровать. Он лег, одевшись своим полушубком, отяжелевшие веки слипались. Он скоро уснул — без сновидений, глубоким беспамятным сном…
— …Идите, вас требует Ариша…
— Меня?.. Кто? — спросонок переспросил он, не поверив своему слуху, и быстро приподнялся на постели.
— Велела идти… немедленно. — У порога стояла жена Сотина и, немного хмурясь, плотно сжав тонкие губы, ждала, пока соберется он. — Я провожу вас…
Он подошел к рукомойнику, а Параня уже стояла позади него с застиранным рушником, какой случился на этот раз. Утираясь носовым платком, он смотрел куда-то поверх головы Елены Сотиной глазами пойманного, растерявшегося преступника… Итак, раньше всех Ариша требовала его к ответу.
На столе опять лежал хлеб, горячая неочищенная картошка, уже налит в стакан чай, — но теперь было вовсе не до еды.
— Да, да… я приду, — глухо отозвался Вершинин. — Идите… через полчаса приду.
Жена Сотина, постояв немного, ушла. А Параня, проводив ее до сеней, вернулась и глядела на него с нетерпеливым любопытством и участием, стараясь угадать: что еще готовит ему судьба?.. И правда: несравненно легче было бы ему идти к Бережнову, даже к следователю, который не позднее как завтра приступит к работе… Но что скажет он Арише? Какими словами выразить свою запутанную, непрямую причастность к убийству? Чем оправдает свою трусость на знойках в лесу?..
Не примечая людей, кто попадался навстречу, он шел, не зная — утро или вечер сопровождает его на это последнее свидание… Наверно, она ждет его там, наверху, где он оставил ее в полночь?..
Подходя к дому, он не смотрел на окна и, чтобы не попадаться на глаза Сотиным, быстро и тихо прошел сенями, поднялся по лестнице и как-то с рывка отворил дверь… В обеих комнатах было пусто, только Буран — верный сторож покинутого всеми добра — встретил его у порога. Вершинин недолго посидел за столом, в тяжелом раздумье погладив прильнувшую к его коленям голову пса…
Ариша уже поднималась по ступеням, и новые доски под торопливыми ее шагами издавали злые, скрипучие звуки.
С лицом, мокрым от слез, с глазами, обезумевшими от горя и страха, она подбежала к нему, схватила за борта пиджака и затрясла его, что было в ней силы:
— Что, что ты наделал?! Что наделал! — Страданье и гнев исказили до неузнаваемости ее исплаканное лицо, на лбу прорезались морщины. Она грозила сжатыми кулаками и все кричала одно и то же: — Что ты наделал!.. Господи, ну как же теперь?.. Как?! — И вдруг, будто подшибли ей ноги, рухнула на пол и забилась в истерике…
Вбежал Сотин — бледный, напряженный, готовый к драке, но, застыв у порога, с минуту не двигался с места: Вершинин стоял на коленях возле разметавшейся Ариши, прижав ее руки к своему лицу… Помедлив малость, Ефрем Герасимыч тронул его за плечо:
— Оставьте, уйдите. — А сам, нагнувшись к ней, поднял ее на руки и осторожно понес из комнаты…
К ней долго не возвращалось сознание, а когда пришла в себя, уже не плакала больше. Она присела на стул у гроба, обняв рукой колени покойного, и, опустив немигающий взгляд на его землисто-серое лицо, застыла… Алексей сызнова стал ей несказанно мил и дорог, стал лучше всех людей на земле… Покинув живого, она теперь пришла к нему опять, — и новая, глубокая, но скорбная любовь зажглась на неостывшем пепелище…
Глава XVII
Лицом к лицу с жизнью
День был тяжел, как старость, к которой не приходит желанная смерть. На что-то надеясь, Вершинин хотел, чтобы поскорее наступил вечер; сумерки уже надвигались, не обещая, однако, принести покоя. Ссутулив плечи, он возвращался из конторы, где просидел целых пять часов, напрасно ожидая, когда потребует его Бережнов и гневно скажет: «Ты… ты виновен в смерти Горбатова!» — и при этом назовет статью уголовного кодекса.
Не досидев до конца занятий, он опять шел улицей и, позабыв, что живет в щитковом доме, пошел на конец поселка — походкой усталого, подавленного тяжелой мыслью человека.
В проулке его остановила Параня, неожиданно появившаяся перед глазами; он с враждебным удивлением оглядел ее остроносое, сморщенное, желтое лицо и, чему-то изумившись, непроизвольно сделал шаг назад:
— Тебе чего?
Старуха заскрипела беспокойно и таинственно:
— По слухам, по верным слухам, Алешу-то Горбатова убил не Пронька.
— А кто?..
Заглянув в бегающие, лисьи глаза, он равнодушно слушал ее лепет и что-то чертил палкой по снегу. Косо наблюдала Параня за непонятными движениями его руки и говорила:
— Тебе, Петр Николаич, поведаю по секрету… Не Пронька Жиган, а углежог Филипп… Паче слуха мое видение… Я сама самовидец: на праздник своими глазами видела и слыхом слыхала — ходил он по улице выпимши и кричал: «Убью!» И поэтому, конешно, его — Филиппа-то — приходится сажать за решетку.
— В тюрьму? — изумился Вершинин, уловив только одно последнее слово. — Кого за решетку? — переспросил он ошеломленно.
— Филиппа… за его издевательство. — Стало быть, не забыла еще Параня свою старинную обиду и на закате лет решила сквитаться. — Ай не веришь? И Лукерьюшка слышала, и прочие остальные…
— Уйди, не донимай меня, — морщась, будто от боли, сказал Вершинин и поднял над ее головой палку.
Старуха ловко отскочила в сторону, пучила испуганные глаза на своего прежнего квартиранта и, хотя сразу смекнула, что не тронут ее, торопливо побежала по улице, то и дело оглядываясь.
Он продолжал стоять на прежнем месте, словно читая написанное на снегу, а Параня подбежала к Лукерьиной избе и шмыгнула в калитку: не иначе, торопилась разгласить свежую новость — о «рехнувшемся» лесоводе…
— Ну, и пусть: теперь мне все равно!..
На пустыре, неподалеку от лесного склада, лежал под старой рогожей труп Самоквасова… Толкаемый неопределенным желанием, Вершинин пошел туда… И вот, стоя над убитым, лесовод смотрел на войлочную шапку, серые подшитые валенки, торчавшие носками врозь, — и захотелось поднять рогожу, заглянуть в лицо… Наверное, застыла на нем гримаса ожесточившегося, сраженного пулей зверя. Когда-то он кричал с негодованием, что у людей нету жалости… «Да, к нему не может быть жалости», — подумал Вершинин, отходя прочь…
Взбираясь по лестнице, он нарочно задерживал шаги и по-воровски прислушивался к тихим рыданиям Ариши и голосу ее матери… Он представил себе: гроб, обтянутый красным сатином, забинтованную голову, впалые, землисто-серые щеки Алексея; между бровей окаменел гнев и презрение к тому, кто в опасный час погони покинул его…
Непослушной рукою отпер свою дверь Вершинин, бросил на стул пальто и немощно потянулся к постели…
«В самом деле: почему я так жадно, ревниво берег себя? — спрашивал он. — Разве, сохранив свою жизнь, но погубив других, я сберег себя?.. Разве я прав?..»
Безотчетно, непреодолимо захотелось увидеть себя, и он подошел к зеркалу: навстречу ему придвинулось бледное, осунувшееся лицо с малиновой бороздой на щеке и оловянно-серыми, бессмысленными глазами.
«Кто ты такой?.. Что ты делаешь на земле? Для чего ты существуешь?» — допрашивал он себя.
Тот, второй, что в зеркале, высоко поднял правую бровь, остро, обличающе прищурил левый глаз, отчего лицо перекосилось, и раздраженно ответил сквозь зубы:
«А что допытываться, когда все ясно?.. Сплошная цепь ошибок, заблуждений, раскаяний, новых надежд и новых падений!..»
«Но в чем же тогда смысл и цель прожитых тридцати трех с половиной лет?.. В исканиях и ошибках? Не поздно ли искать поправок?»
«Знаю, что поздно… Ну что ж… значит, конец?.. Так, что ли?» — допытывался он, подталкивая себя к решению.
«Да, конец… конец всему…»
В ноги к нему толкнулся Буран с несмелой лаской. Он выздоравливал и, должно быть, просил есть, но странный взгляд хозяина заставил его уползти в свой угол.
Накатывалась черная ночь, еще больше усиливая похоронную тишину в доме. Почуяв мучительное бессилие, он лег поперек кровати, прислонившись головой к стене, и закрыл глаза. Хотелось забыться, заснуть хоть на минуту, — а перед усталыми глазами мелькали картины пройденной жизни, из которой было многое позабыто… И ярче всего вспоминалось случайное, мелочное, чему никогда не придавал ни малейшего значения…
Он очнулся, услышав стук в дверь, приподнялся отяжелевшим телом и с ожиданием посмотрел на дверь, потом подошел и осторожно открыл ее… В коридоре было тихо, темно, пусто. Изумленный, он вернулся к кровати и только было лег — опять раздался стук, на этот раз явственнее, сильнее, четыре раза… И опять никого за дверью не оказалось.
Неожиданно для самого себя, он остановился посреди комнаты: «Схожу с ума…»
Это была действительно душевная судорога, провал сознания, который едва ли проходит бесследно…
— Ерунда! — озлился он на свою слабость и, понемногу овладевая собой, несколько раз прошелся по комнатам и даже с каким-то безразличием к себе повторил: — Ерунда… Камни лишены способности терять рассудок…
Огня не зажигал он сегодня, потому что боялся света: не потому ли, что при огне еще виднее станет его неискупимая вина, его никчемность, а во тьме хоть ненадолго удастся уйти от себя и от других…
За дверью раздался отчетливый шорох, — теперь там определенно стоял кто-то…
— Петр Николаич… откройте.
Он узнал Аришин голос, тихий, робкий, покорный… Зачем пришла она? Не произойдет ли опять то же, что и вчера утром?.. Не лучше ли для обоих, если не состоится эта встреча?.. Да и зачем, если все равно — конец, ибо не каждый может выдержать повторную пытку… Подумав так, он затаился и только прислушивался, не откликаясь совсем… Ариша постояла у двери, ответа не дождалась и, тихо зарыдав, пошла вниз по лестнице.
Только тут Вершинин заметил, что в окна тянется откуда-то блуждающий свет… Невдалеке горел на снегу костер, озаряя покрытый рогожей труп Самоквасова. Серою тенью ходил ночной караульщик в нагольном тулупе. В темной дали терялся лесной склад, — именно с той стороны выступила несмело, крадучись, фигура женщины. Она приблизилась к трупу, остановилась в свете костра, потом, опустив голову, медленно обошла вокруг и так же медленно удалилась…
Это украдкой от людей приходила проститься с Самоквасовым старуха мать: на ее сыне лежало клеймо общественного позора и ненависти, потому и выбрала она этот поздний час, когда никто, кроме сторожа, не увидит ее…
И подумал Вершинин:
«Если бы жива была моя мать, она бы тоже пришла воровать прощальную минуту ночью?.. Как хорошо, что я — один»…
Он зажег лампу, и тьма отступила от него в другую комнату, куда стало страшно ему зайти. На стене догорала «Осень» Левитана; на холодную гладь реки оседал тихий тоскливый вечер. Вершинин наклонился к письменному столу и выдвинул нижний ящик… А за ним наблюдали со стены глаза изумленной девушки, и в эту минуту, казалось, в них блестели слезы… Шурша бумагой, он недолго рылся в потайном ящике, куда не заглядывал давно и где хранилось оружие…
Повертев барабан, стал вкладывать пули. Они, эти желтые остроголовые пчелы, впивавшиеся в пустые соты, дрожали в его пальцах; под легким нажимом словно чужой руки курок поднялся и опустился мягко на свое место, — все было в исправности…
Оставалось одно — написать немного о себе людям перед тем, как уйти от них…
— Дайте квартиру директора, — закончив, сказал он по телефону. — Авдей Степаныч?.. Извините, что беспокою… Да, я… Может быть, вы зайдете ко мне?.. Через полчасика?.. Хорошо, спасибо…
И кинул на стол трубку… Мембрана продолжала еще звучать, взволнованная необычным разговором… Закурив последнюю папиросу, Вершинин смотрел на циферблат будильника, где стрелки двигались к намеченному пределу… Они вскоре сошлись на двенадцати…
— Пора… пора кончать, — сказал Вершинин, приподнимаясь от стола.
Он отступил на середину пола и поднял с наганом руку… Внизу вдруг нетерпеливо загрохали в запертую дверь, — он заторопился, закрыл глаза и, нацелясь в грудь, выстрелил… Падая, он слышал, как вслед за ним упало кресло, за которое схватился рукой, а там, внизу, в комнате Ариши, громко, на весь дом, взвизгнул, закричал женский голос…
Буран заметался в тоске и страхе, потом скоро затих; крадучись, он подполз ближе и мокрым языком начал лизать хозяина в щеку.
…Трещала дверь под напором сильных, перепуганных рук, копились на лестнице люди, скулила в комнате собака, застигнутая бедой врасплох. Первым ворвался Сотин, минуты через три появился Бережнов… Посреди пола лежал, поперек пестрых дорожек, распластанный лесовод Вершинин: снеговая бледность заливала лицо, откинутая рука медленно разжималась, роняла револьвер, ставший теперь ненужным…
— Кому-то звонил, — глухо вспоминал Сотин, обращаясь к Бережнову. — Я слышал, но слов не разобрал…
— Звонил мне… просил зайти через полчаса… Мне подумалось… я побежал, не медля ни минуты… и все-таки запоздал…
Пришел с лампой в руках Якуб, и хотя в комнате горела висячая лампа, он не погасил свою, а поставил на письменный стол, у которого стоял в раздумье Бережнов, вынимая из конверта записку… Читал он молча, наружно спокойный, только подергиванием губ выдавая свое волнение и растерянность перед загадкой:
«Мир вышел из колец Сатурна.
Юля… продолжай помогать вулкану. А я… в напрасных скитаньях растерял силы, устал, да и людям причинил много зла и несчастий. Мне ничего иного не осталось, — побежденный жизнью, я — ухожу.
Простите… И прощайте.
Вершинин Петр».
У Бережнова мелькнула мысль о безумии лесовода, но, перечитав еще раз, он напал на след, начал угадывать смысл, сознательно спрятанный в эти необычные фразы.
— Этого я не ждал все-таки, — произнес он, передавая письмо Сотину…
Ефрем Герасимыч отошел к окну, осторожно обойдя безжизненно раскинутые руки своего бывшего друга… Он отчаянно жалел, что не пришел сюда днем: как знать — может быть, сумел бы предотвратить ошибку, которая стала теперь непоправимой?.. Кто-то сзади тронул его за плечо — подошел Бережнов.
— Надо вызвать его сестру, — сказал он. — Ты адрес знаешь?
Вершинин застонал, и в тот же миг все в комнате замолкло. Сотин и Бережнов, став на колени, наклонились к Вершинину, ножницами простригли на левой труди рубаху и долго всматривались в маленькое темное отверстие, прожженное пулей: оно было правее и выше соска. Вырывавшийся из легких воздух ослабевал заметно, и только уже мелкие и редкие пузырьки выбивались наружу…
Он открыл глаза — большие, глубокие — и долго обшаривал стены, будто по ним узнавал, где он и что случилось… Потом чуть передвинулась голова, он застонал опять… На лице, осветленном последней мыслью, отображалось судорожное желание подняться…
В муках рождался новый день…
Эпилог
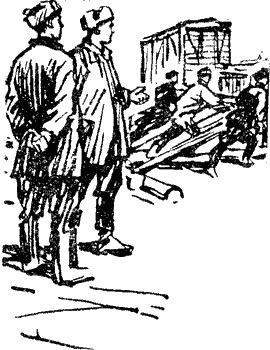
Юля спешила застать брата в живых: в телеграмме Бережнова — краткой и осторожной — оставалось маленькое место для надежды. Чутьем она угадывала, что во Вьясе еще произошло что-то — быть может, самое страшное, о котором по вполне понятным причинам не мог сообщить директор.
Тяжелое, тревожное чувство не покидало ее ни на минуту, то усиливаясь, то ослабевая на миг, то вспыхивая опять… Ночью, когда оставалось до Вьяса час пути, оно выросло до непомерных размеров, оно уже не умещалось в ней и прорывалось наружу: она нетерпеливо заглядывала в окно, — но там тянулся темной сплошной стеной лес да редкие, кое-где, мигали во тьме огни; спрашивала пассажиров: «Скоро ли?..» А поезд медленно тащился глухой, почти безлюдной равниной, подолгу простаивал на станциях, на разъездах, растрачивая свое и чужое время.
Но вот наконец и он — знакомый лесной поселок, куда она ехала в третий и, быть может, последний раз… Летом, полгода тому назад, она перед отъездом на юг прогостила здесь полторы недели, запомнившиеся надолго… О, как давно все это было!.. И как плохо знала она брата… Недаром зимой, в каникулы, когда произошла между ними ссора, а вслед за ней — отчуждение и разрыв, Юля впервые поняла отчетливо, в какую трясину заходит он, и только не было силы у ней вернуть его… Она выскажет ему все, что накипело в душе дорогой, и пусть хоть теперь узнает он, почувствует, как сильна ее ненависть к тому, чем жил он… Память подсказывала ей, что прежнее стоит в прямой связи с последними событиями.
Мимо окна вагона все медленней и медленней во тьме проплывали столбы телеграфа, потом — лесной склад, бараки, избы. Поселок спал, и только в одной избе, на самом конце улицы, теплится, как ночью в келье, огонек у Парани… Юля взглянула на часы, — было ровно двенадцать, поезд пришел без опозданий.
Спускаясь с площадки вагона и отыскивая глазами, нет ли кого знакомых, чтобы скорее спросить о Петре, — она лицом к лицу столкнулась с Сотиным… Уж не ее ли встречать он вышел?..
— А я вас караулю, — сказал он, протягивая руку.
— Спасибо, спасибо. Зачем беспокоились? Я найду сама, — заторопилась Юля. И тут же спросила: — Что с ним, скажите?..
Ефрем Герасимыч взял из рук у ней чемодан, отвел ее в сторону, чтобы не слышали другие, и, нагнувшись почти к самому уху, начал рассказывать о том, что предшествовало последнему дню…
— Проводите меня к нему, — рванулась Юля.
— Постойте, я оказал не все, — удержал ее Сотин, не зная, какие подобрать слова, чтобы досказать последнее: ее отношений к брату не знал он.
— У него кто-нибудь есть? — опять спросила Юля.
— Нет.
Сотин взял ее под руку и, поддерживая, осторожно повел тропой к щитковому дому.
— Вы — взрослый человек, и я скажу прямо… его уже нет в живых… позавчера мы схоронили его.
Она молчала долго, до боли закусив губу, чтобы не заплакать.
— Мне всю дорогу почему-то казалось, что он жив еще.
— Его отвезли в Кудёму. А через час он умер.
— Ну что ж, — вздохнула она. — Он знал, что делал, видел, куда шел… И в сердце у меня, где был он раньше, теперь пусто… и очень больно.
Сотин молча шел рядом, продолжая крепко держать ее под руку.
— Я многого не разгадал в нем, — заговорил он опять, — а то, что знал, не сумел понять. А ведь дружили когда-то!.. Потом — размолвка, ссора, вражда… И вот какой конец.
— Я предчувствовала с зимы, что дело добром не кончится.
Они уже подходили к дому, и Сотин предложил ей переночевать у него на квартире. Ей некуда было идти, и она согласилась. Жена Сотина поджидала их и, как только вошли, хотела было ставить самовар, но Юля, извинившись за беспокойство, отказалась от чая… Ей было также и не до сна, и оба они — и Сотин и Юля — еще долго сидели за пустым столом, где горела лампа.
— Третий день живет здесь следователь, — предупредил Сотин, — а вчера приехал представитель крайкома партии. Я уже был у них. Полагаю, для пользы общего дела следует вам зайти к ним.
Юля прилегла на кровать, которую ей уступили Сотины, сами перебравшись на печку, — но так и не пришлось никому уснуть. Юля расспрашивала о Бережнове, которому Вершинин принес столько тревог, огорчений и ущерба, об Алексее Горбатове, об Арише, о Кате.
И Сотин рассказывал, заново передумывая все события. Вспомнил и старика Кузьму… На другой день после смерти Горбатова углежог приходил к Бережнову и предлагал свой гроб для Алексея:
— Алешу-то жаль мне больно, вот и хочу проводить его в своей домовинке.
Кузьма просил, настаивал, но Горбатову был уже заказан свой, и углежог — расстроенный и грустный — ушел опять на знойку.
— А Коробов Семен… вы знаете его? Лесоруб, бригадир. Он в эти дни подал заявление в партию. Кузнец Полтанов — тоже…
И оба эти факта подтвердили Юле одно — как любили здесь Алексея, как много вреда принес Вершинин и как думают люди быстрей залечить больное место.
— А Жиган пойман? — спросила Юля.
— Такого нелегко поймать. Вы ведь не знаете, что это был за человек.
Кажется, начинало брезжить в окне, лампа на столе гасла, и Сотин, утомленно сидя на диване, засыпал… Юля подошла к окну: чуть розовея на востоке, рождался новый день — уже третий с того часа, как брат ушел из мира навсегда.
Приехал из города следователь — пожилой, степенный, с седыми усами, в военной форме человек. Почти до полуночи длилась беседа в кабинете директора. На этот раз за столом сидели рядом двое, — Бережнов рассказывал, а тот слушал и только иногда прерывал вопросами, уточняя ту или другую подробность.
Мысль, что не разглядел врагов — Жигана и Самоквасова — и не сделал своевременных выводов, терзала Авдея. Не оправдываясь, он оказал, что трудность прямого подхода к Проньке заключалась и в том, что он был необычайно изворотлив, хитер и скрытен, умел искусно менять личину в зависимости от обстоятельств, какие складывались во времени.
В средине беседы, когда шла речь уже о Вершинине, Бережнов упомянул, что лесовод был «субъективно честен».
— Пожалуй, что так, — заметил следователь.
Слушая Бережнова, он листал вершининские книги, с его пометками на полях, с подчеркнутыми строчками, потом взял рукопись, которая когда-то побывала в руках покойного Алексея Ивановича Горбатова и самого Бережнова. К первой странице оказалась приколотой и предсмертная записка Петра Николаевича и несколько писем с конвертами.
— «Субъективно честен», — повторил следователь, не вкладывая в эти слова собственной оценки к суждению Бережнова. — Но это — лишь небольшая часть существа дела. Вопрос с ним обстоит гораздо сложнее.
Бережнов ждал, ибо самому было не все ясно до конца, как того хотелось. Свой спор с Вершининым (в метельный вечер) он отлично помнил до сих пор.
— Он стремился постигнуть мир от корня до вершины, — а это не простая вещь. Она оказалась ему не под силу, — продолжал следователь. — Его идеи подлежат суровой, критической оценке, но для того надо… сугубо серьезно разобраться… Тут есть то, с чем надо упорно и долго воевать.
Не спалось в эту ночь Бережнову. В глубокое раздумье повергали его происшедшие события. В обстоятельствах жизни леспромхоза, в руководстве людьми многое вставало перед ним как суровое предупреждение на будущее, как урок тяжелого, кровопролитного сражения.
Незаметные прежде упущения, ошибки, промахи он видел теперь отчетливее. Собственные обязанности и права, какими наделило его время, стали значительно крупнее по сравнению с тем, как представлял их себе раньше… Сумеет ли он работать и жить иначе, если в жизни сокрыты трудности — вдесятеро сложнее, нежели считал он раньше?.. Но тяжелей всего была ему утрата — смерть Алексея… До боли в сердце жалел он его, а вчера, глядя на Катю у гроба отца, не прячась от людей, плакал…
Он не мог себе простить, что с таким непоправимым запозданием вмешался в дела горбатовской семьи… Десятки раз передумывал все сызнова — с начала и до конца — и снова убеждался в том же: можно было избежать этой ужасной катастрофы!
В самом деле: почему он, давно подозревая о разладе, молчал и ждал так долго, полагая нескромным вторгаться в чужую семью?.. Да разве они ему чужие?!. Стоило решительно, на первых же порах, применить свои права старшего, пойти на все, что от него зависит, — Арину же надо было остановить… И, наверно, иначе пошла бы у них и жизнь… Прав ли был Авдей, обвиняя себя в этом, — кто знает. А секретарь райкома партии, прибывший ранее следователя на день, тоже указывал на это Бережнову в начале своих суждений.
Ночь медленно отступала, оставляя за собою свои следы — глубокие тени между сугробов. Гудки товарных встречных поездов, скрещивающихся во Вьясе, будили глухую рамень. Прозрачный и чуткий, как мембрана, воздух гнал эхо по безмолвным просторам вдаль. Мимо окон уже скрипят полозья по дороге, скрипит колодезный журавель. Авдею видно в окно, как на востоке, постепенно редея, исчезает на небе синева, гаснут звезды, а по голубому, словно выметенному пространству текут, разливаются потоки света. Волнами — одна другой цветистей — играет небо, а там, на самом горизонте, где за темным частоколом елей уже вскипает оранжевая пена, показалась — почти нежданно — изогнутая, сверкающая кромка солнца.
С наступлением дня яснее определялась череда новых дел, и, уже по-иному постигая неимоверные трудности руководства людьми, Авдей Бережнов вышел из дому…
1930–1935 г.
1955–1957 г.
Оглавление
От автора
Часть первая
Глава I
«Огни заката»
Глава II
Ариша Горбатова
Глава III
Холодное утро
Глава IV
Мужицкая душа
Глава V
Пронька Жиган и Платон Сажин
Глава VI
Чужие и свои раны
Глава VII
В семье лесовода Сотина
Глава VIII
Судьба Параньки
Глава IX
Там, где шумят сосны…
Глава X
Нечаянное признание
Глава XI
Молодая песня
Часть вторая
Глава I
«Шумит!..»
Глава II
Ольховские воры
Глава III
Один против двоих
Глава IV
Омутнинский угол
Глава V
Сказка и жизнь
Глава VI
Встречи в клубе
Глава VII
Прямым прицелом
Глава VIII
Заветная тетрадь
Глава IX
На охоте
Глава X
Проросло ядовитое семя
Глава XI
Забушевала стихия
Глава XII
Голоса двух станов
Глава XIII
У гроба Игоря…
Глава XIV
«Кольца Сатурна»
Глава XV
Волчьи следы
Часть третья
Глава I
Жиган покупает ружье
Глава II
Катя в опасности
Глава III
Как падают сосны…
Глава IV
Самоквасов грозит
Глава V
Тайное свидание
Глава VI
Надежды не сбылись
Глава VII
Однажды вечером
Глава VIII
Пронькины именины
Глава IX
В бурю деревья стонут…
Глава X
По зову чувства
Глава XI
«Я тебя люблю…»
Глава XII
Человек — не салангана!
Часть четвертая
Глава I
Одна Катя не понимает…
Глава II
Дружба остыла
Глава III
Брат с сестрою
Глава IV
Соперники
Глава V
Пронькин проигрыш
Глава VI
Клятва русскому лесу
Глава VII
На суде
Глава VIII
С открытым сердцем
Глава IX
Чему улыбались звезды…
Глава X
В Нижнем-Новгороде
Глава XI
У колодца
Глава XII
Разбитая ваза
Глава XIII
Опять за старое…
Глава XIV
Опасные встречи
Глава XV
Рождество
Часть пятая
Глава I
В чем истина?
Глава II
Начало конца
Глава III
Схватка
Глава IV
Кого называют сироткой
Глава V
В ожидании
Глава VI
Советы друга
Глава VII
Роковая ошибка
Глава VIII
Родные сормовичи
Глава IX
В крещенье
Глава X
Ночью в землянке
Глава XI
Поджог
Глава XII
На пожаре
Глава XIII
Четыре туза
Глава XIV
Погоня
Глава XV
Во имя родины и долга
Глава XVI
Расплата
Глава XVII
Лицом к лицу с жизнью
Эпилог






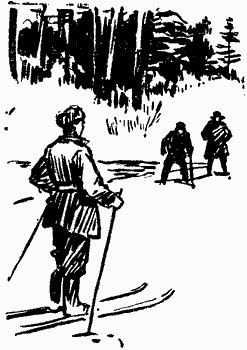


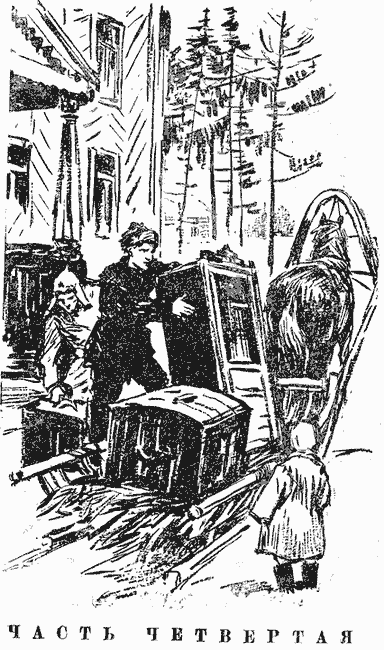

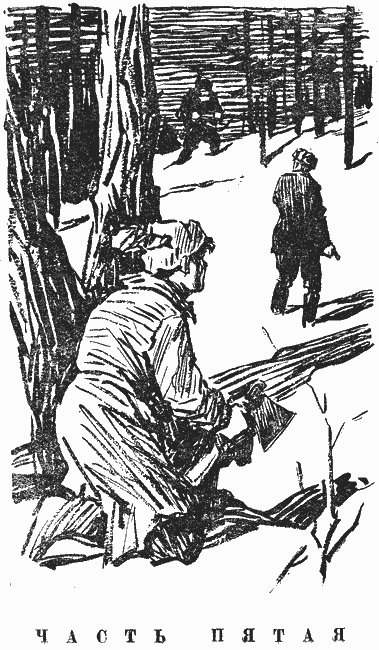

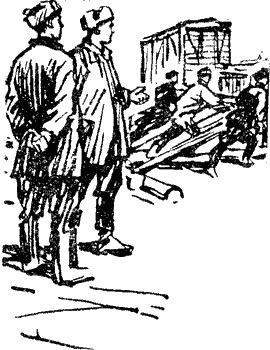 Юля спешила застать брата в живых: в телеграмме Бережнова — краткой и осторожной — оставалось маленькое место для надежды. Чутьем она угадывала, что во Вьясе еще произошло что-то — быть может, самое страшное, о котором по вполне понятным причинам не мог сообщить директор.
Тяжелое, тревожное чувство не покидало ее ни на минуту, то усиливаясь, то ослабевая на миг, то вспыхивая опять… Ночью, когда оставалось до Вьяса час пути, оно выросло до непомерных размеров, оно уже не умещалось в ней и прорывалось наружу: она нетерпеливо заглядывала в окно, — но там тянулся темной сплошной стеной лес да редкие, кое-где, мигали во тьме огни; спрашивала пассажиров: «Скоро ли?..» А поезд медленно тащился глухой, почти безлюдной равниной, подолгу простаивал на станциях, на разъездах, растрачивая свое и чужое время.
Но вот наконец и он — знакомый лесной поселок, куда она ехала в третий и, быть может, последний раз… Летом, полгода тому назад, она перед отъездом на юг прогостила здесь полторы недели, запомнившиеся надолго… О, как давно все это было!.. И как плохо знала она брата… Недаром зимой, в каникулы, когда произошла между ними ссора, а вслед за ней — отчуждение и разрыв, Юля впервые поняла отчетливо, в какую трясину заходит он, и только не было силы у ней вернуть его… Она выскажет ему все, что накипело в душе дорогой, и пусть хоть теперь узнает он, почувствует, как сильна ее ненависть к тому, чем жил он… Память подсказывала ей, что прежнее стоит в прямой связи с последними событиями.
Мимо окна вагона все медленней и медленней во тьме проплывали столбы телеграфа, потом — лесной склад, бараки, избы. Поселок спал, и только в одной избе, на самом конце улицы, теплится, как ночью в келье, огонек у Парани… Юля взглянула на часы, — было ровно двенадцать, поезд пришел без опозданий.
Спускаясь с площадки вагона и отыскивая глазами, нет ли кого знакомых, чтобы скорее спросить о Петре, — она лицом к лицу столкнулась с Сотиным… Уж не ее ли встречать он вышел?..
— А я вас караулю, — сказал он, протягивая руку.
— Спасибо, спасибо. Зачем беспокоились? Я найду сама, — заторопилась Юля. И тут же спросила: — Что с ним, скажите?..
Ефрем Герасимыч взял из рук у ней чемодан, отвел ее в сторону, чтобы не слышали другие, и, нагнувшись почти к самому уху, начал рассказывать о том, что предшествовало последнему дню…
— Проводите меня к нему, — рванулась Юля.
— Постойте, я оказал не все, — удержал ее Сотин, не зная, какие подобрать слова, чтобы досказать последнее: ее отношений к брату не знал он.
— У него кто-нибудь есть? — опять спросила Юля.
— Нет.
Сотин взял ее под руку и, поддерживая, осторожно повел тропой к щитковому дому.
— Вы — взрослый человек, и я скажу прямо… его уже нет в живых… позавчера мы схоронили его.
Она молчала долго, до боли закусив губу, чтобы не заплакать.
— Мне всю дорогу почему-то казалось, что он жив еще.
— Его отвезли в Кудёму. А через час он умер.
— Ну что ж, — вздохнула она. — Он знал, что делал, видел, куда шел… И в сердце у меня, где был он раньше, теперь пусто… и очень больно.
Сотин молча шел рядом, продолжая крепко держать ее под руку.
— Я многого не разгадал в нем, — заговорил он опять, — а то, что знал, не сумел понять. А ведь дружили когда-то!.. Потом — размолвка, ссора, вражда… И вот какой конец.
— Я предчувствовала с зимы, что дело добром не кончится.
Они уже подходили к дому, и Сотин предложил ей переночевать у него на квартире. Ей некуда было идти, и она согласилась. Жена Сотина поджидала их и, как только вошли, хотела было ставить самовар, но Юля, извинившись за беспокойство, отказалась от чая… Ей было также и не до сна, и оба они — и Сотин и Юля — еще долго сидели за пустым столом, где горела лампа.
— Третий день живет здесь следователь, — предупредил Сотин, — а вчера приехал представитель крайкома партии. Я уже был у них. Полагаю, для пользы общего дела следует вам зайти к ним.
Юля прилегла на кровать, которую ей уступили Сотины, сами перебравшись на печку, — но так и не пришлось никому уснуть. Юля расспрашивала о Бережнове, которому Вершинин принес столько тревог, огорчений и ущерба, об Алексее Горбатове, об Арише, о Кате.
И Сотин рассказывал, заново передумывая все события. Вспомнил и старика Кузьму… На другой день после смерти Горбатова углежог приходил к Бережнову и предлагал свой гроб для Алексея:
— Алешу-то жаль мне больно, вот и хочу проводить его в своей домовинке.
Кузьма просил, настаивал, но Горбатову был уже заказан свой, и углежог — расстроенный и грустный — ушел опять на знойку.
— А Коробов Семен… вы знаете его? Лесоруб, бригадир. Он в эти дни подал заявление в партию. Кузнец Полтанов — тоже…
И оба эти факта подтвердили Юле одно — как любили здесь Алексея, как много вреда принес Вершинин и как думают люди быстрей залечить больное место.
— А Жиган пойман? — спросила Юля.
— Такого нелегко поймать. Вы ведь не знаете, что это был за человек.
Кажется, начинало брезжить в окне, лампа на столе гасла, и Сотин, утомленно сидя на диване, засыпал… Юля подошла к окну: чуть розовея на востоке, рождался новый день — уже третий с того часа, как брат ушел из мира навсегда.
Юля спешила застать брата в живых: в телеграмме Бережнова — краткой и осторожной — оставалось маленькое место для надежды. Чутьем она угадывала, что во Вьясе еще произошло что-то — быть может, самое страшное, о котором по вполне понятным причинам не мог сообщить директор.
Тяжелое, тревожное чувство не покидало ее ни на минуту, то усиливаясь, то ослабевая на миг, то вспыхивая опять… Ночью, когда оставалось до Вьяса час пути, оно выросло до непомерных размеров, оно уже не умещалось в ней и прорывалось наружу: она нетерпеливо заглядывала в окно, — но там тянулся темной сплошной стеной лес да редкие, кое-где, мигали во тьме огни; спрашивала пассажиров: «Скоро ли?..» А поезд медленно тащился глухой, почти безлюдной равниной, подолгу простаивал на станциях, на разъездах, растрачивая свое и чужое время.
Но вот наконец и он — знакомый лесной поселок, куда она ехала в третий и, быть может, последний раз… Летом, полгода тому назад, она перед отъездом на юг прогостила здесь полторы недели, запомнившиеся надолго… О, как давно все это было!.. И как плохо знала она брата… Недаром зимой, в каникулы, когда произошла между ними ссора, а вслед за ней — отчуждение и разрыв, Юля впервые поняла отчетливо, в какую трясину заходит он, и только не было силы у ней вернуть его… Она выскажет ему все, что накипело в душе дорогой, и пусть хоть теперь узнает он, почувствует, как сильна ее ненависть к тому, чем жил он… Память подсказывала ей, что прежнее стоит в прямой связи с последними событиями.
Мимо окна вагона все медленней и медленней во тьме проплывали столбы телеграфа, потом — лесной склад, бараки, избы. Поселок спал, и только в одной избе, на самом конце улицы, теплится, как ночью в келье, огонек у Парани… Юля взглянула на часы, — было ровно двенадцать, поезд пришел без опозданий.
Спускаясь с площадки вагона и отыскивая глазами, нет ли кого знакомых, чтобы скорее спросить о Петре, — она лицом к лицу столкнулась с Сотиным… Уж не ее ли встречать он вышел?..
— А я вас караулю, — сказал он, протягивая руку.
— Спасибо, спасибо. Зачем беспокоились? Я найду сама, — заторопилась Юля. И тут же спросила: — Что с ним, скажите?..
Ефрем Герасимыч взял из рук у ней чемодан, отвел ее в сторону, чтобы не слышали другие, и, нагнувшись почти к самому уху, начал рассказывать о том, что предшествовало последнему дню…
— Проводите меня к нему, — рванулась Юля.
— Постойте, я оказал не все, — удержал ее Сотин, не зная, какие подобрать слова, чтобы досказать последнее: ее отношений к брату не знал он.
— У него кто-нибудь есть? — опять спросила Юля.
— Нет.
Сотин взял ее под руку и, поддерживая, осторожно повел тропой к щитковому дому.
— Вы — взрослый человек, и я скажу прямо… его уже нет в живых… позавчера мы схоронили его.
Она молчала долго, до боли закусив губу, чтобы не заплакать.
— Мне всю дорогу почему-то казалось, что он жив еще.
— Его отвезли в Кудёму. А через час он умер.
— Ну что ж, — вздохнула она. — Он знал, что делал, видел, куда шел… И в сердце у меня, где был он раньше, теперь пусто… и очень больно.
Сотин молча шел рядом, продолжая крепко держать ее под руку.
— Я многого не разгадал в нем, — заговорил он опять, — а то, что знал, не сумел понять. А ведь дружили когда-то!.. Потом — размолвка, ссора, вражда… И вот какой конец.
— Я предчувствовала с зимы, что дело добром не кончится.
Они уже подходили к дому, и Сотин предложил ей переночевать у него на квартире. Ей некуда было идти, и она согласилась. Жена Сотина поджидала их и, как только вошли, хотела было ставить самовар, но Юля, извинившись за беспокойство, отказалась от чая… Ей было также и не до сна, и оба они — и Сотин и Юля — еще долго сидели за пустым столом, где горела лампа.
— Третий день живет здесь следователь, — предупредил Сотин, — а вчера приехал представитель крайкома партии. Я уже был у них. Полагаю, для пользы общего дела следует вам зайти к ним.
Юля прилегла на кровать, которую ей уступили Сотины, сами перебравшись на печку, — но так и не пришлось никому уснуть. Юля расспрашивала о Бережнове, которому Вершинин принес столько тревог, огорчений и ущерба, об Алексее Горбатове, об Арише, о Кате.
И Сотин рассказывал, заново передумывая все события. Вспомнил и старика Кузьму… На другой день после смерти Горбатова углежог приходил к Бережнову и предлагал свой гроб для Алексея:
— Алешу-то жаль мне больно, вот и хочу проводить его в своей домовинке.
Кузьма просил, настаивал, но Горбатову был уже заказан свой, и углежог — расстроенный и грустный — ушел опять на знойку.
— А Коробов Семен… вы знаете его? Лесоруб, бригадир. Он в эти дни подал заявление в партию. Кузнец Полтанов — тоже…
И оба эти факта подтвердили Юле одно — как любили здесь Алексея, как много вреда принес Вершинин и как думают люди быстрей залечить больное место.
— А Жиган пойман? — спросила Юля.
— Такого нелегко поймать. Вы ведь не знаете, что это был за человек.
Кажется, начинало брезжить в окне, лампа на столе гасла, и Сотин, утомленно сидя на диване, засыпал… Юля подошла к окну: чуть розовея на востоке, рождался новый день — уже третий с того часа, как брат ушел из мира навсегда.