Леэло Тунгал
Товарищ ребёнок и взрослые люди
Ещё одно повествование о «нашей счастливом детстве»
Перед читателями этой книги предстанет История 50-х годов XX века, большая и малая, увиденная глазами ребёнка и рассказанная его устами. Помимо вторжений и войн, депортаций и репрессий — в ней изложена хроника семьи. Опознавательные термины исторического времени в разговорах взрослых — «до войны», «в эстонское время», «минувшие времена расцвета», «до прихода русских» — ребёнка не ориентируют, ему кажется, что «я-то была всегда».
Это детское мироощущение передано без обличений, разоблачений, осуждений. Оно даже наполнено беззаботной радостью существования в точных приметах времени, в котором есть место бодрым пионерским песням, спортивным играм, детским шалостям.
Тектонические движения истории СССР, разнообразные по направлению и беспощадные по мощи участвующих в них сил, пришедшиеся на судьбу одного маленького ребенка из одной счастливой семьи, приближаются к читателю, тревожат, волнуют, заставляют сердце сжиматься и сопереживать.
«Товарищ ребёнок и взрослые люди. Ещё одна повесть о „нашем счастливом детстве“» — первая книга воспоминаний Леэло Тунгал. Вторая называется «Бархат и опилки, или Товарищ ребёнок и буквы». Сейчас писательница работает над третьей книгой под рабочим названием «Если надо, то и дольше».
«Леэло Тунгал — удивительная писательница и удивительный человек, — написал об авторе книги Борис Тух. — Ее продуктивность поражает воображение: за 35 лет творческой деятельности около 80 книг. И среди них ни одной слабой или скучной…
Дети фальши не приемлют».
Эта книга для детей. И для взрослых. И для семейного чтения.
Хорошо быть хорошим ребенком
Некоторые дети с самого рождения хорошие и примерные. У хороших и примерных детей никогда не спускаются чулки, не развязывается лента в волосах, не бывает грязи между пальцами ног и не случается, чтобы сандали были надеты не на ту ногу. Примерный ребёнок не боится темноты, грозы и грома, ястребов, колхозного быка и людей в мундирах. Примерный ребёнок не засмеётся, когда у него во рту полно супа, не размазывает кашу по тарелке и, когда ему надо на горшок, не терпит до последней минуты. И вообще с ним никогда не происходит ничего такого, за что было бы стыдно или вызывало бы неприятные чувства.
Хорошо было бы быть примерным ребёнком!
Если бы я была хорошим и примерным ребёнком, мама меня не оставила бы, это ясно. Она ведь мне и раньше прощала многое. Но теперь её терпение кончилось. Со мною постоянно случается что-нибудь такое, о чём хороший и примерный ребёнок даже понятия не имеет.
Если я помогаю маме вытирать посуду, обязательно самая красивая и тонкая чашка или тарелка падает у меня из рук — и именно тогда, когда она как следует вымыта, прополоскана и вытерта. Если на дороге есть хотя бы одна-единственная лужица, я обязательно попадаю туда ногами, если в дверях стоят двое мужчин с ружьями и в длинных пальто, я непременно натыкаюсь на их огромные сапоги, и когда посреди комнаты куча бумаг и книг, я непременно падаю туда носом. И у мамы, глядя на меня, навёртываются слёзы на глаза.
— Да заприте куда-нибудь это своё отродье! — крикнул мужчина в чёрном кожаном пальто и указал своим толстым пальцем на меня.
Мама взяла меня на руки и крепко прижала к себе. Глаза её влажно поблескивали, и я разревелась. На самом деле я, упав, сильно ударилась животом об угол твёрдого переплета какой-то книги, но эта боль не была и вполовину такой страшной, как жуткий голос жуткого дядьки в чёрном пальто. «Отродье» — похоже, гадкое слово, и оно явно относилось ко мне, хоть плачь!
Взрослым всё позволено: совершенно чужие дяди вытаскивают ящики из нашего письменного стола и вываливают из них бумаги на пол, с книжных полок сбрасывают книги на пол и не поднимают — а мама не делает им никаких замечаний, только вздыхает! Если я свои игрушки вечером оставлю на полу, или полезу в мамины и папины ящики, или в какой-нибудь совсем скучной книге что-нибудь нарисую — неприятностей не оберёшься!
Дядька в чёрном кожаном пальто стоял с важным видом — одна рука в кармане, другой указывал на меня:
— уберите это своё отродье из-под ног!
— Иди в другую комнату и будь хорошим ребёнком! — сказала мама, бросив на чужого дядьку — зырк! — косой взгляд. — Наверняка всё будет хорошо. Случаются иногда недоразумения…
Она отнесла меня в спальню и включила свет под потолком, потому что знала, как я боюсь темноты. Время было дневное, но в комнате было сумрачно. Сквозь кружевные гардины виднелась за окном старая серебристая ива с голыми ветками, которая иной раз выкидывала дурные шутки и приближала своё морщинистое лицо почти к самому оконному стеклу.
— Посмотри пока книжки или составляй картинки из кубиков! — сказала мама и закрыла за собой дверь.
— Подпишите! — услыхала я хриплый голос за дверью. — И поставьте дату, двадцатое апреля тысяча девятьсот пятьдесят первого года.
Очень даже странно — почему мама слушалась этого противного дядьку и оставила меня одну грустить в спальне? Похоже, дело было серьёзное: надо было становиться хорошим ребёнком, чего бы это ни стоило.
Да и кому охота быть плохим ребёнком? Но никак не мне: ведь я всё время стараюсь делать всё хорошее, и в голову мне приходят только хорошие намерения — но, как назло, половина моих стараний пропадает зря.
Одно из моих утренних плохих дел было видно всем: дверь из большой комнаты в кухню, которую я всю разрисовала принцессами. Делала я это химическими карандашами, чтобы было красиво, но поверхность двери была не такой гладкой, как казалось с виду, а корявой, и мои принцессы получилось, как пещерные буки. А когда я попыталась смыть их тряпкой для мытья посуды, получилось ещё хуже… Дверь выглядела так, словно в неё кидали бутылки с чернилами и роосаманну
[1]. Ясное дело, мама рассердилась и бранила меня очень долго. Она сказала, что от моего рисования дверь выглядит как вход в свинарник, и это было обидно. Разве свиньи могут рисовать химическими карандашами? Ещё больше мама рассердилась, когда увидела, что Сирка и Туям, расшалившись в спальне, опрокинули стулья и жутко измяли покрывало на маминой-папиной кровати. Я совсем забыла, что во время течки их нельзя пускать в комнату, да и кто мог подумать, что маленький Туям с его кривыми ножками сможет вспрыгнуть на кровать!
— Ну, будем надеяться, что время подрастания таксы и гончей тоже что-нибудь значит, — сказала мама как бы себе под нос, но по её лицу было видно, что и о двери, и о собачьей свадьбе разговор в нашей семье ещё впереди.
Но не тут-то было! С приходом вооружённых дядек мама совсем забыла и про лилово-пёструю дверь, и про собачью свадьбу.
На ночной тумбочке лежала стопка книжек, которые мне читали перед сном, и коробки с кубиками. С кубиками было очень интересно играть до тех пор, пока мне не стало ясно, как их складывать. Поначалу случалось так, что к шее курицы приставлена собачья голова, а у коровы сзади оказывался конский хвост. Когда мне впервые удалось совсем самостоятельно собрать собаку с большой головой, у меня было победное чувство — здорово быть примерным ребёнком!
Вскоре выяснилось, что если кубики переворачивать рядами, можно составить новую картинку быстрее, чем до этого, — и опять это было приятное открытие. Но сколько можно составлять одни и те же картинки… У деревенских тёть можно было заслужить похвалу за быстрое составление картинки из кубиков, но моё внутреннее чувство подсказывало, что дядьке в скрипучем чёрном пальто не жарко и не холодно от моего умения составлять картинки коровы или петуха. Надо было каким-то другим образом дать ему знать, что меня не называют «отродье», а «наша певчая птичка», «маленький философ», «наша радость» или «удивительно сообразительный ребёнок». Правда, довольно часто и «плохой ребёнок», но совсем другим тоном, чем это — «отродье»! Я сидела на маминой-папиной кровати, болтала ногами и думала, что бы такое сделать.
Из соседней комнаты доносился шум разговора: чужой дядька говорил громко и зло, а мама отвечала ему спокойно, только, пожалуй, чуть более высоким голосом, чем обычно… у мамы — сопрано, и она может петь таким тонким голосом, что мурашки бегут по спине! Мне никогда не удавалось извлечь из горла такие высокие звуки.
Ага! Пением и можно дать знать этому дядьке, обозвавшему меня отродьем, что в этом доме живёт маленькая певчая птичка, а не отродье! Пение было таким делом, которым всегда можно было улучшить настроение взрослых, и песен я знала много — правда, не целиком от начала до конца, но начало всех маминых песен я помнила. И первым делом я запела:
Где мой сад в весеннем уборе,
Где моя любимая яблоня в цвету?
Я чувствую, друг мой,
Меня ты ждёшь
В этот весенний прекрасный месяц!
Это была такая красивая и грустная песня, что настроение делалось печальным. Папины песни были гораздо веселей. Например, эта:
Шампанское я пил, как воду,
на коленях у меня сидела Маргаретта…
Или другая:
У нас пыхтел однажды самовар, ты помнишь ли, моя красотка?
Ната-аша, Ната-аша, судьба унесла тебя вдаль!
Слово «Ната-аша» нравилось мне больше всего, и я с удовольствием пела во весь голос.
Но вдруг дверь распахнулась, да так, что дверная ручка ударилась о стену, и дядька в чёрном пальто бросился ко мне. Он схватил меня за плечи и стал трясти так сильно, что у меня потекло и из глаз, и из носа.
— Чёртово контрово отродье! Заткнись! А то мы и тебя заберём с собой! Чёртово кулацкое отродье! — кричал дядька. Его чёрное пальто скрипело и противно воняло. Он был такой же страшный, как Смерть на картинке в книжке про соловья. Но самым страшным было то, что он, отпустив меня, закричал что-то в другую комнату ПО-РУССКИ! Это был конец! Это означало только плохое, самое плохое! Я, правда, ничего не поняла из того, что он кричал, но звучание русского языка я помнила: на этом языке говорили те чёрные дядьки, которые увезли мою бабушку Мари… Хотя это было давно, и я не помнила ни лица бабушки, ни лиц этих чёрных дядек, но звучание языка я помнила. Во сне эти чёрные дядьки часто являлись и пугали меня — каждый раз это нагоняло на меня жуткий ужас, спастись от которого можно было, только быстренько забравшись в кровать к маме и папе. Взрослые называли их «ссыльщиками», но для меня они были чёрные дядьки — и вот теперь они опять явились к нам наяву! Со стороны они выглядели обыкновенными людьми с ружьями, вроде папиных друзей-охотников, а оказалось, что это чёрные дядьки.
Я сдержалась и не завопила, честное слово! Я хотела куда-ни-будь бежать — с этой кровати, из этой комнаты, из этого мира, в котором чёрные дядьки могут в любой момент явиться и во сне, и наяву. Мне хотелось выскочить из своего маленького тельца, сотрясённого руками чёрного дядьки… Ну почему человек не может превратиться в голос и улететь, как голос, прочь?
Я очнулась в своей кроватке. Во рту был странный вкус лекарств. Возле кровати на барсучьей шкуре лежал раскрытый большой чемодан, и мама кончала укладывать в него вещи. Плохой сон прошёл… Но нет, из соседней комнаты доносился чужой разговор. Однако мама была так близко, да и папа за это время успел вернуться домой, так что можно было больше не бояться.
Затем мне надели сухие чулки и штанишки, потому что я ещё раньше описалась — стыдно, конечно, но ничего не поделаешь, что было, то было. Папа принёс из прихожей моё пальто и шапку, но мама сама хотела меня одеть. «Может, в последний раз», — сказала она и достала из шкафа даже мою муфту: они у нас с мамой совершенно одинаковые — покрытые серым мехом, только моя муфта гораздо меньше и в её карманчике нет кошелька.
— Просто сумасшествие, — ворчал отец. — С этим следователем невозможно говорить по-человечески. Но увидишь — это недоразумение из-за какой-то глупости. Завтра опять будешь дома.
Мама ответила ему только тогда, когда мы уже были на большой дороге, где ждала странная машина — вроде бы грузовик, но за кабиной у него была темно-зелёная будка.
— Да, конечно, это абсурд, — сказала мама, глядя на машину, и покачала головой. — Машина с арестантской камерой, решётка на окошке! Не знаю, с кем меня перепутали? Если я в понедельник не вернусь, позвони в отдел образования и расскажи, что произошло.
Чёрные дядьки с ружьями за спиной шли за нами по пятам, не произнося ни слова. А дядька в кожаном пальто тихо ругался себе под нос: «Чёртова чертовщина!»
Маму пришли провожать так много людей, что объятия и рукопожатия длились довольно долго. Тётя-соседка Армийде, у которой слёзы маленькими ручейками текли по веснушчатым щекам, сказала маме весело: «Нет смысла плакать. Это ещё не похороны! Может, уже завтра будем с бидончиками в коровнике просить у Клары молока!» Сказав это, Армийде начала громко всхлипывать и не переставала до тех пор, пока дядя Артур не положил руку на её плечо и строго не скомандовал: «Перестань выть!»
Нас с отцом мама обнимала дольше всех.
— Будь хорошим ребёнком! — крикнула она, поднимаясь по железной лесенке к двери будки. — Будь хорошим ребёнком, тогда мама скоро вернётся! Может быть, завтра или послезавтра… Главное, будь хорошим ребёнком и слушайся папу, ладно?
Мы стояли ещё долго, глядя вслед машине. Солнце скрылось за большими деревьями возле школы, и в воздухе хорошо пахло бензином и кленовым сиропом.
— У мамы остался сироп кипеть на плите! — вдруг вспомнила я. Папа не ответил, только вдруг отвернулся.
Ясное дело — кто захочет разговаривать с самым плохим ребёнком в мире! С таким, который пачкает двери, впускает собак в спальню, вопит, да ещё и писается! Хорошо ещё, что папа не уехал с чёрными дядьками и не оставил меня совсем одну!
Вот только не могу понять, как эти чёрные дядьки узнали, что самый плохой ребёнок именно у моей мамы. И как им сообщить, если я в конце концов — например, завтра — сделаюсь хорошим и примерным ребёнком? Матери хороших и примерных девочек не уезжают куда-то от своих детей, да ещё с чёрными дядьками…
Играем в хозяйку
Взрослые, конечно, умные и всё умеют, это ясно. Они умеют читать книги, играть в футбол, косить сено, копать землю и разжигать огонь в плите. Они умеют быстро завязывать шнурки ботинок и ленты в волосах, застегивать и расстёгивать пуговицы, крючки и застежки-молнии. Говорить они умеют иногда так сложно, что вообще ничего не поймёшь, хотя говорят на чистом эстонском языке. Из их слов некоторые можно даже запомнить. Например, «арест», «энкаведэ» и «амнистия» звучат важно, но смысл их остаётся неясным. Мне нравилось произносить странные слова, иногда шёпотом, себе под нос, иногда громко распевая, например, очень хорошо получалось на мотив песни «В Вяндраском лесу»
[2]: «Энкаведэ, энкаведэ — юхайди, юухайда!». Когда я, сделав это открытие, однажды спела так маме с папой, они оба смеялись до слёз. И это был такой весёлый смех — совсем не обидный, как в тот раз, когда, идя спиной вперёд, я упала в корыто…
Да-а, взрослые умеют иногда смеяться очень противно — даже если они твои мама и папа и называют тебя «наша радость»! Попробовали бы сами быть радостью, барахтаясь в мыльной воде между мокрыми простынями. В первый момент я и сама засмеялась вместе с ними, не знаю почему. Может, из вежливости, но тут глаза защипало от мыла — и я заплакала…
Бррр! Воспоминание о падении в корыто было очень противным. А вспомнилось это потому, что проводив маму и вернувшись, мы увидели, что пол кухни такой же мокрый, как в тот раз зимой, когда папа спас меня из корыта. Только теперь он был ещё и гораздо грязнее. Между следами больших сапог мы увидели множество следов собачьих лап… Сирка и Туям вернулись со двора и шалили теперь в большой комнате.
— Чёрт побери, этого ещё не хватало! — воскликнул папа, оттащил Туяма от Сирки и отнёс его в холодную комнату.
— Ну так, доченька, — сказал папа серьёзно, положив руку мне на плечо. — Придётся нам с тобой поиграть в хозяйку, пока мама не вернётся. Попробуем к завтрашнему дню всё привести в порядок, верно?
Перво-наперво мы вдвоём вымыли в кухне пол, затем в большой комнате поставили книги обратно на полки, а бумаги уложили в ящики письменного стола. Б холодной комнате шкаф для белья тоже надо было привести в порядок, оттуда дядька в чёрном пальто выбросил все простыни и скатерти, но папа считал, что этот шкаф может подождать, и просто поднял всю кучу белья с пола на стол, чтобы Туям не смог её теребить.
Холодная комната была такой комнатой, в которой мама держала всю посуду, бельё и одежду — те вещи, которыми пользовались не особенно часто. Б этой комнате не было печи, поэтому зимой в ней не жили.
Вообще-то во всех комнатах было немного холодновато, и без шерстяных чулок в них заходили только летом. В кухне огонь в плите шумел целыми днями, так что там можно было снимать шерстяные чулки, но кому охота то снимать их, то снова натягивать! Длинные полосатые половики были проложены через всю кухню и большую комнату, а в спальне возле кровати лежали барсучьи шкуры — охотничья добыча папы и Ту яма. Особенно холодно было возле окна, я играла там в Север. Правда, осенью ставили вторые оконные рамы, и мама запихивала во все щели вату, а потом наклеивала на них ещё и бумажные полоски, но, приложив руку к бумаге, ощущалось, как холодные порывы ветра пытаются проникнуть в комнату.
В уборной ещё холодней, но туда я и не хожу, у меня под кроватью свой маленький ночной горшок. Мама, когда идёт в уборную, надевает шапку и кашне на шею, а папа, когда выходит оттуда, объявляет: «Перед вами морозоустойчивый фрукт великого русского садовода Мичурина!» или: «Храбрый индеец Орёл Холодная Попка вернулся из разведки!» На это мама обычно отвечает, что не может дождаться, когда всё опять уладится и мы переселимся обратно в свою квартиру.
Наша квартира была в доме школы — там было тепло и светло.
Там были белые и блестящие печи, светлые стены и окна, и уборная была такой, что туда могли ходить и дети. Но теперь в нашей квартире живёт тётя Людмила. Она вместо мамы сделалась директором школы, потому что умеет лучше вести школу к светлому сталинскому будущему. Тётя Людмила приехала из Сибири, оттуда, куда увезли бабушку Мари. Слушая разговоры взрослых, я подумала, что когда бабушка вернётся из Сибири, она, наверное, начнет руководить школой. Услыхав это, мама грустно усмехнулась и сказала, что бабушка, конечно, вернётся из Сибири, это ясно, но в её возрасте она вряд ли станет директором школы — когда её высылали, ей уже было восемьдесят четыре года. Да и со слухом у неё было не всё в порядке, и кто знает, может быть, теперь она совсем и оглохла, и ослепла… «Бабушка и так молодец, выдержала такой долгий переезд в вагоне для скота и теперь там, в Щедрино, ещё в состоянии работать на колхозном поле, как она сообщила в письме!»
Я ходила за отцом по пятам и помогала убирать, но мысли мои всё время возвращались к маме.
— Пап, а эти чёрные дядьки, с которыми мама уехала, были те же самые, что увезли бабушку Мари?
— Нет, с чего ты взяла? — рассердился он. — Те были совсем другие! Бот увидишь, мама скоро вернётся, так что не беспокойся, ладно? Понимаешь, бабушку Мари увезли в Сибирь, потому что она была хозяйкой большого хутора. И её не одну увезли, в холодные края увезли многих эстонцев из тех, у кого были большие хутора, или фабрики, или роскошные жилые дома. Но наша мама всю жизнь только учила детей, у неё нет ни земли, ни домов и никаких богатств. Когда важные деятели её увидят, сразу скажут: «Извините, это была большая ошибка! Немедленно отвезём вас обратно домой!» И когда мама вернётся, она будет очень расстроена, если у нас всё вперемешку, как каша с капустой!
— Как каша с капустой, — повторила я за папой. Это звучало хорошо! — Мне хочется немножко каши и капусты! В животе пусто!
Тут и папа вспомнил, что у него с утра во рту и крошки не было. Он принёс из холодной комнаты кувшин с молоком и отрезал несколько больших ломтей хлеба, а на них намазал сироп из кастрюли, стоявшей на плите.
— Я и понятия не имею, какие были у мамы планы насчёт этого сиропа, ну да завтра она сама разберётся! — сказал он, словно извинялся — Но капельку в такой тяжёлый день мы можем взять. Ведь ни каши, ни капусты у нас с тобой и нет…
Мы с папой большие сладкоежки, но с сахаром теперь совсем плохо, поэтому мама и варит кленовый сироп. Чтобы собрать кленового сока, пришлось потрудиться: во-первых, мы с папой провертели в стволах нескольких больших клёнов дырки, и папа нарезал деревянных палочек, которые мы всунули в эти дырки. А в палочках он ножом прорезал глубокие канавки, по которым сок тёк и капал в ведёрочки из-под килек, которые мы подвесили на эти палочки. Каждый раз под вечер, когда папа возвращался из школы, мы проверяли ведёрочки и сливали из них сок в большое ведро. У кленового сока был приятный вкус, немножко напоминавший вкус снега, только слаще. И когда мама варит его долго-предолго на плите, вся кухня пахнет очень приятно, словно там растаял: снежный сугроб и появились подснежники. Это оттого, что вода выкипает, а сладкий сироп остаётся в кастрюле. Его остаётся в кастрюле так мало на донышке, что даже не верится, что сначала кастрюля была почти полная! И этот оставшийся сироп сладкий и тягучий, как мёд, только гораздо светлее.
— Какой ломоть хочешь: для одной руки или для двух? — спросил папа, сделав хитрое лицо. — Ты ведь знаешь давнюю историю, как хозяин спросил это у батрака. Батрак сразу пожадничал и ответил, что, конечно, для двух рук — ведь это в два раза больше! Но не тут-то было. Хозяин отрезал ему такой тонюсенький ломоть, что он почти просвечивал. «На, этот ломоть надо держать двумя руками, чтобы не развалился! — сказал хозяин и отрезал себе толстенный ломоть. — Вот этот для одной руки — он не развалится, если и одной рукой держать!».
Мне было жаль батрака, но я хихикнула пару раз вместе с папой: отрезанные им ломти все были толстые — для одной руки, а от сиропа во рту сделалось сладко.
Быть хорошим ребёнком с папой было гораздо проще, чем с мамой. Мама наверняка сделала бы мне замечание, что я накапала сироп на клеёнку кухонного стола, а папа не замечал ни капель сиропа, ни того, что, когда я пила молоко, накапала им себе на свитер. Он только сказал:
— Эту историю мне рассказала моя бабушка. У неё было много таких историй.
— Расскажи ещё какую-нибудь историю, — клянчила я, но он взглянул на часы на стене и испугался:
— Ой, тебе давно пора быть в постели! Что мама скажет, если узнает, что мы с тобой до полуночи вспоминали истории прежних поколений!
У взрослых всегда так: именно тогда, когда разговор начинает делаться интересным, они отправляют тебя спать! В этом папа остался твёрд, как мама, и на моё упрашивание пробурчал:
— Не поможет ни женский плач, ни детский крик — деньги пропиты!
И когда я, испугавшись, спросила:
— Неужели ты начнёшь пропивать деньги, когда я пойду спать? — он только рассмеялся и сказал:
— Это тоже бабушкина поговорка. Она ведь была дочкой корчмаря в Раннамыйза, с детства слышала народные присказки!
Я пыталась хитростью направить папины мысли на истории его бабушки, чтобы оттянуть время и не идти в постель, но он остался непоколебим:
— Вымоешь руки, умоешься и наденешь ночную рубашку! Ты что, не помнишь, что мама велела тебе быть хорошим ребёнком?
Ну да, ничего не скажешь…
Помогая мне надеть ночную рубашку, папа сказал:
— Если будешь хорошим ребёнком, завтра поедем в Йыгисоо к дедушке на день рождения!
— Но…
— Никаких «но»! — И папа поднял меня на постель. — Сразу под одеяло, голову на подушку и спать!
— Но разве хороший ребёнок должен спать в валенках? — спросила я как могла быстро, чтобы он не успел меня перебить.
— Вот это да! — испугался папа, глянув на мои ноги. — Валенки на ногах, да ещё и с галошами! Ну и ну!
Он снял с моих ног валенки и отнёс к печке:
— Завтра утром они будут тёплыми!
Поцеловав меня и пожелав «Спокойной ночи!», он сказал, немного стесняясь:
— Слушай, будь хорошим ребёнком и не рассказывай маме про это… про валенки, ладно?
Я великодушно кивнула в ответ. Действительно, с папой было гораздо легче быть хорошим ребёнком, чем с мамой!
Луг на потолке
По утрам очень приятно смотреть на потолок — там всегда что-нибудь иначе, чем было раньше. В наших прохладных комнатах удивительно красивые пёстрые потолки: бежево-коричнево-жёлтые. Но пёстрые не потому, что там точки, линии или какой-то иной узор. На каждой пластине потолка своя особая картина. Прямо над моей постелью большой четырехугольник, который состоит из нескольких треугольников, а из самого близкого ко мне треугольника выглядывает из-за пышных жёлтых облаков девушка в старинной широкополой шляпе. Лицо её иногда улыбается, иногда становится серьёзным. А иногда её вовсе не видно — только завитушки и полоски. Над шкафом для одежды — новомодный луг и несколько длинных человечков с маленькими головками. Туман там стоит так высоко, что некоторым человечкам он по грудь, некоторым — по пояс. Над маминой-папиной кроватью почти такая же картинка, только на ней человечки стоят не в тумане, а в реке — вокруг их фигур водяные круги, и лица видны гораздо яснее. Если внимательнее присмотреться к лицам стоящих в воде, то можно понять, что имеешь дело с неграми. Один из них, возможно, папин военный друг Джон.
Когда я однажды сказала папе об этом, он сначала рассмеялся, но потом сказал: «Впрочем, поди знай! Эти потолочные пластины сделаны из ореховой фанеры, может быть, их привезли из Америки, и вполне может быть, что Джон часто проходил возле этого орешника, который потом использовали для пластин».
Папу очень интересовало, что происходит с человечками на потолке. У мамы по утрам никогда не было времени меня выслушивать, а вечером у меня не было охоты говорить о потолке. Потому что мне всё-таки было немножко тревожно, ведь я не могла знать — собираются ли ко мне во сне прийти чёрные дядьки или нет. Да к тому же в вечерних сумерках в углу над шкафом появлялось изображение сатаны с рогами. Когда в комнату светило солнце, то на этой фанерной пластине были только следы веток — «просто такой орнамент», как сказал папа. Но вечером, когда на потолке горела лампочка, рогатый опять появлялся на своём месте. Ещё этого не хватало, чтобы вечером, перед тем как лечь спать, я говорила о нём — тогда наверняка сатана объединился бы с чёрными дядьками, и они вместе напали бы на нас всех! Беги, как можешь, или лети изо всех сил, а зло из сновидений всё равно тебя настигнет. И потом, когда проснёшься, у тебя опять будут мокрые штанишки — фу, как стыдно!
В это утро лицо девушки в широкополой шляпе было совсем обычным — не грустным и не весёлым, а как бы мечтательным. Сатана, появляющийся над шкафом, исчез, и солнце светило прямо в мою кровать. Было слышно потрескивание дров в плите, а за окном — порывы ветра… Ночь со своими страшными снами ушла и куда-то подевалась. Кровать мамы и папы была пустой, но не прибранной.
— Мам, я уже проснулась! Доброе утро!
В ответ ни слуху, ни духу. За окном капало со стрехи, и в печи шумел огонь. Совершенно обычное утро, только мама не крикнула из большой комнаты или из кухни: «Один момент, золотце!» или: «Сейчас-сейчас!»
— Ма-а-ма, па-ап!
Я вылезла из своей кровати, перебравшись через деревянную решётку, и первым делом сходила на горшок.
— Ма-ам, пожалуйста, дай туалетной бумаги!
Что-то было не так.
— Па-ап, пожалуйста, горшочный билет!
Ничего другого не оставалось, как самой идти к ночной тумбочке за бумагой. Пол был холодный, прямо ледяной, но, перепрыгивая с одной барсучьей шкуры на другую, можно было добраться до тумбочки, ни разу не ступив босой ногой на голые доски пола. Пока сидела на горшке, локти и предплечья покрылись мурашками. Я забралась обратно в кровать и думала: «Главное, чтобы сон с чёрными дядьками больше не вернулся!»
Наконец послышался скрип снега под ногами, хлопнула дверь, и я услышала, как в кухне папа скомандовал: «Туям, сюда! Сирка, на свою подстилку!»
— Па-ап, ма-а-ам! — крикнула я. — Па-ап, мама не принесла мне туалетной бумаги!
Знала, конечно, что жаловаться некрасиво, но что мне оставалось? Прежде всего надо было разобраться, что случилось во сне, а что — наяву! Не могла я кричать, что мама осталась в плохом сне с чёрными дядьками… Это ведь был МОЙ гадкий сон, и словно моя ВИНА была в том, что он продолжался, хотя солнце ярко светило и рогатый сатана с потолка пропал. Я втайне надеялась услыхать от папы, что мама уехала в город на совещание или пошла к тёте Армийде, чтобы принести от Клары молока.
— Доброе утро, дочка! — Папа вошёл в спальню и принёс мне домашние тапочки, оставшиеся вечером в большой комнате.
— Мама ещё не вернулась, может, приедет вечерним автобусом. Я как раз ходил в школу — звонить, чтобы выяснить это дело, но никого не застал — воскресенье!
У меня в животе защипало, будто сон и не кончился! Никакого совещания и молока от Клары — мама действительно уехала с чёрными дядьками, потому что я была плохим, очень плохим ребёнком…
Папа сам одел меня, и от этого настроение стало немного лучше: оказалось, он не знал, что пуговицы лифа должны быть сзади, и поэтому вышла неразбериха со штрипками для чулок.
— У женщин с младенчества всякие штучки-дрючки! — ворчал он. — Ну зачем нужна такая штуковина, как этот лиф?
— Иначе чулки не будут держаться на ногах, — объяснила я. Лиф, или лифчик, по-моему, вещь очень неудобная: у какого ребёнка такие длинные руки, что он может застегивать пуговицы за спиной? Да и со штрипками надо быть очень осторожной, чтобы не прищемить кожу на ляжке, когда их застёгиваешь на чулках. Словом: лифчик — это такой предмет одежды, без которого зимой не обойтись и который не даёт тебе почувствовать себя взрослой.
— Надо бы тебя приодеть более празднично, — сказал папа. — Мы ведь поедем сегодня к дедушке на день рождения. Тут нужна была бы мамина помощь!
Более празднично? Конечно! Мама надела бы на меня ту тёмно-синюю юбку с оборками и такую же блузку, на которой она вышили несколько белых цветков… И тёплые штанишки — как же без них!
Но об этом я папе не скажу, я не младенец! Нет — уж пусть от отсутствия мамы будет хотя бы та польза, что я наконец буду одета так, как мне самой хочется!
Первым делом мы натянули на чулки кружевные гольфы, с голубыми кисточками наверху. Затем нашли в шкафу светло-жёлтое летнее платье с рукавами-буфами. У этого платья на груди мама тоже вышила цветы — весёленькие, красные и белые. Охотнее всего я надела бы воздушно-тонкое белое платье, на котором сверху донизу были сухие миртовые веточки. В этом платье когда-то давным-давно меня крестили, и тогда оно было длинное, до пола, а теперь было как раз по икры. Но папа счёл, что в таком тоненьком платье не стоит пускаться в апреле в долгий путь. Да и на жёлтое платье он с удовольствием натянул бы вязаную кофту, но это ему не удалось: вместо кофты я потребовала зелёную с белыми полосками вязаную жилетку. На её белых полосках бабушка по моей просьбе вывязала красных белок, а на зелёных — белых оленей. С тем, чтобы надеть на шею мамины сверкающие хрустальные бусы в виде капель и золотую цепочку с медальоном, я легко справилась сама. И совершенно самостоятельно прицепила к жилетке серебряную брошку и янтарную брошку в виде паука, а вот с тем, чтобы завязать бантами бело-синюю клетчатую и розовую ленты на голове, папе пришлось повозиться, у меня есть и третья лента — красная, но для неё уже не хватило волос.
Честно говоря, я хотела воспользоваться ещё маминой губной помадой и пудрой и подвести брови, но как раз в тот момент, когда я начала искать помаду и пудру в ящике ночной тумбочки, папа крикнул:
— Если мы сейчас не выйдем, опоздаем на автобус! Надень быстро сама валенки, а я пока напишу маме пару строчек и оставлю записку на столе, чтобы она не волновалась, если успеет вернуться раньше нас!
Спешить на автобус было не впервой! До больших дорог — на Пярну и на Лихула — было так далеко, что мне каждый раз казалось, что до них надо идти целый день. И раньше я частенько проделывала не весь этот путь пешком на своих двоих — обычно, когда я выбивалась из сил, папа брал меня на закорки.
— Бык делает одним махом то, что комар — всю жизнь, — говорил, смеясь, папа, когда мама торопила его. — Полторы тысячи метров, это как раз моя коронная дистанция!
У мамы была, наверное, другая коронная дистанция, поэтому мы с ней всегда пускались в путь раньше папы. Бывало, папа ещё брился, когда мы с мамой поспешно выходили из дома, и он в большинстве случаев догонял нас бегом на полпути, но бывало и так, что он догонял нас лишь тогда, когда мы с мамой уже садились на автобусной остановке на скамейку, чтобы перевести дух.
Но на этот раз мамы не было, мы заперли дверь, оставили ключи на третьей полке шкафчика в коридоре и, держась за руки, пошли в сторону шоссе.
Маленький Затопек и большой Нурми
Взрослые не имеют никакого понятия о некоторых радостях жизни. Например, о том, как здорово скользить на ледянках — полосках льда на деревенской дороге, или о том, какое чувство свободы испытываешь, когда попадаешь ногой — пляц! — в свежую коричневатую лужу в колее от автомобильных колёс. Эти лужи совсем и не глубокие, выше галош на валенках вода не поднимается, разве что какие-нибудь брызги. Папа мне часто рассказывал, как он со своими братьями и приятелями весной бегал по лужам, и они старались как можно больше обрызгать друг друга. Но если я хотя бы пару луж разбрызгаю, он уже сердится.
Выходит, что все проделки, какие раньше позволяли себе дети, забавные, а если я делаю так же — сразу «плохой ребёнок»!
Я образцово взяла папу за руку и постаралась идти как взрослые — так, чтобы ни одна лужа не попалась на пути.
— Может, запоём? — спросил папа. — Так легче шагается. — И начал:
Вы не бойтесь,
Я ведь не разбойник
И не знаменитый аферист…
Это была забавная песня, и я с удовольствием подхватила:
Просто часто у меня нет денег —
Я ведь бедный в джазе тромбонист!
— Верно ведь, с песней дорога становится короче? — спросил папа, когда мы допели до конца.
Я не стала возражать: по-моему, дорога совсем не сократилась, а даже будто вытянулась и стала длиннее, потому, что ноги мои совсем устали, а мы не прошли и полпути — конец света, то есть хутор Кунгла, ещё не был виден. Папа заметил, что уголки моих губ начали опускаться, и спросил бодро:
— Ну как, Эмиль Затопек?
Я только вздохнула. Это у нас с папой была такая старая игра: когда мы бежим наперегонки, мое имя Эмиль Затопек, а папино — Пааво Нурми. Я уже знаю, что Эмиль Затопек чешский бегун, а Пааво Нурми самый знаменитый финский спортсмен. С Пааво Нурми папа даже встречался в Финляндии и разговаривал, но не соревновался. Папа чуть-чуть не попал на Олимпийские игры, но команде Эстонии тогда не повезло. Было как раз время уборки сена, и дедушке нужна была помощь, так что перед соревнованиями папа не мог ни как следует тренироваться, ни высыпаться, и чуть не опоздал на поезд, когда должен был ехать на соревнования в Таллинн. На поезд он всё-таки успел — тетя Лийли подвезла его на лошади на станцию Сауэ, но на соревнованиях выступил слабо, и его в Берлин не взяли.
— Если бы не было этой чёртовой уборки сена, может, всё пошло бы совсем по-другому, — всегда говорил папа в конце своего рассказа, будь его слушателем мама, соседский дядя Артур или ещё кто.
— Но кто может сказать, что лучше? — рассуждал на это дядя Артур. — Видишь, Палу салу стал чемпионом Олимпиады, а теперь сидит в тюрьме…
— Да-а, но я бы всё отдал, чтобы бежать на Олимпийских играх! — отвечал папа вздыхая. — Но этому не бывать…
Потому он и придумал, что когда мы вдвоём бежим, то он будто Пааво Нурми, а я — Эмиль Затопек.
— Если начнёшь пораньше тренироваться, и из тебя может выйти спортсменка! — подбадривал он меня. На самом деле я хотела стать прачкой, певицей или учительницей, но в утешение папе говорила:
— Я, конечно, могу стать спортсменкой, но только бегать и прыгать мне не хочется!
— Эмиль Затопек! Приготовились! Старт!
Папа глубже надвинул свою серую шляпу, чтобы она получше держалась на голове, и побежал. Мы пробежали довольно большой кусок пути, но тут у меня соскочила варежка с руки — и прямо в грязную лужу.
— Не хочу больше затопекничать! — захныкала я. Варежка с красивыми красно-белыми узорами была теперь грязной, и с неё капала коричневатая вода.
Папа отряхнул варежку и выжал её почти досуха, глянул на свои карманные часы, а золотой солнечный зайчик отразился от стекла папиных часов прямо мне в глаза.
— Теперь придётся напрячься, Затопек! — крикнул папа. — Распрямись и давай, работай ногами! Слышишь, Эмиль Затопек, распрямись и сделай улыбчиво-весёлое лицо.
— Я — никакой не Затопек! Я — маленький ребёнок!
Папа посмотрел на меня с изумлением и затем присел на корточки.
— Ладно, Затопек! Садись на закорки — поедешь верхом на Пааво Нурми!
Это ему следовало бы сделать сразу — совсем иное дело было так мчаться к шоссе. Я удобно устроилась у него на спине, лихо помахивала рукой и командовала: «Ну-у, ну-у! Беги, Пааво Нурми! Ну-у, ну-у!»
— Не сдавливай мне горло, — ворчал папа. — Эта злосчастная муфта, что болтается у тебя на груди, скоро протрёт мне дырку в затылке! Ёлки-палки, автобус уже у поворота! Держись покрепче обеими руками за воротник моего пальто — наверняка придётся установить мировой рекорд!
Мы успели к шоссе как раз, когда автобус с шипением остановился. Дверь автобуса отворилась, и из неё на нас смотрело много-много спин в чёрных и коричневых пальто и одно розовое лицо.
— Товарищ, к сожалению, мы не можем вас взять, — сказало розовое лицо. — Омнибус и так переполнен, а вы ещё с ребёнком…
— Сама она даже выщипала себе брови, чтобы лучше поместиться в автобусе!
— Да, грустная история, — сказал папа, хотя голос у него был вовсе не грустный, а даже слишком радостный и бодрый. — Молодая прелестная дама даже не может себе представить, какой несчастной будет одинокая бабушка, если единственная внучка не попадёт к ней на день рождения…
— Хм, — хмыкнуло розовое лицо, приподняв уголки ярко-красных губ, и крикнуло в сторону чёрных и коричневых пальто:
— Товарищи пассажиры, попробуем чуть-чуть потесниться! Сзади есть немного места!
— Но мы едем на день рождения дедушки, — шепнула я отцу, дёрнув его за рукав пальто. — Почему ты сказал, что бабушка будет несчастна? Я не Красная Шапочка!
— Тихо! — шепнул папа в ответ. — Дедушки и папы никого не интересуют. Мамы и бабушки — они самые важные, с ними больше считаются! А кондуктор в автобусе, как капитан на корабле.
«Кондуктор» — это слово надо запомнить. Мама называла таких женщин «билетёршами», но это даже и вполовину не звучало так значительно, как «кондуктор».
— Товарищи пассажиры! — опять крикнула розоволицый кондуктор. — Пожалуйста, потеснитесь чуть-чуть, чтобы внучка могла поехать к бабушке!
Чёрные и коричневые спины чуть продвинулись вперёд от автобусной двери — как раз настолько, что мы с папой поместились. В автобусе действительно было жутко тесно, и воздух между коричневыми и чёрными пальто пах бензином и сырой одеждой. Розоволицая кондуктор сидела за блестящей железной трубой, на голове у неё был чёрный берет с серебряным значком, а на груди странная из чёрной лаковой кожи сумочка, с которой свисали белые и голубые билетные рулончики.
— Огромное вам спасибо, — сказал папа и протянул кондуктору деньги. — Будьте добры, один билет до Йыгисоо!
Кондуктор ловко оторвала от билетного рулончика один билетик.
— Пожалуйста, товарищ пассажир. А товарищ ребёнок, очевидно, моложе пяти лет?
Товарищ ребёнок?!
Это уже что-то: ТОВАРИЩ РЕБЁНОК! Я не слышала, что ей ответил папа, и вообще больше не слушала, о чём он с ней говорил. Я только тихонько повторяла себе под нос: «Товарищ ребёнок! Товарищ ребёнок!» Да, это значило, что я уже не младенец! Не плохой или хороший ребёнок, а товарищ ребёнок! Товарищ ребёнок — это было чем-то большим, чем Леэло, или дочка, или ребёнок, или даже Эмиль Затопек.
Тут я сразу поняла: ни спортсменкой, ни прачкой, ни учительницей становиться не надо, единственная настоящая профессия — кондуктор! Что может быть прекраснее и интереснее, чем сидеть в битком набитом людьми автобусе за блестящей трубой, на груди сумка с блестящими пряжками и несколькими рядами билетных рулончиков и называть других людей «товарищ»!
Но два вопроса продолжали беспокоить мою душу: во-первых, разве это красиво, что папа сказал кондуктору неправду? И, во-вторых, влезли бы мы в автобус, если бы папа сказал честно, что мы едем на день рождения дедушки? Стало быть, мамы и бабушки важнее, чем отцы и дедушки? Хм-хм…
Папина родня
Некоторым детям с бабушками и впрямь не повезло. Например, Красной Шапочке. О её бабушке мне рассказывали, пожалуй, больше всего. Красной Шапочке досталась довольно придурковатая бабушка: ни пироги печь, ни делать сок не могла, а когда заболела, то вместо того, чтобы вызвать к себе врача, позвала свою маленькую внучку! Первым делом ей следовало бы вызвать «скорую помощь», тогда маленькой девочке не пришлось бы идти через лес, где бегают волки, и всё было бы хорошо! Кроме того эта бабушка — уж точно! — выглядела довольно жутко, иначе бы Красная Шапочка не поверила, что злой волк с его щетинистой мордой, хотя бы и в бабушкином чепчике, это сама бабушка. Правда, Красной Шапочке казалось, что у бабушки глаза были меньше. «Бабушка, почему у тебя такие большие глаза?» Ух, бабушка с волчьими глазами!
Моих бабушек никак нельзя было перепутать с волками! Правда, лицо бабушки Мари уже стало забываться, а если быть совсем честной, я даже немножко боялась того, что все делались печальными или злыми, когда её вспоминали и начинали говорить о ней. Когда мама вспоминала бабушку Мари, её глаза начинали мокро поблескивать, а папа сжимал кулаки:
— Ну что это за власть, эта советская власть, если боится старухи, которой за восемьдесят, которая как следует не слышит и не видит и у которой во рту остался один зуб!
На это мама замечала:
— Я уверена, что государство, которое не уважает матерей, долго не продержится! Мама в жизни не знала ничего другого,
кроме работы и мук — разве легко было произвести на свет четырнадцать детей? И что она чувствовала, когда пятеро из них умерли ещё грудными младенцами — тогда никакой медицинской помощи и не было… Со своего хутора она всю жизнь ездила не дальше, чем в Таллинн на рынок или в гости к детям. И на тебе! — увозят старуху как преступницу в Сибирь в вагоне для скота!
Когда говорили о бабушке Мари, всегда вспоминали, как её увозили и что последние её слова были сказаны мне: «Ты смеёшься, а я плачу! Кто знает, увижу ли я тебя ещё когда-нибудь…» Мне тогда было почти два года, и, говорят, я звала вооружённых дядек поиграть со мной. Но этому я не верю — такой глупой я не могла быть и в два года, чтобы играть с вооружёнными дядьками, но спорить с взрослыми об этом я не могу, я помню только то, что чёрные дядьки увезли бабушку и что говорили они по-русски. И если разговор заходил о бабушке Мари, то потом часами ни смеяться, ни говорить весело никто не мог, и это было совсем неприятно… Тогда казалось, что чёрные дядьки где-то близко и могут в любой момент опять прийти.
К счастью, у меня есть другая бабушка, которую русские не заметили. Бабушка Минна Катарина из Йыгисоо. И у неё хороший слух, и во рту много зубов — её следовало бы бояться гораздо больше, чем бабушку Мари! Бабушка Минна Катарина печёт вкусные пирожные и пирожки, шьёт красивую одежду и умеет танцевать краковяк. Обычно она весёлая и добрая, только любит пререкаться с дедушкой. Дедушка не принимает её пререканий всерьёз — машет рукой и говорит: «Перестань, Минна! Ты совсем оторвана от жизни! Откуда курице знать, о чем думает орёл, парящий высоко в небе!»
Вообще-то бабушка Минна Катарина больше похожа на орла, чем дедушка, потому, что вместо кофт она любит носить большие шали — их у неё много, у большинства из них серые края, и когда она взмахивает руками, кажется, что собирается взлететь. В молодости бабушка была очень красивой и носила высокие причёски с лентами и платья с оборками. На фото в альбомах её и не узнать! В молодости у дедушки с бабушкой была большая любовь. Они познакомились в России в большом поместье, куда дедушка приехал заработать большие деньги. Когда они приехали в Эстонию, бабушка не знала ни слова по-эстонски, говорила только по-польски, по-русски и по-латышски, потому что её отец работал в России садовником, у бабушки было два брата, которые выучились на инженеров, — один из них остался в Екатеринбурге, откуда дедушка и привёз Минну Катарину, а другой был на каком-то важном месте в городе Москве. Но их обоих убили ещё до войны, потому что русские особенно не любили людей других национальностей, которые работали на высоких местах. Бабушка думала, что в живых, может быть, остался кто-то из её польских родственников, но это, наверное, никогда выяснить не удастся. Последние письма пришли из Данцига ещё до войны, и кто теперь осмелился бы копаться в таких вещах!
Все эти истории я слышала множество раз, потому что у дедушки с бабушкой всегда шли разговоры про старых людей! Такая жизнь, если ты единственный ребёнок в семье!
У бабушки с дедушкой было пятеро детей, но все они стали взрослыми до моего рождения, так что в Йыгисоо играть мне было не с кем. Разве это дети, если их надо называть тётями и дядями! Так вообще называют всех взрослых. Но некоторые из них особые дяди и тёти — они называют моего папу братиком, а бабушку с дедушкой — мамой и папой.
Бабушка Минна однажды услышала, что я называю папу татой, и удивилась:
— Где ты это слово слышала, это ведь польское слово. По-польски папа и есть тата.
Про тётю Анне, тётю Лийли, дядю Марта и дядю Эйно папа говорил «моя родня», потому что давным-давно все они были индейцами, носили на голове петушиные перья и делали луки из ивовых веток. Тёте Анне не нравилось быть индианкой, она была вовсе бледнолицей, потому что вопила слишком громко, когда её привязывали к дереву и начинали снимать скальп.
У тёти Анне и теперь, когда она стала взрослой, был очень громкий голос, хотя никто больше не собирался привязывать её к дереву и снимать скальп. Мне, конечно, понравилось бы, если бы на днях рождения дедушки и бабушки играли в индейцев, но, увы, этого никогда не случалось: всегда только сидели за столом, ели, пили, пели и вели скучные разговоры взрослых людей.
Всегда, когда папа посреди праздничной еды, тихонько постучав по бокалу ножом, вставал и говорил: «Дорогие друзья, мы сюда не только для того собрались, чтобы есть и пить…», я надеялась, что он скажет: «…а и для того, чтобы поиграть в индейцев». Но куда там — всегда он продолжал одинаково: «…а для того, чтобы отметить день рождения нашего любимого папы!» или «нашей любимой мамы!» После этого все пели «Та элагу»
[3] и опять начинали есть и пить.
Когда мы, наконец, добрались до бабушки и дедушки, большая часть родни была в сборе. Разумеется, не считая дяди Эйно, — его давно увезли в Мордовию, в лагерь для заключённых, и с тех пор столько дней рождения праздновали без него, что я даже стала забывать, как он выглядит. Вообще-то, вспомнить лицо дяди Эйно было не так и трудно, потому что все дедушкины сыновья были на него похожи: с большими носами, голубыми глазами и такой причёской, словно им сделали на голове лёгкий веночек из их же волос. Как и у моего папы, но, похоже, ему это особенно не мешало. Когда тётя Анне иногда вспоминала, что до войны у него были на голове густые кудри цвета спелой ржи, папа смеялся и говорил: «На золоте мох не растёт».
Похоже было, что лучшие дни родни прошли ещё в те времена, которых я не помнила, да и не могла помнить, потому что меня тогда и на свете не было! Странное дело: я-то считала, что была всегда! Про те дни говорили по-разному: «до войны», «в эстонское время», «во времена Пятса», «до прихода русских». Тогда жизнь была совсем другой: праздники пожарных и представления в Народном доме, велосипеды «Хускварна»
[4] и туфли из настоящей змеиной кожи, сладкий медовый напиток и сосиски многих сортов в каждом магазине.
И люди могли свободно говорить обо всём, о чём хотели. Наверное, они потому могли, что меня тогда ещё не было, — всякий раз, когда разговор родни делался легкомысленным или когда начинали говорить что-то такое, на что все взрослые реагировали испугано или начинали громко смеяться, — каждый раз кто-нибудь напоминал: «Выбирайте слова в присутствии ребёнка!» И это было очень мило — знали, что я не всё понимаю.
Хотя на праздниках у дедушки и бабушки и было скучно-прескучно, но всегда много смеялись и никто не твердил нудным голосом, что, ох, ребёнок, ты смеёшься, а я плачу, смогу ли ещё когда-нибудь тебя увидеть…
Дедушка Роберт любил объявлять: «До тех пор, пока у меня во рту будет ещё два зуба, я буду смеяться каждый день по два раза! А когда и они выпадут, всё равно буду смеяться тайком, ночью! Ну, если ничто другое меня не будет смешить, то русский порядок и панталоны Минны всегда меня смешат!»
У бабушки действительно были смешные панталоны — длинные, с буфами и кружевами внизу, и когда после стирки они сушились на бельевой верёвке, их широкие штанины трепыхались на ветру, словно толстые танцовщицы.
Польская кровь бабушки Минны
Дом дедушки и бабушки стоял не в лесу, как дом бабушки Красной Шапочки, а вблизи большой дороги, в яблоневом саду, огороженном забором из планок. Это был довольно большой серый деревянный дом, но на самом деле больше чем наполовину он был пустой и нежилой. Войти в него через главный вход было невозможно — дверь была забита двумя досками крест-накрест, а окно, глядящее на дорогу, было закрыто ставнями. Чтобы попасть в дом, нужно было снять две поперечные доски ворот, пройти через яблоневый сад и завернуть за угол дома. Сам-то дом был скучно-серый, но собачья будка возле крыльца была прекрасна — с высокой двускатной крышей и выкрашена в красивый жёлтый цвет. Будка была большой, потому что когда-то — конечно, в то легендарное время, когда меня ещё на свете не было, — там жили в тёплую пору две гончие Крапп и Кай. Но Крапп давно околел, и жёлтая с белыми пятнами Кай пользовалась будкой больше как дачей — в холодное время она жила в кухне и спала на подушке в плетёном кресле.
Дедушка не хотел, чтобы чужие люди знали, что когда-то в этом доме находился и магазин. Он называл его лавкой, и она принадлежала именно ему, и если кто-нибудь сообщил бы об этом дядькам в мундирах, то и его могли бы увезти в Сибирь. Вывеска магазина была спрятана, и когда изредка дедушка водил меня в магазинные комнаты, он всегда находил что-нибудь на дне ящиков мне в подарок — почтовую открытку, на которой из яичной скорлупы выглядывали улыбающиеся мальчики с крылышками, или красивую голубую бумагу для писем — «на память о минувших временах расцвета», говорил он. Во времена расцвета, очевидно, люди писали красивыми прозрачными ручками на голубой с лёгкими узорами бумаге и посылали эти письма в конвертах с подкладкой из шёлковой бумаги… В коробках были булавки с жемчужными головками, кнопки и плакатные перья. К сожалению, в бывшем магазине дедушки больше не было ни одной конфеты и ни одной бутылочки с медовым напитком времён расцвета. За пыльными полками на полу валялись только пустые старинные бутылки из-под пива — их называли «алекоками». У них были странные пробки на пружинках, и бабушка осенью наливала в такие бутылки яблочный сок. В этих «алекоках» сок никогда не начинал бродить.
В магазинной части дома было холодно и нетоплено, и там нужно было двигаться осторожно, потому что во всех углах подстерегали мышеловки, которые громко защёлкивались, если их нечаянно задевали ногой. Папа считал, что прилавок и полки надо разломать и сделать там хороший ремонт, тогда бабушке с дедушкой было бы попросторней жить. Но дедушка не был с этим согласен, он был уверен, что через год-два американский дядя выгонит русских из Эстонии и тогда опять можно будет открыть магазин.
Дедушка считал, что ему и бабушке не требуется больше комнат, кроме кухни, гостиной и маленького кабинета, большую часть которого занимал огромный письменный стол. В его ящиках можно было найти всякие интересные вещи: там хранились старые фотоальбомы, на толстых страницах которых были сделаны прорези с золотыми краями, чтобы вставлять фотографии, и ещё там были всевозможные бумаги, и тетради, и большой альбом для марок, у которого была деревянная обложка с металлическими углами. Марки в альбоме мне разрешалось смотреть только вместе с дедушкой и только после того, как вымою хорошенько с мылом руки и покажу ему ладошки. Но эти марки выглядели так, словно их трогали как раз немытыми руками: в большинстве они были старые и потрёпанные. Свою первую почтовую марку дедушка отклеил, когда он был ещё мальчишкой, от письма, пришедшего с острова Куба. Это письмо сообщало, что его старший брат-моряк умер на этом острове от какой-то тяжёлой болезни. На этой коричнево-серой марке было лицо какого-то старика, и я смотрела на марку с опаской, словно болезнь дедушкиного брата ещё могла быть на марке, так что на самом деле руки следовало бы мыть после того, как посмотришь альбом, а не до… Но кому охота делать это, если никто не велит!
На этот раз наше прибытие к дедушке с бабушкой было необычным. Обычно-то входили в дом первыми я и мама, а папе всегда требовалось прежде всего осмотреть сад и яблони, а если собака была во дворе, то поговорить с нею. На самом деле папа хотел войти «эффектно и с прямой спиной», как говорил он сам. В сенях он сразу вынимал гитару из футляра и входил с песней: «Тебя поздравляю, новорожденный мой! Тебя поздравляю тысячу раз!..»
С приходом папы лица у всех начинали сиять, и дом наполнялся музыкой и радостным настроением.
На этот раз мы забыли гитару дома, но папа всё равно задержался на крыльце. Он закурил папиросу и сказал мне:
— Погоди немного, сначала покурим на воздухе.
Сделав пару затяжек, он бросил папиросу в сток для воды рядом с крыльцом и сказал:
— Ладно, смелость города берёт — пошли в дом!
У тётушек, которые в кухне перекладывали мясо из жаровни на блюдо, лица засияли и без его игры на гитаре и песни.
— Братик! Успел как раз вовремя! — обрадовалась тётя Лийли.
— Вот так чудо, ваше семейство успело прибыть как раз к жаркому! — съехидничала тётя Анне. — Раздевайтесь и сразу сядем за стол! А где ваша мама? Заболела, что ли?
Мы с папой посмотрели друг на друга.
Будь что будет — свою вину надо признать.
— Я была плохим ребёнком, и мама уехала от нас, — постаралась я быстренько сделать своё признание.
Тётя Лийли засмеялась — у неё такой смех, словно трясут горошины в жестяной банке.
— Ну вы и шутники! — сказала она и распахнула дверь в сени.
— Хельмес, входи. Первое апреля было уже давно.
Мне на миг показалось, что мама действительно могла спрятаться в сенях. Но нет. Не было её и на крыльце, куда тётя Лийли на всякий случай выглянула.
— Значит так… — негромко сказал папа. — Наша мама, правда, ненадолго уехала. С пылкими русскими парнями — у кого есть силы им противиться!
— Что ты несёшь! — сердито крикнула тётя Анне. — Устраиваете тут дурацкие шутки, а ещё образованные люди!
Папа промолчал.
— Тут что-то не так! — произнесла тетя Лийли. — Всё долгое время, пока шла война, у Хельмес были силы дожидаться тебя, и теперь вдруг… Откуда взялся этот парень?
— Устами младенца глаголет истина, — сказал папа, грустно улыбнувшись. — Да, уехала, между двумя русскими с ружьями — как её мать два года назад…
В кухне сделалось так тихо, что стало слышно, как в дедушкином кабинете тикают старинные настенные часы: ти-ик, та-ак, ти-ик, та-ак…
— Господи, боже мой! — со вздохом произнесла тётя Лийли, поставила блюдо с мясом на кухонный стол и медленно опустилась на табурет. — Господи, боже мой! Опять новое выселение…
— Не выселение, — сказал папа и словно сглотнул. — Арест… Предварительное обвинение: измена родине… Измена своей советской родине…
— Как это школьная учительница может предать родину? — Тётя Лийли покачала головой: — Хельмес в эстонское время не состояла ни в какой партии, она вообще не занималась политикой…
— Она вроде бы учила детей петь эстонский гимн и ходила с ними на могилу павших в Освободительной войне, — тихо сказал папа. — Сине-чёрно-белый
[5] был у нас в бельевом шкафу между простынями — они его нашли! Ну и следователь сказал, что Хельмес — дочь кулака и сестра эстонского офицера… Угрожал, что в ходе следствия могут возникнуть и другие обвинения…
— Чёртовы коммунисты! — Тётя Анне погрозила в окно кулаком.
— Чёртовы русские — пошли бы они… Пусть убираются к себе в Россию Сталину задницу лизать!
И тут всё вокруг сделалось чёрным, будто огромный ворон распростёр свои крылья над кухней. Бабушка Минна Катарина стояла в дверном проёме, раскрыв чёрные крылья. Обычно бабушка выглядела маленькой рядом со своей родней, но теперь она показалась мне огромной и страшной. Большой чёрный платок с блестящими цветами, который она по случаю праздника накинула на плечи, закрывал маленькое окно и свет лампы под потолком. И я не поняла ни слова из того, что она сказала. Будто и не было слов, а только угрожающий шипящий голос, словно пение без мелодии… Будто это и не была бабушка Минна Катарина, а ужасная, злая ведьма, изрыгающая проклятия…
— Бабушка, это ты говоришь по-русски? — спросила я, набравшись храбрости. Её шипящие слова немножко были похожи на русский язык…
Бабушка сразу умолкла. Она бросила на меня испуганный взгляд, затем посмотрела на остальных, кто был в кухне, сложила крылья и опустилась в плетёное кресло рядом с дверью — гончая Кай, обиженно поскуливая, успела спрыгнуть с кресла на пол. Теперь бабушка опять выглядела маленькой, даже меньше, чем раньше, — она ссутулилась в собачьем кресле, закрыла руками глаза и громко заплакала. Это был даже не плач, а буквально вой! Тётя Лийли бросилась к бабушке и пыталась её обнять. Тётя Анне взяла из шкафа маленькую бутылочку, накапала из неё пахучей жидкости на кусочек сахара и сказала:
— Мама, прими валерьянку. Да открой, наконец, рот!
Тата повернулся ко всем спиной и смотрел в окно.
— Послушайте, есть сегодня дадут? — Дедушка вошёл в кухню и недовольно оглядел всех. Он был в голубой рубашке, а пальцы засунул за полосатые подтяжки.
— Папа, да разве ты не слышал, русские забрали Хельмес! — крикнула тётя Лийли с укором.
— Почему не слышал! — Дедушка пожал плечами: — Я не глухой! Слышал и то, как тут у одной известной особы опять взыграла польская кровь, но нельзя из-за этого морить других голодом! И разденьте ребёнка, у неё уже пот на лбу!
Теперь тёти засуетились вокруг меня.
— На каком языке говорила бабушка? — спросила я.
— На польском, — ответила тётя Лийли. — Это её родной язык, только до сих пор я не слыхала от неё ничего по-польски, даже не знала, что она ещё умеет говорить по-польски! Она ведь почти пол столетия не видела своих родственников…
— Что ты говоришь, мама всегда ругается по-польски, — возразила тётя Анне. — Если что-нибудь не выходит, она всегда говорит: «Пся крэв!». Ты разве не замечала? Это значит «собачья кровь!» — странное ругательство!
Тётя Анне повесила моё пальто и муфту на вешалку и, посмотрев на меня внимательно, всплеснула руками.
— Господи, помилуй! Ребёнок похож на рождественскую ёлку! На цыганский табор!
Тётя Лийли разглядывала меня с изумлением, склонив голову набок, и затем хрипло рассмеялась, а бабушка подняла голову и с любопытством смотрела на меня красными от слёз глазами.
— Ну, брат, ты совсем чокнулся! — сказала тётя Анне. — А ещё хвалишься, что художник! Девочка выглядит как цыганский табор! Разве дочка школьного учителя может так выглядеть? Как супруга русского офицера — они расхаживали летом по улицам в «маратовских» шёлковых ночных рубашках, накинув на плечи, как шали, банные махровые простыни!
Конечно, я надеялась своим видом вызвать у всех восхищение на дедушкином дне рождения, но то, что меня сравнили с цыганским табором, совсем не выглядело похвалой. А ведь я утром в первый раз почувствовала, что от маминого отсутствия может быть немножко пользы… Бусы, медальон, брошка — всё это были мамины самые дорогие сокровища, а на завязывание лентой волос у папы ушло добрых полчаса. И на тебе! Результатом всех этих больших усилий было насмешливое хихиканье тётушек!
— Дама использует в своей одежде два, максимум три цвета, — поучительно и участливо сказала тётя Лийли. — И при этом надо смотреть, чтобы цвета гармонировали, подходили один другому.
— А я вовсе и не дама! — сказала я задиристо. — Я вовсе товарищ, вот!
— Господи, помилуй! — воскликнула тётя Анне насмешливо.
— Дочка моего брата сделалась коммунисткой. Маленькая комми! Товарищ!
— Оставьте ребёнка в покое! — сказала бабушка — Девочке и так тяжело, а вы к ней придираетесь…
Я с благодарностью полезла к бабушке на колени. Конечно, я заметила, что гончая Кай, кресло которой мы теперь занимали вдвоём, посмотрела на меня с завистью, но я не обращала на собаку внимания и обняла бабушку обеими руками за шею.
— Что ты сказала раньше, когда говорила по-польски? — спросила я у бабушки шёпотом на ухо.
— Я уже и сама не помню, — призналась бабушка. — Ах да, я прокляла эту кровавую власть, и Сталина, и всех этих коммунистов, которые убили моих братьев и увели в тюрьму младшего сына… Теперь они забрали ещё и твою маму, ну что это за власть такая? Твоя мама для меня очень дорога, совсем как уродна дочка…
— Послушайте, уродны сыновья и дочки, не пропустить ли нам по стопочке? — сказал дедушка. — Поесть в этом доме всё равно не дадут, так хоть что-нибудь выпьем!
— Мама сказала «уродна» вместо «родная»! — воскликнула тётя Анне и захихикала. — Хельмес — её уродина дочка.
Все засмеялись, а бабушка глядела на них исподлобья.
Мне стало обидно за бабушку. Я показала тёте Анне кулак и крикнула:
— Сама ты уродина, ты очень уродина, товарищ-женщина!
Бабушка меня поддержала:
— Некрасиво смеяться, если человек ошибся! Эстонцы плохие люди — всегда смеются, если другие ошибаются! Поляки и латыши так не делают, даже русские не насмехаются, если кто-то немножко неправильно говорит на их языке!
— Ты сама родила нас эстонками! — разгорячилась тётя Анне.
Дедушка смотрел сердито.
— Ну, опять начинается! Опять начинает сказываться польская кровь, непременно последнее слово должно остаться за мамой или за Анне! По деревне ходили слухи, что тут сегодня у кого-то день рождения…
Но тётя Анне не хотела уступить и опять напустилась на бабушку:
— Ну, чего же ты тогда приехала жить в Эстонию и родила нас эстонками, а? Вышла бы замуж за какого-нибудь польского пана, и мы родились бы польками, у нас бы там жизнь была легче!
Бабушка сделал вид, что ничего не слышала.
— Ой, извините! — Тата стукнул себя рукой по лбу, достал из нагрудного кармана маленький пакетик и протянул его дедушке. Я знала, что эта была купленная в городе записная книжка в кожаном переплёте. — Желаю тебе много счастья, папа! Оставайся по-прежнему жизнестойким! — И тата махнул рукой в мою сторону: — Леэло, что ты собралась сказать дедушке?
Я соскользнула с колен бабушки на пол и сделала перед дедушкой книксен.
— Поздравляю с днем рождения и желаю счастья!
А бабушке я сказала:
— Знаешь, бабушка, без тебя тётя Анне была бы вовсе русской, верно? Так ей и надо!
Хороший ребёнок так взрослым не говорит, это я знала, но кто-то должен был вступиться за бабушку… Вот бы тётя Анне проснулась однажды утром и заметила, что не знает больше эстонского языка, а из зеркала на неё глядит русская тётенька в старушечьем жакете и с волосами клубком на затылке!
Теперь была очередь тёти Анне притвориться, что она не слышит… Она подняла крышку кастрюли, в которой кипела и булькала вода, и объявила:
— Картошка разварилась! Вот чего вы добились своими политическими разговорами!
И если надо — то и дольше
В этот раз день рождения дедушки был скучнее, чем когда-нибудь раньше. Ножи и вилки сонно постукивали по тарелкам, и, похоже, ни у кого, кроме дедушки, не было аппетита, и никто не начинал разговора. Правда, дядя Март, который вместе с тётей Идой приехал из города поздним автобусом, вошёл в комнату с весёлым видом и запел поздравительную песню, но когда тёти сообщили ему нашу новость, он тоже умолк и, сидя за столом, только иногда покачивал головой и бормотал себе под нос: «Ну и дела! Чёрт знает что!»
— Поднимем бокал за здоровье новорожденного! — сказал тата, выпил до дна рюмку водки и, не долго думая, снова её наполнил.
— Послушай, послушай! — подала голос тётя Анне. — Раньше ты, брат, был абсолютным трезвенником! Помнишь, когда мне исполнилось двадцать пять, ты даже не выпил за моё здоровье. А ведь был хороший ликёр — ещё эстонского времени. А теперь опрокинул подряд две рюмки «Московской особой»!
— Времена такие… Московские, особые, — горько усмехнулся папа.
— Заешь мяском, тогда не опьянеешь, — посоветовал дядя Отть, сидевший рядом с тётей Лийли и не произнесший до этого ни слова.
— Водка — напиток сильных мужчин, — провозгласил дядя Март.
— Ты, Магт, больше не пей, — распорядилась тётя Ида, не выговаривавшая «р», и поставила пустую рюмку дяди Марта на стол вверх ножкой. — А то нас в автобус не пустят.
Дядя Март взял рюмку, перевернул её обратно и протянул папе, чтобы он её наполнил.
— Мужчина знает, что делает!
Дедушка положил на пустую тарелку вилку и нож крест-накрест и со счастливым видом объявил:
— Спасибо тому, кто дал желудок, а уж поесть всегда что-ни-будь найдётся.
— Папа, ну какой ты всё-таки! — сказала тётя Лийли с укором.
— У других большое горе, а ты со своими присказками!
— Не знаю, откуда возьмётся для тебя свиное жаркое, если мы с Лийли не привезём мясо с базара из города, — огрызнулась тётя Анне. — Попробуй прожить на пенсию! Сейчас столько полуголодных стариков. Старушки приходят к нам в парикмахерскую, предлагают серебряные ложки и хрусталь, чтобы купить кусок хлеба! Ты и понятия не имеешь, сколько стоит сейчас мясо на рынке!
— Если не будет мяса, будем есть рыбу, — сказал дедушка. — Нет рыбы — будем есть картошку. Но вот если бы у тебя желудка не было, нечего было бы и говорить ни о свинине, ни о куриных яйцах. Так что первым делом — спасибо Отцу небесному за то, что дал желудок!
Дедушка встал и, откашлявшись, прочистил голос:
— Видите ли, молодёжь, я жизнь повидал и могу вам сказать, что если грустить — добра не нажить. Разве Эстонская Республика появилась бы, если бы наши мужчины после Первой мировой войны только сидели бы понурившись и плакали, что ландесвер наступает и красные русские хотят наложить на нас свою лапу? Ведь и тогда людям нелегко было, но слезами Освободительную войну не выиграли бы! Помните, наверное, какое бедное время было в республике вначале — маме нечем было вас кормить, кроме как картошкой с соусом, когда возвращались из школы, а чтобы сделать соус, она кофемолкой перемалывала в муку макароны.
— Такого вкусного соуса, какой мама делала, я в жизни больше не пробовал, — похвалил соус дядя Март.
— А я помню, папа, как ты мамину беличью меховую ротонду
[6] продал, — усмехнулась тётя Анне. — Такая красивая была… до самого пола…
— Да, повидали мы и бедные времена, и богатые, но воров, убийц и коммунистов в нашем роду не было, и по-настоящему мы никогда не голодали. Неужели вы думаете, что Сталин расстроится, если эстонский народ вымрет от горя? Дудки! Это только вода на коммунистическую мельницу! Надо есть, пить и радоваться, что душа в теле. Сейчас ещё не время выступать против русских, но когда это время наступит, надо быть сильными! Потому что американский дядюшка Сэм так этого не оставит.
В уголке глаза у дедушки появилась маленькая слезинка. Он стёр её рукой и поднял рюмку.
— В старину эстонцы говорили: «Пусть мужчина ест — будет сильным, пусть выпьет — будет смелым!» Выпьем за здоровье тех, кого сейчас нет с нами! Им будет легче оттого, что мы тут будем смелыми и сильными!
— Браво, папа! — воскликнула тётя Лийли и захлопала. — Я и не знала, что ты такой оратор!
— По-по-по стопочке, по маленькой мы можем пропустить… — запел дедушка высоким голосом, и остальные, вдруг обрадовавшись, подхватили:
И по второй, и по второй,
Уж так тому и быть…
Я этой песни раньше не слыхала и теперь старалась запомнить её слова. Интересно, сочла бы мама эту песню подходящей для хорошего ребёнка или песней хулиганской? Некоторые песни, которым я научилась от папы, мама считала совсем не подходящими для детей.
— С песней забываются заботы! — подала я голос, когда взрослые опять взялись за вилки и ножи. Мама иногда говорила так, когда начинала учить меня новой песне.
Все засмеялись, только тётя Ида посмотрела на меня исподлобья — она не любила пения.
— Видишь, папа, у тебя растёт наследница мантии! — сказал дядя Отть, посмеиваясь. — Маленький оратор!
— Что значит мантия? — спросила я шёпотом у таты.
— Такая накидка, вместо пальто, — быстро объяснил он.
— Не хочу я дедушкино пальто, оно большое и некрасивое!
Тата поперхнулся от смеха и затем успокоил меня:
— Да речь и не о пальто, оно дедушке и самому нужно. «Наследница мантии» говорят в переносном смысле, если дети наследуют какие-нибудь качества своих предков.
— Ага! — Я не стала больше приставать к папе, хотя его последнее объяснение встревожило меня ещё больше, чем возможность получить дедушкино старое длинное пальто. Ну разве не ужасно, если в одно прекрасное утро на меня из зеркала глянет большеносое, как у дедушки, лицо! И разве завяжешь ленты на волосах, если волосы будут как у дедушки — только на затылке и за ушами?
— Знаешь, — шепнула я тате, — пусть я буду лучше Эмиль Затопек, ладно? Я могу и бегать, если иначе нельзя, только чтобы не было этого жуткого пальто и большого носа!
Тата рассеянно улыбнулся и встал.
— Дорогие присутствующие! — начал он торжественно. — Мы собрались здесь не только, чтобы есть и пить…
— А чтобы и поиграть в индейцев! — перебив его, крикнула я.
Тата засмеялся. А дядя Март сказал серьёзно:
— Маленьким детям сейчас выступать не время! Знаешь, когда могут говорить маленькие дети? Когда курица писает!
— Хм… — Я задумалась и сказала: — А мама меня учила, что говорить за столом во время еды о письках и какашках неприлично!
— Получил! — Тётя Лийли прерывисто засмеялась. — Этот ребёнок за словом в карман не лезет!
Тётя Анне позабыла свою сердитость и присоединилась к тёте Лийли:
— у неё верхние зубы появились раньше, чем нижние. Из таких всегда вырастают языкатые.
— Главное, чтобы она при эмгебешниках не была слишком газговорчивой, — серьёзно сказала тётя Ида. — А то мы завтга все окажемся за решёткой!
— Давайте лучше запоём песню, — предложил дедушка. — Жалко, что ты, парень, не принёс с собой гитару, петь под гитару — совсем другое дело!
А тата уже вспомнил новую песню:
Чернохвосточка, лети
Через земли и моря,
Я прошу тебя, лети,
Мою милую ищи.
Эту песню знала и я и подхватила вторым голосом вместе с взрослыми припев:
Ридирай-рай-рай риди-рай-рай-рай I..
Этот «ридирай» ничего не означает, просто это слова песни, но папина родня пела их так воинственно, словно все они хотели отправиться индейцами в военный поход. Потом запели обычными голосами:
Если спросит, что со мной,
Скажешь, лишь её я жду
До последнего до часа,
Если надо, то и дольше!
И опять началось это очень воинственное ридирайство.
Странно дело — обычно я не выношу слишком громкого голоса: если, например, люди ссорятся, у меня свербит в животе и к горлу подступает плач. Но воинственный крик папиной родни вызвал у меня такое чувство, что всё хорошо и будет ещё лучше — ридирай! — мы едим и пьём! Ридирай, наш род могучий! Риди-рай-рай-рай!..
Только почему-то меня начал одолевать сон. Я пробралась между стульями и залезла на бабушкину кровать. Совсем не страшно было лежать на кровати с серебряными шариками, когда взрослые пели «риди-рай!» и просили чернохвосточку лететь через земли и моря…
Сковорода для ингерманландцев
Когда я открыла глаза, на столе уже стояли кофейные чашки и красивый торт: посередине три розы из крема, а по боку торта извивалась волнистая кремовая обкладка. В воздухе пахло кофе, тортом и пирогом. Запах пирога был самым сильным и тёплым — он исходил от горячего морковного пирога, с которым бабушка как раз пришла из кухни. Ничто не могло сравниться с пирогами, которые пекла бабушка, они получались у неё особенно мягкими и сочными, и при этом они не были и вполовину такими жирными, как пироги из слоёного теста, которые тётя Анне привезла с собой из города — она называла их украшением кафе «Пярл».
— Дети, идите кофе пить! — позвала бабушка. — И зовите мальчиков в комнату, хватит им дымить!
— И как это ты, мама, всё успеваешь? — удивилась тётя Лийли.
— Когда мы были маленькими, пекла каждый божий день пирожки или пирожные — каждый день точно в пять часов все пили чай…
— Мы и сейчас пьём, — похвалился дедушка, засунув пальцы под подтяжки. — В доме должен быть порядок! — у меня-то в доме порядок! — сказала бабушка сердито. — А ты что делаешь? Раздаёшь мои вещи по деревне!
— А что, папа опять что-то наделал? — спросила тётя Анне.
— Что он наделал? Отдал мою сковородку для блинчиков! — пожаловалась бабушка. — Мне ни слова не сказал. Взял в кухне сковородку и — за здорово живёшь — унёс!
— Ах, перестань. У тебя другая есть, — сказал дедушки и сделал двумя руками так, будто отталкивал обвинения.
— Это сковорода, чтобы картошку жарить и делать соус, — не уступала бабушка. — А та, другая, поменьше, была для блинчиков — как раз такого размера. Сам хочешь то и дело комморгенвидеров, а скажи, как мне их делать, если сковородки нет?
Комморгенвидерами бабушка называла такие блинчики, которые она складывала словно конвертики, и в каждом конвертике большая столовая ложка творога с тмином. Тмин был мне не по вкусу, а вот когда вместо него в бабушкин творог клали сахар и маленький кусочек ванили — вот тогда другое дело!
— Папа, да как ты посмел? — воскликнула тетя Лийли.
— Это была хорошая сковородка — ещё эстонского времени, где теперь такую достанешь! — рассердилась тётя Анне.
— Магту я бы такую выходку не позволила! — вставила тётя Ида вслед за другими.
— Ах, прекратите! — махнул рукой дедушка. — Что вы на меня набросились! Мужчина знает, что делает! Ну прямо — птичий базар! Я лучше пойду выкурю трубку с парнями!
Дедушка достал из ящика письменного стола серебряную коробочку — портсигар, надел своё длинное пальто и шапку с козырьком и, громко хлопнув дверью, вышел в сад, где тата, дядя Март и дядя Отть уже довольно долго вели мужские разговоры.
— Странное дело — обычно папа в домашнем хозяйстве не разбирается, а смотри-ка, сковородку нашёл и унёс! — продолжала сердиться тётя Анне.
— И куда он её унёс?
— В Коппельмаа возле дороги живёт теперь одна странная женщина, а вокруг дома бегают два маленьких мальчика в заплатанных штанах и галошах на босу ногу. И похоже, мужа у неё нет. Я сама с нею не говорила, но слыхала, что вроде бы она русская — во всяком случае одевается не по-нашему, — рассказала бабушка.
— Вы папу знаете — он горазд заводить новые знакомства, особенно с женщинами.
— Да брось ты! — усмехнулась тётя Лийли. — Думаешь, папа волочится за этой русской? В его-то возрасте!
Бабушка ничего не ответила, только резала пирог, обиженно поджав губы.
— Старая лошадь тоже овса хочет, — сказала тётя Анне. — Феликс тоже скоро заведёт себе новую жену — одному ему будет трудно растить маленького ребёнка, да к тому же девочку.
Феликс — это имя моего папы, а маленький ребёнок, да к тому же девочка — это наверняка я. Стало быть, всё будет как в истории про Золушку?
— Не хочу злой мачехи! — запротестовала я. — Я теперь очень хороший ребёнок, и мама скоро вернётся домой!
— Конечно, вернётся! — подтвердила тётя Лийли. — А ты, Анне, могла бы и попридержать язык. Брякаешь всё, что в голову взбредёт!
— Да, я не такой краснобай, как ты, — огрызнулась тётя Анне.
— Я вранья терпеть не могу!
— Гляди-ка, новый Мартин Лютер! — крикнула тётя Лийли. — На этом ты стоишь и иначе не можешь, да?
— Опять начинается! — вздохнула бабушка. — Как дети малые, честное слово! И надо было мне завести разговор про эту сковороду.
Недовольство моих тёток опять обратилось на дедушку.
— У папы слишком доброе сердце, — сказала тётя Лийли. — Помнишь, Анне, как он раздавал конфеты деревенским детям, когда держал лавку?
— Да, а мы ничего не получали, — сердилась тётя Анне. — Когда ещё были молодыми и приезжали домой, должны были каждый платить за себя.
— Один раз он всё-таки дал нам бесплатно целый ящик копчёной салаки, когда к Феликсу в гости приехали его друзья-спортсмены, помнишь?
— Как не помнить. Это было всемирное чудо, что папа не спросил за рыбу ни цента. Только это была не салака, а снеток.
— Нет, салака!
— Господи, я ясно помню, что это был снеток! Хорошая жирная рыба — до сих пор её вкус во рту… Снеток — и всё тут!
Спор разгорелся с новой силой. Это было скучно слушать, но я была довольна, что больше про новую жену разговор не заводили.
Когда мужчины вернулись в дом, тётушки были готовы вцепиться друг другу в волосы. Бабушка пыталась их помирить, но на неё не обращали внимания.
Тётя Лийли подошла к дяде Оттю и обняла его руками за шею, а лицо у неё было заплаканное. Тётя Анне стала наливать кофе в чашки и ворчала:
— Совсем остыл! Хоть выливай в помойку! Хороший, настоящий кофе — из зёрен!
— Чего вы на сей раз не поделили? — допытывался тата.
Тёти чуть помолчали, потом тётя Лийли засмеялась — на свой странный манер, словно горошины трясли в жестяной банке.
— Сущую ерунду! Копчёную рыбу, которая давно съедена и переварена.
— Что ты там болтаешь: всё началось с того, что папа подарил единственную сковородку мамы одной русской потаскухе, — выпалила тётя Анне.
— Господи, помоги! — крикнул дедушка. — Во-первых, это была не единственная сковорода в доме, во-вторых, молодая вдова вовсе не русская, а ингерманландка — Хильма её имя. Нечего плохо говорить о человеке, если ничего не знаешь!
— Но сковороду немедленно принесёшь обратно! — распорядилась тётя Анне, а бабушка и тётя Лийли кивнули в знак согласия.
— Если ты сам не принесёшь, я пойду и скажу этой жадной бабе, что я о ней думаю!
Дедушка покраснел и сказал, что до такого стыда он не дойдёт, лучше умрёт тут или в Сибири.
В конце концов решили, что за сковородой пошлют тётю Лийли и моего тату, потому что эта чужая женщина вроде бы говорила только по-фински, а тата знал этот язык, он ведь в своё время разговаривал с самим Пааво Нурми!
— Не беспокойся, папа, брат умеет с людьми разговаривать, — успокаивала дедушку тётя Лийли. — А сковороду мы принесём обратно, чего бы это ни стоило!
— Со сковородой или на сковороде! — пошутил папа и подмигнул мне.
Взрослые пили кофе, а я сладкую воду, в которой растворили немного варенья. И выпила так много, что мне пришлось аж два раза ходить с бабушкой в сортир во дворе. Без папы было так скучно сидеть за столом, что я даже обрадовалась, когда мне захотелось по-маленькому — это была весомая причина выйти из-за стола. Когда заворачивали за угол к сортиру, я глянула на дорогу: может, папа и тётя Лийли уже видны за кустами?
Наконец, они вернулись, но сковороду не принесли. У тёти глаза были красные, словно бы заплаканные, а папа не сразу принялся рассказывать.
— Не отдала сковороду, да? Так я и знала! — злорадно закричала тётя Анне. — Потаскухи — они все такие: что к ним попало, пиши пропало! Приезжают к нам, в Эстонию, распоясываться: всё моё, всё моё! В магазине тоже стремятся лезть без очереди, ещё и утверждают: «Я тут стояла!»
— Ты не начинай свой вздор молоть! — хмуро сказала тётя Лийли. — Это порядочная женщина, еле-еле из Карелии ноги унесла. У неё всё сверкает чистотой. Думаешь, чем она занималась, когда мы пришли? Отдраивала песком мамину сковороду. Песком — потому что мыло ей надо экономить. И дети тоже абсолютно чистые, в заплатанной одежде, но чистой! Одна из них девочка, её, опасаясь вшей, тоже остригли наголо, как мальчишку. Их отца прямо у них во дворе застрелили, на глазах у детей — оказал русским сопротивление, когда пришли их из дома выселять…
— Неподалеку от Сортовалы. Я там бывал, красивые места, на берегу Ладожского озера, — сказал тата. — В основном этих ингерманландцев и финнов выслали оттуда в Сибирь, но некоторым удалось добраться до Эстонии. В нашей школе учатся несколько финнов.
— Эта Хильма устроилась в колхоз «Вийснурк» дояркой, но зарплаты ещё не получала… Только это копейки, то, что выдают на трудодни, на них душа в теле не продержится, — считала тётя Лийли.
— Ох, господи, и о чём этот Сталин только думает? Может, он вовсе и не человек, может, вовсе сатана? — сказала бабушка.
— За сковороду заплатить обещала? — поинтересовалась тётя Ида.
Никто не ответил. У всех рот был занят бабушкиным морковным пирогом.
Чуть погодя тётя Лийли сказала:
— Послушай, мама, у тебя там, на магазинной половине, несколько вполне приличных кастрюль — может, дашь одну-две попользоваться этой ингерманландке?
— А что, пирога больше никто не хочет? — спросила бабушка, не глядя на тётю Лийли. — у меня на кухне есть ещё.
— Мама? — произнесла вопросительно тётя Лийли.
— Ну что «мама» и «мама»! Сама взрослая и знаешь, что делаешь, — сказала бабушка. — Только не бери эту кастрюлю с толстым дном, она у меня для варки варенья. И прежде вымой кастрюлю как следует, а то ещё расцарапает все стенки песком.
Самым замечательным было то, что мне позволили пойти с тётей Лийли — дали даже завернутый в бумагу кусок пирога, чтобы я не пришла туда с пустыми руками.
Кати-утешительница
Мне очень-очень хотелось увидеть, как ингерманландка Хильма драит песком бабушкину сковороду. До сих пор я знала, что песок ничего не делает чистым, а как раз наоборот — когда я летом после игры в песочнице приходила домой, мама, тяжко вздохнув, кидала в корыто для стирки и мои штанишки, и чулки, а домашние тапочки нельзя было надевать, пока не вымоешь губкой с мылом песок между пальцами ног.
Но — увы! — сковорода была уже вымыта, а песок, которым её драили, куда-то спрятан. И сама женщина ушла. Тётя Лийли решила, что она ушла в колхоз на вечернюю дойку. В комнате с плитой вещей было совсем мало. Стол, покрытый зелёной клетчатой клеёнкой, две железные кровати, пара стульев и длинная лавка. И вся эта мебель стояла у стен, а посреди комнаты было пусто, словно там собирались устроить танцы!
Дети были дома одни. Хотя они и откинули крючок, на который была заперта дверь, и впустили нас, как козлята в сказке про волка и козлят, но не произносили ни слова, и даже не ответили на наше приветствие. Оба были с серыми глазами и острижены наголо — волосики были совсем-совсем коротенькие… Оба были в длинных штанах с коричневыми полосками — иди пойми, кто из них девочка. И они были чуть поменьше меня.
Тётя поставила кастрюлю на плиту и сказала:
— Это для вашей мамы. — Но решив, что они не поняли, сказала то же по-фински.
Я протянула пакет с пирогом тому их них, кто казался побольше. Но он спрятал руки за спину и смотрел на меня испуганно.
— Бери, бери — это очень вкусно. Бабушка сама пекла!
— Он, наверное, тебя не понимает, — сказала тётя Лийли. — Положи пирог на стол, они съедят, когда мы уйдём.
Мне было ужасно жалко, что я не научилась от папы финскому языку. Только одному самому странному слову он меня научил — «полкупюёра». И это означает «велосипед»! Ну разве не смешно?!
— Пойдем обратно, нас ведь ждут, — сказала тётя Лийли и взяла меня за руку. — Всего хорошего, дети!
Я тоже сказала «Всего хорошего!». Произнесла очень медленно, чтобы ингерманландские дети поняли. И уже у двери крикнула дружелюбно на чистейшем финском языке:
— Полкупюёра! Пааво Нурми!
Но эти ингерманландцы бессловесные, похоже, и по-фински не понимали, выражение их лиц никак не изменилось!
За то время, пока нас не было, родня, посоветовавшись, решила, что меня оставят
ночевать у бабушки с дедушкой. Обычно мне очень нравилось ночевать в чужом месте, например, в городе у тёти Лийли на улице Юласе на полу, и ещё я смутно помнила, как барахталась в сене у бабушки Мари в коровнике на сеновале. Но тогда я спала между мамой и папой, а теперь папа должен был вернуться домой, оставив меня в Йыгисоо.
— Только на денёк-другой, — сказал он. — Пока мама не вернётся, и дома опять всё будет в порядке.
— Я хочу домой! — меня одолевал плач.
— Дома у нас нет почти никакой еды, а у бабушки есть для тебя много хорошего и вкусного, — соблазнял меня тата. — Да и последний автобус на Лихула уже ушёл. Я попытаюсь добраться какой-нибудь попутной машиной, а дети в кузове грузовика не ездят. Завтра у меня долгий рабочий день, как ты одна справишься в холодном-то доме?
— Пожалуйста! Ну, пожалуйста, возьми меня с собой! — клянчила я. — Я буду сейчас ужасно хорошим ребёнком, честное слово!
Я ухватила тату за штанину и не отпускала, как остальные ни старались меня утешить или приказать мне.
— Ишь, какая чертовка, — удивлялась тётя Ида. — Я всегда говорила, что собаку легче воспитывать, чем ребёнка.
— Ты обещала стать хорошим ребёнком, — сказал папа и голос у него был очень строгим, — а хороший ребёнок разве так капризничает?
Хороший ребёнок вообще не капризничает, это я распрекрасно знала. Но потихоньку продолжала сопротивляться и не успокоилась до тех пор, пока бабушка не показала мне одну удивительную вещь. Это была светло-розовая голова куклы! С красивым маленьким ротиком и большими голубыми глазами — лёгкая, как воздух! Лицо у неё было гладкое, и она пахла совсем иначе, чем все другое в доме бабушки и дедушки. Ниже шеи у неё как бы начинались плечи, и в них красовались четыре маленькие дырочки — по одной на каждом углу.
— Когда все уйдут, мы с тобой сошьём кукле тельце, — пообещала бабушка.
Это было нечто! Абсолютно своя кукла — да кто такого не захочет! Я наскоро обняла тату и совсем не плакала, когда он, проходя мимо окна, помахал мне рукой. Ох, теперь бы только тётушки побыстрее справились с мытьём посуды и оставили нас с бабушкой в покое!
И когда дедушка взял в углу свою трость, которую он называл «господский шпациршток», и пошёл провожать таллиннскую родню на автобусную остановку, бабушка действительно достала из мешка для тряпок большой лоскут белой материи и расчистила место на обеденном столе. Острым краем мыла она провела на этой материи чёрточки и дуги, затем немного пощёлкала ножницами и села за швейную машинку. У бабушки всё получалось быстро: и шитьё, и выпечка пирогов, и уборка. И что главное — ей нравилось во время работы беседовать! Когда мама и папа сидели за письменным столом со своими бумагами и тетрадями, мне нельзя было приставать к ним с разговорами о всяких пустяках. Но, поди знай, что пустяк, а что не пустяк. Например, если я хотела знать, какая разница между бригадиром и фрикаделькой — пустяк это или нет? Или чем отличается эшелон от одеколона? Или янки и янкуд
[7] — это одно и то же? Всякие непонятные слова можно было услышать и от мамы с папой, и от других людей, но обычно днём мне было некогда раздумывать о них, а вот в вечерней тишине, когда незнакомые слова начинали звучать в памяти, было бы здорово порассуждать о них с мамой и папой. Но не тут-то было! Они считали школьные дела и всякие скучные бумаги более важными, чем значения звучных слов.
А вот бабушка за шитьём охотно рассказывала всякие истории. Например, о том, что в старое время кукол обычно делали из тряпок, а у кукол получше были головки из фарфора. Когда бабушка была маленькой девочкой и жила со своими мамой, папой и старшими братьями в Екатеринбургской губернии, госпожа графиня подарила ей на именины очень красивую головку куклы с розовыми щёчками. И бабушкина мама сшила кукле платье с цветочками.
Имя куклы было Катя — это по-русски то же самое, что Катарина, или по-эстонски Кати.
— Бабушка, а ты, когда была маленькой, не боялась русских?
— Нет. Почему я должна их бояться? Люди как люди, а этот граф, у которого мой отец работал, был красивый и обходительный! Настоящий дворянин! Папа всегда на его день рождения приносил ему первых ранних огурчиков, они как раз в начале марта созревали в парнике, и каждый раз получал в благодарность от графа серебряный рубль. Это тогда были большие деньги! Здесь в Эстонии помещиками были немцы — вот они были заносчивые! В поместье Варангу, где твой тата родился, была одна старая дева, фрейлейн Берта, и она велела каждому, кто попадался ей навстречу, целовать её руку! Это было жутко! Тощая и сморщенная рука. И к этой связке костей ты должен приложиться губами… — У бабушки вздрогнули плечи.
— И ты прикладывалась?
Бабушка прервала шитьё и долго смотрела на меня в упор.
— Да, один-единственный раз… Потом всегда, когда издалека видела, что идет фрейлейн Берта, я пускалась наутёк. Я тогда молодая была, чуть за двадцать. Но Анхен, тётя Анне, она упрямая, ей от папы много раз доставалось за то, что не целовала руку фрейлейн Берты.
— Я думаю, теперь тётя Анне сильнее дедушки…
— Ну, не верю, что она из-за этого держит на него зло, — улыбнулась бабушка.
— А тата получал от дедушки порку? — спросила я, немного страшась, потому что не верила, чтобы папа целовал какую-то тощую руку.
— Ох-ох! Твой тата с малых лет был такой быстрый бегун, что фрейлейн Берта его не смогла бы и заметить, — считала бабушка.
— А тата был хороший ребёнок?
— Хороший ребёнок? Да, вообще-то он был хорошим ребёнком, но из-за его беготни приходилось заниматься им всё время! — рассказывала бабушка, продолжая ногой нажимать на педаль и крутить свою швейную машинку «Зингер». — Однажды мы его целый день искали, я даже подумала, что цыгане увели мальчонку, но наконец один пастушок нашёл его на краю ржаного поля. Этого мальчишку звали Юри-Свинопас, он был немного странным, но твой папа дружбой с ним очень дорожил, они вместе играли коровами и лошадками, сделанными из деревяшек! Не знаю, что было бы, если бы этот Юри-Свинопас не догадался обыскать поля — в Вирумаа тогда были огромные поля, и рожь на них стояла стеной…
Бабушка достала из шкафа вату и плотно напихала её в тело куклы. В руки и ноги куклы она проталкивала вату дедушкиным карандашом, и когда всё это было сделано, она пришила голову Кати к туловищу — те четыре дырочки на концах плечей были как раз для того, чтобы можно было голову прикрепить. Кукла получилась как настоящая! Правда, пальцев на руках и ногах у неё не было. Но ладошки были так ловко прошиты, что казалось, она просто держит пальцы вместе.
— Спасибо! А ты Кати и одежду сошьёшь? — спросил я, прижав куклу.
— Ого! Ты и имя ей выбрала? — усмехнулась бабушка. — Платье я сошью ей завтра, а теперь будем устраиваться спать. Видишь, у дедушки глаза слипаются. Ты будешь спать со мной, верно? Теперь сходим в сортир и вымоем тебя, тогда придёт хороший сон.
Но сон-то как раз никак не хотел приходить.
Ночь и краковяк
Многие вещи, которые при дневном свете очень красивые, ночью делаются совсем устрашающими. Например, серебряные шарики на спинке бабушкиной кровати. Я не была уверена, что две точки, время от времени сверкающие в темноте, — это и есть шарики на спинке кровати. Может, это посверкивает своими глазищами большой злой волк, может, он тихонько подкрался и только ждёт удобного момента, чтобы наброситься и проглотить нас с бабушкой живьём. Так ведь случилось с одной известной бабушкой и внучкой… Имя Красной Шапочки я даже не хотела произносить, ибо с этим именем неразрывно был связан тот мерзкий злой волк, который проглатывал людей живьём и целиком.
Ну да ладно, конечно, это не самое ужасное, если тебя заглотнут целиком и живьём, гораздо страшнее, если мертвой и по кусочкам, потому что тогда охотник не сможет спасти нас с бабушкой, разрезав волку брюхо.
У таты в кухонном ящике был очень острый финский нож, такой острый, что им можно было бы даже разрезать надвое волос с головы. Так он не раз говорил. Тата наверняка смог бы справиться с волком!
Когда я подумала о папе, настроение у меня совсем испортилось. Эта грусть подступала ко мне уже тогда, когда бабушка учила меня молитве на ночь: она была совсем ошеломлена тем, что мама с папой («а сами образованные люди!») перед сном только целовали меня и гладили по головке, а о вечерней молитве даже ни малейшего представления не дали.
— Устала я, хочу вздохнуть и заснуть, — повторяла я вслед за бабушкой. — Отец небесный, одари меня своей милостью.
Я-то считала, что дышу всё время и без того, чтобы заснуть, да уж ладно, именно из-за странного упоминания про «вздохнуть» молитва и запомнилась. Но там были и другие слова, которые сделали меня очень грустной: «Одари своей заботой всех моих родственников. Всё прими во внимание — и большое, и малое».
Я словно увидела потолок нашей спальни — то место, где длинные человечки стояли по пояс в тумане. Самый высокий их них вполне мог быть Отцом небесным — и как раз сейчас он взял под свою заботу маму и тату, но меня-то он не видел, ведь Йыгисоо так далеко от нашего дома!
Я подумала о нашей лилово-пёстрой кухонной двери — она больше не казалась такой жутко замызганной… Всё-таки мама поступила некрасиво, уехав с этими русскими дядьками и оставив нас с папой вдвоём. Да и тата не слишком хорошо поступил, уехав обратно в Руйла один, без меня. И что тогда будет, если они оба — и мама и тата — забудут меня здесь, в Йыгисоо?
— Мама-тата, согрейте! — позвала я тихонечко. Это был зов, который обычно действовал, но здесь, в Йыгисоо, от него не было проку.
Дедушка храпел, бабушка посапывала, а между оконными гардинами осталась щель, через которую проникал подозрительный бледно-желтоватый свет. Мама и тата никогда не оставляют просвет между гардинами, благодаря мне они давно знают, что просветы между гардинами ужасно опасные: именно через них могут заглядывать чёрные дядьки, злые волки и чёрт знает кто ещё… Например, сами черти. Или старый сатана — тот, который ночью приходит за теми, кто днём поминали чёрта. Бабушка вообще-то человек очень аккуратный, но в задергивании гардин была очень небрежной. Лучше бы оставляла окно вовсе не задёрнутым — сразу было бы видно, что чёрные дядьки подкарауливают нас! А просвет — ой, просвет! — страшное дело, через него можно подглядывать одним злым глазом, так что находящиеся в комнате и не узнают, кто подсматривает!
Через такой просвет злые существа могут и в комнату проникнуть, даже если на зиму поставлены вторые рамы, да и мало ли что! Проникнут в комнату, заставят ребёнка-горемыку молчать и увезут дедушку и бабушку в Сибирь…
И вдруг я увидела, что одно злое существо уже проникло в комнату, присело в темноте на корточки и широко оскалилось, обнажив зубы! Маленькие, но сверкающие и острые зубы!.. Я почувствовала, как мои ноги, обе, покрылись от страха потом.
— Помогите! Помогите!
Бабушка проснулась и села, и дедушка перестал храпеть.
— Помогите!
Я крепко обхватила бабушку за шею.
— Пожалуйста, ну, пожалуйста, не уходи с чёрными дядьками!
— Да успокойся, никуда я не уйду, — пообещала бабушка.
— Что вы там расшумелись среди ночи, — проворчал дедушка.
— Замолчите!
— Чёрные дядьки были тут, в комнате!
— Что такое? Минна, этот ребёнок совсем рехнулся, что ли? Бабушка, спавшая на кровати с краю, чтобы я не упала, села, спустив ноги на пол, и потянулась. Затем она встала.
— Будь спокойна, я пойду, сделаю тебе сладкой воды.
— Не уходи! — Я обхватила её. — Чёрные дядьки уведут тебя!
Я больше не могла спать и начала икать.
— Минна, сделай что-нибудь с этим ребёнком. Я хочу спать! — рассердился дедушка.
Бабушка мягко отвела мои руки и пошла… прямо в сторону этих сверкавших клыков. Затем она щёлкнула выключателем, и комната наполнилась оранжевым светом.
— Ну, детка, где твои чёрные дядьки? — спросила бабушка.
— Там, за окном! — радостно крикнула я, потому что тайна сверкающих клыков прояснилась в единый миг: это были мамины хрустальные бусы, которые я, ложась спать, положила на стол. Брр, в темноте я не осмелилась бы больше надеть их на шею!
Бабушка подошла к окну и выглянула между гардинами.
— Нет там никого! Луна, видишь, большая и круглая, наверное, это и нагнало на тебя страху.
— Задёрни теперь гардины поплотнее, чтобы просвета не было! — потребовала я. — Что я буду делать, если и тебя с дедушкой тоже увезут?
— Сумасшедший ребёнок! — недовольно ворчал дедушка. — Совсем ненормальная!
Но бабушка попыталась его успокоить:
— Да ты сам подумай. Девочка видела, как бабушку Мари увозили, а теперь и Хельмес тоже! Ты и сам не спал ночами, сидел в сапогах и в пиджаке, когда самое большое выселение было…
— Она взяла со спинки стула свою большую шаль, накинула на плечи и пошла в кухню.
— Не уходи! Не…
Дедушка встал с постели и стоял передо мной.
— Была бы ты моим ребёнком, я тебя сейчас как следует выпорол бы! Берёзовая каша — самое лучшее лекарство для плохих детей! Тут где-то должен быть мой ремень…
— Меня нельзя бить ремнём!
— Ну, в старину говорили, что с поркой через попку в голову приходит разум, — продолжал ворчать дедушка.
— Роберт! — крикнула бабушка из кухни.
— Попробуй только меня пороть! Рубцы останутся, и тогда тебе попадёт от таты!
Дедушка с открытым ртом уставился на меня.
— Ах, рубцы останутся! Рубцы! Слыхала, Минна? Хо-хо-хо! Рубцы! Да где ты это слово слышала? Хо-хо-хо! — смеялся он так, что на глазах выступили слезы.
Странное дело, но слово «рубцы» увело мысли дедушки куда-то в сторону и неожиданно вызвало у него такое весёлое настроение, что когда я выпила приготовленную бабушкой сладкую воду и сходила по-маленькому на помойное ведро (на дворе ведь было темно и холодно), он спросил у меня уже без всякой сердитости:
— Скажи, как твои папа с мамой поступают, когда на тебя находят такие приступы паники? Что у вас дома в таких случаях делается?
Что такое приступы паники, я и понятия не имела, но подумала: надо бы предложить дедушке что-то весёленькое, чтобы он опять не начал говорить о берёзовой каше. — у нас… у нас поют и танцуют!
Это не было неправдой. С мамой мы танцевали часто такие танцы, как «Присядь» и «Ох, прыгай, медвежонок!», а папа учил меня танцевать «Каэра-Яан»
[8]. Мы с ним и танго танцевали, но бывало и так, что танцевал папа, а меня держал на руках. «Когда тихо в ночи звучит танго-нотюрно, я в мечтаньях своих обнимаю тебя…» Маму наши танцы смешили, потому что тата делал разные странные движения и неожиданные резкие повороты, которым и я научилась подражать.
Дедушка таких танцев, как «Присядь» и «Ох, прыгай, медвежонок!», не знал, танцевать танго он когда-то немного умел, но теперь всё позабыл, но «Каэра-Яан» помнил. Он схватил бабушку за руки, заставил её подпрыгивать и пел: «Ой, Каэра-Яан, Каэра-Яан…»
Бабушка отмахивалась и пыталась вырваться из дедушкиных объятий.
— Чего ты отбиваешься — «Каэра-Яан» хотели в эстонское время сделать бальным танцем. Во! — смеялся дедушка. — Ну ладно — станцуем тогда маленький краковяк!
И дедушка, хлопнув в ладоши, взял бабушку за руку и начал новый танец, напевая:
Вот этот танец — краковяк
я не переношу никак!
Выглядело очень забавно, как они вдвоём танцевали среди ночи — бабушка в просторной ночной рубашке и с большой шалью на плечах, дедушка в длинных белых подштанниках. Наконец запела и бабушка, кажется, по-русски:
Русский, немец и поляк
танцевали краковяк.
А эстонец-то — дурак,
не умеет краковяк!
В животе у меня немножко свербило от страха, но на всякий случай я не стала спрашивать, не на русском ли языке они пели. А вдруг на русском? Но от бабушкиной сладкой воды я позабыла свои страхи, и глаза у меня начали, наконец, слипаться… Пусть эти забавные старые люди скачут хоть всю ночь напролёт, если им больше нечем заняться!
Немножко времени?
Когда я была у бабушки с дедушкой, время тянулось жутко долго. Ночь за ночью приходилось спать рядом с бабушкой, пока однажды не пришли из Народного дома и не сказали, что тата позвонит через час, и нам надо быть в канцелярии, ждать звонка. Народный дом был большим и важным тёмно-красным зданием, он стоял очень близко от нас — через дорогу. Его построили жители Йыгисоо и всей округи в эстонское время, когда тата был ещё мальчишкой. В Народном доме он выучился играть на тромбоне, участвовал в представлении разных пьес и ходил на всякие курсы. Там учили всему, начиная с гримирования (так называют раскрашивание лица) и кончая художественным вышиванием — от этого занятия тётя Лийли была в восторге. Раньше, когда мы приезжали к дедушке с бабушкой, я часто ходила с татой в Народный дом. Поначалу я прямо-таки стремилась туда, потому что мне очень хотелось увидеть «Миккумярди» и «Сватовство» и разные другие захватывающие представления — «спектакли», о которых мне рассказывал тата. И я была сильно разочарована, когда ни на сцене, ни за сценой не оказалось ни одной деревенской девушки с волосами из пакли и с красными щеками, поющей «В пастолах мульк
[9] за мызою отплясывает с Лийзою». За сценой стояли лишь огромные пожелтевшие рулоны бумаги. Мы с папой немного развернули один — там были нарисованы красивые берёзы с белыми стволами. Да, лучшие дни этого дома прошли ещё до того, как я родилась!
Но дом не стоял пустой! В одном его краю была библиотека, а в двух-трех помещениях шла школьная работа. Но мы с дедушкой поспешили в канцелярию. Там на стене висела такая интересная машинка на блестящей лакированной деревянной дощечке — телефонный аппарат. Точно такой же был и в Руйлаской школе. И чтобы позвонить, надо было снять трубку и покрутить ручку, пока не зазвякает звоночек — два раза долго и два раза коротко — и сразу ответит тётя-телефонистка с центральной станции в Рийзипере. Тогда надо сказать ясно и громко номер, и даже полчаса не пройдёт, как уже можно разговаривать по телефону. Звонить по телефону было важным делом, и это делали не так часто. В домах, где жили, телефонов не было, только на работе, а там долго болтать нельзя!
Голос таты я, конечно, узнала сразу, хотя в телефонной трубке что-то трещало и щёлкало — может, телефонные провода раскачивал ветер, и они задевали за ветки деревьев, а может, какая-нибудь ворона или сорока садилась на миг на провода — отдохнуть. Несмотря ни на что, голос таты был родным и милым и звучал более молодо, чем при обычном разговоре без телефона. На меня нашла ужасная тоска по дому, а к горлу подступал плач, когда тата бодро кричал:
— Не горюй, дочурка, скоро приеду за тобой! Дело в том, что я ещё не увиделся с нашей мамой, вышло так, что она сначала поехала в Кейла. А теперь уже в Таллинне…
— У Лийли или у Анне?…
— М-м… Нет, совсем у чужих людей. Так что пройдёт ещё немного времени, пока ты сможешь вернуться домой.
— Ага.
У взрослых много слов, чтобы определять время: минута, час, день, неделя, месяц… Кроме того, придуманы такие слова, как «миг», «момент» и «мгновение»… И означают не всегда одно и то же. Один «миг» может длиться так долго, что ты успеешь намочить штаны или безнадежно запутать шнурки ботинок. «Немножко времени» может иногда длиться лишь мгновение. Когда, например, скажут: «Поиграй еще немножко в песочнице», можешь быть уверена, что это «немножко» закончится сразу и поиграть толком не успеешь. Но только договоришься с папой покататься на финских санках, то мгновение спустя заходит на «немножко времени» кто-то из его друзей, и можешь быть уверена, что это «немножко» продлится до позднего вечера, и надо ждать, как в песне про «ридирай», до последнего мгновения, а то и дольше!
— Совсем немножко? — допытывалась я у папы. — Сколько раз мне ещё тут ночевать?
Тата рассмеялся.
— Ну, может, один, а может, два… Если не смогу приехать за тобой завтра, приеду послезавтра. Видишь ли, завтра я должен поехать с тётей Людмилой в город, привезти учителям зарплату. Она одна боится.
— Я тоже боюсь…
— Тебе бояться нечего, бабушка с дедушкой о тебе заботятся.
— Дедушка обещал меня выпороть, а у бабушки, сам знаешь, на ногах жуткие кровяные жилы.
— Тогда ты должна заботиться о ней! — поучал папа. — Будь хорошим ребёнком и отдай трубку дедушке, ладно! Обнимаю тебя!
— А я тебя. Целую. Приезжай, пожалуйста, быстро-быстро, ладно?
Передавая трубку дедушке, я не осмеливалась посмотреть на него. Да, это было некрасиво, что я пожаловалась на него папе. Ведь после той ночи с краковяком разговора о порке больше не было.
Но дедушка, похоже, не обратил внимания на мои слова; взяв трубку, он распрямился и крикнул важным гулким голосом: «Роберт Тунгал слушает!»
Маму и папу всегда веселили дедушкины открытки с поздравлениями к Новому году или ко дню рождения, потому что его пожелания всегда были забавными, но подпись всегда была аккуратной и серьёзной. На последней из таких открыток к моему дню рождению были две смешные пятнистые собаки — одна зевала, а другая вроде бы чихала, и на оборотной стороне открытки он написал: «У собаки всегда собачье счастье. Надеюсь, что и у тебя. Любимую внучку поздравляют бабушка и дедушка Р. Тунгал».
И к разговору по телефону дедушка отнёсся весьма серьёзно. Но, похоже, тата сказал ему что-то такое, от чего он опять ссутулился, поглядел по сторонам и опустился на стул.
Похоже, у дедушки не было охоты тратить на телефонный разговор много слов. Он отвечал папе серьёзно и коротко: «Понял. Ясно. Будем надеяться. До свидания! Всего хорошего! Конец разговора».
На обратном пути дедушка почти не обращал на меня внимания, сказал только: «Будь разумной!», когда я предложила ему посоревноваться в перепрыгивании через лужи. «Шпациршток», который он обычно брал с собой просто для важности, теперь не выглядел и вполовину таким примечательным, как раньше, похоже было, что теперь он и впрямь не мог бы идти без него, хотя дорога вовсе не была скользкой, льда на ней совсем не было.
— Потом тебе расскажу, — ответил он бабушке, когда она спросила у него, какие у таты новости. — Я теперь прилягу, что-то мне нездоровится.
Пока дедушка лежал, мы с бабушкой и Кай ели булочки с корицей, которые бабушка успели испечь, пока нас не было.
— Странно, — сказала бабушка. — Пять часов, а папа не просит чая.
Кай нельзя было давать те кусочки, на которых была корица, и мне пришлось повозиться, очищая их. За это старая гончая очень мило приседала. Кай не была такой бесчувственной, как казалось с виду: утром я увидела, что она забрала лежавшую рядом со мной в постели куклу и отнесла её на свое кресло! Но я не обиделась на неё за это. Я бы с удовольствием играла с куклой вместе с Кай, но, к сожалению, Кай ничего не умела делать с куклой, кроме как держать её в зубах.
Я взяла Кати подмышку и пошла в комнату посмотреть, не легла ли и бабушка отдохнуть. Но нет, она сидела возле дедушки на кровати и слушала. И тогда я тоже осталась послушать.
— Мне и впрямь стало нехорошо, — говорил дедушка тихим голосом.
— Феликс сказал, что, когда он приехал в Кейла, узнал там, что Хельмес уже увезли в Таллинн на предварительное следствие. А на Пагари
[10] его и в здание не пустили, велели ждать письменного извещения. В конце концов кто-то сказал, что она уже в тюрьме Патарей.
— Главное, что жива, — сказала бабушка.
— Жива, да… Но знаешь, я подумал, а вдруг она от Феликса что-то утаила. Может, она и в самом деле совершила какое-то страшное преступление? — рассуждал дедушка. — Тихая, уравновешенная… Но разве человеку в душу заглянешь? В тихом омуте черти водятся…
— Ах, не говори глупостей! — рассердилась бабушка. — Хельмес — женщина образованная.
— Образованная или нет, а почему её всё-таки забрали? Я всегда говорил, что в нашем роду нет ни грабителей, ни убийц, ни коммунистов, а видишь, сноха сидит сейчас в тюрьме!..
— Время такое… Сам знаешь, Эйно далеко, в лагере для заключённых, а ведь он не был ни вором, ни убийцей. Ты был очень доволен, когда сын стал волостным писарем.
— Это совсем другое дело! — резко возразил дедушка. — Эйно выписывал паспорта «лесным братьям», для красных это большое преступление.
— Они все были его школьными товарищами, с детства вместе росли, разве он мог им отказать? — сказала бабушка чуть не плача. — И у Эйно нога больная, как он там, в лагере, выдержит десять лет!
— Не начинай опять! — рассердился дедушка. — Скоро Эстония снова будет свободной, тогда Эйно дадут медаль за то, что он сделал. Тогда он поступит учиться на врача в Тартуский университет, как раньше планировал. А теперь дело такое, что медали Феликса надо уничтожить. Он сказал, что следователь начал проявлять интерес и к его делам, и тогда он вспомнил, что часть его дипломов и медалей остались тут, у нас. Он беспокоится, что из-за этого могут и нас в Сибирь отправить, поэтому и позвонил…
— И вовсе не так! Тата потому позвонил, что скоро приедет за мной! — не смогла я промолчать.
Дедушка и бабушка переглянулись.
— И моя мама не грабитель, не убийца и не коммунистка!
— Ну ты, всезнайка! Подслушиваешь, как энкаведэ! — рассердилась бабушка и встала с постели.
Мне дали посмотреть большую пачку старых эстонских журналов — «Марет», «Для всех» и «Эстонская женщина», в них было много картинок, и некоторые были очень красивые, а дедушка с бабушкой занялись чем-то у письменного стола. Через некоторое время бабушка спросила:
— Хочешь пойти прогуляться?
Прогуляться?! Это слово сразу поставило нас с Кай на ноги!
— Пойдём посмотрим, растаял ли лёд на реке, — предложила бабушка.
До реки и до моста было недалеко. Кай деловито обнюхивала обочины дороги, словно искала заячьи следы, то и дело подбегала к нам, будто хотела сообщить: «Извините, но в той канаве не было ни одного зайца!»
Льда на реке не было видно, кроме как у камышей, а река была гораздо шире, чем летом. И вода в ней была какая-то другая — не светло-серая и спокойная, как обычно, а жёлто-коричневая и текла быстро.
Бабушка оглянулась, достала из кармана пальто что-то, обёрнутое клетчатой материей, и кинула его в реку. Кай, услыхав, как свёрток плюхнулся в воду, сделала стойку и смотрела туда, словно собираясь прыгнуть за ним в воду, но, наверное, вспомнила, что она ведь гончая, а не спасательная собака, и села между нами.
— Что это было, бабушка? — заинтересовалась я.
Она ответила не сразу, а продолжала смотреть на воду, словно ожидая, не всплывёт ли свёрток. Но он не всплыл.
— Ах, так… ничего… Поговорим об этом как-нибудь в другой раз, — пообещала она. — Теперь быстренько пойдём домой и сделаем чай с малиной. Я что-то продрогла.
Конечно, стало прохладно, и я не хотела слышать, чтобы меня опять прозвали «всезнайкой», поэтому я сжала губы и тихонько поплелась рядом с бабушкой, как послушный ребёнок.
К счастью, в доме было очень тепло, дедушка опять протопил печь. Уже второй раз в этот день.
Медали и собаки
Позже выяснилось, что тате было очень жалко своих медалей. Я и сама догадалась, что дело не чисто, когда бабушка, человек очень аккуратный, не разрешавшая мне даже камешки кидать в реку, вдруг ни с того ни с сего швырнула какой-то свёрток — плюх! — в воду.
Тата иной раз, чтобы развлечь меня, бросал камушек так, что он разок-другой прыгал по поверхности воды, прежде чем булькнуть и уйти на дно. Тата называл это «делать блинчики». Но бабушка просто кинула, и по её таинственному виду я поняла, что происходит нечто сомнительное. И вот оказалось, что она, не раздумывая, выбросила в реку папины спортивные медали.
Когда у них с татой зашёл об этом разговор, дедушка вступился за бабушку:
— Ты сам сказал, что безопасность может к нам нагрянуть с обыском, и велел на всякий случай спрятать медали в надёжное место!
— Да, и дно реки, по-вашему, и есть это самое надёжное место? — усмехнулся тата. — Ну да ладно, теперь их оттуда не достать, что об этом говорить. Что пропало, то пропало…
— Если надо выбирать — или медали в ящике, или ссылка в Сибирь — долго рассуждать не требуется, — уверял дедушка.
— Да, конечно, — сказал тата и принялся за бабушкин пирог с капустой.
По мнению бабушки, да и по моему тоже, тата сильно похудел, хотя лицо его раскраснелось от езды на мотоцикле. Тата смог привести свой мотоцикл в порядок и приехал на нём за мной. И даже про мою «баковую» подушку вспомнил.
Езда на мотоцикле мне очень нравилась, но папа не осмеливался посадить меня на заднее сиденье — оно было большое и покрыто скользкой кожей. Когда я сидела впереди, на бензобаке, — чувствовала себя очень надёжно, но когда мы ехали через ямки на дороге, очень подбрасывало. Поэтому мама сделала для меня маленькую подушку, чтобы класть на бак. Внутри подушки мягкие перья, а наволочка вышита крестиком. Дома было так, что когда мы слышали тарахтение папиного мотоцикла — пык-пык-пык! — я сразу бросалась с собаками папе навстречу. Чем больше мы успевали пробежать, тем длиннее путь я могла проехать, и тем торжественнее был собачий лай, под аккомпанемент которого тата прибывал домой. Туям хотя и такса — собачка маленькая, голос у него низкий и солидный. А Сирка заливалась звонким голосом. «Как коровий колокольчик», — говорил про её лай тата. У Сиркиного дяди Краппа голос был ещё звонче, но он своё отлаял до моего рождения.
Историю Краппа мне нравилось слушать, кто бы ее ни рассказывал — тата, дедушка или бабушка. В их рассказах были небольшие расхождения, и хотя конец истории был очень грустным, но красивым.
Крапп всей душой и телом был предан тате — ведь и он был страстный охотник и, выслеживая зайцев, мог бродить в лесу без еды и питья целый день, утопая в сугробах. К весне, когда снег покрылся твёрдой ледяной корочкой, папа сшил Краппу тапочки из овчины, чтобы наст не ранил псу ноги. К концу охоты очень редко бывало, что у пса на лапах оставался один тапочек или два, но никогда лапы не были в крови, как это случается иногда с другими охотничьими собаками. Когда тата был молодой, он ездил на работу в город и обычно на всю неделю оставался в своей холостяцкой квартире на улице Лийвалайа, но круглый год он приезжал по субботам навестить своих папу с мамой. Весной и летом ездить было легче, и тогда он приезжал чуть ли не каждый день. Крапп уразумел, что папин автобус прибывает на остановку в Йыгисоо в половине шестого и каждый день прибегал точно к половине шестого на автобусную остановку и ждал там, глядя в сторону Таллинна. Когда автобус прибывал, но его друга в нем не оказывалось, Крапп понуро возвращался домой. Но в те дни, когда тата приезжал, пёс был вне себя от радости, прыгал и вставал на задние лапы, и бегал взад-вперёд, словно щенок, мчался на минутку к дедушке с бабушкой, чтобы дать им знать о прибытии сына, и снова возвращался к тате, чтобы вместе с ним, радостно подпрыгивая, идти к дому. Кай тоже любила тату, но о времени прибытия автобуса и понятия не имела. Обычно она оживлялась лишь тогда, когда дедушка и тата смазывали ружья и натягивали охотничьи сапоги.
Затем настало страшное военное время. Тата нипочем не хотел идти на войну, но куда денешься: ему угрожали, что если он не пойдёт на войну, его посадят в тюрьму, а дедушку и бабушку сошлют в Сибирь. И ему не оставалось ничего другого, как надеть эстонский кавалерийский мундир с красными штанами, потому что иной одежды для таких рослых мужчин на складе уже не было, и идти на поезд. Мама махала ему вслед рукой, а меня тогда ещё не было… Если бы я уже была, тата наверняка куда-нибудь спрятался бы, чтобы не идти на войну, голодать, быть раненым и ещё разное всякое… Это была жутко ужасная война и длилась долго-долго, целых несколько лет. Тату отправили в этом летнем кавалерийском мундире эстонского времени в Россию на лесные работы, где есть не давали, и очень много эстонцев от голода опухли и умерли… Но тата выжил, потому что он был крепкий спортсмен, не пил и не курил. И он немножко знал английский и русский языки, и стал переводчиком у Джона, который был американским моряком и был коричневым, будто из шоколада. Джону нравилась одна русская девушка Надя, и тата помогал им разговаривать, и Джон в благодарность давал ему американские консервы… Так что в городе Архангельске тата выжил благодаря чернокожему Джону. И потом тата был санитаром и возил на телегах с лошадьми раненых, а потом начал играть на трубе в оркестре. Однажды его обстреляли из самолета, и он лежал в госпитале, и пил еловую настойку, а в другой раз осколок бомбы разрезал ему икру пополам.
Но потом война, к счастью, закончилась, и тата смог вернуться в Эстонию. Он не знал, живет ли мама на старом месте, потому что невест и жён многих его военных друзей увезли в Германию, и поэтому он сразу приехал к дедушке и бабушке. Для бабушки он приберёг немножко сахару: завёрнутый в газету, он лежал у него в кармане шинели. В России по радио рассказывали, что во время немецкой оккупации половина эстонцев убита, а половина уморена голодом, но тата надеялся, что бабушка всё-таки жива и наверняка сможет сварить малиновый чай — вот она обрадуется, когда сможет положить туда немножко сахару.
Крапп тогда сидел возле крыльца на цепи, потому что у Кай было как раз время течки, и тогда нельзя собакам быть вместе. Но когда тата добрался до Таллинна, и оттуда на попутной машине до Йыгисоо, бабушка как раз пекла пирог с капустой к пятичасовому чаю, так что пирогом приятно пахло уже во дворе. Крапп от радости буквально сошёл с ума, он сначала разок гавкнул, а потом положил передние лапы на плечи таты и почти человеческим голосом смеялся и плакал, и из глаз его текли ясные большие слезы.
Бабушка заметила через окно, что кто-то стоит около Краппа, и крикнула дедушке:
— Странное дело творится: какой-то русский солдат, словно безумный, обнимает нашу собаку, и Крапп будто с ума свихнулся! Пойди, папа, посмотри, что там такое.
Дедушка открыл дверь и крикнул по-русски: «Извините!», но сразу догадался, что это вовсе не русский солдат, а мой тата, который был в солдатской шинели. И тогда они все начали плакать — от большой радости. Когда бабушка рассказывала эту историю, у неё всегда на глазах появлялись слезы — особенно тогда, когда он вспоминала те пять замызганных кусочков сахара, которые тата принёс ей в подарок. Этот сахар отдали Краппу и Кай.
До этого места история была такой красивой, ну прямо как сказка. Но конец был совсем не сказочным. В конце сказки должно быть так: «И тогда они счастливо зажили и живут, может быть, ещё и теперь, если не умерли». Но Крапп даже не успел съесть свой кусочек сахара, под вечер он умер… Бабушка считала, что у него от большой радости случился разрыв сердца, но дедушка сказал, что ему уже было много лет, долго ли может жить такая хорошая работящая собака. Тата даже и говорить не хотел о смерти Краппа, и, по-моему, это было правильно, ибо этой истории больше подходил такой конец, что «Крапп, наверное, живёт до сих пор, если не умер».
Про Краппа взрослые вспомнили и в этот раз, когда папа послал меня в комнату собирать свои вещи и тихо сказал бабушке:
— Туям исчез. Мы с Сиркой два дня его искали, но нигде не нашли…
— А может, его волки утащили? — спросила дедушка. — Сейчас в лесах полно волков, ведь граница-то с Россией открыта….
— А может, убежал куда-то на собачью свадьбу? — предположила бабушка.
— Не думаю — у Сирки течка только что кончилась… — сказал тата.
— Ну, ведь эта такса уже давно не щенок, вот и пошёл в лес умирать. Старые собаки так делают, — сказал дедушка. — И собаки всерьёз переживают людские горести и радости, вспомни хотя бы смерть Краппа!
— Нельзя так говорить, — сердито закричала я. — Может быть, Туям где-то спрятался под кроватью!
— Опять ты подслушиваешь! Ну, я скажу, этот ребёнок как энкаведэ — всё время ушки на макушке! — засмеялся дедушка. — Моя мать всегда говорила: «Маленькие дети — большие уши!»
— Поедем теперь домой, — сказала я тате. Кукла была у меня подмышкой, а мамины бусы — на шее. Чего ещё ждать? И я была уверена, что тата не сумел искать Ту яма там, где надо было: заглянул разок в холодную комнату, свистнул, стоя на крыльце, — вот и всё.
— Старый добрый «Харлей Давидсон» подан, барышня! — объявил тата. Барышня? Что ещё за барышня? Тата вроде бы не помнил тех важных слов, которые сказала обо мне кондуктор: товарищ ребёнок! Я подумала: ладно, успею напомнить ему об этом — первым делом надо попасть домой.
Ну и упаковали меня — на мне были пальто и шапки, а ещё мне пришлось завернуться в одеяло, только нос торчал наружу и глаза могли видеть. Я чувствовала себя мальчиком с крылышками, выглядывающим из яичной скорлупы, как на дедушкиной почтовой открытке.
Тата сунул полученный от бабушки пакет с пирогом себе за пазуху, поднял меня и посадил на бензобак. Дедушке с бабушкой помахать на прощанье я не могла — шевелила только руками под одеялом, как крылышками.
Снова дома!
До чего приятно было снова оказаться дома! Сирка радостно выбежала нам навстречу и не подумала, как положено старой собаке, помереть с радости от разрыва сердца. Всё было как всегда — может быть, только пыли немного больше, чем раньше, и в комнатах вроде бы холоднее, но ведь у дедушки с бабушкой было очень тепло.
На стоявший под окном круглый стол, покрытый клеёнкой с васильками, тата поставил одну из своих спортивных наград — вазу, из которой выглядывали ивовые веточки с серебристыми цыплятами. Оба ведра для воды были полны, а мусорное ведёрко совершенно пустым. На крючках висели чистые полотенца, а на мыльнице возле таза для умывания лежало новое пахучее розовое мыло. На решётке для посуды сушились тарелки, стаканы и кружки — было видно, что тата старательно наводил дома порядок перед тем, как ехать за мной. Однако и в кухне, и в комнате без мамы всё было немножко по-другому. И Сирка без Туяма была какая-то вялая — мне не приходилось отстранять её от себя, потому что она не очень-то рвалась лизать мой нос, разок провела по нему языком и ушла на подстилку отлеживаться.
— Видишь, дочка, все скучали по тебе и ощущали твоё отсутствие: и Сирка, и кубики, и книжки… И я, конечно, больше всех, — сказал тата.
Я почувствовала, как от удовольствия щёки начали краснеть, и призналась тате:
— Мама должна теперь скоро вернуться — я была у дедушки с бабушкой совершенно хорошим ребёнком. Там было немного скучно, но я почти не капризничала… только один раз… или два…
— Ах, кому охота считать эти разы, — усмехнувшись ответил тата. — Но пока мама вернётся, пройдёт ещё немного времени.
— Энкаведэ, что ли? Русское устройство? — спросила я деловито, хотя на самом деле и понятия не имела, что означают эти слова, просто я подметила, что когда у взрослых шла речь о серьёзных вещах, всегда говорили: «Энкаведэ шуток не понимает» или «А-а, русское устройство!».
— Знаешь что? Сделаем так, что этими словами больше пользоваться не будем, ладно? — сказал тата серьёзно, поднял меня, посадил на стул за письменным столом и продолжил: — Особенно при чужих людях. От них может быть много неприятностей.
— Эту песню, что «энкаведэ — юхайди, юхайда», больше петь не буду! — пообещала я.
— Ох, чёрт возьми! — воскликнул тата. — Этого ещё не хватало! Может быть, к нам в гости опять приедет тот дядя, который приезжал сюда в тот день, когда маму увезли… когда мама уехала. С ним постарайся разговаривать как можно меньше, ладно? Если он что-нибудь спросит, отвечай только «нет» или «да», а ещё лучше скажи: «Я маленькая, я ничего не знаю!» Договорились?
— Угу, — я кивнула со значением, хотя то, что я ничего не знаю, звучало как-то обидно. — А можно я скажу: «Я товарищ ребёнок, я ничего не знаю?»
— Это ещё лучше! — усмехнулся тата. — Товарищ ребёнок — звучит гордо! С большим «те»!
— И я ему не скажу, что твои медали в шкафу, где одежда, в белом мешочке, честное слово!
— Вот чёрт! — тата покачал головой и задумался. — А может, опять отвезти тебя завтра на некоторое время в Йыгисоо?
— Я дала честное слово!
— Ладно, пусть будет, как есть, — сказал тата, но по его лицу было видно, что он мною не очень доволен. Он успел выкурить несколько сигарет, пока я безрезультатно звала и искала Туяма, переходя из комнаты в комнату. В кухне казалось, что такса может свободно лежать себе в спальне под маминой-папиной кроватью, но когда я под кроватью не нашла ничего, кроме пыли, мне вспомнилось, что Туяму иногда нравилось грызть косточки в кухне за бельевым шкафом…
— Золотко, не трать даром силы! — сказал тата, грустно улыбаясь. — Неужели ты думаешь, что я не искал Туяма? Если он жив, то рано или поздно вернётся домой. Но, боюсь, он отправился на лучшие охотничьи угодья и теперь с облаков помахивает нам хвостиком, а у самого на шее круг колбасы.
— Все от нас уходят на лучшие охотничьи угодья! — недовольно пробурчала я.
Тата вздохнул и сказал:
— Можешь ещё немного поиграть, а потом посмотрим, чем поужинать, — и на солому.
Хотя «на солому» звучало заманчиво, я знала, что никакой соломы тата в комнату не принесёт, это просто означает, что мы ляжем спать. Я развязала ленты на косичках и аккуратно, как только могла, намотала их на железную трубку на спинке маминой-папиной кровати. Мама всегда так делала, и утром ленты были совсем гладкими, так что гладить их не требовалось. Конечно, у нас имелся электрический утюг, но он был не в порядке, из-за него часто перегорали пробки, и тогда тате приходилось при свечах долго возиться с проволочками. Хороший ребёнок, к тому же «товарищ ребёнок», не станет ссориться из-за пустяка! Я аккуратно положила мамины украшения обратно в ящик тумбочки у кровати и сама себя похвалила: «Товарищ ребёнок, это заслуживает благодарности!» Мама сказала бы, наверное, иначе: «Гляди-ка, молодец дочка!», но она ведь не знала, что я уже была «товарищ». И если говорить совсем честно, то, может, она даже рассердилась бы, что я без разрешения брала её бусы и брошки и надевала на себя.
Вдруг я почувствовала мамин запах. Пахло возле ночной тумбочки и во всей спальне — такой запах у неё бывал во время праздников и дней рождений. Такой тонкий и мягкий, и немножко цветочный и клубничный…
— Тата, тата! — крикнула я, вбегая в другую комнату. — Мама скоро вернётся домой, её запах уже здесь!
Рука таты повисла в воздухе над счётами.
— Где? Что ты болтаешь!
Когда мы с ним вошли в спальню, запах чувствовался как-то слабее.
— Мм-мм… Я не чувствую никакого запаха, — признался тата.
— Понюхай возле тумбочки!
Папа нагнулся и стал нюхать воздух, как охотничья собака.
— Немножко вроде бы пахнет одеколоном, — сказал он. — Может, ты какую-нибудь бутылочку случайно разбила?
Тата выдвинул ящик тумбочки, но никакой бутылочки не обнаружил. А запах уже почти исчез.
— Дело пахнет так, что тебе пора на боковую! — сказал тата и плотно задёрнул оконные гардины. — Мне надо подсчитать кое-какие школьные счета, потом я тоже лягу.
Странно, что тата не унюхал этот запах! С его большим носом гораздо легче нюхать, чем с моим носиком, который был таким маленьким, что сам тата называл его «кнопочкой». Но когда я, обняв Кати, легла в постель и послушно повернулась на правый бок, почувствовала ещё раз над своей головой облачко этого запаха. Мама не могла быть далеко!
Дома в одиночестве
В комнате было ещё так сумрачно, лицо девушки на потолке было тёмным, как и её шляпа, но папина постель была пустой. Я прислушалась: может, он так ловко залез под одеяло, что я его просто не видела?
— Тата!
Ни ответа, ни привета. Неужели он уже ушел в школу? Часов я пока как следует не знала, но дребезжание будильника наверняка услышала бы. Или ещё ночь?
— Т-тата, уу-уу!
Из кухни послышались звуки — Сирка поднялась на ноги, потянулась, громко зевая, и пошла, постукивая коготками о пол, к двери комнаты. Хорошо хотя бы то, что собака в доме — но вот куда мог запропаститься тата? От страха в животе сделалось холодно, а по ногам наверх побежали, как муравьи, мурашки страха: а вдруг чёрные дядьки ночью увезли тату?
Что же будет? Как мы с Сиркой вдвоём станем жить? Или… а вдруг тата, как Туям, ушёл в лес… умирать?
Ноги у меня дрожали, когда я вылезала из кроватки. Я только недавно научилась перелезать через боковую перекладину, и обычно утренние процедуры начинались с того, что мама или тата, вынимая из кроватки, первым делом поднимали меня вверх и ставили возле неё на барсучью шкуру. Сама я вылезала, если только мне вдруг приспичило на горшок или если хотела послушать, о чём взрослые говорят в гостиной.
Я надела тапочки, подбежала к окну и распахнула гардины. Снаружи было совсем светло. Серебристая ива раскачивала свои висячие ветки, которые были ещё голыми, но всё-таки выглядели немножко веселее, чем раньше. Под деревом чирикали маленькие воробушки, и пара синичек перелетала с ветки на ветку. «Ситсти-клейт! Ситси-клейт!» — перекликались синички весной, это тата объяснил мне уже давно.
С виду всё было обычным и спокойным — только таты нигде не было. Я вспомнила, что папа предупреждал меня об этом противном дядьке, который вместе с вооружёнными дядьками увёз маму. А что, если они ночью вошли тихонько в дом, выпытали у хаты, где спрятаны медали, и увезли его вместе с наградами в Сибирь? Я ни за что не выдала бы этим чёрным дядькам, где находится этот белый мешочек, — я дала тате честное слово, но он сам иногда такой рассеянный, что мог невзначай проговориться…
Дверка одёжного шкафа была чуть приоткрыта, и я смогла без большого труда открыть шкаф. Забралась туда между висящими пиджаками, штанами и платьями — и… так и было, как я боялась! Мешочка из холщёвой материи в шкафу не было! Там были два папиных галстука, которые соскользнули с вешалки для галстуков, и старый мамин ридикюль, в нем хранились какие-то большие бумаги, которые называли хламом, и у них было сложное название: облигации государственного займа… Эти хламные бумаги мама и тата должны были покупать в каждую получку. Совсем выкинуть их или сжечь почему-то не хотели, но их и не берегли, иногда тата давал мне всю пачку — играть в магазин. Иногда мама пересчитывала их и вздыхала: как много денег она и тата тратят на этот хлам. Коричневый ридикюль был на месте со всем содержимым, а белого продолговатого мешочка не было нигде. Не заметить этот мешочек с папиными наградами я не могла, потому что в нем, кроме медалей, были ещё серебряные лопаточки для торта, ножи для масла и пригоршня ложек, на ручках которых были выцарапаны слова и номера. Некоторые из этих ложек тата получил за победы в лыжных гонках, а большинство — за победы в соревнованиях по бегу. Почему эти красивые вещи нельзя было показывать чёрным дядькам, этого я не понимала, но если тата строго запретил, то спорить не было смысла. Может, награды вызвали бы у дядек зависть? Тата ведь завистливым не был — он разрешал мне играть с его медалями, когда мне только хотелось. И довольно много ложек подарил тёте Лийли, когда мешочники из-за Чудского озера похитили из квартиры Лийли и Оття все ценные вещи.
Этих мешочников сама я не видела, однако мне очень хотелось поближе посмотреть, как они выглядят и с какими большими мешками они оттуда, из-за Чудского озера, пришли. А вдруг они со своими мешками, полными серебряных ложек, утонули, когда плыли назад через Чудское озеро? Но с этими захватывающими историями и людьми было как всегда — все они случились до моего рождения…
Походы мешочников прекратились несколько лет назад, но, может, один маленький мешочник всё-таки сохранился и как раз сегодня ночью ограбил наш шкаф для одежды.
Сердце начало ужасно болеть… Эта боль в последнее время то и дело на меня нападала: сначала в горле возникал какой-то вызывавший боль комок, затем в груди что-то начинало давить, и потом словно кто-то колол маленькими иголочками мои руки, ноги и живот. Ноги будто хотели куда-то убежать, а голова хотела куда-нибудь залезть, чтобы спрятаться. Голове хотелось прислониться к маминой груди — да, но мамы не было, и тата куда-то делся… Я залезла на мамину-папину кровать и уткнулась головой в подушку.
Я не успела придумать ничего разумного, что следовало бы предпринять, если тата так и останется исчезнувшим, как услышала сначала радостное погавкивание Сирки в кухне и затем со двора долетело тихое тарахтение мотоцикла: пык-пык-пык. Побежать тате навстречу мы с Сиркой не могли — он, уходя, запер дверь, но на сердце в меня сразу сделалось так радостно, что захотелось петь. И когда он вошёл в дом, с жаром объявила:
— Я придумала для тебя песню! На мотив «Вяндра метсас»!
— Ох, спасите! — вздрогнул папа. — Ты сама обещала, что больше не будешь…
— Это не песня про энкаведэ, совсем другая. Вот послушай:
Если «Харлей» тарахтит — юхайди, юхайда,
Это Феликс на нем мчит, юхайди, айда!
Тата рассмеялся.
— Ну, это совсем другое дело! Так сама и придумала? А у меня для тебя тоже сюрприз!
Он снял со спины вещевой мешок, немного повозился с его завязкой и затем вытряхнул содержимое на пол. Оттуда выпала чёрная, как уголь, птица с блестящими перьями и кроваво-красными бровями. Сирку тата от птицы отогнал: «Фу! Не трогай!»
— Ой, какая красивая! Она у нас останется жить?
По лицу таты было видно, что он в замешательстве.
— У нас… но жить не особенно… Старый лесник дал мне этого тетерева в качестве охотничьей добычи.
Я попыталась поставить тетерева на ноги, он был очень вялый и ужасно тяжёлый, а возле маленького клюва у него была капля крови.
— Значит, ты опять ходил на охоту один? — крикнула я обиженно. — Ты сам обещал взять меня с собой, когда поедешь на тетеревиный ток… Я больше с тобой не играю!
— Играй, пожалуйста! — попросил тата. — На тетеревиный ток надо идти спозаранку, ещё до утренней зари, а ты так сладко спала, что мне жаль было тебя будить. И не знаю, дал бы мне лесник этого тетерева, если бы и ты была в шалаше…
— Откуда ты знаешь? А вдруг он дал бы нам даже двух тетеревов? Смотри, не делай так в другой раз!
— Баш приказ для меня закон, принцесса! — сказал тата и отвесил глубокий поклон. — Кроме того, во дворе на скамейке вас ждут две здоровенные щуки. Настоящая королевская еда! Я, шутки ради, взял с собой спиннинг — ну и попалась рыба на крючок! Теперь голодать нам с тобой не придётся!
— А знаешь, кто-то украл мешочек с твоими медалями, — сообщила я тате грустную новость. — В шкафу его больше нет…
— Ах, так? Стало быть, больше нет? Ой-ой, может, это крысы утащили, или сорока унесла на верхушку ели? — спросил папа, но, похоже, он был не очень-то испуган. Когда он услышал, что бабашка выбросила в реку его награды, он вёл себя совсем по-другому: он сначала побледнел, потом покраснел и долго не мог выговорить ни слова, а теперь спокойно говорил о крысах и вороне… Может, он просто стал привыкать к потере медалей?
Настоящий Тарзан
— Ну раз ты теперь хороший ребёнок, пойдём вечером в кино, — объявил тата. — Невероятно увлекательный фильм — «Тарзан»! Да ты знаешь — это тот обезьяний Тарзан, про которого я тебе рассказывал! Думаю, покажут тот же самый довоенный американский фильм, в котором Джонни Вейсмюллер играет главную роль. В своё время я однажды ходил его смотреть!
— Тот самый Тарзан, мать которого обезьяна, а невеста Яане? Из книги, которую ты читал, когда был маленьким? Мы пойдем смотреть эту книгу? — допытывалась я.
— Ах, конечно, ты ведь в кино никогда не была! — вспомнил тата.
— Кино это так: на стену вешают большую белую простыню. И на ней аппаратом показывают картинки, на которых все двигаются. Это невероятно увлекательно, но мне трудно тебе объяснить, это тебе надо просто увидеть.
— А это не страшно?
Тата рассмеялся.
— Когда сидишь рядом с самым сильным человеком в мире, ничто не страшно!
По случаю киносеанса весь народ деревни собрался в доме школы. В дверях зала стоял высокий человек с круглым загорелым лицом и продавал билеты. В этом зале я бывала множество раз — и тогда очень везло, в зал можно было войти без билета! Этот кино-дядя продал тате только один билет, сказав: «Девчоночка всё равно будет сидеть у тебя на коленях», и погладил меня по голове своей большой рукой. Подумать только — кино-дядя погладил по голове только меня — никого из девочек постарше и мальчиков, даже никого из учителей, не говоря о директорше Людмиле! Но я и выглядела, конечно, красиво, на сей раз я не стала надевать бусы, но нацепила на грудь все мамины серебряные брошки, начиная с самой большой, на которой посередине был красивый старинный корабль, и кончая самой маленькой, величиной с пуговицу. И накрасила себе широкие брови специальной маминой краской, но их тата стёр ваткой с вазелином. Только чуть-чуть этой коричневой краски осталось в уголках бровей. И труд мой даром не пропал: очень красивый, умный и важный дядя с круглым лицом, выбрал из всех пришедших в кино только меня, чтобы погладить по голове!
Когда все люди уселись в зале на длинных скамьях и на стоявших вдоль стен стульях, принесённых из учительской, погасили все лампы, и кино-дядя пошёл в ту классную комнату, что была позади зала. Мы сидели и терпеливо смотрели на большое белое полотно. В задней стене зала была дверь, а в ней было прорезано четырехугольное отверстие, из которого выглядывал какой-то особенный аппарат. Вдруг раздалось громкое жужжание, треск и шум, и на простыне стали мелькать номера, звёздочки и какие-то странные знаки. И хотя я сидела у таты на коленях, всё-таки было немножко боязно.
Но тут на простыне начали происходить чудеса: там росли пальмы и суетились мужчины в странных шапках… Подумать только: тут, в школьном зале, прыгали обезьяны, подкрадывались львы и бегали целыми стадами какие-то странные животные, немножко похожие на коз, а у директорши, тёти Людмилы, не было на сей счёт никаких замечаний! Сам Тарзан вовсе не был таким красивым, каким я представляла его по рассказам таты, но до чего же он был ловкий! И этот его мощный клич — мне сразу захотелось попробовать самой издать его прямо тут, в зале! Яане была и впрямь восхитительно красива — почти как моя мама! Когда я сказала об этом тате, он шепнул в ответ:
— Мама ещё красивее! Сама увидишь, когда она вернётся!
Да, но такой ловкой, как Яане, мама не была — у меня душа замирала, когда Тарзан на канатах из растений перелетал со своей невестой с одного высокого дерева на верхушку другого… Ух, на сей раз повезло, оба остались живы!
Иногда в зале опять зажигали свет, и тогда кино-дядя кричал:
— Чуточку терпения — меняю бобину!
Это был удивительный человек: львы, тигры, обезьяны и слоны появлялись на белой простыне по его приказу и терпеливо ждали где-то в темноте, когда он кричал: «Меняю бобину!». С таким человеком я хотела бы подружиться! Его можно было бы поселить и у нас дома!
Когда кино кончилось, тата пожал кино-дяде руку и сказал:
— Может, в следующем месяце опять прокрутим сеанс?
— Посмотрим, если удастся получить в кинопрокате что-нибудь такое, что не запрещено детям моложе шестнадцати, — сказал кино-дядя и опять погладил меня по голове. Я почувствовала, как щёки у меня покраснели: а вдруг я ему так нравлюсь, что он возьмёт меня в жёны? Теперь, пока мама не вернулась, я не могла оставить тату одного, но потом можно было бы посмотреть и обсудить это дело.
Мы пошли домой и вдруг услышали из-за школы крик Тарзана. Точно такой же, как в кино: немного призывный и одновременно немного пугающий, будто исходящий из прополаскиваемого горла!
— Тата, Тарзан здесь! — Я не знала радоваться мне или бояться.
— Здесь, да, наверное, на той большой липе, что за школой! — усмехнулся тата. И в тот же миг крик прозвучал с другого берега реки — от мельницы.
— Уже успел на мельницу! — изумилась я. — Как он так быстро перескакивает по клёнам и липам — ведь у наших деревьев нет таких канатов, какие показывали в кино?
Тата засмеялся.
— То не канаты, а такие растения — лианы. Но, я думаю, что там, у мельницы совсем другой Тарзан. И не стоит удивляться, если услышим и третьего, и четвёртого. Мальчишки, что с них возьмёшь!
— А кто из них настоящий Тарзан?
Тата посмотрел на меня хитровато, усмехнулся и сказал:
— Знаешь, никто из них не настоящий Тарзан. Это я говорю тебе совершенно уверенно, потому что… потому что настоящий Тарзан… здесь!
Он несколько раз гордо стукнул кулаком себе в грудь и поднёс руки ко рту. Да, этот крик, который издал тата и от которого закладывало уши, не оставлял сомнений, что именно он и есть настоящий Тарзан.
Клич таты был хотя и мощным, но чуть короче тех, которые раздавались издалека.
— А теперь, Яане, рванём домой! — сказал он, поднял меня к себе на плечи и пустился бежать, как Пааво Нурми. — Исчезнем, прежде чем начнётся шум и гам!
Про Тарзана мы с татой говорили долго — ещё и тогда, когда оба уже лежали в своих постелях. Мне было жаль, что когда тата оказался дома, у него почему-то пропало то лихое и уверенное выражение лица, которое появилось, когда он подражал голосу Тарзана.
— А тебе грустно, что не можешь больше быть Тарзаном?
— М-хм-м! — хмыкнул тата и покачал головой. — На самом деле мне давно надоело быть Тарзаном! Нельзя всю жизнь играть в Тарзана или индейцев… Хотя сейчас было бы совсем просто снять с меня скальп! — Он засмеялся, но его смех был совсем невесёлым.
— А почему ты такой грустный? Потому что мама ещё не вернулась?
— Наверное, — ответил тата и не захотел продолжать.
— Она вернётся, куда она денется! — утешала я тату. — Я так долго была совсем хорошим ребёнком, и ты умеешь кричать голосом Тарзана — почему она не должна к нам вернуться!
— М-м-м… — промычал тата.
— А мама слыхала, как ты кричишь голосом Тарзана?
— Хм… Едва ли… Когда я с ней познакомился, меня игры в Тарзана уже не интересовали. А знаешь, когда мы смотрели этот старый фильм, мне вспомнились старые дела… Когда мы с мамой были молодыми, нам казалось, что всё в этой жизни зависит только от нас самих…
Этот разговор мне не нравился. Такой серьёзный и грустный тон тате не подходил.
— Послушай, сделай ещё разочек клич Тарзана, — стала клянчить я. — Покричи, хотя бы шёпотом!
— И речи быть не может! — ответил тата уверенно. — Кричать по-тарзаньи на ночь глядя категорически запрещается!
— Совсем тихонько!
— На ночь глядя, можно только посмеяться беззвучным смехом старого индейца, находящегося на охоте, которым он смеётся лунной ночью возле львиного логова, заметив следы белого человека: хи-хи-хи.
У меня это получилось почти так же хорошо: хи-хи-хи!
Ноги и Кота рвутся пойти с татой
Раньше, когда мы жили в школе и мама там работала, меня часто брали с собой на уроки, где рисовали, пели, играли в «кошки-мышки» или в «последнюю пару». Особенно замечательными были перемены, когда все дети парами прогуливались в зале по кругу. Тогда девочки постарше часто брали меня ходить с собой, а иногда кружили или даже делали «самолёт». Игры в самолёт я немного боялась, потому что меня брали за одну руку и одну ногу и кружили вокруг себя так, что ветер свистел и рисунок паркета только мелькал перед глазами. Когда я опять становилась на пол, голова ещё долго кружилась, а ноги вели туда, куда сами хотели. Иногда, когда тате делалось скучно в канцелярии, он выходил к детям на большой перемене и открывал крышку фисгармонии.
— Для разнообразия будем водить какой-нибудь хоровод, — кричал он на весь зал и начинал играть, сам при этом подпевая:
Эти сваты с острова, сувал-лера-лера…
Девочки сразу брались за руки и тащили мальчиков с собой. Некоторых мальчиков выталкивали в центр круга и вешали им на шею или поясок от платья, или ленту для кос. И когда пели «Я тебя свяжу сосватаю», те, кто были внутри круга, накидывали пояски-ленты на тех, кто шёл в хороводе, а когда пели фразу «И возьму тебя себе!», затаскивали кого-нибудь в круг и начинали с ними танцевать большими шагами:
Теперь я веселюсь, сувал-лера-лера,
И на тебе женюсь, сувал-лера-лера!
Иногда накидывали поясок и на мою шею и затаскивали в круг танцевать. Тогда надо было быть осторожной, потому что какой-нибудь мальчик постарше вёл свою партнершу в танце по скользкому полу зала так быстро, что мог тебя толкнуть и свалить на пол, если нечаянно попадёшься им под ноги.
Некоторые игры были безопаснее, например, «Один к одному», «Кто в саду?» или «Один хозяин взял себе жену», но зато «Мы рожь пойдём косить» становилась в конце совсем дикой: сначала спокойно маршировали парами по кругу, затем шли, скрестив руки на груди, и пели: «Я ищу, и ты ищешь, и каждый ищет своего», но при словах «Я нашёл, и ты нашла» начиналась жуткая сутолока, и каждый хватал кого-нибудь, потому что никто не хотел остаться без пары, чтобы о нём не пели: «Кто нерадив, останется один!»
Иногда тата играл настоящую танцевальную музыку, и тогда девочки танцевали вальс или фокстрот друг с другом. Но без пения фисгармония звучала слабовато: это был старый инструмент, и некоторые клавиши вообще не издавали звуков.
С тех пор, как нас из школы переселили в «нижний дом», тата больше не брал меня с собой в школу. Потому что это не нравилось директору — тёте Людмиле. Да и у таты было теперь в школе и дома работы больше: поскольку мама была теперь только дома, тата в придачу к урокам взял на себя ещё и бухгалтерию. «Бух» на неэстонском языке означает книга, но бухгалтерия, по-моему, никакого отношения к книгам не имела: тата всё время только сидел, уставившись в какие-то бумаги, и время от времени для разнообразия щёлкал костяшками на счётах. Танцевать под это щёлканье было невозможно, и, к сожалению, счёты не годились, чтобы на них катиться, это я сразу выяснила. Хотя длинные ряды костяшек, похожих на круглые пуговицы в коричневой раме, были очень забавными и вертящимися, но на полу они сразу перестали вертеться, когда я с разгону прыгнула на них, решив проехаться по комнате. Я тут же — трах! — шлёпнулась и села, сильно ударившись попкой. Было больно, будто села на ежа! В придачу меня ещё и отругали, потому что две пуговицы со счётов оказалась слабее моей попки и разломались пополам.
Теперь тата больше не играл на фисгармонии во время больших перемен, потому что теперь он спешил домой, посмотреть, как там я — мало ли что может случиться с ребёнком за долгий день. Но разве могло что-нибудь случиться? Однако было здорово, когда тата прибегал домой, и мы вдвоём ели хлеб с молоком и могли немножко поговорить. Скучно мне не было — ведь у меня были цветные карандаши и тетрадь для рисования, книжки с картинками, Кати и Сирка и в придачу ко всему Ноги и Кота, но никто из них говорить не мог, и порой делалось грустно, оттого что я одна должна была говорить за всех.
С карандашами я, кроме рисования, играла в разные игры. Например, в такую, что розовый, жёлтый и голубой — хорошие дети, а коричневый, чёрный и тёмно-синий — плохие. И тогда хорошие и плохие начинали спорить, а иногда бегали наперегонки или играли в школу… Светлые карандаши говорили звонкими голосами, а у тёмных были низкие и злые голоса.
С Ноги и Кота в холодное время играть было труднее, потому что для этого надо было снять тапочки, потом носки и чулки — и при этом резинки для чулок устраивали разные неприятности. Ноги и Кота я обнаружила уже давно, когда мы жили в школе и я не умела бояться темноты. Однажды, когда мама с папой вымыли меня в кухне в ванночке и перенесли в комнату, в мою постель, а сами ушли на нижний этаж в сауну и были там жутко долго. Мне они сунули в руки погремушку — такую дурацкую штуковину, которая, наверное, могла веселить взрослых, но для меня это было ничто. Будь здоров! Ну какой смысл трясти болтающееся на этакой ручке яйцо, у которого одна половина красная, а другая синяя — неужели только для того, чтобы слушать какое-то тарахтение внутри этого яйца: крып-крып-крып? В первые раза два, это могло, пожалуй, вызвать интерес, но он сразу пропал, когда мне удалось разломать яйцо пополам, и оттуда выпала маленькая кучка сморщенных сухих горошин. Большинство из них подобрали с пола, и половинки погремушки аккуратно склеили, но я брала её в руки только для того, чтобы доставить взрослым удовольствие.
Итак, я немножко потарахтела этой игрушкой-погремушкой, а сама всё время думала: что бы этакое можно было бы с нею ещё предпринять? Ведь теперь разламывать её не имело никакого смысла, потому что уже было известно, что внутри у неё нет ничего таинственного. Так, размышляя в кроватке, я заметила, что мои розовые пальцы на ногах словно хотят что-то сказать.
— Хочешь тоже поиграть с погремушкой? — спросила я у одной ноги.
— Упаси меня от этого! — воскликнула она. — Спроси у Коты, может, ей хочется.
Но другая нога возразила:
— Пусть Ноги гремит, если хочет, у меня и без того есть чем заняться!
Так я и узнала имена моих ног — Ноги и Кота.
Ноги и Кота — обе хотели попробовать, удастся ли им дотянуться до моего рта и сунуть в него большой палец. И дотянулись-таки! Затем я попробовала, какая их них сможет закинуться за шею. Обе смогли — как Ноги, так и Кота! Вот с ними мне уже не было скучно.
С ногами мне повезло: на икре Ноги была большая коричневая родинка, и я сразу поняла, что это лучшая из ног. Странное дело: обе ноги были более-менее одинаковой величины и по скорости более-менее равны, но Ноги следовало называть правой, а Кота левой ногой. С руками было сложнее — ни на одной из них не было никакой родинки, так что в зимнее время, когда я не могла рассматривать свои ноги, пришлось сначала долго возиться, пока я не выяснила, которая из рук правая, а которая — левая.
Ноги и Кота были ловкими, с ними можно было петь и даже играть в некоторые сказки — например, в «Красную Шапочку». Только говорить за них приходилось всё-таки мне самой.
Однажды, когда в школе была большая перемена и тата как раз, прибежав домой, достал из кладовки остатки щуки, которую мы ели вчера в обед, и Ноги, и Кота начали клянчить:
— Мы тоже хотим в школу. Тата, возьми нас с собой!
— Что ты сказала? — удивился тата. — Сделаю тебе ещё один бутерброд, но ешь осторожно, у щуки много маленьких косточек!
— Мне вообще есть не хочется. Но Ноги и Кота хотят пойти с тобой!
Тата поднял голову.
— Ноги и Кота? Давненько о них не было слышно. Скажи им, что скоро будет майский праздник, тогда они смогут потанцевать на паркете!
— Ноги и Кота грозились вообще уйти от нас, если ты сразу не возьмёшь их с собой в школу!
Тата усмехнулся:
— Тогда будет жуткое дело! Ведь без Ноги и Коты Эмиль Затопек не сможет бежать наперегонки с Пааво Нурми…
Некоторое время тата задумчиво жевал свой кусок рыбы и затем сказал:
— Ладно! У меня следующий урок в пятом классе рисование, так что Ноги и Кота могут пойти со мной, если пообещают, что будут сидеть в классе тихо, как мышки. И пусть возьмут с собой тапочки!
Ноги и Кота согласились с условиями таты, и я поспешила принести верхнюю одежду.
В школу!
Взрослые говорят «это близко» иногда и про такие места, куда идти долго, и на полпути уже чувствуешь, что приближается старость, и если тебя сейчас же не возьмут на руки или не посадят на плечи, тебе угрожает смерть. Такими обманчивыми «близко» местами были автобусные остановки на Лихуласком и Пярнуском шоссе, магазин в Лайтсе и находящаяся возле хутора Вауну ландышевая поляна, куда мы с мамой ходили собирать цветы. Но то, что школа находилась близко от нас, было истинной правдой.
Стоит выйти из двери дома, как сразу видишь школу, выглядывающую между деревьями, — у неё была розовато-белая юбка и коричневая блуза, а на голове серебристая жестяная шапка, и от этого дом выглядел деловым и вдумчивым.
Когда, выйдя из нашего дома, доходишь до его угла, на тебя смотрят серебристые ивы — большие деревья с корявыми стволами и с похожими на килек серебристыми листочками. Затем надо пройти несколько шагов по просёлочной дороге, с одной стороны которой растут сиреневые кусты и находится миленький лягушачий прудик, а с другой — речная плотина. У реки растут высокие стройные ясени и плакучие берёзы с бело-чёрными стволами.
Дорога была хорошей потому, что по дороге в школу дети могли весело шлёпать по лужам так, что только брызги летели, конечно, если на ногах были резиновые сапоги или валенки с галошами. Взрослым, у которых резиновых сапог не было, приходилось перескакивать через грязные лужи. Едва успеешь прошлёпать через две-три лужи, как уже подходишь к ограде. На перекрёстке дорог, идущих вдоль ограды и к школе, были такие хорошие большие лужи, в которых можно пускать и топить кораблики из ореховой скорлупы. Затем, через десяток шагов, оказываешься перед дверью школы между большущими липами. Открывать эту дверь было весьма трудно, потому что дверной ручкой у неё служила кривая железяка. Со времен баронской усадьбы! В деревне про школу иногда говорили «усадьба», потому что до большой войны тут жили помещики фон Бремены. Слово «помещик» казалось мне старым-престарым и относилось больше к сказкам, чем к нашей школе. Возле винтовой лестницы на чердак большим мальчикам нравилось пугать девочек тем, что вот-вот появится приведение старого фон Бремена и сунет их в мешок. Мама сказала, что это глупость, потому что с Бременами не связано никакой страшной истории, из-за которой кто-то из семейства Бременов стал бы появляться в виде приведения. Бремены переселились из Эстонии ещё до войны, сразу после того, как Гитлер позвал немцев на родину. Немцы тогда сделали с русскими такой договор, что разделят всю Европу между собой, но потом и те, и другие стали жадничать и сцепились друг с другом, и причинили много зла всем народам. И Эстонии тоже: сюда вторглись русские, потом немцы — и обзывали друг друга оккупантами, а себя называли освободителями…
Но как бы там ни было, а время от времени обнаруживали кого-нибудь из мальчишек на чердаке, ищущим шкатулку с сокровищами, или в подвале, пытающегося найти подземный ход… Кому была охота верить, что большую таинственную каменную камеру встроили в высокий холм просто-напросто для того, чтобы хранить там бидоны с молоком и кадочки с маслом, — гораздо привлекательнее было думать, что если все-таки хорошенько поискать, то по подземному ходу можно выйти от подвальный горки прямо в Лейтсе! И сама подвальная горка была приятным местом: весной там можно было играть в прятки и другие игры, а зимой съезжать с неё на лыжах и санках, и ветер свистел в ушах, а под горкой яблони, растопырив ветки, пытались сорвать с тебя шапку, если не пригнёшься вовремя. Ранней осенью и весной учителя часто приводили школьников во время уроков на подвальную горку. Сидя на травке, было хорошо читать, петь или рисовать. Тата иной раз проводил на подвальной горке репетиции оркестра мандолин — тогда вся деревня слушала дрожащее звучание этих особых струнных инструментов.
Но когда стаивал снег, горка выглядела очень неряшливой: грязный склон с прошлогодней травой не был привлекательным. Галоши и без того делались такими грязными, что приходилось долго вытирать ноги на специальном коврике перед дверью, да ещё для уверенности скрести подошвы о металлическую скребку. Металлическая скребка тоже была со времен усадьбы, как и красивый паркет с узором на втором этаже, похожим на рыбий хвост. Даже огромные белые куски парафина, с которых школьная уборщица тётя Анни длинным острым ножом соскабливала на паркет хлопья, остались после помещиков. Когда весь паркет был покрыт этими белыми хлопьями, тётя Анни натирала его большой тряпкой, а тем детям, у которых были на ногах шерстяные носки или тапочки с очень чистыми войлочными подошвами, разрешалось в зале скользить по паркету, сколько душе угодно, — когда скользили, парафин впитывался в паркет, и пол становился ещё более скользким.
Скользить было сплошным удовольствием, но лучше было бы унести домой пару кусков парафина — тогда можно было бы круглый год играть, что Ноги и Кота — сыновья белого медведя, с которыми случаются приключения на льдине. Когда я сказала об этом тате, он стал смеяться и сказал, что у белых медвежат свободно могут быть приключения и на белой простыне, если они хорошенько вымоются и не станут прикрывать лапами невымытые места, как прикрывают лапами свои чёрные носы большие белые медведи, когда выслеживают тюленей.
О том, как надо вести себя в школе, я знала уже давно. В тот вечер, когда было кино, тогда да, можно было просто так бродить по школе, но когда в классах шла учёба, тогда можно было приходить только в случае крайней необходимости! И сразу у двери следовало сказать: «Прошу прощения, что мешаю занятиям». И если стоящий перед классом учитель милостиво кивал тебе, это значило, что можешь очень быстро пройти через класс. Но если в класс входит кто-то из учителей или сама директорша, тогда все ученики должны мгновенно прекратить свои занятия, встать и стоять возле своих парт, пока им не скажут: «Пожалуйста, садитесь!» Тогда начинается славный деревянный стук — некоторые парты так устроены, что сесть или встать можно лишь откинув часть крышки парты, и поскольку при этом есть возможность сделать это со стуком-грохотом, то такой возможностью надо воспользоваться, чего бы то ни стоило! Но когда видишь кого-то стоящим возле доски в углу спиной к классу, то понимаешь, что этот кто-то провинился: разговаривал во время урока, списывал у соседа, сунул в чернильницу кончик косы сидящей впереди девочки или сделал ещё что-то непозволительное. В классной комнате, разумеется, четыре угла, но настоящим наказанием считалось, если ставили в угол возле доски.
Когда мы с татой пришли на урок в пятый класс, все дети вежливо встали. Тата посадил меня на заднюю парту рядом с толстым черноволосым мальчиком, которого звали Велло. И папе пришлось дать ему, как и мне, для рисования тетрадный лист из собственных запасов, потому что этот Велло объявил, что в магазине в Лайтсе тетради для рисования кончились, а в город его старуха поехать не смогла, потому что председатель её не отпустил. Велло всё время шмыгал носом, и я сначала подумала, что он сдерживается, чтобы не заплакать, — ведь он несчастный ребёнок, у которого ни папы, ни мамы нет, есть только старуха, а старухи, как известно из сказок, существа зловредные, почти как ведьмы! Но стоило ему некоторое время не втягивать носом воздух, как у него под носом появились две сопливых дорожки. Очевидно, злая старуха наколдовала ему насморк… Тата спросил у детей, какие приметы весны они заметили по дороге в школу, и ученики, которые хотели ответить, аккуратно подняли одну руку. Я тоже пару раз поднимала руку, но тата не дал мне говорить. Сначала это испортило мне настроение, но тут я вспомнила, что обещала в школе помалкивать, вести себя тихо, как мышка, и примирилась с тем, что слушала, что говорили другие. Дети говорили о скворцах, и чёрных дроздах, и подснежниках, и прорастании картофелин.
Велло тоже понял руку и сказал:
— И весной говно надо разбрасывать по полю.
На это все другие засмеялись, а тата поправил:
— Об этой работе можно использовать более вежливое выражение: раскидывать навоз или вносить удобрения.
Похоже, этот Велло вообще был шутник: на радость всему классу он сообщил тате:
— Слышь, я не могу нарисовать голову человека, у меня нет копеек. Дай мне пятачок.
Другие прыснули со смеху, а я рассердилась: у таты и так мало денег, а этот толстомордый Велло ещё требует, чтобы за рисование человеческой головы ему платили!
Но тата только усмехнулся и велел Велло научиться говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Когда Велло произнёс волшебное слово «пожалуйста», он получил желанный пятак. Тата стал с интересом смотреть, что он с этой монетой сделает. Я тоже глядела искоса. А этот Велло оказался очень смекалистым: положил монету на бумагу, обвёл её карандашом и получился красивый кружок.
— Вот, пожалуйста, человеческая голова теперь на месте, как пять копеек! — И он протянул монету тате. — Теперь нужен бы ножик. Тогда можно сделать рот и глаза.
— Ты что, ножом нарисуешь рот и глаза? — весело спросил тата.
Лицо Велло не выражало даже намёка на шутку.
— Нет, карандаш гнилой, затупился!
Тата дал ему свой перочинный ножик, и Велло пошёл к мусорной корзине затачивать карандаш.
— Полное ге! — вдруг крикнул он. — Палец порезал! Этот нож, он же острый, как тот, которым режут трупы. Кровь пошла…
Тата осмотрел палец Велло.
— Да, кровь идёт. Пойдём в канцелярию, промоем риванолом и перевяжем!
— А у тебя трипперная лиловка есть? — спросил Велло.
Другие опять засмеялись.
— Чего ржёте? — рассердился Велло. — Никогда не слыхали, что ли? Трипперная лиловка лучше всего для очистки ран, старуха всегда ею мажет. Кинет две крошки в воду, и дело с концом!
— Название этого порошка «калиум пер марганатум», — объявил тата, усмехаясь. — Или просто марганец, марганцовка. Пойдём посмотрим, может, он есть в шкафчике Красного Креста!
Остальным детям было велено спокойно продолжать рисование, но они ничего не рисовали, девочки хихикали, а мальчишки бросились к учительскому столу, рассмотреть татин ножик. Это действительно была вещь, заслуживающая рассмотрения, — несколько лезвий, штопор и даже маленькие ножницы, которые выскакивают, если умеешь нажать в правильном месте.
— А ты не наябедничаешь? — спросил один мальчик, взглянув на меня. — Мы не сломаем, посмотрим только.
— Не наябедничаю, — сказала я важно, хотя раньше этого слова никогда не слыхала.
Но Велло прямо повезло, что он порезал палец; поскольку с забинтованным пальцем рисовать ему было трудно, тата помог ему сделать из человека с пятикопеечной головой очень важного человека с лопатой, который был в чёрных сапогах и зелёном ватнике. Перед ним на земле были большие коричневые лужи, а с неба ему улыбалось солнце, такое же круглое и большое, как голова человека с лопатой. На голове его была шапка с козырьком, так что было совсем непонятно, что эта голова пятикопеечная…
Одно слово — отсюда, другое — оттуда
Слова — вещь очень интересная. Если бы люди должны были лаять друг на друга или рычать, жизнь была бы гораздо скучней. Но, к счастью, умные изобретатели выдумали множество слов. Иное слово услышишь, и само собой понятно, что оно означает. Например, «ябедничать» — звучит нехорошо, как сказал тата, это означает жаловаться на других, а жаловаться некрасиво. «Трипперная лиловка» — это звучит очень красиво, но как можно было понять по смеху других детей, это какое-то смешное название порошка.
Мама рассказывала, что я впервые засмеялась, когда тата прочитал ей вслух новость из газеты, что Элла Алласильд получила охотничьи права. Элла Алласильд была наверняка порядочным человеком, раз она получила охотничьи права, и что тут смешного, этого я теперь понять не могу. Но такая уж жизнь. Получается, что ребёнок, родившись, не умеет даже смеяться, не говоря ни о чём другом. Кажется, умеет только плакать с самого начала, а ходить, смеяться и говорить надо научиться! Я засмеялась в первый раз тогда, когда даже стоять не могла — сидела на кресле, подпёртая подушкой, и смеялась над Эллой Алласильд, получившей охотничьи права! Мама и тата тоже расхохотались, потому что им было очень приятно, что их ребёнок уже умеет смеяться. Бедняга Элла Алласильд, когда пошла на охоту, даже и понятия не имела, что на другом конце Эстонии, услыхав её имя, засмеялся младенец в ползунках! Но кто знает, может, эта охотница в тот момент стала сильно икать? Икать, как известно, начинают по двум причинам: либо у тебя штанишки мокрые, либо о тебе где-то что-то говорят. Закинув ружьё за спину, икающая охотница, наверное, проверила, а может, она в штаны намочила? Конечно, нет, иначе ей не выдали бы охотничьи права! «Ну, значит, кто-то говорит обо мне», — вероятно, подумала она.
Но мама сказала, что у меня вызвало смех красивое звучание этого имени и фамилии — так много «л», как в строчке песни! Может, так и было. Взрослые пользуются тем, что дети не помнят всякие мелочи из своего младенчества, и им не остаётся ничего другого, как соглашаться с тем, что им упорно приписывают в рассказах об их младенчестве. Элла Алласильд — это мне нравится и теперь, но со временем прибавились и другие красивые слова. Например, «клозет», «роосаманна» и «Энгельс». Первым словом тётя Лийли называла находившуюся в её доме на лестничной площадке уборную, где было здорово дёргать за висевшую на серебристой цепочке ручку, точно такую, как у скакалки, только эта ручка с цепочкой была не для прыгания, а для того, чтобы с шумом спускать воду в толчок. Роосаманной некоторые люди в деревне называли такую сладкую еду, которую мама с татой назвали «манна-крэм», а Энгельсом звали одного из четырёх дядь на картине в роскошной золотой раме, висевшей на стене в школьном зале. Когда я спросила у таты: «А эти дяди из какой-нибудь сказки?», он усмехнулся, глянул по сторонам и сказал тихо:
— Да, эти дяди из сказки о коммунизме! Их зовут Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс.
Ленин и Сталин тоже звучали хорошо, Маркс — не очень, но Энгельс — вот это было да! Жаль, что мама с папой не догадались назвать меня этим удивительно красивым именем! Этот дядя с лицом, заросшим бородой, был по грудь в золотой раме и смотрел вместе с другими в сторону окна — и он, похоже, не умел гордиться своим именем… Я сказала тате, что когда у меня родится брат, то обязательно назовём его Энгельс, но тата возразил, что у них с мамой имя уже выбрано, и это — Калев, и что есть такие важные строки: «И когда вернётся Калев, принесёт эстонцам счастье…» Но всё-таки я не теряла надежду, что, может, постепенно удастся уговорить родителей насчёт Энгельса. В конце концов мы можем обзавестись и двумя братьями — как Калевом, так и Энгельсом или дать одному двойное имя Калев Энгельс, как у бабушки — Минна Катарина!
Когда мы с татой окончили урок в пятом классе, то, проходя через зал я посмотрела, на своём ли месте Энгельс и по-прежнему ли у него лицо, заросшее бородой. Всё так и было. Но поговорить о нём с татой мне не удалось, потому что тётя Людмила схватила тату за рукав и попросила остаться — посмотреть монтаж. Монтаж — тоже красивое слово, но что оно значит, я спросить не успела, потому что тётя Людмила хлопнула в ладоши и крикнула детям, стоявшим в ряд возле фисгармонии:
— Пионеры, пройдём материал ещё разок! — И сказала тате: — Если что-нибудь не так, то прокомментируйте, товарищ Тунгал!
Тата крикнул выступающим:
— Распрямите спины! У вас что, монтаж кривоспинный?
Я знала по себе, что тата терпеть не может, если кто-то стоит или сидит ссутулившись.
— Нет, нет, тема монтажа — товарищ Йозеп Лаар! — пояснила тётя Людмила. — Начинаем! Ведущий!
Вперед вышел мальчик в клетчатой лыжной блузе и с красным галстуком и крикнул во всё горло:
— Хилья Сталински! «Баллада о Лааре»! Исполняют пионеры шестого класса!
— Стоп! — закричала директорша. — Не Хилья, а Илья — ударение на последнем слоге. И не Сталински, а Сельвинский! Илья Сельвинский! Ясно?
Мальчик объявил снова, и затем девочки закричали хором — очень громко и деловито:
Запомните имя Лaapa,
неведомое пока;
погиб он в атаке ярой
пятнадцатого полка.
И тут из класса позади зала послышалось дребезжание мандолин и барабанный бой.
— Эй, не прорвите там барабан! — крикнул тата. — И чтобы все струны мандолин остались целы в этой… атаке ярой!
— Они символизируют шум боя, — объяснила тётя Людмила.
— Товарищ Лаар погиб, закрыв собой амбразуру с пулемётом, как Матросов!
— Понимаю, понимаю, — папа кивнул. — Но струны для инструментов теперь нигде не достанешь, так что пусть символизируют потише!
— Пойдём дальше! — распорядилась тётя Людмила, бросив на тату недовольный взгляд.
— Что знал ты о жизни, товарищ Лаар? — опять все вместе закричали девочки. И мальчики ответили им так же безразлично, но и вполовину не столь стройным хором:
Берег я знал морской,
Берег я знал и крики гагар,
Звучащие тоской.
Об этом я в детстве книжки читал
(Я не был в стране отцов),
Но каждый мой нерв гудел, как металл,
Заслышав Родины зов.
У всех мальчиков были в руках листки со стихами, но скорость чтения у каждого была своя, так что двое кончили читать, когда другие уже вздыхали с облегчением. Тётя Людмила во время чтения встала и принялась отбивать рукой ритм, но большой пользы от этого не было: глядя на неё, даже лучшие чтецы потеряли из виду строчки на бумаге, и хор произносящих стихи мальчиков сделался более нестройным. Раза два строчки стихов у них совсем перемешались — и тогда директорша взяла в руки толстую книгу и читала оттуда стихи, а ученики повторяли за нею. Стихотворение было длинным и, по-моему, скучноватым, но сказать тате это я не решалась, ведь обещала молчать как рыба! Каждый раз, когда хор мальчиков давал ответ на вопрос девочек и я надеялась, что уже конец, девочки опять декламировали сначала: «Запомните имя Лaapa,
запомните имя Лаара!..» Мальчики в свою очередь опять начинали отвечать. И один раз все вместе запели: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы, пионеры — дети рабочих!..» И это было немного забавно, потому что часть из них не знала мелодии, а некоторые путались в словах.
Но потом девочки снова начали: «Запомните имя Лаара…», и выступление опять сделалось скучным. Я заметила, что и тату одолевает зевота — а может, это был смех, который он пытался скрыть, загораживая рот рукой? Заметив мой взгляд, он шепнул: «Тссс!», и лицо его опять приняло серьёзное выражение. Мне неохота было слушать, и я размышляла про себя: как бы приспособить под песню это новое занятное название «трипперная лиловка». Песня «Вяндра метсас» не годилась, да и её мотив я уже много раз использовала. Наконец мне вспомнилась песня, которой научила меня мама и под которую танцевали: «Старуха шкипера, старуха шкипера, сегодня в гости к нам приди!». Я тихонечко попробовала промычать это себе под нос. Да, это годилось! Но петь я не стала — папа услыхал мое мычание и взглянул на меня очень сердито, нахмурил брови и погрозил пальцем. Ну что же, я продолжала сидеть между ним и тётей Людмилой и старалась молчать как рыба!
Наконец голоса мальчиков и девочек объединились, и они заорали что было сил:
Помните имя Лаара,
его забывать нельзя!
И ваша, товарищи, кара
пускай свершится раз!
Прочитав последние слова, все подняли одну руку ко лбу и долго так молча держали.
— Поклон! Где поклон! — закричала тётя Людмила. — Обратно все в строй! Раз, два и…
Выступавшие низко поклонились.
— Вольно! Заучите текст дома наизусть! Можете идти! — разрешила директорша и повернулась к тате. — Ну как? Надо бы побольше пафоса, да? Надо ещё учить и репетировать, верно?
— Кровавая история, — сказал тата, покачав головой.
— Великолепная поэма, — восхитилась тётя Людмила. — Я нашла её в «Настольной книге пионервожатого», — объяснила она и показала нам толстенную книгу.
Ой, какая красивая у неё была обложка! Счастливо смеющиеся пионеры положили дружески руки друг другу на плечи. У них были белые блузы и красные галстуки на шее, у девочки сумочка на ремешочке через плечо, почти такая же красивая, как у кондуктора в автобусе, только без билетов… Я бы могла быть этой девочкой, а мальчики рядом со мной — мои братья Калев и Энгельс… Я не могла оторвать глаз от пионеров на обложке.
— Вы, конечно, лучше знаете, — сказал тата, пожав плечами. — Но мне показалось, что декламаторы не слишком хорошо поняли, о чём они говорят… Может, нашлось бы что-нибудь полегче, более подходящее детям…
Лицо тёти Людмилы сделалось огненно-красным, и она закричала:
— Товарищ Тунгал, вы что — не любите наших героев, вам не нравится советская власть? По-вашему на торжественном собрании Первого мая надо кричать по-тарзаньи? Вы ведь знаете про этот скандал — наши ученики нарушили ночной покой колхозников, залезли не деревья и кричали, как обезьяны, как капиталистические подонки! Это последнее кино было недопустимым, повторяю — недопустимым! Вы сами в последнее время стали очень небрежным, а мой монтаж для вас слишком кровавый!
— Прошу прощения, — сказал тата. Его голос стал сердитым.
— Признаюсь прямо, такие монтажи — не моя профессия. Пару дней я действительно не провёл последних уроков, потому что требовалось в городе, в прокуратуре, кое-что выяснить.
— Нам надо поговорить, товарищ Тунгал, — распорядилась директорша. — Отведите ребёнка домой и приходите ко мне в кабинет!
Наконец-то мы смогли двигаться! Ссоры и неприятности мне не нравятся, от них у меня всегда начинает болеть живот. По лицу таты было видно, что настроение у него совсем испортилось, и поэтому я попыталась хоть немного его развеселить, пританцовывая и подпрыгивая, когда мы шли через зал.
— Трипперная лиловка, трипперная лиловка, приди к нам в гости сегодня! — пела я, подпрыгивая на ходу, а папа крепко держал меня за руку. Тётя Людмила остановилась в двери зала и смотрела на нас, выпучив глаза.
— Ку… Колокольня Курамаа!.. — сказал тата и дёрнул меня за руку в сторону другой двери. — Дома поговорим!
Еще о словах и буквах
Но у таты не хватило терпения дождаться, пока мы придём домой.
— Ну ты и пустозвонка! — сердито сказал он, выйдя из школы и спускаясь по ступенькам. — Пляраляралеену!
Пустозвонка и пляра-ляра-леену были для меня совершенно новыми словами. Выговорить первое было легко, а вот со вторым дело было не так просто: «пряла-плараа-пляря…» Но ни одно, ни другое явно не было похвалой, а означали, что я в школе вроде бы много болтала. Но это чистая несправедливость!
— Я всё время молчала как рыба, даже ни разу не пискнула!
— Ах, так? Интересно, а кто это в зале пел похабную песню?
— Разве трипперная лиловка — похабные слова? — сильно удивилась я. — Почему тогда не отругал этого Велло из пятого класса?
— Мало ли что говорят старшие школьники — маленьким девочкам не следует повторять всё за ними! — продолжал сердиться тата.
У меня подступал плач к горлу.
— Значит, я опять была плохим ребёнком?
— Да, была! — отрезал тата. — И распускать нюни — не поможет!
Через некоторое время он сказал немножко помягче:
— Ладно, сделаем так, что эти слова мы больше не употребляем, ясно? А теперь распрями спину и сделай весёлое и доброе лицо!
Я попыталась улыбнуться сквозь слёзы.
Тата протянул мне свой большой клетчатый носовой платок.
— Вытри глаза и нос! Вот так — теперь ты почти похожа на хорошего ребёнка! И не забудь сказать «Тере!» тёте Минни.
Тётя Минни шла от коровника бодрым шагом и догнала нас прежде, чем мы подошли к двери дома. Я бы и так сказала ей «Тере!», но теперь, после напоминания, сказала даже два раза: «Тере! Тере!»
Тётя Минни была женщиной весьма высокой, почти такого роста, как тата. Про неё мама говорила: «Очень работящая и славная сааремааска, всё делает за десятерых!» Тётя Минни была дояркой в колхозном коровнике и время от времени помогала маме стирать белье и гладить его. В её руках всё происходило быстро, и мама благодарила её всякий раз, и совала в карман её пальто немножко денег:
— У тебя работа идёт в десять раз быстрее, чем у меня. Огромное тебе спасибо — теперь мы опять можем какое-то время жить без забот и хлопот!
На это тётя Минни отвечала, широко улыбаясь:
— Не стоит благодарности. Я ведь привыкла работать по-мужски!
Но теперь на круглом лице тёти Минни не было и тени улыбки. Она слегка замедлила свой разбег и пошла рядом с нами.
— Велике, я хотела спросить у тебя одну вещь, — сказала она тате, а её голубые глаза из-под тёмно-синего платка глядели очень горестно.
— Спрашивай, спрашивай, если чего не знаешь! — сказал тата шутливо. — Ведь таких вопросов не бывает, на которые я не смог бы ответить!
— Да ты не шути, я хотела у тебя поподробнее выяснить насчёт того, как рожают, — продолжала тётя Минни серьёзно. — Правда ли это?
Тата остановился, и я, конечно, вместе с ним.
— Насчет родов? Слушай, Минни, это ты должна знать в несколько раз лучше меня, ты — мать двоих сыновей!
— Лембит и Яан — мальчики хорошие, это я могу тебе сказать! — вдруг вспылила тётя Минни. — Ладно, ну покричали они немного поздно вечером, взобравшись на деревья, выходка, конечно, некрасивая. Но мальчишки ведь! И это кино про Тарзана совсем у них в голове всё перепутало!
— Да, мы тоже слыхали, — не удержалась я. — Совсем по-тарзаньи кричали, но у папы этот клич получается ещё лучше!
— Ладно, ладно, — быстро сказал папа. — Знаешь, Минни, я должен сходить к директору, побеседовать с глазу на глаз, так что, будь добра, говори побыстрее, в чём дело, или посиди у нас, пока я не вернусь.
— Ну, про директоршу я и говорю. Ну, могла бы она их в угол поставить. Или, если на то пошло, хотя бы и выпороть, но зачем она над ними так издевается! Не дело то, что эта Людмила мальчикам приказала: ни Лембит, ни Яан не могут завтра прийти в школу, если не приведут с собой всех рожателей!
— Что?
— Да, рожателей! Она у мальчишек спросила, мол, рожатели-то в Руйла, и велела завтра взять всех рожателей с собой, а без них в школу не приходить, иначе выкинут их из школы и отправят в колонию! — озабоченно протараторила тётя Минни.
— Погоди, погоди, тут что-то не так, — сказал тата. — Какое отношение к Тарзану имеют эти рожатели?
— Ну, я тоже удивилась, а мальчишки всё своё твердят, что их завтра выгонят из школы, если не явятся со всеми рожателями! Лембит, он-то, конечно, иногда приврёт ну вроде бы в шутку, но Яан ещё маленький и всегда говорит только правду! — пояснила тёти Минни.
— Ну нет, тут должна быть какая-то заковыка, — сказал тата.
— Да и откуда я могу знать про всех женщин? — продолжала тётя Минни. — Вигисалу Нелли, кажется, на сносях, и Тикенберг Лейда вроде бы ждёт ребёнка, но она такая верующая, что о Тарзане ей и говорить невозможно. Да и как ей туда, в Ярве-Нымме, сообщить, чтобы пришла завтра в школу с моими мальчиками?
— Абсурдное, совершенно абсурдное дело! Не могу никак понять, почему все беременные женщины деревни Руйла должны быть в ответе за то, что твоим мальчишкам нравится играть в Тарзана, — сказал тата, нахмурив брови. И вдруг он стукнул себя кулаком по лбу и радостно воскликнул: — Ха! Понял! Рожатели! Родители! Родители, вот то слово, которое директорша хотела сказать твоим мальчикам! Эстонский язык Людмилы стал за последнее время гораздо лучше, но когда она раздражается, она путает русский с эстонским. Она имела в виду тебя, Минни!
Тата весело рассмеялся, но тётя Минни оставалась серьёзной.
— Да как же?! У меня уже восемь лет как нет мужа! Я женщина порядочная, вдова, как я могу теперь рожать?
Тата объяснил, продолжая посмеиваться:
— Людмила просто не вспомнила правильное слово. Эго по-русски — родители, а по-эстонски — старшие. Она хотела сказать: «Приведите в школу родителей». Она ведь не знает, что твой муж пропал на войне, поэтому и спросила: живут ли в Руйла родители и велела их привести. Она не могла вспомнить, как будет по-эстонски «родители» и прямо перевела с русского… Ты пойди завтра с мальчиками в школу и не нервничай больше, увидишь, что я прав.
— Ну, спасибочки, — сказала тётя Минни, хотя похоже было, что она тате не очень-то поверила. — Вот… Если бы ты, Велике, сказал ей про Лембита и Яана несколько хороших слов, оно было бы, наверное, вернее…
Тата продолжал посмеиваться ещё тогда, когда входил в комнату и расстегивал на мне пальто. А у меня на сердце стало гораздо легче: может, он уже и позабыл про эту противную трипперную лиловку.
Тата быстренько развёл огонь в плите и принёс из холодной комнаты большую коричнево-лиловую тушу — так выглядел теперь тетерев после того, как тата вечером на крыльце очистил его от перьев, потом зажёг газету и опалил его этим огнем. Он положил в большую жаровню на дно шкурку от сала и на неё тетерева, плеснул туда ковшиком немножко воды и накрыл жаровню крышкой.
— Пусть он теперь потихоньку тушится, а ты ни в коем случае к жаровне не прикасайся, ладно? Будь теперь хорошим ребёнком и посмотри картинки в книжках или просто так поиграй, — сказал тата. — Я схожу, поговорю с тётей Людмилой, а потом устроим с тобой королевский холостяцкий обед!
— Мы разве холостяки? — засмеялась я.
— Решение этого вопрос будет твоим домашним заданием! — сказал тата и ушёл.
Домашние задания, как я знала, задают только школьникам. Тата на уроках физкультуры и рисования домашних заданий не задавал, во всяком случае по вечерам стопок тетрадей я у него не видела, а вот мама приносила в большой сумке стопки школьных тетрадей, в которых были домашние задания учеников. Вот было бы здорово стать школьницей, которой по-настоящему задают домашние задания! А ещё лучше быть учительницей, которая дает задания на дом.
Вместо того чтобы смотреть картинки в книжках, я решила поиграть с Сиркой и Кати в школу. У меня уже имелся букварь, и буквы я тоже знала, только читать не умела — для чтения у меня были «Маленькая Майе» и «Праздник животных», потому что их содержание я знала наизусть с начала до конца. Посмотришь разок на страницу, где нарисован удалой пингвин с бутылкой шампанского в руке, и сразу вспоминаешь, что там написано: «Шипучее вино! — воскликнул пингвин. — Никакого вина! — сердилась божья коровка». В букваре под картинками были только просто буквы, из которых никакой истории или стиха не составишь. Попробуй запомнить какие-то отдельные буквы!
Но ведь Сирка и Кати не знали, что читать я ещё не умею, так что им я вполне годилась в учительницы! Обе были согласны играть в школу: Сирке очень нравилось сидеть на диване, а Кати была вообще хорошим и примерным ребёнком. Голова из целлулоида была гораздо более смирной, чем волосатая собачья морда!
— Начинаем урок, — сказала я громко чётким учительским голосом и раскрыла букварь. — Кто знает, какая это книга?
Кати подняла руку и сказала:
— Букварь.
— Полный ответ, Кати!
— Эта книга — букварь, — ответила Кати деловито, точно как мамины ученицы.
Сирка только позёвывала.
— Скажи, что это за буква? Сирка, я тебя не слышу! Как ты думаешь, может быть, это «А»?
Сирка вильнула хвостом.
— Молодец, Сирка. Да, это «А». Как видите, на картинке «А» — это буква автомобиля, аквариума и апельсина. Вот тут, ученики, другая буква — «X». Это буква хлеба, хвоста и хвороста. Но на страничке «X» есть ещё и другая буква. Кто может сказать, что это за буква?
Кати поняла руку и громко крикнула:
— Учительница, это «А»! Здесь «А» стоит перед «X». АХ!
— Ах! — воскликнула я вместе с куклой. — АХ! Здесь написано «АХ». Ух ты! Действительно, АХ!
Я полистала букварь и нашла, что «У» и «X» рядом — это «УХ!». А если после «у» и «X» кружочек «О», то это — «УХО».
Бот это было открытие! На странице с буквой «Л» я, называя буквы по порядку, нашли имена девочек: Аале, Лууле, Айли, Лейли… На картинке эти девочки держали перед собой книжки-песенники и пели: «Ла-ла-ла!», «Ла-ли-ли!» Конечно, эти «ла» и «ли» ничего не значили, но девочки были такие маленькие, что не умели петь «В Вяндраском лесу»!
Я забыла про своих учеников и стала перелистывать букварь. И оказалось, что в нем много приказывали: «Леэло, пой!», «Спи, Олли», «Инга, спи. Спи!»
Поскольку эти Олли и Инги были хорошими и примерными детьми, из урока ничего не вышло: они оставались послушными, а Олли и Инга только спали.
Чем больше я перелистывала книгу, тем больше узнавала. Оказалось, что у Велло есть брат Вийлу. А у одной девочки по имени Эпу была очень жадная мама. Когда Эпу просила: «Мама, дай супа!», мать вместо этого отвечала: «Спи, спи, Эпу». Велела спать, а поесть супа не давала!
Подписи под картинками становились всё длиннее, но я умела всё больше и больше. Когда я, наконец, узнала, что дед Миши, Саши и Маши обещал купить Мише очки, а вместо этого купил азбуку, я сначала посочувствовала Мише, что его обманули, но тут мои руки и ноги вдруг похолодели от испуга, а в голове возникала ошеломляющая мысль: кажется, я могу читать! Ведь то, что я делала, это чтение! Вот это да!
— Мама-папа! Мама-папа! Я умею читать! — закричала я так громко, что Сирка с перепугу соскочила с дивана.
Ну разве не грустно: я умела читать — как школьник, как взрослые люди, но не было ни мамы, ни папы, не было никого, кому можно сообщить эту удивительную новость! Прошла целая вечность, пока папа вернулся домой… Он и понятия не имел, что я за это время научилась читать и что нашла в букваре историю как раз о нём. Правда, у того Феликса, который на картинке держал телефонную трубку возле уха, было на голове гораздо больше волос, чем у таты, но ведь на картинке он и моложе, может быть, там нарисован тата, когда он был школьником?
Когда входная дверь хлопнула, я принялась читать громким голосом, уже не знаю в какой раз:
— Телефон звонит. «Алло, Феликс дома? Говорит Федя». Вирве: «Да, он дома. Феликс, Феликс, Федя звонит!» Слышишь, тата? Федя звонит!
— Скажи Феде, пусть идёт коту под хвост! — сказал тата устало.
Это не был образцовый ответ!
Королевский холостяцкий обед требует времени
Конечно, тата обрадовался, когда увидел, что я научилась читать и что на самом деле никакой Федя нам не звонит. Интересно, как бы это ему удалось, у нас и телефона-то нет.
Тата выглядел и впрямь сильно усталым, но всё-таки сделал весёлое и доброе лицо и легко поднял меня над собой.
— Уррра-а! Да здравствует всеобщая грамотность!
Он звонил из школьной канцелярии в город каким-то важным людям и услыхал от них, что через денёк-другой может приехать на встречу с мамой.
— Наша мама будет очень довольна, что дочка стала человеком, умеющим читать, — предположил тата. — Она ведь проделала для этого большую предварительную работу — научила тебя всем буквам.
— А я? Разве ты меня не возьмёшь с собой, когда поедешь к маме?
— В то место, к сожалению, маленьких детей не пускают, — ответил тата на мой вопрос. — Но, может, это и к лучшему… Мама обязательно скоро вернётся, тогда прочитаешь ей эту историю про Федю. А теперь посмотрим, что стало с тетеревом, и если жаркое готово, начнём королевский обед.
Но, увы, огонь в плите давно погас, и тата объявил, что тетерев твёрдый, как камень.
— Вроде бы стал еще твёрже, — сокрушался он, снова разжигая огонь в плите.
Мы поели немного хлеба с маргарином, и пока тетерев тушился в жаровне, я сделала тате массаж. Тата, когда занимался спортом, научился массажу и попытался научить этому и меня. Но у моих проворных рук был один маленький недостаток — они его только щекотали. Но когда я, стоя на коленях у него на спине, как бы шагала взад-вперед, это было, как он считал, уже что-то вроде настоящего массажа. А чтобы при этом не было скучно, мы играли в собаку-пастуха. Прежде всего произносили такой стих:
Пёс гонит стадо в кучу, в кучу,
кимпа-кумпа, тимпа-тампа.
Морда ничком, а хвост торчком…
Я была этим псом, который, опустив голову, медленно топтал коленями плечи таты. А когда это длилось достаточно долго, тогда рабочий день собаки-пастуха кончался, и начиналась дорога домой:
Идет от стада пёс,
тампа-тампа тирр-ди,
винта-вянта вирр-дии!
Собака-пастух живо бегала взад-вперёд и старалась при этом буйном беге не свалиться с дивана.
Этой игре научила нас мама — она, когда была маленькой, массировала своему папе спину под аккомпанемент этого стиха. Только это не называли тогда массажем, а разглаживанием вен или разминанием. Мама была в своей семье четырнадцатым, самым младшим и самым маленьким ребёнком — маленькой и очень шустрой, словно бусинка. И она была слишком хрупкой для хуторских работ, поэтому бабушка Мари всё время упрашивала дедушку Ханнеса: пусть ребёнок пойдёт в школу, пусть выучится на школьную учительницу и прокормит себя умственной работой. В конце концов дедушка-хуторянин согласился, дал маме котомку с хлебом и кадочку с маслом, мол, ладно, пусть выучится на учительницу. И может быть, была польза от того, что мама с малых лет ему разглаживала вены и пела: «Пёс гонит стадо, кимпа-кумпа…»
Я топталась много раз по папиной спине взад-вперёд, под конец он уже не произносил вместе со мной стих, а начинал тихонько сопеть. Но долго я этот собачий массаж делать не смогла, потому что в дверь постучали и в комнату вошла тётя Минни. И вид у неё был ещё более растерянный, чем раньше.
— Велике, скорее помоги! — крикнула она.
Папа приподнялся и сел. Лицо у него было заспанное. Удивительно, как это человек может днем добровольно спать — даже когда у него топчутся на спине!
— Что случилось? Кто-то из Тарзанов свалился с пальмы, что ли? — сказал он немного сердитым голосом.
— С Тарзанами ничего не случилось — в коровнике случилось несчастье! Там пол в коровьей моче, Сальме Аавик поскользнулась, упала и, похоже, сломала руку. Говорит, даже пошевелить рукой не может, так больно, — чуть не плакала тётя Минни.
— «Скорую помощь» вызвали? — спросил тата, встав на ноги.
— Да. Я как раз из школы, Людмила звонила в «скорую», но там сказали, что сейчас нет ни одной машины, к вечеру могут прислать, не раньше. Но ты это дело знаешь, пойдём, осмотришь её.
— Да ладно, пойдём, — сказал тата, подкинул в плиту пару поленьев и приподнял крышку жаровни. Оттуда шёл уже весьма хороший запах. Тата набрал ковшиком воды в ведре и плеснул в жаровню.
— Видишь, занят тут женским делом. Ну, может, птица за это время не подгорит.
Тётя Минни посмотрела на возящегося у плиты тату и сказала, извиняясь:
— Не сердись, Велике! Я понимаю, тебе и так нелегко — жена в тюрьме и маленькая девочка дома, но, скажи, где мне искать помощи? К руке Сальме и дотронуться нельзя, сразу начинает вопить, словно её режут! А о том, чтобы доить, и речи быть не может. Но эту работу мы выполним за неё все вместе. А она даже и пальто надеть не может, чтобы пойти домой к ребёнку…
Тата накинул пальто и велел мне:
— Смотри, не вздумай сама подкладывать дрова в плиту, ладно! Лучше пусть тетерев будет жестковат, чем дом сгорит!
— Не вздумаю, — успокоила я тату и добавила, глядя уголком глаза на тётю Минни: — Я лучше книжку почитаю.
Увы, тётя Минни даже и не услышала.
— У меня там ещё много нечитанного, — сказала я громко.
Ни тётя Минни, ни тата не обратили на мои слова никакого внимания. Не оставалось ничего другого, как подойти к тате и прямо напомнить ему:
— Я сегодня научилась читать.
И, наконец-то, получила долгожданную похвалу:
— Гляди-ка, какая молодец! Из тебя выйдет рохвессор!
Похвалить-то она похвалила, но нет, чтобы позвать будущего профессора пойти с ними… Оставшись в одиночестве сидеть дома, я от нечего делать раскрыла наобум букварь. Передо мной была страница, на которой дети в красных галстуках смеялись и махали флажками и цветами. Под картинкой была подпись «Большой праздник», а под нею ещё и стих:
Много радости Октябрь
Нашим детям подарил.
Ленин путь нам проторил,
Сталин счастье детям дал.
Кто такой этот Октябрь, я не знала, но имя показалось мне знакомым — с этим Октябрем хорошо бы подружиться: а вдруг он и тате подарит радость?
Ярость и щедрость тети Анне
Но прежде чем наступило счастливое подаренное детство и прежде чем тата вернулся домой, к нам прибыла гостья — тётя Анне. Она — единственная из татиной родни — не хотела играть в индейцев, хотя могла бы, потому что сил у неё, похоже, было очень много. Кроме большой коричневой сумки, она притащила ещё и две сетки: в одной были банки, консервные коробки и что-то завернутое в бумагу, а в другой — книжка с голубой обложкой и какая-то круглая коробка.
Я сразу догадалась, что эта книжка для меня — взрослые обычно не читают такие тоненькие книжки в бумажных обложках, но из вежливости я сделала вид, будто и не заметила этой голубой книжки. Как человек догадливый тётя Анне должна была бы сама вынуть подарок из сетки и протянуть мне — дескать, видишь, Леэлочка, раз ты научилась читать — это тебе. Я бы на это ответила: «Спасибо, мне уже и чтение ясно, как мыльная вода, если хочешь, могу и тебе вслух почитать».
Но тётя Анне, к сожалению, оказалась недогадливой. Она положила свою ношу на стулья, поправила свою серую войлочную шляпу, которая сползла ей на глаза, и сразу бросилась меня обнимать:
— Ах ты мой цыплёночек! Мой лоскуточек! Солнышко моё! Как вы тут вдвоём с татой справляетесь?
— Хорошо! Тата скоро вернётся из коровника, и тогда у нас будет королевский холостяцкий обед! — попыталась я выбраться из тётиных объятий.
— Из коровника? Это ещё что? Значит, ты совершенно одна дома? И почему отец в коровнике — его тоже выгнали из школы? — испугалась тётя.
— Не выгнали, он пошёл посмотреть руку одной тёти.
— Руку? Это ещё зачем? Жены нет дома — а он смотрит чужих женщин? Ну, этого я от Феликса никак не ожидала! — рассердилась тётя, оглядывая кухню. — Господи, боже мой, — огонь в плите, ружьё в углу, ножик на столе — и ребёнок тут один-одинёшенек! Этого так оставить нельзя!
Я попыталась успокоить тётю Анне, мол, я уже большой ребёнок и к тому же хороший и примерный: видишь, даже книжки читаю, но она меня и слушать не стала, а кинула пальто и шляпу на вешалку, закатала рукава жакета и принялась буйствовать в кухне. Грязная посуда отправилась в таз для мытья, половики были свёрнуты в рулоны, она и огонь в плите раздула. Сирку она выгнала на двор, меня с букварём и Кати отнесла в большую комнату.
Из кухни стало доноситься так много звуков — потрескивание горящих дров, громыхание посуды, шорох половой щётки, плеск воды, хлопанье наружной двери, что я время от времени подходила к двери комнаты и подсматривала в щелочку, не появились ли откуда-то у тёти Анне помощники. Но их не было, и, честно говоря, в кухне больше никто бы и не поместился, потому что руки и ноги тёти действовали так проворно повсюду, словно у неё их было столько, сколько у какого-то огромного паука.
Почти сразу я сочла, что лучше мне свой нос в кухню и не высовывать, потому что, заметив мои глаза, подглядывающие через чуть приоткрытую дверь, тётя Анне задавала мне странные вопросы: «Где половая тряпка? Разве таза больше в доме нет? А этой финдипендяпкой у вас что — пыль выбивают? Каким ножом у вас чистят картошку? А эта синяя курица на плите, она что — умерла естественной смертью или утонула в жаровне?»
По рассерженному тону тётиного голоса можно было догадаться, что ей наше житьё не слишком нравится. С тем, как она обращалась со мной, я примирилась бы, но то, что она обозвала королевское тетеревиное жаркое синей курицей, я вытерпеть не могла.
— Да это наш королевский холостяцкий обед, и ты его не получишь, раз ты такая злая! — крикнула я.
Тётя Анне рассмеялась, ворвалась в комнату, подняла меня с дивана и приблизила своё лицо к моему.
— Солнышко ты моё! Мой маленький цыплёнок! Я ведь с тобой не ссорюсь! Я говорю, что ваше житьё тут, будто Содом и Гоморра, в кухне полно мусора, хоть перепрыгивай через него на костылях! И в комнате, боже мой, холодно, как в волчьем логове. Да как вы тут живёте?
— Мы хорошо живём! — запротестовала я. — И скоро мама вернётся домой, будем жить ещё лучше!
Тётя Анне серьёзно посмотрела на меня в упор, и глаза её сделались мокрыми.
— Будем надеяться на самое лучшее, — произнесла она очень тихо и опустила меня обратно на диван.
Теперь было самое время продемонстрировать своё умение читать.
— Знаешь, тётя Анне, я уже умею читать! — И я показала ей букварь.
— Красный, как мартышкин зад, — определила тётя. — Ишь ты, и на обложке детишки с красным тряпочками на шее! Чисто русские дела! Ну что ты скажешь: Ленин сразу на первой странице, и Сталин в придачу! Бандитская шайка в сборе — один лучше другого!
— Тут, где цветные картинки, читать нечего, рассказы, видишь, во второй половине, где серые картинки! Я могу почитать тебе на любой странице, честное слово! — не смогла я удержаться от хвастовства.
— Да что ты говоришь? — изумилась тётя Анне. — Ну, читай вот тут, с этой страницы комми не смотрят, — показала она на страницу с буквой «К».
Я принялась читать:
— Кролики. Какие красивые кролики. Калев наливает кроликам молоко. Куле даёт кроликам корм. Какой корм у кроликов?..
Окончив читать, я стала ждать от тёти Анне похвалы. Я помнила, как она охала и ахала и называла меня чудо-ребёнком, когда я показала ей сложенную из кубиков картинку коровы. Но на моё складное чтение она лишь покачала головой и сказала пренебрежительно:
— Да-да, типичные русские дела: хвалят себя так, что дальше некуда, а есть нечего — ни людям, ни кроликам! Бьют в барабаны и дудят в трубы, чтобы не слышать, как в животе бурчит!
Вот так она обратила внимание на моё чтение: опять русские дела — и всё тут!
У нас о бурчании в животе и речи не было. Тётя Анне добавила в жаровню с тетеревом лук, сметану, перец и ещё всякую всячину, так что когда тата вернулся домой, мы сели втроём есть королевский холостяцкий обед. Кухня сияла чистотой, а тётя сияла от гордости, потому что тата хвалил её за работу и кулинарное искусство и велел мне тоже благодарить.
— Мы с Лийли договорились, что начинаем по очереди ездить к вам — помогать, — сообщила тётя. — Но, я вижу, этого будет недостаточно — тебе нужна приходящая домработница или няня.
В нынешние времена полно таких старух, которые ни пенсии и ничего другого не имеют, надо только посмотреть вокруг.
— Какой смысл на такое короткое время искать няню? — сомневался тата. — Адвокат сказал, что приехавший из Москвы русский следователь не нашёл никакой вины Хельмес, может, её завтра или послезавтра отпустят домой.
— Вчера он сказал совсем другое: этот следователь Александров, или Алексеев, уехал обратно в Россию, и дело опять у Варика, а из пасти этого шакала вырваться трудно… Не знаю, и откуда только такие мерзавцы берутся. Сам — эстонец, а такой комми, что хуже, чем все русские вместе взятые. Сможет ли адвокат Левин вправить Варику мозги, сказать не берусь. Хотя он и очень молодой, этот адвокат, но ведь еврей, и говорят, очень умный и смекалистый, с понятием… — говорила тётя Анне. — Что у Хельмес нет никакой вины, это он понял мгновенно, но сказал, что теперь, если попадёшь в Батарейную тюрьму, так просто не выпустят, меньше пяти лет не дадут…
— Как — пять лет ни за что? — испугался тата. — Это абсурд! Ты сама подумай, двадцатый век — это не времена инквизиции, когда самых умных людей отправляли на костёр как ведьм и колдунов!
— Пять лет — это ещё самая маленькая такса, в большинстве случаев дают и десять, а то и двадцать пять плюс пять!
— Ах, иди ты коту под хвост с такими разговорами! Это курам на смех!
— Ах, курам на смех! — разгорячилась тётя Анне и бросила нож и вилку на тарелку с жарким. — Я работаю среди женщин и жизнь знаю! Я и раньше бывала права, вспомни! Вспомни, как в сороковом году летом ты и Лийли не верили, что теперь мы под русскими. На площади Свободы собралось много людей с красными флагами и лозунгами, и когда я у одной размахивающей кроваво-красным платком женщины спросила, что здесь происходит, она ни слова не поняла, оскалила зубы и спросила: «Чего-чего?». Потом сказали, что ЭСТОНСКИЙ трудовой народ хотел объединиться с Россией. Этих объединителей привезли с другого берега Чудского озера, ясное дело! Возле Палдиски уже были большие русские военные базы, а вы с Лийли со мной спорили, что ничего случиться не может, что русские заключили с немцами договор о ненападении. Во время того большого красного митинга Лийли ещё и прошлась перед русскими мужиками возле горки Харью несколько раз туда и обратно, и её белокурые волосы эстонской девушки развевались на ветру. Но с дурочки какой спрос! Она думала, что русские снимают на площади Свободы какое-то кино — хотела тоже в фильм попасть! Лийли всю жизнь была большой задавакой и привыкла, что её считают красавицей! Это ещё божеское счастье, что один знакомый, Отто, увидел её и увёл из-под дула пулемёта — ну сам подумай, человек не видит разницы между киноаппаратом и пулемётом! Бот это было курам на смех, а не то, что я сказала!
— Ну да. Никто и предположить не мог, что дело обернётся таким сумасшествием… — грустно сказал тата, кивнув головой.
— И придумали термин — договор о ненападении! — продолжала сердиться тётя. — Этим договором было в самый раз подтереться, это я тебе сразу сказала. А сам образованный — ты был у дворца в Кадриорге и слышал, как Пяте сказал, что это не эстонский народ! Мог бы догадаться, что если комми схватили Эстонию своими когтями, они нас больше не выпустят!
— Ну да, пожалуй, Варес-Барбарус был очень наивным человеком — поэт! Ему в Москве показали майский парад: девочки в белых блузках маршировали по Красный площади и пели о большой свободе и равноправии — и он дал себя обмануть, — усмехнулся тата.
— Это ты теперь говоришь. Сам тоже был наивным: если бы я сразу не отвела тебя в магазин и не заставила купить отрез на костюм, ходил бы теперь с голой задницей! Ты не верил, что там, где прошли коммунисты, остаётся голая земля — как корова языком слизнула! — врезала ему тётя.
— Ну, хорошо, хорошо! — сказал тата устало и обратился ко мне:
— А тетеревиное жаркое-то у Анне вкусное получилось?
— Мх-мх, только не ссорьтесь больше, ладно!
Тётя Анне с перепуганным видом открыла рот, но оттуда довольно долго не вылетало ни слова.
— Господи, боже мой! — наконец воскликнула она. — Я болтаю и болтаю такие антигосударственные речи, а тут ребёнок!
— Да, из-за трёпа немало людей пострадало! — усмехнулся тата.
— Господи, но ведь ребёнок, наверное, и не понимает о чём речь? — забеспокоилась тётя Анне и взглянула на мою тарелку.
— Смотри-ка, у тебя и еда почти не тронута. Слушала, о чём мы говорили?
До чего с взрослыми трудно! Иной раз только сосредоточишься на рисовании или на каком-нибудь другом важном занятии и не заметишь, что тебе, между прочим, велели вытереть нос или запретили совать карандаш в рот, — сразу начинается крик, мол, что это за ребёнок, который не слушает, что говорят взрослые. А вот когда сидишь с взрослыми нос к носу за столом и делать тебе особенно нечего, кроме как слушать, тогда должна как легавая собака опустить уши, чтобы ни словечка не слышать, о чём говорят другие!
— Я уже сто раз слышала про то, как тётя Лийли приняла пулемёт за киноаппарат, — призналась я честно.
— Но, смотри, не говори об этом больше никому! — поучала тётя Анне. — Ни за что не говори, слышишь? Держи рот закрытым и заткни пробкой! Из-за шибко разговорчивых детей в наши дни и людей арестовывали. В России один мальчишка дал всю свою родню посадить и убить! Какой-то Павлик, или как там его звали, — по радио о нём раззвонили, как о большом герое… Святые угодники — радио! Из-за уборки оно совсем у меня из головы вылетело!
Подарки — наконец-то!
Наконец тётя Анне вспомнила про сетку с более интересным содержимым — убирая, она выставила стулья с сетками в холодную комнату.
— Ну и впрямь моя никудышная голова годится только задницу подтирать! — решила тётя Анне и протянула мне книжку.
— Спасибо!
Я проворно схватила книжку и прижала к груди, потому что, поди знай, вдруг тётя решит, что книжка годится подтирать задницу лучше, чем её голова. На обложке была в красивой раме картинка с детьми — мальчиком и девочкой, играющими в песочнице. Эта девочка была немножко похожа на меня, даже жестяные волнистые формочки для игры в песочнице были похожи на мои. Только красной лопаточки и красного флажка, который её друг или брат воткнул на самый верх песчаного замка, у меня не было. Под картинкой большими красными буквами было написано: «СТРОИМ!».
Первым делом я посмотрела все картинки — они были чёрно-белые, как у историй в букваре, и я быстро решила красиво раскрасить их, как только тётя выполнит своё долговременное обещание и заточит мои цветные карандаши. Особенно красивыми были страницы, на которых две девочки складывали из больших кубиков школьное здание. Там был красивый стол для учителя, доска и много маленьких парт, на которых смирно сидели куклы. Если бы у меня самой была такая игра, я могла бы лопнуть от счастья и с утра до вечера играла бы в школу! Рядом с картинкой было написано:
Мы подруги — две Тамары,
строим школу мы на пару.
Там за партами сидят
пары маленьких ребят.
Внутреннее чувство подсказывало, что для большого счастья мне настоятельно нужны игрушечные парты, маленькие куклы и подруга по имени Тамара. Получить всё это было непросто, но если я дам отцу спокойно работать, тогда, может, он постепенно соберёт денег для покупки игрушечных парт! Но только я собралась прочитать книжку от начала до конца, как вдруг услышала, что в большой комнате играет музыка — не бренчание гитары, и не дудение тромбона, а звуки многих инструментов.
Я выбежала в большую комнату и обнаружила тату и тётю Анне, возящихся с маленьким радиоприёмником. У нас и раньше было радио, оно называлось «Марет», но уже давно не работало, и тата убрал его в холодную комнату, чтобы не путалось под ногами. Как сказал тата, у «Марет» перегорели лампы, и достать такие теперь было негде, так что заработать оно сможет, когда снова наступит эстонское время.
Новое радио было маленьким и очень красивым: у него были розоватые рёбра, и за ними проглядывала бежевая материя с очень мелким узором. Блестящие бока и верх были каштаново-коричневые и очень приятно пахли. Но замечательнее всего было то, что между розоватыми рёбрами красовалась в одном углу картинка с необычной башней с часами.
— Ты принесла это радио НАМ? — спросила я у тёти Анне. Где-то в глубине души поскрипывал страх, что вдруг тётя Анне скажет: «Ах, я подумала, что покажу вам свое радио и потом заберу с собой обратно в город!»
— Да, вам, — сказала тётя Анне, улыбнувшись. — Это от нас двоих с Лийли, мы-то думали, что и Март войдёт с нами в долю, но они с Идой сейчас копят деньги на покупку дивана. А к нам в парикмахерскую приходил один мужчина, предложил радио за полцены — я и подумала, что вам бывает иногда скучно и хорошо послушать новости.
— Спасибо, — сказал тата. — Но могла бы поинтересоваться, хочу ли я покупать радио. Знаешь, у меня сейчас с деньгами очень туго, так что от этой покупки, пожалуй, придётся отказаться…
— Господи! — воскликнула тётя Анне. — Да о каких деньгах ты говоришь! Я же сказала, что мы с Лийли на двоих купили вам радио. Неужели ты думаешь, что я возьму у тебя последние деньги? У меня, слава богу, сейчас недостатка нет: какая бы власть ни была, парикмахер с голоду не умрёт! Женщины всегда хотят красиво выглядеть и делать перманент! Работы сейчас очень много, а русские дают «на чай» щедрее, чем наши эстонки!
Тата пробормотал:
— Ну, спасибо… Но мне это не по душе.
— А какое имя у этого радио? — поинтересовалась я.
— «Москвич», — буркнула тётя Анне. — У русских везде Москва — и сзади, и спереди. Так что теперь у вас тоже русский в доме. «Говорит Москва — сегодня хлеба не будет»!
— Нет, это вовсе не русский, оно знает и эстонский язык! — сердито крикнула я, ведь мы все слышали, как звонкий женский голос объявил на чистейшем эстонском языке: «Говорит Таллинн! Начинаем концерт по заявкам. Товарищ Санглепп с радиозавода „Пунане РЭТ“ желает послушать „Песню яхтсменов“ композитора Бориса Кырвера. Исполняет Виктор Гурьев».
Бравурно заиграл оркестр, и весёлый мужчина запел: «Солнце, волны, морской ветер, сделали нас смелыми…» Песня была очень бодрой и легко запоминалась. Так что последние строчки я спела вместе с радиодядей: «Эй, ветер, надуй паруса! Мы тебе залихватски споём! Как чайки крыло, яхта в море несёт нас, спортсменов отважных и юных!»
Концерт по заявкам был хорошим делом! Товарищи один за другим желали, а дяди и тёти пели, и оркестр играл. Что тата и тётя Анне делали или о чём разговаривали, меня больше совсем не интересовало: мир, о котором рассказывали радиопесни, был солнечным и радостным — никаких адвокатов и следователей, русских пулемётов и недостатка денег. Даже тогда, когда мелодии были грустными, песни красиво рассказывали о ласточках, предвещавших весну, о молодом пограничнике, который пил воду у колодца, о Севастополе, где матросы танцевали вальс…
Я могла бы бесконечно слушать эти песни, но вдруг тётя Анне крикнула:
— Теперь всю одежду долой — и марш в ванну!
В два счета меня раздели догола, прежде чем я успела понять, что происходит.
Ванна, над которой поднимался пар, была поставлена на два кухонных стула, тата поднял меня и плюхнул в воду.
— Кипяток! Спасите, вы меня сварите! — закричала я и попыталась вылезти из ванны, но тётя Анне надавила на меня, и я села в воду.
— Нечего кричать! Сиди смирно и жди, пока я не соскребу с твоей спины грибочки!
— Грибы? — От неожиданности я забыла про обжигающую воду в ванне и попыталась через плечо увидеть свою спину. Грибы мне по вкусу, особенно рыжики. — А какие там грибы — сыроежки или рыжики?
— Поганки! — сообщила тётя. — Наша Леэло длинная и тонкая, как в лесу поганка!
— Сама ты! — Я пыталась руками прикрыть свой живот — когда моют пупок жутко щекотно.
— Неужели ты меня стесняешься? — удивилась тётя Анне. — Ведь я не мужчина, чтобы меня бояться. Мужчинам, конечно, нельзя пупок показывать, это ясно. Когда мы были маленькие и жили в Вирумаа, там одна девица на сенокосе попробовала шутки ради закинуть ногу за голову, но потом не смогла её оттуда опустить и подняла жуткий крик: «Помогите! Все, кто может, только не мужчины!» В конце концов подруги помогли ей в беде, а то, глядишь, так бы и осталась с ногой, закинутой за голову! Раньше ведь трусиков не носили — вот был бы стыд, если бы подошёл какой-нибудь мужчина! А если бы она так умерла, то и в гробу бы не поместилась.
Истории тёти Анне часто были как бы пугающими, но немножко и смешными. Даже мытьё головы на сей раз обошлось без слёз, потому что руки парикмахерши тёти Анне быстро с этим справились, и когда я подумала, что пора бы поднять шум: мыло в глаза попало, волосы были вымыты и прополосканы.
Меня завернули в большую банную простыню, и тата понёс меня через большую комнату в спальню, только ступням ног было чуть холодновато, но я чувствовала себя очень уютно и смело — даже щель между гардинами не казалась опасной. Ноги и Кота приятно шевелили пальцами и вели между собой ножной разговор. И тогда я вдруг унюхала в воздухе мамин запах.
— Не знаешь, что мама сейчас делает? — спросила я у таты, который как раз упаковывал меня в ватное одеяло. — Она опять прислала сюда свой запах!
Тата потянул носом воздух и пожал плечами.
— Мой бесчувственный нос никакого запаха не учуял… А знаешь: завернём тебя в одеяло так, чтобы получился маленький пакет, и пошлём во сне маме! Зажмурь крепко глаза, а то соринка в глаз попадёт, верно! Из кухни доносился плеск воды и ворчание тёти Анне: ей не нравилось, что Сирку опять впустили в дом.
Тата не хочет готовиться к войне
Теперь, когда я сама могла читать книги и в доме было радио, моя жизнь сделалась гораздо интереснее. Больше не надо было придумывать, во что играть с Сиркой, Кати, Ноги и Котой: стоило повернуть радиопуговку — и дом наполнялся музыкой или словами. Время от времени тётенька со звучным голосом радостно сообщала: «Здесь Таллинн!»
[11], и я сначала несколько раз на всякий случай смотрела в окно: а
вдруг наш дом уже не в Руйла, а вовсе в Таллинне? Постепенно стало ясно, что тётенька со звонким голосом просто не умеет начинать передачу иначе, чем объявив «Здесь Таллинн!». Но что бы она там торжественно не объявляла, за окном всё равно были видны серебристые ивы с голыми ветками и грязная дорога. И, к сожалению, никак не менялась картинка с башней Кремля и рядом ёлочек, украшавшая наш «Москвич», — ну разве не здорово было, если бы ветки ёлочек немножко шевелились! Я мечтала, что когда вырасту, сразу стану кондуктором или изобретателем, изобрету и придумаю такое радио, чтобы оно показывало движущиеся картинки, как в кино! Тата говорил, что у немцев и американцев ещё до войны были такие аппараты. Ну и пусть! А я бы изобрела такой эстонский аппарат, чтобы показывал Георга Отса, и Виктора Гурьева, и Мету Коданипорк с Веэрой Неэлус!
[12] Ой, как бы мне хотелось увидеть хотя бы тех детей, которые пели:
Собирайтесь, дети, слушать
передачу «Угадайка!».
Передача для детей, собирайтесь поскорей!
Это была захватывающая передача. И в ней задавали разные загадки — я тоже несколько раз выкрикивала ответ прямо в радио, но, к сожалению, мой голос был, наверное, слишком тихим, и поэтому там на меня не обращали никакого внимания! Они меня не слышали, а я их не видела! В конце передачи к невидимым детям приходил дядя с приятным голосом — почтальон Каарел, который читал вслух письма радиослушателей. Но чуть раньше или чуть позже и мне придётся научиться писать, потому что кому же не хочется подружиться с почтальоном Каарелом! Иногда по радио выступала тётя Имби Валгамяэ, которая говорила двумя голосами. Голосом девочки она спрашивала: «Вася, ты спишь?» и отвечала мальчишеским голосом: «Не сплю, а что?»
Самой скучной была передача «Новости дня». В ней длинно говорили о каких то ударниках и стахановцах, которые то и дело выполняли и перевыполняли какие-то нормы и спешили встретить приближающийся майский праздник новыми трудовыми победами. Во многих случаях я вообще не могла понять, о чём говорили, хотя половину слов понимала. Какими, например, могли быть эти капиталистические хищники, которые где-то на Вол-Стрите скрипели зубами и пытались совать палки в колёса советским шагам вперед? И кто такие были отдельные реакционные молодые люди, которые низкопоклонствовали перед западным образом жизни и не шли в ногу с комсомолом? Ничего хорошего не стоило ждать от этих хищников и от низкопоклонников, поэтому я была довольна, что бодрые комсомольцы из училища трудовых резервов единодушно разоблачали и стыдили этих реакционщиков.
Когда я слушала эти истории по радио, у меня перед глазами возникала картина с наклонившимися низко к земле девицами, на голые пупки которых указывали пальцами стыдящие их бодрые молодые пареньки в форменных фуражках училища трудовых резервов.
«На помощь! Спасите, все, кто может, только не мужчины!» — кричат опозоренные девицы, но уже поздно: попробуй идти в ногу с другими, если закинул одну ногу за голову и показал мужчинам свой пупок! Разоблачённые девицы с пупками остаются беспомощными и вперёд могут двигаться с трудом, низко наклонившись к земле, когда бодрая молодёжь спешит к светлому будущему, распевая: «Эй! Кто впереди в работе? Комсомол, комсомол! На море и в пехоте — комсомол! В каждом доме и дворе, в каждой школе, институте, на селе и в городах, на морях и в облаках — комсомол!» Несмотря на то, что песни по радио были радостными, я, слушая их, испытывала в глубине души новый страх: где-то, за какой-то лужей, вооруженные до зубов капиталисты готовятся к новой войне. Проклятые капиталисты сами жили в прогнившем мире, и поэтому хотели уничтожить процветание социализма. На нашей деревенской дороге было много луж, но, кроме лягушек, ни в них, ни за ними никого не было видно. Лягушки были смирными, они даже не пытались кусаться, когда их захватывали и держали в плену между ладонями. А капиталистические хищники были, по словам радиодяди, коварными и могли маскироваться, так что на всякий случай, шлёпая по лужам, надо быть осторожными. Что будет, если действительно вооружённые до зубов хищники набросятся на нас? Что будет, если война начнётся раньше, чем мама успеет к нам вернуться?
У таты не было много времени, чтобы слушать радио, мои серьёзные тревоги вызывали у него только смех — а сам ещё был на войне, и голодал, и был ранен! Когда радиодядя снова заговорил про вооружённых до зубов агрессоров, папа просто выключил радио и пробормотал себе под нос: «Всё дерьмо, что калека поёт!». А мне он сказал: «Радиолампам надо иногда давать остыть», но по его лицу было видно, что о подготовке к войне он и думать не хочет. Давать радиолампам остыть тата хотел и тогда, когда передавали красивые песни с грустными мелодиями, в которых рассказывали о Ленине, который хотел брать детей на колени, и о Сталине, о котором лесорубы пели у костра пленительные мелодии. Всякий раз тата шептал: «Всё дерьмо, что калека поёт!» и после этого подтверждал мне, что радиолампы опасно нагреваются, если радиоаппарат время от времени не выключают. Что касалось песен и войны, тата, по-моему, был немного наивен. Ничего не поделаешь — пришлось мне взять подготовку к войне на себя.
К счастью, у нас была красивая пустая коробка из-под мармелада, крышку которой украшали народные танцоры. В эту коробку поместилось много необходимого: я положила туда на сохранение марлевые бинты, бутылочку с риванолом, вату, кусковой сахар, несколько конфет с начинкой из варенья: по радио рассказывали, что во время войны было большим счастьем, если можно было пить чай с конфетой. Когда тата принёс из магазина, что в Лайтсе, кукурузные хлопья и кубики какао — ой, как вкусно было их грызть! — я отложила кое-что в коробку. Из татиной пачки сигарет «Аврора» я вытащила несколько штук и перевязала ниткой. Вот будет сюрприз, когда посреди сурового военного времени положу ему на ладонь сигареты! В запасы на время войны вошло ещё два спичечных коробка — в одном так и были спички, в другой я насыпала соли, которая во время войны должна быть на вес золота! В коробку поместились и две баранки. Таким образом были сделаны самые необходимые запасы. Что бы там по радио ни говорили, у меня на душе насчёт войны было спокойно. Теперь надо было найти подходящее место для хранения запаса на случай войны.
Сначала я хотела спрятать коробку в шкаф для одежды, потом вспомнила, что это не слишком надёжное место — мешочек с медалями таты ведь пропал из шкафа, как в воду канул! В ночной тумбочке было так много всякой всячины, что мармеладная коробка туда не помещалась, нижняя часть книжных полок, где были дверцы, оказалась лучшим местом для секретной коробки: там мама хранила фотоальбомы и Эстонскую Энеи… Энцю… словом, те книги, которые нельзя было показывать чужим. Дядька в чёрном пальто хотя и скинул все эти толстенные тома в синих переплётах на пол, но ему, наверное, неохота была их перелистывать. Эти книги маме почему-то велели уничтожить, когда она ещё была директором школы, но её сердце не разрешило ей это сделать — она только вырезала первую страницу, где была подпись президента Пятса. «Ты этого не видела», — сказала мне мама, когда скомкала эти страницы и бросила в печь.
Мармеладная коробка хорошо поместилась между этими Эстонскими Энтсю… или как там их называли, но за ними я вдруг нашла… мешочек с медалями таты! Интересно, откуда у мешочка взялись ноги, чтобы перебраться из шкафа для одежды в книжный?
Медали были такие красивые, что было невозможно так просто положить их обратно за книги, и ведь ничего с ними не случится от того, что я немножко с ними поиграю!
Я отнесла мешочек со всем содержимым в спальню и разложила то, что в нём было, — медали, ложки и другие серебряные вещички — на маминой-папиной кровати. Одна большая золотая медаль была по игре матерью-козой, а другие — её козлятами. Ложка для сахара, напоминавшая совок, очень годилась быть серым волком: в неё потом можно положить большие крупинки соли и играть, что это камни, которыми коза-мать наполнила волку брюхо. Охотником стал нож для масла — его золотое лезвие сияло особенно ярко, оно было совсем новое, насколько я знала, этот нож ещё ни разу на стол не клали. Самым маленьким козлёнком стала одна медаль с сине-чёрно-белой ленточкой. И даже подходящий часовой футляр для этого седьмого козлёночка имелся — внутри больших призовых настенных часов таты!
Эти часы были в деревянном шкафчике и громко и очень красиво тикали, но их надо было время от времени заводить, крутя специальный ключик. Эти часы больше стояли, а тата пользовался обычно будильником с серебристым куполом, который можно было завести и заставить звонить в определённое время. А призовые часы издавали через каждые полчаса громкий бой, и это даже иногда пугало по ночам. Я решила на время своей игры их все-таки завести, но это оказалось не так-то просто. В конце концов ключик влез в нужную дырку, по покрутить его у меня не хватило силы.
Большая золотая медаль хоть и кричала, вытирая глаза: «Где мои дорогие козлята?», но никто не отвечал: волк — сахарная ложка — уже проглотил маленькие награды — козлят — живьём и целиком и дрых под одеялом.
— Мамочка, я здесь, в шкафчике для часов! — ответила маленькая медаль высоким голосом Беэры Неэлус.
Но до счастливого конца сказки на сей раз не дошло, потому что снаружи послышался шум мотора автомобиля и скрип тормозов. Я выскочила в кухню и, глянув в окно, увидела угловатую тёмно-зелёную машину. Из неё вылез, держа портфель, чёрный дядька. Тот, самый противный, который назвал меня отродьем. Вместо чёрного пальто на нём была чёрная куртка, словно от пальто отпала нижняя часть. Мой живот и ноги со страху зачесались, я быстро шмыгнула в спальню и включила радио.
«Наши дети растут не для того, чтобы их посылать на смерть, ибо мы не хотим войны!» — пели Георг и Карл Отс. С ними было не так страшно.
Маленький розовый мраморный альбом
Сирка залаяла ещё до того, как в дверь стали стучать кулаком. У мамы для тех, кто стучал в дверь, было три ответа. Самый обычный был: «Войдите!», но если она была занята каким-то домашним делом или была непричёсана, она кричала: «Минуточку!». Но когда мама была в грустном или плохом настроении, она спрашивала: «Кто там?».
Я тоже крикнула: «Кто там?», хотя хорошо знала, что за дверью ждал противный чёрный дядька. Сказка кончилась: чёрные дядьки и вполовину не столь наивные, как серые волки, которые на вопрос козлят показывают свои лапы.
Я никогда не знала, заперта дверь или нет. Иногда, уходя утром в школу, тата оставлял меня взаперти, а иногда дверь оставалась незапертой. В это утро ключ торчал в замочной скважине с внутренней стороны, значит, дверь не была заперта.
— Кто там? — крикнула я на всякий случай ещё раз, стараясь сделать голос очень сердитым.
Чёрный дядька даже не потрудился ответить, он просто вошёл, отпихнул ногой в сапоге гончую, которая лезла его обнюхивать, и уставился на меня, издевательски усмехаясь.
— Ну, настроение петь прошло, а?
Я набралась смелости и объявила:
— Ни мамы, ни папы нет дома!
Я, конечно, знала, что хороший ребёнок должен первым делом поздороваться со взрослым, но разве скажешь приветливо «Тере!» в ответ на издевательский вопрос!
Но дядьку больше и не интересовало моё настроение. Не обращая на меня внимания и не сказав мне ни слова, он направился в большую комнату. Я бросилась вслед за ним и снова крикнула:
— Мамы и таты НЕТ дома!
— Это я и сам знаю, — пробурчал дядька и выдвинул большой ящик письменного стола. — Мамочка уже там, где ей и место, а папочкины дела мы только расследуем.
— Вещи мамы и таты нельзя вытаскивать! — предупредила я, а у самой плач подступал к горлу. — Тата должен скоро вернуться домой!
— Где-то тут должны быть эти фотоальбомы? — чёрный дядька будто не слышал моих слов. Он немного покопался в ящиках письменного стола и затем так их и оставил. На сей раз он не высыпал всё из них на пол, а прямиком направился к книжному шкафу, рывком распахнул дверки в нижней его части, словно прочитал мои мысли о том, что я ему не скажу, что альбомы там…
«Так нельзя делать!» — хотела я крикнуть, но не могла вымолвить ни слова. Я уже знала, что чёрный дядька гораздо сильнее меня, да и было бы странно наброситься на него, когда он, не обращая на меня внимания, присев, перелистывает один за другим лежащие на полу фотоальбомы мамы и таты, словно что-то ищет между страницами.
— Ха-а! — воскликнул чёрный дядька победно, когда раскрыл спортивный альбом таты. — Тут наш папочка марширует под сине-чёрно-белым флагом! Чёртов буржуйский подлиза! — И трах — вырвал фото из альбома.
— Мама и папа не разрешают рвать свои вещи! — крикнула я, увидав, что он выдрал из альбома уже довольно много фотографий, так что на тёмных страницах остались только белые пятна клея.
Чёрный дядька поднял голову и уставился на меня своими маленькими бесцветными глазками.
— Это, барышенька, не вещи, а вещественные доказательства, вот!
Те мамины альбомы, где на фото она совсем молодая, он разглядывал дольше, потому что там под каждой картинкой были сделаны белыми чернилами подписи, и, похоже, они его особенно интересовали.
— Так-так! Ишь ты! Вот-вот! — произносил он себе под нос, выясняя имена людей на фото. — Смотри-ка, что тут нашлось — гимнастические курсы Эрнста Идлы!
Дядька выдрал фото из альбома и помахал им перед моим носом. На фото была целая куча женщин в спортивной одежде, прыгающих на траве. Лица гимнасток на фото были такие маленькие, что я не могла узнать маму.
— Идла — известный делец из шведской разведки! — радостно объявил чёрный дядька. — Выходит, твоя мамочка ещё и шпионка! Это пахнет ещё одним параграфом!
Кроме зловония кожаной куртки и сапог никакого другого особого запаха в большой комнате я не ощутила, но заметила, что у дядьки на очереди маленький розовый альбом. «Наш милый розовый мраморный альбомчик!» — обычно говорила мама, наклеивая туда новые фотографии.
Что бы там ни произошло с другими фотографиями, но ЭТОГО альбома руки чёрного дядьки касаться не должны. Нет — лучше смерть!
Я схватила мраморный альбом с пола, прежде чем руки чёрного дядьки дотронулись до него, и побежала в кухню.
— Что за чёрт! — крикнул чёрный дядька и в несколько шагов догнал меня. — Сейчас же давай это сюда, слышишь, выродок!
Сирка, которая обычно людей не трогала, зло прыгнула на чёрного дядьку и вцепилась зубами в рукав его куртки. Он стряхнул собаку и нанёс ей такой удар ногой, что Сирка с визгом отлетела в угол кухни.
А я выскочила во двор и, долго не раздумывая, пустилась бежать к школе. Куда же ещё — Затопеком я была только играя, и на лесной дороге чёрный дядька сразу бы меня поймал, а так была хотя бы надежда где-нибудь в школе спрятаться.
Мои мягкие домашние тапочки шлёпали по лужам, и я, не оглядываясь, понимала, что вот сейчас-сейчас чёрный дядька схватит меня.
Но дверь школы открылась и оттуда вышли — как раз в нужный момент! — трое мужчин: тата, дядя Артур и Яан-Наездник.
— Тата, помоги! — крикнула я изо всех сил. В этот миг чёрный дядька схватил меня за плечи и тряхнул так сильно, что маленький розовый альбом выпал у меня из подмышки, дядька схватил его и рукавом стёр с него грязь. Я попыталась вцепиться в альбом, но чёрный дядька так толкнул меня, что я чуть не плюхнулась на попку.
— Что это значит? — Тата вдруг оказался рядом со мной, сжимая кулаки. И оба его друга смотрели на чёрного дядьку так зло, что он, казалось, на мгновение испугался.
— Следователь Варик, — сказал дядька торопливо и указал на меня пальцем. — Эта паршивка хотела убежать с вещественным доказательством!
— Что, неужели русская безопасность начала и маленьких детей пытать? — спросил Яан-Наездник.
— Скажите спасибо, что я не применил оружия, чтобы предотвратить уничтожение вещественного доказательства! — усмехнулся следователь. — Я мог эту паршивку пристрелить на месте, никто бы и не пикнул!
Я вытянула руки, и тата поднял меня.
— Не плачь доченька, — сказал он, утешая меня, но от этого у меня как раз и потекли слезы — раньше мне некогда было думать о плаче.
— Не позволяй чёрному дядьке смотреть мой альбом, — говорила я сквозь слезы тате на ухо. — Ты же знаешь, там мои фотографии, где я совсем голая… И пупок виден, и всё…
Но следователь Варик уже раскрыл маленький розовый мраморный альбом и перелистывал его ещё яростнее, чем фотоальбомы мамы и таты.
— Леэло — два месяца… Леэло — полгода… Леэло два го… — читал он с издевкой. Он просмотрел альбом от начала до конца несколько раз, будто фото могли за это время измениться. Но всё оставалось, как было: на первых страницах были те постыдные фото, на которых я лежала совсем голая на связанном бабушкой Мари клетчатом одеяле, а с последних фотографий я смотрела уже прилично — бант на голове и связанное мамой платье.
— Какого чёрта? — Следователь Варик сплюнул и начал зло трясти маленький розовый мраморный альбом. Но, к счастью, мама все фотографии очень хорошо и аккуратно приклеила, ни одна не оторвалась и не упала в грязь.
— На! — Он сунул альбом в руки таты, повернулся и, ничего больше не сказав, пошёл большими шагами к своей машине.
— Только ты не говори тёте Анне, что чёрный дядька видел на фото мой пупок! И о фотографии с голой попкой тоже не говори, — шептала я тате. — Ладно?
— Не скажу, честное слово! — ответил тата очень тихо и засмеялся ещё тише. Этот смех был мне знаком, и я умела так смеяться вместе с татой: так смеялся старый индеец лунной ночью, заметив следы белого человека около львиного логова: ххи-хи-хи…
На мужском острове
Яан-Наездник взял меня на закорки и лихо заржал.
— Теперь поскачем вдаль и будем вольными, как ветер!
Но поскакали мы к нам домой, и я была очень довольна тем, что папины друзья пришли с нами. Чёрный дядька мог вернуться — фотографии мамы и таты он забыл у нас на полу… При папиных друзьях следователь не был и вполовину таким смелым и могучим, как тогда, когда говорил с мамой и со мной. Яан-Наездник и дядя Артур сидели в кухне у стола и смотрели, как тата искал для меня сухие чулки и носки, а мокрые тапочки повесил сушиться возле плиты на верёвку.
— Как мы можем тебе помочь? — спросил Яан-Наездник у таты, но прежде чем тата успел ответить, дядя Артур пробасил:
— Мне в голову пришла хорошая идея: оставим плиту топиться, а сами рванём на островок! Поговорим маленько по-мужски и забудем хоть на какое-то время эти русские дела!
— По-мужски поговорить можно было бы! — считал и Яан-Наездник. — У меня в кладовке найдётся пол-литра, так что не стоит бояться, что замерзнём… Как ты думаешь, Феликс?
— Куда я ребёнка-то дену? — сказал тата, и лицо его было грустным.
— Ребёнка возьмём с собой, что за вопрос! Если станет холодно, устроим верховую езду, верно? — обратился ко мне с улыбкой Яан-Наездник.
Конечно, я была согласна — не каждый день можно попасть на остров!
Яан-Наездник был удалой человек! Другие называли его Яаном Реэманном, но это не было и вполовину таким привлекательным именем, как Яан-Наездник. Это красивое прозвище он с честью заслужил — ни разу он не отказался взять меня на закорки и поскакать со мной. Правда, иной раз и тата брал меня на закорки, но так лихо скакать, как дядя Яан, он ни за что не хотел, а ржать и бить копытами землю ему и в голову не приходило. Яан-Наездник всегда был готов поиграть, и в придачу ко всему у него была удивительная способность делать сразу несколько дел. Например, он мог одновременно играть со мной в магазин и с татой в шахматы, и при этом пел шуточные песни и набивал папиросы табаком.
До того как маму увезли, к нам часто приходили гости: было так здорово вместе с мамой накрывать на стол и потом разговаривать со взрослыми! Но в последнее время я забыла про накрывание на стол, мы вдвоём с татой ели «просто так» — иной раз мы и тарелок не пачкали, ели яичницу и картошку прямо со сковороды и иногда минуты за две опустошали консервную коробку с кильками в томатном соусе.
Для поездки на остров тата положил в большую корзину скатерть, полбуханки хлеба, банку с солёным маслом и завернутые в пергаментную бумагу солёные огурцы.
Я раньше никогда не была на острове, и поэтому смотрела на стоявший между деревьями продолговатый стол и длинные деревянные лавки, как на чудо. Вся эта мебель будто выросла из-под земли, как высокие ясени, и клёны, и голые, без листьев, кусты, окружавшие стол и лавки. Этот маленький остров посреди реки был каждый день у меня перед глазами, но я и понятия не имела, что там, между деревьями и вкривь и вкось растущими кустами, находился такой «игрушечный дом». На всю деревню имелась одна-единственная лодка, она зимой лежала дном кверху на берегу перед нашим домом, а летом мужчины отправлялись на ней рыбачить — ставить верши или закидывать спиннинги. Очень приятно было, сидя в лодке, смотреть, как тата двигал веслами. Плыть по воде — это было нечто особенное, почти как полёт! Я бы хотела без конца так скользить по поверхности воды, но тата сделал по реке лишь небольшой кружок и направил нос лодки к берегу острова.
Тата смахнул со стола рукавом ватника обломки веточек и сухие листья и велел мне накрывать на стол, пока он съездит за друзьями. У хлеба был такой аппетитный запах, что я не смогла удержаться и откусила от горбушки пару раз… потом ещё пару раз… потом ещё и ещё… Я, наверное, слопала бы весь хлеб, но вдруг мои уши услыхали тихое царапание: цырк-цырк-цырк!
Неужели агрессоры из-за лужи? Проклятые поджигатели войны? Или, может, вовсе шведская разведка, о которой говорил чёрный дядька? А вдруг это следователь Варик каким-то образом пробрался на остров и готовился к самому худшему? Может, фотографии, на которых я голая, придали ему смелости, и теперь он хочет увидеть пупок по-настоящему? Потом легко будет стыдить…
Я почувствовала, как по рукам побежали мурашки и ноги задрожали от страха: куда это тата запропастился? А вдруг он про меня забыл или — что ещё хуже — счёл, что от такого плохого ребёнка, как я, надо избавиться? Пусть киснет на острове — и делу конец!
Я легла на лавку и пыталась придумать, что делать на необитаемом острове, где тебя забыл отец и где эти таинственные царапающиеся существа-агрессоры, шпионы или кто там ещё? Если закричать: «Спасите!», придут ли комсомольцы меня спасать или станут смелее эти самые разведчики в кустах?
Издали послышалось хлюпанье воды — ну, наконец-то, тата вернулся.
— Тсс! — произнёс кто-то. — Не стоит поднимать шум!
— Чего ты боишься! — услыхала я весёлый голос Яана-Наездника, и мне стало полегче. — На этом острове энкаведэ не действует! Видишь, последний деятель безопасности удирает в виде водяной крысы. Поплыл к берегу!
Я раздвинула ветки куста и увидела, как плыла водяная крыса: нос над водой направлен в сторону берега, хвост выпрямлен, а позади расходился след по воде. Лодку вытащили на берег носом вперед, и оттуда шли трое — тата, Яан и дядя Артур, все в ватниках, а у таты на ленте через плечо гитара. Они излучали столько веселья и уверенности в себе, что у меня сразу сделалось хорошее настроение.
— Да что энкаведэ, — тихо пробормотал дядя Артур. — Моя баба стала приставать, что куриный насест надо поправить — будто завтрашнего дня не будет!
— Пусть куры потерпят! — считал Яан-Наездник. — Они для того и созданы, чтобы терпеть!
— Да и я про то же, — поддержал дядя Артур. — Видишь ли, к завтрашнему дню эта капля пива, что у меня в ведёрке, может совсем закурячить, но это грех, давать продуктам испортиться!
Яан-Наездник кивнул с очень серьёзным видом.
— Не просто грех, а буквально государственное преступление! Если давать советским продуктам портиться, за это можно и в лагере очутиться!
В придачу к жестяному ведёрку с «каплей пива» на столе оказались куриные яйца, копчёная свинина и белый хлеб. И я тоже помогала, чтобы советские продукты не испортились. Обычно-то я варёные яйца не жаловала, не говоря о копчёной свинине, но на острове у всего этого был какой-то особый вкус! Наконец, от этой обжираловки меня начало клонить в сон, я закуталась в принесённое татой ватное одеяло и примостилась у него за спиной. Тата играл на гитаре, и спина его покачивалась в такт, а время от времени я получала лёгкие толчки локтем, но это не отгоняло сон. Вместо колыбельной все трое пели: «Яан уж кружку в руки взял, возчик пива Ааду. Видишь, уже ко рту поднёс, возчик пива Ааду! Пей-пей-пей пей-пей-пей, возчик пива Ааду!»
Этой песни я раньше не слышала, но глаза упорно закрывались, так что до конца я дослушать не смогла. Сквозь сон я услыхала, как тата начал: «Мне дома бы быть хотелось…» и ещё несколько полузнакомых песен. Когда я опять открыла глаза, праздник песни уже закончился, и дядя Артур рассказывал со смехом:
— Ну да, деревенских всех согнали в школу, и этот районный агитатор пел, ну прямо как соловей, мол, колхозный строй принесёт в Руйла счастье, и процветание, и дружбу народов. И что через пять лет тут будут и виноградники, и будут расти арбузы, которые товарищ Мичурин выводит сейчас для нашего климата…
— Я слышал, что товарищ Мичурин недавно свернул себе шею, — вставил Яан-Наездник. — Он как раз свалился с выведенной им клубники, хе-хе-хее!
— Ну да, — сказал дядя Артур, когда над клубникой Мичурина вдоволь посмеялись. — Но нам тут скоро станет опасно жить — на каждом шагу будут валяться виноградины величиной с человеческую голову! И тогда этот агитатор сказал, что в Руйла начнут ездить троллейбусы и трамваи, а коммунисты начнут бесплатно раздавать людям одежду. Водка будет совсем дармовая, а коров начнут доить электричеством! И сам крикнул, окончив выступление: «Аплодисменты, товарищи!» Но никто, кроме него самого, не захлопал.
— Вот ведь невежи! — со смешком сказал Яан-Наездник: — Не могут оценить электрокоров!
— Ну да, и под конец этот мужчина сказал: «Товарищи, вопросы есть? Смелее, товарищи!» — продолжал рассказывать дядя Артур.
— Ну тогда Лийси Талкоп встала и спросила: «Может, как-нибудь можно в колхозный свинарник одно новое ведро, а то теперь я кормлю свиней из своего ведра?» Ух, что тут было, этот агитатор жутко озлобился и закричал: «Провокация! Это буржуазная пропаганда! Вам за это придётся ответить!» Лийси и пустилась бегом домой — давай бог ноги! А то ещё увезут в Сибирь!
— Но кто тогда будет колхозных свиней кормить, если всех в Сибирь увезут? — засмеялся Яан-Наездник и обратился к тате: — Ты, Феликс, вдруг стал таким тихим, что тебя и не узнать! Не горюй — правда воспрянет, ложь провалится! Однажды непременно…
— Чёрт! — услышала я, как тата воскликнул не своим голосом.
— Я дойду хоть до самого Сталина. Это чёрт знает что такое!
— Знаешь, я где-то слышал, что Сталин на самом деле лошадь! — сказал Яан. — Его мать крутила с Пржевальским — ты знаешь про этих диких лошадей, — лошадь Пржевальского! Ну и очень возможно, что Иосиф Виссарионович — сводный брат лошади, хе-хе-хе!
— Не говори глупостей — лошадь животное умное! Сам я лошадей Пржевальского не видел, но не могут они быть такими глупыми, как этот старый усатик! — сердито сказал дядя Артур.
— Ох, да, — произнес тата своим обычным тоном и голосом. — Известное дело: глас народа — глас божий. В народе говорят, что Ленин, то бишь Ульянов, на самом деле вроде наполовину эстонец. Будто бы отец его — Хулль
[13] Яан, и мамаша с этим Яаном познакомилась в Тарту на нашем первом Певческом празднике…
— По времени совпадает! — радостно объявил Яан-Наездник.
— Певческий праздник был в 1869 году, Володя родился в 1870-м!
Теперь была пора и мне показать свои знания. Хорошо, что в доме есть радио, иначе откуда бы мне знать подходящие к моменту песни! И я запела: «На дубу высоком да над тем простором два сокола ясных вели разговоры…»
Это была красивая грустная песня — в концерте по заявкам ее хотели послушать много товарищей. Наверное, они по вечерам сидели у своих радиоприемников и тихонько подпевали — точно, как и я.
Все трое смотрели на меня, вылупив глаза, и я заметила, как их губы начали чуть-чуть подрагивать. Наверное, они сдерживали слёзы, ведь мужчины не плачут. Это была красивая и грустная мелодия, особенно в том месте, где «первый сокол со вторым прощался, он с предсмертным словом к другу обращался», что, «все труды заботы на тебя ложатся!» А другой ответил: «…позабудь тревоги, мы тебе клянёмся — не свернём с дороги!»
И когда я спела, наконец, «и соколов этих люди все узнали, первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин!», слушатели разразились громким хохотом во всё горло. У Яана-Наездника на глазах были слёзы, но рот хохотал так, что становилось жутко.
— Ге-ни-ально! И откуда только ты взяла такую песню?!
— Ате! — послышался с берега сердитый крик тёти Армийде.
— Вот где вы, бездельники, околачиваетесь! Леэлочка, дядя Артур тоже там?
— Нет тут никого, — буркнул дядя Артур и предупреждающе поднёс палец к моим губам.
— Тут совещание ударников, просим беспартийных не мешать! — весело крикнул Яан-Наездник.
Но тетя Армийде его будто и не слышала.
— Ате, марш домой! — крикнула она.
Яан тихонько запел, и дядя Артур с татой подхватили: «Жизнь холостяка — свобода, а женатика — невзгода. Лучше лошадь укради, чем девицу полюби…»
Они засмеялись и пустили кружку с пивом по кругу.
— Ате, хватит куролесить! — нетерпеливо кричала тётя Армийде.
— Скоро стемнеет, а у тебя куриные насесты не исправлены!
— Старуха, не мешай, слыхала — совещание!
— Тогда и оставайся там! — кричала тётя Армийде. — Я тебя в дом больше не пущу, иди в сарай на куриный насест! Дома все мужские работы не сделаны, а он горланит на островке! Смотри — милицию позову! Пусть тебя в газете пропечатают, что шатается повсюду, а работу не делает!
— Глупые слова возьми обратно! — сердито крикнул дядя Артур.
— И зови, зови милицию, да скажи, чтобы карты с собой захватил, как раз будет четвёртой рукой!
Тата и Яан-Наездник тихонько хихикали и вытирали руками пивную пену с уголков рта.
— Ну, погоди, я пойду расскажу Хельви, как её отец пьёт и беспутничает, словно последний босяк! — кричала тётя Армийде.
— Пусть Хельви тоже придёт сюда! — шепнула я дяде Артуру. Хельви — дочка Артура и Армийде — красивая и умная девочка. Она мне нравилась, потому что хотя и была уже большой, училась в школе, носила туфли-лодочки и всё такое, она иногда и со мной охотно играла.
— Ах! — дядя Артур махнул рукой. — Жёны и дети — одно наказание на этом свете!
Было видно, что угроза рассказать Хельви понизила лихое настроение Артура на несколько градусов.
— Не поможет ни детский плач, ни женские вопли, — вспомнила я изречение таты и тут же громким голосом сообщила это тёте Армийде: — деньги пропиты!
— Ну вот! Это не детский разговор! — тата бросил на меня очень недовольный взгляд и стал засовывать гитару в чехол. — Теперь сразу марш домой, спать! Будешь сидеть в комнате и держать ночной горшок за ручку!
Праздник кончился. Мужчины загасили папиросы и собрали вещи.
Тата почему-то был мной недоволен — он больше даже не взглянул на меня, хотя мне было очень трудно идти по сухим веткам, завернувшись в одеяло.
Взрослые действительно странные! Тата за весь вечер не сказал мне больше ни единого слова — ни в лодке, ни когда пришли домой. Других очень рассмешили слова про пропитые деньги, а тата рассердился…
— Спокойной ночи, трепачка! — сказал он, поцеловав меня перед сном. Но выражение лица у него было совсем не шутливое! Я и подумала тогда, может, было бы разумнее мне стать дочкой Яана-Наездника.
Сладкая жизнь
К счастью, тата не был злопамятным. На следующий день он пришёл из школы довольно рано и не напомнил о вчерашних неприятностях даже и полусловом.
— Посмотрим, во что тебя одеть получше, — сказал он и широко распахнул дверки шкафа. — Сегодня поедем в город. Анне и Лийли займутся тобой, пока я схожу повидаться с мамой.
— Я тоже хочу к маме! — подала я голос, но тата не обратил на это внимания и после недолгих поисков достал из шкафа тёмно-синее с белыми горошинами платье.
— Пожалуй, это подойдёт, а то опять получим нахлобучку, что ребёнок — как цыганский пожар! — сказал тата и натянул на меня платье.
Я не стала спорить, только подумала: а вдруг удастся уговорить его, и он возьмёт меня с собой в тюрьму, а в таком случае лучше держаться подальше от маминых бус, браслета и брошек. Я обещала, что стану хорошим ребёнком… Если мама сочтёт меня хорошим ребёнком и опять вернётся домой, тогда будет видно, может, иногда смогу попользоваться её украшениями.
Тётя Анне и тётя Лийли — обе были парикмахершами, работали близко друг от друга: парикмахерская Анне была на Ратушной площади, а Лийли — на улице Вооримехе, и дорога от одной до другой даже для меня была очень короткой. Быть у тёти Лийли мне нравилось больше, потому что она не командовала и не бранилась так много, как тётя Анне, но, к сожалению, её начальница — большая, золотоволосая женщина в очках с толстой оправой детей не переносила. С тётей Анне вместе работали другие женщины в большинстве весёлые и разговорчивые, и мне особенно нравилась маленькая, худенькая с коричневыми волосами барышня-маникюрша, которую называли Грибочком. Каждый раз, когда я входила в её маникюрную кабинку со стеклянными стенами, она просила меня чуточку подождать, и когда очередная её клиентка, нежно дуя на свои блестящие ногти, уходила к кассе расплачиваться, меня брали в работу. Все ногти Грибочек мне не красила, но ногти на мизинцах обеих рук получали — чик-чик — блестящее покрытие. И как пахли эти только что покрытые лаком ноготки — так по-дамски, так таинственно! Кроме ногтей Грибочек красила в своей кабинке ещё и брови, и ресницы — эту работу назвали «сделать глаза на лице». Если бы брови накрасить густой красной краской, то с таким глазами на лице клиентки могли бы играть в тетеревов, но, к сожалению, все они хотели, чтобы их брови красили однообразно чёрной краской.
Почему-то все парикмахерши обращались друг к другу по фамилии: женщину с улыбчивым ртом и высоким лбом всегда звали Энно, а маленькую солидно говорившую даму — Палоос. Две толстые с завитыми кудрями и лиловатыми губами женщины, работавшие рядом в кабинах, были похожи друг на друга, словно близнецы, но одну звали Сильп, а другую — Ристлаан. По имени звали только Олю, у которой были грустные глаза и быстрые движения, и тётю Анне. Может, потому, что они действовали очень быстро и фамилия за ними не поспела бы?
На работе тётя Анне не была и вполовину такой большой командиршей, как обычно; у неё на работе, как она говорила, всегда одновременно было на огне несколько железок — так обычно говорят, когда делают несколько дел сразу. Но у неё на огне были только длинные специальные щипцы для завивки волос, и ими делали главным образом причёски пожилым дамам. Пока щипцы нагревались, она накручивала волосы другой клиентки на электробигуди, третью направляла к мойке и по пути смотрела, не высохли ли под феном завитые волосы четвёртой. И при всей этой круговерти вела длинные разговоры о погоде и людях, о мужчинах и детях, жизнь которых, казалось, всех интересует. В парикмахерской тёти Анне не говорили дамам «ты» или «вы», говорили «она». «И где она достала такой красивый „бемберг“? В таком платье можно ехать хоть в Париж!» — «Она в прошлый раз понравилась мужу со сблочными локонами?» — «Ах, сын уже пошёл в школу? Она и не замечает, как летит время, как быстро растут дети!»
Примерно такие разговоры вели со своими клиентками и другие парикмахерши. Я ходила из одной кабины в другую и втягивала ноздрями терпкие и сладкие запахи: своеобразно пахло жидкое мыло, особый аромат был у лака для волос, которым брызгали на прическу, нажимая оранжевый резиновый мячик. Да, сладкая жизнь была у парикмахерш! Иногда тётенька-уборщица, которую называли Линну-мама, обходила все кабины и спрашивала, кто чего желает к кофе. Линну-мама получала от каждой парикмахерши пригоршню монет и спешила в кафе «Пярл», чтобы принести оттуда жирные пирожки с мясом (как подушечки!), «московские булочки», похожие на конверты, и пахнущие ванилью чайные пирожные со сказочно вкусным кремом из взбитых сливок… Я решила, что когда вырасту, буду съедать лишь приятную острую начинку пирожков с мясом, а с «московских булочек» буду только крем слизывать, а с чайных пирожных — взбитые сливки, а остальное буду отдавать Сирке. Весь этот кондитерский товар Линну-мама относила в заднюю комнату, в которую можно было попасть по маленькой лесенке, скрытой за портьерами. Гордо стоял кофейник, накрытый сохранявшим тепло колпаком, а бутылочка со сливками охлаждалась между оконными рамами. Мне кофе не давали — да и вкус у кофе был, по-моему, не таким хорошим, как аромат, поэтому я была вполне довольна водой с разведённым в ней вареньем, которое тётя Анне размешивала в моей чашке. Моменты отдыха были здесь редкими, и парикмахерши ходили пить кофе по очереди.
В парикмахерской у тёти Анне я считала себя своим человеком, потому что проводила там время и раньше, когда приезжала с мамой и татой в город, и они, отправляясь по делам, не могли взять меня с собой. Но на сей раз все, даже Грибочек, смотрели на меня как-то по-другому, словно не знали, о чём со мной можно говорить. Может, я была слишком скучно одета, может, надо было нацепить что-нибудь из маминых украшений?
Когда я получила у Грибочка ярко-красный лак на мизинцы, поспешила показать его тёте Анне.
— Маме бы они обязательно понравились! — сказала я, вытянув пальцы.
— Ну что ты скажешь! — покачала головой Анне. — И откуда только Грибочек достала такой лак — красный, как флаг!
— Это ваша дочка? — спросила сидящая в парикмахерском кресле полная дама, чьи волосы тётя как раз накручивала на бигуди.
— К сожалению, нет — племянница, — ответила тётя. — А наша маникюрша её большая приятельница, и ребёнок хочет покрасоваться…
— Аннушка, — зашептала Оля, возникшая словно из-под земли в тётиной кабине. — Эта твоя Макеева идёт через площадь — уж не к тебе ли?
Лицо тёти Анне сделалось почти таким белым, как её халат.
— Извините, мне необходимо отлучиться! Наверное, вы может подождать пару минут? — И не дожидаясь ответа женщины, волосы которой ещё не все были накручены, тётя Анне схватила меня за руку и потащила в заднюю комнату.
— Сиди тут и ешь пирожное — видишь, вот это со сливами очень хорошее! — шёпотом приказала она, указывая на тарелку с пирожными, а сама скрылась в уборной. Я услышала, как тётя щёлкнула задвижкой, но сразу чуть приоткрыла дверь: — Скажешь мне, если кто-то войдёт в мою кабину!
Я чуть раздвинула портьеры, выглянула в щёлочку между ними и увидела женщину в красном пальто, стоявшую перед кабиной тёти Анне и разговаривающую с Олей. Они говорили по-русски! Я отпустила портьеры и немножко перевела дух, чтобы набраться храбрости, и затем посмотрела снова. Оля достала что-то из кармана халата и протянула женщине в красном пальто. Та, долго не раздумывая, сунула полученную бумагу в карман пальто и пошла к выходу.
— Тётя Анне! — крикнула я, стуча в дверь уборной. — Открывай быстрее, тётя Анне, одна женщина подходила к твоей кабине, но уже уходит. Слышишь?
Тётя Анне будто и не слышала.
— Мне побежать и позвать её обратно? — крикнула я. — Она уже ушла!
Задвижка щёлкнула, и из-за двери выглянуло рассерженное лицо тёти.
— Что ты кричишь, как сумасшедшая! Ты не в лесу!
— Сама велела сказать, если кто-то пойдёт в твою кабину… — Мои губы плаксиво искривились. — А теперь она ушла, совсем ушла!
— Слава богу! — Тётя вздохнула, вышла из уборной и опустилась на стул. — И не делай кислое лицо. Это страшный человек. Вымогательница, жуткая женщина. Ты ещё ничего в этом не понимаешь, оно и хорошо…
— Вымогательница — это как?
— Понимаешь, эта женщина была когда-то невестой Эйно, ну невестой твоего дяди. И то, что Эйно попал в тюрьму, это, наверное, её рук дело. Ну, что было то было, а теперь она приходит у меня деньги и вещи вымогать, сначала говорила, чтобы посылать Эйно. А недавно кто-то видел, что та жилетка, которую мама связала для Эйно и я отдала Макеевой, чтобы она отослала в тюрьму, — да, эта самая жилетка сушилась на бельевой верёвке рядом с панталонами Макеевой… Но я не могу ничего ей сделать или куда-нибудь пожаловаться, понимаешь, — она русская и комми, ещё и меня в тюрьму посадит. Однажды угрожала, что у неё связи в органах безопасности…
Оля пришла в комнату отдыха и сообщила:
— Макеева ушла, сказала, что ты должна ей сто рублей, хотела их получить, у меня столько не было, дала ей двадцать пять. Она обещала прийти в другой раз…
— Ох, господи, господи! — охала тётя Анне. — Она меня в покое не оставит до тех пор, пока мне не засветит дорога в Сибирь!
Оля глянула в мою сторону и подмигнула тёте Анне.
— Пусть, поговорим в другой раз!
— Что? Ах, да, опять я, старая «ж», разболталась при ребёнке! Но ты ведь никому про Макееву не скажешь, верно? Дай честное слово! — Тётя встряхнула меня за плечи.
Я пожала плечами — честное слово, так честное слово!
— Верну тебе деньги завтра, — пообещала Оле тётя Анне. — Сейчас у меня в сумке столько нет, и, простите, теперь мне опять надо в сортир! Господи, боже мой, стоит Макеевой появиться, у меня желудок срабатывает, как от касторки!
Тётя Анне опять скрылась за дверью уборной, а я пошла к тарелке с пирожными. Казалось, что за это время пирожное со сливой кто-то смял — оно больше не выглядело таким аппетитным, как раньше.
Ратушная площадь
Я уже несколько раз побывала во всех кабинах и настолько привыкла к сладковатому запаху парикмахерской, что перестала ощущать его. Я жалела, что не взяла с собой в город Кати — теперь могла бы играючи сделать ей электрозавивку и попросила бы Грибочка махнуть кисточкой лак кукле на пальцы… Несколько раз прочла висевший за спиной у кассирши прейскурант с ценами, но это было совсем неинтересно. Какое-то время я сидела на подушке у стены и воображала, что круглые серебристые фены — это львы, в пасти которых женщины сунули свои головы с накрученными на бигуди волосами, но играть в это мне быстро надоело, потому что ни одной из дам лев голову так и не откусил. Очень недолго я смогла полюбоваться широкополой шляпой с кружевами и многослойной одеждой на женщине, которую называли Хулль-Мари: она пришла в парикмахерскую не за тем, чтобы сделать причёску или покрасить волосы, а для того, чтобы
продать вязаные кружевные перчатки. Она очень громким голосом предлагала свой товар парикмахершам и их клиенткам, но желающих купить не было — только одна, делавшая «глаза на лице», взяла чёрные перчатки.
— Розовые — самые красивые, — шепнула я тёте Анне. Но она не поняла моего намёка и сказала, пожав плечами:
— Ну куда в нынешние времена человек пойдёт в таких! Издалека может показаться, что руки замерзли. И не смотри прямо на Хулль-Мари, а то она тебя в покое не оставит!
Я сощурила глаза и притворилась, будто дремлю в углу кабины тёти Анне.
— Спасибо, спасибо, но у меня дома уже четыре пары вашего изготовления, — говорила тётя Анне, отстраняя продавщицу перчаток от своего столика с инструментами.
— Чей это ребёнок, ваш? — спросила Хулль-Мари, указывая на меня пальцем в белой кружевной перчатке.
— Мой, да, — ответила тётя Анне хмуро. — Извините, но мне надо работать!
— Да-да, да-да, — пробормотала женщина себе под нос и схватила тётю за локоть. — Только никому не говорите, но Бог сказал мне, что когда я вывяжу тысячу пар перчаток, русские отдадут мне обратно моего ребёнка!
— Конечно, конечно, — согласилась тётя Анне. — Всего хорошего, мадам!
Уходя, Хулль-Мари шаловливо подмигнула мне и помахала рукой.
— Для таких надо милицию вызывать! — сердито сказала блондинка с почти белоснежными волосами, причёску которой тётя как раз отделывала. — Таким место в психушке Зеэвальди или в тюрьме!
— Но Хулль-Мари неопасна, — заверила её тётя Анне. — Говорят, что её маленький сынок погиб во время бомбёжки Таллинна, а их дом сгорел со всем, что в нём было, когда русские летчицы сровняли с землей центр города… Мари, вернувшись домой, увидела перед собой лишь воронку от бомбы, от этого она и свихнулась!
— Мало ли что! — сердито бросила блондинка и поджала губы.
— Это не оправдывает ни попрошайничества, ни спекуляции!
— А кто Таллинн бомбил? — хотела узнать я. — Энкаведэ или агрессоры из-за лужи?
Тётя Анне резко раскрыла рот и жадно пару раз вдохнула воздух, но мне не ответила. Она проследила в зеркале за лицом блондинки, и когда та не улыбнулась и не произнесла ни слова, обратилась ко мне, сделав сердитую гримасу:
— Возьми свою подушку, надень пальто и можешь возле двери на ступеньках немного подышать свежим воздухом. Попроси, чтобы Линну-мама тебе помогла, ясно?
Повторять это мне не требовалось. Я и раньше, сидя на ступеньках перед парикмахерской, разглядывала людей, шедших по Ратушной площади, — это было более интересное занятие, чем смотреть на причёски разных тёть и слушать их взрослые разговоры.
В деревне каждый считал бы необходимым заговорить с ребёнком, сидящим у дороги, дескать, почему ты здесь и что делаешь? Но в городе все люди шли мимо меня, будто я была невидимкой. Женщины в едва доходивших до колен пальто с высокими ватными плечами быстро семенили к ресторану «Лайне», находившемуся рядом с парикмахерской, мужчины в шляпах и длинных чёрных пальто спешили к газетному киоску, стоявшему в конце улицы Вооримехе, а посреди площади тётеньки в клетчатых платках кормили голубей. Совсем близко от парикмахерской находился магазин детских игрушек, откуда дети в шапках, как у лётчиков, выходили со своими мамашами, держа деревянные автомобили, или лошадь-качалку, или светло-розовую совсем голую целлулоидную куклу, или ещё какую-нибудь игрушку…
Один раз я тоже была с тётей Анне в этом магазине. Мы с тётей договорились, когда шли туда, что мне будет куплена только одна игрушка, и поэтому в магазине сначала надо спокойно всё осмотреть, по-деловому выбрать то, что надо, и никаких капризов. Капризничать я не собиралась, но когда вдруг заметила за головой тёти-продавщицы целых две полки кукольных головок — и все ТОЧНО, как у моей Кати, — мне почему-то сделалось грустно и не по себе, и губы сами невольно искривились… Но договор следовало выполнять, и, заметив плаксивое выражение моего лица, тётя, не раздумывая, вытащила меня из магазина. Я успела, оглянувшись, увидеть очень красивую деревянную кукольную синюю коляску, зелёные железные кроватки и пёстрых жестяных бабочек, прикреплённых к концу палок, — делаться хорошим ребёнком было поздно, тётя Анне была крепкой, как железный гвоздь.
Было, конечно, жалко, что так вышло, но гораздо больнее было знать, что моя Кати — вовсе и не моя Кати, а лишь одна из сотен, может быть, даже тысяч безымянных кукольных головок, и любая мама, бабушка или тётя может принести такую из магазина домой. Это означало как бы и то, что я тоже не такая уж особенная или необыкновенная, что я — это не я, а одно незначительное тельце маленькой девочки… Объяснить это неприятное чувство я не могла даже себе самой, а тёте Анне и подавно! Она-то подумала, что я заплакала потому, что хотела получить все игрушки. И в этом, конечно, была крупица правды: ребёнок, который ничего не хотел бы унести с собой из магазина игрушек, просто бесчувственный чурбан!
Особой достопримечательностью Ратушной площади были такси — красивые светло-коричневые «Победы», на боках которых были нарисованы ряды белых и чёрных квадратиков. Прямо перед парикмахерской была стоянка такси, и иной раз там терпеливо стояли в очереди люди, ждавшие машин, а иной раз стояли в ряд машины. Бывало, из какой-нибудь машины выходил таксист в фуражке с блестящим козырьком, распрямлял свои руки-ноги и деловито ударял сапогом по шинам. Казалось, будто водитель ждал, что «Победа» ответит на его удар ударом своей круглой ноги-шины. Но поскольку этого не случалось, шофёр одобрительно кивал головой и снова садился за руль.
Забавно было смотреть, как русские военные со своими невестами вылезали из такси. Я, пожалуй, не догадалась бы обратить на них внимание, но парикмахерши за чашкой кофе то и дело перебрасывались шутками насчет культурности русских — как их женщины носят на плечах махровые полотенца, будто шали, бабушки используют унитазы для засолки огурцов, а мужчины выталкивают дам из такси. Пожалуй, это и впрямь было своеобразной церемонией, потому что офицеры хотели показать, какие они учтивые и всегда пропускают даму вперед. Но поскольку дама села в такси раньше мужчины, то ей было непросто перелезть через его сапоги и длинную шинель, чтобы выбраться из машины. Когда расфуфыренная до этого товарищ-женщина, наконец, выбиралась из машины, шляпа её оказывалась сплюснутой, причёска в беспорядке и подол юбки сзади завёрнут кверху, и только тогда культурно вылезал из машины сам носитель форменной фуражки и погон в мышино-серой шинели и с маленькой красной, белой или неопределённого цвета сумочкой в руках. Чем толще и важнее был офицер, тем смешнее выглядел крохотный женский ридикюль, болтавшийся у него на пальце.
Как раз опять одна офицерская супруга прокладывала себе путь на свободу из задней дверцы «Победы» вперед ногами в шёлковых чулках так, что из-под юбки мелькнули розово-лиловые штрипки, но тут вдруг раздались оглушающий хлопок, будто выстрел, звон и дребезг разбитого стекла и крик. Звон стекла сразу стих, а крик становился всё громче и пронзительней.
Военный вытолкнул свою супругу из машины, как пробку, и стоял передо мной на тротуаре, держа револьвер в руке, и кричал что-то похожее на «хой-хой-хой!»
Тротуар и булыжники площади были засыпаны осколками стекла — некоторые из них были прозрачными, некоторые матово-белыми, как уличные фонари. Одна женщина пронзительно кричала, указывая при этом окровавленной рукой на другую женщину, у которой по щекам текла кровь на грудь светлого пальто. Мгновенно около меня столпилось несколько десятков человек, все они что-то кричали и размахивали руками.
— Ма-ма! — крикнула я дрожащим голосом, потому что мне показалось, что среди незнакомых лиц мелькнуло мамино розовощёкое лицо. Но это была явная ошибка, потому что мама обязательно бросилась бы мне на выручку, когда я беспомощно торчала среди незнакомых беснующихся людей.
— Саботаж! — кричал размахивавший револьвером офицер. Его я боялась больше всего.
— Господи, боже мой! — Тётя Анне стояла у меня за спиной, обхватив лицо руками. — Господи! Что тут случилось! Что ты опять наделала, а ребёнок?
Я хотела встать на ноги, но какая-то кривая железная загогулина держала меня за талию. Офицер показывал пальцем вверх — и тут я вместе с другими увидела, что у вывески парикмахерской пропала первая половина.
— «…херская» — довольно смешное слово! — сказала я.
— Что тут смешного, глупый ты ребёнок, — встряхнула меня тётя Анне. — Погоди, отцеплю от тебя эту штуковину! Покажи-ка, руки-ноги целы?
Но я вовсе и не смеялась. И не плакала тоже. От испуга я больше ни слова не могла вымолвить, губы скривились в какой-то дурацкой усмешке, от которой невозможно было отделаться.
Тётя Анне основательно обследовала меня, и не нашла у меня никаких повреждений, только в карман моего пальто попал один осколочек стекла. Тогда она облегченно вздохнула и сказала:
— Это просто божеское счастье, что отвалилась первая половина слова, если бы задняя, то свалилась бы тебе на голову и наверняка убила бы!
Она взяла меня на руки и, войдя в парикмахерскую, объявила:
— Во всяком случае в одном можно быть уверенным: этот ребёнок родился в счастливой рубашке!
Если это было так, то разве не глупо было со стороны мамы и таты снять с меня сразу после рождения эту рубашку и начать фотографировать совсем голой?
След ржавчины
Прежде чем тата наконец пришёл, тётя Анне успела много раз поворчать, что он всегда приходит в последнюю минуту. Она уже собирала вещи со своего рабочего столика, потому что вот-вот должна была начаться другая смена.
Я крепко обняла тату и крикнула:
— Угадай, какая буква свалилась прямо на меня?
— Ого! — усмехнулся тата. — Что, дамы в парикмахерской рассказывали тебе сказки про буквы?
— Где ты шлялся? Разгуливал что ли по городу, занимался показухой? — сердито выговаривала тётя Анне. — Ребёнок тут едва избежал смерти, а ты болтаешься по ресторанам! Наверное, встретил кого-нибудь из своих спортивных друзей, да? Всегда для тебя эта светская жизнь была важнее семьи!
— Сама ты болтаешься! И чего ты врёшь, будто мне угрожала смерть, буква «П» совсем не опасная! — принялась я защищать тату, заметив, что вид у него непривычно хмурый. Мне стало его немного жалко: тёмно-красное кашне на шее слепка обтрепалось, а подкладка шляпы, которую он снял, войдя в парикмахерскую, была в нескольких местах протёрта до дыр. И нос… да что же это, кто его за нос-то укусил?
— Тата, на тебя напала злая собака?
— Да, куда это ты свой нос совал? — воскликнула тётя Анне. — У тебя вокруг носа след ржавчины! Ты что, понюхал кирпич?
Тата посмотрел в зеркало, усмехнулся и большим клетчатым носовым платком стёр с носа и вокруг следы ржавчины.
— Там, в комнате для свиданий, ржавая сетка.
— Сетка? Решётка, что ли?
Тётя выпустила из руки тряпку, которой вытирала столик и опустилась на стул.
— Значит, Хельмес всё время была за решёткой? Ох, боже… Как преступница! Значит, вы всё время должны были разговаривать через решётку, а по-настоящему и не встретились?
Тата сглотнул и не вымолвил ни слова.
— А ты сказал маме, что я была хорошим ребёнком? — допытывалась я.
— Сказал. И она пообещала сразу вернуться домой, когда там, в Батарейной, с делами будет покончено! — с улыбкой ответил тата.
— Адвоката видел? Этот Левин, говорят, очень толковый, мне его одна клиентка посоветовала, — похвалилась тётя Анне. — Совсем молодой, но головастый — да, уж еврей-то знает, как вести в суде дело!
— Да, похоже, очень дельный, — подтвердил тата. — Но сказал одну удивительно странную вещь: что десять лет на Хельмес наверняка навесят, в этом нет сомнения! Сам-то он уверен, что никакой вины нет, но раз мать выслана, а брат в лагере — просто так не выпустят!
— Придётся больше денег дать — в нынешние времена без взятки ничего нельзя! — поучительно сказала тётя Анне и исчезла в задней комнате.
— Но ты не сказал маме, что я её браслет испортила? — спросила я.
— Какой смысл? Если я найду подходящую резинку, починю этот браслет в один миг! — пообещал он. — Зачем маму огорчать зря. Когда она вернётся, браслет будет почти как новенький.
— А ты ей рассказал, что я уже книжки читаю? И что у меня много новых песен?
— Хм, один сокол Ленин, другой сокол Сталин, — усмехнулся тата.
— Ох, у меня есть поновей и получше, одна на негритянском языке, — не удержалась я, чтобы не похвастаться. — Помнишь, я говорила тебе об этом негре Полуробсоне
[14], к которому придираются плохие белые агрессоры. Он поёт по радио такие красивые песни. Одну я почти запомнила: «Ох, лалла-ла, лалла-ла, беби!» Петь тут не годится, все смотрят, но дома я и тебя научу, ладно?
— Конечно, конечно, — пообещал тата. — Только, видишь ли, я боюсь, что тебе придётся на пару дней остаться в городе у тёть. Или отвезу тебя к бабушке с дедушкой. Мне надо поехать с мальчиками-спортсменами в Кейла, а туда тебе со мной ехать нельзя. Так как, хочешь к бабушке или останешься в городе?
— Я хочу домой! Почему ты не можешь взять меня с собой в Кейла, а с чужими детьми поедешь?
— Ну, не начинай капризничать! — стал уговаривать меня тата.
— Распрями спину и сделай весёлое, приветливое лицо! Эти спортсмены, с которыми я поеду в Кейла, уже большие дети, спать придётся в спортивном зале на полу, на матрацах. И мы поедем туда не в автобусе, а в открытом кузове грузовика. Парни закутаются с головой в одеяла, чтобы не замерзнуть.
— Я тоже могу закутаться с головой!
Но на сей раз тата не дал себя уговорить. Когда тётя Анне пришла из задней комнаты в похожей на шлем шляпке и сером плаще, она застала нас с татой недовольно уставившимися друг на друга.
— Вначале пойдём поедим, тогда успеем придумать, что делать дальше, — решила тётя. — Кафе «Пярл» тут совсем недалеко, но во дворе кинотеатра «Октообер», рядом с мастерской, где поднимают петли на чулках, открылась вполне приличная диетическая столовая — скатерти на столах, официантки в накрахмаленных передничках и цены невысокие.
Тата сказал было, что его кошелёк сейчас не выдерживает питания в городских столовых, но тётя ответила, что она это учла и пообещала угостить нас по случаю того, что я счастливо избежала несчастья.
Диетическая столовая была действительно очень хорошая: на окнах белые сборчатые гардины, а на столах, покрытых белыми скатертями, красовались солонки и перечницы, рядом с ними — чайные стаканы с бумагой для подтирки попки.
— Шутница! — засмеялся тата. — Это салфетки, а не подтирочная бумага.
У тёти Анне моя ошибка вызвала такой громкий смех, и я решила в дальнейшем помалкивать. Не стала я ничего говорить и тогда, когда официантка в белом передничке назвала принесённую ею книжку «Меню», и я молча и спокойно согласилась, когда мне заказали тефтели с гречневой кашей и абрикосовый компот. Оказалось, что тефтели это вовсе не сладкое, а котлеты, а абрикосовый компот принесли лишь тогда, когда тата помог мне покончить со второй котлетой.
— Компот подают в чайных стаканах, как в России, — ворчала тётя Анне. — Настоящей Эстонии уже нигде нет, повсюду всё на русский манер.
— Да, — усмехнулся тата. — Теперь не работают, а ведут героическую борьбу за великое дело Сталина. Тихо! — воскликнул он испуганно, взглянув на меня. — Я понимаю, что у тебя есть какой-то план, но побудь немножко времени хорошим ребёнком и не начинай петь, ладно?
Это было слишком — я не какой-то младенец! Да и не было у меня настроения петь, а я думала о том, что тата оставит меня и поедет на какую-то спартакиаду… Хотя я знала одну очень красивую песню для детского хора, которая очень бы подошла к этому разговору о Сталине: в ней дети пели Сталину, что их глаза сияют от счастья и они благодарят его за то, что он сделал нас самыми счастливыми детьми в мире.
— Господи, помилуй! — воскликнула тётя Анне, когда я тихо-тихо напела эту песню себе под нос. — Каким жутким песням ты, Феликс, учишь ребёнка?
— Я — товарищ ребёнок! — сказала я, задрав нос. К счастью, абрикосы уже были выловлены из стакана, а сама компотная жидкость была невкусно-приторной, так что мне не особенно и жалко было уходить из столовой. Тата и тётя Анне вдруг вспомнили, что у нас нет времени рассиживать.
В Нымме
Когда тата говорил с тётей Анне о своей поездке на соревнования, она вспомнила про тётю Маали, которую недавно встретила на рынке и которая интересовалась, как у меня дела. Мне тётя Маали нравилась — она носила на голове платок, как деревенские женщины, и вела приятные деревенские разговоры, хотя и жила в городе. Точнее — в Нымме, которое было не совсем городом, но и не деревней. Дома там стояли в ряд, как в городе, но были низкие, и их окружали небольшие сады, в которых росли яблони и ягодные кусты. У тёти Маали в погребе было много варенья и в придачу ко всему маленькая с жёлтой, как у лисицы, шерстью собака Виллу, с которой было здорово носиться повсюду. Она не была злой, но когда видела, что кто-нибудь бежит, обязательно хотела с лаем бежать следом.
В доме тёти Маали на верхнем этаже жило семейство, в котором были две девочки — Майе и Сирье, у них было много игрушек прежнего времени: например, кукольная плита, выглядевшая как настоящая, и кукла, говорившая гулким голосом: «Ма-ма!», когда её клали на спину.
У мужа тёти Маали дяди Копли были густые чёрные брови и совершенно лысая круглая голова, на которой было бы хорошо что-нибудь нарисовать или написать цветным карандашом — такой абсолютно гладкой была большая дядина голова! Но, конечно, о том, чтобы рисовать на голове, я и мечтать не могла, потому что дядя Копли был такой серьёзный и строгий, что никто не называл его по имени, даже тётя Маали, хотя имя у него было коротенькое — Аво. «Аво Копли» было написано на важном капитанском дипломе, который дядя мне показал, когда я поинтересовалась стоявшими на буфете маленькими, но очень красивыми корабликами. Такие корабли — только в сто раз больше — когда-то, в эстонское время, принадлежали дяде Копли. Сами эти корабли во время войны уплыли в Швецию, но дядя Копли не захотел покидать Таллинн, а надеялся, что когда-нибудь его корабли приплывут целыми и невредимыми обратно в Эстонию. Об этом нельзя было говорить никому, но и кому бы я захотела рассказывать, что у одного знакомого мне дяди на буфете модели кораблей!
Раньше я бывала у тёти Маали и дяди Копли только с мамой и татой, и тогда, если рассказы дяди Копли нагоняли на меня страх, тата всегда говорил, чтобы я постаралась понимать шутки. Но попробуй понять шутку, если за столом в день рождения тебе строго смотрят прямо в глаза и говорят, что тех, кто не съест подчистую то, что на тарелке, уведут за сарай и там расстреляют! Или что за упавшую и разбившуюся кружку надо платить десятикратную цену!
Теперь я ехала в Нымме вдвоём с тётей Анне и сильно подозревала, что она не сможет объяснить мне шутки дяди Копли. Анне и сама любила бросать страшноватые шутки. Например, она могла, завязав мне бант на голове, полюбовавшись и обняв меня, крикнуть: «Ты такая миленькая, что я тебя сейчас съем!» Хорошенькое дело, целиком она заглотнуть меня не может, но ведь мне и читали, и рассказывали про людоедов, которые проглатывают маленьких детей живьём… Когда я в тот раз взяла в руки ножницы, чтобы в случае чего защищаться, тётя Анне рассмеялась довольно обидно: «Ну как же ты шуток не понимаешь!»
Тоже мне шуточки…
Ехать поездом до станции Рахумяэ было, по-моему, великолепно: терпко пахнущие деревянные сиденья, мелькавшие за окнами вагона дома, деревья и телеграфные столбы, раздававшийся из громкоговорителя звучный собачий голос: «Гав-гав-Лиллекюла», «Гав-гав-Рахумяэ»… Все видели меня, сидящую рядом с тётей Анне и болтающую ногами, и думали: «Вот путешествует товарищ ребёнок! Ну что за молодец-девочка! Каждая женщина хотела бы быть её мамой. Таких славных девочек хорошие мамы не покидают — это точно!»
Никто мне, конечно, прямо ничего не говорил, но они наверняка не переставали мною восхищаться. Я сделала вид, будто и не замечаю одобрительных взглядов, и чувствовала себя почти взрослым человеком.
Но сохранять взрослый вид было нелегко: оказалось, что от станции Рахумяэ до улицы Вярава, где жила тётя Маали, было жутко далеко. Надо было то переться в гору, то спускаться под гору, один раз, когда я подумала, что мы уже пришли, надо было немного постоять на месте и посмотреть налево и направо, чтобы перейти через шоссе Вабадусе. Прохожих было совсем мало, так что дорога казалась бесконечно скучной.
— Смотри, та женщина в красном пальто, кажется, твоя знакомая Макеева, — сказала я, указывая на даму, только что вышедшую из автобуса и направлявшуюся в нашу сторону.
— Господи, так и есть! — зашептала тётя Анне. Она крепко схватила меня за руку и решила повернуть обратно. — Глянь-ка, идёт она за нами? — совсем тихо спросила тётя немного погодя.
— Не идёт. Вошла в какую-то калитку.
— Ух! — вздохнула тётя Анне и остановилась. — Нет, это, пожалуй, была не Макеева… Но старая поговорка гласит: «У боязливой собаки шкура цела!». Господи, как я её боюсь!
Мы опять повернули и пошли, и пересекли, наконец, шоссе Вабадусе.
— Сейчас дойдём, — приободрила меня тётя Анне, однако сама она выглядела очень озабоченной. — Но я, кажется, не дотерплю до дома Маали.
Заметив на улице чинившего калитку мужчину, она обратилась к нему:
— Простите, господин!..
— Господ увезли в Сибирь, тут теперь только товарищи, — сказал хозяин калитки, приподняв кепку, но лицо у него было весёлое, и можно было понять, что он пошутил.
— У нас такая беда — ребёнок ужасно хочет писать! — пожаловалась тётя.
Что, что? Да как она смеет так врать! Ну разве не врунья: у меня никакой беды не было, только громадное чувство стыда, от которого я буквально покраснела!
— Не позволите ли воспользоваться вашим клозетом? — жалостно спросила тётя.
— Где самая большая беда, там помощь ближе всего! — ответил поговоркой и улыбнулся мужчина. — Показать ребёнку, где у нас сортир?
— Ой, она у нас ещё такая маленькая — пожалуй, мне самой надо пойти с ней!
— Не хочу!
Я попыталась увернуться, но тётя тянула меня за руку к дому, и мы заняли чужой клозет, который был таким тесным, что я с трудом разместилась перед тётей, когда она, распахнув полы плаща, уселась на унитаз.
— Ну так, теперь можно опять жить и дышать! — счастливо вздохнула она, когда наконец встала и запахнула плащ.
— Зачем ты на меня наврала! — крикнула я яростно.
— Тсс! — тётя приложила палец к моим губам. — Будь теперь хорошим ребёнком! Детям всегда больше позволено, чем старшим. Что мне, бедняге, оставалось…
Она сказала хозяину дома тысячу «спасибо за проявленную милость к ребёнку», а я, нахмурив брови, зло смотрела на них и даже не подумала выдавить изо рта слова благодарности.
Входя в калитку тёти Маали, я в сторону тёти Анне даже не смотрела, а прошептала себе под нос: «Засранка!»
Не помню, где и когда я слышала это слово, но в этот момент оно казалось мне самым подходящим. Что с того, что хорошие дети так не говорят…
Эти разговоры взрослых — как всегда!
Тётя Маали была рада нашему приходу. По крайней мере так она сказала. Однако ей потребовалось накапать валерьянку на кусочек сахара, прежде чем она стала накрывать на стол, чтобы угостить нас кофе. Её руки задрожали, и сердце сильно забилось, а причиной тому был звук дверного звонка — резкий, дребезжащий, который и мы с тётей Анне ясно слышали, стоя на крылечке, но у тёти Маали от звонка боль буквально пронзила сердце.
— У нас тут звонком не пользуются… В последний раз он звонил, когда пришли за Эйно… — объяснила тётя Маали. — И как эти люди из безопасности узнали, что он у нас скрывается!
— Они как двуногие собаки-ищейки, — подтвердила тётя Анне.
— Феликс был уверен, когда привёз брата в Нымме, что искать его у вас никто не догадается, мы ведь не кровные родственники… Не знаю, согласится ли господин Копли, чтобы ребёнок несколько дней побыл у вас? Наверное, и он ужаснулся, когда вооружённые люди впёрлись сюда и потребовали Эйно…
— Ах, не стоит больше об этом! — махнула рукой тётя Маали.
— А Эйно жив и здоров?
— Жив, жив — он там, в лагере для заключенных, в Мордовии, работает в угольной шахте… Но точнее я ничего не знаю, в письмах половина строк жирно зачёркнута чёрными чернилами. Посылки принимают, стало быть, жив… Эйно больше знает немецкий и английский язык, но такой закон: писать письма можно только по-русски — два раза в год! — горестно сказала тётя Анне. — Это только русские могли придумать такое, чтобы запретить писать брату на своём родном языке! Вот тебе и дружба народов!
— Ох, да! — Тётя Маали стала вытирать уголком передника глаза. — Я вчера просила дядю Копли показать мне на карте, куда увезли маму и Элли. Этот Новосибирск — невероятно далеко… Это вообще чудо, что старая женщина в холодном вагоне живой доехала! Рууди — в Коми, а Ноора с детьми — в Омской области, всё в таких местах, о которых я раньше и не слыхала…
— Да, русский не пощадит… И даже маленьких детей! — сверкнула глазами тётя Анне. — Бот мы и подумали, пусть Леэло немного побудет не дома, следователь то и дело приезжает в Руйла придираться к Феликсу… Что-то будет, если однажды и его тоже уведут между часовыми с ружьями! И Феликс такой непрактичный, такой он есть, что он станет делать с ребёнком в тюрьме?
— Я не разрешу увести тату! — подняла я крик. — Зачем ты всё время говоришь такие ужасные вещи! Мама скоро вернётся, может быть, она уже сейчас дома!
Тётя Маали накапала из бутылки с валерьянкой на кусочек сахара коричневые капли и сказала мне:
— Закрой глаза, открой рот!
Конечно, грустно, что горьковатый вкус валерьянки лишил рассасывание сахара всякой приятности. Потом даже у купленных тётей Анне пирожных «морапеа» был привкус валерьянки.
Хотя Маали и отбивалась, тётя Анне насильно оставила ей на углу стола деньги на покупку еды для меня.
— Ох, да не надо, такую малость мы всегда найдём для ребёнка Хельмес…
— У меня сейчас есть возможность, — прервала Анне сопротивление тёти Маали. — Слава богу, у меня сейчас нет недостатка, хотя из Раквере прогнали, в чём мать родила! Кто с женщинами работает, у того всегда в доме хлеб и кусок масла, чтобы на хлеб намазать! — объявила тётя Анне. — Супруги русских офицеров дают «на чай» гораздо больше, чем наши эстонки!
— Ну да, у каждого народа есть всякие люди, — подтвердила тётя Маали. — Видишь ли, Ноора написала своей сестре, что у них там, в Сибири, очень добрый народ, одна семья дала им в своей избе крышу над головой, хотя им самим очень тесно… Странно, но она-то пишет по-эстонски, правда, эти письма редко приходят, но по крайней мере на родном языке.
— Но они же высланные, — кивнула тётя Анне понимающе, — это во многом другое дело, чем лагерь для заключённых.
От этих разговоров меня стало клонить в сон — я зевала, широко раскрывая рот, и нарочно не прикрывала его рукой — может, взрослые поймут, что следует начать говорить о чем-нибудь более весёлом? Ну как же, надейся!
— Но и там нелегко, — сетовала тётя Маали. — Ноора, она такая хрупкая, работала только мамзель-секретаршей и привыкла к жизни супруги офицера, а в Сибири вынуждена работать на лесоповале, а это тяжёлая мужская работа. Но мужчин в деревне, видно, мало, а те, которые есть, слабенькие юнцы или немощные старики, так что женщины уходят в лес на неделю и вывозят деревья на быках… Дети всё это время сами по себе. Когда Ноора добирается домой, дети уже спят, а утром опять оставляет малышей спящими… Анне уже умеет писать, написала Нооре записку «Оставь деньги на молоко!» Во всей деревне только у одной хозяйки есть корова и у нескольких баб козы…
Тётя Маали опять вытерла глаза, и голос её сделался глухим:
— Я думаю, что если ад всё-таки есть, так он должен быть битком набит русскими.
— Чего там про ад говорить, — засмеялась тётя Анне. — Да и у нас, в Эстонии, их уже как собак нерезаных, на место каждого увезённого эстонца привозят трёх Ванек!
Тут тётя Маали, наконец, заметила моё громкое позёвывание и спросила:
— Может, хочешь немного прилечь на бочок? Пойдём, я устрою тебя на диване в кабинете!
Прилечь на бочок у меня желания не было, но и сидеть за кофейным столом, болтать ногами и слушать взрослые разговоры тоже не хотелось. Краем глаза я заметила, что в кабинете дяди Копли на письменном столе лежали среди разных бумаг две детские книжки.
— Ой, я думала вечером их почитать тебе вслух, — сказала тётя Маали. — Они были ещё у Кюлле и Анне, но цветных картинок в них нет, только одни сказки…
Наконец хоть кто-то мог всплеснуть руками и изумиться:
— Детка, неужели ты и впрямь можешь читать печатные буквы?
И что там было читать? Книжки назывались «Золотая прялка» и «Узлы ветра»! А истории в них… О-о, это было нечто! Королевские дети, которые писали бриллиантовыми грифелями на золотой доске! Вот это было да! Не какие-то младенцы, которые только спят и требуют молока! Хотя, пожалуй, такая мама, которая ездит на быках по сибирским лесам, вызвала немного зависти, что правда, то правда!
Сто лет на улице Вярава
У тёти Маали я осталась на сто лет… Ну, если и не на сто, то на семь наверняка! Каждый вечер, укладываясь спать, я думала: если завтра тата за мной не приедет — умру! И так ему и надо! Мама вернётся и спросит: «А где моя маленькая певчая птичка, любимая доченька?», а тате придётся развести руками: «К сожалению, забыл ее у тёти Маали, там она от огорчения и умерла…» И тогда мама так на него рассердится, что не позволит ему класть в чай ни кусочка сахара! Так ему и надо!
По утрам, когда тётя Маали готовила еду, я сидела в кухне у окна и смотрела на улицу… Не покажется ли вдруг из-за куста сирени, на котором уже набухают почки, светлая шляпа таты? Или вдруг он и мама, оба весёлые, придут за мной?
Но вообще-то в Нымме было не так и плохо: тётя часто делала пирожные из слоёного теста, давала мне варенья (сколько хочешь!) и рассказывала разные истории старого времени. Дядя Копли тоже больше не бросался такими шуточками, какие нагоняли на меня страх, и если у него возникало настроение пошутить, он дразнил Виллу: «Вот возьму твою миску для еды! Ой, какая жирная кость — немедленно отдай!» И маленький Виллу вставал с урчанием на защиту своей миски с едой. Виллу, похоже, понимал шутки дяди Копли, потому и не впивался сильно зубами в носки его стариковских домашних туфель, но лай, который иногда раздавался из его коричневой пасти, был громким и угрожающим. Казалось, и дядя Копли понимал шуточное рычание Виллу, так что когда им надоедали шутки про миску с едой, оба в полном согласии выходили погулять в саду. Дядя Копли осматривал ягодные кусты и плодовые деревья, которые уже начинали весело зеленеть, а Виллу бегал вдоль ограды и ждал — не покажется ли на улице какая-нибудь машина или человек. Улица Вярава была местом тихим — машины проезжали тут редко, а прохожими были в основном жители соседних домов, но Виллу провожал каждого от одного края ограды до другого и затем удовлетворённый возвращался к дяде Копли: всё в порядке, хозяин, твой сад под моей старательной охраной!
Больше людей проходило по улице Вярава по субботам. Тогда во двор живущей напротив тёти Курэ небольшая белая лошадь ввозила тележку, и сидящая в ней женщина-хуторянка кричала зычным голосом: «Молоко, девушки и сударыни, молоко!»
У всех — и у тёти Маали тоже — были заранее наготове бидончики и молочные деньги, и, конечно, у торопившихся встать в очередь барышень и сударынь имелись новости, которыми они обменивались. В большинстве эти разговоры были скучные: каждый раз говорили о письмах, полученных от высланных, об арестах, допросах и лагерях для заключённых, иногда, очень редко, обсуждали что-нибудь более захватывающее, например, чем красит свои волосы живущая в соседнем с нами небольшом сером доме певица Ийа Ууделеп — красным стрептоцидом, как многие, или, может, у нее вдруг есть знакомства в Москве, потому что в Таллинне такой ярко-красной краски для волос днём с огнём не найдёшь! Ой, тётя Анне могла бы тут похвастаться своими знаниями! Я, стоя в очереди за молоком, не осмеливалась раскрывать рот, даже петь не решалась, потому что тётя Маали то и дело повторяла, что детям, которые начинают болтать лишнее, заклеивают рот клейкой лентой, да сверху завязывают узлом! И вот это завязывание узлом казалось самым ужасным: жизнь меня научила, что когда шнурки на ботинках, завязанные узлом, запутываются, если начинаешь их развязывать, то этот намертво запутанный узел развязать невозможно… Сама тётя Маали была среди разговорчивых соседей молчаливой и уравновешенной и на все вопросы отвечала только «нет», «да» и «может быть»… Когда спросили про меня, она ответила только «дочка сестры» и больше ничего не сказала. Это было, по-моему, лёгким обманом, потому что я уже давно знала от тёти Анне, что я дочь брата, но я пересилила себя и не стала объяснять это барышням и сударыням.
Дядя Копли запретил мне говорить о трёх вещах: во-первых, о том, что маму увезли, во-вторых, о его мундире с блестящими нашивками и золотыми пуговицами, что висел в одёжном шкафу и был обёрнут белой простынёй, и, в-третьих, о том, что я не какой-то обычный ребёнок, а ТОВАРИЩ ребёнок.
— Это всё военные тайны? — спросила я у дяди Копли. По радио однажды читали рассказ «Военная тайна», и там один мальчик, не подумав, разболтал военную тайну и сделал этим много плохого.
Дядя сделал серьёзное лицо и кивнул.
— Ладно, я никому не скажу, что у тебя в шкафу обёрнутый простынёй мундир безопасности! — торжественно поклялась я. На это дядя вначале немного помолчал, а потом сказал, что такому умному ребёнку, как я, не годится стоять в очереди за молоком, а вместо этого я могу посмотреть вместе с ним его альбом с марками, и при этом, если захочу, он может дать мне попользоваться своей лупой! Лупа была замечательной вещью, через увеличительное стекло можно было, конечно, рассматривать и марки, но гораздо интереснее было рассматривать свою кожу на руке или суп с капустой, или кончик носа Виллу. Я тайком рассмотрела через лупу пуговицы на мундире дяди Копли и увидела, что у трёх львов на пуговицах были злые морды! Просто посмотришь и думаешь, что хорошие зверюшки, как котята, а возьмёшь лупу и видишь, какие хищники прячутся в шкафу!
За все эти сто или по меньшей мере семь лет тата приезжал повидаться со мной только два раза. Оба раза он обещал снова приехать и оба раза клялся, что скоро возьмёт меня домой. А о том, чтобы привезти с собой Кати, он совсем не помнил…
— А я скоро выйду замуж! — сказала я ему. — У меня и жених есть!
Это было не такой уж неправдой: Сирье и Майе с верхнего этажа дразнили меня, что мальчик-детдомовец с рыжими кудрявыми волосами, на которого я смотрела всякий раз, когда мы шли мимо детского дома, и есть мой жених. На самом-то деле я думала взять этого мальчика себе в братья — в давние времена выбранное имя Энгельс ему очень бы подошло, но тётя Маали не соглашалась взять его из детдома. Оставалось лишь надеяться, что уговорить тату удастся легче. Например, когда он со своими друзьями пил пиво, всегда удавалось выпросить у него разные обещания. И было бы очень здорово играть с Энгельсом дома в школу и магазин!
Тата попросил меня немного подождать с замужеством, пока он не посадит в огороде капусту и картошку, достроит школьный стадион и доведёт до конца дело с возвращением мамы домой, а тогда можно будет подумать и о женихе. Он был почти согласен усыновить Энгельса, но только после того, как мама вернётся домой и согласится, чтобы домой принесли не крошечного беби Калева, а кудрявого и длинноногого Энгельса из детдома. А пока он дал мне задание до возвращения в Руйла научиться как следует свистеть, потому что ожидается, что у Сирки скоро будут щенки — ну и как эту собачью стаю держать вместе, если не умеешь свистеть?
Вот это была новость! Будущее засияло у меня перед глазами: большая стая щенков, мама и тата, рыжеволосый брат Энгельс — чего ещё желать!
Теперь мне пришлось заниматься тем, чтобы научиться свистеть! Тётя Маали и дядя Копли сначала были этим очень недовольны. Дядя сказал, что девочке совсем не подобает свистеть, это больше для уличных мальчишек, а тётя Маали утверждала, что свист вызывает сатану, но когда я им рассказала о будущей стае щенков, дядя махнул рукой, а тётя Маали только вздохнула и сказала:
— Иной человек на всю жизнь остаётся ребёнком. Где есть, туда и дают!
В магазине на улице Хаава дают сахар!
— Маали, быстро одевай ребёнка и возьми с собой кошёлку — в магазине на улице Хаава дают сахар! — крикнула мать Сирье и Майе, вбежав в калитку. — Я пришла за своими девчонками — дают кило на нос! Давай быстро, кто знает, на сколько человек его хватит!
Тётя Маали наскоро умыла меня, вымыла мои руки и натянула на меня свитер. Я подумала, что это может быть довольно смешно, если мы все — тётя Маали, тётя Тийу, Сирье, Майе и я — получим на нос в магазине на Хаава по килограмму сахара. Но тётя Маали даже и слушать не стала мои рассуждения, она, похоже, отнеслась к этому делу серьёзно и подгоняла меня: «Поторапливайся, иначе останемся без сахара!»
— И смотрите мне, чтобы в очереди за сахаром вели себя прилично! — поучала тётя Тийу. — И чтобы никакого хныканья — в очереди за сахаром не до шуток!
Я представляла себе сахарную очередь длинной белой сверкающей сахарной гирляндой, которую взрослые и дети держат над головами, но это оказалось вовсе не так… Перед майскими, октябрьскими и новогодними праздниками школьники в Руйла приносили с болота плаун, из которого вили длинные гирлянды. По всей школе пахло таинственным болотным запахом, когда дети украшали этими гирляндами потолок зала и висевшие в коридорах картины и ту, на которой был Энгельс со своими друзьями. Я представляла себе, что если бы на такие гирлянды насыпать сахару, получилась бы очень красивая сахарная очередь. Но на улице Хаава перед продовольственным магазином стояли один за другим совсем обычные жители Нымме. Это и была сахарная очередь, только издалека она казалась длинным хвостом, но когда мы стали в его конец, сделалось скучно.
— А может, дают больше, чем кило? — спросила у тёти Тийу молодая женщина в полосатом берете, которая стояла впереди нас и всё время переступала с ноги на ногу, будто так можно было скорее продвинуться вперёд.
— Только кило, кто же даст больше, — точно знала мать Сирье и Майе. — Хорошо хоть так!
— У меня ребёнок один дома остался, — сокрушалась женщина.
— Как думаете, сколько тут уйдёт времени — час или больше?
— Взяли бы ребёнка с собой — получили бы ещё кило, — поучала тётя Тийу.
— Мальчик только двухмесячный, — оправдывалась женщина.
— Какая разница! Хлебные карточки и талоны на водку давали в своё время и грудным младенцам, дадут и сахар! — уверенно сказала тётя Тийу. — Сходите домой, мы сохраним ваше место в очереди.
— Думаете, успею? Я живу недалеко, тут поблизости, на улице Курни…
— Ну, час простоим наверняка. Главное, чтобы сахар за это время не кончился! — заверила тётя Тийу, и женщина торопливо ушла.
Тётя Маали стояла в очереди прямо и с серьёзным лицом, словно делала какую-то важную работу, и не отпускала мою руку. Сирье и Майе всё время бегали туда-сюда и даже заглядывали в окно магазина.
— Пусть бегают, раз мать им разрешает, — сказала мне тётя Маали в ответ на мои слова, что я не младенец, чтобы меня всё время требовалось держать за руку. — Ты теперь на моей ответственности — а что я скажу твоей маме, если ты, бегая, угодишь под машину или провалишься в канализационный колодец?
— Но я не провалюсь! И мама сейчас в тюрьме, она и не знает вовсе, что я стою тут в сахарной очереди!
— Да, приложи руки ко рту и кричи во всё горло — а то вдруг те, что стоят подальше, не слышали! — рассердилась тётя.
С плохо скрываемой завистью я наблюдала со стороны, как Сирье и Майе составили компанию двум девочками постарше, которые чертили мелом на тротуаре какие-то квадраты и писали цифры.
— Иди играть в классы! — махнула мне рукой Сирье.
Я вопросительно просмотрела на тётю Маали.
— Мк-ммм! — промычала она, покачав головой.
— Пусти девчонку поиграть! — заступилась за меня тётя Тийу.
— Она не сахарная. Не рассыплется!
— Она — деревенский ребёнок и не знает, как вести себя в городе, — считала тётя Маали.
— Научится!
Я дёрнула тётю Маали за руку, поднялась на цыпочки и шепнула ей:
— Если не разрешишь, я всем скажу, что у дяди Копли мундир энкаведэ в шкафу!
Тетя испуганно стала глотать ртом воздух, прежде чем смогла шепнуть мне:
— Неужели тебе не стыдно? Ну, иди, поиграй немножко, но, смотри, не выходи на дорогу.
Я прыгала из квадрата в квадрат не хуже, по-моему, чем другие, может быть, чуть выше подпрыгивая, но Майе стала придираться:
— Ты что, совсем не умеешь играть в классы? Прыгаешь, куда попало!
— Сначала надо бросить в квадрат камень, — сказала незнакомая девочка с косами и протянула мне небольшой камешек.
Трах! — ударился об асфальт этот брошенный мной камешек и, отскочив от асфальта, стукнул одного стоящего в очереди мужчину по ноге.
Мужчина крикнул:
— Какой чёрт кидается тут камнями в людей! — Он посмотрел по сторонам и заметил нас, стоявших возле начерченных на асфальте квадратов. И я его узнала: это был тот самый мужчина, в клозет которого мы ходили с тётей Анне!
И сразу появился человек в мундире, он вышел из магазина и нёс сетку, в которой красовались два тёмно-синих угловатых пакета.
Я подбежала к тёте Маали: может, она всё-таки не даст человеку в мундире увести меня? Сердце колотилось отчаянно: что будет с татой, если я тоже попаду в тюрьму? И, поди знай, может, и тётю Маали заберут — мы ведь родственники…
— Граждане! — крикнул человек в мундире. — Сахарный песок кончился, теперь дают только кусковой!
Человек в мундире говорил по-эстонски! У меня упал с души камень, похоже было, что тот мужчина, в которого попал мой камушек, не разозлился и не стал жаловаться на меня человеку в мундире!
Вдруг очередь стала двигаться вперед гораздо быстрее. Дверь то и дело выпускала счастливых обладателей синих пакетов, и мы вскоре поднялись по ступенькам и вошли в магазин. Внутри очередь еще несколько раз извивалась, и тётя Маали сняла с меня шапку и расстегнула пуговицы кофты — в магазине было очень жарко.
Две продавщицы в белых чепчиках принимали деньги, вытирая
со лба пот, раздавали пакеты с сахаром и кричали:
— Пожалуйста, следующий!
Наконец, следующими были мы с тётей Маали, тётя протянула раскрасневшейся продавщице деньги и сказала:
— Нас двое — пожалуйста, два кило!
Конечно, я давно сообразила, что в магазине никому кило на нос, к сожалению, не клали, но испытывала чувство гордости — у меня теперь собственный пакет сахара!
Снаружи очередь была уже гораздо короче, и тётя Тийу сочла, что можно было бы ещё разок встать в хвост. Но выяснилось, что у тёти Маали нет больше с собой денег, да она не помнила, сняла ли суп с конфорки на плите. Тогда мама Сирье и Майе предложила, чтобы я осталась в очереди с ней и её девчонками. Когда она пообещала, что присмотрит за мной внимательно, тётя Маали оставила меня и пошла домой одна.
Вообще-то стоять в хвосте — дело довольно нудное, но куда денешься! Но тётя Тийу и слушать об этом не хотела, а я подумала, что могла бы прийти в сахарную очередь когда-нибудь в другой раз.
— Варенье лопать все хотите, а в очереди постоять не желаете! — сердито буркнула она, когда Сирье и Майе тоже захотели домой.
— Граждане, сахар кончается, больше в хвост не становитесь! — объявила одна из продавщиц.
— Может, нам ещё хватит! — надеялась тётя Тийу, и когда мы подошли к прилавку, сказала продавщице: — Четыре кило. Со мной три девочки.
— Эта девочка поменьше ведь не ваша — она была тут с другой женщиной, — сказала продавщица, нахмурив брови. — Я её по глазам узнала.
— По глазам? — рассердилась тётя Тийу. — Вы не по глазам сахар продаёте, а по кило на нос. Четыре кило, я сказала!
Продавщица пожала плечами и выставила на прилавок четыре пакета.
Когда мы сворачивали на свою улицу с бульвара Вабадусе, увидели женщину в полосатом берете, которая торопилась в сторону магазина, толкая впереди себя бежевую детскую коляску.
— Эта, наверное, останется с носом, — предположила тётя Тийу.
— В нынешнее время деликатничая ничего не получишь, надо брать от жизни всё, что только можно.
Я испытывала гордость: взяла от жизни два кило сахара — один для тёти Маали, другой для тёти Тийу. Но женщину в полосатом берете мне было немного жалко. Я подумала, что если когда-нибудь в другой раз встретимся с нею в магазине, отстою и за неё в сахарной очереди, что с того, что продавщица запомнила мои глаза! Сахар ведь не по глазам продают, а по кило на нос!
Новые и старые песни
Радио — наш маленький и миленький «Москвич» — вот чего мне у тёти Маали сильно не хватало. У дяди Копли тоже было радио — здоровенный ящик по имени «Марет», но оттуда ни концерта по заявкам, ни передачи «Угадайка!» слышно не было. И когда дядя Копли по вечерам крутил радиоколёсики, то раздавался жуткий вой и треск, и иногда сквозь этот угрожающий шум слышен был голос бравого мужчины, говорившего про оккупированную родину и обращавшийся к дорогим соотечественникам с просьбой сохранять мужество, потому что час свободы недалёк. Из слов дяди Копли я поняла, что там его дядя, которого зовут Сямм, и что этот дядя Сямм передаёт приветы из свободного мира.
Дядя Сямм ничего не пел, да и как там петь, если вокруг такой шум и треск, как на лесопилке в Руйла, когда дядя Артур делает там из брёвен доски.
Дядя Копли замахал руками, когда я спросила: там, в свободном мире, идет социалистическое строительство, что ли, иначе почему там такой грохот? По нашему радио дома часто говорили о социалистическом строительстве, которому господа за лужей пытаются вставлять палки в колёса.
— Этот ребёнок иногда нагоняет на меня страх, — сказал дядя тёте, оставив мой вопрос без ответа. — Этот ребёнок как бродячая собака — смотрит на тебя большими глазами и всё запоминает!
Я напомнила дяде Копли песню, которая, по-моему, лучше всего подходила строительству: «Здравствуй, страна родная, страна строителей, страна учёных!..» Но оказалось, что он о ней и понятия не имеет. Конечно, если неохота всё время включать радио, не узнаешь и много хорошего! В Нымме слушать радио утром было нельзя, потому что дядя Копли возвращался рано утром с дежурства в пожарной команде, где он работал, и ему требовались тишина и покой, а вечером опять начинался этот жуткий треск свободного мира. Я уже начала забывать некоторые красивые песни, потому что тётя Маали разрешала петь их только на веранде, да и то очень тихим голосом.
«На Волге широкой, на стрелке далёкой, где громко гудками зовёт пароход, под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем посёлке подруга живёт…» — эта песня, по-моему, была одной из самых красивых. Она называлась «Сормовская лирическая», её пел по радио «Москвич» Георг Отс таким красивым задумчивым голосом, что аж в животе делалось холодно!
Дядя Копли ворчал:
— Можно подумать, что эта наша маленькая жиличка — колхозница из России, а не племянница эстонского офицера!
Эстонским офицером был дядя Рууди — отец Кюлли и Анне. Все эти родственные дела были для меня весьма непонятной путаницей, но тётя Маали дала честное эстонское слово, что хуторская бабушка Мари была не только моей бабушкой, но и бабушкой Кюлли и Анне, и моя мама, Маали, Рууди, а также тётя Луисе, тётя Элли, тётя Мари, тётя Анни и тётя Марта были её детьми. Старые люди чудные, это точно: знай себе, рожают тёть и дядь! Кроме этих, у бабушки Мари было ещё пять детей, из которых тёти и дяди не получились, потому что они в старое время умерли грудными младенцами. В придачу ко всему у Рууди и мамы был ещё один брат — Волли, но о нём и говорить не стоило, потому что тётя опять закрывала фартуком лицо и начинала всхлипывать, и с ней долго было невозможно вести приятный разговор.
На большой семейной фотографии в картонной раме все эти тёти и дяди стояли в ряд возле дедушки и бабушки, и только одна маленькая девочка сидела у дедушки на коленях. Смешно было думать, что эта непричёсанная малютка была моя мама! Дяди были в то время ещё мальчишками, и, глядя на это фото, тётя Маали начинала не плакать, а смеяться.
— В старину был такой неписаный закон, что самый старший сын наследует хутор, а младший получит образование, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Нашего Рууди послали сначала в гимназию Вестхольма и потом в мореходную школу, а Волли отец с малых лет учил работам на хуторе — и из него получился очень хороший хозяин. Жена Волли — Милли тоже была на все руки мастерица, она в городе закончила школу портных и всё такое… Но Милли и дети в немецкое время заболели дифтеритом и все умерли. И сама Милли, и Лейда, и маленький Рууди… И будто этого было мало — русские арестовали Волли и убили его: они считали, что, если хозяйство в порядке, то ты — кулак. Была красивая и счастливая эстонская семья — и словно всех их смели с лица земли! — рассказывала тётя Маали плаксиво и, поискав в ящике письменного стола, достала оттуда фото, на котором красивая девочка с чёрными волосами лежала в гробу, как Белоснежка. У нас дома было точно такое же фото, но я давно засунула его за книги на полке: попробуй спокойно быть дома одна, когда знаешь, что где-то тут лежит в гробу красивая Лейда, у которой заразная болезнь дифтерит! Как сказала тётя, это была такая болезнь, от которой в горле вырастала плотная плёнка и не давала дышать — вот и наступала смерть… Нечто подобное и я однажды пережила, когда мне в дыхательное горло попала картошка — ой, такого кашля и чувства, что задыхаешься, пережить ещё раз я ни за что не хотела!
Тётя Маали заразиться дифтеритом не боялась, зато боялась других болезней горла. Каждый раз, когда мы ходили в магазин и я выпрашивала у неё мороженое, она говорила:
— Однажды я слышала на улице, как одна мать сказала своему сынку, который вроде тебя хотел мороженого: «Прежде я заранее куплю для тебя гроб!». Вот и я не стану подвергать твою жизнь опасности: я должна, дорогая ты моя, вернуть тебя папе с мамой живой и здоровой!
Гроб был таким сильным аргументом, что речь о мороженом заходила у нас редко-редко, когда какой-нибудь ребёнок перед самым моим носом гордо лизал «эскимо» на палочке или лакомился пломбиром между клетчатыми вафлями… Но всегда гроб становился поперёк моих надежд оказаться в числе счастливчиков, лакомившихся мороженым!
Не помогла даже и песня про тех, кто занимается утренней зарядкой, которую я спела тёте Маали. Эту песню по нашему домашнему радио постоянно пела девочка с красивым голосом, которую диктор называла Марью Тарре. Я была уверена, что эта девочка ест мороженого столько, сколько её душе угодно, потому что она пела храбро и бодро: «Не страшны мне ни холод, ни жара, удивляются даже доктора, почему я не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего двора?» И храбрые мальчишеские голоса отвечали припевом: «Потому что утром рано, заниматься мне гимнастикой не лень, потому что водой из-под крана обливаюсь я каждый день!»
Тётя Маали знала, что я боюсь как холодной, так и горячей воды, а о том, чтобы вставать утром рано, и речи быть не могло, и поэтому она тихо ворчала: «Тоже мне песня! Разве мама не научила тебя петь КРАСИВЫЕ песни?» Тогда я спела тёте «Все мои утята» и «Ох, прыгай медвежоночек», но они, по сравнению с радиопеснями, казались колыбельными для младенцев.
Песни тёти Маали были совсем другими, например: «В саду, в тени деревьев, рыцарь с Идою сидел. „Дорогая, — сказал рыцарь, — воевать, вот мой удел!“» или «Лилла сидела в каморке одна, видела море она из окна. Время тоскливо тянулось, вдруг увидала она, наконец: с моря на берег вернулся отец».
Песня про Лиллу всегда вызывала у меня грустное настроение: что можно чувствовать, если отец не хочет за твоё освобождение отдать трёх лошадей, а мать говорит, что скорее отдаст дочь, чем свои украшения. Украшениям моей мамы я уже причинила неприятности: жемчужные бусы рассыпались, а янтарный браслет держался на честном слове, но она наверняка отказалась бы от них ради меня, и всё равно эта песня вызывала у меня задумчивое чувство. Жениха, который без долгих раздумий пожертвовал бы своими тремя мечами, у меня ведь не было… У рыжеволосого детдомовского Энгельса, безусловно, ни одного меча не было, а на кинодядю, который показывал Тарзана, надеяться тоже не приходилось.
Но песни песнями, а в один прекрасный день, когда мы с тётей Маали в прачечной комнате раскатывали валиком постельные простыни, в дверях прачечной вдруг возник тата — красивый, высокий, широкоплечий — и, поздоровавшись, сразу спросил:
— Дочка, не хочешь ли ты сейчас вернуться домой?
Я бросилась ему на шею так, что он даже выронил из руки на пол свою шляпу. Но, к счастью, не в мыльную лужицу. Я с трудом дождалась, пока тата съел предложенную ему тётей яичницу с салом и выпил чашку кофе. Домой, наконец-то, домой! Про свист, который, несмотря на все мои старательные упражнения, не очень-то у меня получался, тата, к счастью, не вспомнил, и я, конечно, не стала ему напоминать об этом.
Разговор взрослых казался таким нудным и бесконечным — как всегда, говорили про адвоката, следователей и других не имевших значения делах, так что, когда мы, наконец, стали уходить, тате несколько раз пришлось мне напомнить, что надо сказать тёте Маали «Спасибо!» и вежливо пожать руку.
Тётю мне стало немножко жалко, когда она, стоя в калитке на улице Вярава, помахала нам вслед: долго она теперь не услышит «Сормовскую лирическую» и не получит в магазине два кило сахара…
Когда шли мимо детского дома, было как раз то время, когда все дети были во дворе и среди них мой будущий брат или жених Энгельс.
— Посмотри, какие красивые рыжие волосы у него! И каждый волосок по-своему завивается, как твой штопор! — указала я рукой на мальчика. — Возьмём его мне в братья, ладно?
Тата не смог рассмотреть рыжего, потому что тётя в синем халате вышла на крыльцо и крикнула: «Коля!» И ещё что-то по-русски. Как я сообразила, она позвала Колю. И мой избранник что-то крикнул ей в ответ — тоже по-русски, и побежал в дом.
Энгельс оказался русским! Такой красивый маленький мальчик — и уже совсем русский!
— Может, насчёт этого мы ещё подумаем, — сказал тата, и я не стала с ним спорить.
Все сохранилось
В деревне весна была в полном разгаре: перед нашим домом всё было жёлтым от одуванчиков, а чуть подальше под каштанами цвели перелески, как синее озеро! Река за это время сильно наполнилась, и вода плескалась у подножья берёз, росших перед домом. В начале канавы у серебряных ив корячились тёмно-коричневые лягушки. Они смотрели оттуда, как настоящие хозяева, и издавали странные звуки, напоминавшие тарахтение татиного мотоцикла.
Наши комнаты стали будто немного сумрачнее и казались заброшенными, даже целлулоидная головка Кати была вроде бы холоднее, чем прежде… Но всё моё имущество было в сохранности: Кати, медведь с трясущейся от старости головой, коробка с кубиками, цветные карандаши и стопка книг. И коробка из-под мармелада с запасами на случай войны лежала нетронутой в книжном шкафу. Склад с военными припасами теперь пополнился подаренной мне тётей Маали жестяной коробкой, на крышке которой была надпись «Драгоценные камни». В этой коробке уже было кое-что припасено: четыре кусочка сахара, половина трубочки с эвкалиптовыми таблетками и несколько печений в виде костей. Коробка «Драгоценные камни» предназначалась для посылки негритянскому певцу Полуробсону: её он сможет сунуть в карман, когда будет удирать от проклятых поджигателей войны, которые морят негров голодом, бичуют и угрожают убить. У эвкалиптовых пастилок был противный едкий вкус, но для голоса певца они должны были быть полезными. Из кармана татиного пиджака я утащила коробок со спичками для Полуробсона, чтобы в кромешной ночной тьме, царящей в Америке, он мог зажечь хотя бы свечку. Он, бедняга, и сам был лучом света в царстве тьмы, как сказала радиотётя. Хорошо бы где-нибудь достать и саму свечку и, может быть, несколько кубиков какао, и тогда я могла быть спокойной за беднягу Полуробсона. Отправление посылки я решила доверить заботам тёти Анне: она всё равно каждый месяц ходит на почту посылать дяде Эйно в лагерь для заключённых копчёное мясо, сахар и журналы, так что посылка негру не должна причинить ей много дополнительных хлопот!
Радио «Москвич» за время моего отсутствия совершило большое развитие: песни Полуробсона там исполняли уже на эстонском языке! Пел их Отть Раукас, у которого был почти такой же низкий голос, как у самого негритянского певца: «Миссисипи — волны катит мощно, баржи с хлебом по реке плывут, труд наш тяжек, и лишь тёмной ночью в сне коротком можно отдохнуть…» До того грустная песня, что хоть начинай собирать запасы и для Оття Раукаса!
Ой, в радио появилось много новых песен! У меня даже возник страх, успею ли я все их выучить. Дала себе совет, что хотя бы песни детского хора Дворца пионеров надо запомнить: в этом хоре пела и Марью Тарре, которой я восхищалась! Разве не здорово, если встречу маму песней «Пионер я, пионер я, но, друзья, инженером стану я. Я в мечтах специалист и строитель-коммунист!» Так же задорно звучала и узбекская народная песня «Цып-цып-цып цыпляточки, милые ребяточки!» и белорусская «Там-там-там там, тара-рара, картошка — наша главная еда!»
Очень было жалко, что майский праздник в школе прошёл без меня — наверняка я там выучила бы что-нибудь новенькое! Гирлянды из плауна ещё висели под потолком зала и вокруг картин, но «Молотильню» станцевали без меня, и гимнастические пирамиды с флажками, и стихи про товарища Лаара… Ничего не поделаешь, придётся мне с моим народным костюмом ждать следующего праздника в школе. Да, да, — бабушка Минна Катарина сшила мне, наконец, мустъяласкую народную юбку, для которой мама давно подыскала подходящие куски ткани!
— Пожалуй, это не совсем точная мустъялаская юбка, — заметил тата, отдавая мне подарок, — но зато она имеет историческую ценность: бабушка Мари сделала эти ткани из шерсти своих овец, а бабушка Минна Катарина сшила юбку! В ней пойдём встречать маму, когда она освободится!
У мамы в шкафу висела такая же юбка. Она надевала её, когда ездила на Певческий праздник и когда на школьных праздниках дирижировала хором. Полагающиеся к народному костюму народные брошки тата обещал скоро починить — для этого надо было только принести из школы колбу и найти немножко олова.
— Ты уже большая девочка, и ты — молодец! — похвалил меня тата.
Совсем хорошо быть большой и молодцом — даже тётя Людмила больше не сердилась, когда теперь я в большинстве случаев ходила с татой на его уроки. Говорили, что тётя Людмила уходит из нашей школы, потому что и сама чувствует, что не может хорошо справиться с руководством эстонской школой. И понимание этого сделало её веселее и добрее, и когда я однажды, сидя в канцелярии, где шёл педсовет, стала от скуки играть с Ноги и Котой в урок физкультуры, директорша меня не ругала, а нашла в ящике своего стола какую-то штуковину и позволила мне с ней играть. На двух длинных деревянных планках было два бочоночка, и если тихонько двигать одну планку вперёд, из одного бочоночка высовывался медведь, а если двинуть назад, из другого бочоночка выглядывал мужичок с бородкой клинышком.
— Это Ленин? — спросила я, и все учителя, кроме таты и тёти Людмилы, рассмеялись. Но и тогда тётя Людмила не рассердилась и не нахмурила брови, как тата, а лишь сообщила:
— Нет, это сказка «Мужик и медведь».
Я играла в эти прятки мужика и медведя, пока учителя не обсудили все свои скучные дела. Когда директорша сказала: «Товарищи, совещание окончено!», у меня медведь и мужик уже выяснили отношения — ни тот, ни другой больше не осмеливались высунуться из своего бочонка. Означало ли это, что в такой игре не бывает ни победителей, ни проигравших?.. Тата пообещал тёте Людмиле исправить игрушку, но он и раньше много чего обещал!
Среди школьников
Солнечные лучи падали как дождь! Всюду под деревьями и на зелёном склоне берега были удивительные жёлтые солнечные пятна. Весь мир пропах солнцем и большими жёлтыми одуванчиками, которые раскрывались буквально с хлопком. По реке плыли белые облака, и между ними суетились и мягко покрякивали дикие утки со сверкающими синими шеями.
У таты был урок рисования, и он вывел учеников на двор. Они сидели на табуретах с альбомами для рисования на коленях и слушали сложные объяснения учителя про перспективу, горизонт и другие вещи, для понимания которых надо быть школьником.
Кроме меня среди больших детей оказался и маленький родственник школьной нянечки Анни — мой друг Юри. Он вообще-то жил со своими папой и мамой в городе, но иногда приезжал в гости к тёте Анни и обычно проводил половину времени у нас. Ему нравились собаки, но белый шпиц тёти Анни Морган был очень старый, почти глухой и слепой и рычал на детей. Наша Сирка, да и исчезнувший Туям были гораздо терпеливее, и с ними можно было играть в преследование убийц, что очень нравилось Юри, и в школу — это была одна из моих любимых игр. При плохой погоде можно было играть в прятки или в «трипс-трапс-трулли», а иногда тётя Анни давала нам на время свою удивительную игру в мозаику, которая когда-то принадлежала Верене, дочке помещика фон Бремена. Но когда Гитлер позвал всех немцев домой в Германию, Верена, уезжая, оставила игру в мозаику тёте Анни на память. Юри умел так мило просить эту игру у тёти Анни, что иногда нам разрешалось даже выносить её во двор и раскладывать на траве. Игра состояла из четырехугольной доски с полированными рамками, в которые надо было уложить лица клоунов, изображения дам и господ в странных шляпах — каждая такая частичка была особого вида и величины, и требовалось несколько часов, прежде чем удавалось собрать всю пёструю картину.
Мама Юри тётя Альма была очень хорошим поваром и часто мне тоже доставались выпеченные ею булочки с корицей и овсяное печенье. Мы и теперь расхаживали между рисующими учениками, держа в руках по завитку булочки.
— Дай куснуть! — просили большие мальчики у Юри.
— Что? — спросил Юри. — Да тут не от чего откусывать! Последний кусочек — и всё.
Он сунул последний кусочек булочки в рот и вывернул карманы своей куртки.
— Ммы-мым! Ничегошеньки нет! Совсем пустые карманы!
Я осторожно спустилась по откосу берега, чтобы посмотреть, цветут ли растущие у воды калужницы или это желтеет только дикий табак.
Цвели калужницы. Я знала, что тата не велит их срывать, потому что калужница в вазе долго не проживёт, но не смогла удержаться и отломила небольшую веточку.
— Вее-ликс! Вее-ликс! — услыхала я вдруг отчаянный крик Юри. Я подбежала к тате одновременно с Юри и испуганно остановилась: круглое лицо Юри было красным и в слезах.
— Что случилось, парень? — спросил тата. — Тебя что — пчела ужалила?
— Не ужалила! — всхлипнул Юри, и нижняя губа у него капризно скривилась. — Видишь большого парня там? Он сказал мне жуткие слова!
Большой мальчик, на которого указывал Юри своим коротким толстым пальцем, был тот самый сын тёти Минни Лембит, умевший кричать по-тарзаньи и получивший от тёти Людмилы приказ явиться в школу с родителями. Услыхав, что Юри жалуется, Лембит очень серьёзно принялся за рисование.
— Этот мальчик мне сказал: «Юри нерадивый с жопой шелудивой»! — объявил мой друг.
Сидевшие поблизости школьники захихикали, а Лембит продолжал спокойно рисовать.
У таты дрогнули уголки губ.
— Да, да, он так и сказал: «Юри нерадивый с жопой шелудивой»! — повторил Юри.
По-моему, это было гадко сказано! Будь ты хоть сам Тарзан, а о моём друге маленьком мальчике в матросском костюме так говорить нельзя!
Тата почесал затылок.
— Вот так история! Ну, и что мы с твоим обидчиком сделаем, Юри?
Юри подумал и предложил:
— Застрели его из ружья!
— Из ружья? Ой, это слишком суровое наказание за враньё. Ведь Лембит ничего больше не сделал, как только наврал, верно?
— Как это?
— Ну, я-то не верю, что у тебя задница грязная! — сказал тата, покачав головой.
— Нет! Конечно, нет! — торопливо подтвердил Юри. Казалось, он готов был в подтверждение снять свой матросский костюм.
— Вот видишь — Лембит о тебе ничего не знает и просто соврал! Пусть он, пустозвон, остаётся там, где сидит, вместе со своей шелудивой задницей! — решил тата и похлопал Юри по плечу.
Юри склонил голову набок, немного подумал и затем радостно улыбнулся.
— Пусть он, пустозвон, остаётся там, где сидит!
Тата подошёл к Лембиту и что-то тихо сказал ему на ухо. Лембит пожал плечами, медленно встал и подошёл к нам.
— Ну, Юри, не злись, давай помиримся! — сказал он, усмехаясь, и протянул руку.
— Помиримся! — согласился Юри и принял протянутую ему недавним врагом руку.
— Пожалуйста! — Я протянула Юри веточку калужницы. — Как хорошо, когда все дружат!
— А ты, девчонка, получишь у меня… — шепнул совсем белоголовый мальчик, воспользовавшийся тем, что тата отошёл далеко к другим рисующим ученикам.
Этого мальчика я знала — это был Юхани, брат моей подруги Майу. С Юхани и его старшими сёстрами тата иногда говорил по-фински. Они все вместе с родителями приехали из Ингерманландии, как та женщина, которой дедушка подарил бабушкину сковородку. Майу по-фински не говорила, она родилась уже в Эстонии, но почему-то уроки эстонского языка были для неё сплошным мучением. Так она мне сказала. Хрестоматия, которую она мне как раз накануне показала, была вроде бы скучноватой, но ничего особенно трудного в ней, по-моему, не было. С Юхани у меня никогда не было никаких дел, и почему он ни с того ни с сего был на меня зол, я и понятия не имела.
— Вчера ты сбила Майу с толку своим букварём — сегодня она получила по-эстонскому двойку, и весь класс над ней смеялся! — шепнул Юхани, злобно на меня глядя. — И посмей только пожаловаться своему папочке!
К счастью, урок как раз кончился, и все ученики — и Юхани тоже — пошли вместе с татой с школу, неся свои альбомы и табуретки.
На перемене многие дети, обрадовавшись хорошей погоде, вышли, чтобы поиграть на Подвальной горке. Я увидела среди них Майу, подошла к ней и сразу спросила:
— С чего это твой брат на меня так разозлился?
— А зачем ты так сделала? Думаешь, если ты дочка учителя, так можешь других дурачить, да? — спросила Майу сердито и упёрлась руками в бока.
Хельви, дочка дяди Артура, заметила, что со мной что-то неладно, и подошла к нам.
— Чего вы, малютки, не поделили? — спросила Хельви.
— Леэло научила меня каким-то дурацким буквам! — пожаловалась Майу.
«Дурацкие буквы» — это ещё что такое? Но тут я вспомнила, что Майу вчера на большой перемене жаловалась мне, что никак не может запомнить буквы и прочла мне из книги какую-то белиберду «абеде, еехвдее», потом в конце «юю». Такую бессмысленную нелепицу, по-моему, и не надо было запоминать — и я придумала более весёлую строчку песни: «Хабеде, мягиде, йыгеде, вягеде хю-юд!»
[15] Это было нечто! Это было как строчка из настоящего стихотворения, не просто какая-то бессмыслица. Это звучало даже красиво, если лихо декламировать… Правда, в первом слове вместо «хабеде», должно было бы быть «хабемете», но я тогда подумала, что ведь в стихах можно слова немножко изменять, чтоб они лучше звучали. И эту строчку, придуманную мной строчку, можно было петь на мотив «Семейного вальса». И Майу хорошо всё это запомнила вчера во время большой перемены.
Но учительница настаивала на своём и требовала, чтобы все дети на уроке родного языка бубнили такую бессмыслицу как «абе-де-еехвеге».
— Ну ты и изобретательница, — громко засмеялась Хельви, услыхав, как было дело. — Хабеде, мягеде! И откуда только у тебя такое берётся?
— Ладно, давай помиримся! — сказала я Майу и протянула руку.
— Не сердись.
— Не буду, — ответила она, стараясь улыбнуться. — Но беда в… том, что эти твои слова всё время лезут мне в голову, когда я стараюсь запомнить правильную азбуку…
Я не знала, как утешить Майу, потому что, не скрою, эти придуманные мною слова были гораздо красивее, чем какое-то бессмысленное «абеде-еехвегее». Оставалось только надеяться, что эта глупость выйдет из моды к тому времени, когда я стану школьницей.
Не бросай меня!
Настало время школьных каникул, и тата с большими мальчиками уже закончили устройство школьного стадиона, но мама всё ещё не вернулась домой. Когда тата уезжал в город заниматься делами, а меня оставлял заботам тёти Анни или тёти Армийде, с наступлением вечера меня охватывала паника: успею ли я надеть народный костюм к приезду мамы с папой. И несколько раз возникало чувство уверенности, что сегодня, именно сегодня этот день, когда мама вернётся, и тогда меня не могло удержать в деревне ни помещичьих времен игра тёти Анни в мозаику, ни обещания большой дочки тёти Армийде Хельви показать мне клоуна, если буду хорошим ребёнком. Я прибегала домой, встав на цыпочки, доставала из стенного шкафа в коридоре ключ и открывала дверь. Народный костюм был всё время на стуле, наготове, и я постепенно научилась ловко застёгивать пуговицы блузки и крючки на лифе юбки.
Но каждый раз тата возвращался домой один и совсем унылый. Дяде Артуру и Яану-Наезднику он расхваливал адвоката, который, хотя и был очень молодым, но очень умным, но, когда мы оставались вдвоём, тата становился задумчивым, и приходилось по нескольку раз звать его, а иногда и стаскивать со стула, взяв за руку, когда я хотела что-нибудь ему показать. Например, как большой, красноголовый дятел за окном долбил берёзовый ствол в таком забавном темпе, словно он был заводной.
Но на школьном стадионе тата был совсем другим. Когда закончилась возня с бульдозеристами и из карьера на берегу озера привезли на колхозном самосвале несколько куч песка, он собрал больших мальчиков с косами и вместе с ними скосил траву на площадке для прыжков и вокруг беговой дорожки так коротко, что она выглядела совсем как трава в городском парке. Под конец тата раздолбил целую кучу красивых красных кирпичей, и эти осколки перетёр в порошок старинной ручной каменной мельницей, взятой взаймы у дяди Артура. Этим порошком разметили линии на беговой дорожке, и мальчишки стали каждый летний вечер ходить на спортплощадку и усиленно тренироваться, так что после тренировки лица у них были почти такие же красные, как порошок из кирпичей.
На той спартакиаде, куда тата не взял меня, спортсмены Руйлаской школы завоевали много наград, и эти полученные школой дипломы и кубки вызвали у школьников ещё больший интерес к спорту и желание побеждать. Особенно ловкими были мальчики, а девочкам больше нравилось играть в волейбол, но замечания, которыми обменивались играющие, привлекали и меня в число зрителей на краю площадки.
«Не всё коту масленица!» — кричали, когда кто-нибудь из команды противника попадал мячом в сетку. «Больше каши ешь!»
— советовали тому, кто делал плохую подачу. Когда, наконец, выяснялся победитель, проигравших укоряли: «Не за своё дело не берись!»
Смотреть на тренировки бегунов было не так интересно: потные мальчики рысили по беговой дорожке в вытянутых майках и чёрных или тёмно-синих трусах почти до колен. Некоторые были в поношенных теннисных тапочках, некоторые просто босиком. Иногда кто-нибудь, пробегая мимо другого, толкал его локтем и ещё реже кто-нибудь падал, на что другие реагировали насмешкой: «Мужик и связь с землёй».
Тата качал головой, стоя возле беговой дорожки, и кричал:
— Руки! Это вам не бег в мешках! Работайте руками!
Какое-то время, но недолго, он ворчал что-то себе под нос, потом сбросил штормовку и тренировочные штаны.
— Парни, посмотрите, как надо работать руками!
Мальчики сначала смотрели, открыв рот, как тата бежал — руки двигались, словно он на каждом шагу впереди себя отталкивал каких-то невидимых соперников, и ноги двигались всё быстрее. Быстрее, ещё быстрее…
И вдруг мне стало казаться, что там, на беговой дорожке не МОЙ тата, а кто-то другой, гораздо более молодой человек, высокий, стройный и ловкий спортсмен… Пааво Нурми — победитель, для которого в мире нет ничего другого, кроме бега! Он промчался мимо меня так, что воздух дрожал, — и совсем не заметил меня. Меня, Эмиля Затопека! Меня, своего ребёнка!
Под открытым небом не было в тот миг ничего другого. Только эта огромная спортивная площадка, несколько чужих больших мальчиков и бегун с длинными руками и ногами, который, казалось, разбегается, чтобы взлететь. Казалось, он убегает в какой-то другой мир — такой, о котором я и понятия не имела. Для него меня будто и не было, будто я не существовала в этом мире!
— Таа-аа-та-аа! — закричала я что было сил. — Тата, не бросай меня!
Но тата словно и не слышал, он уже второй раз промчался мимо меня, гордо вскинув голову, а большие мальчишки стаей бежали следом за ним.
— Тата, тата, не убегай!
«Вот я, здесь — без матери и отца! — подумала я в отчаянии. — Оба вроде бы есть, но не для меня. Я никакой не Затопек, я маленькая девочка, которая не умеет сама стричь ногти, разводить огонь в плите, нарезать ломтями хлеб и колбасу, зарабатывать деньги… Вот я, здесь, одна-одинёшенька, совсем брошенная!»
— Товарищ Тунгал! — крикнули с того края стадиона, который был ближе к школе. — Товарищ Тунгал, вас к телефону!
Тата всё ещё не замечал ничего вокруг! Ничей голос не мог догнать летящего по беговой дорожке тату — ни мой, ни директора школы.
— Учитель, учитель! — пытались уже и мальчишки привлечь его внимание.
Наконец он остановился, тяжело дыша, остановился передо мной, уперев руки в бока, и спросил с улыбкой, словно ничего не случилось:
— Ну, Эмиль Затопек, сможешь сделать так же или сдаёшься?
— Тётя Людмила тебя зовёт… к телефону! — сказала я, насупившись.
И вдруг мой страх и отчаяние как рукой смахнуло — чувствовала лишь легкую обиду на тату.
— Продолжайте тренировку! — крикнул тата мальчикам и быстро натянул тренировочные штаны.
— Следуй за мной, ладно? — сказал он, оглянувшись, и опять пустился бежать.
У Затопека в этот день не было и вполовину такой скорости, как у Пааво Нурми. Когда я, наконец, вбежала в канцелярию, то увидела перед собой совсем другого тату. Этот ссутулившийся мужчина у окна, выпустивший изо рта облако табачного дыма, никак не напоминал бодрого Пааво Нурми.
— Товарищ Тунгал, — сказала тётя Людмила. — Возьмите себя в руки — ребёнок пришёл!
Тата обернулся и посмотрел на меня в упор.
— Товарищ ребёнок…
Он раздавил папиросу в пепельнице и взял меня на руки.
— Плохие новости, товарищ ребёнок, — сказал он непривычным глухим голосом. — Суд над нашей мамой состоялся, но нас с тобой даже и не позвали. Вот в таком государстве мы живём — самом великом, самом свободном, самом демократическом.
Тётя Людмила сказала, вздохнув:
— Я сделала всё, что смогла… Мы с товарищем Когермаа написали вашей супруге очень хорошую характеристику: морально устойчива, идейно выдержанная…
— Когда мама приедет? — осмелилась я, наконец, спросить.
— Мама приедет через тридцать лет, — горько усмехнулся тата.
— Двадцать пять лет она отсидит в тюрьме за то, что учила эстонских детей, и потом проживёт ещё пять лет в России, прежде чем ей разрешат вернуться на родину. Мы с ней будем тогда уже семидесятилетними, а тебе будет хорошо за тридцать… Вот такие дела, дочка!
— Но вы подайте просьбу о помиловании! — поучала тётя Людмила. — Вы имеете на это законное право.
— Да, конечно, — кивнул головой тата. — У меня есть право просить помилование для своей жены…
Я повернула к себе ухо таты и сказала шёпотом:
— Но тогда и мне нет смысла быть хорошим ребёнком!
Все мои старания быть хорошей, сдерживание капризов, проглатывание гадких слов — всё было напрасным трудом!
Тата рассмеялся почти как обычно, опустил меня на пол и сказал:
— Как раз наоборот. Надо всё равно быть хорошим ребёнком — всем на зло! Спину прямо и улыбку на лицо, дочка! Мы — это мы, а они — это они!
Кто мы, это я знала, но кто они — в то время мне это было трудно понять. Да и сами-то они, эти взрослые люди, понимали ли!
Руйла 1997–2007

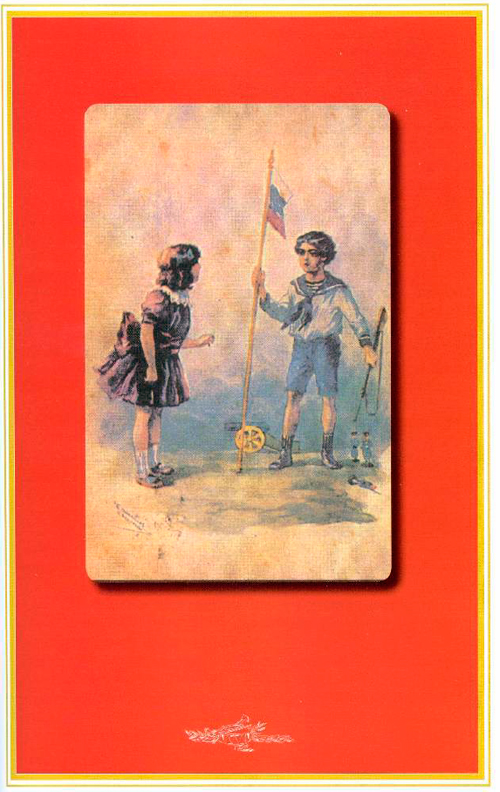
Михайлов-Северный В.
Игра в войну. Репр. открытки

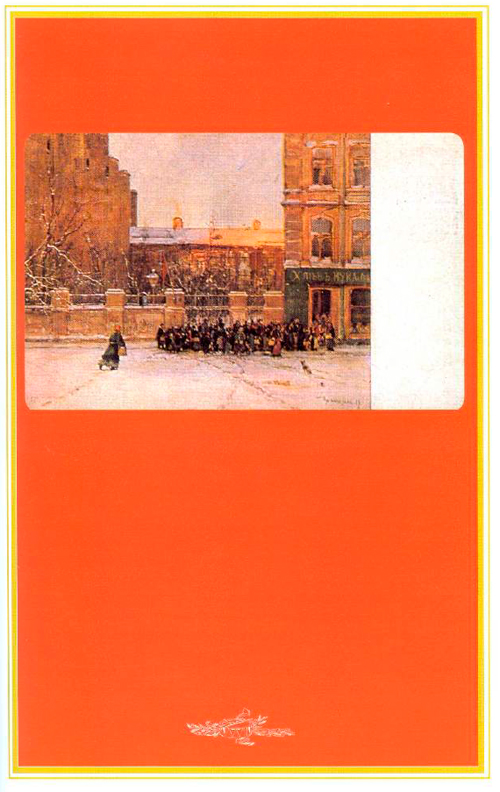
Клевер Ю.
Хлебный хвост. Из моего окна. Репр. картины


«Октябрята катаются с горки». Репр. открытки


Луппов С.
Праздник 1-ого Мая. Репр. открытки


Примечания
1
Роосаманна (roosamanna — пер. с эст. «розовая манна») — манный мусс (здесь и далее — примечания переводчика).
(обратно)
2
«В Вяндраском лесу» — эстонская популярная песня «Vandra metsas».
(обратно)
3
«Та элагу!» («Та elagu!») — эстонская заздравная песня.
(обратно)
4
«Husqvarna» — велосипеды и мотоциклы шведской фирмы «Husqvarna Motorycles».
(обратно)
5
Имеется в виду государственный флаг Эстонской Республики.
(обратно)
6
Ротонда — меховая, бархатная и др. женская длинная теплая накидка без рукавов, распространенная в XIX — начале XX века.
(обратно)
7
Янкуд (jankud — эст.) — зайцы.
(обратно)
8
Названия песен, пением которых сопровождались танцы.
(обратно)
9
Мульк — житель местности Мульгимаа (Mulgimaa) на юге Эстонии.
(обратно)
10
На улице Пагари в Таллинне находился НКВД/КГБ, «Таллиннская Лубянка».
(обратно)
11
Дословный перевод с эстонского «Siin Tallinn!» аналогичен русскому «Говорит Таллинн!».
(обратно)
12
Известные эстонские артисты-певцы 1950-1960-х годов.
(обратно)
13
Hull — пер. с эст. «сумасшедший», «безумный».
(обратно)
14
Полуробсон — так девочка воспринимала имя американского певца Поля Робсона, песни которого в 1950-1960-е годы часто звучали по радио.
(обратно)
15
Habede, magede, jogede, vagede huii-uud! — пер. с эст. «бород, гор, рек, крик войск!».
(обратно)
Оглавление
Хорошо быть хорошим ребенком
Играем в хозяйку
Луг на потолке
Маленький Затопек и большой Нурми
Папина родня
Польская кровь бабушки Минны
И если надо — то и дольше
Сковорода для ингерманландцев
Кати-утешительница
Ночь и краковяк
Немножко времени?
Медали и собаки
Снова дома!
Дома в одиночестве
Настоящий Тарзан
Ноги и Кота рвутся пойти с татой
В школу!
Одно слово — отсюда, другое — оттуда
Еще о словах и буквах
Королевский холостяцкий обед требует времени
Ярость и щедрость тети Анне
Подарки — наконец-то!
Тата не хочет готовиться к войне
Маленький розовый мраморный альбом
На мужском острове
Сладкая жизнь
Ратушная площадь
След ржавчины
В Нымме
Эти разговоры взрослых — как всегда!
Сто лет на улице Вярава
В магазине на улице Хаава дают сахар!
Новые и старые песни
Все сохранилось
Среди школьников
Не бросай меня!
*** Примечания ***


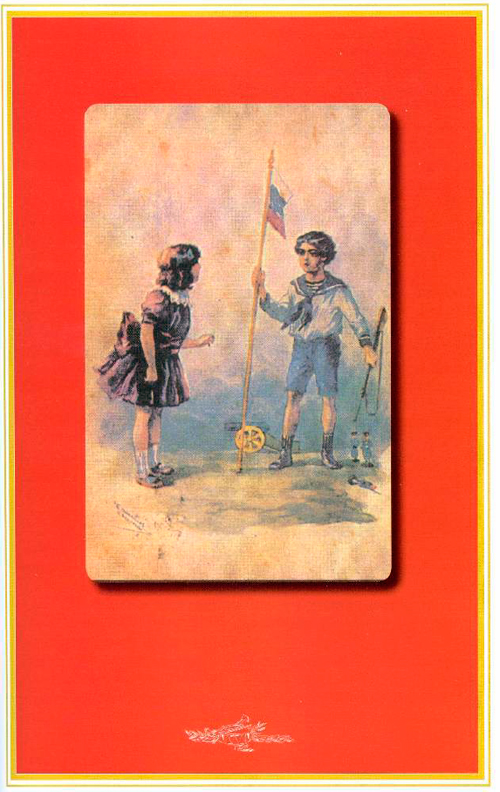 Михайлов-Северный В.
Игра в войну. Репр. открытки
Михайлов-Северный В.
Игра в войну. Репр. открытки

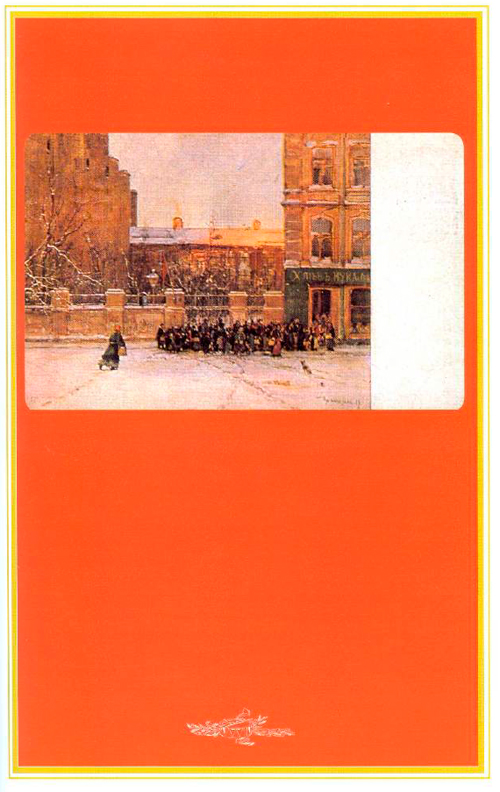 Клевер Ю.
Хлебный хвост. Из моего окна. Репр. картины
Клевер Ю.
Хлебный хвост. Из моего окна. Репр. картины

 «Октябрята катаются с горки». Репр. открытки
«Октябрята катаются с горки». Репр. открытки

 Луппов С.
Праздник 1-ого Мая. Репр. открытки
Луппов С.
Праздник 1-ого Мая. Репр. открытки

