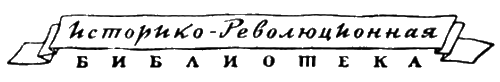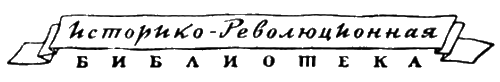
А. ГОЛУБЕВА
МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА
КЛАША САПОЖКОВА
Повести

*
Оформление Г. Ордынского
© Состав
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974 г.
МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА
Повесть о детстве и юности
С. М. КИРОВА
Рисунки В. Петровой
Глава I
ДОМИК НА ПОЛСТОВАЛОВСКОЙ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

В 1886 году — почти девяносто лет тому назад — электрического света и в больших городах почти еще не было, а уж в Уржуме и подавно. Улицы еле-еле освещались керосиновыми фонарями. Зимой, бывало, наметет на фонари снегу, чуть огонек мерцает. От ветра и дождя фонари частенько и вовсе гасли. И в домах тоже керосин жгли. У богатых были бронзовые и фарфоровые лампы с цветными стеклянными абажурами, а у тех, кто попроще, — жестяные коптилки.
На улицах, особенно осенью, такая темнота и грязища была, что пи проехать, ни пройти. Грязь до самого лета не просыхала и потом превращалась в сухую, едкую пыль. Ну и пылища стояла в городе! Трава у дороги и листья на деревьях в середине лета покрывались серым густым налетом.
Только и было хорошего в городе, что быстрая речка Уржумка да еще старые тополя на главной улице.
На плане, который висел в городской управе, улица эта называлась Воскресенской, но сами уржумцы прозвали ее «Большая улица» и никакого другого названия знать не хотели.
С первыми теплыми днями здесь, на Большой появлялся известный всему городу старый цыган-шарманщик с облезлым зеленым попугаем, который сидел у него на голове, вцепившись когтями в грязные курчавые волосы своего хозяина. Старик шарманщик останавливался под окнами купеческих домов. Во дворы заходить ему было страшно, так как почти в каждом дворе гремел цепью огромный злой пес. За шарманщиком по пятам бегала толпа уржумских мальчишек с тех улиц, куда шарманщик заглядывал редко. На боковых улочках жили люди бедные: сапожники, печники, и здесь, уж конечно, старику шарманщику рассчитывать было не на что. Самим еле-еле на житье хватало.
И домишки на этих улочках были плохонькие, деревянные, не то что на Большой, где дома сплошь были каменные, с высокими тесовыми воротами. В каменных домах жило уржумское купечество и начальство. Самым важным домом считался на Воскресенской дом полицейского управления. Здесь, у ворот, возле полосатой будки, всегда стоял часовой, усатый солдат с ружьем. Стоял он навытяжку, грудь колесом и, не мигая, смотрел в одну точку. Уржумские мальчишки как-то раз поспорили между собой на две копейки: оловянные глаза у часового или настоящие. А через два квартала от полицейского управления тянулся длинный белый дом с решетчатыми окнами — острог. Уржумские ребята потихоньку от взрослых часто бегали глядеть, как к острогу пригоняли партию арестантов, оборванных, растрепанных, с распухшими лицами. Иной раз среди арестантов были люди в студенческих тужурках, в пиджаках, в черных косоворотках. Этих людей уржумцы звали «политиками» или «крамольниками».
 Арестанты шли по самой середине улицы, а по краям ее стали верхом, с шашками наголо, конвоиры.
Арестанты шли по самой середине улицы, а по краям ее стали верхом, с шашками наголо, конвоиры.
Арестанты шли по самой середине улицы, а по краям ее ехали верхом, с шашками наголо, конвоиры. Они привставали на стременах и сердито кричали на мальчишек:
— Осади назад!
Лошади косили глазами и похрапывали.
«Политики», которых пригоняли в Уржум, оставались здесь не меньше чем три года, а иные и пять лет. Жили они как будто на воле, а на самом деле им и шагу ступить не давали без ведома полиции. Они были ссыльные.
На Полстоваловской улице, где родился и провел детство Сережа Костриков, жила целая колония ссыльных. Одни из них отбывали свой срок и уезжали, а на их место пригоняли других. Ссыльные занимали дом в конце Полстоваловской, под горой, а Сережина семья жила в начале той же улицы, в третьем доме с края.
Семья Костриковых была не слишком велика: отец, мать да трое ребят — старшая Анюта, средний Сережа и младшая Лиза. Еще была у Сережи старая бабушка, Маланья Авдеевна, или, как ее все запросто звали, Маланья. Только жила она отдельно. Служила в няньках у чиновника Перевозчикова.
Костриковы занимали меньшую половину дома, а большую половину сдавали внаем Самарцевым. Окон в доме было пять, и все они выходили на улицу: три окошка самарцевских, два — костриковских.
Отец Сережи перебивался случайными грошовыми заработками. Пробовал он одно время и служить — устроился объездчиком в лесничестве. Но жалованья там платили так мало, что семья еле-еле сводила концы с концами. В доме было бедно и незатейливо. На кухне стоял дощатый кривобокий стол, накрытый старой клеенкой, да две скамейки по бокам. На стене висели часы со ржавым маятником. Часы эти всегда спешили. На каланче, бывало, еще только двенадцать пробьет, а у Костриковых, глядишь, уже половина второго.
В углу на кухне примостилась деревянная скрипучая кровать. На ней спала мать Сережи. Ребята спали на полатях, по-деревенски.
Кроме кухни, была еще одна комната. Называлась она важно «горницей», а всего богатства было в ней четыре крашеных старых стула, с которых давным-давно облезла краска, да стол с вязаной скатертью.
Здесь же в углу стоял старый шкаф для чайной посуды. Верх у него был стеклянный, а низ деревянный, с тремя ящиками, — нижний ящик никогда не открывался. Посуда в шкафу всегда красовалась на одном и том же месте. Для постных щей, которые варили каждый день в доме, довольно было чугуна да глиняной миски, а для каши и картошки хватало горшка. Простая еда была у Костриковых. Дети иной раз еще козье молоко пили от своей козы Шимки да под пасху и рождество лакомились белыми баранками.
Когда Сереже исполнилось шесть лет, приглянулась ему на базаре игрушка — деревянная лошадка, серая в черных яблоках, с хвостом из новой мочалы. Стоила эта радость всего-навсего шесть копеек. Только копеек лишних у матери не было, и лошадку Сергею не купили. В утешенье сшила ему мать из тряпок мячик, только и всего. Но Сережа со своим приятелем, Санькой Самарцевым, умели обходиться и без игрушек. Играли они в деревянные чурбачки, которые принес им однажды знакомый плотник, в лунки и в салки.
Летом самым любимым их занятием было купанье в Уржумке. Они сидели в речке часами — до тех пор, пока, бывало, кожа у них не посинеет и не покроется пупырышками. Плавали наперегонки, валялись в песке. Обваляются с ног до головы — и бултых в воду! Так целый день и жили у реки. На головы лопухи надевали, чтобы солнце не припекало, вот и вся одёжа.
А по вечерам собирали они во дворе у себя соседских ребят, в чикало-бегало играли или в прятки.
Много во дворе разных углов, где можно отлично схорониться. Например, на конюшне или в яме под сараем. Эту яму вырыла собака Шарик, когда у нее народились щенята. Здесь было холодновато, сыро. Прятались еще мальчики в огороде и в сенях, за старой рассохшейся бочкой.
Да мало ли места было. Двор велик!
Иной раз ребята во время игры в прятки переодевались. Наденут чужую рубашку и выставят нарочно плечо или локоть из-за угла. Тот, кто водит, сразу и попадается. «Санька, — орет, — Санька!» А это вовсе и не Санька, а Колька Сазонов в Санькиной рубашке. Но в прятки или в чикало-бегало можно играть только в большой компании. А вот когда Сережа и Саня вдвоем оставались, то чаще всего строили из песка и глины запруду или крепость. Работа не всегда ладилась. Иной раз дело до ссоры доходило. Саня хоть и старше был на два года и уже в школе учился, но был какой-то тихий и вялый: начнет работать с охотой, да сразу же и остынет, сидит на земле и еле-еле мнет глину ладонями. А Сережа не такой — чуть выскочит на двор, сейчас же кричит: «А давай, Сань, строить!.. А давай палки стругать!.. А давай за щуренками пойдем!..» («Щуренками» ребята маленьких щук называли.)
Ловить рыбу мальчишки ходили на пруд возле мельницы. Если ловля была удачная, возвращались домой вприпрыжку, с визгом, с хохотом. А Серьга хохотал больше всех. В горле у него так и булькало.
Соседи его «живчиком» звали, а домашние — «спросом». Это потому, что ему все на свете знать надо было. Он и к Саньке с вопросами частенько приставал. Раскроет букварь и все просит: выучи да выучи читать.
Санька, чтобы отвязаться, показал ему как-то первые попавшиеся на глаза три буквы: П, С и О.
Сережа буквам сразу же клички придумал: П — это ворота, О — баранка, а С — полбаранки. Эти три буквы он все время на земле палкой писал, а потом вздумал их на стене сарая углем вывести. Громадные кривые буквы О, П и С. Влетело ему за это от отца здорово. С тех пор он больше стен не пачкал. Но учением интересоваться не перестал. Каждый день расспрашивал он Саню про школу: что там да как там? А дома все бубнил: «Ну когда я в школу пойду? Отдайте меня в школу!»
«Куда тебе в школу идти — мал еще», — говорила Сережина мать.
Глава II
КУЗЬМОВНА
Сережину мать звали Екатериной Кузьминичной, а соседки запросто кликали ее Кузьмовной.
Была она худенькая, маленькая, с карими глазами. Говорила всегда тихо и медленно. Все ребята во дворе ее любили, а свои подавно.
Сереже исполнилось четыре года, когда отец его вздумал пойти на заработки в другой город. Из Уржума каждую весну много народа уходило в Вятку, на «чугунку» — так называли тогда железную дорогу — да на кожевенный и лесопильный заводы.
В городе отец рассчитывал подработать немного, а к осени вернуться домой. Но уже заморозки начались, выпал снег, а отец все не возвращался, словно в воду канул человек. Пропал без вести. Ходили слухи, что он там в Вятке и помер. Но толком ничего никто не знал.
Сколько раз Кузьмовна бегала к знакомому писарю, сколько пятаков переплатила ему за письма и прошения, а из Вятки все не было ответа. Пришлось Кузьмовне самой пойти на заработки, чтобы прокормить себя и троих ребятишек.
Грамоты она не знала, ремеслу ее не обучили. Значит, оставалось ей одно — поденщина: то стирка по чиновничьим и купеческим домам, то мытье полов, то уборка перед праздниками.
Начиналась такая работа до света, а кончалась затемно. Платили поденщицам в те времена по четвертаку, по тридцати копеек в день, да и эти деньги отдавали не сразу. Сколько за свой четвертак приходилось кланяться!
«Загляни, голубушка, послезавтра, сейчас мелких нет», или — «Некогда», или — «Не до тебя».
Вместе с соседкой Устиньей Степановной уходила Кузь-мовна на весь день из дому, а ребят в обеих квартирах запирали они на замок. Сидят, сидят ребята под замком, скучно им станет, и начнут они перекликаться через стенку, а то на печку залезут, кулаками в стенку стучат.
— Серьга, это ты? — кричит Саня.
— Я! А это ты, Сань?
Так и перекликаются.
Только скоро это им надоело — через стенку что-то глуховато слышно было.
И вот решили ребята продолбить чем-нибудь в стейке хоть маленькую дырку, чтобы легче было разговаривать. Печки в обеих половинах дома находились у одной и той же стены. Взяли мальчики косари и давай отбивать штукатурку.
И такой тут стук пошел, будто печники в доме работают.
С утра принимались за дело. Матери — за дверь, а ребята — на печку. Даже пятилетняя Лиза, Сережина сестренка, и та помогала в работе — обитую штукатурку в кучу складывала. Деревянная стена под штукатуркой совсем тонкой оказалась, а все же пробивать ее пришлось неделю. По целым дням ребята не слезали с печки. Заберут с собой кусок черного хлеба, воды в ковшике да и долбят стенку сколько сил хватает.
И, наконец, как-то утром долбанули они разика три, смотрят — дыра получилась. Да еще какая дыра! Руку просунуть можно. Ну и было тут радости! Все по очереди в дыру руку совали и здоровались. По имени и отчеству друг друга величали:
— Здрасте, Сергей Мироныч!
— Здрасте, Александр Матвеич!
— Это вы, Анна Мироновна?
— Я. А это вы, Анна Матвеевна?
— Я!
А к вечеру заткнули дыру старым валенком и тряпками, чтобы матери не заметили. Они после прихода с работы всегда на печке грелись. Придут усталые, иззябшие, напьются чаю с черным хлебом да и полезут на печку. Лежат, греют спины и между собой через стенку переговариваются.
— Ну что, Кузьмовна, отдышалась? — кричит Самарцева.
— Немножко отлегло. Горячего чайку выпила, вот и обошлось, — отвечает Кузьмовна, покашливая.
У нее уже давно сильно грудь болела. Иной раз она до слез кашляла. Надо было ей лечиться, да ни денег для этого, ни времени не хватало.
Однажды вечером улеглись обе подруги отдохнуть и, как всегда, разговорились.
— Степановна, а Степановна, — говорит вдруг Сережина мать, — что-то тебя нынче уж больно хорошо слышно, будто ты со мной рядом на одной печке лежишь?
— Да и тебя, Кузьмовна, я сегодня уж очень хорошо слышу, — отвечает Самарцева. — Трубы, что ли, открыты?..
Стали они осматривать стенку — каждая со своей стороны — и нашли дыру. Вот удивились. Откуда дыра взялась?
Тут они сразу и догадались: не иначе как ребята провертели.
Им самим так удобнее было: не надо горло надрывать, перекликаясь через стенку. Да и в хозяйстве эта дыра пригодилась.
Понадобится Устипье Степановне поварешка, луковица пли щепотка соли, она, бывало, и кричит:
— Соседка, пошли, если есть, луковку взаймы!
Схватит Сергей луковицу и мигом на печку, а там уже Санька дожидается, через дыру руку просунул и пальцами шевелит.
— Кто сильней давай тягаться, — скажет Санька.
Забудут ребята о луковице, схватятся за руки и перетягивают друг друга до тех пор, пока Устинья Степановна не позовет Саньку с печки.
Ребята старались где только можно найти себе забаву и развлечение. Сладостей и игрушек купить было не на что. Матерям за поденщину платили гроши, только на черный хлеб хватало.
Работа у матерей была нелегкая. По господам ходить — полы мыть, белье стирать. В холод, в метель да ветер они двуручные корзины белья на Уржумку таскали полоскать в проруби. Самарцева — та хоть покрепче была, а Кузьмовна каждый день силы теряла. Продуло ее как-то на речке, и начала она кашлять еще больше.
Пойдет по воду, а бабы головами вслед качают:
— Плохи дела у Кузьмовны нынче. Неполные ведра и то еле волочит. Чахотка у ней. До весны не дотянет.
И верно, не дотянула. Слегла Кузьмовна в постель. Волосы сама себе расчесать не может — руки не поднимаются.
Пришлось бабке Маланье, ее свекрови, уйти от акцизного чиновника Перевозчикова, у которого она служила в няньках. За больной ходить надо было, за ребятами смотреть, щи варить.
С полгода болела Кузьмовна. Все думали: авось поправится. А она все хуже и хуже. Раз утром в декабре месяце подошла бабка к кровати Кузьмовпы. Видит — совсем плохо дело. Закричала:
— Ребята! Мать помирает!
Сережа с сестрами, не подозревая беды, сидели в это время на полатях. Спрыгнули ребята с полатей, подбежали к матери.
 Работа у матера была нелегкая. По господам ходить — полы мыть, белье стирать.
Работа у матера была нелегкая. По господам ходить — полы мыть, белье стирать.
Мать лежала на кровати, широко раскинув руки; на ее желтых провалившихся щеках горел лихорадочный румянец.
Мать тяжело дышала, и глаза ее были закрыты.
— Мам! — тихонько окликнула Анюта. — Мам!
Мать не отвечала. Анюта затряслась и заплакала тоненьким голоском; глядя на нее, заревела и маленькая Лиза, Сергей стоял молча, опустив голову.
— Чего вы, глупые, чего? — тихо сказала Кузьмовна, открывая глаза.
— Не помирай, — всхлипнула Анюта.
Сергей вдруг ткнулся головой в плечо матери и тоже заплакал.
Кузьмовна сделала усилие, приподнялась на подушке и обняла Сергея.
— Дурачки, идите играйте. Не помру я, — сказала она и погладила по голове маленькую Лизу.
Ребята успокоились и полезли на полати играть в «гости».
На следующее утро Анюта проснулась раньше, чем обычно. Она свесилась с полатей, поглядела вниз — и замерла. Внизу около кровати матери суетились бабушка и Устинья Степановна. За их спинами матери не было видно, но по тому, как вздыхала бабушка, а Устинья Степановна закрывала мать простыней, Анюта поняла, что случилось что-то страшное.
На столе горела маленькая лампочка, за окном была еще ночь.
— Вот и отстрадалась наша Катерипушка! — сказала бабушка и концом головного платка вытерла слезы.
Два дня в дом Костриковых ходили соседи прощаться с Катериной Кузьминичной. А на третий к воротам подъехали простые деревянные сани, запряженные мохноногой лошаденкой, и Кузьмовну повезли на кладбище.
День был морозный и ветреный. За гробом шли бабушка Маланья с внуками и Устинья Степановна со своими ребятами. Идти было трудно — намело много снега. Ребята по колено увязали в сугробах. На полдороге бабушка Маланья посадила Лизу и Сергея в сани рядом с гробом.
На кладбище было тихо. Стояли застывшие белые деревья, на крестах и палисадниках шапками лежал снег. Узкие кладбищенские дорожки затерялись среди сугробов. Похоронили Кузьмовну в дальнем конце — у старой ограды.
Не успели забросать могилу землей, как вдруг повалил густой снег и через минуту покрыл белым покровом могилу матери.
Глава III
СЕРЕЖИНА БАБУШКА
Сережина бабушка, Маланья Авдеевна, родилась в деревне Глазовского уезда. Тут она и замуж вышла, по жить ей с мужем не пришлось. Сережиного деда, Ивана Пантелеевича, взяли смолоду в солдаты и угнали на Кавказ. Было это при царе Николае Первом. В то время по царскому закону в солдатах служили целых двадцать пять лет.
Уходил на службу молодой парень, а возвращался он домой стариком. Да хорошо еще, если возвращался.
Бабушка Маланья Авдеевна так и не дождалась своего мужа. Он прослужил шесть лет, заболел лихорадкой и умер на Кавказе в военном госпитале. Пришлось Маланье с маленьким сыном у людей в няньках служить — сначала в деревне, потом в городе. Питомцы разные ей попадались — и ласковые, и упрямые, и послушные, и озорные. Няньке тут выбирать не приходится, ее дело — забавлять барчонка и ухаживать за пим, как господа прикажут. А случалось, что и не за одним, а за целым выводком ходить надо было.
Начнут господские дети в стадо играть: кто мычит, кто хрюкает, кто блеет. А няньку заставляют собакой быть. Ползает бабушка Маланья на четвереньках по комнате и лает. Отказаться никак нельзя. Дети в слезы. Сейчас же к матери с жалобой:
— Няня играть с нами не хочет!
А барыня с выговором:
— Какая же ты нянька, если детей забавлять не умеешь? Придется тебе расчет дать!
Пока Маланья Авдеевна еще молодой была, ей это с полгоря было. И на четвереньках, бывало, бегает, и мячик с крыши или из канавы достает. Но под старость трудно уж ей было не то что в канаву, а и под стол вместе с детьми залезать, когда барчата в казаки-разбойники или в прятки играли… Однажды заставили они бабку Маланью сесть верхом на перила лестницы да и съехать вниз. Долго отказывалась бабушка от этой поездки, — дети и слушать ее не хотели. Маленький барчонок уже плакать начал и ногами стучать.
— Ну, воля ваша, — сказала бабушка, села на перила и поехала.
Ничего, жива осталась, а только ладони в кровь ободрала. Три дня у нее руки, точно култышки, обвязаны были.
На первом месте, у барина Антушевского, прожила бабушка Маланья тринадцать лет. И вдруг барина по службе из Глазовского уезда в город Уржум перевели. Стали господа няньку уговаривать:
— Поедем с нами. Как приедем в Уржум, найдем мы себе другую няню, а тебя обратно на родину отправим. Войди, Маланья, в наше положение.
Ну и послушалась бабушка Маланья, вошла в положение, поехала с господами в Уржум, а они, вместо благодарности, обидели ее. Был раньше такой порядок: как наймется кто к господам в услужение, у него сейчас же паспорт отбирают. А без паспорта никуда не сунешься.
Приехала бабушка с господами в Уржум, прожила там три месяца и стала к себе на родину собираться.
— Ищите себе, барыня, новую няньку. Я домой поеду.
А барыня и слушать не желает и паспорта не отдает. Что тут делать? Куда жаловаться пойдешь?..
Махнула рукой бабушка Маланья, поплакала, погоревала и осталась навсегда в Уржуме.
От Антушевского перешла к другим господам служить, а когда совсем старой стала, поступила к акцизному чиновнику Перевозчикову.
«Послужу годков пять, а там авось чиновник пожалеет и за верную службу пристроит меня в богадельню, успокою там свои старые кости», — думала бабушка.
Но вышло все по-иному.
Глава IV
СИРОТЫ
Подходил к концу пятый год нянькиной службы у чиновника Перевозчикова. Уже чиновник насчет бабки Маланьи прошение в богадельню подал. Уже бабка подарила чиновниковой кухарке свою цветастую шаль с бахромой, — куда, мол, такая шаль в богадельне!
А тут вдруг умерла от чахотки сноха Маланьи, Кузьмовна, оставив круглыми сиротами троих ребят. Пришлось бабушке своих родных внучат на старости лет нянчить. А было ей тогда восемьдесят два года.
Взяла бабушка расчет и вместо богадельни переселилась на Полстоваловскую улицу. Перенесла туда свой зеленый сундучок, где лежало ее добро, накопленное за многолетнюю службу: три платья, фланелевая кофта, платок кашемировый, прюпелевые башмаки да белья несколько штук.
Началась у бабушки новая жизнь. Внуки маленькие были, и дела с ними хватало. И обед сварить надо, и ребят обшить, и за водой на речку сбегать. Нелегко было старухе с хозяйством справляться.
Стала бабушка себе помощницу готовить: Анюту к работе приучать. Анюте всего десять лет было. Бабушка ее то в лавку пошлет за хлебом или керосином, то пол мыть заставит, то белье полоскать. Старалась Анюта, как могла, угодить бабушке. Иной раз и Сережа ей помогал. Станет Анюта картошку чистить, а он тут как тут: «Давай почищу». Но не успеет и одну картошку очистить, как бабушка отбирала у него нож.
— Картошку нужно чистить с умом. Кожицу тонюсенько срезать, а ты вон сколько добра испортил. Так и в рот ничего не останется, — говорила бабушка.
Сережа неохотно отдавал ножик и сейчас же находил себе другое дело. Начинал косарем колоть лучинки на самовар, а то отправлялся с Анютой на речку полоскать белье. Анюта тащила корзину с бельем, а он шел рядом и держался за край корзины.
На реке Анюта пробиралась по камешкам туда, где вода была чище и глубже, а Сережа оставался на берегу. Он собирал ракушки, строил из песка запруду и посматривал на Анюту.
— Не потони, Нютка! — кричал он сердито, когда сестра слишком низко наклонялась над водой.
Однажды Сережа не выдержал и по камешкам отправился к Анюте. Она обернулась:
— Ты зачем здесь?
— Я тебя буду за юбку держать, чтобы не потонула.
И, стоя на соседнем камне, Сережа крепко держал сестру за подол до тех пор, пока она не выполоскала все белье.
Бабушка Маланья вставала на рассвете, как только петухи пропоют, и долго молилась перед иконой. Пока ребята спали, она доила козу Шимку, приносила воду с реки, топила печку, а там, глядишь, просыпались и ребята.
Начинались беготня и шум. Сережа гонялся за Лизой, Лиза пищала и пряталась за бабушкиной юбкой.
Бабушка ставила на стол чугун горячей картошки. Ребята подбегали к столу, усаживались на табуретки и тянулись к чугуну. Каждому хотелось схватить картофелину покрупнее.
— Тише вы, разбойники! — кричала бабушка. — С голодного острова, что ли? Чего хватаете? От горячей пищи кишки сохнут.
Пока внуки сидели за столом, она все их наставляла и учила:
— Раз вы сироты, так и жить вам надо по-сиротски. Баклуши не бить, старшим угождать, к работе привыкать.
Была она старушка маленькая, толстая. Седые, мягкие, как пух, волосы заплетала в две косы и закрывала черной чехлушечкой. Любила бабушка нюхать табак. Говорила, что табак хорошо действует на зрение: «Как понюхаю, так в глазах и посветлеет».
Табакерка была у нее черная, с крышкой, на которой была нарисована нарядная барыня в шляпке с голубым бантом и с букетом цветов в руках. Эту табакерку подарили ей господа на именины. Одевалась бабушка аккуратно. Поверх длинной широкой юбки и кофты носила темный, в горошинку, ситцевый фартук. И ребят к аккуратности приучала:
— Спать ложишься, так одёжу на место клади, чтобы утром спросонья не искать. Дыру заметишь, сразу зашей, чтобы еще больше не разорвалось. Что откуда возьмешь, обратно на место положь.
Очень сердилась бабушка, когда кто-нибудь из ребят разбивал по неосторожности тарелку или чашку:
— Наживать не умеете, только всё портите и ломаете! А «купил» в доме-то нет. Раззоридомки!..
Однажды, вскоре после смерти матери, произошел случай, который надолго остался в памяти ребят. Как-то вечером сидели они на печке и ели кашу. Перед ними на низенькой скамеечке стояла глиняная чашка. Вдруг Сережа нечаянно толкнул скамейку, чашка упала и раскололась.
— А я бабушке скажу, — прошептала маленькая Лиза.
Она любила докладывать бабушке про всякую мелочь— только и бегала за ней весь день и надоедала: «Бабушка, а Сережа твою иголку пополам сломал! Бабушка, а Анюта Шимкино молоко расплескала!»
Когда чашка разбилась, все ребята перетрусили.
Сережа повертел черепки в руках и сказал:
— Чашку можно воском склеить.
Он слез с печи, достал из-за иконы свечку, зажег ее и слепил воском расколотую чашку.
— Дай я тихонечко на полу поставлю. Может, бабушка и не заметит, — сказала Анюта.
— Я сам поставлю, — ответил Сережа и, пододвинув табуретку, влез на нее и потянулся к полке. Дотянулся до полки и прислонил чашку разбитым краем к стенке.
Утром, когда бабушка хотела достать чашку с полки, на голову ей так и посыпались черепки. А один большой черепок остался у нее в руках.
— Это чья же работа? — сказала бабушка, показывая черепок.
Ребята молчали.
— Сейчас же признавайтесь, кто чашку разбил.
Лиза только хотела было нажаловаться, как вдруг Сережа сказал:
— Это я разбил…
— Ей-богу, бабушка, он, а не мы. Мы не разбивали, — закрестилась Лиза.
— Ах вы, разбойники, ах вы, разорители! — закричала бабушка и, чтобы никому не было обидно, выдрала всех троих.
Бабушка Маланья была иной раз не прочь и припугнуть ребят.
— Вот брошу вас и уеду куда глаза глядят. Живите одни как знаете, раз такие озорники и неслухи, — грозилась она.
Однажды, когда ребята опрокинули в сенях кувшин с квасом, бабушка отшлепала их и пошла нанимать лошадь, чтобы ехать в деревню Поповку. Целый день ребята просидели одни дома. Сережа несколько раз выбегал к воротам — поглядеть, не идет ли бабушка, но бабушка все не шла. Маленькая Лиза со страха начала реветь. Как же они теперь без бабушки жить будут? Откуда денег достать, чтобы хлеба купить? А ночью как одним спать? Страшно ведь!..
Только под вечер, когда стемнело, вернулась домой бабушка. Ребята поджидали ее во дворе около дома. В три голоса начали они упрашивать бабушку остаться с ними и не уезжать в Поповку.
Бабушка не сразу согласилась.
— Я уж и лошадь наняла у Ивана Павловича, только сундучок взять осталось. Ну, да так и быть, на этот раз останусь. Только смотрите — не озоруйте у меня!
Строгая была бабушка Маланья. Но, бывало, стоило ей начать рассказывать сказки, как ребята забывали обо всех ее строгостях и воркотне. Рассказывать бабушка была мастерица. Больше всего ребята любили сказку «Про сиротку». Сказка была такая.
«В некотором царстве да в некотором государстве жили-были муж с женой. И была у них дочка. Жили они припеваючи, да вдруг случилась беда: заболела и померла мать. Осталась дочка сироткой. Стали соседи отца уговаривать: женись, мол, да женись, одному мужику со всем в доме не управиться — и хозяйство, и дочка на руках. Подумал мужик, подумал и женился. Пришла мачеха в дом, а с ней вместе горе пришло. Ведьмой оказалась мачеха. Такая зловредная баба, с утра до вечера падчерицу корит. Все ей не так да не эдак. То бьет сиротку, то голодом морит. А та себе поплачет, поплачет втихомолку, а пожаловаться отцу не смеет.
Скоро родилась у мачехи своя дочка. Совсем житья не стало сиротке. Раз утром отец и говорит ей: «Собирайся, дочка, поедем в лес». Поехали они в лес. А в лесу отец и признался: «Велела мне мачеха тебя в лесу оставить, велела она тебе руки отрубить». Заплакала девочка, положила руки на пень. Отсек топором отец ей руки по локоть. Сел на лошадь да и ускакал. Ходит сиротка безрукая по лесу, плачет навзрыд. Тихо в лесу, только в ответ ей кукушка кричит: «Ку-ку, ку-ку». На ночь залезла девочка в дупло, чтобы медведь ее не съел, а утром опять побрела по лесу пристанище искать. Шла, шла и набрела на маленькую избушку в лесу, — видно, охотники тут когда-то жили. Осталась сиротка в этой избушке жить.
Идет год за годом, растет сиротка, как березка, в лесу. Красавица девушка стала, только безрукая.
И вот надумала девушка пойти в ту сторону, где больше солнце греет. Шла она, шла и увидела большой фруктовый сад. Видит — висят на дереве яблоки заморские. Невиданные птицы на деревьях поют. Хотела сиротка сорвать яблоко, а не может — рук нет, ртом тоже не достать — высоко. Стоит бедная, смотрит на яблоню. Вдруг слышит — сзади кто-то говорит: «Сорви, красавица, яблоко, сорви». Оглянулась она и обомлела. Стоит перед ней раскрасавец молодой. Одежда на нем золотая в брильянтовых камнях — как солнце горит.
Стала сиротка вытягивать вперед свои обрубочки. Глядит — выросли они, и стали на них расти пальцы. Сначала большой, потом указательный, потом средний, за ним безымянный, — одного мизинца не хватает, а под колец и мизинец вырос. На обеих руках по пяти пальцев выросло. Заплакала от радости сиротка. Подошел к ней красавец, сорвал ей яблоко белый налив и повел ее к себе во дворец.
С той поры стали они жить-поживать да добра наживать».
Ребята знали эту сказку наизусть, а все-таки любили ее слушать. А еще нравилась им бабушкина песня про добра молодца. Подперев щеку рукой, пела ее бабушка тоненьким жалобным голоском:
Разъезжает молодец на добром коне,
Выпали у молодца вожжицы из рук.
Спали у удалого перчаточки с рук.
Знамо мне, удалому, в солдаты идти,
Моей молодой жене солдаткой быть,
Моим малым детушкам плакать-горевать…
Грустная была песня, а хорошая. Сережа слушал бы ее всю ночь напролет. Да бабушка засиживаться не любила. Керосин жалела жечь зря.
Глава V
НУЖДА
За покойного мужа-солдата бабушка получала пенсию — тридцать шесть рублей в год да рубль семьдесят копеек квартирных. В году двенадцать месяцев. Разделишь эти деньги на двенадцать, так на месяц только три рубля придется, а в месяце тридцать дней. Три рубля на тридцать разделишь, так только по гривеннику в день выходит.
Попробуй проживи на гривенник вчетвером, чтоб все были сыты, обуты и одеты.
У бабушки руки опускались — что тут делать, как быть? Не хватает ни на что ее солдатской пенсии. Придется, видно, надеть внукам через плечо холщовые сумы и послать побираться. Пойдут они по домам, станут под окошком, запоют в три голоса:
— Подайте милостыньку сироткам. Подайте корочку хлебца…
Иные хозяева нищих от окошка прогоняют. А то и злыми собаками припугнут.
Начала бабушка советоваться с людьми. Пошла к своей соседке, к Санькиной матери, Устинье Степановне.
— Как быть, Степановна? Пропадаем. Хлеба черного ребятам — и того вдосталь нет. Уж не долог мой век — помру. Пенсия в казну пойдет, а что с внуками будет?
Думали они, думали вместе и рассудили так: одно остается — пойти бабушке в приют, попросить, чтобы взяли туда ее внуков.
Но просить легко, а выпросить трудно.
Приют содержался на деньги купцов и чиновников. Было в приюте всего сорок мест. А бедняков, желающих отдать в приют своих ребят, в городе больше сотни насчитывалось. Без знакомого человека тут уж никак но обойдешься. И надумала бабушка Маланья сходить к своему прежнему хозяину, чиновнику Перевозчикову. У пего большое знакомство среди уржумского начальства было, и сам с женой часто в гости к председателю благотворительного общества хаживал — в карты играть.
Надела бабушка самую лучшую кофту, вытащила из зеленого сундука кашемировый платок: как-никак к господам идет — надо поприличнее одеться. Пришла она к чиновнику Перевозчикову, стала просить похлопотать за ее внуков, чтобы их в приют приняли.
— Откажут тебе, Маланья Авдеевна, — сказал Перевозчиков. — У тебя ведь собственный дом имеется. Домовладелицей считаешься.
Бабушка от обиды чуть не заплакала.
— Ну и дом! У иного скворца скворечник лучше. Из-под пола дует, стены осели, двери скособочились. Окна силком открывать приходится: все рамы порассохлись. Одна слава, что дом!
Выслушал Перевозчиков бабушку, почесал подбородок.
— Ну ладно, старая. Придет комиссия, посмотрит твой дом. Но ведь ты, кажись, кроме всего прочего, николаевская солдатка, пенсию за мужа получаешь.
— Вот, батюшка, от этой самой пенсии я и прошу внуков в приют устроить. До того эта пенсия «велика», — заплакала бабушка Маланья и стала по пальцам считать, сколько в день на четырех человек от ее «большой» пенсии приходится.
Получилось по две копейки с грошиком на каждого человека.
— Ну ладно, Маланья Авдеевна, иди домой — похлопочу за твоих внуков, — пообещал Перевозчиков и велел бабушке Маланье заглянуть к нему через недельку.
Поблагодарила его бабушка, поклонилась в пояс и пошла домой. У ворот ее встретила Лидия Ивановна, жена Перевозчикова. Поговорила с ней и тоже пообещала похлопотать за внуков. Бабушка и ей в пояс поклонилась. Ребятам о приюте старуха пока еще ничего не говорила.
Жалела их, уж очень тосковали ребята после смерти матери. Особенно скучал Сережа. Увидит материнскую шаль на гвоздике и расплачется. Наденет бабушка старую выцветшую кофту Кузьмовны, Сережа посмотрит и сразу вспомнит, как мать в этой самой кофте ходила с ним в лавку Шамова и купила ему как-то розовый мятный пряник. А иной раз позабудет, что у него мать умерла. Заиграется на дворе, захочется ему есть, вбежит в сени, раскроет дверь нараспашку и крикнет:
— Мама! Мам!..
И остановится на полуслове. Вспомнит, что нет у него больше матери. Постоит один в темных сенях и пойдет тихонько обратно во двор. Несколько раз начинала бабушка с ребятами разговор о том, что не прокормить ей, старой, троих внучат. Ведь ей, может, помереть скоро придется, а они когда еще на ноги станут.
Ребята слушали и не знали, куда она клонит. А старуха думала про приют и все ждала, что-то скажет ей чиновник Перевозчиков. Долгой показалась ей эта педеля. Но вот наступил срок. Опять пришла старая к Перевозчикову, а он говорит: «Зайди-ка еще через недельку». Три раза бегала бабушка к чиновнику и только на четвертый ответ получила.
— Ну, поздравляю, Маланья Авдеевна. Одного можно в приют устроить, — сказал Перевозчиков.
— Как одного? Я, батюшка, за троих просила.
— Нельзя всех в приют принять. Возраст не подходит, — стал объяснять Перевозчиков. — Сколько лет старшей?
— Анюте-то? Одиннадцать будет.
— Многовато.
— А Лизоньке пять годков исполнилось. Тоже не подходит?
— Это маловато.
— Сереже семь стукнуло.
— Ну вот эти годы самые подходящие для приюта. Сережу и веди.
«Чего ж тут рассуждать, надо сразу соглашаться», — подумала бабушка и стала благодарить Перевозчикова.
Придя домой, рассказала она об этом Устинье Степановне.
— Ну что ж, — ответила та, — для мальчика, пожалуй, и лучше, что он в приют попадет. Ему образование, ремесло обязательно нужно. А в приюте, говорят, мальчиков сапожному ремеслу и переплетному учат да еще корзины и шляпы из соломы плести.
«И верно, — подумала бабушка, — вырастет Сережа, будет у него свой кусок хлеба, а с ремеслом человек никогда не пропадет. Будет Сережа сапожником и, может, до такого мастерства дойдет, что станет господские башмаки шить с высокими каблуками. За такие башмаки уржумские богачи с Большой улицы дорого платят».
Глава VI
В ПРИЮТ
И вот позвала бабушка Сережу со двора, где он с ребятами играл.
Начала с ним разговор издалека. Вспомнила про свою молодость, когда еще без. очков нитку в самую тонкую иголку вдевала и лучше всех песни в деревне пела. А сарафана праздничного у ней не было. В бедности жили — тоже сиротой выросла.
Слушает Сережа бабушку, а сам с ноги на ногу переступает — хочется ему на двор к ребятам убежать, да нельзя. Бабушка все говорит и говорит.
Про сарафан кончила рассказывать, про теленка начала, какой у них в деревне занятный теленок был, весь рыжий, а на лбу и на груди по белому пятнышку. Заслушался Сережа, а бабушка вдруг и говорит:
— Завтра мы с тобой в приют пойдем.
— Не хочу в приют.
— Что ты, Сереженька, как это — «не хочу»? Что мы будем делать, на что жить станем? А в приюте тебе хорошо будет. Мальчиков в приюте много.
— Не пойду! Не хочу! — закричал Сережа да как затопает ногами, как заплачет. Затрясся весь…
Начала его бабушка уговаривать. Да разве уговоришь! Боится Сережа приюта. Он хоть сам в приюте не был, да они с Санькой не раз видели приютских. Их каждое воскресенье утром водят к обедне в острожную церковь.
Идут они по двое, тихо-тихо, словно старички и старушки, даже спину по-стариковски гнут. Что девочки, что мальчики — все наголо острижены. У девочек длинные серые платья, а у мальчиков темные ситцевые рубахи и черные штаны. Позади тетенька всегда идет, — верно, начальница ихняя, строгая такая, в черной длинной юбке. На глазах очки в золотой оправе. Черный шнурок от очков за ухо заложен. Если день пасмурный, так начальница в руке зонтик с костяной ручкой держит.
Вот теперь и ему тоже придется ходить с приютскими. И мальчишки с Воскресенской улицы будут дразнить его из-за угла: «Сиротская вошь, куда ползешь?»
Уж из приюта не выпустят! Не побежишь с Санькой на Уржумку купаться. Не придется больше прятаться на старом сеновале и ловить у мельницы щуренков вместе с Санькой.
— Бабушка, миленькая, не отдавай в приют! Я работать буду. Рыбу стану ловить, на базаре продавать. А то пойду дрова пилить.
Бабушка даже заплакала, слушая его. А потом пришла Устинья Степановна и стала уговаривать бабушку отложить еще на один день отправку Сережи. Может быть, за день мальчишка успокоится и сам поймет, что ему нужно идти в приют.
— Придется, видно, еще на денек оставить, — согласилась бабушка.
Ночью, когда все заснули, Сережа на полатях долго просил сестру Анюту, чтобы она уговорила бабушку не отдавать его в приют. Только бы не отдавала, а уж он постарается много денег заработать. Можно будет каждый день варить щи, кашу, а черного хлеба будет столько, что даже не съесть. Ну, а если без приюта никак нельзя, так пусть отдают всех троих, а то почему это он один оказался дома лишний?
— Попросишь?
— Попрошу, — пообещала Анюта.
Просьбы Анюты не помогли.
Через день бабушка, не говоря ни слова, стала собирать Сережу в приют. В это утро к ним зашла Лидия Ивановна Перевозчикова. На Лидии Ивановне была белая батистовая кофточка в прошивках и шелковая черная юбка, которая шуршала на ходу. На серебряной цепочке раскачивалась желтая кожаная сумочка — ридикюль.
От Лидии Ивановны хорошо пахло духами, и сама она была ласковая и грустная.
— Я слышала, что ты, Сережа, боишься идти в приют? А там так хорошо! Ребяток много, тебе с ними будет весело. В приюте много игрушек есть, книжек. Отдельная кроватка у тебя будет, а потом ты в школу пойдешь.
Сережа слушал Лидию Ивановну и глядел исподлобья.
Она присела перед ним на корточки, провела по его стриженой голове рукой. Руки у нее были белые, мягкие, от них тоже пахло духами.
— А если тебе не понравится в приюте, ты можешь прийти обратно домой, — сказала Лидия Ивановна и слегка потрепала его по щеке. — Захочешь и уйдешь — вот и все!..
Эти слова Лидии Ивановны понравились Сереже больше всего.
Кроватка, игрушки, товарищи — все это хорошо, а дома жить все-таки лучше. Сережа повеселел.
Бабушка надела на него самую лучшую голубую ситцевую рубашку.
Он без слез простился с сестрами и Санькой. Чего горевать, если он, может быть, уже завтра домой придет!..
Они вышли из дому.
Слева пошла бабушка, держа Сережу за руку, справа — Лидия Ивановна. Она шуршала шелковой юбкой и размахивала ридикюльчиком.
У калитки дома долго стояли и глядели ему вслед Анюта, Лиза и Санька.
Глава VII
«ДОМ ПРИЗРЕНИЯ»
Приютский дом был последним домом на краю Воскресенской улицы. Серым забором он отгородился от остальных домов. Над воротами на большой ржавой вывеске было написано:
ДОМ ПРИЗРЕНИЯ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Всю дорогу Сережа шел спокойно, по как только подошли к приютским воротам, он начал вырываться.
— Ну чего ты? Ведь мы только в гости идем! — сказала Лидия Ивановна.
Сережа успокоился, но боязливо покосился на приютские ворота. Его удивила и испугала большая вывеска. Вывески в Уржуме он видел только над бакалейными, винными лавками да еще над воротами белого дома, у которого стоял усатый часовой. Но в лавках торговали, в белом доме жили городовые с шашкой на боку. А здесь вывеска зачем?
Перед тем как войти в приютский двор, бабушка оглядела Сережу, одернула на нем рубашку и погладила голову. Губы у бабушки шевелились. Она шептала молитву.
Бабушка открыла калитку, и они вошли в приютский двор. Кособокая низенькая калитка,
скрипя, захлопнулась за ними. И тут Сережа увидел страшный дом, который называется «приютом». Посредине длинного и просторного двора, заросшего травой, стояло двухэтажное угрюмое здание. Деревянные его стены потемнели от старости, окна были маленькие и тусклые. Красная железная крыша от солнца выгорела полосами. От ворот к дому шла аллейка низеньких, чахлых кустов акаций. Под окнами росли кусты сирени и три молодых тополя. На дворе было тихо, словно в этом доме никто и не жил. Ветер около крыльца раскачивал полотенца на веревке. Чтобы попасть в дом, нужно было подняться по старым ступенькам на узкое крыльцо с навесом, украшенным обломанными зубцами.
Лидия Ивановна быстро пошла через двор к крыльцу. За ней шел Сережа, а сзади, придерживая обеими руками широкую длинную юбку, торопилась бабушка.
Перед тем как взойти на крыльцо, Сережа еще раз оглядел двор. «Наверное, приютских увели гулять», — подумал Сережа и вошел в сени.
В длинных узких сенях было прохладно, пахло повой мочалкой и жареным луком. На второй этаж нужно было подняться по узенькой лестнице с желтыми перилами. Старые ступени поскрипывали под ногами.
— Ну вот, мы и пришли, — сказала Лидия Ивановна улыбаясь и погладила по голове Сережу.
В маленькой комнате было темно и прохладно, как в погребе. В простенке между окнами стоял приземистый старый шкаф. Не успел Сережа оглядеться, как в комнату вошла высокая женщина в золотых очках — та самая, которая водила приютских в церковь.
Бабушка закланялась.
— Здравствуйте, Юлия Константиновна, — сказала Перевозчикова.
— Бумаги принесли? — спросила Юлия Константиновна, оглядывая Сережу серыми близорукими глазами.
Бабушка стала торопливо доставать бумаги из кармана своей синей широченной юбки. Руки у бабушки тряслись, и она никак не могла отстегнуть английскую булавку, которой был заколот карман. Наконец она вытащила маленький сверточек, завернутый в носовой платок. Развязав платок, она подала начальнице бумаги, а узелок с Сережиным бельем положила на табуретку.
— Фамилия как? — спросила Юлия Константиновна, держа близко перед собой развернутую плотную бумагу.
— Костриков Сергей, — поклонилась бабушка.
— Лет?
— Восемь. Он за десять дён до благовещенья родился.
— Хорошо, — шумно вздохнула начальница, словно пожалела, что Сережа родился за десять дней до благовещенья. Потом она достала из вязаной черной сумочки связку ключей и подошла к шкафу, похожему на домик.
Дверцы со скрипом открылись. Сережа вытянул шею и посмотрел, что там такое в этом большом шкафу, но на полках не было ничего особенного — только самые обыкновенные вещи. Тетради в синих обложках, карандаши, коробочки с перьями, высокая кипа белой бумаги. В глубине на полке прятались узкогорлые бутылки с чернилами и пузатая бутылка с клеем. Юлия Константиновна положила на верхнюю полку Сережины бумаги и снова заперла шкаф. Ключи, зазвенев, снова исчезли в черной вязаной сумке.
Сережа от испуга покраснел до слез и сильно дернул бабушку за юбку. Он только сейчас вспомнил, как бабушка рассказывала ему и сестрам про свою барыню-хозяйку, которая вот так же отобрала у нее паспорт, и из-за этого бабушке пришлось на всю жизнь остаться в Уржуме. Верно, и ему придется остаться навсегда в приюте. Бабушка, должно быть, отдала его паспорт в приют!
— Спасибо, Юлия Константиновна, спасибо, — закланялась бабушка.
У Сережи задрожали губы, он хотел было заплакать, но Юлия Константиновна подошла к нему, взяла его за руку и подвела к окну.
Сережа увидел, что во двор с улицы входят приютские. У всех круглые, как шар, головы. Из окна не разберешь, кто из них девочка, кто мальчик.
— Ну, пойдем, Серьга, к ребятишкам, — сказала Юлия Константиновна. Сереже это понравилось. Так называл его только Санька.
Он вышел в коридор за Юлией Константиновной.
Бабушка шла позади. Когда они спустились по лестнице, бабушка вдруг засуетилась и быстро, точно клюнула, поцеловала Сережу в макушку. Сережа вытер голову и обернулся, но бабушки уже не было. Она ушла через другую дверь.
— Пойдем, пойдем, — сказала Юлия Константиновна и вывела Сережу на крыльцо.
Приютские с криком носились по двору. Видимо, они только что вернулись с реки. У девочек в руках были цветы — кувшинки с длинными стеблями, а на бритых головах венки. Мальчики размахивали ивовыми прутьями.
— Дети! Вот вам еще новый товарищ.
Юлия Константиновна подтолкнула Сережу вперед и, быстро взбежав на крыльцо, исчезла в сенях.
К Сереже подошли две девочки. Они остановились перед ним и начали перешептываться. Одна из них, маленькая, остроносая и черненькая, похожая на грача, вдруг громко фыркнула и закрыла лицо фартуком. Сережа насупился и отвернулся в сторону. Кто-то ударил его по спине.
— Эй ты, головастый! Давай играть!
Перед Сережей стоял плотный мальчишка с короткой губой и открытыми розовыми деснами.
— А во что?
— В чикало-бегало. Меня Васькой зовут, а тебя как?
— Сергеем.
— Бежим к сараю, там у меня лапта спрятана, — сказал Васька.
Они побежали к сараю. Посреди двора стояла маленькая девочка и, нагнувшись, втыкала в песок цветы ровными рядами — делала садик. Васька на бегу растоптал ее цветы и грядки. Девочка заплакала.
— Реви громче! — крикнул Васька и дал ей тумака.
Она упала носом в песок — на свои грядки.
— Это ты за что ее? — спросил Сережа, останавливаясь.
— А так, — буркнул Васька. — Пускай не лезет!..
— Она не лезла, — сказал Сережа.
— Поговори еще! — крикнул Васька. — Я и тебе наклею.
— А ну, попробуй!..
Сережа выставил вперед плечо и налетел на белобрысого. Васька встретил его кулаками.
— Что там такое? — раздался вдруг из окна голос Юлии Константиновны.
— Юлия Константиновна, новенький дерется! — крикнул Васька.
— Врет, врет, он сам начал! — закричали приютские.
— Поди сюда, Василий, — позвала Юлия Константиновна.
Васька побежал на крыльцо, грозя Сереже кулаком.
Девочка все еще сидела на песке, вытирая фартуком слезы.
— Зинка, хватит реветь, вставай! — крикнула ей подруга.
Зинка встала, отряхнула платье и, засунув палец в рот, уставилась на Сережу.
Трое мальчишек переглянулись. Один из них, курносый, подтолкнул своих товарищей и что-то шепнул им на ухо.
— Жених и невеста! Жених и невеста! — закричали они неожиданно хором.
А курносый мальчишка, вытаращив глаза, запрыгал перед Сережей. Сережа покраснел и наклонил голову, точно собирался бодаться. Мальчишки подступили ближе.
— Жених и невеста! Невеста без места! — кричали они изо всех сил.
Сережа круто повернулся и побежал к дому.
— Ябедник! Ябедник! Жаловаться побег! — орал ему вслед курносый.
Сережа, добежав до стены дома, уткнулся лицом в стену.
— Гляди, гляди — ревет! — смеялись девочки.
Но Сережа не собирался плакать. Он с минуту постоял у стены и вдруг бросился бежать к воротам. С шумом распахнув калитку, он выскочил на улицу.
— Юлия Константиновна, Юлия Константиновна! Новенький убежал! — завопили приютские и бросились ловить Сережу.
Он не успел еще перебежать дорогу, как приютские схватили его и с криком потащили обратно во двор. Сережа вырывался изо всех сил. Но это не помогало — ребят было много.
Калитка захлопнулась. Один из приютских запер ее на щеколду.
— Пустите меня! Я все равно убегу. Пустите! Ну! — рванулся в последний раз Сережа.
Глава VIII
ВОСПИТАННИКИ
Через неделю приютской жизни Сережа увидел, что ребята не так уж похожи друг на друга, как ему показалось в первый раз. Тут были и тихонькие и озорные, и ловкие и неуклюжие, и плаксы и веселые. Самым отчаянным драчуном — грозой всего приюта — был Васька Новогодов, тот самый, который прозвал Сережу «головастым» и ударил Зинку.
Васька Новогодов попал в приют три года тому назад. Его нашли под Новый год на паперти собора. Он стоял, посиневший от холода, в рваном и грязном тулупчике, голова его была обмотана грубым вязаным платком. Длинные концы платка, перекрещенные на груди, торчали сзади наподобие двух ушей.
— Ты о чем, девочка, плачешь? — спросила сердобольная старуха нищенка.
— Ма-а-амка ушла! — заревел еще громче Васька.
Старуха побежала за городовым. Тот взял его за руку и, ворча и ругаясь, повел Ваську в приют. Когда в приюте Ваську раздели, то он оказался белоголовым мальчишкой в деревенской розовой рубашке, подпоясанной веревкой, и в драных штанах, заправленных в большие старые валенки.
Имя свое он сказал сразу. Зовут его Васька. Лошадь, на которой они ехали из деревни, рыжая и зовут ее Малька, потому что она была очень маленькая. А мать его зовут «мамка».
Больше о себе он сказать ничего не мог. На вид ему было четыре-пять лет, и поэтому его записали в приютской книге Василием, пяти лет от роду, по фамилии Новогодов. Такую фамилию ему придумал приютский поп, которого ребята называли батюшка, а взрослые — отец Константин.
— Младенец сей был найден в канун Нового года, а потому пусть и называется отныне Василий Новогодов, — рассудил поп.
Таких, как Васька, в приюте было немало. Девочку Полю подкинула тетка, которая морила ее голодом. Поля всегда так торопилась есть, точно боялась, что у нее отнимут чашку с едой. Приютские ее прозвали «Полька-жадина». Были еще два мальчика-подкидыша, «неразлучники». Они всегда ходили вместе, держась за руки. И если один из них падал, ушибался и начинал плакать, то другой за компанию ревел еще громче.
На первый взгляд Сереже показалось, что у всех приютских волосы одного и того же цвета, но потом он заметил, что стоило только после стрижки немножко отрасти волосам, как в приюте появлялись всякие ребята: русые, белобрысые, черные, и было далее двое рыжих.
Дни шли за днями. Скоро Сережа понял, что бежать из приюта трудно, почти невозможно. Во-первых, сами ребята смотрели друг за другом, а потом, у ворот на скамейке всегда сидел дворник Палладий — длиннобородый пожилой и строгий мужик. На нем был белый холщовый фартук и лапти на босу ногу. Рыжие волосы он подстригал в скобку и густо мазал лампадным маслом.
— Балуете! Вот я вам ужо! — тряс рыжей бородой Палладий и сердито грозил коричневым пальцем. Приютские его боялись больше, чем начальницы.
Оставалась у Сережи одна надежда — дождаться бабушку. Он решил, что, как только она к нему придет в воскресенье, он станет перед ней на колени и начнет просить ее, чтобы она взяла его домой. О том, что бабушка может не прийти, он даже боялся думать. От этих страшных мыслей замирало сердце и холодели руки.
Играя с ребятами на дворе, Сережа не спускал глаз с калитки. Из спальни он поминутно поглядывал в окно, не открывается ли калитка, не идет ли бабушка. Но бабушка не шла. Правда, она приходила в приют, и не один раз, справиться о внуке, по только в те часы, когда ребят уводили на прогулку.
Каждый раз, возвращаясь в приют, Сережа узнавал от маленькой Зинки, которая не ходила на прогулку, потому что у нее вечно болели то уши, то зубы, что нынче опять приходила его бабушка. Сережа забирался за сарай и плакал там потихоньку, чтобы ребята не видели. Он сердился на бабушку за то, что она приходит в такие часы, когда его нет дома. Он не понимал, что бабушка это делает нарочно — не хочет его расстраивать.
Глава IX
ПРИЮТСКОЕ ЖИТЬЕ
День в приюте начинался с восьми часов утр‘а. Наверх, в спальню, длинную комнату с низкими окнами на север, приходила толстая сторожиха Дарья и будила ребят.
— Вставайте!.. Вставайте!.. — выкрикивала она хриплым голосом, икая после каждого слова.
Приютские говорили, что Дарью «сглазили» и у нее страшная и неизлечимая болезнь — «икота».
Каждое утро Дарья сдергивала с Васьки Новогодова одеяло и звонко шлепала его по спине. Васька любил поспать и всегда вставал последним.
Толкая друг друга, топая босыми ногами по деревянному полу, ребята бежали гурьбой на кухню умываться.
Пять жестяных умывальников, приколоченных к длинной доске, звенели и громыхали так, что слышно было даже наверху в спальне.
Брызги летели во все стороны, и около рукомойника на полу стояли большие лужи. На лестнице от мокрых ног оставались следы.
После умыванья каждому нужно было повесить личное полотенце «по форме»: сложить пополам и перекинуть через заднюю спинку кровати. Если кто этого не делал, того наказывали.
Повесив полотенце, ребята сбегали вниз, в столовую, которая находилась рядом с кухней. Это была мрачная комната с закопченными стенами и большой иконой в углу, настолько темной, что на ней нельзя было ничего разобрать, кроме тонкой коричневой руки, поднятой кверху. Посредине столовой стояли длинные некрашеные столы, а по бокам их — деревянные лавки. В столовой ребят выстраивали между лавками и столом — на молитву. Стоять было неудобно. Сзади в ноги вдавался край скамейки, а в живот и грудь упирался край стола.
Дежурный — кто-нибудь из ребят постарше — выходил вперед и начинал читать молитву. Читать надо было быстро, без запинки, а то попадало от батюшки. За первой молитвой шла вторая. Ее пели хором. Маленькие ребята шевелили губами. Молитва была трудная, некоторые слова им было просто невозможно выговорить, например: «даждь нам днесь». После молитвы приютские усаживались за стол. Мальчики сидели отдельно от девочек. На столе кучкой лежали деревянные крашеные ложки. На каждой ложке на черенке ножичком была сделана какая-нибудь отметка, зазубринка, крестик или буква, чтобы каждый мог узнать свою ложку.
Утро начиналось с завтрака. Чай давали только два раза в неделю: в пятницу и среду. На завтрак варили гороховый кисель с постным маслом, иногда с молоком, изредка давали одно молоко.
Ели ребята из глиняных чашек — пять человек из одной чашки. Когда наливали молоко, то в чашку крошили кусочки черного хлеба. Ребята зорко следили друг за другом — каждому хотелось побольше молока, поменьше хлеба.
Белый хлеб ребята получали только два раза в год: на пасху и на рождество. Накануне этих праздников Дарья пекла в русской печке маленькие кругленькие булочки с изюмом. Две изюминки на каждую булочку. Один раз жадной Поле посчастливилось: она нашла в булке целых четыре изюминки — верно, Дарья обсчиталась. С тех пор все ребята надеялись найти как-нибудь в своей булочке лишнюю изюминку, только никто больше не находил.
Кончали завтрак, опять читали и пели молитву, а затем шли в мастерские. Мальчики — в переплетную, сапожную и столярную, а девочки — в швейную, где подрубали полотенца, шили наволочки и мешки. Иногда в приютскую швейную приносили заказ от какой-нибудь купчихи на пододеяльники. Вот уж боялись тогда испортить работу — шили не дыша. Особенно трудно было петли метать. Но зато если купчиха оставалась довольна, то присылала в приют пшена на кашу или крупчатки для «салмы».
Как-то раз утром на завтрак подали странное кушанье.
— Салма, салма… — зашептались за столом ребята.
— Это не простое кушанье, а татарское, — важно сказал Сереже его сосед, рыжий Пашка, который, если на пего смотреть сбоку, был очень похож на зайца.
Сереже было очень интересно попробовать новое кушанье. Он думал, что это рыба вроде сома.
Но в чашки налили мутного серого супа, в котором плавала крупно нарезанная лапша и горох — все вместе. Ребята, причмокивая губами, начали есть салму. Некоторые так спешили, что давились и кашляли. Нужно было поскорей съесть, чтобы успеть попросить вторую порцию.
Сережа никак не поспевал за ребятами. Он не привык есть так быстро. Бабушка не позволяла торопиться, говорила, что от горячей пищи кишки сохнут. Здесь же нужно было поторапливаться. В этот день Сережа вылез из-за стола голодный и сердитый. Он так и не понял, понравилась ему салма или нет.
Кроме салмы, готовили еще в приюте кушанье, которое называлось «кулага». Это был густой кисель из проросшего овса, темно-коричневого цвета, с запахом хлебного кваса. Только и было радости от этой кулаги, что ею можно было отлично вымазать щеки и нос соседу, — кулага была сладкая и липкая.
Но за это в приюте наказывали. Наказания здесь были не такие, как дома. Дома бабка мимоходом дернет за ухо или за вихор — вот и все. А тут оставляли без обеда, а то ставили в столовой на колени. Васька Новогодов стоял чаще всех. Он даже иногда сам приходил и становился в углу на колени. Лучше уж в углу постоять, чем остаться без обеда.
В два часа начинался обед. Ребят опять выстраивали на молитву. Обед был из двух блюд: суп или щи, а на второе — каша. После обеда нужно было снова молиться.
В девять часов вечера читали и пели молитвы перед ужином и доедали остатки обеда. Потом опять молились и в десять часов ложились спать. Перед сном читали особенную молитву — не богу, а ночному ангелу-хранителю. Ангел должен был ночью сторожить приютских ребят.
Рыжий Пашка рассказал как-то Сереже, что он несколько раз нарочно не спал, чтобы подкараулить ангела, по ни разу никого не видел. Может, ангел куда и ходит по ночам, да только не в приют.
— Мы как монахи здесь живем, все только молимся, — ворчал Пашка. — А толку никакого. Уж скорей бы осень пришла.
— А что осенью будет? — спросил Сережа.
— Осенью мы хоть учиться в приходскую школу пойдем. У нас в приюте своей-то нету.
— А меня возьмут?
— А тебе сколько?
— Скоро девять, — сказал Сережа. На самом же деле до девяти ему нужно было расти еще полгода.
Пашка прищурился и, оглядев его небольшую коренастую фигуру, сказал:
— Там разберутся!..
…Летом перед обедом ежедневно водили ребят купаться. Река была рядом. Сразу же за приютским домом начинался отлогий косогор.
По берегам Уржумки росли душистые тополя, березы и ивы с опущенными, словно мокрыми ветками. Приютские ребята сбегали по высокой траве вниз на берег, а некоторые ложились и с хохотом и визгом скатывались по косогору к речке.
Правда, место здесь было даже лучше, чем против собора, где купались городские, — здесь и песок был почище и трава не такая примятая. Но купаться с приютскими Сереже было скучно. В воду и из воды ребята лезли по команде. Юлия Константиновна стояла на берегу в белом, гладью вышитом полотняном платье, держала в руке розовый шелковый зонтик и нараспев кричала:
— Дети, в воду! Де-ти, в воду!
Потом осторожно садилась на песок на разостланное полотенце, читала книгу и посматривала поверх очков на ребят.
Приютские заметили, что если Юлии Константиновне книга попадалась неинтересная, то купанье выходило плохое. Юлия Константиновна перелистает книжку, посидит-посидит, вздохнет, а потом и начнет командовать:
— Дети, не кричать!.. Дети, далеко не уплывать!.. Дети, не нырять!.. Дети, песком не кидаться!..
Ну какой интерес от такого купанья, когда и пошевелиться нельзя! Но зато если книга попадалась интересная, то Юлия Константиновна читала не отрываясь, даже глаз не поднимала.
Вот тогда-то начиналось раздолье!
Прожив три недели в приюте, Сережа понял, что Ли дин Ивановна его обманула. Ничего из того, что она обещала, не оказалось в приюте. Игрушек не было. Приютские играли деревянными чурбачками и тряпочным мячиком, точно таким, какой был у Сережи дома. Одно только оказалось правдой. У каждого приютского была своя, отдельная деревянная койка. Но тоненькие, набитые слежавшейся соломой грязные матрацы были жестки, а из подушек то и дело вылезала солома и больно кололась.
Простынь приютским не полагалось, спали на одних матрацах. В каждой щелке, в каждом уголку спальни жили клопы. По ночам они ползали по стенам целыми стаями, гуляли по полу и даже падали с потолка.
— А Лидия-то Ивановна хвастала, что в приюте всего много. Выдумала все, — жаловался Сережа Пашке.
— А ты за это, как она придет в приют, подбеги сзади да и плюнь ей на юбку, — учил Пашка.
Но Лидия Ивановна и не думала приходить в приют.
Глава X
ДОМОЙ
Третья неделя подходила к концу, когда Юлия Константиновна решила отпустить Сережу домой. В воскресенье — отпускной день в приюте — она позвала его в канцелярию, в ту самую комнату, где в большом шкафу на полке были заперты его бумаги.
— Иди-ка сейчас, Сережа, в спальню, надень сапоги, чистую рубашку и отправляйся домой. А вечером тебя бабушка обратно в приют приведет. Понял? — спросила Юлия Константиновна и взяла его за подбородок.
— Понял! — строго и будто нехотя ответил Сережа. Он не совсем поверил словам начальницы, подумал, что она шутит.
— Что же ты стоишь? Иди! — сказала Юлия Константиновна и стала перебирать на столе какие-то бумаги.
Видно, не шутит!..
Сережа побежал наверх в спальню, прыгая через две ступеньки. Второпях он надел рубаху наизнанку. Пришлось стянуть ее и надеть второй раз.
Сапоги натягивал так, что чуть не оторвал у них ушки.
Наконец все было готово.
Сережа спустился вниз, осторожно держась за перила. В грубых и тяжелых сапогах ноги не сгибались и сделались точно каменные. Он вышел на двор и оглянулся.
Ему казалось, что сейчас непременно позовет из окна Юлия Константиновна и скажет: «Нечего тебе домой ходить. Оставайся-ка лучше в приюте». Но его никто не позвал назад, и он благополучно дошел до калитки. Калитка с визгом распахнулась и плотно захлопнулась за Сережей.
На Воскресенской улице было тихо, — видно, все еще были в церкви. Только посредине дороги в пыли копошились куры, да чья-то коза общипывала сквозь палисадник кусты сирени.
Сережа перевел дух, выпрямился и что было сил припустился бежать. Ему казалось, что его приютские тяжелые сапоги стучат на всю улицу. Он бежал, боясь оглянуться назад.
Красный, вспотевший, тяжело дыша, Сережа остановился около аптеки, чтобы передохнуть. В окнах аптеки поблескивали цветные стеклянные шары, которые очень правились Сереже. Раньше, когда он жил дома, он и Санька часто бегали любоваться на них. Теперь было не до шаров. Сережа облизнул губы, рукавом рубашки вытер с лица пот и опять пустился бежать дальше.
На углу Буйской и Воскресенской улиц из-за густой зелени уже виднелась Воскресенская церковь, точно большая белая глыба. А от церкви до дома оставалось рукой подать. Сейчас только нужно будет свернуть направо в Буйскую улицу, пробежать мимо церковного забора, потом мимо двухэтажного каменного дома купца Казанцева, потом мимо бакалейной лавки Людмилы Васильевны, а там уж и пустырь старовера Проныш, которого все считали сумасшедшим стариком, потому что он перед каждым встречным снимал шапку и низко кланялся. А рядом с пустырем Проньки его, Сережи, дом. Дом в пять окошек на улицу. Там все свои: бабушка Маланья, сестры Анюта и Лиза и товарищ Санька.
Вот он, вот он — дом!
Сережа добежал и с разбегу ударил ногой в калитку. Она отлетела в сторону. На дворе, спиной к воротам, на корточках сидел Санька и усердно строил из камешков и земли запруду. Маленькая Лиза, щурясь от яркого солнца, сгребала в кучу песок железной ржавой банкой. У сарая бабушка развешивала на веревке мокрое белье. Все было по-старому, на своем месте.
— Са-а-нь-ка! — закричал Сережа так громко, что бабушка выронила из рук мокрое белье.
— Ишь ты, какой стал! — сказал Санька, осматривая обстриженную под первый номер голову Сережи, серую мешковатую рубаху и сапоги.
Сережа опустил голову и тоже оглядел свои штаны, рубаху и сапоги.
— Какой — такой?.. Какой был, такой и остался. Пойдем на речку купаться?..
— Куда? К собору?
— Да нет! Давай на тот конец реки пойдем, — сказал Сережа.
— Этакую даль! — протянул Санька, вытирая грязные руки о штаны.
— Зато там песок хороший, Сань, да и острог посмотрим.
Они побежали по Полстоваловской улице и только в самом конце ее, возле дома ссыльных, остановились. На крыльце сидела с книгой в руках женщина с короткими волосами, в мужской рубашке, подпоясанной шнурком, а возле нее стоял какой-то мужчина с длинными волосами, немного покороче, чем у попа. Он что-то рассказывал стриженой женщине, и оба они громко смеялись.
— Гляди, крамольники! — толкнул Саня товарища.
Сережа хотел остановиться и посмотреть на них, но тут с Воскресенской улицы донесся топот ног и громкая песня со свистом.
— Солдаты!.. Бежим!.. — крикнул Саня.
Они выбежали на Воскресенскую улицу и увидели, как, поднимая тучи пыли, с ученья возвращаются солдаты в парусиновых рубашках с красными погонами на плечах. Все они были в плоских, как блин, бескозырках с большими белыми кокардами. Казалось, что все солдаты похожи друг на друга, как близнецы. Все загорелые, потные и белозубые. Они громко пели. Иногда в середине песни они так пронзительно свистели, что у прохожих звенело в ушах.
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..—
спрашивали солдаты и сами же себе отвечали:
Наши жены — пушки заряжены,
Вот где наши жены.
Мальчики проводили солдат до собора и побежали на речку. Купались в Уржумке часа три, пока не надоело. Плавали, ныряли, фыркали до тех пор, пока женщина, полоскавшая белье с плота, не обругала их чертенятами и не пообещала пожаловаться на них бабушке.
Прямо с Уржумки Сережа и Саня побежали за город, в Солдатский лес, который начинался сразу же за Казанской улицей.
В лесу Сережа снял с себя рубашку, и они начали собирать в нее шишки. Из шишек и сухих сосновых веток развели большой костер. Над костром вился сизый пахучий дым, а внизу под ветками громко трещало.
— А теперь давай прыгать, — сказал Сережа и, разбежавшись, перепрыгнул через костер.
Санька тоже прыгнул через огонь, да так, что на нем чуть не загорелись штаны.
— Мне прыгать трудновато, у меня ноги длинные, мешают, — пробормотал он, оправдываясь.
— Прыгай еще, — предложил Сережа.
— Не хочется.
Домой они вернулись к обеду. Бабушка в этот день нажарила ржаных лепешек, которые пекла обычно только по большим праздникам.
В сумерках мальчики играли на улице под окнами в разные игры, и Сережа даже забыл, что придется возвращаться в приют.
Но вот наступил вечер. На улице совсем стемнело и стало прохладно. Бабушка раскрыла окно и ласково сказала:
— Сереженька, а нам пора в приют идти.
Опять в приют! В приют, где дерутся мальчишки и фискалят друг на друга, где ставят на колени, где кусают клопы…
Ему захотелось зареветь, но он удержался от слез, потому что у ворот стояли мальчишки.
Сережа съежился, засопел носом и боком пошел с улицы во двор, загребая по дороге пыль своими тяжелыми сапогами.
Глава XI
В ШКОЛУ
В одно осеннее утро, когда приютские кончили завтракать, Юлия Константиновна вошла в столовую и сказала:
— Ну, дети, завтра вы пойдете учиться в школу.
— В школу! — зашумели и загалдели ребята. Один из мальчиков схватил ложку и стал стучать ею по столу. Всем падоела приютская жизнь, а в школе будет что-то новое.
В это утро ребята молились кое-как. Дежурный молитву читал так быстро, что даже стал заикаться.
После молитвы приютские собрались в кучу. Разговор у всех был один и тот же — о школе.
Те, кто уже в прошлом году ходил в школу, рассказывали другим про занятия, про переменки и про учителя Сократа Ивановича, который всегда чихал и называл школьников «зябликами». А те ребята, которые должны были пойти в школу в первый раз, расспрашивали, дают ли приютским на руки тетрадки и удается ли им иной раз после школы хоть немного побегать по улице.
— А новеньких в школу поведут? — спрашивал Сережа то у одного, то у другого из приютских.
— Сам пойдешь! Школа-то рядом, только дорогу перебежать, — засмеялся Васька Новогодов.
— А учитель не дерется? — спросила черненькая косая девочка с испуганным лицом.
— Меня не тронет, а ты — косой заяц, тебя станет лупить! — крикнул Васька.
— А может, тебя самого из школы прогонят!
— Что? Что? Меня прогонят из школы? Как бы не так! — закричал Васька и щелкнул кого-то из ребят по лбу.
— Юлия Константиновна, Юлия Константиновна! Васька опять дерется! — закричали ребята.
Васька успел дать несколько тумаков двум маленьким девочкам и ударил по голове мальчика с завязанной щекой.
На шум в комнату торопливо вошла Юлия Константиновна.
— Опять?! — сказала она строго и показала пальцем на дверь, которая вела в столовую.
— Ладно уж, — крякнул Васька и, засунув руки в карманы, пошел становиться на колени.
Начальница не торопясь пошла за пим.
— Юлия Константиновна! — бросился Сережа вдогонку. — А вы не знаете, меня в школу возьмут?
— Как же, обязательно возьмут, — сказала Юлия Константиновна не оборачиваясь.
Сережа от радости скатился кубарем с лестницы, выбежал во двор и чуть не сбил с ног рыжего Пашку, который тащил из кухни помойное ведро.
— Пашка! Завтра в школу пойду!
— Подумаешь, невидаль! — заворчал Пашка. — Несется глаза вылупя, а тут человек помои тащит.
В глубине двора, возле сарая, пять маленьких приютских девочек, держась за руки, топтались в хороводе и пели унылыми голосами любимую песню Юлии Константиновны:
Там вдали за рекой
Раздается порой:
Ку-ку! Ку-ку!
Сережа с разгона так и врезался в хоровод.
Девочки завизжали и бросились врассыпную.
Сережа с минуту постоял в раздумье и повернул к воротам. А что, если сейчас побежать домой и рассказать всё Саньке? Дом близко, рукой подать. Можно успеть до обеда вернуться обратно. Никто ничего не заметит. Сережа распахнул калитку, выскочил за ворота — и налетел прямо на дворника Палладия.
— Ты это куда же, земляк, собрался? А? — удивился Палладий, поворачивая к Сереже рыжую бороду.
Сережа ничего не ответил дворнику и, поглядев на него исподлобья, молча вернулся во двор. Придется, видно, ждать до воскресенья. Раньше никак не убежишь!
Ночью ребята шевелились и ворочались больше, чем всегда. Сережа просыпался раза три — он все боялся, что проспит и приютские без него уйдут в школу.
Последний раз, когда он проснулся, никак нельзя было разобрать — вечер это или уже утро. За окошком было темно, и внизу на кухне не хлопали дверью. Значит, еще ночь. Сережа высунулся из-под одеяла.
— Ты чего не спишь? — вдруг спросил его с соседней койки рыжий Пашка. Голос у пего был хриплый — видно, он тоже только что проснулся.
— А ты чего? — спросил Сережа и, натянув на голову одеяло, оставил сбоку маленькую щелочку, в которую и стал разглядывать спальню.
Скоро на соседних койках завозились и зашептались приютские.
— Вставать пора! — сказал кто-то из ребят, и все разом принялись одеваться.
Когда Дарья пришла будить детей, они были уже одеты.
— Эку рань поднялись, беспокойные! — проворчала Дарья и вышла из спальни.
Оправив кровати, ребята побежали умываться, а потом пошли завтракать.
Когда они доедали гороховый кисель, в столовой появилась Юлия Константиновна.
Па ней было черное платье с высоким воротником и белой кружевной рюшкой вокруг шеи. На грудь Юлия Константиновна приколола маленькие золотые часики.
Волосы у нее были завиты и лежали волнами.
Юлия Константиновна оглядела приютских и велела стать в пары.
Стуча сапогами, перешептываясь и толкаясь, ребята выстроились в узком проходе между стеной и скамейками.
В столовую, прихрамывая, вошла Дарья, неся на вытянутой руке стопку носовых платков.
Юлия Константиновна начала раздавать приютским носовые платки. Платки были большие, и на углу каждого красными нитками была вышита метка: Д. П. М. Д. — Дом призрения малолетних детей.
Но это было еще не все. Как только раздали платки, Дарья принесла сумки — добротные, из сурового полотна. Они были похожи на кошели, с которыми уржумские хозяйки ходили на базар. Только у этих сумок были не две лямки, а одна длинная лямка, и их можно было надевать через плечо. На каждой сумке сбоку темнела круглая приютская печать.
Потом ребят вывели во двор, и Юлия Константиновна, в черном платье и белых кружевных перчатках, вышла на крыльцо.
— Дети, за мной! — скомандовала она и, подобрав длинную юбку, медленно пошла к воротам.
Пары потянулись за ней.
У ворот дворник Палладий, в чистом фартуке, низко поклонился Юлии Константиновне.
— Пошли? — спросил он и распахнул калитку.
— Пошли! — сказала Юлия Константиновна.
Приютские шли важно по улице. Им казалось, что сегодня день особенный — вроде воскресенья, хотя все отлично знали, что был вторник.
Из ворот одного дома вышла женщина с тяжелой бельевой корзинкой на плече; она остановилась, опустила корзинку на землю и долго глядела вслед приютским.
— Куда это их, сирот, повели? — сказала она, покачивая головой.
— В школу, тетенька! — крикнула девочка из последней пары.
Ребята старались идти в ногу. Кто-то начал считать:
— Раз, два! Раз, два!
Но считать и маршировать пришлось недолго — школа была на этой же улице, только наискосок. Около маленькой желтой калитки Юлия Константиновна сказала:
— Дети, не толкаться! Входите по одному.
 Приютские шли важно по улице
Приютские шли важно по улице
А как не толкаться, когда всякому хочется поскорей попасть на школьный двор, а калитка такая узкая!
Школьный двор ничем не отличался от остальных уржумских дворов. Был он мал, порос травою; в глубине двора был садик, а в садике виднелся кругленький столик и скамеечки, — видно, учитель здесь летом пил чай.
На палисаднике висело детское голубое одеяло и маленькая рубашонка.
У крылечка разгуливали толстые утки.
— Это чьи утки? — спросил Сережа у Пашки.
— Учителевы, — ответил Пашка и хотел еще что-то прибавить, но не успел.
Приютских ввели в темные сени.
Только что вымытый пол еще не просох, и ребята на цыпочках прошли через сени до входных дверей.
Из комнат доносился топот, какая-то возня и детские голоса. Вдруг дверь приоткрылась, и ребята увидели Сократа Ивановича, маленького бледного человека в синей косоворотке.
— Проходите, зяблики, в залу! — крикнул он. — Сейчас будем молитву читать.
— В залу, — громким шепотом сказала Юлия Константиновна и, шумя юбкой, пошла впереди ребят.
Залой называлась небольшая пустая комната с низким потолком и тремя скамейками у стен. Здесь было полутемно, потому что перед окнами росли густые кусты сирени.
— Темно, как у нас в столовой, — сказал кто-то из приютских.
В залу вошел приютский поп, отец Константин. Он, как всегда, пригладил рукой длинные волосы, поправил на груди крест и начал читать молитву.
И молитва тоже была знакомая. Ее в приюте читали каждый день. После молитвы ребят повели в класс.
Здесь Сережа впервые увидел школьные парты. Ему очень нравилось, что парта — это и столик и скамейка вместе. А еще больше понравилось, что в ящик парты можно прятать книги и сумку.
Его посадили рядом с Пашкой.
Сережа не успел толком разглядеть класс, как вошел учитель Сократ Иванович, и начался урок.
— Ну, зяблики, кто из вас знает буквы, поднимите руку, — сказал Сократ Иванович.
Сережа знал уже три буквы — те самые, которые ему когда-то показал Санька. Но поднять руку побоялся. Он оглядел через плечо класс и увидел, что всего только двое из приютских подняли руки. Да и те держали руки так близко от лица, что нельзя было попять, подпирают ли они рукой щеку или хотят отвечать учителю.
Тут Сережа набрался храбрости и стал медленно вытягивать руку кверху.
Сократ Иванович его заметил:
— Ну, отвечай. Ты сколько букв знаешь?
— Три!
— Какие?..
— Пы, сы, о.
— Отлично. А изобразить их на доске сможешь?
Сережа замялся.
— Можешь написать их на доске? — спросил еще раз учитель.
— Я палкой на земле писал и углем на сарае тоже писал, — тихо ответил Сережа.
— А ну попробуй теперь мелом написать на доске.
Сережа вылез из-за парты и пошел к большой черной доске.
Сократ Иванович дал ему кусок мела.
Доска была высокая, на подставке. Даже до середины ее Сережа никак не мог дотянуться, хоть и привстал на цыпочки.
— Пиши внизу, — сказал Сократ Иванович.
Сережа написал внизу с края доски две огромных буквы.
— О — баранка. Сы — полбаранки, — бормотал он про себя, выводя буквы.
Как пишется буква «П», он вдруг позабыл.
— Ты что там шепчешь? — спросил Сократ Иванович.
— Сы — полбаранки, — повторил Сережа тихо, — пишется так.
— Молодец! Ну иди на место. А как твоя фамилия, «полбаранки»?
— Костриков, Сергей.
— Ну, иди, Костриков Сергей, на место.
В этот день Сережа узнал еще три новых буквы, но не вразброд, как показывал ему Санька, а по порядку: А, Б, В.
Так началось Сережино ученье.
Прошла первая школьная неделя, и опять наступило воскресенье.
На завтрак дали ненавистную кулагу. Сережа глотал ее с трудом — только бы поскорей доесть.
После завтрака, как обычно, начали читать молитву, а после молитвы к Юлии Константиновне подошел учитель закона божия, отец Константин. Они вышли оба в коридор, и батюшка, придерживая на груди крест, принялся что-то рассказывать начальнице. Медленно ходили они взад и вперед по длинному коридору, а позади, словно тень, шагал Сережа. Ему хотелось скорей домой, а без позволения уходить не разрешалось. Перебивать Юлию Константиновну, когда она с кем-нибудь разговаривала, тоже не полагалось. Хочешь не хочешь — жди, пока она кончит.
Наконец батюшка распрощался и пошел вниз.
Сережа опрометью бросился к Юлии Константиновне.
— Заждался небось! Ну, иди домой, — сказала Юлия Константиновна.
Сережа поглубже нахлобучил картуз и пустился бежать. Он перевел дух только возле своего дома. Калитка была раскрыта. Двор пуст.
Сережа вошел в дом. В кухне на полу сидела Лиза и укачивала куклу.
— Бабушка! Сережа пришел!
Бабушка выглянула из-за печки.
— Ты что это такой красный да потный? — удивилась она. — Уж не подрался ли с кем?
— Я теперь, бабушка, в школу хожу! — выпалил Сережа.
— Вот и хорошо. Грамотным человеком станешь, — сказала бабушка и перекрестилась. Сама она не умела ни читать, ни писать.
— Бабушка, я пойду к Сане!
— Иди, да с мальчишками не озоруй.
Но Сережа, уже не слушая ее, хлопнул дверью.
Саньки, как назло, не было дома, и Сереже добрых полчаса пришлось просидеть на камне у ворот.
Наконец Санька появился, — оказалось, что его посылали в лавочку. Сережа, чуть увидел его, сразу же выпалил все свои новости:
— Уже вызывали… Сократ Иваныч каждый день нам по три новых буквы показывает. Скоро научит читать и писать и в уме складывать!..
В это время бабушка позвала их в дом.
— Ну, грамотеи, — крикнула она из окошка, — идите домой — оладьи есть!
Когда на улице стемнело, бабушка начала собираться, чтобы проводить Сережу в приют. Надев на плечи старую шаль, она вышла во двор, посмотрела на высокую крапиву около сарая и сказала вздыхая:
— Ну, я собралась. Пойдем-ка в приют.
— Я сам нынче пойду, — ответил Сережа и подтянул за ушки сапоги.
— Ишь ты! — сказала бабушка. — Ну сам так сам. — Она махнула рукой и пошла обратно в дом.
В этот вечер Сережа один, без провожатых, отправился в приют.
…Все больше и больше Сережа привыкал к приютской жизни. С тех пор как он начал ходить в школу, приют уже не казался ему таким постылым, как раньше. Начальница, Юлия Константиновна, была им очень довольна. С мальчиками он не прочь был подраться, но девочек и маленьких ребят не обижал, не щелкал их по стриженым затылкам, не драл за уши, как другие приютские. В школе он учился хорошо, а в приютской мастерской, где плели корзины и шляпы, старик мастер Пал Палыч им нахвалиться не мог. Никто из ребят не умел так искусно плести донышки для соломенных шляп и ручки для корзин, как Сережа. У всех ребят донышки получались либо вытянутые наподобие колбасы, либо острые. А такие шляпы на рынке никто не хотел покупать.
Бабушка Маланья частенько рассказывала Саниной матери про Сережины успехи.
— В приюте, Степановна, говорят: толк из Сережи выйдет. К ученью способности обнаружил. И характер у него настойчивый. Другой ребенок попишет, попишет и бросит, если у него что не выходит. А наш вспотеет весь, а уж своего добьется. Я упорная, а он еще упорнее. Прошлой осенью какой с ним случай вышел. Играл он во дворе, дом из песка строил. Так занялся, что ничего кругом не слышит и не видит. Вдруг дождь как хлынет. Я за Сергеем. «Иди домой!» — кричу, а он и ухом не ведет. Выскочила я под дождь, схватила его за руку и в сени втащила. Только отвернулась — он опять во двор. А дождь так и хлещет, словно из ведра. Я ему из окошка кулаком грожу: иди, мол, озорник, в дом. А он сидит на корточках, весь мокрый, грязный, и кричит: «Дом дострою и приду!» Я только рукой махнула. Весь в меня характером вышел!
Глава XII
ПРИЮТСКИЕ И ГОРОДСКИЕ
Наступила зима. Начались первые заморозки. По утрам лужи около крыльца затягивались тоненькой, прозрачной корочкой льда. Стены, забор, калитка и даже старая бочка возле сарая — все побелело от инея.
— Зима, зима! — кричали ребята и бежали на двор пробовать первый лед.
Хрупкий и прозрачный, он сразу же ломался под ногами, и темная вода заливала сапоги. К полудню от инея на крыше не осталось и следа. Иней быстро таял.
— А вдруг зима совсем не придет? — горевали ребята.
Но зима пришла.
Однажды утром в воскресенье приютские проснулись в восемь часов, поглядели в окошко — и ахнули. За окошком падал снег, и не какими-нибудь мелкими снежинками, а целыми хлопьями.
Снегом засыпало весь приютский двор. Снег лежал на крышах и на деревьях. Даже небо, казалось, стало какого-то
белого цвета.
После завтрака приютским раздали зимнюю одежду. Мальчики и девочки получили теплые ватные пальто серого цвета. Рукава пальто были вшиты сборками и походили на фонари. Кроме пальто, ребятам выдали рукавицы и валенки. На каждом валенке чернела круглая печать уржумского приюта. Девочки повязали стриженые головы большими шерстяными платками, а мальчики надели круглые, стеганные на вате шапки. Пальто были сшиты на рост. Полы путались в ногах, а рукава были так длинны, что из них виднелись только кончики пальцев.
— Поп! Поп! — дразнили друг друга мальчишки.
На дворе дворник Палладий разгребал сугробы большой деревянной лопатой. Сережа подбежал к нему.
— Ну, помощник! Вот и зима пришла, — сказал Палладий и похлопал себя по бокам.
«Помощником» дворник стал называть Сережу недавно, после того как во дворе рассыпалась целая поленница дров и Сережа помог ему собрать дрова.
— Дай мне, Палладий, лопату! Гору пойду строить, — попросил Сережа.
— Возьми, только потом на место поставь!
Сережа отправился за ворота на берег Уржумки. В длинном ватном пальто, маленький и широкоплечий, он шел по двору, переваливаясь с ноги на ногу и таща по снегу за собой огромную лопату.
— Эй, катышок! Возьми лопату на плечо, ловчей будет! — закричал вслед Палладий.
Сережа вскинул лопату, как ружье, на плечо и не спеша вышел из калитки.
В это воскресенье приютские насыпали на берегу замерзшей Уржумки большую снежную гору. Работы всем было по горло. А больше всех старался Сережа. Он сгребал снег, утаптывал его валенками и придумал такую штуку: чтобы скорее насыпать гору, таскать снег на рогожке. Даже дворник Палладий пришел помогать ребятам и, когда гора была готова, вылил на нее три ведра воды.
К вечеру гора подмерзла, и приютские начали кататься. Но кататься было не очень-то удобно. Санок в приюте не было, и приходилось съезжать с горы на пальтишках или подстилать рогожу.
Васька Новогодов с вечера облил свою рогожу водой и оставил ее на ночь во дворе. Рогожа замерзла и стала точно лубяная. Но не успел Васька съехать с горы, как лед на его рогоже стал трескаться и осыпаться, словно стекло. Только пальто сзади подмокло, а толку никакого.
Как-то вечером, когда приютские вышли на улицу поиграть в снежки, они заметили, что с высокого крутого берега Уржумки катится вниз прямо на лед какой-то темный комок. Подошли поближе, пригляделись и узнали в этом темном комке Ваську Новогодова.
— Эй, ребята, давайте-ка и мы с берега кататься! — крикнул Пашка. — Здесь покруче, чем на нашей горке, будет! До самой середины реки катить можно.
Он разостлал свою рогожу и только было хотел съехать с берега, как внизу из-за сугроба вынырнул запыхавшийся Васька Новогодов.
— Ты еще чего выдумал, рыжий петух? С моей горы кататься собрался! Вот как дам — полетишь вверх тормашками!
Пашка послушно подобрал свою рогожу и, озираясь, пошел к приютской горке. После этого случая ребята боялись даже близко подходить к «Васькиной горе».
Так прошло несколько дней. Но вот как-то под вечер приютские снова забрели на «Васькин берег». Уже темнело. Снег голубел, словно кто-то облил всю землю слабым раствором синьки.
На реке у берега пухлой периной лежал снег. Так и хотелось разбежаться и броситься сверху плашмя в пышные, мягкие сугробы.
Ребята подошли к самому краю и заглянули вниз. Там внизу, почти на середине Уржумки, топтался Васька Новогодов, стряхивая с себя снег.
Сережа постоял с минуту на горе и вдруг не спеша начал расстилать свою рогожку.
— От Васьки попадет, не езди! — закричали хором приютские.
Сережа, не слушая их, молча уселся на рогожу.
— Ой, смотрите, поехал, поехал, смотрите! — завизжала Зинка.
И верно, Сережа уже катился вниз с высокого обледенелого берега, взметая за собой снежное облако. Долго глядели ребята, как мелькала среди сугробов его большая круглая шапка.
А минут через десять с речки мимо приютских пробежал Васька Новогодов. Под мышкой у него торчала свернутая в трубку рогожа. На бегу он оборачивался и грозил кому-то кулаком.
Дворник Палладий рассказывал потом, что, вбежав во двор, Васька перво-наперво принялся изо всех сил колотить ногами в бочку, а потом бросил рогожку на землю и заревел во все горло.
А на другой день на «Васькину гору» отправились вместе с Сережей еще несколько мальчиков.
— Поехали, ребята! Чего бояться? — звал их с собой Сережа.
— Боязно. Тут больно берег крутой.
— Нет, не страшно, — уговаривал Сережа, — только в ушах здорово свистит, и снег в лицо бьет. Глаза крепче зажмурить надо! Только и всего!
Сережа съехал с берега первым, а за ним и все остальные.
…Недели через две после этого произошло событие, о котором долго говорили приютские.
В приходской школе, кроме приютских, учились также и дети уржумских купцов и зажиточных мещан. Между приютскими и городскими издавна была вражда. Стоило приютским выйти со школьного двора на улицу, как их начинали дразнить:
— Приютская вошь, куда ползешь?
Приютские молчали, потому что боялись связываться с городскими. Те были и покрупнее и покрепче, — как-никак дома жили, а не на приютских хлебах. И главным коноводом у городских был краснощекий Лешка, сын приказчика с Воскресенской улицы. Был он одним классом старше Сережи.
Однажды во время большой перемены подставил он Сереже ногу. Сережа растянулся на полу и больно ушиб колено. А приказчиков сын, довольный своей шуткой, убежал в класс.
Прозвенел звонок. Сережа, прихрамывая, пошел на свое место.
Весь урок сидел он хмурый, глядел в угол и раздумывал: как бы это показать городским, что приютские тоже за себя постоять могут? Неужели же так и сносить от них щелчки, пинки и обидные слова? Да и за что? Ведь он не сам пошел в приют — его бабушка туда отдала.
Урок окончился, учитель вышел из класса. Сережа, насупившись, продолжал сидеть на парте.
— Пошли, Костриков, домой, — сказал ему Пашка.
Сережа встал и начал укладывать в полотняную сумку пенал и книжки.
В маленькой темной раздевалке осталось к этому времени всего только четыре пальто. Уже все ученики разошлись по домам.
Сережа оделся и вышел с товарищем на двор. Он шел все еще прихрамывая.
— Больно?
— А то нет! — сердито буркнул Сережа.
На школьном дворе было пусто.
— Ну, сегодня нас не тронут. Все домой ушли! — обрадовался Пашка.
Но только он это сказал, как из ворот соседнего дома с криком вылетели городские. Впереди бежал Лешка в большой беличьей шапке, надетой набекрень.
— Бей приютских! — закричал он.
Пашка и еще двое приютских пустились наутек. Сережа остался один посредине улицы. Лешка подскочил к нему и сбил с него шапку.
— Дай ему еще, дай! Мало! — закричали городские, подбрасывая Сережину шапку ногами.
Сережа и не думал ее отнимать у них. Он стоял на месте, наклонив большую, коротко остриженную голову, и тяжело дышал. Лешка развернулся и хватил его кулаком в грудь. Сережа шагнул назад, потом вперед. Коленки у него подогнулись.
— Прощения просит! — заорали городские.
Но в эту самую минуту Сережа с размаху ударил Лешку головой в живот. Тот раскинул руки и упал навзничь. Сережа, не давая ему опомниться, навалился на него всем телом. Лешка дергался, пробовал вырваться, но Сережа держал его крепко.
— Пусти! — завопил Лешка на всю улицу и стал пинаться ногами.
— А будешь драться?
— Пусти!
— А будешь?
— Пу-у-у-сти! Слышишь — пу-сти!..
 Лешка вертел головой, ища глазами товарищей.
Лешка вертел головой, ища глазами товарищей.
Лешка вертел головой, ища глазами товарищей. Но они стояли у забора и даже не собирались идти ему на выручку.
— Говори, будешь? Будешь? — спрашивал Сережа, сопя и пыхтя.
— Не буду, — наконец ответил Лешка, но так тихо, чтобы приятели его не слышали.
— Смотри у меня, — сказал Сергей и поднялся с земли.
Он не торопясь отряхнул снег с пальто и валенок и оглянулся по сторонам. С другого конца улицы бежали приютские. Они все видели из-за угла. Лица у них сияли, как новые гривенники. Пашка поднял с земли Сережину шапку, ударил ею о колено и подал Сереже. А в это время Лешка у забора ругался со своей командой.
— Чего же вы смотрели, когда он на меня накинулся? — говорил Лешка сквозь зубы и сжимал кулаки.
— Один на одного всегда дерется, — оправдывались его приятели.
Весь вечер в приюте только и было разговоров, что о Сереже.
— А Костриков ему как даст!.. Как даст!.. — захлебываясь, рассказывал Пашка.
— Теперь мы городским покажем! — засмеялся один из приютских.
Первый раз за всё время городским не удалось поколотить приютского.
Глава XIII
УГУ
Сереже исполнилось одиннадцать лет, когда он окончил приходскую школу. Тех, кто учился хорошо в школе, отдали учиться дальше, в Уржумское городское училище, которое ребята называли по первым буквам: УГУ.
Но попасть в УГУ было дело трудное. Это не то, что из класса в класс перейти, — здесь отбирают самых лучших учеников.
— Кострикову что! Его сразу же примут в УГУ! т-завидовали одноклассники Сереже.
— Еще бы не приняли, когда у него все пятерки да четверки.
И верно, Сережа был первый, кого назвал Сократ Иванович, когда объявлял о переводе школьников в УГУ.
Училище помещалось на Полстоваловской улице, в белом двухэтажном доме с парадным крыльцом под железным зеленым навесом. Рядом с деревянными сутулыми домиками дом казался нарядным и большим.
Через парадную дверь ходили только учителя, а ученики, чтобы не запачкать сапогами каменной лестницы, бегали с черного хода, мимо кухни директора.
Здесь всегда пахло вкусными жирными щами и жареным мясом. А в дни стирки густой белый пар клубился и плавал по кухне, словно туман над болотом. Во дворе школы был разбит маленький садик, где росли две сутулые елки да несколько тополей, обглоданных козами.
В глубине двора возвышались столбы с перекладиной, похожие на виселицу, и «гиганты» — гигантские шаги, на которых запрещалось бегать, такие они были гнилые и старые.
Ученики Уржумского городского училища задирали носы перед ребятами из приходского. Их училище помещалось в большом каменном доме.
Учились в нем одни только мальчики, не то что в приходском, где и девчонки и мальчишки сидели вместе. А главное — ученики Уржумского городского училища носили форму: серые брюки и курточки такого же серого, мышиного цвета, подпоясанные кожаным ремнем с медной пряжкой, на которой стояли три буквы: УГУ.
Пряжку ученики начищали мелом до ослепительного блеска и любили ходить нараспашку, чтобы лишний раз Щегольнуть перед приходскими своей формой. Правда, у многих из них форменные курточки и штаны были сшиты из такого грубого сукна, что ворсинки торчали из него, точно щетина. Но все-таки это была форма.
Санька Самарцев щеголял в ней уже целых два года. А теперь и Сережин черед пришел. Будут они ходить по улице одинаковые, и никто не догадается, кто из них приютский, а кто нет.
Хоть они и в разных классах, но все же можно встречаться на переменках, а после уроков возвращаться вместе из школы. Да еще домой можно будет иной раз забежать, благо бабушкин дом здесь же, на Полстоваловской.
Но все вышло по-иному. Как-то в воскресенье Саня встретил Сережу чем-то озабоченный.
— А у меня новость, — заявил он с важностью, — в УГУ я больше учиться не буду, а осенью поеду в Вятку, в реальное училище.
И он сказал Сереже, что ему больше не придется гулять с ним по воскресеньям, потому что он должен все лето заниматься, чтобы подготовиться в реальное. Если он выдержит экзамен, то будет называться «реалист» и станет носить форму не хуже, чем у студентов.
— А в реальном трудно учиться? — спросил Сережа.
— Еще бы не трудно! Одна геометрия чего стоит…
— А если уроки хорошо учить?
— Не знаю, — помотал головой Саня и, оглядевшись по сторонам, добавил таинственным голосом: — Завтра я к крамольникам пойду.
— Зачем?
— Они меня будут в реальное готовить. Они ведь ученые — студенты. За меня хлопотала библиотекарша — она их знакомая, а мать ей белье стирает.
— А меня возьмешь к ним? — спросил Сережа.
— Как-нибудь возьму, — пообещал Саня.
— Ты когда к ним пойдешь, так погляди хорошенько, как у них там все, — попросил Сережа.
— Ладно, — согласился Санька и стал считать по пальцам все предметы, по которым ему придется готовиться.
Санька загнул пять пальцев на одной руке и два на Другой.
— Закон, русский, арифметика, естествоведение, география и рисование да еще устный русский и письменный русский… Пропадешь!
— А сколько в УГУ уроков? — спросил Сережа.
— Тоже хватит, — сказал Санька и начал рассказывать про УГУ такие страсти, что Сережа не знал, верить или нет. По словам Сани, инспектор, Алексей Михайлович Костров, был злой, как лютый зверь: чуть что — он щипал ребят, бил их линейкой и таскал за волосы.
— А тебя драл? — спросил Сережа.
— Драл. Один раз за волосы, два раза линейкой.
— А если уроки хорошо готовить?
— Ну, тогда не так дерется, а все-таки попадает.
В следующее воскресенье Саня встретил Сергея на углу Буйской и Воскресенской.
— У крамольников был, — сказал Саня шепотом и так подмигнул глазом, что у Сережи захватило дух.
Мальчики побежали во двор и уселись на бревне под навесом сарая. Саня наклонился к Сереже и зашептал ему что-то на ухо.
— Ничего не слышу, говори громче, — рассердился Сережа.
Саня огляделся по сторонам и начал вполголоса рассказывать о крамольниках.
Сережа узнал, что самого главного крамольника зовут Дмитрий Спиридонович Мавромати; он-то и занимается с Саней.
Заниматься с крамольником не очень страшно. Дмитрий Спиридонович не дерется и не кричит, как инспектор Костров, только если неверно ответишь ему, он начинает постукивать по столу карандашиком. Сидит и стучит себе: тук, тук, тук. До тех пор стучать не перестанет, пока не поправишься или вовсе не замолчишь. А когда диктант пишешь, он не стоит над душой сзади, а ходит по комнате. И задачки все Дмитрий Спиридонович из головы выдумывает.
В задачнике задачки скучные: то про воду — сколько ведер воды из одного водоема в другой перелили, то про пешеходов — сколько верст они из одного города в другой прошли, а вот у крамольника задачки особенные. Первую задачу он выдумал про рыбу — сколько рыбы поймали рыбаки неводом и сколько денег за нее выручили. Всех рыб учитель по именам называл. Сколько плотвы, сколько щук, сколько окуней, сколько налимов. Вторая задача была еще лучше — про табун лошадей. Надо было сосчитать, сколько гнедых, пегих, вороных, серых, караковых, чалых, белых. Здорово интересно!
С виду Дмитрий Спиридонович на всех других крамольников похож: длинные волосы и очки носит, только очки безо всякого ободка, одни стеклышки на шнурочке.
— У нашей Юлии Константиновны очки тоже на черной веревочке, только в ободке, — сказал Сергей, а потом попросил Саню рассказать, что делают крамольники у себя дома.
— Книжки читают, а один крамольник себе рубашку зашивал, — ответил Саня и стал торопливо рассказывать, как после занятий новый учитель позвал его пить чай. Чай они пили с белыми баранками. Кроме Дмитрия Спиридоновича, было там еще три крамольника; один высокий, с кудрявыми волосами, второй бородатый — кажется, сердитый, а третий с завязанной шеей. Разливала чай женщина, тоже крамольница. Ее все называли «панна Мария». На ней была мужская косоворотка с белыми пуговицами, подпоясанная ремнем, а волосы были подстрижены и причесаны назад, как у Дмитрия Спиридоновича.
— А еще чего видел? — спросил Сергей.
Ему нечего было больше рассказывать.
— Все! — отрезал Санька
и замолчал.
По правде сказать, он был не слишком доволен крамольниками, он ожидал, что увидит что-нибудь особенное — не такое, как у всех уржумцев, а у них было все самое обыкновенное: и старый самовар с погнутой конфоркой, и чайные чашки с голубыми цветочками, и стеклянная пузатая сахарница. И сидят крамольники на обыкновенных табуретках, и спят на узких железных кроватях под стегаными ватными одеялами. А на окошках у них растут в горшках фикусы и дерево столетник, как у бабушки Маланьи.
— Врут про них, — сказал, помолчав, Саня.
— Кто?
— Да все уржумские. Говорят, что крамольники антихристы, ничего не боятся и что у них дома бомбы и пистолеты, чтобы царя убивать, а я ничего такого не видал.
— А зачем врут?
— Затем, чтобы народ стращать, — сказал Санька. Потом подумал и прибавил: — А кто их знает — может, и правду говорят? Может, они, крамольники, хитрые и нарочно все припрятали, когда я пришел. Кто их знает!
Глава XIV
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Осенью 1897 года Саню повезли в Вятку, в реальное училище, а Сережа начал учиться в УГУ.
В первый же день, придя в школу на молебен, Сережа увидел страшного и сердитого инспектора Кострова, о котором ему рассказывал Саня.
Молебен должен был начаться в девять часов в зале, во втором этаже. Зал был совершенно пуст. Только вдоль стен стояли стулья, а против двери красовался большой, во весь рост, портрет царя в золоченой раме. Справа и слева от царя висели картины безо всяких рам. На одной были нарисованы перистые ярко-зеленые деревья, а среди них распластался на земле тигр; на ветках деревьев сидели оранжевые обезьяны; из круглого синего озера высовывал зубастую пасть крокодил. Картина называлась: «Тропический лес».
Остальные картины были попроще: морское дно с крабами, медузами и звездами, северное сияние, сталактитовая пещера.
В ожидании молебна новички гурьбой ходили по коридору и заглядывали в зал и в классы. Нашлись даже такие смельчаки, которые подошли к дверям учительской и заглянули в замочную скважину. Разглядеть им, правда, ничего не удалось, так как скважину заслоняло что-то лиловое. Но зато они услышали, как в учительской разговаривают двое. Один как будто лаял хриплым, отрывистым голосом, другой покашливал и рокотал баском.
Сережа стоял вместе с другими в коридоре и смотрел, как двое новичков боролись около лестницы.
Вдруг тяжелая дверь учительской распахнулась настежь. Из комнаты, сгорбив спину, вышел быстрыми шагами высокий худой человек. Руки у него были заложены назад. Бледное, будто заспанное лицо с припухшими веками казалось сердитым. Густые его брови шевелились, точно две черных гусеницы.
— Директор, директор… — зашептали в коридоре.
— Вы где находитесь, а? — закричал директор и так посмотрел на мальчиков, что те попятились назад, а один из них споткнулся на ступеньке и чуть не полетел кубарем с лестницы.
— Немедленно в зал, на молебен! — лающим голосом скомандовал Костров.
Новички шарахнулись. Незнакомый учитель выстроил новичков парами и повел их в зал.
Седой длинноволосый старик священник в лиловой рясе начал служить молебен. Служил он долго, неторопливо, слова произносил невнятно, — Сережа слушал его, а сам не спускал глаз с оранжевого, белолапого тигра в тропическом лесу.
Прошел месяц.
Все новички теперь уже хорошо знали причуды каждого учителя, а сколько было учителей, столько было и причуд. Инспектор Верещагин, Гавриил Николаевич, больше всего заботился о том, чтобы ученики хорошо читали по-славянски. Он всегда ставил ученикам в пример дьякона из кладбищенской церкви, который ревел таким голосом, что пламя на церковных свечах дрожало, точно от ветра.
Если ученик читал неуверенно, запинался или тянул слова, Верещагин вырывал у него книгу из рук и, склонив голову набок, передразнивал.
— Бэ-э-э, бэ-э-э, — блеял он по-козлиному и тряс головой. — Ну что, хорошо? — спрашивал инспектор и сейчас же добавлял: — Вот так же и ты, дурак, яко овен, священное писание читаешь.
Старик священник был большой любитель рыбной ловли. Его часто видели на улицах Уржума в подоткнутом подряснике, с ведром и удочкой в руках. Он часто брал с собой учеников и очень завидовал, если улов у них был больше, чем у него.
— Ну, — говорил какой-нибудь неудачливый счастливец. — Сколько я вчера окуней наловил!.. Теперь батя наверняка двойку влепит, а то и кол.
Больше всех ребята любили учителя арифметики и русского языка Никифора Савельевича Морозова.
Толстый, розовый, он начисто брил голову, щеки и подбородок и оставлял только маленькие усики, словно приклеенные к верхней губе. Серые навыкате глаза его были всегда прищурены.
Зимой и летом Морозов носил белую полотняную рубаху, вышитую по подолу, по вороту и по краям рукавов васильками и ромашками.
Кто-то из жителей Уржума за вышитую рубашку прозвал его «малороссом», а за бритое лицо — «артистом».
Второе прозвище Никифору Савельевичу и в самом деле подходило, потому что в любительских спектаклях никто лучше его не играл комических ролей. Он даже иногда и женские роли играл: какую-нибудь сваху, монахиню, а то и купчиху.
Во время урока Никифор Савельевич расхаживал по классу, размахивал руками, прищелкивал пальцами и приподнимался на цыпочки.
А голос-то, голос какой у него был! Весной через открытое окно на всю Полстоваловскую улицу было слышно, как объясняет он арифметические правила у себя в классе.
В те удачные дни, когда ребята отвечали Никифору Савельевичу уроки без запинки, а в письменной работе делали мало ошибок, Никифор Савельевич ровно за пятнадцать минут до звонка таинственно подмигивал одним глазом и закрывал журнал — это означало, что урок окончен и что сейчас Никифор Савельевич вытащит из папки книжку в кожаном переплете с золотыми буквами на обложке и скажет:
— Ну, сегодня я вам, друзья, почитаю сочинения Николая Васильевича Гоголя.
Тогда в классе проносился радостный, приглушенный вздох, шарканье подошв и шепот. Ученики усаживались половчее и поудобнее. А через минуту шум и шарканье стихали, и в классе наступала мертвая тишина.
Никифор Савельевич, держа близко перед собой раскрытую книгу, начинал читать, а читал он замечательно. Особенно жадно слушали ребята повесть Гоголя «Вий». Они замирали, когда Никифор Савельевич читал страшное место о том, как гроб с ведьмой летал по церкви вокруг бурсака. Проходило пятнадцать минут, в коридоре трещал звонок на переменку, потом второй звонок к началу урока, а ребята не двигались с мест.
А ведь с каким нетерпением ждали они звонка на других уроках!
Учение в УГУ давалось Сереже легко. Скоро он сделался первым учеником и любимцем Морозова. Бывало, подойдет к нему Никифор Савельевич на уроке арифметики, заглянет в тетрадку через плечо и скажет:
— Покажи-ка, покажи. Это ты интересный способ придумал!
И усядется рядом с Сережей на парту. Ему приходилось садиться на самый кончик скамейки — толстый был очень и дальше пролезть не мог.
Сережа был одним из самых младших в классе. Рядом с ним сидели на партах рослые парни, чуть пониже инспектора Кострова. Парней этих звали Чемеков и Филиппов.
Чемеков был сын церковного старосты и сидел второй год в первом классе, а было ему четырнадцать лет.
Никифор Савельевич частенько говорил про Чемекова, что он ленивее осла и сонливее зимней мухи, а сам Чемеков хвастался, что его дома отец дерет каждую субботу за плохие отметки, а ему хоть бы что!
— Ну и пускай дерет, от ученья у меня голова болит, — говорил он, позевывая.
Друг и приятель Чемекова, Филиппов, тоже сидел второй год в первом классе. Большего щеголя во всем УГУ не было. Он носил ботинки с необычайно длинными утиными носками и только и делал, что чистил их то ладонью, то носовым платком, то промокашкой. Свои жидкие белесые волосы он мазал какой-то душистой помадой, которая пахла на весь класс.
Оба приятеля — щеголь и лентяй — так плохо учились, что раз во время классной диктовки в их письменных работах Никифор Савельевич насчитал ровно по тридцати восьми ошибок в каждой.
Дело в том, что приятели сидели на одной парте и всегда списывали друг у друга.
— Чем башку помадой мазать, лучше мозги бы, Филиппов, прочистил, — громогласно отчитывал его Морозов. — Борода ведь вырастет, когда городское окончишь!
Глава XV
САНЯ-РЕАЛИСТ
Саня приехал из Вятки на каникулы в жаркий июньский день. В длинном ватном пальто, в черной фуражке с желтым кантом и золоченым гербом реального училища, он важно и не спеша шел по Воскресенской улице. Ему было очень жарко, пот катил с него градом, но он и не собирался снять с себя ватное пальто.
Ему очень хотелось, чтобы все видели его новую форму, в которой он казался еще выше и еще тоньше, чем обычно. Но, как назло, смотреть на пего было некому. Сонные и пустые уржумские улицы изнывали от зноя. Нигде не было ни души. Только посредине дороги лежала старая лохматая собака с высунутым от жары языком. Собака посмотрела на него и лениво закрыла глаза.
Саня подошел к своему дому, толкнул калитку и вошел во двор. Посредине двора бабушка Маланья развешивала мокрое белье.
— Вы к кому, молодой человек? — закричала бабушка и, приставив руки к бровям, стала вглядываться в незнакомца.
— Это я, бабушка Маланья! Ты разве меня не узнала? — засмеялся Саня, очень польщенный, что его приняли за молодого человека.
— Саня? Ишь ты, как вытянулся! Старое старится, молодое растет. А это что же, форма у тебя такая? — кивнула бабушка на черное пальто и, подойдя к Сане, начала щупать материю. — Хорошее сукно. Почем набирали? — спросила бабушка.
Из дома выбежали Санина мать и сестры. Все окружили его, целовали, что-то спрашивали, перебивая друг друга. Мать, обняв сына за плечи, то плакала, то смеялась. Все были в сборе. Не хватало одного Сережи.
— Ну, как Серьга? Перешел во второй класс? — спросил Саня.
— Перешел. Его в школе хвалят — хорошо учится. Завтра придет, так наговоритесь досыта, — ответила бабушка.
— Не завтра, а послезавтра, — завтра небось суббота, а Сережа в воскресенье приходит, — вмешалась в разговор восьмилетняя Лиза.
— Наш пострел везде поспел, — засмеялась бабушка и слегка дернула Лизу за рыженькую косицу.
Через два дня товарищи встретились. Первое, что показал Саня Сергею, — это свою новую форму. Он надел ватное пальто с блестящими пуговицами и фуражку. Заложив одну руку в карман, а другую за борт пальто, он не спеша прошелся взад и вперед по двору. Сережа сидел на бревне и глядел на товарища.
— Ничего пальто, только очень длинное, ходить мешает.
— С непривычки мешает, а потом ничего, — сказал Саня и стал объяснять, что в реальном висит на стене в канцелярии приказ, где сказано, что от земли до края шинели должно быть не больше чем два с половиной вершка.
Саня снял шинель и остался в черных брюках и черной курточке, перехваченной кожаным ремнем с большой медной пряжкой.
— У нас на одну букву больше, чем у вас. У вас УГУ, а у нас АВРУ, — сказал Саня, поглаживая пряжку.
Сережа очень обиделся, что Саня все время говорил «у нас» и «у вас».
— А что такое АВРУ? — спросил он.
— Александровское вятское реальное училище, — отчеканил Санька.
— А почему Александровское?
— Потому что в честь Александра, царя. — И, помолчав, добавил: — Хочешь, примерь мою форму!
Сергей надел на себя пальто и фуражку. Фуражка оказалась ему мала, а пальто не сходилось в груди, хотя полы его волочились по земле, а из рукавов не было видно рук.
— Ты словно поп в рясе, — засмеялся Саня.
Сережа торопливо стал стаскивать тяжелое ватное пальто.
— Давай-ка лучше сбегаем к нам на училищный двор, — сказал он Сане. — Я тебе кое-что покажу.
— Чего я там не видел, — лениво ответил Санька, по все-таки пошел.
Придя на школьный двор, Сергей сел на землю и стал снимать сапоги.
— Это зачем?
Сережа улыбнулся и вместо ответа снял с себя куртку, а потом подвернул брюки выше колен.
Подбежав к трапеции, он ловко ухватился за перекладину лестницы. Перебирая руками перекладины одну за другой, он стал подтягиваться на вытянутых руках до самого верха. Тело его слегка раскачивалось из стороны в сторону.
— У нас на гимнастике только учитель так умеет. Он офицер, — сказал Саня.
— Это я за год наловчился! — крикнул Сережа сверху и, спрыгнув на землю, вытер руки о траву. — Сейчас будет фокус-покус номер два!
Он подбежал к толстому столбу рядом с лестницей и, обхватив столб ногами, быстро и ловко начал взбираться наверх. Очутившись на верхушке столба, он перепрыгнул на трапецию, которая была рядом, и принялся раскачиваться на руках. А под конец два раза перекувырнулся через голову.
— Обезьяна, настоящая обезьяна, — сказал Санька.
Обезьян он никогда в жизни не видел, но слышал, что обезьяны умеют ловко лазить по деревьям.
Когда Сергей показал Сане все свои фокусы, они уселись на траву и начали разговаривать.
Саня рассказал о своих новых школьных товарищах, об учителях и о самом городе Вятке.
По его словам выходило, что Вятка — это огромный город, немногим меньше Петербурга. Дома там все каменные и есть даже трехэтажные. В городском саду с утра до вечера играет оркестр военной духовой музыки. А в соборе служит сам архиерей.
Сережа лежал на траве и, подперев голову руками, жадно слушал товарища.
На самом деле Вятка была захолустным провинциальным городком, где улицы освещались так же, как и в Уржуме, керосиновыми фонарями. Осенью и весной из-за непролазной грязи нельзя было отличить мостовую от панели. Одним только способом и можно было пробираться в это время по городу: прижимаясь к домам и хватаясь руками то за стены, то за окопные наличники.
— А еще в Вятке крамольники живут, как у нас в Уржуме, — сказал напоследок Саня.
Это была правда. В Вятку начали высылать политических ссыльных еще раньше, чем в Уржум.
Саня наконец замолчал.
Теперь была Сережина очередь рассказывать товарищу новости. Сережа призадумался.
Чем удивишь Саньку — ведь он и сам уржумский, сам учился в УГУ!
Приятели посидели на скамейке еще немного и пошли обратно на Полстоваловскую.
Дома Саня начал показывать Сереже свои учебники, которые он привез из Вятки.
— А это по-какому? — спросил Сергей, раскрывая одну из книжек.
— Это по-немецки.
— Ты умеешь разве?
— Умею. И читать и писать.
— А говорить?
— Тоже. Только не очень много.
— Ну, а скажи, как по-немецки будет стол?
— Дер тыш.
— А стул?
— Дер штуль.
— А коза? — спросил Сережа, увидев за окном на дворе старую Шимку.
— Мы козы еще не проходили!
— Я тоже хочу учиться по-немецки, — сказал Сергей и снова стал перелистывать немецкую книжку.
— В Уржуме немецких учителей нет, они только в Вятке живут.
— Ну и что же? Вот кончу УГУ и тоже в Вятку поеду учиться, — ответил Сергей.
Саня усмехнулся, но не стал с ним спорить.
Когда на другой день Сережа после обеда прибежал из приюта к бабке во двор, Санька был уже не вятский, а прежний — уржумский.
Шинель, фуражку с гербом, штаны, куртку и даже ремень — все отняла и спрятала в сундук мать, чтобы Санька зря не трепал формы.
Санька стоял во дворе в полукоротких штанах и в прошлогодней рубахе с полукороткими рукавами и мыл в кадке под капелью грязные босые ноги.
— Пойдем на мельницу за окунями, — позвал Сережа Саньку.
Санька сбегал в сени за ведром и удочками, и товарищи отправились по знакомой дороге к мельнице. Сначала шли нога за ногу, загребая и поднимая столбы пыли по дороге, а потом вздумали бежать наперегонки. Так припустились, что только пустое ведро брякало да удочки за плечами тряслись.
— А ты в Вятке рыбу ловить ходил? — спросил Сережа, когда они уселись на отлогом берегу пруда, около мельницы.
— Ходил, — нехотя ответил Санька и забросил удочку.
— А в Вятке какая рыба водится?
— Да ну тебя с этой Вяткой! Рыба как рыба… У нас в Уржумке окуни, пожалуй, пожирней будут.
И Сережа понял, что Санька хоть и расхваливал Вятку, но по душе ему больше Уржум.
До самого конца июля Санька ни разу не заикнулся больше о Вятке и не вспоминал о своем АВРУ. Только за неделю до отъезда, когда мать вытащила из сундука его форму, он вдруг сказал:
— Эх, кончилось леточко! Скоро мне опять придется в Вятку ехать.
Глава XVI
ВТОРОКЛАССНИК
Саня опять уехал в свою Вятку, в АВРУ, а Сережа остался у себя в Уржуме, на Воскресенской, в «Доме призрения».
Через неделю, шестнадцатого августа, должны были начаться в УГУ занятия.
Все говорили, что во втором классе учиться будет потруднее. Прибавят еще один урок — географию, и занятия будут кончаться на час позже.
А по русскому станут задавать не пересказы, как в первом классе, а сочинения. Это значит — надо будет «сочинять», все придется выдумывать самому из головы. И все-таки Сережа шел в класс веселый. Для приютских школа была не то, что для городских. Здесь они иной раз забывали, что они «приютские».
В классе Сережа опять занял вторую парту около окна.
Первый урок был русский. Начался он как обычно: Никифор Савельевич вошел в класс точно так же, как входил в прошлом году.
Левой рукой он прижимал к груди толстую папку, а правой рукой быстро размахивал.
Только рубашка у него была новая — не белая, а суровая и вышитая не васильками и ромашками, а маками.
Еще ребята заметили, что Никифор Савельевич за лето очень загорел — даже его наголо бритая, словно лысая, голова стала коричневой.
— Ну, друзья, нагулялись, отдохнули? — спросил Никифор Савельевич, отдуваясь, и сам же ответил: — Нагулялись, отдохнули. А теперь будем учиться! Напишите-ка, друзья, сегодня для начала классное сочинение.
Все переглянулись.
— На тему «Наш двор», — громко сказал Никифор Савельевич и уселся за стол.
Ну, это дело не такое уж трудное — написать про школьный двор. Пожалуй, это даже легче, чем пересказ; там запомнить надо, что после чего, а здесь гляди себе в окно и пиши.
Так и начинать сразу можно: «Наш двор не очень большой. В правом углу нашего школьного двора стоит сарай с дровами, а напротив сарая стоят «гиганты» и рядом трапеция…» — и так дальше, все по порядку.
Но хоть сочинение о школьном дворе показалось всем очень легким, писали его ребята долго.
А Сережа, который всегда подавал пересказы первым, подал Никифору Савельевичу в этот день работу перед самым звонком, вместе с Филипповым. Никифор Савельевич сложил в стопку голубые тетрадки с сочинениями и взял их с собой домой. К завтрашнему утру он обещал проверить и принести тетрадки.
— Лучшее из ваших сочинений, друзья, я прочитаю вам вслух, — сказал Морозов, выходя из класса.
Наутро Никифор Савельевич вошел в класс и сразу же сказал:
— Послушаем сочинение Кострикова Сергея «Наш двор».
И, раскрыв верхнюю тетрадку, он начал читать так же громко и раздельно, как читал «Вия».
Сочинение удивило весь класс. В нем говорилось, что на школьном дворе под высокими деревьями растет трава и очень много цветов, что площадка посыпана песком. Трапеции, скамейки, «гиганты» выкрашены зеленой масляной краской, а посреди двора стоят новые, высокие качели с толстыми канатами. Зато про старый сарай и про дрова в сочинении не было ни слова.
Не успел Никифор Савельевич дочитать это сочинение, как школьники, словно по команде, уставились в окна. За окнами был маленький пыльный двор, чахлые пожелтевшие тополя и старые «гиганты», на которых ветер раскачивал полусгнившую веревку, завязанную узлами.
— Все наврал, — пробубнил Чемеков. — Ничего этого у нас нет — пи скамеек, ни качелей.
— А может, будут! — тихо ответил Костриков.
— Будут! — Кто-то из ребят на последней парте фыркнул.
— Хорошее сочинение, — сказал Морозов. — Толково написано!
Смех сразу же смолк.
После уроков Морозов подозвал к себе Сережу.
— Ты книжки читать любишь? — спросил он.
— Когда интересные, люблю.
— А что же ты читал?
Сережа назвал три книги, которые ему очень понравились. Он их брал в школьной библиотеке. Книги эти были: Аксакова «Детские годы Багрова-внука», Лажечникова «Ледяной дом» и Дефо «Робинзон Крузо».
— Вот что, брат, забеги ко мне завтра после уроков, я тебе одну хорошую книжицу дам, — пообещал Никифор Савельевич.
Сережа обрадовался. В школьной библиотеке он перебрал все книги. Уже читать было нечего.
В городе было четыре библиотеки. На Воскресенской — три: городская, земская и частная. И одна библиотека-читальня — на Казанской улице. Но все четыре библиотеки были для взрослых. Детей туда не очень-то пускали. Только в библиотеку-читальню на Казанской ребята иногда заглядывали.
Старушка библиотекарша позволяла иной раз двум-трем ребятам посидеть в уголку и посмотреть картинки (книги в читальне на дом не выдавались, их можно было читать и разглядывать только на месте, в библиотеке).
Давала библиотекарша ребятам свободные книжки, то есть такие, которых никто не брал. Хоть не так уже много народу приходило сюда, но ребятам редко удавалось дочитать до конца интересную книжку. Придешь, бывало, в читальню на другой день, а ее, как назло, читает какой-нибудь дяденька или тетенька.
Перед тем как дать книгу, старушка библиотекарша просила ребят показать ей руки. Если руки были грязные, книга не выдавалась. Старушка была хоть и добрая, по строгая. Она ни за что не позволяла нескольким мальчикам садиться рядом за один стол, а рассаживала их по разным концам зала, чтобы не шумели и не перешептывались.
Чаще всего Сережа брал у старушки «Ниву» за целый год или другой журнал — «Природа и люди».
В журналах были картинки и маленькие рассказы и статейки, которые он успевал прочитать за те полчаса или час, когда забегал сюда между школой и приютом.
В журнале «Нива» было много картинок, разные попадались. Иногда интересные, например «Крепость в горах» или «Охота на бенгальского тигра». А то скучные — всякие боярышни за пяльцами да продавщицы цветов.
Другое дело — в журнале «Природа и люди». Там что ни страница, то глаз не оторвешь.
На одной картинке изображено «Извержение вулкана». Страшная картина. Черный дым валит из кратера, и огонь выбивается из него языками. По склонам огнедышащей горы катятся огромные камни, и падают вниз вырванные с корнями деревья. А под горой бегут, спасаясь от потоков лавы, женщины и мужчины с детьми на руках.
Но особенно долго просиживал Сережа над картинкой «Кораблекрушение».
Трехмачтовый корабль накренился набок. Вода захлестывает и заливает палубы и каюты.
А рядом с погибающим кораблем на гребнях огромных волн колышутся две шлюпки с пассажирами и матросами. Люди растрепаны, полуодеты, — видно, кораблекрушение случилось среди ночи. На их лицах страх и отчаяние.
Только один человек не ищет спасения. Он спокоен. Это капитан корабля. Смелый и решительный, он стоит с подзорной трубой в руках на покосившемся мостике и отдает последнюю команду… Из подписи к этой картинке Сережа узнал, что капитан должен последним сойти с гибнущего корабля. Таков морской закон.
В условленный день Сережа получил от Никифора Савельевича обещанную книжицу. Называлась она «Дети капитана Гранта», сочинение Жюля Верна.
Кто знает, может быть, этот капитан Грант видал на своем веку не меньше опасностей, чем капитан с картинки? Скорей бы узнать, что это за капитан и какие у него дети!
Вечером в приюте Сережа долго сидел за длинным дощатым столом и читал Жюля Верна. Читал, пока не погасили лампу, но и в темноте он все еще представлял себе море, яхту и острова с дикарями.
Утром Сережа захватил с собой «Детей капитана Гранта» в училище. Может быть, удастся хоть на переменах почитать еще немного.
Сереже повезло. Первый урок в этот день был закон божий, и старик поп рассказывал новую притчу о блудном сыне.
Поп сидел за своим столом, а не разгуливал, как обычно, между партами по всему классу. Сережа потихоньку вытащил из-под парты книжку и читал ее весь урок до звонка. На перемене он тоже не выпускал книгу из рук. Сидел на подоконнике в углу зала и перелистывал страницу за страницей.
Его окружили ребята.
— Интересно, Костриков? — спросил один из парней, заглядывая через плечо в книгу.
Названия на обложке нельзя было прочитать, потому что Сережа, боясь испачкать переплет, обернул книгу в синюю плотную бумагу из-под сахара, которую дала ему приютская кухарка Дарья.
— Еще как интересно-то! — сказал Сережа. — Не оторвешься.
Тут ребята обступили его еще теснее и заставили подробно рассказать все четыре главы, которые он успел прочесть.
— Теперь он из-за этой книжки задачки будет худо решать! — сказал Чемеков, когда после звонка все пошли в класс.
Но никакой беды с Сережей из-за «Детей капитана Гранта» не приключилось.
Ученье шло у него своим чередом.
Как-то во время перемены в класс вошел Никифор Савельевич и увидел, что рядом с Костриковым на парте сидит верзила Филиппов. Оба сидят красные, хмурые. Не то поссорились, не то подрались — не поймешь!
У Филиппова даже припомаженный кок растрепан и взъерошен.
Сергей рядом с Филипповым малышом кажется — макушка его достает только до второй пуговицы на куртке Филиппова. Морозов остановился в дверях и стал прислушиваться к тому, о чем они говорят.
Говорил, в сущности, один только Сережа, а Филиппов, отвернувшись к окну, молчал и тер кулаком красные глаза.
— А потом сложишь, — долбил Сережа в самое ухо Филиппову, — это как раз и будет, сколько верст пешеходы прошли вместе, а потом вычтешь. Получишь, на сколько один прошел меньше другого, а потом…
— …А потом во время переменки из класса выходить надо, — сказал Никифор Савельевич, подходя к самой парте.
Оба от неожиданности даже вздрогнули.
— Почему в классе сидите?
Филиппов и Сергей ничего не ответили.
— Почему, спрашиваю, в
классе сидите?..
— Да я тут с Костриковым задачу решаю, — пробормотал Филиппов.
— А почему у тебя глаза на мокром месте? Чего ревел, я спрашиваю.
— Это просто так! — буркнул Филиппов.
— Как это просто так?
— Да он меня в коридор не пускает. За ремень под партой держит. Пока задачку не решу.
Еле сдерживая смех, Никифор Савельевич вышел из класса.
Сережа Костриков был его любимый ученик. В те дни, когда ребята делали в диктовке много ошибок и Никифор Савельевич, хлопая дверью, уходил с пол-урока, весь класс обступал Сергея.
— Костриков, иди попроси Никифора Савельевича. Он для тебя будет…
Что «будет», ученики не договаривали, но Сергей сам понимал, в чем дело. Он бежал в учительскую, и обычно через несколько минут Никифор Савельевич возвращался в класс.
Прищурив глаза, заложив руки назад, учитель вприпрыжку принимался ходить по классу. Потом останавливался посредине и, подняв кверху указательный палец, говорил школьникам:
— Хотел я вам почитать одну интересную книжку, но теперь раздумал и читать не буду. Не буду! Урок плохо приготовили. Недоволен я вами, друзья! Недоволен!
После этих слов Никифор Савельевич снова направлялся к дверям. Ученики вскакивали с парт и бросались за Морозовым.
— Простите, Никифор Савельевич, мы больше не будем. Почитайте нам что-нибудь, простите нас! — кричали ребята.
— Ну уж так и быть! Сегодня я почитаю. Но не лентяям читать буду, а тем, у кого головы на плечах. Голова, друзья, для того дана, чтобы ею думать, а не для того, чтобы на ней вихры помадить!
Все ученики при этих словах Никифора Савельевича обязательно поворачивались и смотрели на Филиппова.
Глава XVII
СПЕКТАКЛЬ
Шел второй год Сережиного ученья в УГУ и пятый год его жизни в приюте, когда случилось событие, которое сильно взволновало всех ребят. Для приюта построили новый дом. Деньги на постройку пожертвовали уржумские купцы, которых отец Константин называл «благодетелями».
Старый приют был настолько плох, что давно уже боялись, как бы он не рухнул и не придавил всех воспитанников.
Новый деревянный дом выстроили здесь же, во дворе, в двух шагах от старого. Давно уже в приюте не было такого волнения, как в день новоселья.
— Что там ни говори, а все-таки новый дом. II жизнь в нем, верно, будет тоже новая, не такая, как прежде.
Но дом оказался ничуть не лучше старого.
Комнаты были так же малы, спальни так же тесно набиты койками. Уборная, как и в старом доме, помещалась в холодных и темных сенях; рядом с кухней, на стоне, висели всё те же, давно знакомые, рукомойники. А в коридоре уже на другой день после переезда запахло мочалкой и жареным луком.
Только тем и отличался новый дом от старого, что бревенчатые стены, еще не успев потемнеть, пахли лесом, и на них выступали капли смолы, когда печки бывали жарко натоплены.
Новый приютский дом пришел осмотреть сам председатель совета Уржумского благотворительного общества Польнер. Это был пожилой человек в очках и в длинном черном сюртуке. Ходил он, слегка сутулясь, заложив левую руку за спину, мягко и осторожно ступая, словно шел по льду.
Приютским он не сказал пи слова, может быть, он их даже не заметил. Низко опустив голову, обошел он дом и так же неслышно исчез, как и появился. Приютская кухарка Дарья сказала, что он человек непьющий, скромный, как девушка, и уж теперь-то, после его прихода, для приютских начнется житье.
Но надежды на Польнера и на новую жизнь не сбылись. Все шло по-прежнему, так же скучно и однообразно, как раньше. Так же по утрам приходила будить ребят Дарья, так же по пятницам и средам ели они липкую кулагу и гороховый кисель с постным маслом, так же наказывали их за всякие провинности — ставили столбом посредине столовой, и так же после ужина сразу гасили лампу. Это для Сережи было обиднее всего: нельзя было читать книги.
А книги Никифор Савельевич давал замечательные — и Гоголя, и Тургенева, и стихи Некрасова.
Рано утром, как только начинало светать, Сережа поднимался с кровати и, завернувшись в одеяло, усаживался на окно. За окном было темно, и звезды еще не все успевали погаснуть в ночном небе. Понемногу рассветало, а Сережа сидел на холодном подоконнике, с трудом разбирая слова.
— Сидит, как домовой, на окошке, людей только пугает! Вот погоди, скажу Юлии Константиновне, что сам не спишь и другим не даешь, — ворчал и грозился проснувшийся Пашка.
В ту же зиму, под Новый год, Юлия Константиновна решила устроить спектакль, в котором участвовали бы сами ребята. Пьесу выбрала она грустную, под названием «Сиротка». Говорилось в этой пьесе про девочку, у которой померли родители. Сиротке очень плохо жилось до тех пор, пока ее не взял к себе на воспитание добрый старик лесник. Но как только лесник взял ее к себе, пьеса и кончилась.
Всем ребятам очень хотелось играть в пьесе. Роль сиротки досталась Наташе Козловой, и все девочки ей завидовали. Маленькая, бледная Наташа славилась на весь приют своим голосом. Ей дали главную роль потому, что сиротке полагалось по пьесе много петь. Играть лесника досталось Пашке. Это были самые интересные роли.
К спектаклю готовились долго. Репетиции устраивали в канцелярии, за плотно закрытой дверью. Все, кто не участвовали в спектакле, изнывали от любопытства, бегали подслушивать и подсматривать в замочную скважину. Репетировали пьесу по два, а то и по три раза в день. Ребята с непривычки уставали и путали слова. На одной из репетиций двое «артистов» горько расплакались и не захотели читать в третий раз свою роль.
Юлия Константиновна рассердилась. После репетиции она приказала упрямым «артистам» пойти в столовую и стать на колени. Теперь уже «артисты» стали завидовать тем, кто не участвовал в спектакле.
Три недели готовили пьесу — репетировали ее и рисовали декорацию: большущую русскую печь с заслонкой, похожей издали на огромную черную заплату, и стену с дверью, которая не открывалась.
И вот наконец пришел Новый год, а с ним и тревожный день спектакля. «Артисты» с утра так волновались, что за завтраком даже не прикоснулись к жареной картошке, самому любимому блюду приютских. Наташа Козлова то и дело бегала в коридор и пила из кадки ледяную воду. От страха ее бросало то в жар, то в холод. К полудню она охрипла.
Юлия Константиновна сперва разбранила ее, а затем заставила выпить несколько сырых яиц.
Рыжий Пашка все утро ходил по коридору и зубрил по бумажке роль.
— «Милая моя, кроткая сиротка, — читал он, вытягивая шею. — Теперь уж ты не будешь одна-одинешенька на белом свете. Ты станешь жить со мной в моем тихом лесном домике и покоить мою старость…»
Пока Пашка долбил роль, у Сережи было дела по горло.
Юлия Константиновна поручила ему повесить занавес. Задача эта не такая уж мудреная — вбей два гвоздя в стенку и протяни веревку между гвоздями, а потом вешай на веревку занавес из трех сшитых одеял.
Да вот беда: самого главного у Сережи под рукой не оказалось. Были гвозди, да ржавые и погнутые — в стенку никак не лезли, и веревка тоже негодная — гнилая. Как на такую веревку занавес повесишь, так он сразу и оборвется.
Пошел Сережа по двору искать, нет ли где гвоздика.
И вдруг в углу сарая отыскал он целый ящик гвоздей. Гвозди хорошие, только самую малость ржавчиной тронуты. Там же, в сарае, под ломаными санями нашел Сережа и веревку, недержаную, новую, добротную. Дарья как только ее увидела, так сразу на нее польстилась.
— После представления белье на ней буду вешать.
К вечеру все в приюте сбились с ног. Мальчики перетаскивали из столовой в залу длинные скамейки, девочки торопливо дошивали занавес из одеял, а Сережа Костриков с дворником Палладием и Васькой Новогодовым устанавливали декорации.
Наконец часов в шесть начали собираться гости.
Первым пришел один из попечителей приюта, купец Харламов, высокий толстый человек в сюртуке, с медалью на груди. С ним рядом шла, подпрыгивая на каждом шагу и вертя во все стороны маленькой остроносой головкой, сухопарая женщина в атласном платье. Потом пришел сутулый рыжий доктор, у которого были такие волосатые руки, что издали казалось, будто он в шерстяных рыжих перчатках. Затем явились две старушки в кружевных накидках. Старушки привели с собой внуков — белокурую толстенькую девочку с красными бантами в косичках и мальчика в синем бархатном костюме и белом пикейном воротничке. Дети, никого не боясь, принялись хохотать, бегать по коридору и ловить друг друга.
Гостей рассадили в первом и втором рядах, на стульях. Приютские устроились сзади, на высоких скамейках. Занавес долго не поднимался. Из-за кулис слышался чей-то громкий шепот и шарканье ног. Там все «артисты» столпились вокруг Пашки, которому Юлия Константиновна привязывала бороду из мочалки. Пашка оттягивал бороду вниз, хныкал и божился, что борода мешает ему говорить и даже дышать, потому что тесемки, на которых она держится, слишком туго стягивают ему щеки.
Наконец прозвонил колокольчик, тот самый колокольчик, который всегда собирал ребят на обед. И вот занавес, сшитый из одеял, испещренный по краям круглыми приютскими печатями, медленно пополз в сторону. Приютские, затаив дыхание и вытянув шеи, уставились на сцену.
Между картонной печкой и картонной стеной у настоящего окна сидела, подперев голову рукой, сиротка в красном сарафане. Она смотрела в окошко. Посидев с минуту, сиротка вздохнула два раза, так, как ее учили на репетиции, и, сложив руки на груди калачиком, запела дрожащим, тоненьким голоском:
Трудно в свете жить сиротинушке
Без родимого отца-батюшки,
Без родимой своей матушки,
Без сестер и братьев,
Сиротке круглому.
Приютские слушали раскрыв рты. Две девочки, которые сидели обнявшись на крайней скамейке, украдкой всхлипнули.
На сцене появилась Катя Столярова, которая представляла злую соседку. Она была в повойнике, и под платье у нее была подсунута подушка, которую она придерживала обеими руками на животе, боясь, чтобы подушка не упала.
— Катька-то, Катька!.. — зафыркали приютские.
Злая соседка надавала сиротке оплеух и велела ей нарубить три вязанки дров и натаскать с речки шесть ведер воды. Сиротка вытерла фартуком слезы и запела песню еще грустнее, чем первая. Под конец пьесы из-за правой кулисы на сцену вышел лесник — Пашка. На нем было зимнее приютское пальто и меховая шапка-ушанка дворника Палладия. За спиной у Пашки висело игрушечное ружье.
На Пашку нельзя было глядеть без смеха. На груди у него веером лежала желтая мочальная борода, а на верхней губе были густо выведены углем лихо закрученные усы.
— Здравствуй, сиротка, — сказал лесник, поворачиваясь к публике спиной.
Видно было, что он боится посмотреть на зрителей.
— На публику гляди, на публику, — шептала из-за кулис Юлия Константиновна, да так громко, что слышно было в последнем ряду.
Не слышал ее один только Пашка.
Сережа, который стоял у занавеса, видел, что у Пашки от страха так дрожат руки, словно он только что притащил со двора полное ведро воды.
Но понемногу Пашка успокоился и вошел в роль. Он говорил все громче и громче и все сильнее размахивал руками. Ему было жарко в тяжелом ватном пальто. Он снял шапку и почесал затылок. Все увидели, что на Пашкиной голове торчат, наподобие заячьих ушей, концы красных завязок от мочальной бороды. Зрители засмеялись.
— Занавес, занавес! — зашипела Юлия Константиновна.
Сергей, топая сапогами, пробежал через сцену и задернул занавес.
— Ну зачем ты, дурень, шапку снял? Всю пьесу испортил, — отчитывала Юлия Константиновна за кулисами Пашку.
— Вспотел больно, — оправдывался «лесник».
После спектакля дамы-попечительницы подошли к столпившимся приютским.
— Как тебя зовут, мальчик? — спросила Сергея сухопарая дама в атласном платье.
— Сергей.
Дама погладила Сергея по голове.
— Ах, какие у тебя жесткие волосы! — сказала дама. — Ты, наверно, злой?
— Злой, — хмуро ответил Сергей и повернулся к окошку.
— Боже мой, какой дикарь! — вздохнула дама и покачала головой.
В ночь после спектакля многие из приютских долго не могли заснуть. Все вспоминали Катю Столярову с подушками на животе и «лесника» Пашку. Сам Пашка ворочался с боку на бок, натягивая на голову одеяло. Сергей, который спал рядом, услышал, что Пашка что-то бормочет. Он прислушался.
— Да ну их совсем с их спектаклем! — бормотал Пашка.
— А у тебя, Паша, хорошо получилось, — сказал Сергей. — Вот только зачем ты шапку…
Но Пашка не дал ему договорить и лягнул его ногой.
Глава XVIII
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК?
Перед самым концом учебного года поп вдруг вздумал определить Сергея в церковный хор.
Во время большой перемены он подошел к Сергею, который сидел на подоконнике и читал какую-то интересную книгу.
— Ты только светские песни поешь или и церковные напевы знаешь? — спросил поп.
Сергей не знал, что ему ответить.
— Голос у тебя нужный — тенор. Я вчера слышал, как ты на берегу вечером песни пел. Чистый голос… С завтрашнего дня станешь в церковном хоре петь.
И Сереже пришлось петь в церковном хоре, в острожной церкви.
Пело там двадцать человек: девять приютских да одиннадцать городских. Пели по субботам за всенощной и утром в воскресенье — обедню. Петь на клиросе было стоящее дело. Во-первых, певчие получали по тридцати копеек в месяц; во-вторых, после службы можно было набрать целую кучу свечных огарков и накатать из них твердых восковых шариков, которыми очень удобно перебрасываться, и еще воском хорошо было заливать бабки, когда под рукой не было олова.
Одно только было плохо — за каждую ошибку регент бил камертоном по голове.
Сергей любил разглядывать во время службы прихожан. Он давно уже заметил, что люди побогаче и понаряднее стояли в церкви впереди. За ними шли люди попроще, а нищие в лохмотьях теснились в дверях, в уголках, а то и на паперти. С правой и с левой стороны около амвона красовались два кресла, обитые зеленым плюшем, и перед креслами по полу были разостланы пестрые коврики.
Сергей видел, как в воскресенье за обедней и за всенощной эти места неизменно занимали одни и те же люди: два уржумских купца с женами и детьми. Когда поп выносил крест, купцы всегда прикладывались первыми, а за ними выстраивались гуськом остальные прихожане.
«Почему это так? — раздумывал Сергей. — Нарочно так делают или нечаянно получается?»
Как-то раз утром перед началом обедни на купеческий коврик встал подслеповатый старик — видимо, николаевский солдат — в военной фуражке с полинявшим верхом и с сучковатой палкой в руке. К нему сейчас же подошел церковный староста и что-то сказал. Старик заторопился и сошел с ковра.
Сергей, который все это видел, при случае спросил у церковного старосты Чемекова, в чем тут дело.
— У каждого в жизни свое место имеется, малец! Мертвые и те на кладбище по порядку положены. Кто поважнее да побогаче — к церкви поближе, а бедные могут и подальше лежать, у изгороди. Ну, а здесь как-никак живые люди, понимать надо! — ответил церковный староста.
Из этого ответа Сергей так ничего и не понял и решил спросить об этом как-нибудь на уроке закона божия у батюшки. Ведь он сам говорил ученикам, что церковь — дом господень и что перед царем небесным все люди равны!
Равны, равны, а одни небось в креслах сидят, а другие на паперти топчутся!..
Сергей непременно спросил бы об этом у батюшки, да раздумал после того, как поп поставил на колени одного парня за любопытство. Парень этот задал на уроке вопрос: «Какой царь главнее — земной или небесный?»
Но Сережа не успокоился. Он решил спросить о том же бабушку Маланью. Она в церковь ходит и, наверное, все церковные порядки знает.
Но, видно, Сережа выбрал неподходящее время для расспросов: бабушка мыла пол и поэтому ответила сердито и почти так же непонятно, как и церковный староста:
— Бедным в жизни нужда да маета, а богатым почет да красота… Ты старайся, Сережа, учись! Может, тоже в люди выйдешь!..
Глава XIX
УРЖУМСКОЕ НАЧАЛЬСТВО
В тот год, когда Сережа кончил УГУ, избили полицейского надзирателя по прозвищу Дергач.
Его нашли на земле, полумертвого от страха, в Солдатском лесу, в двух верстах от Уржума, неподалеку от проселочной дороги.
Избит он был здорово, — видно, кто-то не пожалел кулаков для надзирателя.
С утра до поздней ночи уржумцы передавали друг другу последнюю новость:
— Слышали, Дергача поколотили?
Купцы с Воскресенской улицы только руками разводили.
— Да что же это за история?.. Самого надзирателя!.. Это не к добру. Чего же дальше ждать, ежели такое началось?
На Полстоваловской в маленьком пятиоконном домике Костриковых тоже обсуждался этот случай.
Кривой старичок, ночной караульщик Владимир Иванович, угощал бабку Маланью крепким нюхательным табаком и рассуждал:
— Вот какие дела! На базаре говорят, что это все политики действуют. Это они с Дергачом рассчитались. Больно лют он до ихнего брата!
— Нет, не политики, — качала головой бабка. — Политики кулаками драться не станут! Это его воры да зимогоры так разукрасили!
— За чем пойдешь, то и найдешь, — поддакивала Устинья Степановна Самарцева. — Зловредный человек этот Дергач. Свечку пусть своему угоднику поставит, что его до смерти не забили. Дождется еще, василиск кровожадный!
Сережа слушал эти разговоры, но молчал. Он думал: «Не все ли равно, кто избил, — политики или зимогоры? Раз он полицейская селедка, так ему и надо!»
Хоть никто в городе открыто полицейских не ругал, разве только пьяные у казёнки, по ребята сами знали им цену.
Летом школьники частенько увязывались следом за партией арестантов, которых полицейские гоняли за город на починку моста и проселочной дороги.
От ребят ничто не укроется. Они не раз слышали, как осипший полицейский надзиратель орал на острожных, обзывая их каторжниками, аспидами и душегубами. От уржумского острога до Солдатского леса всю дорогу не смолкала брань. А когда, наконец, острожники приходили на место работы, Дергач по-хозяйски расхаживал между ними и подбадривал их криком:
— Шевелитесь, черти!.. Заснули, аспиды!..
В ответ молодые арестанты огрызались, а люди постарше только хмурились и поглубже врезались лопатами в землю.
Как-то раз один старик острожник не то от жары, не то от усталости присел на край канавы и задремал. Заступ его валялся тут же рядом. Ни слова не говоря, Дергач поднял заступ и ударил старика по голове. Да как ударил! Старик только охнул и схватился руками за окровавленный затылок. И тут, видно, кончилось у острожных терпение. Они бросились на Дергача со всех сторон с заступами, кирками и ломами.
Несдобровать бы Дергачу, если бы не конвоиры с винтовками.
А то еще был такой случай. В острожной церкви учительница из села Антонкова во время всенощной подошла близко к деревянной решетке. По приказу тюремного начальства здесь выстаивали службу арестанты — и уголовные и политические, все вместе.
Не успела учительница оглянуться, как за ее спиной, словно из-под земли, вырос Дергач.
— Пошла прочь! — гаркнул он чуть не на всю церковь.
Прихожане и арестанты оглянулись, а церковный староста перестал считать свечи у свечного ящика и даже перекрестился.
Испуганная учительница отошла от решетки, а Дергач, выпятив грудь, стал рядом с ней, точно конвойный, да так и простоял до конца всенощной.
Через два дня учительницу вызвали в полицейское управление на допрос.
Дергач божился, что он своими глазами видел, как «учительша» пыталась просунуть сквозь решетку записку политическим. И просунула бы, подлая, если бы он, Дергач, ей не помешал.
Антонковскую учительницу в Уржуме хорошо знали. Она была еще молодая, и все помнили, как она кончала гимназию на Воскресенской. И потому, когда ее после допроса перевели в другую школу, почти за сто верст от Уржума, все ее очень жалели.
Через несколько дней после отъезда учительницы Дергач возвращался из бани, распаренный и благодушный, с веником и бельем под мышкой, и вдруг кто-то высыпал на него из-за забора целую кучу мусора, картофельной шелухи и золы.
Дергач кинулся во двор искать виновников, но их и след простыл.
Виновники задворками пробрались в конец улицы и скрылись за калиткой «Дома призрения».
Это были приютские мальчики, и один из них — ученик четвертого класса Уржумского городского училища Сережа Костриков.
Бабка Маланья Авдеевна об этом так никогда и не узнала. А если бы узнала, так померла бы со страха — так она боялась начальства. Когда к ней приходил полицейский надзиратель требовать уплаты штрафа за то, что коза Шимка общипала деревья на улице, или за какое-нибудь другое нарушение порядка, бабушка услужливо пододвигала полицейскому табуретку и смахивала с нее краем фартука пыль. Потом, кряхтя и вздыхая, открывала свой зеленый сундучок и вытаскивала с самого дна какой-то маленький, туго стянутый узелочек. Отвернувшись от полицейского, она быстро, дрожащими руками развязывала узелок и доставала из него бережно припрятанные медяки.
— Господи Иисусе, Никола-угодник, Мария египетская, — шептала бабка, пересчитывая копейки.
Надзиратель, получив деньги, еще долго сидел после этого на табуретке и зевал, чесал затылок, а потом вдруг, если бабка все еще не догадывалась, чего он хочет, ни с того ни с сего начинал жаловаться на свою горькую жизнь. Бабка уже понимала, что власть надо «угостить». Без этого не уйдет. Она доставала из шкафа рюмку на короткой ножке, похожую на лампадку, и низенький графинчик с настойкой.
Вытирая после настойки усы, надзиратель начинал разъяснять бабке, что горькая жизнь у него из-за студентов. А студенты разные бывают: те, которые под надзором, народ безопасный, а вот которые на свободе разгуливают, те самые зловредные — от них каждую минуту пакости жди.
Бабка Маланья качала головой и поддакивала.
Сергею иной раз случалось бывать в это время у бабки и слышать такие разговоры.
Он слушал и никак не мог понять, — почему студенты зловредные и опасные? Студентов он видал в городе часто — они приезжали в Уржум к родным на каникулы. Народ это был веселый и шумный. По вечерам они катались по Уржумке на лодке, пели хорошие песни.
Сережа иные из этих песен запомнил и сам их распевал, когда ходил ловить щуренков на мельницу. А одну песню ему так и не удалось выучить до конца. Слышал он ее только один раз в Мещанском лесу — вечером. Студенты развели в лесу костер, играли на гитаре и пели:
Но настанет пора, и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и бояр и на прочих господ
Он поднимет родную дубину.
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет!
Глава XX
«БЛАГОДЕТЕЛИ»
В 1901 году, перед роспуском учеников Уржумского городского училища на каникулы, в учительской, окрашенной голубой масляной краской, за столом заседали шесть человек. Директор училища Костров сидел с полузакрытыми глазами и, казалось, дремал. Черные брови-гусеницы у него на лбу отдыхали.
Рядом с ним Никифор Савельевич Морозов старательно записывал что-то на клочке бумаги. Перед ним высокой стопкой лежали аттестаты окончивших в этом году городское училище. Отец Константин, еле сдерживая зевоту, потирал пухлые, словно восковые руки.
По другую сторону стола рядом с председателем благотворительного общества Польнером важно восседали два уржумских купца — попечители приюта, — оба в черных сюртуках, краснощекие, бородатые и причесанные на прямой ряд.
В комнате было душно.
Над столом с жужжанием летали мухи. В раскрытые окна доносились плач грудного ребенка и звонкий крик мальчишек, которые в конце улицы играли в лунки.
Люди за столом в учительской сидели уже около часа. Все устали. Всем давно хотелось разойтись по домам, но нужно было еще решить один вопрос. Никифор Савельевич Морозов взял в руки аттестат, лежавший сверху, и заговорил умоляющим голосом:
— Не учить дальше такого способного юношу — просто преступление: у него незаурядные способности.
— И я так полагаю, — отозвался Польнер, покосясь на директора. — Мальчик оба училища с хорошими отметками окончил. Первый ученик.
Директор Костров внезапно раскрыл глаза, пошевелил своими гусеницами и откинулся на спинку стула.
— Двадцать пять лет, — сказал Костров, — я служу в училище. Видел тысячи юнцов. Да-с, тысячи. А толковых видел редко. Да-с, весьма редко. В большинстве случаев это все лоботрясы, лентяи и болваны. Да-с.
Директор ударил ладонью по столу.
— Но в данном случае, — сказал он после некоторого молчания, — я вынужден признать, что Костриков Сергей — парень с характером и с головой. Я склонен думать, что из этого парня толк выйдет. Да-с, выйдет…
Костров замолк и снова закрыл глаза, как будто считая, что и так сказано слишком много. Все некоторое время молчали. Первым прервал тишину отец Константин. Он вздохнул и сказал, перебирая цепочку креста:
— Из всего вышесказанного, по моему разумению, следует, что ученик Костриков действительно достоин субсидии. Ежели господа попечители не откажут, то с богом, пусть дальше учится.
Один из купцов заерзал на стуле.
— А сколько, примерно, это стоить будет?
— За год тридцать рублей, — поспешно ответил Польнер. — За четверть — семь с половиной.
— Так, значит, ежели три года учиться, это выйдет девяносто рубликов. Дороговато! — подсчитал второй купец.
— Да прикинуть форму, да квартирные, да баню, да пить-есть ему надо, да на дорогу, да то да се. Многовато…
— Не выйдет.
— У нас, уважаемые, деньги на полу не валяются.
Оба купца-попечителя заговорили громко и сердито, словно подсчитывая у себя в лавке выручку.
— Уважаемые господа попечители, — вмешался в их разговор Польнер. — Насчет квартиры прошу вас не беспокоиться. У меня в Казани живет одна дальняя родственница, достойнейшая женщина — Сундстрем Людмила Густавовна. Эта особа вошла в положение сироты и за самую небольшую плату, почти из милости, согласилась приютить его где-нибудь у себя в уголку.
— За сироту, как говорится, господь сторицей воздаст и прибыль приумножит, — сказал отец Константин нараспев. — Отрок сей талант имеет, а талант, как говорится, грешно в землю зарывать.
Долго еще ломались купцы-попечители и наконец все-таки согласились отправить за свой счет в Казань первого ученика Уржумского городского училища — Сергея Кострикова…
Крепко зажав в руке аттестат об успешном окончании полного курса в Уржумском городском училище, Сергей Костриков побежал домой.
Дома он застал бабушку в слезах.
Сегодня утром к ней пришел усатый городовой с двумя понятыми и за неуплату домового налога описал и унес с собой все, что было цепного в доме. Унес самовар с помятым боком и погнутой ножкой и большой круглый бак для воды, «медяник», который до того позеленел снаружи, что его нельзя было отчистить даже тертым кирпичом.
Лучших вещей в доме у бабушки не нашлось.
Бабушка долго всхлипывала и никак не могла толком объяснить Сергею, в чем дело. За нее стала рассказывать сестренка Лиза:
— А что у нас тут было!.. Приходил городовой, и с ним дяденьки, двое. От Анны Ивановны — брат ее, да из зеленого дома Дарьи Федоровны муж. Городовой стал у бабушки денег просить, а у ней нету. Тут он взял самовар со стола, а воду из самовара вылил. А дяденьки медяник унесли, воду тоже вылили, прямо на двор под березу. Бабушка городового просит: «Ваше благородие, отдайте!», а он не отдает. «Деньги принесешь, говорит, тогда и самовар и медяник отдадим».
Сергей положил на стол аттестат, подошел к бабушке и обнял ее за плечи.
— Не плачь, бабушка, — сказал Сергей. — Скоро я деньги зарабатывать буду. Купим тогда новый самовар, с конфоркой.
Он помолчал минутку, а потом добавил:
— Меня, бабушка, в Казань посылают учиться. На купцовский счет.
Бабушка еще громче заплакала, но теперь уже от радости.
— Слава те господи… Вот радость, вот радость-то! Может, и в самом деле в люди выбьешься. Не станешь маяться, как маялась я да покойная Катенька…
Через две недели из Вятки приехал Саня.
— Ну, Сань, я в Казань поеду, в техническом учиться буду, там, наверное, и по-немецки учат, — похвалился Сергей.
— У техников форма плохая, — равнодушно ответил Саня. — На фуражке молоточек и тиски.
— Это еще с полгоря, — засмеялся Сергей. — Мне бы — главное — в Казань попасть. Прямо не могу дождаться осени…
И вот наконец осень пришла.
В августе 1901 года Саня уехал обратно в Вятку, а Сергей — в Казанское ремесленное училище, которое называлось «Соединенным промышленным». Он повез с собой метрическую выпись, аттестат об окончании Уржумского городского училища и «обязательство», где говорилось:
Означенного С. Кострикова я обязуюсь одевать по установленной форме, снабжать всеми учебными пособиями и своевременно вносить установленную плату за нравоучение, Жительство он будет иметь в квартире моей родственницы, дочери чиновника, девицы Людмилы Густавовны Сундстрем.
Даю ручательство в правильном над Сергеем Костриковым домашнем надзоре и в предоставлении ему необходимого для учебных занятий удобства.
Председатель совета Уржумского благотворительного общества
Виктор Польнер.
Глава XXI
В КАЗАНИ
Людмила Густавовна Сундстрем жила на Нижне-Федоровской улице в деревянном двухэтажном доме.
Это была высокая женщина лет сорока пяти. Худая и плоская, она чем-то напоминала высушенную рыбу. Это сходство еще увеличивали ее серые, круглые, навыкате глаза, похожие на глаза морского окуня.
Людмила Густавовна имела чувствительный и мечтательный характер. Она зачитывалась слезливыми немецкими романами и особенно любила, когда в книгах было написано про любовь и все кончалось свадьбой.
Она была слезлива и жалостлива. Жалела людей, жалела сорванные цветы, жалела животных. В ее квартире всегда находили пристанище голодные, облезлые кошки, собаки с перебитыми лапами и отдавленными хвостами. Она их лечила, откармливала и снова выпускала на улицу.
Все вещи Людмила Густавовна называла ласкательными именами: чашечка, стульчик, ложечка, подушечка. А своих жильцов — студентов — звала не иначе как «деточки» и «голубчики», хотя этим деточкам было по двадцати с лишком лет.
Получив письмо из Уржума, Людмила Густавовна стала с нетерпением ждать приезда Сергея. Она вообразила, что «сиротка» должен быть обязательно худеньким, бледненьким, золотоволосым мальчиком, таким, какими обычно изображались сиротки в старинных слезливых романах.
— Бедное дитя! — говорила она про Сергея, еще не зная его. — Бедное дитя!
Однажды утром с черного хода кто-то резко позвонил. Людмила Густавовна пошла сама отпирать дверь, так как кухарка ее ушла на рынок.
На площадке стоял паренек лет пятнадцати. Это был широкоплечий крепыш, смуглый, с темными насмешливыми глазами и большим лбом. Старая фуражка была сдвинута на затылок, из-под нее виднелись густые темные волосы, подстриженные ежиком. Короткое выцветшее приютское пальтишко не сходилось на груди. В руках он держал небольшую корзинку с вещами.
— Ты кто? — спросила Людмила Густавовна, с удивлением и даже с испугом разглядывая паренька.
— Сергей Костриков.
— Сиротка?.. Из Уржума?
— Из Уржума.
— Так это, значит, ты? Ну входи, входи, — растерянно сказала Людмила Густавовна, впуская Сергея в кухню.
«Сиротка» показался ей что-то слишком уж здоровым, сильным и веселым.
— Послушай, а ты правда сиротка? — сомневаясь, спросила Людмила Густавовна, пристально разглядывая своего нового жильца.
— Сирота, — ответил Сергей.
— Ну что ж, садись, — сказала Людмила Густавовна и стала расспрашивать его о своем двоюродном брате Польнере и об Уржуме, где она гостила, когда была еще совсем юной девушкой. Сергей глядел в пол и медленно отвечал на вопросы. Он не все понимал из того, что говорила Людмила Густавовна, — она трещала, как сорока, да к тому же и шепелявила.
Скоро вернулась кухарка с рынка, Людмила Густавовна велела напоить Сергея чаем и, чтобы обдумать, куда поместить нового жильца, пошла в свою комнату, тесно заставленную старинной плюшевой мебелью.
Толстая усатая старуха кухарка оказалась разговорчивой и добродушной.
— Значит, учиться приехал? Хватишь ты, парень, соленого до слез с этим ученьем. Бедному человеку учиться карман не дозволяет. Бедному мастеровать надо: в плотники, в столяры, в сапожники идти.
Старуха долго философствовала о судьбе бедняков и под конец рассказала Сергею печальную историю о том, как в прошлом году в их доме умер от чахотки молодой студент.
— Лицо у него было желтое, ровно восковое, нос острый. Бежит, бывало, утром, голодный, на свои лекции торопится. Сапоги драные, шинель на рыбьем меху…
Пока Сергей пил чай, Людмила Густавовна сидела в своей комнате, обдумывая, куда поместить нового жильца. Но, как пи прикидывала, как ни раздумывала, для Сергея находилось только одно место — в темном коридоре. Там стоял небольшой сундук, покрытый выцветшим ковром. Над сундуком висели завернутые в простыни две картины и шелковый зонтик в сером чехле. Здесь же в углу на ватной подстилке жила старая слепая кошка.
Людмила Густавовна вышла на кухню и объявила Сергею свое решение: он будет спать в передней на «сундучке», а заниматься может вечером на кухне после того, как все отужинают и кухарка вымоет и уберет посуду.
Вечером в квартиру начали собираться студенты. Они возвращались с занятий. Всего жильцов у Людмилы Густавовны было шесть человек.
В этот вечер, выйдя на кухню, жильцы увидели там темноволосого мальчика. Он сидел у окна и читал какую-то книжку. Долго пришлось в первый вечер Сергею ждать на кухне, пока все улягутся спать и перестанут ходить через коридор. Когда наконец в квартире все утихло, Сергей пошел устраиваться на новом месте.
Сундук оказался слишком коротким. Спать на нем можно было, только свернувшись клубочком. Постель была жесткая, а от матраца почему-то пахло керосином. Сергей долго ворочался и никак не мог уснуть на новом месте. Только под самое утро он заснул крепким сном<
Глава XXII
УГЛОВОЙ ЖИЛЕЦ
Занятия в Казанском промышленном училище начинались ровно в восемь часов утра. А так как Сергей жил в другом конце города, то вставать ему приходилось рано. Кухонные часы с растрескавшимся циферблатом показывали только половину седьмого, когда он просыпался.
На умывание и сборы у него уходило не больше десяти минут. Сапоги он надевал в самую последнюю минуту, а до того ходил по кухне и по коридору босиком.
Польнер на прощание перед его отъездом из Уржума дал ему такой наказ: учиться на круглые пятерки… и беречь сапоги.
— В большом городе подметки быстро изнашиваются. Зря по городу не гоняй!
И Сергей зря не бегал. Но как убережешь подметки, когда от дома до училища, с Нижне-Федоровской улицы до Арского поля, надо было тащиться такую даль! Хорошо еще, если на улицах сухо, а дождь и слякоть — совсем для сапог погибель. Размокнут, раскиснут так, что и до утра не просушишь. А погода, как назло, становилась с каждым днем все хуже и хуже.
— Отошли ясные деньки, — ворчала по утрам старуха кухарка, зажигая коптилку. — Теперь как примется, так уж и будет и будет лить без конца, покуда снегу бог не пошлет.
Кряхтя и позевывая, старуха принималась ставить самовар и только тут замечала в потемках Сергея.
— А ты, ученый, уж и в поход собрался… Вымокнешь, парень, как рыба. Хоть бы чаю дождался, у меня самовар мигом поспеет.
Но Сергею некогда было дожидаться чаю. Он нахлобучивал фуражку, поднимал узенький воротник своего пальтишка и выходил на мокрую, холодную улицу.
Керосиновые фонари мигали на ветру. Кое-где в деревянных низеньких домишках были тускло освещены окна, и с улицы видно было, как за ситцевыми занавесками двигаются тени — там собирались на работу.
Идти Сергею было трудно. Ноги разъезжались. Под сапогами чавкала и хлюпала жирная грязь. Чернели глубокие лужи. Сергей то обходил их сторонкой, то перепрыгивал через них, стараясь не промочить сапог.
Шел он быстро, размашисто, но все-таки успевал заметить многое, что попадалось на пути.
А больше всего привлекало его взгляд окно писчебумажного магазина, где за стеклом между коробками почтовой бумаги и горками записных книжек лежала раскрытая готовальня. До чего же она была хороша! Футляр черный, подкладка малиновая, бархатная, а на бархате так и блестят два циркуля: один измерительный, другой чертежный. Рядом с циркулем — два рейсфедера, и здесь же большой стальной транспортир, стальная линеечка и футлярчик для карандашей.
А рядом с готовальней в том же окне лежало штук пятнадцать лекал самой причудливой формы, — они продавались вместе с готовальней. Может, даже за ту же цену.
Эх, с этой готовальней можно было бы такие чертежи делать, что сам Жаков — учитель черчения — и тот бы не придрался!
Да еще хорошо бы столик отдельный где-нибудь раздобыть, хоть маленький. А то приходится работать за кухонным столом. Того и гляди, сальное пятно на чертеж посадишь.
Вот уже полтора месяца, как Сергей жил у Людмилы Густавовны, и все эти полтора месяца изо дня в день повторялось одно и то же.
Часов в девять вечера старуха кухарка принималась мыть посуду. Мыла она не торопясь. Чугуны терла песком, ножи и вилки чистила тертым кирпичом или наждачной бумагой. А пока она возилась с посудой, Сергей нетерпеливо шагал взад и вперед по кухне.
Ну когда же старуха кончит уборку и освободит стол? Но старухе спешить было некуда.
Наконец, не вытерпев, Сергей сам хватал ножи и вилки и так яростно принимался тереть их наждаком, что кухарка даже пугалась:
— Легче, парень, черенки не поломай!
Но вот уборка подходила к концу. Кухарка принималась мыть стол. Сначала поливала кипятком из чайника, потом скребла большим кухонным ножом, потом мыла мочалкой и снова поливала кипятком. От стола шел пар, его шершавая доска лоснилась и становилась желтой, как масло.
Сергей только этого и ждал. Он хватал чистую тряпку и насухо вытирал этот занозистый, старый стол.
Вот теперь можно и поработать. На столе появлялся большой квадратный лист белой бумаги. Сергей осторожно прикреплял его на углах стола кнопками, затем доставал из своей корзинки пузырек с тушью, старую казенную готовальню, два остро отточенных карандаша и резинку.
— Ну, дорвался, голубчик. Теперь всю ночь сидеть будет, — говорила старуха и, намочив голову под рукомойником, принималась на ночь заплетать жидкие косицы.
Но Сергей уже не слышал ни старухиных слов, ни ее шарканья по кухне. Он подвигал к себе поближе настольную керосиновую лампочку, надевал на нее бумажный колпачок, который смастерил сам, и начинал чертить.
Острый карандаш легонько скользит по плотной белой бумаге, иголочка циркуля оставляет чуть заметные точки. И вдруг — снова шаги. На кухню, шлепая туфлями, заходит Людмила Густавовна.
Каждый вечер она обязательно заглядывает во все углы своей квартиры.
— С огнем надо быть осторожнее, — говорит она, останавливаясь возле Сергея. — Не дай бог, пожар может случиться…
Больше всего в жизни она боялась мышей и пожаров.
Сергей, не отрываясь от чертежа, молча кивал головой.
— Ты слышишь, что я сказала? — спрашивала Людмила Густавовна.
И Сергей еще раз кивал головой:
— Мгм… мгм… Ага…
Заглянув за печку, где храпит старуха, и мимоходом зачем-то пощупав мокрое полотенце на веревке, Людмила Густавовна величественно удаляется из кухни. Папильотки дрожат и качаются у нее на голове.
Ну, наконец-то ушла.
 Вот теперь можно и поработать.
Вот теперь можно и поработать.
Теперь Сергей остается полным хозяином на кухне.
Как хорошо, что так тихо стало в квартире! Только из умывальника мерно каплет в лохань вода да тикают на стене часы.
Сергей достает рейсфедер, подносит его к лампе и пристально смотрит на кончик. Нужно проверить, не пристала ли к перу маленькая ворсинка или пушинка. Если не снимешь ее вовремя, пропала вся работа: вместо черной, тонкой, красивой линии на бумаге останется хвостатая комета…
Сергей снимает сапоги и ходит вокруг стола, разглядывая со всех сторон готовый чертеж.
Невысокий, широкоплечий, он ложится грудью на стол, чтобы дотянуться до верхнего края чертежа. Потом отходит, прищуривает один глаз и, склонив голову набок, еще раз оглядывает работу. Чертеж получился на славу. Сергей доволен. Ему очень хотелось бы сейчас посвистеть, попеть, но вокруг все спят. Только за печкой бормочет старуха — это она во сне пересчитывает покупки.
— Грудинки полтора фунта, два фунта ситного, два черного, на пятачок сендерея и петруш-ш-ш-ки…
Глава XXIII
НОВЫЕ МЕСТА, НОВЫЕ ЛЮДИ
По воскресеньям, праздникам и табельным дням, когда в училище не было занятий, Сергей с утра уходил бродить по городу.
Большой город Казань. Это не то, что Уржум. Тот в один день вдоль и поперек два раза обежишь. А Казань и в месяц как следует не осмотришь, — особенно если ходить будешь только по воскресеньям.
Первые сведения о том, что надо посмотреть в Казани, Сергей получил от старухи кухарки.
Больше всего она хвалила главную улицу. Тут тебе и магазины всякие, и торговые ряды, и дома
высокие кирпичные да каменные, — одно слово, праздничная улица — Воскресенская. Живут по этой улице все благородные — купцы и начальство. А еще советовала кухарка сходить на Волгу и на Арское кладбище.
— На Волге, — говорила она, — грузчики больно жалостно песни поют, а на кладбище — благодать. Тихо, зелено, и птицы заливаются.
Сергей побывал всюду, обошел главные улицы с красивыми каменными домами, где около богатых магазинов и лабазов было шумно и оживленно и всегда толпился народ. Прошел мимо мечети, где с высокого белого минарета по вечерам раздавались гортанные выкрики татарского муэдзина.
Увидел Казанский университет — огромное здание, украшенное массивными колоннами. Он долго стоял и глядел, как хлопала тяжелая дверь и из нее шумной толпой высыпали студенты.
Побывал Сергей и на Волге, забрел и на Арское кладбище. Заглянул и в Козью Слободку, и на Попову горку, и в Засыпкин переулок, и в Кошачий, и в Собачий.
Здесь, на окраине города, улицы были узкие и грязные. Здесь ютилась беднота. Вечером скудно освещенные улицы оживлялись: с заводов и фабрик сюда — домой — тянулся усталый рабочий люд.
Попал Сергей и в Татарскую слободу. По-русски ее звали «Устье», а по-татарски — «Какаида».
Это был как будто совеем другой город. Здесь говорили только по-татарски. Женщины и девочки ходили в длинных шароварах, а мужчины были бритоголовые, в тюбетейках. На татарских улицах Сергей совсем не встречал пьяных.
Старуха кухарка говорила:
— Им, нехристям, ихний Магомет водку пить не позволил.
Бродя по Устью, Сергей видел, как худые, грязные татарские ребятишки целый день играли в уличной пыли, под копытами ломовых лошадей.
А мимо равнодушно проходили богатые татарки в шелковых платках, в плоских бархатных шапочках, украшенных серебряными монетами.
Скоро он нашел себе двух товарищей. Эти товарищи были Асеев и Яковлев. Теперь по городу они стали ходить втроем.
С Асеевым он познакомился в первый же день занятий.
В коридорах училища разгуливали и стояли подростки и великовозрастные, усатые парни. Было шумно. Говор, смех, крики, шарканье ног гулко отдавались в концах коридора.
Новички, ошеломленные и растерявшиеся, жались к стенам и окнам. Среди них был и Сергей. Он с любопытством разглядывал ребят, своих будущих товарищей.
«Вот тот, наверное, тоже новичок. Один ходит. А тот, уж конечно, не первый год в училище — всех задевает, со всеми перекликается».
И вдруг Сергей заметил среди ребят одного паренька, который стоял у противоположной стены, заложив руки за спину.
Паренек ничем не отличался от других ребят. Худенький, остроносый, он терялся в толпе стриженых мальчиков в одинаковых темных рубашках.
Но Сергей не сводил с него глаз, и не столько с него самого, сколько с медной пряжки его ремня. На пряжке были вырезаны три буквы: УГУ. Эти буквы были Сергею так хорошо знакомы. Четыре года носил он ремень с точно такой же пряжкой, когда учился в Уржумском городском училище. Сергей с минуту подумал, а потом двинулся прямо на парнишку.
— Ты разве тоже в УГУ учился? — спросил он.
— Учился, — ответил тот озадаченно.
— А отчего же я тебя никогда не видел?
— Ия тебя никогда не видел.
— Ты в этом году кончил? — спросил Сергей.
— В этом.
Сергей с сомнением покачал головой.
— Нет, у нас в Уржуме таких не было.
— А разве я тебе говорил, что я из Уржума? Я из Уфы. УГУ — Уфимское городское училище.
— Так бы спервоначалу и сказал, — засмеялся Сергей.
Остроносый тоже рассмеялся.
С этого дня у Сергея с парнишкой началось знакомство, а потом и дружба.
Звали остроносого Асеевым. Жил он на Рыбнорядской улице вместе со своим товарищем Яковлевым, который тоже вскоре стал приятелем Сергея, и в классе их даже прозвали «неразлучная троица».
Глава XXIV
СОЕДИНЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
Казанское промышленное училище потому и называлось соединенным, что в нем было не одно, а целых четыре технических училища: одно среднее химико-техническое и три низших — механико-техническое, химико-техническое и строительно-техническое.
Сюда съезжалась молодежь со всех концов страны. В длинных полутемных коридорах училища можно было услышать окающую речь северян, певучую украинцев и гортанную кавказцев.
Таких училищ было только два на всю огромную Россию, и, хотя училище было открыто всего за три года до поступления Сергея, молодежь о нем уже знала даже в далеких медвежьих углах.
Поступить в Казанское промышленное было нелегко: желающих были сотни, а попадали десятки.
Тяга в училище была такая потому, что в нем имелись механические и строительные мастерские. Заодно с ученьем можно было здесь и практику получить. А со второго курса учеников промышленного училища посылали уже на заводы и на фабрики.
В низшем техническом училище, куда поступил Сергеи, нужно было учиться три года, и принимались сюда даже из сельской двухклассной школы, так что Сергей, окончивший и приходское и городское четырехклассное, был среди своих товарищей одним из первых грамотеев.
В среднем требования были повыше — туда принимали из четвертого класса реального или из пятого класса гимназии, и учиться в среднем нужно было на год больше, чем в низшем. Здание Казанского соединенного училища было большое, кирпичное и занимало чуть ли не целую улицу, — только улицы здесь никакой не было. Училище стояло за городом, а адрес его был короткий: «Арское поле, свой дом».
Тут же, на Арском поле, помещались духовная академия, ветеринарный институт и крещено-татарская школа. Когда толпы учащихся высыпали черной лавиной из дверей академии, института и промышленного, здесь было даже шумнее, чем на иных улицах города.
И все-таки это был не город.
Весной в оврагах и в канавах у дороги долго не таял снег, а над кладбищем с криком носились грачи, устраивая себе гнезда.
Да разве можно было расслышать этот птичий гомон, когда внизу спорили, шумели, распевали на разные голоса будущие механики, чертежники, строительные десятники, машинисты и заводские мастера!
Учеников среднего училища можно было отличить от всех прочих с первого взгляда. На их черных фуражках, воротниках и обшлагах были синие канты.
«Низшим» кантов не полагалось ни на фуражках, ни на тужурках.
И если какой-нибудь франт из «низших» не мог устоять от соблазна и заводил себе фуражку с синим кантом, то такая вольность могла обойтись дорого.
В кабинете у инспектора Широкова в углу стоял шкаф, и в этом шкафу на полках лежали рядом, как в шапочной мастерской, целые дюжины фуражек с кантами. Эти фуражки инспектор собственноручно снял с повинных голов. За франтовство ученикам приходилось расплачиваться двумя часами карцера да еще покупать новую фуражку.
Но различие между «средними» и «низшими» было не в одних кантах. После окончания школы их ожидала разная судьба. «Средние» готовились в техники, чуть ли не в инженеры, а «низшим» редко удавалось прыгнуть выше десятника, мастера или машиниста.
И притом министерство народного просвещения не разрешало ученикам низшего технического училища переходить в среднее, даже если они окончили на круглые пятерки.
Но все это не мешало «средним» и «низшим» жить между собой довольно дружно. Ни правами своими, ни кантами «средние» не слишком гордились. Одним только преимуществом они не прочь были похвастаться перед «низшими»: им разрешалось курить даже в училищных коридорах, а «низшим» курить не разрешалось.
В остальном же дисциплина тех и других была одинаково строгая. Инспектор Широков одинаково распекал и наказывал ученика с кантами и ученика без кантов за малейшее нарушение училищного распорядка. Наказания назывались здесь «взысканиями», и в канцелярии в рамке под стеклом висела таблица с длинным и грозным заголовком:
«Правила о взысканиях, налагаемых на учеников средних технических и низших училищ, утвержденные господином Министром Народного Просвещения».
Взыскания были разные — от двух часов отсидки в карцере вплоть до исключения из училища. В карцер сажали за пропуск уроков, за отсутствие форменного пояса, за оторванную пуговицу, за позднюю отлучку с квартиры, за самовольную перемену местожительства, за неявку на молебен. А исключали «за непочтительность» и «неповиновение» и, главное, за те проступки, которые не были упомянуты в «Правилах», а именно — за «политику».
Не только в училище, но даже и дома учеников не оставляли в покое: инспектор и надзиратель рыскали по квартирам и тщательно проверяли, сидят ли ученики после восьми часов вечера дома, с кем водятся, не устраивают ли у себя на квартирах незаконных сборищ.
Во всякой ученической квартире имелась особая тетрадка, в которой надзиратель оставлял свою подпись.
Если, навестив квартиру, начальство обнаруживало, что ученик имел дерзость отправиться в театр без особого на то разрешения, незадачливого театрала на другой день ожидала расправа: за три часа сидения в театре на галерке он платился пятью-шестью часами отсидки в карцере. Но ходить по театрам ребятам удавалось редко: и денег на это не хватало, и работы было у них по горло. Задавали им в училище много, особенно по черчению и математике. Если ученик не успел справиться с работой в будни, приходилось работать и по воскресеньям и по праздникам.
Сергей проводил в училище целые дни — с восьми часов утра до восьми часов вечера. Правда, среди дня ученикам полагался двухчасовой обеденный перерыв, по Сергей жил от училища далеко — не стоило ему гонять лишние два раза чуть ли не через весь город, тем более что дома обед его не ждал.
Он оставался в училище и обедал в полупустой столовой, где за длинными столами пристраивались еще десять — пятнадцать человек, живших, как говорится, у черта на куличках. Остальные разбегались по домам, чтобы перехватить чего-нибудь поосновательнее, чем тощий школьный обед за восемь копеек.
Часам к шести вечера все учителя кончали уроки и расходились по домам. Из начальства оставались только одни надзиратели. Старый сторож садился на табуретку у входа и спокойно дремал, — ему уже не нужно было ежеминутно открывать дверь и кланяться.
В длинных коридорах гасили огни, и вместе с темнотой наступала тишина. Только из-под дверей чертежных классов и лабораторий пробивался яркий свет.
В чертежных негромко шуршала бумага, с легким шорохом передвигались по туго натянутым листам белой бумаги треугольники, лекала и линейки. А в лабораториях позвякивали колбы и пахло чем-то неопределенным — не то жженым пером, не то тухлыми яйцами. И в чертежных и в лабораториях было тихо. Но зато какой гул стоял в механических мастерских, выходивших окнами во двор!
Эти мастерские совсем были не похожи на классы, а скорей на заводские цехи. У каждого ученика было здесь, как на заводе, свое «рабочее место», свой станок. Приходя в мастерскую, ученики сбрасывали с себя форменные тужурки и надевали кожаные фартуки.
Сергей начал свою практику в механических мастерских с токарного станка. На этом станке он должен был поработать месяцев пять, а потом перейти к кузнечному делу, к лужению и, наконец, к сборке машин.
Еще в Уржуме в приютских мастерских Сергей славился своими ловкими, хваткими руками и быстрой сметкой. За токарный станок он стал с охотой, и дело у него быстро пошло на лад. На первых порах новички в мастерских то и дело попадали в беду: то руку порежут, то на ноги тяжелую болванку уронят, то палец зажмут в тиски. Мало того, что было больно, неудачнику влетало еще и от мастера — старого заводского слесаря, который преподавал в «механических».
— С машиной обращение надо знать, ворона полоротая, — говорил мастер. — Этак, не ровен час, ты и свой нос в тиски зажмешь. У станка стоять — не в бабки играть.
Сергею не приходилось выслушивать такие отповеди.
— Этого машина любит, — кивал на него головой мастер, проходя мимо.
И это было верно. А еще вернее было бы сказать, что не столько машина любила Сергея, сколько Сергей — машину. Он не оробел перед ней в первые дни, а взялся за нее по-хозяйски. По нескольку раз в день он обтирал ее, смазывал, проверял. Станок его стоял у окна в углу. Тут же Сергей пристроил полку для инструмента, а на пол поставил ящик для отходов и пакли. Паклей полагалось обтирать после работы станки и грязные, замасленные руки.
Чуть только ученики осваивались с работой, им поручали изготовлять самые разнообразные вещи для школьных мастерских и лабораторий — сначала полегче, потом потруднее. Они сами делали и ручки для инструментов, и молотки, и масленки, и лейки, и медные ступки, и даже гидравлические прессы.
Не зря директор Грузов в одной из своих речей обещал местным заводчикам — Крестовниковым, Алафузовым и прочим — через три года дать на заводы дисциплинированную и подготовленную рабочую силу.
Крестовников, Алафузов и другие крупные казанские тузы были «попечителями» технического училища. Они знали, за что дают деньги и оборудование училищу. Одного только они не знали в те времена, а именно, — что среди будущих техников и машинистов, которые учатся в Казанском промышленном училище, растет и немало будущих революционеров.
Никакой контроль, никакая слежка за чтением и поведением учащихся не мешали им устраивать незаконные сборища и передавать друг другу запретные революционные книжки.
От Арского пустыря до города было не слишком близко. Вечером по пути домой можно было вволю наговориться друг с другом. Шагая по темной дороге от училища до города, ученики промышленного — по прозвищу «масленщики» — успевали поговорить о многом. В этих разговорах доставалось и школьному начальству, и городскому, и даже всероссийскому — самому царю Николаю Второму, «помазаннику божию».
Глава XXV
ЗНАКОМСТВО СО СТУДЕНТОМ
Как-то раз вечером, когда кухарка еще не начинала уборку посуды, в кухню вошел смуглый быстроглазый студент и остановился в дверях. Сергей сидел в это время у окна, склонившись над учебником физики. Он рассматривал снимок паровой машины.
Студент подошел к Сергею и заглянул через его плечо в раскрытую физику.
— Пустяковое дело, не хитрая штука, — ткнул он пальцем в паровую машину. — Вот электрический двигатель — это другой разговор.
Сергей, прикрыв учебник, с любопытством оглядел студента. Тот протянул ему руку.
— Давайте знакомиться — Владислав Спасский, студент физико-математического факультета.
Так Сергей в первый раз в жизни познакомился с настоящим студентом. Владислав стал часто заходить к нему на кухню. Иногда он приносил с собой сложные, трудные чертежи и объяснял Сергею устройство всяких машин. Оба любили машину и не могли спокойно разговаривать о таких замечательных вещах, как цилиндр, ротор, статор, валы и прочее. За разговором они иной раз забывали о времени.
Старуха кухарка ворочалась за печкой и ворчала на них:
— Ученые люди, а совести нет. Гудут и гудут, что шмели…
Но «гудели» не только Сергей и Спасский. По вечерам в трех комнатах, которые Людмила Густавовна сдавала студентам, было людно и шумно.
В одной комнате читали и цитировали римское право, в другой обсуждали только что слышанную лекцию, в третьей играли на гитаре и пели.
Но настоящий содом и гоморра, по выражению кухарки, начинался, когда все жильцы собирались вместе в самой просторной комнате — у Леньки Стародуба.
Студенты в складчину покупали баранки, колбасу, сухую рябиновую пастилу.
Кухарка грела медный полуведерный самовар. Молодежь рассаживалась кто где — на кровати, на подоконниках, для всех не хватало стульев.
На столе пофыркивал и шумел самовар. Студенты пили чай, ели бутерброды, пели хором песни и спорили. Спорили горячо и шумно, размахивая руками, перебивая друг друга. Споры были всякие. О только что появившемся в продаже новом романе, о студенческих землячествах, о строгих и придирчивых профессорах, о любительском спектакле, который студенты ставили своими силами.
Нередко в самый разгар шума на пороге комнаты появлялась Людмила Густавовна, взволнованная и сердитая:
— Господа, нельзя ли потише! Сейчас с жалобой от соседей приходили.
Шум затихал, но стоило ей выйти из комнаты, как снова начинались горячие споры.
Сергей занимался на кухне. До него доносились обрывки слов, звон посуды, переборы гитары и песни. Особенно Сергею нравилась песня про сад, ее пел химик Хрящицский.
Это была знакомая песня, ее певала и бабушка Маланья.
Ах ты сад, ты мой сад, сад зел-е-енснь-кий,
Ты зачем рано цветешь,
Осыпа-а-аешься!..
Вскоре Сергей перезнакомился со всеми жильцами Людмилы Густавовны. На первых порах он их немного стеснялся, молчал и казался угрюмым. Но когда дело доходило до машин и чертежей, он даже решался вступать в споры.
Однако по-настоящему заинтересовались им студенты только после одного случая.
Было воскресенье. По стеклам барабанил осенний дождь, и все жильцы сидели дома. От нечего делать Владислав затеял французскую борьбу с Сергеем. Он объявил, что в пять минут во что бы то ни стало положит Сергея на обе лопатки по всем правилам французской борьбы.
И действительно, с первого же приема Владислав начал одолевать. Но вдруг Сергей ловко вывернулся и каким-то неожиданным приемом, которого он и сам не знал, положил Спасского на обе лопатки. Положил, да еще и прижал к полу.
Студенты захохотали.
— А ты, оказывается, сильный, — смущенно сказал, поднимаясь с пола, Владислав.
— Ничего, парнишка здоровый! — признали студенты. — А все-таки нашего Леньки Стародуба ему не побороть.
Вскоре после этого пришел и сам Ленька Стародуб. Это был белобрысый, близорукий, толстый увалень в очках.
— Бороться я не стану, — заявил Ленька, когда ему рассказали о новом «чемпионе» французской борьбы. — А то ведь я ненароком все косточки у этого юноши сломать могу. Лучше я вам всем один фортель покажу.
«Фортель» заключался в следующем: один человек должен был лечь на пол спиной кверху и вытянуться. Другой ложился на него спиной к спине. Тогда первый вставал на ноги и поднимал второго, будто куль с мукой.
Все по очереди довольно легко проделали этот помер. Одного только Леньку Стародуба никто из студентов не мог поднять.
— Кабан… Тумба… Слон… Гиппопотамий бог, — шутливо бранились студенты.
Ленька, очень довольный собой, хохотал и шумно бил себя в грудь кулаком.
— А ну давайте я попробую, — предложил Сергей и, не ожидая ответа, лег на пол.
Ленька, как огромная туша, навалился ему на спину. Все молча ждали, что будет.
Сергей понатужился, тяжело задышал и, густо покраснев, начал медленно подниматься на ноги.
— Браво! Бис! Бис! — закричал Владислав Спасский.
И все студенты тоже закричали, застучали каблуками и захлопали в ладоши.
— Что ж это из него вырастет?.. — удивленно спросил Ленька Стародуб и, подойдя вплотную к Сергею, начал бесцеремонно ощупывать его крепкие мускулы.
Угловой жилец, подросток, который занимался на кухне и спал на сундуке в темном коридоре, сразу заслужил внимание жильцов Людмилы Густавовны.
Глава XXVI
КАТОРЖНЫЕ
Как-то Сергей и Спасский шли по улице. Навстречу им, громыхая по булыжникам мостовой, тянулись подводы, нагруженные ящиками с пестрыми наклейками.
— Знаешь казанское мыло? Оно по всей России идет. Братья Крестовниковы на мыле и на свечах миллионы нажили, — сказал Владислав.
— А большой у них завод? — спросил Сергей.
— Да один из первых в России.
— Я еще на заводах никогда не бывал, только в Уржуме на Аркуле видал, как пароходы чинят. У нас заводская практика со второго курса начинается.
— А ты бы пошел на Крестовниковский завод да посмотрел. Ведь ваших техников туда как будто пускают.
— Верно, попробую сходить.
И, не любя откладывать дело в долгий ящик, Сергей в первый же день, когда было не так много уроков, отправился в Плетени, на мыловаренный завод братьев Крестовниковых.
Сидевший у ворот завода сторож сперва не хотел его пропустить, но Сергей показал ему свой ученический билет. Сторож подумал, что ученика прислали на практику, — это было обычное дело на заводе, — и открыл калитку.
Первое, что бросилось в глаза Сергею, были длинные каменные цеха, приплюснутые, словно вросшие в землю. Крепко пахло мылом, нашатырем и еще чем-то, затхлым и кислым. Земля во дворе была скользкая от мыльных ополосков. Голубовато-серые лужи отливали перламутром и пузырились. Недалеко от ворот, около длинного здания, шла погрузка ящиков с мылом. Большие, тяжелые ящики спускали сверху на блоке. На каждом ящике пестрела этикетка: «Казанское мыло. Малая золотая медаль на Парижской выставке».
— Скажите, как пройти в машинный цех? — спросил Сергей у рабочих, которые возились около подвод.
— Какие у нас машины? Одно название, — махнул рукой один из рабочих в тяжелом и блестящем от мыла фартуке.
— Иди вон туда, парень! — крикнул второй и показал в глубь двора.
Сергей пошел, куда ему указали, но попал не в машинное отделение, а в сернокислотный цех. Он открыл маленькую скрипучую дверь, и острый запах пахнул ему в лицо с такой силой, словно он наклонился над огромной бочкой нашатырного спирта. Сергей закашлялся.
Он очутился в длинной темной комнате с каменным полом, с каменными стенами, почерневшими от кислоты. Несколько рабочих возились у чана. Окна были решетчатые, словно в тюрьме.
— Не закрывай дверь, парень! — крикнул Сергею высокий рабочий в синей рубахе. — Сдохнешь здесь, как крыса в ловушке.
И он, закашлявшись, плюнул на пол.
Сергей подсунул под дверь обломок кирпича и постоял немного на пороге. «Неужели и в других цехах такая же духота?» — подумал он.
Второй цех, куда он попал, был мыловаренный. Здесь варилось знаменитое «казанское яичное мыло».
Из огромных чанов поднимался белый горячий пар. Паром, словно кисеей, был затянут весь цех.
Возле чанов стояли рабочие и длинными, как весла, мешалками тяжело ворочали и промешивали кипящее мыло.
Сергей столкнулся со стариком рабочим.
— Ты чего здесь бродишь? — спросил тот.
Сергей ответил, что он пришел поглядеть, как варят мыло.
— Погляди, погляди, коли что разглядишь, — усмехнулся старик и словно нырнул куда-то в белый туман.
Долго ходил Сергей по заводу, заглядывал в каждый закоулок. Кто знает, может, после ученья ему самому придется работать на этом заводе? А если не на этом, то на таком же.
Конечно, интереснее было бы попасть на завод, где оборудование получше, где машин побольше. Да еще не известно, куда возьмут.
В коридоре одного из цехов, у бочки с водой, в которую полагалось бросать окурки, Сергей разговорился с молодым рабочим. Рабочий торопливо докуривал кривую цигарку. Левая рука у него была толсто обмотана почерневшей тряпкой.
— Это что у тебя с рукой? — спросил Сергей.
— Кислотой облил. Третий день, и ни черта не заживает.
— Как же ты одной рукой работаешь?
— Так и работаю, вполсилы. Да я еще удачливый, другие вовсе без рук и без глаз остаются. Кислота — она штука вредная. До кости прожигает…
Парень бросил в воду окурок и ушел в цех. А Сергей зашагал к воротам.
Во дворе Сергей встретил несколько мальчишек, которые, перепрыгивая через мыльные лужи, бежали куда-то к цехам. С виду они были моложе Сергея года на два — на три.
У мальчишек и лица, и руки, и одежда были перемазаны сажей.
«Где же это они на мыльном заводе столько сажи набрали?» — удивился Сергей.
У калитки он спросил сторожа:
— Что у вас эти мальчишки делают?
— Котлы чистят, — ответил, позевывая, сторож. — Двадцать три копейки в день зарабатывают.
«Так вот он какой, завод, — думал Сергей, шагая по дороге в город, — каторга и та, пожалуй, лучше».
Когда дома вечером Сергей рассказал о Крестовниковском заводе Спасскому, тот только плечами пожал.
— Завод как завод. Другие еще хуже бывают. А если тебе не нравится, так ты возьми и переделай.
Тем разговор и кончился.
Через несколько дней после этого Сергей познакомился с одним стариком рабочим. Старик жил неподалеку на Нижне-Федоровской.
Фамилия у него была какая-то длинная и чудная, а звали его все попросту Акимычем.
Знакомство у Сергея со стариком началось так.
Раз вечером, когда Сергей возвращался домой, кто-то окликнул его:
— Паренек, а паренек!
Сергей обернулся. У низеньких, покосившихся ворот стоял старик с прокуренными нависшими усами и клочковатой бородкой.
— Огоньку нету?
Доставая из кармана коробок спичек, Сергей подумал: «Где я этого старика видал?»
И тут он вспомнил густую пелену молочного тумана в мыловаренном цехе у Крестовниковых и того старика, который сказал ему:
«Погляди, погляди, если что разглядишь».
Это и верно был тот самый рабочий.
Вскоре Сергей с Акимычем подружился и даже стал изредка заходить к нему в гости.
В маленькой комнате, оклеенной наполовину оберточной бумагой, а наполовину цветистыми розовыми обоями, сильно пахло махоркой и геранью. На окошке висели две клетки со щеглом и скворцом.
Однажды, когда Сергей пришел к старику, Акимыч менял в клетках воду и подсыпал в кормушки конопляное семя.
Он поздоровался с гостем, а потом снова принялся за прерванное дело.
— Чего носом-то вертишь? — говорил он скворцу. — Чего? Работничек!.. Ишь, зоб-то как набил. Разжирел, что околоточный. Вот пошлю тебя на завод кислоту переливать, тогда узнаешь. А то сидишь да чиликаешь. Какой от тебя толк? Дармоед ты, дармоед.
А ты чего воду расплескал? — ругал он щегла. — Слуга я тебе, что ли? Легко, думаешь, мне уборкой заниматься? И без тебя дела хватает. Вот погоди, выпущу я тебя на двор, там кошки тебя сожрут.
Подсыпав птицам корма и налив в чашечки воду, Акимыч повернулся к Сергею.
— А теперь и мы с тобой малость поклюем.
Он достал связку баранок и налил из жестяного чайника два стакана чая.
— Давненько я с молодым народом чаю не пил, — сказал Акимыч, прихлебывая из стакана. — Сын-то у меня, пожалуй, немногим постарше тебя будет. Тебе сколько?
— Шестнадцать в марте.
— Значит, мой постарше — ему двадцатый. А я думал по виду, что тебе тоже годков восемнадцать.
— Где же ваш сын? Уехал куда?
— Недалеко уехал. Рукой подать, а только я его пятый месяц не вижу.
Старик наклонился к Сергею и сказал ему на ухо:
— Сидит.
И тут Акимыч рассказал, что сын его, Григорий, не дурак, книжки читает и в работе тоже маху не даст. Если б ему поучиться, он бы, может, до техника дошел. Только характер у него горячий, а мастер в цехе — собака. Ну вот, у них и дело вышло… Только за третьим стаканом Сергей узнал от Акимыча, какое вышло дело.
— Из-за штрафа все это получилось, — вполголоса говорил Акимыч. — Да не сына моего оштрафовали, а другого. Штрафуют ведь у нас каждый день. Моргнешь лишний раз — и то штрафуют. А сынишка мой возьми да и скажи это мастеру прямо в глаза. А мастер его по зубам. А мой Григорий ему сдачи… Ну вот — и посадили. Да еще перед этим обыск сделали и нашли… книжки… запрещенные…
— А откуда же он книжки брал?
— Да уж брал, — сказал Акимыч и на этот раз ничего больше не захотел рассказывать — ни про сына, ни про запрещенные книжки.
Только после того как старик познакомился с Сергеем поближе, стал он говорить с молодым своим приятелем попросту обо всем, что думал.
Немало узнал от него Сергей про заводское житье.
— Я, — говорил старик, — на заводе новичок, всего лет пятнадцать с лишним работаю. А есть у нас такие, что тут при заводе и родились. Мальчишек, котлочистов наших, видал? Так у многих из них и отцы здесь работают, и деды тут же помирать собираются. Да и куда уйдешь? Братья Крестовниковы — народ деловой, пронзительный. Они при заводе свои лавки открыли — на книжку товар отпускают. Рабочий человек и оглянуться не успеет, а уж он кругом в долгу. Да к тому же у нас, почитай, каждый рабочий в собственном доме живет. Дом не дом, конечно, а четыре угла да труба наружу, а деньги на такой дворец те же братья Крестовниковы давали. Вот и выходит: они радетели наши, а мы их должники по гроб жизни. Свечку за них ставить должны, за здравие их драгоценное.
Сам бы я до всего этого, может, и не дошел бы, — прибавлял старик, — да Григорий мне, как на ладони, все показал, а ему умные люди глаза протерли. Понимаем мы теперь, что да кто всему виною, только прямо об этом говорить не следует. У нас полгода тому назад студента одного арестовали — практиканта в кислотном цехе. Социалистом оказался. А кто донес? Не иначе, как старший мастер. Он, говорят, в охранке служит.
И старик рассказал Сергею — не прямо, а обиняком — про тех кто «виноват».
Рассказ этот был похож не то на сказку, не то на басню.
— Стоит себе дом, старый дом, труба набок легла. Из-под пола дует, окна порассохлись, двери скрипят. Холодно, грязно, погано. А в дому жильцы живут. Каждый в своей конуре. Каждый сам себе норовит обиход устроить. Один дыры в полу войлоком затыкает, другой в окно подушку сует, третий обоями новыми с этакими васильками каморку свою оклеивает. Думает красотой все изъяны закрыть. А из-под пола без передышки дует и дует. Сгнил дом, и фундамент давно просел — того и гляди, завалится. Тут уж сколько ни затыкай дыр, толку не будет. Ни к черту дом не годится. Вот и пойми, кто виноват… Понял?
— Понял! — усмехнулся Сергей. — Царь виноват.
Старик даже привстал.
— Да ты, дурной, потише. Больно уж догадлив. Я тебе что рассказал? Про гнилой дом. Значит, кто виноват, что он сгнил? Хозяин виноват. Ты так бы и говорил: хо-зя-ин ви-но-ват. А ты вон куда метнул. Прямо в цель. Знаешь, что за такие слова бывает? В Сибирь, на каторгу заслать могут.
Каждый раз, бывая в гостях у старого рабочего, Сергей узнавал что-нибудь новое и поучительное. Однажды он застал Акимыча взволнованным и сердитым.
— До чего хитры, бестии, — ворчал старик. — «Ваше дело, говорят, прибавку от хозяев требовать, чтоб брюхо сыто было, чтоб теплые бараки для вас строили, а политика— не вашего, рабочего, ума дело». Нет, врешь, брат, чья политика, того и власть. Нам за свою власть, за рабочую, бороться надо.
Долго еще ворчал и сердился старик.
Сергей не выдержал и спросил, кого так ругает Акимыч.
— Экономистов. Самопервые предатели рабочего класса, — отрезал старик.
Прав был старый рабочий, когда возмущался «экономистами». Так социал-демократы называли людей, которые вредными разговорами отвлекали рабочих от политической борьбы.
Глава XXVII
СЛУЧАЙ С ДВИГАТЕЛЕМ
Уже два месяца жил Сергей у Людмилы Густавовны, но с соседями своими по квартире слишком близко не сошелся. Они были и старше его, да и жилось им много лучше, чем Сергею. Студенты нередко устраивали вечеринки на паях, а у Сергея денег на пай не было, даром же он угощаться не любил. Вот и приходилось сидеть на кухне за чертежами да вполголоса подпевать, когда из комнат студентов доносилось пение. А песни пелись там всякие — и грустные, и веселые, и смешные.
Чаще всего пели соседи Сергея казанскую студенческую песню:
Там, где тинный Булак
Со Казанкой рекой,
Словно брат и сестра, обнимаются,
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
Даже с Владиславом Спасским Сергей разговаривал по часто, пока не связала их одна общая затея.
— Знаешь, Сергей, что я придумал? — сказал ему как-то Спасский. — Попробуем-ка мы с тобой соорудить электрический двигатель.
Сергею эта мысль пришлась по вкусу. Он еще тогда, когда Спасский при первой их встрече упомянул про электрический двигатель, подумал о том, как было бы хорошо смастерить такую штуку.
— Давай составим список всего, что нам понадобится для работы, — предложил Спасский и, не ожидая ответа, вырвал листок бумаги из толстой клеенчатой тетрадки, в которой обычно записывал лекции.
Подсев к кухонному столу, он принялся писать.
Сергей сидел напротив и не сводил с него глаз, а Спасский писал долго, раздумывая, покусывая карандаш или почесывая кончиком карандаша бровь.
— Ну, готово, — сказал он наконец и протянул Сергею бумажку.
На ней четким, ровным почерком было написано:
1. Чугунный корпус.
2. Статор, а к нему катушки и пластины.
3. Ротор: а) вал ротора, б) подшипники, в) пластины якоря, г) пластины коллектора и д) щетки коллектора.
4. Монтажные провода и всякие болты, винты и гайки.
— Ну, давай думать, что и где надо раздобыть.
Стали думать.
Прежде всего надо было достать чугунный корпус. Без него нельзя было и работу начать. Затем необходимы ротор, статор и пластины статора.
— Все это, пожалуй, можно купить, — сказал Спасский. — Но только вот денег придется ухлопать много…
— А нельзя ли устроить это подешевле? — спросил Сергей. — Что, если купить один корпус, а остальное сделать самим? Поискать на рынке какой-нибудь подходящий лом да из лома все и сделать!
— Ладно, попробуем, — сказал Спасский. — Я достану монтажные провода и подшипники.
— Ну, а я гайки, болты и винты выточу у себя в училище на токарном станке. Было бы только из чего.
В первый же свободный день приятели отправились на рынок, в ряды, где продавался всякий металлический хлам. Им сразу же посчастливилось. Среди ржавого железного лома они нашли готовый чугунный корпус с небольшой трещиной. А потом им подвернулась еще одна замечательная штука. На разостланной старой рогожке лежала поломанная бронзовая каминная решетка. Переплеты ее были из крепких и массивных бронзовых прутьев. Сергей внимательно осмотрел решетку и приподнял ее.
— Послушай, из этих прутьев можно будет вырубить и выпилить вручную всё, что нам нужно, — и щетки и пластины, — сказал он быстрым шепотом Спасскому.
Продавец, маленький кривой старикашка, по лицам покупателей сразу понял, что товар его приглянулся. Он заломил такую цену, что Спасский даже крякнул.
— Да ведь зато решетка какая, — зашамкал старик, — ей цены нет. Она ко мне прямо из княжеского дома попала.
Сколько ни упрашивал его Спасский хоть немного уступить, старик не сдавался.
В конце концов приятели, вздохнув, отошли от рогожки.
И только тогда, когда они собирались уже завернуть за угол, старик стал звать их обратно.
— Эй, молодые люди, вернитесь, вернитесь! Разговор есть! — кричал он им вдогонку.
Приятели вернулись обратно, чувствуя, что теперь уже сделка состоится.
— Уж очень вы мне понравились, молодые люди, — говорил старичок, — так и быть, забирайте дорогую вещь за полцены.
Сергей и Владислав пыхтя поволокли домой решетку и чугунный корпус.
С этого дня, возвращаясь из училища, Сергей каждый раз приносил с собой какую-нибудь часть двигателя, выточенную и вырубленную его собственными руками.
Спасский осматривал деталь и похваливал:
— Молодец! Вот только здесь не мешало бы еще самую малость подточить…
Сергей кивал головой, а наутро карман его пальто оттопыривался от тяжелого груза. Он опять тащил в училище деталь, которую нужно было исправить.
Недели через две все было готово.
Можно было приступить к сборке двигателя.
Сначала оба приятеля принялись за дело с одинаковым жаром, но потом студент стал остывать. То ли ему надоело, го ли он почувствовал, что Сергей может управиться с работой и без него, но только он стал часто отлучаться. Пойдет к себе в комнату искать спички, чтобы закурить, и не возвращается целый час. А то заговорится с кем-нибудь в коридоре и совсем забудет про двигатель.
Под конец Спасский прямо сказал Сергею:
— Делай, брат, все сам! У тебя, видно, к таким делам способности есть. А я в технике не силен. Вот теория — это другое дело!
Через неделю двигатель был собран.
Его бережно перенесли в комнату Владислава, поставили в угол и прикрыли газетами.
Каждый раз, когда к студентам приходили товарищи, будь то медики, юристы или историки, Сергей снимал газеты и начинал подробно объяснять устройство двигателя. Скоро его уже некому было показывать, и о нем забыли.
Но недели через две о двигателе пришлось вспомнить. У Спасского так разорвались и проносились брюки, что ходить в них на лекции стало невозможно. Он еле дождался денег из дому и сразу же отправился на рынок — покупать обновку.
Однако купить брюки ему не удалось.
Помешало этому неожиданное обстоятельство.
Какой-то высокий худой человек в очках и в черной крылатке ходил по рынку и таинственно прятал под крылаткой небольшой ящик. Спасский заинтересовался ящиком и спросил, что это за штука.
— Телеграф продаю, — сказал незнакомец, чуть приподняв полу крылатки.
Телеграф стоил шесть рублей, ровно столько, сколько должны были стоить брюки и сколько всего было денег у Спасского.
Спасский оглядел и ощупал со всех сторон телеграф и, потоптавшись несколько минут около человека в крылатке, решительно махнул рукой.
«Эх, была не была! Брюки как-нибудь можно заштопать, а телеграфы за шесть рублей не каждый день продаются».
С ящиком под мышкой Спасский, насвистывая, вернулся домой. Дома его встретили товарищи — Ленька Стародуб и курчавый химик Хрящицский.
— Купил? — закричал Ленька.
— Купил! — сказал Спасский и вытащил из-под пальто деревянный ящик.
— Посылку из дому получил, что ли? — подскочил к нему Ленька, который очень любил поесть.
— Голодной куме одно на уме. Телеграф я купил — вот что! — сердито ответил Владислав.
Химик и Ленька внимательно осмотрели покупку Спасского и одобрили. А через час вернулись домой и остальные четверо жильцов Людмилы Густавовны и тоже принялись расхваливать покупку. Они со всех сторон обступили Спасского, который сидел за телеграфом. Каждый из студентов получил в этот вечер столько телеграмм, сколько не получал за всю свою жизнь.
Телеграммы читал вслух Ленька Стародуб — он знал азбуку Морзе. Ему первому и была адресована телеграмма.
«Вы стройны, как аравийская пальма, легки и быстры, как антилопа».
Химик Генрих Хрящицский, который по месяцам не платил за квартиру, получил такую телеграмму:
«Убедительно прошу уплатить комнату четыре месяца, вернуть потерянную сапожную щетку. Милочка Сундстрем».
Студенты в этот вечер не отходили от телеграфа. Пол в комнате у Спасского был завален витками и обрывками длинных бумажных лент. Кошки девицы Сундстрем растаскали их по всем коридорам.
В конце концов сама девица Сундстрем влетела в комнату Владислава:
— Что вы делаете? По всему дому бумажки какие-то валяются… Что вы печатаете?
Она подобрала с пола обрывок бумажной ленты и поднесла к близоруким глазам. Но, кроме точек и тире, девица Сундстрем не могла ничего разглядеть. Она побледнела и схватилась за сердце.
— Владислав, это секретный шрифт?
— Да, это азбука Морзе, — спокойно ответил ей Спасский.
Девица Сундстрем, не разобрав, в чем дело, в испуге шарахнулась из комнаты.
— Да не бойтесь, Людмила Густавовна! — крикнул ей Владислав. — Это ведь обыкновенный телеграф!
— Телеграф в квартире?! А кому вы телеграфируете? Надеюсь, здесь нет ничего предосудительного? Вы знаете: я отвечаю за ваше поведение.
И Людмила Густавовна вышла из комнаты, захватив с собой на всякий случай обрывок телеграммы.
Когда поздно вечером Сергей вернулся из училища и, услышав стук, зашел к Спасскому, тот сидел перед аппаратом, усталый от непривычной работы. Бумажная лепта на катушке подходила уже к концу. Спасский сейчас же вручил Сергею последнюю телеграмму:
«Главному инженеру-механику Кострикову тчк Просим принять срочный заказ на 2000 электрических двигателей тчк Деньги переводим на ваш текущий счет тчк Президент Соединенных Штатов».
— А в чем ты завтра думаешь на лекцию идти? — спросил один из студентов, когда Спасский, потягиваясь, встал из-за стола.
— Пустяки, — беспечно махнул рукой Владислав.
Но когда он снял брюки и поглядел на них, лицо его вытянулось. Брюки были так изношены, что починить их было невозможно.
— Напиши домой, чтобы тебе еще выслали денег, — посоветовал Ленька.
Спасский, завернувшись в одеяло, молча сидел на кровати и о чем-то думал. Телеграф стоял перед ним на столе.
— Нет. Не пришлют, — уныло покачал головой Спасский.
Отец Владислава, доктор Спасский, был человек бережливый, строгий и терпеть не мог легкомыслия.
— И дернул же меня черт купить этот дурацкий телеграф, — ругал себя Спасский. — Теперь хоть обматывайся телеграфными лентами и отправляйся так в университет на лекции.
Химик Хрящицский предложил студентам собрать деньги и купить в складчину брюки Владиславу. Студенты начали подсчитывать свои капиталы. У шести человек набралось 3 рубля 27 копеек. Сергей в счет не шел — у него не было и ломаного гроша. За его ученье, еду и угол в квартире платили уржумские попечители.
— Знаешь что? Продай двигатель и купи себе штаны, — сказал вдруг Сергей.
— Тогда уж лучше телеграф продать, — вздохнул Спасский.
— Телеграф не стоит. Он новый. Мы его как следует и не осмотрели, — сказали студенты.
Спасский раздумывал еще минут пять. Он доказывал Сергею, что не имеет права на двигатель, потому что они его делали вместе и Сергей работал даже больше его. Но под конец Спасский все-таки согласился.
Через два дня двигатель продали за шесть рублей, а на следующий день — это было воскресенье — Владислав опять собрался на рынок.
— Ну уж теперь я пойду с тобой вместе, а то, чего доброго, ты еще себе купишь вместо штанов подзорную трубу, — сказал Сергей.
Вечером все студенты пили чай в комнате у Спасского и поздравляли его с обновкой. Сидели долго.
Уже поздно ночью
Владислав вышел на кухню долить самовар. Он увидел, что Сергей занимается странным делом: медленно и осторожно окунает длинную тонкую веревку в бутылку с тушью.
— Что ты делаешь?
— А ты что за спрос? — засмеялся Сергей, вспомнив бабушку Маланью.
Он вытащил мокрую черную веревку из бутылки и повесил ее сушиться у печки.
На другое утро Сергей и Спасский случайно вышли из дому вместе. Когда они подходили к Грузинской улице и Владислав собирался уже свернуть к университету, он вдруг заметил, что левый сапог у Сергея крест-накрест перевязан черной веревкой. Веревка поддерживала отваливающуюся подошву.
— Это что ж такое? — удивился Владислав и вдруг, узнав вчерашнюю крашеную веревку, осекся на полуслове и замолчал.
Через неделю Спасский неожиданно получил от отца добавочный перевод на три рубля. Так как эти деньги, по его словам, были «сверх сметы», Спасский решил истратить их на удовольствия. На два рубля он купил чайной колбасы, огурцов, булок, ванильных баранок и бутылку кислого красного вина, на этикетке которого славянскими буквами было написано: «Церковное». А на остальные деньги купил два билета в театр.
— Как вы на это смотрите, уважаемый инженер-механик? — спросил оп, размахивая двумя розовыми бумажками. — Приглашаю вас завтра в театр. На «Фауста». Не возражаете?
Сергей, конечно, не возражал. Он никогда в жизни еще не бывал в театре. На следующий вечер друзья начали собираться в театр.
Ученикам промышленного училища позволялось ходить в театр только по особому разрешению. Сергей не был уверен, что ему дадут такое разрешение, и решил пойти тайком, в «вольном платье».
Он сам выгладил себе рубашку, начистил сапоги и замазал чернилами заштопанные на коленках дырки. Спасский вычистил свой студенческий мундир и надушился одеколоном.
В Казанском оперном театре они разделись в гардеробной и поднялись по лестнице, застланной коврами.
На улице шел снег, дул холодный ветер, а здесь было тепло, сверкали зеркала и пахло духами.
Когда швейцар, распахнув входную дверь, впускал людей, занесенных снегом, с улицы врывалась струя холодного воздуха и свист ветра.
Товарищи потолкались в фойе, где чинно прогуливались дамы в платьях со шлейфами и мужчины в черных сюртуках или военных мундирах. Тут и там мелькали студенческие тужурки. Изредка медленно и важно, заложив руки за спину, по фойе проходил богатый татарин-торговец, в длиннополой суконной поддевке, желтых сапогах и бархатной, вышитой серебром тюбетейке.
Когда прозвучал звонок к началу, Сергей повернул было вслед за нарядной толпой в партер.
— Куда ты? Нам, дружище, выше! — схватил его за плечо Спасский.
«Выше» — оказалось галеркой. Деревянные скамьи, стоявшие в несколько рядов, были заполнены учащейся молодежью.
Места у Сергея и Спасского были боковые. Чуть ли не над их головами нависал пестрый потолок, расписанный толстыми амурами и ангелами, играющими на скрипках. На галерке, набитой до отказа, было душно и шумно. Студенты и курсистки перекликались, менялись биноклями, передавали друг другу программы. Сергей перегнулся через барьер и начал глядеть вниз. Из оркестра доносился нестройный гул настраиваемых инструментов.
В темно-красных бархатных ложах, похожих на нарядные коробочки, сидели дамы с обнаженными руками и плечами, обмахиваясь веерами, а за ними стояли мужчины в блестящих крахмальных манишках и черных фраках.
Когда оркестр заиграл увертюру, занавес медленно пополз в сторону.
Сергею хорошо было все слышно, но видел он, что делается на сцене, только тогда, когда артисты выходили на середину сцены. Стоило им отойти к правой кулисе, как они исчезали, словно проваливались сквозь пол. Артистка, исполнявшая роль Маргариты, к досаде Сергея, все время стояла у правой кулисы, Сергей слышал ее пение, а видел только кусок шлейфа ее атласного белого платья.
Но все это казалось Сергею пустяками, — до того нравились ему пение, музыка и сам театр. Он сидел, закрыв глаза и подперев обеими руками голову.
Больше всего понравилась ему ария Мефистофеля «Люди гибнут за металл».
Возвращаясь домой, Сергей и Спасский во весь голос распевали арию Мефистофеля. Только на перекрестках, где стоял городовой, они замолкали.
Через несколько дней, когда Сергей пошел навестить Акимыча, он рассказал ему о театре.
— Билеты-то небось дорогие? — спросил старик.
— Сорок копеек, да я не сам платил. Меня товарищ повел.
— Ишь ты, богач какой! А сидел за сорок копеек где?
— Наверху места были.
— В райке, значит? — засмеялся Акимыч. — Что ж, раек — это место почетное. Мой Григорий со студентами тоже всегда в райке сидел. А господа, те больше в ложах. У них везде свои места — и в церкви, и в театрах. Даже бани и те у них свои, «дворянские», а у нас «простые».
Глава XXVIII
«БЛАГОДЕТЕЛИ» ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Когда Сергей ехал учиться в Казань, его беспокоило только одно: как бы не остаться на второй год.
Польнер сказал ему, что если он останется, то ему придется вернуться обратно в Уржум. Купцы-«благодетели» ни за что не согласятся платить за лишний год.
В Казани, придя в первый день на занятия, Сергей прочитал расписание уроков и задумался. Двенадцать предметов, шутка ли! И среди этих предметов есть такие, о которых он и не слышал раньше никогда: механическое производство, устройство машин, механика, счетоводство, черчение…
Но не так страшен черт, как его малюют. Когда началось учение, Сергей увидел, что со всеми этими мудреными предметами он, пожалуй, справится.
Скоро на уроках учителя стали его похваливать.
— Недурно, молодой человек, — говорили они, — старайтесь и впредь.
Так прошли первые месяцы учения в промышленном.
Приближался страшный для всего училища день — в этот день должны были объявить отметки за первую четверть. Сергей знал, что занятия у него идут хорошо, и потому не тревожился.
Но оказалось, что дела его обстояли даже лучше, чем он ожидал.
Надзиратель назвал его фамилию в числе первых пяти учеников.
Придя домой, Сергей сразу же уселся писать письмо в Уржум Польнеру.
Надо было сообщить, что деньги на учение потрачены не зря. Но ответа он не получил.
Узнав от Польнера, что Костриков считается в классе одним из лучших учеников, купцы-попечители тут же решили больше денег на учение и содержание его не посылать.
— Такой способный парень и сам не пропадет! Авось и без нас как-нибудь пробьется, — рассудили «благодетели».
И вот за два дня до объявления второй четверти школьный надзиратель Макаров после урока алгебры сказал Кострикову, что его немедленно требует к себе в кабинет сам инспектор Широков.
— Ну уж если сам Широков вызывает, — значит, дело серьезное.
Инспектор Широков чаще всего вызывал учеников для того, чтобы отчитывать их и сажать в карцер за нарушение правил. Сергей пошел к инспектору немного обеспокоенный и удивленный.
Наверное, его ждет какая-нибудь неприятность.
Так оно и вышло.
— Костриков Сергей? — сердито спросил Широков, едва Сергей успел переступить порог кабинета, заставленного тяжелой дубовой мебелью.
— Да, Костриков Сергей.
— Так вот, молодой человек, потрудитесь внести плату за право учения не позднее двенадцатого числа сего месяца!
Сергей чуть заметно пожал плечами.
— Но ведь за меня платят из Уржума, попечители приюта…
— В том-то и дело, что не платят ваши попечители. Напишите им, узнайте, почему они перестали высылать деньги. В случае неуплаты вам грозит исключение. Можете идти!.. — Инспектор слегка кивнул головой и погрузился в чтение какой-то бумаги.
Сергей вышел из кабинета.
— Вот тебе и поучился!..
Невесело было ему и тревожно. Чего-чего только он не передумал за длинную дорогу с Арского поля до Нижне-Федоровской!
Может быть, заболел Польнер? Может быть, внезапно в один и тот же час умерли от паралича оба попечителя приюта, как внезапно умер прошлым летом толстый полковник Ромашко?
Может, на почту, которая везла его деньги из Уржума в Казань, напали разбойники, убили ямщика с почтальоном и ограбили почту?
Он сам слышал когда-то, как бабушка рассказывала своему задушевному другу, кривому старику караульщику Владимиру Ивановичу, что у них такие случаи в Глазовском уезде бывали.
А может, Широков просто ошибся? Завтра он опять вызовет Сергея в кабинет и скажет:
«Можете продолжать учиться, Костриков. Вам не грозит исключение!»
А дома Сергея поджидала уже другая беда.
Вечером, когда он занимался на кухне черчением, на пороге появилась Людмила Густавовна. Она была, как всегда, в голубом бумазейном капоте. На ее прыщеватом лбу, как всегда, рожками торчали папильотки.
— Пора спать! — сказала она ворчливо. — Нечего керосин жечь.
— Мне еще нужно уроки готовить.
— А мне какое дело! Керосин нынче опять на копейку подорожал.
Людмила Густавовна погасила лампу и вышла из кухни, хлопнув дверью. Сергей с минуту посидел в темноте, потом нащупал наколотый на доску чертеж, который ему нужно было завтра отдавать учителю, нашарил спички и зажег лампу. Но не успел он взять циркуль в руки, как дверь из коридора в кухню снова открылась. На пороге опять стояла Людмила Густавовна. Можно было подумать, что она и не отходила от дверей.
— Кому я сказала — туши лампу!
Она подбежала к столу и с такой силой подула на лампу, что из стекла взметнулось пламя и сейчас же погасло.
— Никакой человек не обязан даром держать жильцов! Каждый угол в теплой квартире стоит денег. Отопление, освещение, мытье полов в коридоре и кухне, — перечисляла Людмила Густавовна в темноте плачущим голосом. — Твои благодетели отказались платить. — Опа всхлипнула. — Я не могу!.. Ищи себе другую квартиру!..
В этот вечер чертеж так и не удалось доделать. Всю ночь Сергеи ворочался на своем сундуке с боку на бок и не мог заснуть до утра. Еще не было шести, когда он оделся и вышел из дому. Он решил дочертить заданный урок в классе.
До Арского поля он почти бежал, не разбирая дороги. В лицо дул холодный ветер. Редкие прохожие попадались навстречу Сергею. Все они торопились куда-то, у всех были хмурые лица.
«Только бы успеть приготовить чертеж к началу урока», — подгонял себя Сергей, перепрыгивая через лужи. Он боялся даже подумать о самом страшном: а вдруг его и вправду выгонят из училища, а Людмила Густавовна не пустит домой ночевать! Тут он вспомнил, что у него в классе кто-то из учеников получает стипендию от какого-то Казанского общества помощи бедным ученикам. Но кто знает, может быть, это общество помогает только казанцам — тем ученикам, которые родились и живут в Казани.
А как же быть ему — уржумскому?
Он подошел к училищу. Парадная дверь была еще заперта — оставалось идти с черного хода. Сергей вбежал во двор и увидел около крыльца старика сторожа.
С озабоченным лицом, почти благоговейно, сторож чистил веничком свой выцветший казенный мундир.
Он, видимо, недавно встал, и седые жидкие волосы его были растрепаны, а не расчесаны, как обычно, на прямой ряд. Сергей прошмыгнул мимо старика, занятого столь важным делом, и помчался в свой класс.
В пустых темных и прохладных коридорах гулко раздавались его шаги. В самом конце коридора топилась печка. Сухие дрова стреляли и щелками на весь коридор, а на полу около печки дрожали красноватые тени.
В классе Сергей пристроился у окна, чтобы было посветлее, но чертить на парте было неудобно. Чертежная доска все время съезжала. Да и серое утро за окном не очень-то помогало делу.
Только бы успеть, только бы успеть!.. Но работа шла плохо. То и дело ломался карандаш, валился из рук циркуль. Трудно работать, когда, может быть, дня через три-четыре придется навсегда бросить учение.
В коридоре пробили часы, когда он окончил чертеж., Половина восьмого. После бессонной ночи Сергею так захотелось спать, что он сел за парту и, положив голову на вытянутые руки, задремал. Так застал его Асеев, который пришел в училище одним из первых.
— Ты что — ночевал здесь, что ли? — спросил он Сергея.
Тот приподнял голову, и Асеев увидел, что лицо у него желтое, хмурое и сонное.
— Да что с тобой? Беда какая? — Асеев подсел к нему на парту.
Сергей коротко, словно нехотя, рассказал ему про свои дела.
Асеев только пожал плечами.
— Хозяйка отказала — велика важность! Плюнь ей в глаза и переезжай к нам на Рыбнорядскую. Мы с Яковлевым как-нибудь потеснимся. А насчет Широкова тоже чего-нибудь в три головы придумаем.
Сергей повеселел и в первую же перемену пошел к надзирателю Макарову просить, чтобы ему разрешили переехать на новую квартиру.
Но это оказалось не так просто.
— Дня через три получишь ответ, — сказал надзиратель. — Сначала наведем справки относительно благонадежности твоей новой квартирной хозяйки. Мы должны знать, в какой обстановке живет ученик нашего училища.
И Макаров велел Сергею сообщить в канцелярию новый адрес. Адрес был такой: Рыбнорядская улица, дом Сурова, квартира Мангуби.
Три дня Сергей приходил в училище чуть свет и готовил тут свои уроки, чтобы пореже встречаться с Людмилой Густавовной. А на четвертый день он получил наконец разрешение переехать на новую квартиру.
Он распрощался с Владиславом Спасским и остальными жильцами-студентами и забрал свою корзинку.
У Людмилы Густавовны было во время прощания такое обиженное лицо, словно это ей, а не ее угловому жильцу отказали от квартиры.
Переехать и устроиться на новом месте Сергею было гораздо проще, чем получить на это разрешение.
Рядом с двумя гвоздями, на которых висели тужурки и шинели Асеева и Яковлева, Сергей вбил третий гвоздь для своей шинели.
В угол, где стояли две корзинки, он поставил третью.
Все было готово. Только спать Сергею было не на чем. Асеев предложил сдвинуть вместе обе железные койки, свою и Яковлева, и посредине положить Сергея.
Это было бы, пожалуй, и не плохо, если бы кровати были немного пошире, а железные края у них не такие острые. Кроме того, у одной из кроватей давно не хватало ножки, и ее подпирал деревянный чурбак.
— Лучше уж я на полу лягу. Это понадежнее будет, — сказал Сергей.
Так и порешили. Соорудили на полу между столом и окошком постель, и Сергей улегся, вытянувшись во весь рост. Этого удовольствия он себе не мог позволить, пока жил в коридоре у Людмилы Густавовны Супдстрем и ютился на старом сундуке.
Глава XXIX
ЖИЗНЬ ВТРОЕМ
На новом месте Сергею жилось хоть и по-прежнему впроголодь, но зато свободно. Заниматься можно было до поздней ночи. В комнату, где жили втроем Сергей, Асеев и Яковлев, не приходила квартирная хозяйка, не высчитывала, на сколько копеек выгорело в прошлый вечер керосина.
Керосин они покупали сами, и бегали за ним все трое по очереди на угол, в москательную лавку.
Спать на полу Сергею пришлось недолго. Из четырех досок и четырех поленьев он сколотил себе широкий и длинный топчан, на котором можно было лежать, вытянув ноги.
Из того, что было в комнате, Сергею понравился больше всего стол для черчения. Работали за ним втроем, и всем хватало места.
По правде сказать, этот огромный стол, неизвестно как сюда попавший, никогда не предназначался для черчения. Это был портновский стол, весь покрытый следами каленого утюга.
По вечерам товарищи зажигали лампу под самодельным абажуром и, положив на стол три чертежных доски, дружно принимались за работу, то напевая, то насвистывая.
Работали старательно и терпеливо. Преподаватель черчения Жаков был очень строг и требовал, чтобы на чертеже не было ни единой помарки, ни единого пятнышка.
Асеев был неряхой и часто оставлял на блестящей ватманской бумаге оттиски своих пальцев. Поэтому его карманы были всегда набиты обмусоленными, стертыми резинками, но и они мало помогали делу, а только еще больше пачкали бумагу. Приходилось прибегать к последнему средству — к хлебному мякишу. Специально для этой цели товарищи через день покупали в булочной полфунта ситного.
При покупке обязательно просили у приказчика, чтобы тот отвесил им не горбушку, а серединку. Хрусткие, поджаристые корочки товарищи съедали по дороге из булочной, а мякиш делили на три равные части и берегли, как зеницу ока.
У Асеева ситный кончался раньше, чем у всех. Половина у него уходила на подчистку пятен, а другую половину он незаметно для самого себя съедал, отщипывая кусочек за кусочком. Когда от мякиша у него оставались одни только крошки, он начинал приставать к Сергею и просить у него взаймы кусочек ситного.
— Опять съел? — удивлялся Сергей.
— Съел, — признавался Асеев. — Уж очень он сегодня мягкий и вкусный, черт бы его побрал!
Для товарищей белый хлеб был лакомством.
— Последний раз даю, — предупреждал Сергей и, отломив от своей доли кусок, протягивал Асееву.
— Дай еще, — снова просил Асеев через полчаса. — На что тебе нужен ситный? У тебя чертежи и без того чистые выходят.
Товарищи вместе чертили, вместе решали геометрические задачи. А утром они втроем отправлялись на Арское поле, в училище. За разговорами дорога казалась короче.
Сергею жилось теперь гораздо веселее, чем прежде. Одно только беспокоило его: надо платить за учение, а денег нет.
Сергей подал прошение в педагогический совет Казанского промышленного училища и со дня на день ждал ответа.
Прошение было немногословно.
Много точно таких же бумажек поступало каждое полугодие в совет училища. Писались такие прошения одинаково — по форме:
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАЗАНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЧИЛИЩА
Ученика низшего механического училища Кострикова Сергея
Прошение
Не имея денег для взноса платы за право учения в Казанском промышленном училище, честь имею покорнейше просить Педагогический Совет Казанского промышленного училища освободить меня от вышеупомянутой платы.
Второе прошение Сергей подал в Общество вспомоществования нуждающимся учащимся. Это прошение тоже было написано по форме. Сергей просил «оказать ему помощь в виде денежного единовременного или ежемесячного пособия».
В обществе на его прошении написали: «На три месяца 5 рублей с февраля. Очень б. Ничего не получает. На что живет, неизвестно».
Буква «б» означала слово «беден».
— Нечего сказать, помогают учащимся! — со злостью сказал Яковлев. — Отвалили пятерку в месяц — и отделались. На еду тебе с грехом пополам хватит, а сапоги чинить на что будешь?
Но когда Сергей пришел получать пособие, сердитый и сонный секретарь объявил ему, что деньги он будет получать только два месяца.
— Так на заседании постановили. Два месяца по пятерке. Читайте протокол.
И секретарь ткнул пальцем в развернутый лист бумаги, где в длинном списке нуждающихся Сергей нашел и свое имя, выведенное круглым канцелярским почерком.
Сергей прочитал протокол, получил пятерку и молча вышел из канцелярии общества.
Он думал об одном, как бы только протянуть ему этот год. А на следующий год он постарается обойтись без всяких попечителей и обществ. Пойдет на практику куда-нибудь на завод или в ремонтные мастерские.
Конечно, не плохо бы и нынешним летом подработать денег на зиму. Только возьмут ли первоклассника? Если бы взяли, он пошел бы с радостью. Все равно летом ему ехать некуда, да и не на что. К бабушке Маланье не поедешь, она сама еле-еле концы с концами сводит. В приют тоже не поедешь. Польнер не отвечает ему ни на одно письмо.
Может, он уже давно и приютским-то не считается?
Нет, нужно надеяться только на свои руки!
К весне Сергей заболел.
Он долго не хотел поддаваться болезни. Захвораешь — сляжешь. А если сляжешь, значит, не будешь ходить в училище. Сейчас для Сергея это было немыслимо.
Разве можно заболеть, когда педагогический совет еще не дал ответа, освободит ли он от платы Сергея или уволит из училища? Нельзя поддаваться болезни, нельзя пропускать уроки. Надо каждый день бывать в мастерских и лабораториях, надо учиться на круглые пятерки.
Но как ни крепился Сергей, а лихорадка делала свое дело. Его потягивало, знобило и трясло. Все одеяла и шинели, которыми укрывали Сергея товарищи, не могли его согреть. Не помогал и крутой кипяток, хотя Сергей, обжигаясь, глотал по пяти стаканов чая подряд.
— У нас здесь редко кто лихорадкой не болеет. Такой уж город гнилой, — говорил Сергею старичок дворник, — Как весной в половодье Волга разольется, так и затопит низкие места. До пол-лета сырость не просыхает — чистое болото. А для лихорадки сырые места — самое раздолье. Нужно бы тебе, парень, чаю с малиной выпить, в баню попариться сходить! — кричал дворник вдогонку Сергею, когда тот утром выходил из дверей с чертежами и книжками.
— Ничего, дедушка, и так пройдет! — отмахивался Сергей. — Ляжешь да и разлежишься.
И он не пропускал ни одного дня ученья.
Желтый, осунувшийся, дрожа от озноба, он просиживал в классе от первого урока до последнего, а однажды даже отправился с экскурсией на парафиновый завод. Но по дороге ему стало так плохо, что Асееву и Яковлеву пришлось вести его под руки.
Дома по вечерам Сергей вычерчивал детали машин, чуть ли не лежа на столе. А когда приходило время укладываться, у него уже не хватало сил раздеться и лечь.
Стянув с ноги сапог, он просиживал так несколько минут. От слабости у него кружилась голова и его покачивало, по он старался сидеть прямо, опираясь обеими руками на края топчана. Только по плечам, которые дрожали мелкой дрожью, Асеев и Яковлев видели, что Сергея опять лихорадит, или, как говорил старик дворник, «бьет».
Однажды Асеев слышал, как Сергей, уже лежа в постели и завернувшись в одеяло с головой, вдруг сказал негромко, но внятно: «Спи, Сергей, спи».
Асеев так и не понял, во сне ли это говорил Сергей или бредил.
Глава XXX
ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ
Недели за две до роспуска учеников на каникулы в канцелярии промышленного училища на стене был вывешен список с фамилиями учеников, «уволенных на летние каникулы к родителям, родственникам или на практику». В списке первого класса, где учился Сергей, значились следующие фамилии:
1.
Асеев Дмитрий. Город Уфа — к родителям.
2. Веселицский Василий. Город Сенгилей Симбирской губернии — к родителям.
3. Дедюхин Иван. Город Сарапул — к родителям.
4. Желудков Николай. Город Слободской Вятской губернии — к родственникам.
И так дальше, по алфавиту до буквы К и после нее. Кто ехал в Нижний Новгород, кто в Область Войска Донского, кто в Вятку, кто в Царицын и Самару, кто куда, — но все ученики ехали к родителям и родственникам. Только двое во всем классе направлялись педагогическим советом на практику: Костриков Сергей — в город Симбирск на завод Сапгова и еще один парнишка — на Казанский пороховой завод. Сергей был рад. Он сам месяца два тому назад, когда его освободили, наконец, от платы за учение, просил педагогический совет послать его на практику.
Он был одним из лучших учеников, и поэтому его просьбу уважили.
Новый, незнакомый город Симбирск, неизвестный завод Сангова, а главное, будущая практика — все казалось Сергею заманчивым, и у него было одно желание — скорее ехать. Кто знает, может быть, удастся столько заработать за лето на этом заводе, что хватит на весь учебный год. И тогда, значит, не придется больше подавать прошения о пособиях.
До роспуска на каникулы оставалось еще добрых две недели, но уже суета и то особенное оживление, которое предшествует всегда отъезду, проникло в училище. Да и весна, верно, давала себя чувствовать. Солнце щедро сияло над городом, и солнечные зайчики прыгали и плясали повсюду: и по стенам классов, и по лицам учеников, и по сюртукам строгих и хмурых учителей, которые, казалось, посветлели и помолодели от весеннего солнца. И даже надзиратели, чем-то похожие на сердитых шершней, не налетали, как раньше, на учеников с угрюмым жужжанием.
Окна в классах были открыты настежь. Черный и влажный пустырь весь зазеленел. На школьных молодых березах появилась легкая и нежная листва.
Ученики ходили в шинелях нараспашку и в сдвинутых на затылок фуражках.
Разговоры у всех теперь начинались с одного: «А вот у нас летом…» И дальше шли почти сказочные рассказы о том, какие огромные яблоки и груши растут летом «у нас в Великих Луках» или «у нас под Самарой» и какие замечательные язи и окуни клюют там на живца.
Сергей тоже ходил в расстегнутой шинели и насвистывал что-то веселое. Он уже собирался ехать на пароходе в Симбирск, когда вдруг неожиданно пришло письмо из Уржума, а вместе с письмом пришли и деньги на дорогу. Письмо было от Польнера. Сергей перечитал его два раза, но все никак не мог понять толком, кто же посылает ему на дорогу деньги. То ли сам Польнер вспомнил наконец о нем, то ли купцы-попечители вздумали опять облагодетельствовать «сиротку»?
Сергей уже крепко свыкся с мыслью, что он поедет на практику в Симбирск, и вдруг такая перемена! Он далее не знал, что ему делать — куда ехать: в Уржум или на практику? Но выбирать долго не пришлось.
Инспектор Широков объяснил ему, что он, как воспитанник приюта, не имеет права до совершеннолетия распоряжаться собой без ведома приютского начальства. Раз выслали деньги, надо ехать. И Сергей поехал.
Самый дешевый путь из Казани в Уржум был пароходом.
До пристани Сергея никто не провожал — его товарищи и сожители по комнате уехали домой еще накануне.
С маленькой корзинкой в руках он еле пробрался на пароход через большую, шумную толпу провожающих.
Уезжало много народу, да и провожало немало. До отхода оставалось с полчаса. В каюте четвертого класса, большой, низкой и полутемной, было тесно и душно, как в трюме. Вся она была заставлена и завалена узлами, ящиками и кадками.
Плакали грудные младенцы, крикливо и уныло убаюкивали их женщины.
Какой-то белобрысый парень, сидя на грязном кособоком мешке, боязливо и тихо тренькал на балалайке.
Сергей оставался в каюте недолго. Он снова взял под мышку свою корзинку и вышел на нижнюю палубу. Тут тоже было грязно и шумно, но зато поближе к воде и все-таки на воздухе.
Скоро пароход отчалил. Сергей подошел к борту, прислонился к нему и стал смотреть, как уходит назад грязная казанская пристань с ее неугомонной толчеей.
Вот он впервые едет на каникулы домой. Всего восемь месяцев прожил он в Казани, а уж кажется, что в Уржуме целых пять лет не бывал. Любопытно будет теперь пройтись по длинным, горбатым, точно коромысло, уржумским улицам, встретить знакомых людей, побывать на мельнице, в Мещанском лесу…
После этого лета ему в Уржуме, пожалуй, не гостить. В будущем году — практика, а потом — на работу.
Целые сутки провел Сергей на пароходе «Кама», и все не уходил с палубы. Даже и спал здесь, пристроившись на каких-то мешках. А на следующее утро у пристани Соколики он пересел на вятский пароход. Это уже был как бы свой, родной пароходик, небольшой, чистенький, с крашеной палубой, и назывался он «Дед». Все вятские пароходы почему-то именовались по-семейному: «Отец», «Дед», «Сын», «Дочь», «Внучка», и даже был пароход «Тетка».
Сергей сел на скамеечку и почувствовал себя почти дома. Мимо проплывали одна за другой знакомые пристани — Вятские поляны, Горки, Аргыш, Шурма. От Шурмы до Уржума только тридцать верст оставалось, там уже Русский Турек и Цепочкино.
Когда пароход отошел от Русского Турека, у Сергея сердце заколотилось — до того захотелось ему очутиться в Уржуме. Хоть с парохода слезай и беги домой берегом. Слишком уж медленно шлепал колесами неповоротливый «Дед».
На пристани Цепочкино, где Сергею надо было слезать, вместе с ним на берег сошло восемь пассажиров — пятеро мужиков из села Цепочкина, две старухи и рябой худой монах с кружкой, в которой брякали медные деньги. Монах собирал на постройку церкви.
Прямо против пристани одиноко возвышалась гора; на самой ее верхушке белела скамеечка, по склонам горы росли березы и кусты орешника. Под горой притулилась старая, облезлая часовня. К ней, размахивая по-солдатски руками, зашагал монах с кружкой.
От пристани до Уржума считалось двенадцать верст по тракту, но была еще вторая дорога, узенькая тропка напрямик, через заливные луга. Этот путь был вдвое короче.
Сергей взобрался на гору, а потом легко сбежал вниз. Он шел лугами, вскинув на плечо свою маленькую корзинку, где лежало несколько штук белья, кусок мыла, полотенце, а на самом дне — награда первой степени — техническая книжка и похвальный лист с надписью: «За отличные успехи и примерное поведение».
Лист был плотный, глянцевитый, с гербами и золотым обрезом.
Подойдя к Солдатскому лесу, Сергей прибавил шагу. Уже начиналась окраина города и была видна Казанская улица. Тут Сергей не выдержал и пустился бегом. Только около солдатской казармы он остановился в раздумье.
«Куда же теперь идти — в приют или к бабке?»
Деньги на дорогу как-никак прислали из приюта, — значит, он еще приютский и должен идти в приют. Но как же не зайти домой — к бабке и сестрам?
Сергей постоял с минуту и свернул в сторону Полстоваловской. Он шел по городу и с жадностью смотрел вокруг. Мало что изменилось здесь за этот год, но и самые незначительные перемены он замечал.
Свернув на Полстоваловскую, Сергей сразу же увидел, что крыша городского училища выкрашена зеленой краской, а старый, покосившийся забор вокруг дома бакалейщицы Людмилы Васильевны починен и подперт новыми столбами. А бабушкин домик совсем не изменился; только нижнее подвальное окошко треснуло, — верно, ребята пальнули с улицы «чижом».
Бабушка сидела у окошка, оседлав нос старыми очками, и чинила белье. Сестренка Лиза за столом читала какую-то книжку. Она первая заметила Сергея и крикнула:
— Ой, бабушка, кто приехал!
Бабка сняла очки, пристально посмотрела на внука и заплакала. Усадив его на табуретку перед собой, она не спеша стала рассказывать ему все новости.
Сережа узнал, что старшая сестра его Анюта уехала несколько дней тому назад к своей подруге в слободу Кукарку. Нынче она окончила ученье, и с этой осени сама будет учить ребят в деревне.
О себе бабка почти ничего не рассказала.
— Что про меня говорить? Девятый десяток доживаю. Слепну. Вот Лизоньку на ноги поставлю, а там и умирать можно. О тебе, Сереженька, я больше не беспокоюсь. Ты уже на верном пути.
Старушка взяла в руки фуражку Сергея с техническим значком, смахнула с нее пыль и положила на место.
— Нужно будет молебен отслужить, — это тебе бог учиться помогает, — сказала напоследок бабушка.
Сергей в ответ только усмехнулся.
Посидев дома с полчаса и пообещав забежать еще вечерком, Сергей отправился в приют. По дороге он заглянул в другую половину дома, к Самарцевым, но Сани дома не оказалось — он уехал кататься на лодке.
Польнер встретил Сергея приветливо и даже поздоровался с ним на этот раз за руку, как с равным.
— Располагайся в приюте как дома. В спальне у мальчиков для тебя найдется место.
Сергей чувствовал себя странно среди приютских. Его сверстников что-то не было видно. Оказалось, что Васька Новогодов уже стал сапожником, рыжий Пашка определился в столяры, Наташа Козлова на казенный счет учится в гимназии на Воскресенской улице, а маленькая Зинка умерла от скарлатины. На Сергея глазели незнакомые малыши-новички, только что поступившие в приют. Сергей услышал, как один из них, высунувшись в окно, закричал кому-то во двор:
— А к нам дяденька чужой жить приехал!
А «дяденьке» было неловко и даже как-то чудно жить с такими малышами в одной комнате. Он пошел к Польнеру и сказал, что хотел бы ночевать дома, на Полстоваловской, а столоваться, если можно, он будет приходить в приют. Польнер подумал с минуту, почесал бровь, зевнул — и дал согласие.
Вечером Сергей отправился опять на Полстоваловскую. Уже закрывались лавки и лабазы на Воскресенской, и приказчики навешивали на окна тяжелые деревянные ставни. Кое-где в домах зажгли огни. На углу Буйской и Воскресенской четверо босоногих мальчишек шумно играли в бабки.
На крылечке своей бакалейной лавки сидела Людмила Васильевна и вязала длинный белый шерстяной чулок. Такие чулки она вязала уже лет пять подряд, и неизвестно было, кто же будет носить такие большие, длинные, толстые чулки.
На этот раз Саня оказался дома.
За последний год он еще больше вытянулся и был выше Сергея чуть ли не на две головы. Он кончил реальное, но ходил все еще в форме — донашивал ее.
— Ну как, Серьга, понравилась тебе Казань? — сразу же спросил Саня.
— Отчего же не понравиться? Город большой, красивый. Одних учебных заведений, пожалуй, штук около ста будет, — сказал Сергей.
Саня недоверчиво покачал головой. Он вспомнил, что когда-то, приехав из Вятки, сам плел всякие небылицы.
Должно быть, и Сергей тоже малость прихвастнул.
— Ну, а как в Казанском промышленном — трудновато учиться?
— Как тебе сказать… Не то чтобы трудно, но работы хватает. Двенадцать предметов.
Оба помолчали.
— А ты еще не бреешься? — сказал Саня, поглядев на темный пушок, который появился у Сергея на верхней губе.
— Нет, думаю усы и бороду отращивать, — ответил Сергей и засмеялся.
Так разговор и не клеился. Наконец Сергей вскочил с места и сказал:
— Знаешь что — побежим-ка мы с тобой купаться… по старой памяти!
И друзья детства отправились на Уржумку.
Дорогой Саня нет-нет да и оглядывал искоса Сергея, точно никак не мог его узнать.
«И верно, Сергей какой-то странный и непонятный стал, не то задумчивый, не то строгий. А может, эту серьезность он только для виду на себя напускает», — раздумывал Саня, вышагивая рядом с товарищем.
— Слушай, а я совсем позабыл тебя спросить — немецкий язык у вас изучают? — сказал Саня.
Сергей мотнул головой.
— Какое там! Начальство считает, что «масленщикам» немецкий знать ни к чему…
«Нет, не хвастает, — подумал Саня. — Уж что за хвастовство, если масленщиком себя называет!»
На обратном пути после купанья, уже подходя к дому, Сергей взял Саню под руку и спросил негромко:
— А ты на Полстоваловскую к ссыльным не собираешься?
— Нет, не думал, — удивился Саня. — А тебе зачем?
— Хочу познакомиться. Не заглянуть ли нам завтра вечерком?
— Что ж, заглянуть можно. У меня ведь там как-никак учитель старый живет — Дмитрий Спиридонович Мавромати, — ответил Саня.
Глава XXXI
КРАМОЛЬНИКИ
Все в городе от мала до велика знали старый одноэтажный домик под горой, в конце Полстоваловской улицы.
В этом домике, принадлежавшем вдове чиновника, старушке Анне Павловне, в трех комнатушках жили политические ссыльные, или, как их называли в городе, «крамольники». Было их девять человек, жили они дружной коммуной.
Старшим в этой молодой коммуне был рабочий ростовских мастерских Зоткин, человек лет тридцати, высокий, сутулый, с длинными, обвисшими усами. Он любил пошутить и прозвал домик под горой «Ноевым ковчегом».
Всю эту молодежь — студентов, рабочих — выслало сюда царское правительство: кого за принадлежность к рабочим подпольным организациям, кого за участие в стачечном комитете или в демонстрации. Пригнали их в Уржум с разных концов России. Были тут два поляка, два латыша, один украинец, один грек и трое русских.
И все они пришли по этапу.
В любую погоду, в зной или проливной дождь, шагали они по трактам и проселочным дорогам, прежде чем увидели зеленый холмистый городок Уржум над рекой Уржумкой.
Это была первая для них длительная остановка после тяжелого, многодневного пути с ночевками на этапных дворах. От рассвета до вечерней темноты шли они со своей партией по дороге. А конвойные ехали по сторонам на лошадях и поторапливали отстающих.
Не всегда ссыльные добирались до места ссылки прямым путем. Дмитрий Спиридонович Мавромати из города Ейска до Уржума путешествовал два с половиной месяца, а обычным путем на это нужно потратить всего пять дней.
Мавромати везли длинной кружной дорогой — из Ейска в Ростов, из Ростова в Самару, из Самары в Казань, из Казани в Уфу, из Уфы в Челябинск, из Челябинска в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Вятку, из Вятки в Нолинск, а уже оттуда в Уржум. В каждом городе политическим приходилось ждать попутчиков ссыльных, которых направляли по одному с ними маршруту.
Иной раз они задерживались по педеле, а то и больше, в пересыльной тюрьме. Тюрьмы эти потому и назывались пересыльными, что через них «пересылались» арестанты.
В Уржум пригоняли еще не так много ссыльных. В Вятке их было больше, в Вологде, Архангельске и в Мезени еще больше. А уж про Сибирь и говорить нечего.
Там для ссыльных было много места.
Первым делом, как только «высланные под гласный надзор полиции» добирались до места назначения, они должны были явиться к исправнику. Он принимал их под расписку, словно вещи, и сразу же объявлял им все правила, которым они должны были подчиняться.
Правила были такие: два раза в месяц приходить к исправнику на проверку, никуда не отлучаться за черту города дальше чем за пять верст, а главное — не заниматься политикой и не заводить связи с местным населением.
Служить и заниматься преподаванием ссыльным строго запрещалось.
Политическим оставалось одно: идти в землекопы, каменщики или плотники. А в иных местах глухой Сибири политическим ссыльным подчас приходилось просто идти в батраки, чтобы только не умереть от голода.
Политические измышляли всяческие способы, чтобы хоть что-нибудь заработать. Братья Спруде в Уржуме стали заниматься огородничеством. Это были первые огородники, которые вырастили здесь парниковые огурцы и помидоры. Вся коммуна питалась овощами из своего огорода, да еще продавала их на сторону.
Рабочий Зоткин ходил на Уржумку ловить рыбу, и это тоже было подспорьем. Мавромати давал уроки, готовил ребят в реальное училище и гимназию. По закону это не полагалось, но в городе образованных людей было не так-то много, и полицейские власти смотрели на это сквозь пальцы.
Политические жили одной большой крепкой семьей — даже в ссылке они не теряли связи с товарищами, которые оставались на воле. Эту связь поддерживали перепиской. Письма передавали через надежного человека, чтобы миновать полицейский контроль.
В каждом городе и даже в деревне находились люди — рабочие, учителя, студенты, — которые, не боясь попасть под гласный или негласный надзор полиции, помогали ссыльным чем и как могли.
Через поля, леса и болота переносили они письма, брошюрки и нелегальные газеты, спрятанные в сапоги, под рубашку или зашитые в подкладку пиджака. Политические и в ссылке продолжали свое дело. На дальних окраинах они вели революционную работу. А недовольных царем и жандармами находилось немало повсюду, даже в самых глухих и дальних углах.
Царь и его жандармы просчитались. Каждый год высылали они из столиц и других городов «неблагонадежных», по от этого в городах число революционеров не уменьшалось, а увеличивалось, да и на окраинах их становилось все больше и больше. Ссыльные привозили с собой в медвежьи углы свои книги, свои мысли, свои песни.
Глава XXXII
ДОМИК ПОД ГОРОЙ
Сколько раз Сергей, еще совсем маленьким, пробегал мимо старого домика на Полстоваловской, стараясь каждый раз заглянуть в окошко и подсмотреть, как живут эти странные, не похожие на уржумцев люди!
А теперь он поднимается к ним на крыльцо как гость.
Из открытого окна было слышно, как кто-то играл на скрипке.
Сергей и Саня постучались.
— Открыто, — послышался чей-то голос. — Входите!
Они толкнули дверь, прошли через маленькие сени и очутились в комнате, где за столом, покрытым суровой скатертью, у самовара сидело трое человек. Четвертый стоял, повернувшись лицом к окну, и, слегка раскачиваясь, играл на скрипке.
— Это и есть Мавромати, — шепнул Саня, кивнув головой на скрипача, и тотчас же громко сказал: — Добрый вечер, Дмитрий Спиридонович! Я к вам с товарищем зашел.
Мавромати, не отрывая подбородка от скрипки, улыбнулся ему и ответил:
— А, Саня! Ну садись, я сейчас доиграю.
Со стула поднялся высокий широкоплечий человек с белокурыми кудрявыми волосами.
— Будем знакомы. Франц Спруде, — представился он и крепко пожал мальчикам руки.
— Христофор Спруде, — сказал другой человек, тоже светловолосый, но с бородкой. Это был старший брат Франца.
Молодая стриженая женщина, панна Мария, налила гостям по стакану чая и подвинула к ним тарелку с баранками. «Бедно живут», — подумал Сергей, оглядевшись по сторонам.
В комнате не было никакой мебели, кроме трех узких железных кроватей вдоль стен. На самодельных деревянных полках лежало много книг. В простенке висел портрет Пушкина, нарисованный тушью.
— Что это ты, Дмитрий, сегодня играл? — спросила женщина, когда Мавромати опустил скрипку.
— Поэму Фибиха.
— А я думал, опять упражнение, — засмеялся старший Спруде, показывая крупные белые зубы.
— Если бы гаммы, я бы давно убежал, — отозвался Спруде-младший.
Не обращая внимания на их шутки, Мавромати присел к столу и, отхлебывая чай, спросил Саню:
— Как успехи? По тригонометрии подогнал?
— Чего теперь подгонять? — сказал Саня. — Я уже реальное окончил.
— Ну, поздравляю. А товарищ твой где учится?
— В Казани, в низшем техническом училище, — ответил Сергей.
— В Казани?
Тут разговор оживился. Ссыльные стали расспрашивать Сергея про училище, про город, про казанские новости.
Скоро вернулся с рыбной ловли рабочий Зоткин. Он принес и поставил перед панной Марией ведро, в котором трепыхалась рыба. Сергей и Саня заглянули в ведро: там была и крупная рыба, и много всякой мелочи. Больше всего
места занимала щука, свернувшаяся в ведре кольцом.
— Завтра у нас будет рыбная уха, — весело сказал Франц Спруде и потер руки.
— Уха не бывает из телят, — поправил его Христофор Спруде, — она всегда рыбная. Пора выучить русский язык.
Все засмеялись, а громче всех — Франц Спруде.
«Хороший народ, веселый», — подумал Сергей.
Он уже чувствовал себя здесь как дома. Ему хотелось разговаривать, шутить, и было интересно слушать других. Саня смотрел на него с удивлением и молча пил чай.
«Ишь ты, какой разговорчивый стал!» — думал он.
Ушли Сергей и Саня от крамольников поздно.
— Заходите к нам часто, — приглашал Франц Спруде.
— Забегайте, забегайте, ребятки, — ласково сказал Зоткин.
Возвращаясь от ссыльных, Сергей всю дорогу насвистывал что-то веселое, а рядом с ним вышагивал хмурый, чем-то недовольный Саня.
Дома они быстро поужинали и пошли спать в амбар, где Саня всегда жил летом, приезжая на каникулы. Там стояла деревянная широкая кровать, маленький стол и табуретка. А в углу амбара были свалены в кучу безногие стулья, прогоревшие чугуны, разбитое корыто и прочий не пригодный к делу домашний скарб.
Саня зажег свечку, подсел к столу и принялся читать какую-то книгу.
— Ты это что читаешь? — спросил Сергей.
— А ну тебя, — отмахнулся Саня.
Лицо у него было нахмуренное.
— Ты чего надулся?
— Отстань!
Но через минуту Саня сам заговорил с Сергеем и открыл ему свою обиду.
Как же это так? Ему, Сане, своему старому товарищу, Сергей не рассказал о Казани ровно ничего, а у ссыльных разговорился так, что и удержу не было.
— Да брось ты, Саня, я просто не успел еще… Погоди, ночь длинная, я тебе много чего расскажу, — успокоил Сергей Саньку.
Когда приятели улеглись и погасили свечку, Сергей начал, позевывая, рассказывать про свою жизнь и ученье в Казани.
— А в Казани «Андрея Кожухова» читают? — спросил вдруг Саня.
Сергей впервые слышал об этой книге.
— А про что там?
— Про революционеров. Интересная! Я ее всю прочел, хоть мне ее только на одну ночь дали. Она запрещенная. У нас в реальном ее потихоньку друг другу передавали.
— А где бы эту книжку достать? — встрепенулся Сергей. — О чем там говорится?
Саня начал рассказывать. Рассказывал он не спеша и очень подробно, но в самых интересных местах, как назло, надолго умолкал, словно что-то припоминая.
— А дальше-то, дальше! — нетерпеливо толкал Сергей товарища в бок.
Наконец Саня кончил свой рассказ. Несколько минут в амбаре было тихо. Только слышно было, как в темных углах возятся и пищат мыши. Саня начал уже дремать, как вдруг Сергей приподнялся и, облокотившись на подушку, вполголоса, будто про себя, сказал:
— Повесили, значит… Слушай, Саня, а товарищи у Андрея остались?
— Остались, — ответил Саня спросонья.
…Через три дня приятели снова отправились к ссыльным.
— Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь почитать, — попросил Сергей у старшего Спруде чуть не с первых же слов.
Христофор подумал минуту, пристально посмотрел на Сергея и сказал:
— Хорошо.
Он дал ему номер «Искры», сложенный вчетверо и, видно, много раз читанный. Это была первая нелегальная газета, которую Сергей держал в руках.
— Почитайте, почитайте. Только осторожно, чтобы никто ее у вас не увидел. На одну ночь даю, — сказал Спруде.
После этого Сергею уже не сиделось в гостях. Хотелось поскорее вернуться домой и прочесть «Искру». Он вскочил и стал прощаться с хозяевами, а газету спрятал под рубашку.
Не успели мальчики дойти до третьего дома, как Саня начал торопить Сергея.
— Говорили же тебе, что надо быть осторожнее, — шептал он товарищу на ухо. — Скорее!.. Идем скорее!
— А ты не шепчи и не беги, если не хочешь, чтобы нас заметили, — отвечал Сергей, — Да и чего ты зря беспокоишься? Улица ведь пустая!
И верно, улица была пуста. Накрапывал дождик, и поэтому на скамеечках у ворот не сидели, не беседовали в этот вечер жители Полстоваловской.
Но Саня шел и все время прислушивался и оглядывался по сторонам.
Всякая мелочь пугала его: скрип калитки, внезапно раскрывшееся окно и в нем чья-то голова, выглядывающая на улицу, шаги прохожих, голоса на соседних улицах…
Ему казалось, что весь город знает о том, что они с Сергеем несут от ссыльных «Искру».
Недалеко от их дома навстречу им попался исправник Пенешкевич. Приземистый, коротконогий, он важно выступал, выпятив грудь и слегка переваливаясь с боку на бок. Товарищи переглянулись, и оба подумали одно и то же: «Вот идет мимо и даже не догадывается… А что, если бы догадался?»
Но исправник, не замечая их, проплыл дальше.
Вот наконец и калитка бабкиного дома. Мальчики вбежали во двор.
В амбаре они зажгли свечку, закрыли дверь на засов и принялись за чтение.
Так вот она какая, нелегальная газета «Искра»! Та самая, которую выпускает за границей Ленин, та самая, которую с опасностью для жизни революционеры тайком переправляют в Россию. Шестнадцать небольших, разделенных на два столбца страниц. Бумага тонкая, прозрачная, похожая на папиросную. В левом верхнем углу первой страницы напечатано: «Российская Социалъ-демократическая Рабочая Партия». А в правом углу: «Из искры возгорится пламя!»… Ответ декабристов Пушкину.
Сергей медленно перелистал легкие, чуть шелестящие страницы с непривычными заголовками: «Из нашей общественной жизни», «Письма с фабрик и заводов», «Иностранное обозрение», «Из партии», «Хроника революционной борьбы».
— Да читай по порядку, — сказал Саня.
Но Сергей, раскрыв номер на середине, начал читать то, что первым бросилось ему в глаза:
— «…Все только и говорят о том, что произошло в Сормове первого мая. Что же произошло там?..
Во время первомайской демонстрации были вызваны солдаты. Демонстранты вплотную подошли к ним и затем, повернувшись назад, продолжали свое шествие. Солдаты бросились за ними, начали разгонять толпу прикладами. Безоружные рабочие должны были уступить.
Только один товарищ остался до конца, не выпуская из рук знамени. «Я не трус и не побегу!» — крикнул он, высоко поднимая красное знамя, и все могли прочесть на нем грозные слова: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»
Товарищи! Кто из вас не преклонится перед мужеством этого человека, который один, не боясь солдатских штыков, твердо остался на своем посту?..»
Сергей перевернул еще несколько страниц и прочел другое сообщение — о Воткинском казенном заводе.
— «Воткинцы бастуют… На Воткинский завод отправился вятский губернатор и посланы войска из Казани. Рабочие забаррикадировали плотину своего пруда (единственный путь, ведущий к ним) и поставили на нем пушку, — благо они изготовляются на заводе…»
На той же странице сообщалось о забастовке в городе Бежице: там рабочие избили шпиона Мартиненко. В заметке было сказано: «Урок был хорош, потому что побитый агент говорит, что ни за что не останется теперь в Бежице (его колотят уже второй раз, но первый раз легко)…»
Сергей прочел письма с фабрик и заводов от первой строчки до последней. Все, о чем здесь говорилось, произошло так недавно — всего месяц или два тому назад.
И случилось это не где-нибудь за тридевять земель, а здесь под боком — в Вятке, в Нижнем, в Сормове…
Сергей еще был в Казани, когда оттуда выходили войска, посланные на Воткинский завод.
Может, он встретил их на улице, когда они спешили, направляясь на вокзал, и даже не подумал, куда их гонят.
Сергей быстро пробегал строки, набранные мелким шрифтом. Так странно было видеть напечатанными черным по белому слова: «революция», «восстание», «низвержение царского самодержавия», «самодержавие народа».
Это были те слова, которые произносились шепотом, с оглядкой, а тут они спокойно смотрели со страниц.
— Читай дальше, — сказал Саня.
Сергей перевернул еще несколько страниц и прочел: «Крестьянские волнения».
— «Недели две, как Полтава занята разговорами о крестьянских волнениях…
Все внимание изголодавшихся крестьян обращено было на хлеб, даром валявшийся в громадном количестве в амбарах. Они являлись с повозками, обращались к помещикам или управляющим с предложением отпереть амбар и добровольно выдать им часть хлеба и только в случае отказа сами отбивали замки, наполняли свои телеги и отвозили домой.
…Когда на требование властей возвратить забранный хлеб со стороны крестьян последовал отказ, войску отдан был приказ стрелять. Убито тут же три человека. Один, раненный двумя пулями и проколотый штыком, привезенный в Полтавскую больницу, через несколько часов умер. Затем началось сечение. Порка происходила в Васильевке; лозинок искать некогда было, поэтому били первыми попавшимися сучковатыми ветвями достаточной длины и толщины, и в силу этого (пользуясь деликатным выражением доктора) «целость кожи у всех наказанных нарушена». Пороли так, что изо рта, из носа обильно текла кровь, после порки крестьяне вставали сплошь почерневшими: иногда давали по сотне и по две ударов…»
Уже второй раз обходил караульщик Владимир Иванович со своей колотушкой Полстоваловскую улицу, когда Сергей и Саня дочитывали «Искру».
— Смотри-ка, наш Малмыж, — с гордостью сказал Саня, ткнув пальцем в одну из строк. — Из Малмыжа тоже, значит, высылают.
— Ссыльных, за маевку, — сказал Сергей, — шесть человек.
— Куда же их еще? — удивился Саня. — Ведь они и так в ссылке.
— Малмыж хоть и трущоба лесная, а все-таки как-никак городом считается, — ответил Сергей. — А их теперь небось по самым что ни на есть глухим деревушкам распихали.
Сергей свернул газету, спрятал ее и потушил свечу.
— Спать, что ли? — спросил Саня.
Сергей ничего не ответил, а через минуту сказал медленно и раздельно, как будто про себя:
— Из искры возгорится пламя…
Рано утром, когда проснулся Саня и поднял голову с подушки, он увидел, что в амбаре на столе горит свеча, будто ее и не тушили.
Около стола сидит Сергей и, запустив обе руки в волосы, читает «Искру».
— Ну почитай оттуда еще что-нибудь, — попросил Саня.
— Ладно, слушай. — И Сергей начал читать вслух статью с первой страницы.
Но, прочитав полстраницы, Сергей остановился и сказал:
— Это не хроника. Это немножко потруднее будет… Надо сначала прочитать про себя и разобраться…
В статье были имена и слова, неизвестные Сергею. Он долго читал ее, пока наконец в дверь амбара не постучалась бабка.
— Сережа, Саня, — сказала она, — сбегайте-ка на речку за водой — стирать собираюсь.
— Сейчас, бабушка! — отозвался Сергей.
Потом он спрятал «Искру» и сказал Сане тихо:
— Сегодня вечером надо будет Спруде порасспросить насчет этой статьи… На первых порах нам одним трудновато.
Глава XXXIII
ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Сергей и Саня стали частенько заглядывать к ссыльным.
Как-то раз они особенно поздно засиделись в «домике под горой». Пили чай, разговаривали, слушали игру на скрипке.
В этот вечер Сергей впервые увидел у ссыльных какой-то странный листок с напечатанными на нем темно-синими буквами. Бумага была плохая, желтого цвета, а синие буквы не совсем ровные. Сергей заинтересовался этим листком и сразу же спросил у Спруде, почему листок так необычно напечатан.
— Печатали вручную, — ответил Спруде и объяснил Сергею, что это революционная, нелегальная листовка и напечатана она на гектографе. А через неделю Сергей и Саня неожиданно получили от Спруде серьезное и важное поручение — попробовать напечатать листовку.
— Попробуем, — в один голос ответили Сергей и Саня.
Вам придется самим сделать гектограф. Купите глицерину и желатину, да побольше. А чтобы не возбудить подозрение, ходите в аптеку по очереди. Сегодня — один, завтра — другой. Помните, что в этом деле нужна большая осторожность, — сказал на прощанье Спруде.
— Будем осторожны, — ответил Сергей.
На другой день утром, как только Сергей проснулся, он сразу же стал собираться в аптеку за глицерином.
— Сначала пойду я, а потом ты, — сказал он Сане.
Они условились встретиться возле Воскресенской церкви.
В Уржуме была всего одна аптека — земская — и помещалась она на Воскресенской улице. Мимо этой аптеки Сергей в детстве бегал каждое воскресенье из приюта домой.
А еще раньше, до приюта, он часто ходил сюда вместе с Саней смотреть синие и красные стеклянные шары, выставленные в окнах. Когда болела мать, бабушка ходила в эту аптеку за лекарством и не раз брала с собой внука; тут он видел большие фарфоровые банки с черными надписями.
Из-за высокой стойки выглядывал толстый человек в белом халате. Он получал деньги за лекарство. Перед ним на стойке строем стояли пузырьки с длинными, словно хвосты, разноцветными рецептами. Рецепты были белого и желтого цвета.
Бабушка говорила, что лекарство с белыми хвостами можно пить, а те, что с желтыми, пить нельзя — ими можно только натираться. Разноцветные рецепты были нарочно придуманы для неграмотных, чтобы они не перепутали лекарства. Перед тем как отпустить покупателю свой товар, аптекарь наряжал пузырек, точно куколку. Он приклеивал к пузырьку бумажный хвост и надевал на пробку цветную гофрированную шапочку, похожую на чепчик.
Давно уже Сергей не был в земской аптеке. А сейчас он шел туда за тем, чтобы купить глицерину для тайной типографии. В аптеке было в это утро пусто. Сергей оглядел полки с лекарством, стеклянные шары на окнах, белые фарфоровые банки с надписями по-латыни. Ничто не изменилось. Все было здесь такое же, как в дни его раннего детства.
Вот из-за белой двери вышел тот же толстый аптекарь — немец Келлер. Он был еще без халата, — видно, только что встал с постели.
Аптекарь строго посмотрел на покупателя через стекла пенсне в золотой оправе и спросил, четко выговаривая слова:
— Что вам угодно? На сколько?
Это были единственные две фразы, которые он выговаривал правильно. Вот уже двенадцать лет, как он десятки раз в день задавал один и тот же вопрос.
— Глицерину на пятнадцать копеек, — ответил Сергей.
Келлер достал с полки маленький пузырек в желтом гофрированном колпачке. Сергей уплатил деньги, сунул пузырек в карман и вышел из аптеки. На углу у церкви его уже дожидался Саня. Они перемигнулись, и Саня, выждав несколько минут, тоже отправился в аптеку.
— Что вам угодно? На сколько? — спросил его аптекарь.
— Глицерину на пятнадцать копеек.
Так Сергей и Саня стали ходить за глицерином ежедневно.
Через неделю в углу амбара, под ворохом сена и старым войлоком, было припрятано порядочное количество пузырьков. Но Сергею все казалось, что глицерина будет мало. Он предложил Сане ходить в аптеку и по вечерам, когда Келлера сменяет его помощник, маленький лысый человечек, про которого в городе говорили, что он не прочь выпить, водит дружбу с городовыми и много врет.
Помощник провизора никогда не расставался с белым халатом. Даже на рынок за морковью он ходил в халате, для того чтобы его все принимали за доктора и ученого человека.
В первый же вечер, когда Сергей явился в аптеку и спросил на пятнадцать копеек глицерину, помощник провизора ухмыльнулся и подмигнул:
— Вам для чего же глицеринчик, молодой человек? Для смягчения лица? Барышням хотите понравиться?
— Нет, я глицерин внутрь принимаю, чтобы голос нежней стал, — ответил, не смутившись, Сергей.
Помощник провизора достал из шкафа пузырек с глицерином и молча подал его Сергею.
Глава XXXIV
«ИСКРА» НА УРЖУМКЕ
Сергею хотелось как можно скорее приступить к делу. Для того чтобы ничего не перепутать, он достал у знакомой библиотекарши энциклопедический словарь.
К его большой радости, в словаре оказалась целая статья о том, как устроить гектограф и как на нем печатать. В статье говорилось, что первое и основное, что требуется для гектографа, — это железный лист с поднятыми высокими краями. На этот лист наливается сваренная масса из желатина и глицерина. Когда масса застывает, берут лист белой бумаги и пишут на нем особыми синими чернилами текст, с которого нужно снять оттиски. Затем лист с написанным текстом накладывают на застывшую массу. Все буквы с него переходят на желатинно-глицериновую поверхность. Накладывая на эту поверхность листы чистой бумаги, можно получить оттиски текста.
Железный лист Сергей и Саня решили заказать у кузнеца- У бабушки были листы для печенья пирогов, но взять один из них для гектографа казалось Сергею делом рискованным.
А вдруг бабушка, как назло, хватится, а листа-то и нет на месте. Кто взял, да почему, да для чего? Начнутся разговоры с соседками, а это может повредить делу. Да и лист не годится — мелок. Лучше заказать.
Получив деньги от ссыльных на покупку листа, товарищи отправились вечером к кузнецу. В соседних домах уже зажглись огни, когда они вышли за ворота.
— Полуночники, опять до рассвета бродить уйдете! — проворчала бабушка Маланья. Она все еще считала Сергея и Саню детьми.
Но приятели в ответ на ее воркотню только усмехнулись и быстро пошли по улице.
Кузница находилась за городом. Она стояла неподалеку от тракта, посреди поля. Возле нее торчало несколько кустов, обломанных и общипанных лошадьми. Издали кузница казалась не то черным холмом, не то угольной насыпью. Только по искрам, вылетавшим из низенькой трубы, было видно, что это кузница.
Сергей и Саня подошли к дверям. В кузнице было полутемно, только в горне еще тлели последние красные угли. На пороге сидел бородатый кузнец и покуривал. Сергей присел рядом со стариком, немного поговорил с ним и заказал ему лист средней величины, с высокими краями.
— Противень вам нужен, а не лист, — поправил его кузнец. — Ну что ж, можно, через пять дней будет готов.
— А раньше нельзя?
— Нельзя, — сказал старик и ушел к себе в кузницу.
На этом разговор и кончился.
Пока кузнец готовил противень, Сергей и Саня не теряли времени даром. Они запаслись желатином, раздобыли синих чернил для гектографа и выбрали место для своей будущей типографии — старую баню во дворе.
Все было готово, а противня надо было ждать еще целых три дня. Приятели решили заняться пока что одним хозяйственным делом. У сарая лежала вверх дном старая, рассохшаяся лодка. Сергей и Саня заделали дыры в ее днище, просмолили борта, отмочили в керосине ржавые уключины. Оставалось только покрасить ее и дать ей имя. Когда-то она называлась «Незабудка», но первые четыре буквы уже стерлись, и на борту красовалась надпись «будка».
Сергей закрасил эту надпись, как и всю лодку, голубой масляной краской и старательно вывел ровную и четкую, как на чертеже, надпись:
«ИСКР А»
Буквы были черные с красной окантовкой.
Когда лодка была готова, Сергей выволок из сарая салазки, взвалил на них лодку и повез ее с Санькой вдвоем на берег Уржумки.
Полозья зарывались в песок, подпрыгивали на камнях. Сергей тянул салазки за веревку, Саня подталкивал их сзади.
На берегу они встретили полицейского надзирателя Куршакова, которого за крикливый голос и маленький рост звали в городе Петушком.
Петушок только что выкупался и поднимался в гору, бодрый и свежий, застегивая крючки на мундире и вытирая мокрую облезлую голову.
Когда салазки поравнялись с ним, Петушок остановился и прищурил глаз.
— «Искра», — прочитал он. — Чудное название придумали молодые люди — «Искра»! Вы б ее лучше «Ветерком» назвали или «Зорькой». «Красотка» — тоже хорошее имя, или вот еще «Зазноба»…
— Нам «Искра» больше нравится, — сказал Сергей и потащил салазки к реке.
Глава XXXV
ТАЙНАЯ ТИПОГРАФИЯ
Наконец противень был готов. Сергей и Саня пошли за ним в кузницу под вечер, чтобы вернуться домой, когда стемнеет.
Но они давно успели и лист получить и поговорить с кузнецом, а все еще не темнело.
— Пойдем в канаве посидим, — сказал Саня, оглядываясь по сторонам.
Они забрались в придорожную канаву, заросшую ромашкой, полынью, лопухами, и сидели там, пока на небе не появились первые звезды. Теперь уж можно было нести противень по улице, не опасаясь, что из первой же калитки выглянет какая-нибудь тетка или бабка и крикнет на всю улицу:
«Кому новый противень несете, ребята, — Устипье Степановне или Маланье Авдеевне?»
Но все обошлось благополучно. Никого не встретив, приятели прошли по темным улицам и пронесли противень к себе в амбар.
А ночью, когда все в доме заснули, они вышли во двор и стали осторожно рыть за баней яму, чтобы закопать лист.
Один копал, а другой прислушивался, не идет ли кто мимо. Но на дворе было тихо, только изредка где-то в конце Полстоваловской лаяла собака да бабушкин приятель, ночной караульщик Владимир Иванович, обходя свой участок, стучал в колотушку.
Когда лист был зарыт, землю затоптали и сровняли.
На другой день Сергей и Саня побежали к ссыльным за текстом для листовки.
Братья Спруде были в это время на огороде. Засучив рукава, Христофор окучивал картошку, а Франц сидел на корточках и пропалывал грядку с огурцами.
Тут же стояла старушка Анна Павловна, квартирная хозяйка ссыльных, и рассуждала о всяких огородных делах.
Сергей и Саня походили на улице, пока Анна Павловна не убралась восвояси, и только тогда окликнули Христофора.
Он вышел к ним, отряхивая с ладоней землю, и повел в дом.
— У нас все готово, — сказал Сергей негромко. — Мы к вам за текстом.
Спруде удивился:
— Уже готово? Это очень здорово!
Он ушел в другую комнату и через несколько минут вынес им статью из газеты «Искра». Она была подчеркнута красным карандашом. Эту статью они должны были переписать печатными буквами и размножить на гектографе.
Писать печатными буквами нужно было для того, чтобы жандармы не могли узнать по почерку, кто писал.
— А дома у вас про это дело знают? — спросил Христофор Спруде, внимательно поглядев на обоих товарищей.
Сергей улыбнулся и пожал плечами.
— Не беспокойтесь, Христофор Иванович, — кроме нас двоих, никто не знает.
— Хорошо! Тогда начинайте. Только писать надо очень ясно и разборчиво, чтобы и такой человек прочитал, который еле-еле буквы знает.
— Это Сергей сумеет! Он чертежник, — сказал Саня.
— Так, — кивнул головой Спруде. — А сумеете ли вы еще одно дело сделать?
Сергей и Саня насторожились.
— Дело это очень серьезное. Тут требуется хладнокровие и осторожность. Послезавтра, в ночь под субботу, надо разбросать листовки на базарной площади и на Малмыжском тракте. Понятно?
— Понятно. Сделаем!
В этот же вечер в низком старом амбаре началась бесшумная торопливая работа.
Закрыв дверь амбара на засов, Сергей и Саня разложили перед собой тонкие, прозрачные листы «Искры» и начали переписывать статью, подчеркнутую красным карандашом.
На столе, потрескивая, горела свеча. Большие желтые капли медленно сползали на старый медный подсвечник. Тени от двух склонившихся голов шевелились и покачивались на бревенчатом потолке и стенах амбара.
Всю ночь до рассвета мальчики старательно по очереди переписывали статью. Петухи уже начинали петь третий раз, когда Сергей дописывал последнюю строчку. В щели амбара проникло солнце, где-то за огородом играл на рожке пастух, хозяйки выгоняли на улицу мычащих коров.
Товарищи спрятали «Искру» и переписанный лист в угол, под сено и войлок, а сами легли спать.
Но разве после такой работы уснешь?..
Сергей и Саня долго ворочались с боку на бок, а потом, не сговариваясь, стали одеваться.
— На Уржумку, что ли?
— А то куда же!
Первая лодка, которая отчалила в это летнее утро от низкого песчаного берега и пошла на ту сторону, к дымящимся от росы заливным лугам, была «Искра».
В ней сидели два паренька. Они по очереди работали веслами, пели громко на всю реку песню, и никто бы не догадался, что эти юноши провели всю ночь без сна, переписывая воззвание, которое кончалось словами:
«Долой самодержавие! Да здравствует революция!»
В следующую ночь товарищи перенесли свою работу в старую баню. На деревянной колченогой лавке разложили они стопку чистой бумаги и здесь же поставили противень с налитой в него желатинно-глицериновой массой.
— Ну, начали! — сказал Сергей.
Он засучил рукава рубашки, взял листок с переписанным текстом и осторожно наложил его на глицериновую массу. Но сколько времени нужно держать лист, он не знал. Да и часов у него не было. Он сосчитал до десяти, а потом осторожно потянул листок за край и стал его приподнимать.
Синие буквы текста явственно отпечатались на гектографе. Сам же лист бумаги стал жирным и тяжелым. Сергей снял его, скомкал и бросил под лавку.
— Кажется, неплохо получается — можно печатать. Давай бумагу!
Вот тут-то и пошла работа. Секунда — и Сергей уже снял с гектографа первую листовку. Темно-синие жирные буквы казались выпуклыми, и текст легко можно было прочитать.
Сергей отвел руку с листовкой в сторону и полюбовался ею, словно это была не листовка, а какая-нибудь замечательная картина.
— Здорово выходит, а? — каждую минуту повторял Саня, еле успевая подавать чистые листы.
У Сергея только локти мелькали. Он накладывал листы, прижимал их и снимал, накладывал, прижимал и снимал.
Весь полок, все его пять ступенек, обе старые банные скамейки — все сплошь было застлано только что отпечатанными, чуть влажными листовками.
— Довольно, может быть? — сказал Саня. — Ведь класть уже больше некуда.
— Нет, давай еще! Нужно всю чистую бумагу в дело пустить.
Когда не осталось, наконец, ни одного чистого листка, товарищи принялись за уборку, чтобы скрыть следы своей работы.
Они подобрали с полу обрывки бумаги и осторожно смыли теплой водой с гектографа синие строчки. Потом вынесли гектограф на двор и закопали его на прежнем месте.
Теперь нужно было выполнить последнее, самое важное поручение ссыльных: разбросать прокламации по городу.
Глава XXXVI
КОГДА ГОРОД СПАЛ
— Ну, давай собираться! Сначала пойдем на базар, а потом на Малмыжский тракт.
Они стали торопливо рассовывать листовки по карманам, запихивать их за пазуху. Рубашки оттопырились на груди, карманы раздулись, а листовок все еще было много. Сергей засунул десятка два за голенища сапог и столько же в рукава рубашки. Это были последние листовки.
После этого Сергей и Саня задули свечу и осторожно вышли из амбара, постояли с минуту на дворе, прислушиваясь, не идет ли кто.
Нет, шагов не слышно. Ночь была темная, жаркая, в траве трещали кузнечики.
Мальчики осторожно, на цыпочках прошли по двору и вышли на улицу.
На каланче пробило двенадцать часов. Город Уржум спал. Все окошки в домах были черные. Фонарь на углу Полстоваловской давно погас — летом его тушили рано.
Сергей и Саня зашагали к базарной площади. Вот и собор, а за ним чернеет площадь. Пригнувшись, они побежали к пустым деревянным прилавкам, на которых в базарные дни приезжие крестьяне расставляли деревенский товар — крынки с молоком и плетушки с яйцами.
Молча и быстро товарищи начали разбрасывать по прилавкам листовки.
На площади было тихо, но со всех сторон слышался хруст и пофыркиванье. Это жевали сено распряженные лошади, а неподалеку от них стояли возы с поднятыми вверх оглоблями. На возах и под возами спали крестьяне, съехавшиеся еще с вечера к базарному дню. Изредка одна из лошадей чего-то пугалась, начинала бить копытом по мягкой земле и ржать.
— Н-на, лешай!.. — слышался из-под воза сонный голос. На возах шевелились и поднимались люди.
Сергей и Саня тотчас же прятались за прилавками, прислушиваясь к шороху, а потом опять принимались за работу.
Скоро все прилавки были покрыты белыми листовками.
— Ну, готово, — шепнул Сергей, — теперь нужно скорей бежать на Малмыжский тракт.
Они побежали. До Малмыжского тракта было не так-то близко, а с работой надо было покончить до утра.
 Сергей остановился, вытащил ив кармана несколько листовок и с размаху ловко перебросил их через высокий забор в сад.
Сергей остановился, вытащил ив кармана несколько листовок и с размаху ловко перебросил их через высокий забор в сад.
У одного из домов с высоким забором и резной железной калиткой Сергей остановился, вытащил из кармана несколько листовок и с размаху ловко перебросил их через высокий забор в сад. Саня испуганно схватил его за руку. В этом доме жил сам уездный исправник.
— Бежим!
Сергей толкнул Саню в бок, они понеслись во всю прыть. Когда улица осталась позади, Сергей сказал шепотом:
— Пускай знают, что революционеры и ночью не спят.
Под городским садом ребята сняли сапоги и перешли Уржумку вброд. На той стороне реки сразу же начинался Малмыжский тракт. По обеим его сторонам темнел лес.
Едва только Сергей и Саня добрались до тракта, как где-то позади неожиданно раздался короткий пронзительный свисток. Казалось, свистят совсем близко. Сергей и Саня опрометью бросились бежать к лесу. В нем можно было отлично укрыться от погони.
За первым свистом раздался второй, еще громче и пронзительней, и, наконец, все смолкло.
— Стой, — остановил Саню Сергей. — Куда разогнался? Нужно листовки разбросать!
— Верно, — сказал Саня, переводя дух.
Они пошли по дороге, оставляя листовки то там, то здесь, то в придорожных кустах, то по обочинам дороги.
Через полчаса все до одной листовки были разбросаны.
— Обратно пойдем другой дорогой, — предложил Сергей. — Черт его знает, кто это свистел. Свисток был полицейский. Может, караулят у брода…
Он хорошо помнил совет Спруде быть осторожнее.
Дорога шла через болото. Белый туман низко стлался по земле, и трудно было разглядеть тропинки. Приходилось наугад прыгать с кочки на кочку. Ребята часто проваливались в холодную болотную воду. Ветки елок хлестали их по лицу.
— Ничего, придем домой — обсохнем, — подбодрял Сергей товарища.
Саня так вздыхал, точно тащил на спине тяжелую ношу.
На улицах города начинало светать, когда мокрые, усталые, но довольные своей работой приятели вернулись домой. У себя в амбаре они с жадностью съели приготовленную бабкой краюху хлеба и выпили целую крынку молока. Потом развесили мокрую одежду и улеглись спать.
Первое известие о разбросанных по городу листовках принесла на Полстоваловскую бабушка Маланья. Она только что вернулась с базара, перепуганная и даже сердитая. Черный платок ее съехал на сторону, бабушка запыхалась.
— Господи Иисусе, — рассказывала она, — пошла я на базар, думала — куплю к празднику полголовки и ножки свиные на студень. А там точно острожный двор. Пристав бегает, полицейский надзиратель бегает, городовые бегают. Шуму, крику, в свистки свистят… Какие-то бумажки ищут. Нынче ночью, говорят, студенты-крамольники по городу бумажки разбросали, а в бумажках всякие слова против царя написаны. Уж где только не накидали этих бумажек! И на Малмыжском тракте, и на базаре полным-полно, и по всему городу… Да это еще что! Владимир Иванович рассказывает, будто у исправника в беседке целый ворох нашли. Господи Иисусе! Вот ведь какие бесы бесстрашные!..
Сергей и Саня переглянулись и захохотали.
— Что смешного-то? Чего зубы-то скалите? Ведь за такие бумажки людей в Сибирь гоняют, а им смешки!..
Старуха долго еще ворчала. Ей и в голову не приходило, что «бесы бесстрашные» — это ее внук Сережа и самарцевский Санька и что у нее на дворе за баней зарыта тайная типография.
Весь день Сергей ходил точно после выдержанного экзамена.
Он видел, как мимо их дома, придерживая шашку, пробежал полицейский надзиратель Петушок в непомерно большой фуражке. За Петушком вышагивал длинный рыжеусый Дергач, а за ним, задыхаясь, еле поспевал тучный пристав. Через десять минут после них, поднимая на Полстоваловской облака пыли, промчалась пролетка с исправником.
— Зашевелились! — усмехнулся Сережа. — Да поздно! Теперь уже наши листовочки пошли по всему уезду гулять.
В городе — на улице, в домах, в лавках, на речке — только и было разговору, что о листовках. Думали, что это дело рук ссыльных.
Все перешептывались, охали, качали головами, разводили руками.
Сергей и Саня ходили по улицам, прислушивались к разговорам, посмеивались про себя. Им очень хотелось сбегать в конец Полстоваловской и узнать, что слышно у ссыльных. Но об этом и думать было нечего, по крайней мере дня три-четыре.
Вечером, как обычно по субботам, все уржумцы топили бани у себя на дворе.
И в эту субботу установленный порядок не был нарушен, несмотря на весь переполох.
Бабушка Маланья тоже топила баню. Сергей со своим приятелем таскали воду ведро за ведром. В конце концов бабушка на них даже прикрикнула:
— Никак всю речку вычерпали. Другим-то оставьте!
А мальчикам в этот день на радостях казалось, что они не то что речку могут вычерпать, а целое море.
Когда поздно вечером, после всех домашних, они пошли в баню мыться, Сергей совсем разошелся. Он выплеснул на каменку подряд несколько шаек воды. Раскаленные камни зашипели, и белый горячий пар густо повалил от печки.
— Хватит! И так жарко! Что ты, с ума сошел? — крикнул Саня, которого из-за пара не было видно.
— Жарко? — спросил Сергей и выплеснул под ноги Сане целую шайку холодной воды.
— Серьга, черт! — заорал Саня.
Он сидел на лавке с намыленной головой, и лицо у него было сердитое.
— Озяб, Санечка? Ну давай я тебя веничком попарю!
Сергей схватил с лавки лохматый березовый веник и кинулся к товарищу, но Саня успел схватить шайку холодной воды и окатил Сергея с головы до ног.
— Ну уж теперь не жди пощады!
Саня не на шутку перепугался. Он съежился на лавке и выставил перед собой в виде щита пустую шайку. Мыльная пена разъедала ему глаза, а воды под рукой не было. От этого он строил такие рожи, что Сергею стало смешно.
Он сел на скамейку напротив и, протянув Саньке руку, сказал:
— Ну ладно, так и быть! Мировая!
Саня поставил пустую шайку на пол и промыл глаза из Сережиной шайки.
После перемирия оба приятеля полезли на полок и принялись тереть друг другу спины.
Но долго они еще не могли угомониться.
Ночью бабка вышла во двор, чтобы посмотреть, не забыли ли ребята погасить в бане лампу.
Огонь в окошке еще мерцал.
Бабка подошла к бане и вдруг услышала оттуда:
Люди гибнут за металл!
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал…
Сильный, звонкий, раскатистый голос Сергея бабка сразу узнала. Это пел он. А приятель его подпевал глуховатым басом:
Правит бал, правит бал, правит бал…
Бабка заглянула в окошко и даже руками развела.
Товарищи сидели на полке и дружно распевали, постукивая по дну шаек кулаками:
— Какие песни к ночи поют, да еще в бане. Тьфу! — плюнула бабка и постучала в окошко.
— Идите спать, полуночники!
Через несколько минут огонь в бане погас. Две тени быстро пробежали по двору, и дверь амбара захлопнулась.
В эту ночь Сергей и Саня спали как убитые.
…Все лето стояла жара, и даже в середине августа солнце еще припекало вовсю. Только-только начали поспевать яблоки, а Сергею пора уже было собираться в Казань. Пятнадцатого августа в промышленном начинались занятия.
Накануне отъезда, уже поздно вечером, Сергей пошел к ссыльным прощаться. Идя по Полстоваловской, он еще издали увидел, что в окнах маленького домика темно.
«Может, они все на дворе сидят?» — подумал Сергей и подошел поближе.
На низеньком, покосившемся крыльце кто-то сидел и курил. Папироса освещала кусок светлой рубашки и острую маленькую бородку. Это был Христофор Спруде.
— А наши рыбу ловят… Садитесь! — сказал он и подвинулся.
Сергей присел на крылечко.
— Завтра еду — проститься зашел.
— Ну так подождите, наши, верно, скоро вернутся. Хотите курить?
Оба закурили.
Было так тихо, что каждое слово, сказанное вполголоса, отдавалось по всей улице.
На другом конце Полстоваловской, у ворот дома старовера Пропьки, кто-то сидел на лавочке и негромко пел.
Песня была грустная, и мотив как будто церковный:
Поздно-поздно вечерами,
Как утихнет весь народ,
И осыплется звездами
Темно-синий небосвод…
Песня вскоре смолкла.
Огни в домах гасли один за другим, стало еще тише и темнее. Сергею начало казаться, что он сидит где-то посреди поля рядом с каким-то дорожным товарищем. Соседние домишки в темноте были похожи на стога сена.
— Тихий городок, — сказал Спруде, — третий год, как нас сюда выслали.
— А где вы раньше жили?
— Россия велика. Где только я не бывал!.. Жил и в Петербурге, и в Москве, и на Дону, и на Урале, и в Казани…
— Хороший город Казань, верно? — спросил Сергей.
— Город не плох, да и люди там есть хорошие. У меня там и сейчас один товарищ живет, студент. Может, забежите к нему? У него много народа собирается — студенты, семинаристы, рабочие…
— Я бы с удовольствием!.. — сказал Сергей поспешно. — Да вот как они…
— Что они! Скажите им только, что Христофор прислал, они вас, как старого приятеля, примут.
Спруде наклонился к самому уху Сергея:
— Раз уж вы на гектографе печатали и листовки ночью разбрасывали, значит, вас рекомендовать можно… Да смотрите не забывайте одного: в нашем деле нужно… нужно… Как бы это покороче сказать? Нужно, чтобы сердце было горячее, а голова холодная!
Глава XXXVII
ПОСЛЕДНИЙ ГОД В КАЗАНИ
В 1903 году Сергей начал работу практикантом у Крестовниковых, на том самом заводе, на котором он побывал в первый год своего учения в Казани.
Теперь уже не со слов Акимыча и не мимоходом познакомился он с тягучей и унылой жизнью в цехах, пропахших щелоком и несвежим бараньим салом.
По одиннадцати часов подряд не отходили рабочие от чанов с кислотами и от бурлящих котлов, в которых варилось знаменитое казанское мыло.
У Крестовниковых работало много татар. Сергей видел, как, обливаясь потоками пота, татары таскали огромные бадьи с гудронным салом. Многопудовая бадья покачивалась на палке, врезавшейся в плечи переносчиков. За день они иной раз перетаскивали на своей спине по триста — четыреста пудов.
Этих парней подбирали всегда по росту — молодых и сильных. На опасной работе, на переливке кислот из бутылей в чаны, тоже стояли татары. Руки и ноги у всех у них были в язвах и ожогах. За эту страшную и опасную работу парням платили от восьми до восемнадцати рублей в месяц, а работали они весь день или всю ночь подряд.
Когда Сергей, усталый, в замасленной блузе, возвращался с завода домой и, переодевшись, садился к столу за училищные чертежи, в ушах у него долго еще оставался гул котельного отделения, грохот лебедок, ругань мастеров и унылые выкрики грузчиков-татар.
Сергей работал до поздней ночи, покрывая белый лист контурами усовершенствованных машин, котлов и двигателей. Он чертил и думал о душных, грязных цехах Крестовниковского завода, где таких котлов и двигателей и в помине не было, где работали по старинке, так же, как и полсотни лет назад, в год основания завода.
Наглядевшись на каторжную жизнь рабочих, Сергей в тот год написал в Уржум такое письмо:
«…Например, здесь есть завод Крестовникова (знаете, есть свечи Крестовникова), здесь рабочие работают день и ночь и круглый год без всяких праздников, а спросите вы их, зачем вы и в праздники работаете, они вам ответят: «Если мы не поработаем хоть один день, то у нас стеарин и сало застынут, и нужно будет снова разогревать, на что понадобится рублей пятьдесят, а то и сто». Но скажите, что стоит фабриканту или заводчику лишиться ста рублей? Ведь ровно ничего не стоит. Да, как это подумаешь, так и скажешь: зачем это один блаженствует, ни черта не делает, а другой никакого отдыха не знает и живет в страшной нужде? Почему это, как вы думаете?..»
В то время когда Сергей писал это письмо, ему было семнадцать лет. Он смотрел вокруг широко открытыми глазами и многое видел. А глядеть было на что.
Вся страна напоминала пороховой склад, опутанный целой сетью тлеющих фитилей. Дело шло к девятьсот пятому году. То там, то здесь вспыхивали забастовки и стачки. Шли глухие слухи о том, что не все спокойно и в армии. У солдат и матросов находили революционные листовки. Видно, нижним чинам надоело терпеть зуботычины и муштру.
Камеры в тюрьмах не пустовали. В одиночках сидело по двое. «Крамольников» с каждым годом становилось все больше. Они были повсюду — и на заводах, и в армии, и среди студенческой молодежи.
В листовках и прокламациях, на тайных сходках и в открытых выступлениях на улице звучали призывы к борьбе с самодержавием.
Так было по всей России, так было и в Казани. 21 января 1903 года по городу были расклеены и разбросаны прокламации.
Попали листовки и на Алафузовский, и на Крестовниковский, и на Свешниковский, и на пороховой, и на пивоваренный заводы, залетели они в мастерские и в типографии.
И даже на суконной фабрике Губайдулина, что в пятнадцати верстах от города, очутились крамольные листовки. Прокламации были напечатаны и на русском и на татарском языках. Говорилось в них так:
…Нам надо соединиться — вступить в общую семью рабочих-борцов, которая у нас называется «Российская Социал-демократическая Партия».
Мы, сознательные казанские рабочие, уже вступили в эту партию и призываем всех наших товарищей примкнуть к нам. Так подумайте же крепко об этом, товарищи, и, организовавшись в кассы, в кружки, союзы, подавайте нам свою мозолистуюбратскую руку и смело вперед, в борьбу, вместе со всеми униженными и обиженными, на наших угнетателей и грабителей.
Такие листовки были наклеены на столбы, на дома, на заборы.
Часам к двенадцати дня полиция рассыпалась по всему городу и принялась уничтожать листовки, но они были приклеены «на совесть» и отдирать их было трудновато.
Орудуя шашками, словно ножами, соскабливали городовые крамолу со стен. А под ногами у них то и дело вертелись мальчишки-татарчата, которые раздавали публике точно такие же листовки, словно это были самые обычные ежедневные газеты. Городовые не знали, что им делать сначала: ловить ли чертенят-мальчишек или соскабливать листовки со стен.
Чуть ли не каждый месяц то в одном районе города, то в другом полиция разгоняла демонстрации.
26 октября в Казани умер арестованный студент, социал-демократ Симонов. Два месяца провел он в тюрьме и четыре месяца — в окружной психиатрической больнице. Больница оказалась хуже тюрьмы. Студента нарочно поместили в отделение, где содержались самые нечистоплотные из душевнобольных. Его лишили прогулок и не выпускали даже на больничный двор. Четыре месяца дышал он спертым воздухом, а у него была чахотка.
Он лежал в больнице, но никто его не лечил. Врач к нему даже и не заглядывал, но зато каждый день его палату неизменно посещали жандармы и следователи. Они старались выпытать у полумертвого Симонова имена тех людей, которые участвовали вместе с ним в революционной организации.
И вот Симонов умер.
Огромная демонстрация студентов и рабочих была ответом на то убийство. Симонова провожали на кладбище с красными венками и с революционными песнями. А через несколько дней, 5 ноября, в годовщину Казанского университета, в память Симонова была устроена вторая демонстрация, какой в Казани еще не видели. Полиция разогнала студентов и рабочих нагайками. Тридцать пять студентов было арестовано.
В демонстрации 5 ноября вместе с другой учащейся молодежью участвовали и ученики промышленного училища.
Долго волновалась казанская молодежь после этого памятного дня. То и дело в университетских аудиториях и на частных квартирах устраивались сходки.
На заводах и фабриках возникало все больше и больше тайных, подпольных кружков, которыми руководили студенты — социал-демократы.
Студент, к которому направил когда-то Сергея Христофор Спруде, тоже был социал-демократом и руководителем кружка.
Звали его попросту Виктором, без всякого отчества, парень он был простой и веселый. Глядя на его безусое мальчишески-насмешливое лицо, трудно было поверить, что ему под тридцать лет. Только по его выцветшей, когда-то синей, а теперь голубовато-серой фуражке можно было узнать в нем старого студента.
Сергей изредка бывал у него, просиживал с ним целые вечера, спорил, пил чай и уходил домой, унося под шинелью брошюрки, газеты, а иной раз и объемистую книгу.
Однажды вечером, вскоре после похорон Симонова, Сергей зашел к Виктору.
— Вас-то мне и нужно, — сказал Виктор. — Может, вы мне что-нибудь посоветуете.
Сергей сел на старый, продавленный диван, а студент начал ходить по комнате, дымя папиросой и, видимо, что-то обдумывая.
Потом он подсел к Сергею поближе.
— Послушайте, — сказал он, — у вас в механическом можно было бы что-нибудь смастерить так, чтобы начальство об этом ничего не знало?
— А что именно нужно? — спросил Сергей прямо. — Ведь вас, вероятно, не гидравлический пресс интересует и не кронциркули…
Виктор засмеялся.
— Пресс не пресс, а что-то в этом роде. Понимаете, какая история… Нам нужно кое-что тиснуть. Срочно, В большом количестве экземпляров. А на гектографе далеко не уедешь. Так вот, не можете ли вы что-нибудь изобрести? Станочек какой-нибудь или наборную коробку с валиком. Шрифт у нас есть — типографские рабочие выручили.
Сергей задумался.
— Что ж, надо сообразить… Коробка — дело не такое хитрое. Но ведь это немногим лучше гектографа. Сотни две-три листовок напечатаете — и конец…
— Ну, что поделаешь, — развел руками Виктор. — В типографии Тимофеева, на Большой Проломной, можно было бы зараз и десять тысяч экземпляров напечатать, но там, пожалуй, нашего заказа не примут…
— Постойте, — сказал Сергей. — Мне кое-что пришло в голову.
— Ну, ну?
— У нас в механических мастерских сейчас чинят одну штуку, которая могла бы для этого дела пригодиться. Не хуже тимофеевской будет, но только много поменьше.
— Это было бы замечательно, — сказал Виктор, вставая.
Сергей тоже встал.
— Так вот, значит, я попробую ее достать и передать вам. Она к нам прислана из какого-то общества помощи слепым. Но сейчас, я думаю, она нужнее зрячим… Только надо сообразить, как все это устроить.
— Добре, — сказал Виктор. — Завтра я сообщу об этом своим, а вы мне скажете, как обстоит дело. Приходите вечером в городской театр. Там встретимся.
Разговор этот происходил 13 ноября. А к 15 ноября Сергей надеялся уже исполнить свое обещание.
Но 14-го случилось событие, которое неожиданно помешало этому делу.
Глава XXXVIII
ШКОЛЬНЫЙ БУНТ
14 ноября в Казанском городском театре был устроен спектакль-концерт в пользу неимущих студентов. Участвовали в концерте сами же студенты.
Еще за несколько дней до этого в городе поговаривали о том, что студенческий концерт непременно закончится демонстрацией.
К ярко освещенному подъезду театра то и дело подходила молодежь. Перед широкими ступенями не спеша, вразвалку прохаживались городовые. Сегодня их было особенно много, — видно, полицеймейстер прислал усиленный наряд.
Три товарища — Сергей Костриков, Асеев и Яковлев — подошли к театру и огляделись по сторонам. У них не было в кармане разрешения директора, а попасть в театр на этот раз было необходимо.
Товарищи уже собирались было проскользнуть в дверь, как вдруг увидели в двух-трех шагах от себя пронырливого и вездесущего надзирателя Макарова. Макаров стоял, заложив руки назад, и смотрел на них в упор. Бежать было поздно. Заметив трех учеников, надзиратель прищурился и, видимо, хотел что-то сказать. Но Асеев его опередил:
— Здравствуйте, Панфил Никитич. А нас сегодня господин инспектор за примерное поведение отпустил в театр.
И, не дав надзирателю опомниться, товарищи уверенно вошли в подъезд.
В фойе, украшенном гирляндами елок, играл военный духовой оркестр. В киосках студенты и курсистки продавали цветы, программы и конфеты. Сегодня в театре собралась почти вся учащаяся молодежь Казани. Среди студенческих тужурок только изредка мелькали черные штатские сюртуки и нарядные платья дам. Почти у всех на груди были приколоты номера для «почты амура».
Сергей, Асеев и Яковлев долго бродили по фойе среди публики. Они искали глазами Виктора. Вдруг к Сергею подбежала гимназистка с длинными косами. Через плечо у нее висела на голубой ленте сумка с надписью: «Почта амура».
— Вы номер 69? — спросила она улыбаясь. — Вам письмо.
Сергей распечатал маленький сиреневый конверт и увидел три строчки, написанные крупным, размашистым почерком:
Жажду с Вами свидания. С нетерпением жду в Державинском сквере после концерта. Третья скамейка от входа направо.
Письмо было от Виктора.
Не успел Сергей сунуть сиреневый конверт в карман, как Асеев зашептал:
— Широков, Широков! Смотри, Широков идет!
Товарищи обернулись и увидели грозу всего училища — инспектора Широкова, Алексея Саввича. Он входил в фойе, торжественный и парадный, с орденом на шее и орденом на груди. А за ним семенил, щуря глаза и вытягивая шею, надзиратель Макаров. Товарищи переглянулись и быстро шмыгнули в коридор. Но на этот раз им не удалось улизнуть от Макарова.
Он схватил Сергея за рукав и сказал сердито:
— Стыдно, господа, врать. Стыдно. Господин инспектор и не думал вам давать разрешения. Прошу сию же минуту оставить театр и отправиться домой.
Сергей и его два товарища молча поклонились и пошли в раздевалку.
Там они постояли за вешалкой минут десять, а потом снова поднялись наверх.
Концерт уже начался.
Вся публика была в зрительном зале. Только несколько человек опоздавших, столпившись кучкой, стояли у закрытой двери. Из зала доносился шумный рокот рояля и тонкий голос скрипки. Потом по всему залу прокатились дружные аплодисменты, кто-то крикнул «браво», и студент-распорядитель с пышной розеткой на груди пропустил опоздавших в зал.
В эту минуту на сцену вышел другой студент, тоже с розеткой на груди, и громко объявил:
— «Умирающий лебедь» Бальмонта. Исполнит студент Казанского университета Пав-лов-ский. У рояля ученица Московской консерватории мадемуазель Фельдман.
Из-за кулис вышла на сцену тоненькая девица в черном тюлевом платье с красными гвоздиками у пояса, а за ней белокурый студент с широкими плечами и задорно закинутой назад головой. Форменный сюртук сидел на нем мешковато, — видно, был с чужого плеча.
Девица подсела к роялю и опустила тоненькие руки на клавиши, а студент шагнул к рампе и, оглядев зал, полный молодежи, начал ровным, сильным, широким голосом:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает….
По залу пробежал легкий шорох.
А голос со сцены зазвучал еще сильнее и повелительнее:
Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Студент на мгновение остановился, и вдруг в ответ ему сверху, с галерки, захлопали.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает…
Кто-то, пригнувшись, испуганно и торопливо пробежал через зал…
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…
Из ложи полицеймейстера раздался хриплый окрик:
— Занавес! Прекратить безобразие!
Толстый лупоглазый полицеймейстер стоял, перегнувшись через барьер, и махал кому-то в дверях белой перчаткой.
Публика соскочила со своих мест и бросилась к рампе. Раздались свистки, взволнованный звон шпор, но занавес не опускался. А студент, стоя уже на самом краю рампы, читал полным, сильным голосом, покрывающим весь шум в зале, стихи Максима Горького — «Буревестник»:
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
В задних рядах десятки молодых голосов подхватили последние слова:
— Пусть сильнее грянет буря!
Занавес медленно опустился. Публика повалила к выходу. Помятый в толпе школьный надзиратель Макаров робко пробирался в раздевалку, когда мимо него по лестнице, весело перепрыгивая через ступеньки, пробежали три ученика Казанского промышленного училища — Костриков, Асеев и Яковлев.
Прямо из театра Сергей отправился в Державинский сквер на условленное свидание. Домой он вернулся поздно.
…На следующее утро, как всегда, товарищи отправились в училище. Асеев и Яковлев задержались в шинельной, а Сергей, с чертежами под мышкой, пошел в класс. У дверей его встретил надзиратель Макаров.
— Костриков, — сказал он спокойно и даже как будто лениво, — будьте любезны проследовать в карцер.
В карцере, темной длинной комнате, похожей на тупик коридора, было холодно и пахло плесенью. Через пять минут туда привели и Асеева, и Яковлева. Не успел надзиратель повернуть в замочной скважине ключ, как Яковлев запел:
Привет тебе, приют священный…
В карцере товарищи должны были просидеть ни много ни мало — двенадцать часов подряд: с восьми утра до восьми вечера.
Они решили не скучать.
Сперва барабанили ногами в дверь, выбивая дробь, потом боролись, потом пробовали даже играть в чехарду, а под конец начали петь песни:
Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой…
Никто им не мешал. За мрачной дверью карцера, в коридоре, было тихо, словно все школьные надзиратели вымерли.
К вечеру, когда в мастерских и лабораториях уже кончились занятия, узников освободили и предложили не являться в училище — впредь до особого распоряжения.
А на другой день по училищу поползли слухи, что Кострикова, Асеева и Яковлева исключают. После звонка на большую перемену по длинным мрачным коридорам взволнованно забегали ученики.
— В актовый зал… Все в актовый зал!
— Директора! Инспектора!
— Отменить исключение!
— Оставить в училище Кострикова, Асеева и Яковлева!..
Школьное начальство засуетилось. Никогда еще не было в училище подобной истории. С трудом загоняя учеников из коридора в классы, хватая их за куртки, перепуганные надзиратели повторяли скороговоркой:
— Успокойтесь, господа, успокойтесь. Завтра утром все уладится. Непременно уладится. Директор будет с вами беседовать, и все, разумеется, выяснится и уладится.
В конце концов надзирателям удалось заманить и загнать учеников в классы. Занятия кое-как дотянулись до последнего звонка.
Прямо из училища, не заходя к себе домой, целая ватага третьеклассников отправились на Рыбнорядскую к Асееву, Кострикову и Яковлеву. В маленькой, тесной комнате они расселись на кроватях, на топчане, на огромном портновском столе и начали обсуждать положение.
— Исключат! — говорили одни. — Уж если Широков решил что-нибудь, он своего добьется.
— Да нет, — возражали другие, — постановления же об этом еще не было.
— Какого постановления?
— Да педагогического совета. Ведь не могут же без совета исключить! Это все одни разговоры.
— Ну, там разговоры или не разговоры, а пусть попробуют исключить. Видели, что нынче в училище началось? А завтра еще не то будет. Вон в Томской семинарии два месяца назад хотели одного парня исключить, так там ребята все стекла выбили, провода перерезали и самого инспектора, говорят, поколотили. И мы то же самое сделаем.
Третьеклассники долго бы еще спорили и волновались, но тут вмешался Сергей:
— Вот что, ребята. Завтра мы как ни в чем не бывало придем на занятия, а там будет видно.
С тем и разошлись.
А на другое утро, чуть только пробило семь часов, Костриков, Асеев и Яковлев вышли из ворот своего дома и зашагали в училище на Арское поле.
В гардеробной, которая в промышленном называлась «шинельной», уже было тесно и шумно. Ни один из надзирателей не заметил самовольно явившихся учеников. Но как только они вышли из шинельной в коридор, Макаров сразу же подскочил к ним:
— Прошу вас покинуть училище впредь до особого распоряжения инспектора. Вам это русским языком было сказано.
Товарищи переглянулись и пошли назад, в шинельную.
Но не успели они еще одеться, как их окружили ученики из третьего класса, второго и даже первого.
— Прошу сию же минуту, немедля, разойтись по классам. Занятия начинаются! — закричал, заглядывая в шинельную, Макаров, но его никто не хотел слушать.
Классы пустовали. Да, видно, и сами учителя в это утро об уроках не думали.
Они заперлись в учительской, и ни один из них не появлялся в коридоре, хотя звонок прозвенел уже давно.
Еще с полчаса просидели Костриков, Асеев и Яковлев в конце коридора на широком подоконнике, окруженные целой толпой товарищей. Макаров издали смотрел на это сборище, но не решался подойти.
Но вот снова прозвонил длинный, пронзительный звонок, и учителя гуськом вышли из учительской, направляясь в классы на занятия. Толпа возле подоконника поредела.
— Как? Вы еще здесь, господа? — удивился Макаров, снова набравшись храбрости.
«Господа» нехотя двинулись к выходу, и надзиратель Макаров сам проводил их до парадной двери.
Лишь только захлопнулась за ними тяжелая дубовая дверь, как в училище началась суматоха. Ученики старших классов бросились в шинельную, чтобы остановить Сергея Кострикова и его товарищей. Но шинельная уже была пуста.
— Выгнали! — закричал кто-то из ребят и, подбежав к тяжелой, длинной вешалке, на которой висела добрая сотня шинелей, начал валить ее на пол. Однако вешалка была основательная и не поддавалась.
На нее, словно на баррикаду, взгромоздились ученики.
На помощь парню бросилось еще несколько ребят. Вешалка покачнулась и, взмахнув всеми рукавами и полами, грохнулась на пол.
— Прекращайте, ребята, занятия! — кричали они на весь коридор. — Пускай вернут в училище Кострикова, Асеева и Яковлева.
— Директора! Инспектора!
Тут надзиратели совсем растерялись. Стоило им заглянуть в дверь, как в них летели чьи-то калоши и фуражки, а иной раз и шинели. Ученики высыпали на лестницу и кричали:
— Директора! Инспектора требуем! Инспектора!
— Директора нет в городе. Инспектора тоже нет. Он уехал, — врал ученикам побледневший до синевы, вконец перепуганный надзиратель Тумалович.
Но никто ему не верил. Все высыпали на улицу и пошли мимо здания училища. У одного из окон толпа остановилась.
Здесь жил инспектор Широков.
— Давайте споем ему вечную память! — крикнул кто-то из толпы.
— Начинай, споем! — подхватили голоса.
— Вечная память… вечная память… вечная память инспектору Широкову, Алексею Саввичу, — запел дружный хор, а один из парней влез на тумбу и начал дирижировать, размахивая длинными руками.
У окна, спрятавшись за тюлевую занавеску, стоял злой и растерянный Широков.
После «вечной памяти» школьники двинулись по Грузинской улице. Они шли и пели студенческую революционную песню:
Был нам дорог храм юной науки,
Но свобода дороже была.
Против рабства мы подняли руки,
Против ига насилья и зла.
Навстречу им уже выезжал наряд полиции. Их задержали и вернули назад. Они не успели даже дойти до угла улицы.
Пусть нас ждут офицерские плети,
Казематы, казарма, сухарь,
Но зато будут знать наши дети,
Как отцы их боролися встарь…—
пели школьники, оттесняемые полицией.
В тот день, когда ученики промышленного училища, отпев заживо инспектора Широкова, высыпали с песнями на улицу, Сергей тоже не сидел дома.
В Державинском сквере, где два дня назад у него было свидание с Виктором, он встретился с ним опять.
— Ну, как дела? — спросил Виктор. — Сегодня вечером будет?..
Сергей нахмурился.
— Сегодня нет, — сказал он.
— А что случилось?
— Да ничего особенного. В училище не попасть. Начальство собирается исключить меня, Асеева и Яковлева. За четырнадцатое число..
— Так, — нахмурился Виктор. — Штука неприятная.
А сколько вам осталось до окончания?
— Шесть месяцев.
— Всего-то? Подлая история… У вас, кажется, родителей нет?
— Нет. Я с восьми лет в приюте.
— Ну, что-нибудь придумаем, — сказал Виктор, участливо положив руку на колено Сергею.
— Конечно, придумаем, — кивнул головой Сергей. — А может, еще и обойдется. Наши там бунтуют… По как бы дело ни повернулось, станок достать надо, а то его через два дня заказчикам вернут. Адрес остается тот же?
— Тот же, — сказал Виктор.
— Ну, значит, до восемнадцатого.
17 ноября утром около крыльца Казанского училища остановились санки. Из них вылезли полицеймейстер и седобородый преосвященный в высокой бобровой шапке.
Всех учащихся созвали в актовый зал.
Первым держал речь преосвященный. Он долго говорил о том, что грешно и неразумно идти против начальства и что бог карает мятежников, а начальство вольно с ними поступать «строго и справедливо». Ученики молчали.
Затем коротко и резко сказал несколько слов полицеймейстер. Речь его можно было передать несколькими словами: «учатся на казенный счет, а бунтуют».
— Грошовой стипендией попрекает! — сказал кто-то в задних рядах.
И наконец заговорил сам инспектор. Заложив по-наполеоновски руку за борт сюртука, Алексей Саввич Широков вышел вперед и сказал хриплым, отрывистым голосом:
— Довожу до сведения учащихся, что Костриков, Асеев и Яковлев исключены… — Здесь Широков гулко вздохнул.
Все замерли.
— …не будут, — закончил Широков.
В зале поднялся шум. Кто-то негромко крикнул «ура».
Училищное начальство вынуждено было оставить «бунтовщиков», так как боялось, как бы школьный бунт не перехлестнул через стены училища. В любую минуту промышленников могли поддержать студенты и рабочие.
С 18 ноября в промышленном училище все пошло споим чередом. Все были на своих местах — и учителя, и ученики, и сторожа.
Длинная, тяжелая вешалка в шинельной тоже стояла на своем месте. Три крайних ее крючка были заняты тремя шинелями — Кострикова, Асеева и Яковлева.
Когда три приятеля появились утром в училище, их встретили как героев. В шинельной их качали, на дворе им кричали «ура». Во время уроков учителя разговаривали с ними осторожно и тихо, как будто все три товарища только что перенесли тяжелую болезнь.
Одним словом, порядок в училище был налажен. Все было тихо и мирно — до восьми часов утра следующего дня. А в восемь часов обнаружилось нечто такое, что слова переполошило училищное начальство и даже полицию.
Из механической мастерской исчез ручной печатный станок, только что отремонтированный и приготовленный к сдаче заказчикам. Когда об этом узнал инспектор Широков, он сказал надзирателям испуганно и сердито:
— Что же это такое, господа? Почему не уследили? Ведь это же не подсвечник, это станок, на нем печатать можно! Скоро дело до того дойдет, что мне в кабинет подбросят бомбу… Немедленно расследовать, кто взял станок!
Надзиратели забегали, захлопотали, но найти виновника так и не удалось. Не нашли и станка.
В тот же самый день к вечеру станок был уже на новом месте. Новые хозяева сразу же пустили его в работу.
Станок, который был предназначен для того, чтобы печатать холодные и унылые годовые отчеты благотворительного общества и списки жертвователей, печатал теперь на тысячах листовок смелые и горячие слова призыва:
«Долой самодержавие!
Долой эксплуататоров!
Да здравствует революция!»
Глава XXXIX
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КАЗАНИ
В конце июня 1904 года в маленьком домике на Полстоваловской улице шли спешные приготовления.
Ждали Сергея. Он должен был со дня на день приехать в Уржум. Особенно ждала Сергея бабушка Маланья. Ей было уже девяносто два года. Она почти ослепла, недомогала и иногда по целым дням не слезала с печки.
— Поглядеть бы одним глазком на внука — и помирать можно. На механика выучился. Шутка ли! — говорила бабушка соседям.
К приезду Сергея в доме побелили стены и печки. Сестры Анюта и Лиза вымыли пол, вымыли и протерли бумагой до блеска оконные стекла. В горнице на столе красовалась белая скатерть, которую стлали только на рождество и на пасху. Посредине стола в глиняном кувшине поставили огромный букет васильков — любимых цветов Сергея. От выбеленных стен, нарядной скатерти и цветов на столе маленькая бедная горница приняла праздничный вид и даже, казалось, стала больше и светлее. Все было готово к встрече Сергея.
Пароход приходил на пристань Цепочкино четыре раза в неделю, около двенадцати часов дня.
Но в день приезда Сергея пароход опоздал.
И когда Сергей пришел на Полстоваловскую, дома была одна бабушка Маланья. Старшая сестра Анюта ушла к подруге, а Лиза убежала на Уржумку купаться.
Бабушка, укрывшись шалью, дремала на лавке.
— Кто там? — закричала она, услышав в сенях чьи-то громкие незнакомые шаги.
— Свои! — ответил с порога мужской голос.
— Сереженька! Приехал! — ахнула бабушка.
Она поднялась с лавки и ощупью, держась за стену, пошла навстречу Сергею. Через минуту они сидели рядом на лавке. Старое морщинистое лицо бабки сияло.
— Большой, большой вырос. И тужурка форменная! И усы!.. Все как следует! Поглядела бы сейчас на тебя покойная Катя. — Бабушка заплакала.
И действительно, Сергей вырос и очень возмужал за последний год жизни в Казани. Широкоплечий и крепкий, в суконной форменной тужурке, с темными густыми волосами, зачесанными назад, он выглядел старше своих восемнадцати лет.
Вскоре вернулись сестры, и в доме зазвучали молодые, веселые голоса, а через час уже вся Полстоваловская знала о приезде Сергея. То и дело хлопала и скрипела старая низенькая калитка костриковского дома.
Пришла мать Сани, Устинья Степановна Самарцева, заглянул Пронька, забежали два соученика Сергея по городскому училищу. А под вечер явился приютский дворник Палладий. Он заметно постарел, и в рыжих волосах его, подстриженных в скобку, появилась седина.
Палладий поздоровался, поставил у дверей большую сучковатую палку, которую он называл «своим дружком», и уселся на табуретку против Сергея.
— Скажи, пожалуйста, техник-механик стал! — удивлялся Палладий. — Одиннадцать лет в приюте служу, а впервые вижу, чтоб приютский сирота в люди выбился.
Он почтительно разглядывал форменную фуражку, которую держал осторожно двумя пальцами за козырек.
Дворник долго сидел в гостях у Костриковых, пил чай с баранками, расспрашивал Сергея про Казань и ушел очень довольный тем, что Сергей выучился на «механика» и «не загордился».
Не успела закрыться дверь за дворником Палладием, как пришел Саня Самарцев. Саня был в новом костюме, в высоком накрахмаленном воротничке, подпиравшем подбородок, и в шелковом галстуке. В руках он держал тоненькую бамбуковую тросточку с надписью «Кавказ».
— Вот и наш кавалер пожаловал, — сказала бабушка Маланья.
И верно, иначе как кавалером Саню теперь и назвать было нельзя.
— Я тебя сразу и не узнал — ишь ты, какой франт, — сказал Сергей, обнимая приятеля за плечи.
— Вас, уважаемый Сергей Миронович, тоже узнать трудновато, — засмеялся Саня.
В первое же воскресенье товарищи встали в шесть часов утра и отправились на рыбную ловлю.
Город уже просыпался. Шли уржумские хозяйки с ведрами на речку. Звонили в соборе к ранней обедне. Домовладельцы подметали перед своими домиками улицу.
Товарищи дошли до реки, выбрали укромный уголок, разделись и бросились в воду.
Как хорошо было плыть по реке в это июньское жаркое утро! Вода была прозрачная, видно было песчаное желтое дно.
— Дальше учиться будешь? — вдруг спросил Саня, плывя рядом с Сергеем.
— Я не прочь, да только, сам знаешь, — кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки.
— А то оставайся здесь. У нас в Управе вакансия регистратора освобождается. Хочешь, похлопочу за тебя?
— Не надо, — сказал Сергей.
Оба плыли несколько минут молча.
— Иван Никонович! — вдруг закричал Саня. — Иван Никонович!
Сергей увидел на берегу лодку, а в ней парня лет двадцати шести, с пышной русой шевелюрой. Студенческая выгоревшая от солнца фуражка сползла ему на затылок. Он вычерпывал из лодки воду железной банкой.
— Говорят, что он политический, — тихо сказал Саня. — Познакомить тебя?
Ивана Никоновича, студента Томского технологического института, Саня знал еще по Вятке. Знакомство состоялось. Этот день они провели втроем, а вечером втроем отправились в гости к политическим ссыльным.
Возвращаясь от ссыльных, Сергей вдруг сказал:
— Хорошо бы собрать знакомую молодежь да поехать по реке на лодке.
— Мысль невредная! — подхватил студент.
Через неделю был устроен пикник. На лодках поехало человек двенадцать: курсистки, студенты, гимназисты. Взяли с собой самовар, бутерброды, гитару. Поздно вечером на берегу Уржумки разложили костер, наварили ухи. Играли на гитаре, пели хором революционные песни, над рекой раздавались молодые голоса:
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог!
От костра на воде дрожали красноватые отблески.
Сергей стоял у костра и дирижировал зеленой веткой:
Вставай, поднимайся, рабочий народ.
Иди на врага, люд голодный!
Глава XL
СЕРГЕЙ УЕЗЖАЕТ
Почти каждый день Сергей встречался со студентом.
Возвращаясь из Управы, Саня постоянно заставал их вместе. Он начинал ревновать Сергея, и ему казалось, что тот никогда с ним так охотно и оживленно не разговаривал, как с новым товарищем.
Даже бабушка Маланья благоволила к Ивану Никоновичу, который ежедневно бывал у Костриковых. Бабушка прозвала его «Тара-ри-ра». У студента была смешная привычка: он всегда напевал себе под нос мотивы без слов, так что слышалось одно беспрерывное «тара-ри-ра, тара-ри-ра».
В середине августа Сергей вдруг объявил дома, что он уезжает с Иваном Никоновичем в Томск.
— Ты что ж, в Технологический учиться едешь? — спросил Саня.
— Хотелось бы, да неизвестно, как обстоятельства сложатся.
— Кем же ты все-таки думаешь быть?
— Буду тем, что сейчас самое важное и самое нужное, — ответил Сергей.
— Ничего не понимаю, — рассердился Саня и замолчал.
Бабушка, узнав об отъезде Сергея, завздыхала:
— Зачем уезжать? Устроил бы тебя Саня в Управу, и жил бы ты себе тихо да спокойно в Уржуме.
— Ехать, бабушка, нужно.
— Ну, раз нужно, поезжай, — махнула рукой бабушка. — Это тебя не иначе как «Тара-ри-ра» взбаламутил!
За семь дней до отъезда Сергей решил пойти к фотографу вместе с бабушкой и сестрами.
Бабушка по такому торжественному случаю позвала Устинью Степановну и долго советовалась с ней, в каком ей платке сниматься — в ковровом или в черной шали. Лиза вместо обычной косы сделала прическу.
По городу бабушку медленно вели под руку Лиза и Сергей. Бабушка шла и спотыкалась — не слушались старые ноги.
Фотограф — маленький тщедушный человечек — суетился, долго усаживал их и наконец усадил: бабушку рядом с Лизой, которая держала в руках книгу, а позади поставил Сергея и Анюту.
Через четыре дня снимок был готов, и бабушка Маланья повесила его на самом видном месте, в горнице под иконой.
Уезжал Сергей в осенний теплый и ясный день. На березах уже кой-где пожелтели листья, но небо было голубое и безоблачное.
Сборы не затянулись. Корзинка с бельем, одеяло да подушка — вот и все имущество!
Бабушка Маланья в это утро встала чуть свет, напекла Сергею подорожников и налила бутылку топленого молока.
— Дорогой выпьешь. На воде есть всегда хочется, — уговаривала она Сергея и, несмотря на его протест, все-таки всунула ему в карман бутылку с молоком.
Младшая сестренка Лиза на прощание подарила брату носовой платок, на котором вышила его инициалы.
Сергей простился с бабушкой и сестрами, за ним зашли Иван Никонович и Саня, который хотел проводить товарищей до пристани Цепочкино.
Когда они пришли на пристань, пароход стоял уже у причала.
До отхода оставалось несколько минут, и уже все пассажиры были на палубе. Женщины с узлами и детьми, поп в соломенной шляпе с большим парусиновым зонтиком, краснощекий подрядчик в поддевке и несколько крестьян с мешками.
Едва успели Сергей и студент войти по трапу на пароход, как босоногий белобрысый матрос отдал концы — и пароход медленно отошел от пристани.
Сергей и Иван Никонович стояли на палубе и махали фуражками.
— До свидания, Иван Никонович! До свидания, Серьга! Пишите! Пишите! — кричал Саня.
Он стоял на берегу до тех пор, пока пароход не скрылся за поворотом реки. Тогда Саня медленно пошел домой, размахивая своей тросточкой.
«Вот поехали, — думал он, — будут жить в большом городе, учиться, работать, а я остался в Уржуме».
Он шел, размахивая тросточкой, и в досаде сбивал листья с придорожных кустов. А в это время на пароходе, в маленькой каюте, разговаривали товарищи. Пароход вздрагивал, где-то внизу стучала машина. Сергей сидел на узкой койке, Иван Никонович стоял у стены и курил.
— Ты должен знать, Сергей, что тебя ожидает! Не исключена возможность виселицы. А о тюрьме и ссылке уж и говорить нечего…
Сергей поднялся и, тряхнув головой, откинул волосы со лба.
— Знаю, Иван!
Он распахнул маленькое круглое оконце; в каюту ворвался свежий речной воздух и шум колес.
— А вот и Шурму проехали, — сказал Сергей, высунув голову в окошко.
Вечерело. Мимо проплывали вековые дремучие леса, болотистые топи, невысокие холмы, и только изредка на отлогих глинистых берегах темнели крохотные, сутулые избушки.
Над рекой вставал серый холодный туман.
Кое-где начинали зажигаться огни.
КЛАША САПОЖКОВА
Повесть
Рисунки Г. Фитингофа

Глава первая
По мраморной, давно не мытой лестнице поднималась рослая краснощекая девочка в бархатной жакетке и круглой меховой шапочке.
В руках она держала клеенчатую школьную сумку.
Поднимаясь по лестнице, девочка считала ступеньки:
— Раз, два, три, четыре…
На площадке третьего этажа она увидела почтальоншу, которая звонила к доктору Светланову.
— Писем в шестой номер пет?
Почтальонша порылась в туго набитой сумке и протянула девочке серый шершавый конверт, заклеенный хлебным мякишем. На углу конверта темнел штемпель; «Действующая армия».
Девочка, зажав сумку между колен, торопливо вскрыла конверт и вынула из него измятый лист бумаги, густо исписанный большими кривыми буквами. Но не успела она прочесть и двух строчек, как входная дверь квартиры шесть раскрылась, и на площадку вышла очень молодая, кокетливо одетая дама.
— Клаша, ты что здесь делаешь? — спросила она. — Мама давно тебя ждет. Нужно съездить на Арбат. Никак, любовную записку от гимназиста получила? — засмеялась дама, заметив в руках девочки письмо.
— Больше мне делать нечего, — насупилась Клаша. Она сунула письмо в карман жакетки и, взяв сумку под мышку, позвонила у двери, на которой блестела медная дощечка: «Полковник Юрий Николаевич Зуев».
— По дороге с Арбата купи нотную тетрадь! — крикнула дама, спускаясь с лестницы.
Дверь Клаше открыла женщина лет сорока, плотная и рябая, с подвязанной щекой.
— Ой, зубы совсем одолели! — пожаловалась она, держась рукой за опухшую щеку.
— Ты бы, тетя Дуня, к доктору сходила.
— А, что твой доктор! Я водку клала, горчичник привязывала — и то не помогает.
Дуня, вздыхая и охая, пошла на кухню.
Она прожила восемь лет в Москве, но не признавала и даже боялась докторов. От каждой болезни у нее было свое, испытанное деревенское средство. Она носила на шнурке вместе с нательным крестом дольку чесноку, чтобы не заболеть холерой, и янтарную бусину — «от дурного глаза».
Если кто-нибудь во дворе подшучивал над ее суеверием и домашними средствами, Дуня хмуро слушала и молчала, но, ложась спать, язвительно говорила Клаше:
— Хвалят, хвалят докторов: они и умные, они и ученые, а толку от пих — шиш. Вон в семнадцатом номере телефонистку Зину — чахоточную — доктора до смерти залечили…
Клаша разделась, одернула свое гимназическое коричневое платье и, вынув из кармана обломок гребенки, наскоро причесала волосы. Густую и длинную косу Клаша закрутила пучком на затылке. С такой прической она казалась взрослой девушкой. Нельзя было подумать, что месяц назад ей исполнилось только четырнадцать лет.
— Клаша! — позвала ее тетка.
— Иду!
Клаша, схватив сумку и письмо, побежала на кухню.
Наклонившись над большим цинковым корытом, Дуня стирала белье. Она яростно намыливала и терла белое пикейное покрывало. Мыльная пена летела во все стороны. Огромная куча грязного белья возвышалась около табурета.
— Обедай, Клаша, да погладь барынины кружевные воротнички. Мне сегодня, пожалуй, одной не управиться, — сказала Дуня, не повертывая головы.
— Сначала письмо прочту. Дядя Сеня…
— Прислал? — Дуня выпрямилась и радостно закрестилась на икону. — Слава тебе господи, жив, значит! Ну, читай, Клавдея, читай скорей!
Дуня вытерла мокрые руки о фартук и подсела к кухонному столу. Клаша села напротив и развернула письмо.
Оно начиналось, как и все письма дяди Семена, с приветствия:
— «Здравствуйте, любезная сестра Авдотья Никифоровна и милая племянница Клаша!»
Дуня уселась поудобнее на табуретке, подперла рукой щеку и приоткрыла рот.
— «Не писал я вам потому, что 21 августа сдали немцу Ригу. На левом фланге они перешли наш берег через сухую Двину и сильно на нас наступали. Убили в этом бою моего товарища Александра Спицына. Меня ранило в левую руку».
— Ой, господи! — вскрикнула Дуня.
— «Пуля насквозь через мякоть прошла. Кость осталась целая. Сейчас рука заживает. Живем что ни день, то хуже. Вши заели, по колено в воде. В холод и дождь под открытым небом, и ждать нечего. Недавно шестнадцать рот забунтовало: дали нам рыбную червивую похлебку, солдаты кухни опрокинули. Сапог и теплой одежды нет, а зима на носу. Только голодать и сидеть долго в этих ямах не будем. Приезжали к нам рабочие делегаты — большевики из Петрограда и из Москвы с фабрики Гужона и с Прохоровки. Обещали, что скоро все по-другому повернется. Того и ждем. Если офицерам хочется воевать — пускай воюют, а будут нас заставлять — винтовки на них повернем. А затем до свидания, может, вскорости увидимся. Остаюсь известный вам Семен Никифорович Мурашов. Отпишите, как живете, как Клашино учение. Ходила ли Клаша к Кате на Прохоровку? Адрес прежний. Действующая армия, 19-й сибирский стрелковый полк, 2-я рота, 1-е отделение. Получить Мурашову. Меня и еще одного солдата, Голубкова, который со мной на Прохоровке в отбельной работал, выбрали в солдатские депутаты. Еще раз до свидания. 12-го сентября 1917 года».
Дуня закрыла фартуком лицо и вдруг заплакала.
— Дождется, отвернут ему башку, отчаянный! Он и мальчишкой отчаянным рос.
И Дуня стала рассказывать Клаше давно уже известную ей историю, как Сенька в деревне, играя с мальчишками в чижа, разбил окно отцу Савватию. Поп поймал его и надрал уши, а Сенька плюнул ему на рясу.
— О господи, сколько он мне крови попортил! А вырос — тоже не лучше стал. Придет, бывало, в воскресенье в гости и давай порядки на Прохоровке ругать, а я сижу дрожу, как бы барыня или барин Юрий Николаич на кухню но вышли. Бунтовщик он самый настоящий!
— Катя тоже говорит, что у них на фабрике плохо, — вступилась Клаша.
— «Катя, Катя»! А кто она, твоя Катя? Тоже крученая, той же веры. Им всю жизнь на свой манер повернуть надо, тогда успокоятся. Добились своего, царя с престола согнали! Так еще, видно, все не по-ихнему!
Дуня встала и сердито отпихнула ногой табуретку. Она не понимала Семена, но по-своему любила и жалела брата, который был моложе ее на двенадцать лет. Сейчас ей было особенно боязно за отчаянного Сеньку. Убить его могут немцы каждую минуту, а он еще такую глупость надумал! Да разве это мыслимое дело! Против начальства винтовки повернуть. «Ишь ты какой ловкий! А как они против тебя — пушки? Тогда что запоешь? Господи, образумь ты его, дурака непокорного», — вздохнула Дуня и снова принялась за стирку.
Клаша вытащила из-под кровати маленькую плетеную корзинку. На дне корзинки хранилась коробка из-под печенья «Эйнем», в которой лежали дядины письма и тряпичная самодельная кукла Мотька с бусинками вместо глаз.
Клаша сунула письмо в корзинку и задвинула ее обратно под кровать.
В кухню вошла барыня, Вера Аркадьевна, полная румяная блондинка. Видно, она только что отдыхала. Светлые волосы, зачесанные кверху, были растрепаны. Вера Аркадьевна зябко куталась в большой пуховый платок. Опа была ровесница Дуни, но выглядела лет на десять ее моложе.
— Дуня, хлеб получила? — спросила Вера Аркадьевна.
— Получила. Ой, Вера Аркадьевна, что сегодня опять в булочной было! Стекла в окнах выбили, хозяина чуть не убили. Бабы-то больше мужиков в драку лезут! Керенского больно ругают, говорят: он во всем виноват. Хлеба — и того не…
— А желатину купила? — перебила барыня Дуню.
Дуня в ответ только махнула рукой.
— Сегодня, барыня, солдат какой-то на всю улицу кричал, что господа для себя переворот сделали. Грозил: подождите, рабочие скоро заново революцию сделают, настоящую!
— Ну, мало ли какие глупости может говорить пьяный или сумасшедший.
Вера Аркадьевна повернулась к Клаше:
— Ты пообедала?
— Нет еще.
— Пообедаешь — поезжай к Анне Петровне за моим черным суконным платьем. Кстати, милая, захвати и Надюшину блузочку.
— Она мигом скатает, — вмешалась Дуня.
— Ну вот и отлично. У тебя, Дуня, кажется, двугривенный остался сдачи? Дай его Клаше на трамвай.
Вера Аркадьевна постояла еще с минуту посреди кухни, оглядела стены, точно видела их впервые, зевнула и, поправив пышную прическу, не спеша вышла из кухни.
— Вот человек — ангел, никогда грубого слова не скажет.
— Ангел, только не летает, — буркнула Клаша.
— Замолчи, бессовестная! Услышит. Ведь на ее деньги учишься.
— «Учусь, учусь»! — обозлилась Клаша.
И далось же им это ученье! Мать барина, Мария Федоровна, так та всем уши прожужжала, что это глупая затея и лишний расход — учить кухаркину племянницу в прогимназии.
Правда, на Марию Федоровну никто не угодит, она старуха злая и привередливая. Она даже полковому священнику, старику с бородавкой на щеке, замечания в церкви делала.
Вера Аркадьевна, та никогда и никого не попрекает, но при удобном случае не прочь рассказать, почему Клаша учится на ее счет. Восемь лет назад единственная дочка Веры Аркадьевны, Надюша, заболела крупозным воспалением легких. Думали, что она не выживет, но девочка стала поправляться. Доктор Светланов, друг их семьи, посоветовал увезти Надюшу в деревню попить парного молока. Вера Аркадьевна послушалась доктора и уехала с дочкой в деревню Чумилино, за двести верст от Москвы. На свежем воздухе Надюша поправилась, загорела, потолстела. Довольная Вера Аркадьевна чуть не ежедневно писала доктору длинные благодарственные письма. Все шло хорошо, но в одно жаркое июльское утро случилась беда. Как обычно, Вера Аркадьевна с дочкой купались в реке около разрушенной мельницы. Сильно припекало солнце, и вода была такой теплой, точно ее наполовину разбавили кипятком. Надя заплыла на середину реки и только хотела плыть к берегу, как начала тонуть.
Не умея плавать, Вера Аркадьевна бестолково топталась у берега, крича и размахивая руками. В это утро, как нарочно, на реке не было ни души. Даже деревенские ребятишки и те убежали на покос. Помощи ждать было неоткуда. И вдруг из-за кустов с противоположного берега в воду бросилась какая-то деревенская баба в розовой кофте и вытащила Надю.
Не помня себя от радости, Вера Аркадьевна тут же поклялась отблагодарить эту женщину. Узнав, что Дуня — так звали спасительницу — живет в большой нужде, Вера Аркадьевна забрала ее в город прислугой, а вместе с ней и шестилетнюю Клашу, круглую сироту. Спустя пять лет Вера Аркадьевна «за послушный и услужливый Дунин характер» на свой счет отдала ее племянницу Клашу в прогимназию.
Все, кто ни слышал эту историю, восхищались Верой Аркадьевной.
— Ах, милая, вы удивительный человек, у вас золотое сердце! — говорили знакомые дамы.
Вера Аркадьевна слушала, и ей было очень приятно сознавать себя благодетельницей. Это «благодеяние» ей ничего не стоило. Даже наоборот: в Дуне она нашла услужливую, безропотную и глуповатую прислугу, о которой давно мечтала. Дуню не нужно было отпускать по воскресеньям из дому, как избалованных городских прислуг, которые долго в доме у Зуевых не заживались.
Порядки в доме, где командовали три барыни, были такие, что работы хватало с утра и до вечера не только для Дуни, но и для Клаши.
Вот взять бы хоть сегодняшний день. Клаша хотела после обеда сразу сесть за уроки. Вот тебе и села!
Сейчас надо ехать на Арбат, к портнихе Анне Петровне, потом купить нотную тетрадь для Надежды, а вернешься домой — гладь воротнички Веры Аркадьевны. Еще надо протереть вареную морковь на котлеты. Старая барыня, Мария Федоровна, ест только каши да протертые овощи, потому что у нее страшная болезнь в желудке — «гастрит-колит». Хорошо, что сам полковник, Юрий Николаевич, вот уже второй год на войне, а то прибавилось бы Клаше еще дела: чистить шинель, френч и бегать в лавочку за папиросами.
Клаша торопливо ела, перебирая в уме уроки, заданные на завтра. Уроков немало: по географии задали Швейцарию, по русскому — выучить наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде…», по алгебре — три задачки на уравнения с двумя неизвестными, а по русской истории — повторить Екатерину Вторую. Видно, опять придется сидеть с уроками далеко за полночь.
Было половина шестого, когда Клаша с большой деревянной картонкой в руках вышла из дому. Картонку навязала ей Вера Аркадьевна, боясь, как бы Клаша не измяла полученный от портнихи заказ. На дне картонки лежал томик Гоголя. Клаша решила в трамвае подучить заданный урок.
 Было половина шестого, когда Клаша с большой деревянной картонкой в руках вышла из дому.
Было половина шестого, когда Клаша с большой деревянной картонкой в руках вышла из дому.
На улице начинало темнеть. Старая Башиловка, похожая скорее на переулок, чем на улицу, в этот предвечерний час была особенно глухой и безлюдной. Всего на Башиловке было четырнадцать домов, три из них — большие каменные. Остальные — деревянные особнячки, окрашенные в желтую и голубую краску. Здесь во дворах, в маленьких садиках, весной цвели пышные кусты сирени и зеленой акации.
На соседней улице был ипподром. В утренние часы по тихой Башиловке наездники, маленькие ловкие люди в пестрых картузиках, прогуливали скаковых лошадей, тонконогих, выхоленных красавцев с подстриженными хвостами и с блестящей атласной шерстью. Лошади шли танцуя; их стройные ноги были забинтованы, — казалось, что на ногах у лошадей надеты белые носочки. Имена у лошадей были непонятные: Крокус, Пти-Жарден, Анатема.
От квартиры Зуевых до трамвайной остановки ходьбы было минут пять.
Клаша долго ждала трамвай; наконец появился трамвай номер 25. Он был переполнен, но Клаше удалось кое-как примоститься на последней ступеньке трамвайной площадки.
Трамвай помчался с бешеной быстротой.
Холодный ветер с силой дул Клаше в ухо и захлестывал платье вокруг ног. Раза два трамвай сильно мотнуло в сторону, и Клаше показалось, что сейчас она сорвется с подножки и полетит под колеса вагона. Рука у нее затекла от напряжения. На остановке у Триумфальных ворот, против Александровского вокзала, Клаше наконец удалось протиснуться в трамвай. На место вышедших пассажиров влезло человек двадцать солдат в грязных шинелях, с вещевыми мешками за плечами. Все они были бородатые, худые и, как показалось Клаше, сердитые. Солдаты вошли толкаясь и внесли с собой запах кожаных сапог, мокрых шинелей и махорки.
— Откуда, солдатики, а? — спросил толстый бритый господин в высокой котиковой шапке.
— С гулянки. У твоей бабушки в Риге на крестинах были, — огрызнулся длинноносый молодой солдат.
Господин только крякнул.
— До чего обнаглели! — ахнула рядом с Клашей пожилая усатая дама.
Портниха Анна Петровна жила на Арбатской площади, в большом каменном доме, на четвертом этаже. Дом был облупленный, грязно-серого цвета. Тусклые окна безучастно и сонно глядели на улицу.
На звонок вышла сама портниха, пожилая кривобокая женщина в коричневом вязаном платке на плечах. Седые редкие волосы, расчесанные на прямой ряд, были закручены на макушке в крошечный пучочек.
— Здравствуй, Клаша! А у меня еще не готово. Подожди немного, я только швы обметаю.
По темному коридору, задевая плечом за какие-то нагроможденные у стены вещи, Клаша прошла за Анной Петровной в комнату.
В «мастерской», как гордо называла Анна Петровна свою единственную комнату, пахло сыростью, дешевыми папиросами и паленым сукном. Посредине стоял большой портновский стол, заваленный газетными выкройками, кусками материи и недошитыми вещами. Духовой утюг на самоварной конфорке, рассыпанные булавки, обломанные мелки, чашка с недопитым чаем на краю стола, рядом с ней раскрытый журнал мод «Парижские моды» — все это уже не в первый раз видела Клаша.
Анна Петровна усадила Клашу около стола, наскоро допила холодный чай и сунула чашку за ширму.
За ширмой у нее стояли кровать и маленький столик. Сюда, за ширму, портниха в течение дня сваливала все, что ей мешало. Только перед сном она разбирала этот ералаш.
Клаша сняла жакет, вытащила книжку из картонки и положила ее на стол.
— Это что за книга? — спросила Анна Петровна.
— Гоголь.
— Ну, учи, учи, я тебе мешать не буду.
Анна Петровна закурила папироску и, пододвинув поближе к себе настольную керосиновую лампу под бумажным белым колпаком, принялась за работу. Низко склонившись над платьем, она ловко и быстро обметывала швы. Иголка так и мелькала в ее тонких проворных пальцах.
Соседи тихую и боязливую Анну Петровну прозвали «божьей коровкой».
И верно, Анна Петровна всего боялась, ходила как-то бочком и даже в своей комнате работала, сидя на краешке стула.
— «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои», — заучивала вслух Клаша.
«Ни зашелохнет, ни прогремит… Ни зашелохнет, ни прогремит», — повторяла она и, чтобы лучше запомнить, закрывала глаза.
«Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина… Глядишь и не знаешь…»
На окне, в клетке, закрытой от света черным платком, завозился чижик.
— У меня заказчица была одна, Евгения Михайловна, кассирша от Бландова, — заговорила Анна Петровна, — так она тоже про Днепр рассказывала. Говорит, широкий он и синий, как море, а на берегу белые хаты стоят и сады. Вишни там ужасно много растет. Она оттуда десятифунтовую банку вишневого варенья привезла. Вот кабы туда поехать да поглядеть! — вздохнула Анна Петровна и побежала ставить утюг на керосинку.
Пока грелся утюг, Анна Петровна разложила на столе шелковую белую Надину кофточку и стала выдергивать из нее наметку. Кофточка была модная, с ажурной строчкой и с затейливыми оборочками на груди. За шитье такой кофточки «мадам Элен», портниха на углу Кривоколенного и Никольского переулка на Арбате, берет сто двадцать рублей. И заказчицы не морщась дают. А вот ей Вера Аркадьевна гроши заплатит. А почему? Салона нет, зеркала трехстворчатого не имеется, бархатной мебели, кружевных занавесок на окнах, и, что обидней всего, ведь они с этой «мадам Элен» вместе у портнихи Николаевой на Тверской улице в ученицах жили. Тогда мадам эту звали запросто Ленкой, а теперь у нее модный салон, пять мастериц, а у Анны Петровны даже нет приличного манекена. Такие горькие мысли появлялись каждый раз у Анны Петровны при сдаче работы. Эти мысли не давали ей покоя, как не давали покоя и чужие свадьбы. Она старалась не пропустить ни одной свадьбы на Арбате; пробравшись в угол церкви и вытянув шею, она жадно разглядывала жениха и невесту, фасон ее платья и молодое, счастливое лицо. Вернувшись с чужой свадьбы, Анна Петровна ложилась за ширму на узкую кровать и тихонько плакала от обиды. Она была немолода, одинока, и ей было грустно, что у нее никогда не будет семьи.
Когда Клаша вернулась от портнихи, Дуня третий раз подогревала самовар. У хозяев были гости. В кухню доносился звон чайной посуды, звяканье вилок и ножей и веселый, чуть визгливый смех «молодой барыни», как звала Дуня недавно вышедшую замуж барышню Надю. Слыша се смех, Клаша ясно представила себе, как та лежит в плетеной качалке, вытянув ноги в узких модных ботинках. Рядом с качалкой сидит ее муж, поручик Скавронский, Константин Александрович, высокий худой блондин. Наклонившись к Надежде, он что-то шепчет ей на ухо. Надежда Юрьевна притворно закрывает руками уши.
— Замолчи, Котик! И совсем, совсем не смешно. Ах, замолчи! — кричит она, а сама заливается хохотом.
Если розы отцветают, их тотчас же обрывают.
В этом красота, жизнь так коротка,—
напевает в ответ свой любимый романс Константин Александрович.
Клаша терпеть не может поручика. Все ей в нем кажется противным. И рокочущий голос, и высокая тонкая фигура, и большой породистый нос — все, вплоть до золотого переднего зуба во рту.
Встречаясь с ним в коридоре или на лестнице, Клаша старается каждый раз незаметно прошмыгнуть мимо. Поручик, увидя ее, щелкает шпорами и, улыбаясь, говорит всегда одну и ту же глупую фразу:
— Ах, здравствуйте, Клашета, мамзель а ля фуршета!
«И зачем Надежда замуж за него вышла, чего хорошего в нем нашла? — удивлялась Клаша. — Лучше бы уж за поручика Кадаманова! Хотя он белобрысый и пудрится, как барышня, но зато хорошо на рояле играет!»
Когда Кадаманов с Надей по вечерам играли в четыре руки, Клаша готова была часами их слушать.
Неплохо у Нади и у одной выходило. Слушая ее, Клаша мечтала: а что, если самой вот так бы сесть к роялю, раскрыть толстую нотную тетрадь с непонятными знаками, похожими на черненьких червячков, и заиграть любую вещь: то быструю, веселую польку, то вальс, то такую печальную, такую грустную песню, что хочется слушать ее затаив дыхание…
Раз, прибирая в комнатах, Клаша, не утерпев, подсела бочком к роялю. Она вытерла руку о фартук и осторожно, одним пальцем, нажала белую клавишу. Звук получился робкий, чуть слышный.
Тогда Клаша уселась на стуле поудобнее и, растопырив пальцы, ударила сразу по нескольким клавишам. Наклонясь к роялю и с восхищением слушая, как гудят струны, она ударила еще раз.
— Это что такое?! — раздался за ее спиной сердитый, изумленный возглас.
Клаша обернулась и увидела Марию Федоровну, которая стояла на пороге своей комнаты. Клаша смутилась, схватила с рояля пыльную тряпку и бросилась в кухню: она боялась старой барыни даже больше, чем хозяина — полковника Зуева.
Полковник никогда не повышал на нее голоса, но стоило Клаше услышать в дальних комнатах его покашливание и увидеть высокую, прямую фигуру в офицерском мундире с золотыми погонами, как на нее тут же нападала оторопь.
А когда Клаша приносила ему папиросы или вычищенные сапоги, то полковник говорил своим глухим, ровным голосом: «Поставь, девочка, сюда!» или: «Положи папиросы на стол!» Он никогда не называл ее по имени.
«Никому до меня нет дела! И за человека не считают! Терпят только из милости!» — с обидой думала Клаша.
Вот и сейчас — она так замерзла, что еле-еле может развязать картонку своими красными, одеревеневшими руками, а тетка, как нарочно, сердито торопит! Клаша молча вытащила из картонки платье и кофточку и отдала Дуне. Надев их на деревянные распялки, тетка выскочила с вещами на лестницу: Вера Аркадьевна строго-настрого приказала вещи от Анны Петровны проветривать на свежем воздухе, чтобы они «не пахли портнихой».
— Протри морковь! — крикнула Клаше тетка, хлопнув дверью.
— Ладно! — ответила Клаша и стала раздеваться.
Затем она сняла с полки синюю эмалированную кастрюльку и принялась большой деревянной ложкой протирать морковь через сито.
Дуня вернулась и отнесла кофточку и платье в спальню Веры Аркадьевны.
— Морковь протерла?
— Протерла.
— Садись за уроки, остальное сама сделаю, — сказала Дуня и принялась жарить Константину Александровичу яичницу. Потом она стала гладить кружевные воротнички Веры Аркадьевны.
— Уроков-то много? — спросила Дуня, сбрызнув кружева водой.
— А что надо делать?
— Хорошо б сегодня ответ дяде Сене написать.
— Сейчас задачки доделаю — и напишем.
Дуня догладила и, налив из куба горячей воды в ведро, подоткнула юбку и начала мыть кухню.
Было половина одиннадцатого, когда Дуня закончила мытье пола.
— Ну, слава тебе господи, кажись, все. Уж кастрюльки завтра вычищу. Встану пораньше и вычищу.
Дуня выпрямилась, потерла рукой поясницу и, кряхтя, принялась раздеваться.
— Ну, давай, Клаша, пиши скорей, спать пора. Устала я как собака.
Клаша положила перед собой лист писчей бумаги и голубой конверт. Дуне хотелось написать брату особенное, душевное письмо, чтоб Сенька одумался, не дурил, поберег бы себя, но нужных слов сразу придумать она не могла.
— А ну пиши уж, как всегда, — махнула рукой Дуня и начала диктовать: — «Здравствуй, любезный брат, Семен Никифорович! Письмо мы твое, значит, с Клашей получили. — Дуня зевнула. — Да-а-а, письмо мы твое, значит, с Клашей получили и очень были…»
Дальше Клаше писать не пришлось. Кухонная дверь приоткрылась, и в нее просунулась худая рука Марии Федоровны. Рука держала трехрублевку.
— Клаша, сбегай в аптеку. Кончился боржом.
Глава вторая
Когда Клаша пыталась вспомнить деревню Чумилино, где она прожила с теткой до шести лет, то в памяти возникала одна и та же картина: осенний холодный ветер, слышно, как на улице моросит дождь. Тетка ушла к мельнику просить взаймы муки, а ее оставила дома. Ей страшно сидеть одной в маленькой, темной избе, где единственное окошко заткнуто старой теткиной кофтой и пучком соломы.
Клаша влезает на скамью, отдирает край тряпки и смотрит на улицу. По улице мимо дома идет стадо. Мокрые коровы, заляпанные грязью, уныло мычат, позади босоногий, в подсученных штанах, накрывшись с головой зипуном, бредет пастух. Он тащит по грязи длинный мокрый веревочный кнут. А дождик льет и льет без конца. Еще Клаше вспоминается злая цепная черная собака мельника, которая всегда кидалась на прохожих. Больше, как ни старалась Клаша вспомнить, ничего вспомнить не могла.
Зато у тетки, если заходила речь о Чумилине, хватало и воспоминаний и разговоров. Она обычно так и начинала: «А вот у нас в Чумилине», — и дальше шел рассказ о том, что нигде нет такой богатой деревни, как их Чумилино; нигде так зажиточно не живут мужики, как у них в деревне, и нигде девки не поют таких сердечных песен и нот такой тенистой березовой рощи, как за подмостьем в Чумилине!
Но после того как у них побывала в гостях бабка Лукерья, таких восторженных воспоминаний о деревне Клаша от тетки больше не слыхала.
В один из непогожих осенних дней в кухню вошла незнакомая старуха, повязанная большим теплым платком:
— Здравствуй, Авдотья Никифоровна.
— Здравствуйте, — сказала тетка, с недоумением разглядывая старуху.
— Иль не признала бабку Лукерью! А?!
— Ну проходи, проходи, — уже приветливо сказала тетка. — Садись. Когда приехала? Надолго ль?
— Вчера. К сынку Петруше в гости. Он здесь у Гужона на фабрике работает. Ну, думаю, дай заодно и землячку навещу, — ответила старуха, с любопытством рассматривая большую светлую кухню с полками, украшенными бумажными кружевами, блестяще начищенные кастрюли всех форм и размеров, Дунину кровать в углу с горой подушек.
На краю кровати, свесив ноги, сидела Клаша и не сводила глаз с гостьи.
— Это что же, хозяйская барышня? — спросила бабка.
В рослой десятилетней девочке, одетой в клетчатое платье, с косами, завязанными голубыми лентами, трудно было узнать патлатую и грязную Клашу из деревни Чумилино.
— Это племянница моя — Клаша. Разве не узнала?
— Да теперь-то, приглядевшись, узнала, а сразу никак. Выросла она очень да и одета ровно барышня, — сказала бабка Лукерья.
Дуня начала расхваливать барыню, Веру Аркадьевну, которая дарит Клашке свои поношенные юбки и кофты и такая добрая, что собирается отдать ее за свой счет в гимназию.
— А в гимназии учатся только господа. Благородные, — хвасталась Дуня.
— Ну, дай, дай ей господи, — перекрестилась бабка Лукерья.
Пока тетка разговаривала с гостьей, Клаша сбегала в булочную за мягким ситным. Сели пить чай. В стеклянную розетку с вареньем бабка Лукерья макала маленькие кусочки сахара. Рука у нее была морщинистая и коричневая. Она пила чай медленно, осторожно прихлебывая с блюдца. После третьей чашки бабка вытерла ладонью губы и начала рассказывать деревенские новости:
— Саню Малова чугункой зарезало, — только куски мяса собрали. Настька вдовой осталась с тремя ребятами; старшему восьмой год пошел. Хватит баба горя с сиротами. А у бабки Лександры сын Яшка объявился. Четыре года о себе знать не давал и вдруг — как снег на голову. Приехал в новой паре, при часах. В Сибири, говорит, служит приказчиком. Бабке пуховый платок привез и чаю кирпичного две плитки. Там у них в Сибири, в городе Ташкенте, всё кирпичный чай пьют… А Польку Куликову помнишь, что на косогоре жила? Померла. От застуды, на сплав ходила. У Баранихи девчонки-двоешки родились. Ждали парня; сын — как-никак помощник, работник, а родились девчонки, лишние рты. Ну, может, бог приберет!
Говорила бабка быстро, точно боялась, что забудет и не успеет все рассказать. Дуня слушала старуху, спрятав обе руки под фартук; лицо у ее было хмурое и красное.
— Вот тебе наши новые новинки — старое брюшко, — тараторила старуха. — С землей, как и прежде, одна горесть и расстройство. Хоть заколачивай с краю избы да и вали все гуртом в город. Не хватает крестьянству земли. Нынче весной, как нарочно, весь хлеб градом выбило. Чем кормиться будем? На Степан Фадеиче далеко не ускачешь. У него пуд возьмешь — два отдай. Жмет он мужиков. Скольких по миру пустил кровосос!..
— Торгует он в Чумилиной?
— Торгует. Этим летом железной крышей дом и лавку покрыл да еще из города граммофон привез. Разные танцы играет. Старшего сына Илюшку женил, на успенье. Взяли кривую Пелагею Старостину, из Кобтева.
Дуня вздыхала, покачивала головой, а сама то и дело посматривала на грязную лужу, что натекла на пол с мокрых бабкиных сапог.
— Ну вот и все наши новинки, — закончила, наконец, бабка Лукерья и перекрестилась. — Теперь рассказывай, Авдотья Никифоровна, про свое городское житье. Видать, не плохо живешь?
— Да уж жаловаться не приходится. Живем!.. — сказала Дуня и, подскочив к плите, помешала ложкой в большой кастрюле.
— Тетя Дуня, покажи бабушке, что Вера Аркадьевна подарила, — вмешалась Клаша.
— Кто тебя за язык тянет! Языкатая! — заворчала Дуня, но все-таки вытащила из-под кровати деревянный зеленый сундучок.
Там лежали завернутые в чистую наволочку ее праздничное синее платье и белый крахмальный фартук с прошивками, который она надевала, когда у Зуевых собирались гости. Рядом с платьем — черные хромовые башмаки на пуговках и флакон одеколона «Персидская сирень», а в углу сундучка хранился розовый, малоношеный шелковый корсет, подаренный Дуне барыней Верой Аркадьевной. Корсет Дуня надевала два раза в год: на рождество и на пасху.
Старухе подарки понравились. Опа долго щупала синее платье, вертела в руках башмаки, одеколон понюхала и похвалила. Духовитый!
На корсет бабка Лукерья неодобрительно покосилась:
— Куда его, барская выдумка!..
После ухода бабки Дуня стала убирать со стола посуду. Клаша видела, что тетка чем-то недовольна, расстроена. Она швыряла в ящик стола чайные ложки, уронила на пол большой круглый поднос и так пнула ногой кошку, что та, замяукав, бросилась под кровать.
Потом Дуня взяла тряпку и стала подтирать грязную лужу от бабкиных сапог.
— Ишь как наследила!.. Оно, конечно, не в городе, калош не носят. Эх, темнота, темнота деревенская! — сказала Дуня.
Утром Дуня отдала нищему остатки вчерашней каши и немудрый бабкин гостинец — круглый ржаной пирог с картошкой и луком.
Через месяц после появления бабки Лукерьи из Петербурга неожиданно приехал дядя Сеня. Он там прослужил три года на военной службе, или, как Дуня говорила, «на действительной». Клаша до этого знала дядю Семена только по рассказам тетки да по фотографической карточке. На карточке дядя был снят возле чугунной узорчатой решетки. Высокий, плечистый, одетый в солдатскую шинель, в военную фуражку, он стоял, вытянув руки по швам. Лицо на карточке у дяди было сердитое и немного испуганное.
— Он в жизни совсем не такой — веселый, занозистый, а здесь его ровно по голове стукнули, — говорила тетка.
И верно, дядя Семен оказался молодым и смешливым парнем.
Однажды утром в кухню вошел высокий красивый солдат с гармонией под мышкой.
— Здравствуй, Авдотья Никифоровна, — сказал он. — Не узнаешь?
— Сеня? Вернулся? — ахнула тетка и, всплеснув руками, начала обнимать солдата.
— Отбарабанил свои три года. Хватит! — сказал солдат и, заметив Клашу, смешно подмигнул ей глазом: — А это, никак, Клаша-племяша?
— Она самая.
Дядя еще раз подмигнул ей и, вытащив из кармана бумажный сверток, стал разворачивать его. В свертке оказался лиловый газовый шарф в желтых разводах и маленькая коробочка.
Дядя Семен накинул шарф на плечи Дуне.
— Эх, до чего ж тебе лиловый цвет к лицу пристал!
Дуня, растрогавшись подарком, вся зарделась и вдруг всхлипнула.
— Дуняша! Сырость чтоб не разводить! — пошутил Семеп.
Потом он раскрыл коробочку, вынул дешевое серебряное колечко с голубым камешком в виде сердца и надел Клаше на указательный палец.
— Носи на здоровье!
Клаша тотчас же потерла кольцо об юбку и, отставив руку, стала любоваться подарком. То-то ей будут завидовать все девчонки со двора!
Дядя Семен снял шинель и подсел к столу. Тетка потихоньку от барыни принесла ему под фартуком из буфета большую рюмку вина.
— Выпей, Сеня.
— Можно. Со свиданьицем, Авдотья Никифоровна, — сказал дядя и солко опрокинул рюмку в рот.
Дуня сидела рядом и подвигала брату то хлеб, то горчицу, то соленые огурцы. Дядя уписывал за обе щеки баранину с картошкой и рассказывал про Петербург. Из всех его рассказов Клаша запомнила, что в Петербурге больше ста мостов и есть такая площадь, где солдаты стреляли в рабочих, потому что им так царь приказал. Еще дядя рассказывал про какие-то американские горы, по которым тележки скатываются. Горы такие высокие, что когда с них едешь, то дух захватывает.
После обеда дядя Семен хотел поиграть на гармошке.
— И не думай, — запретила Дуня, — у старой барыни игрень.
— Слыхали мы про такую болезнь: лежать охота, работать лень, — усмехнулся дядя.
Посидев еще немного, он распрощался с Дуней и Клашей и пообещал зайти в следующее воскресенье. Но пришел он только через месяц. На нем было ватное полукороткое пальто, а на голове черный картуз с потрескавшимся лакированным козырьком.
— Ты где же это пропадал? — спросила Дуня.
— Устраивался. На Прохоровку поступил, в отбельную. Восемнадцать целковых в месяц.
— На всем своем? Дешево. А жить где будешь?
— Спальные есть, холостые и семейные. Два с полтиной за койку высчитывать будут.
Теперь дядя стал заходить частенько, и Клаша всегда радовалась его приходу. А как-то весной, в воскресенье, она сама отправилась к нему в гости на Прохоровку.
До Кудринской площади она доехала на трамвае, а отсюда, по Большой Пресне, решила идти пешком.
Ситценабивную фабрику купца Прохорова, или, как еще ее называли, Трехгорку, на Пресне знал почти каждый.
— Идите, барышня, все прямо, никуда не сворачивая. Вот видите Вдовий дом, потом будет пожарная часть, Зоологический сад, затем пройдете мимо Волкова переулка, а тут уж и до Прохоровки рукой подать, — подробно объяснил Клаше какой-то словоохотливый прохожий.
И Клаша пошла мимо Вдовьего дома, большого оранжевого здания с колоннами в глубине сада. На длинных скамейках сидели женщины, одетые во все черное, с креповыми вуалями на черных шляпах.
«Это, видно, вдовы. А что им и делать, как не на лавочках сидеть! Ведь не простые, а офицерские», — подумала Клаша.
Мимо пожарной части она быстро пробежала. Кто его знает: вдруг распахнутся деревянные ворота пожарного сарая, и оттуда, под звон колокола, раздувая ноздри и храпя, вылетят сытые лошади серой масти. Тут берегись! Враз растопчут под копытами!
Зато у окна цветочного магазина, что находился неподалеку от Зоологического сада, Клаша невольно задержалась. За широким зеркальным окном было много пышных ярких живых цветов. Посредине возвышалась корзина белой сирени, в вазах стояли красные и светло-желтые срезанные розы и какие-то белые цветы, похожие на снежные шары.
Клаша очень любила цветы, но в доме полковника Зуева цветы не пользовались почетом. Старая барыня говорила, что от их запаха у нее сразу же начинается мигрень, а Надежда предпочитала всем цветам на свете конфеты и пирожные. Подаренные ей знакомыми офицерами и юнкерами букеты она обычно презрительно называла «вениками».
«Спальная», как называлось общежитие для холостых рабочих, не понравилась Клаше. Запах махорки, немытого белья и кислой капусты впитался в степы «спальной» — большой, длинной комнаты с пятью деревянными столбами. Три ряда узких железных кроватей были покрыты лоскутными одеялами. На столах и табуретках валялись скорлупа от яиц, куски ржаного хлеба, перья зеленого лука, а в пустых коробках из-под спичек белела соль. Грязный, щербатый пол и давно не беленный потолок дополняли убогий и унылый вид «спальной».
— Хорошо бы, дядя Сеня, у вас пол со щелоком вымыть и наволочки постирать, — сказала Клаша, когда они вышли во двор.
— Неплохо бы, Клавдия Петровна, — согласился дядя Семен.
Клаше очень нравилось, что дядя называет ее по имени и отчеству, что он разговаривает с ней, как со взрослой.
В это же воскресенье они пошли гулять за Пресненскую заставу.
— Есть у нас большой капитал, пятиалтынный. На что тратить будем? — спросил дядя Семен.
Они шли мимо ларьков, балаганов и лотков со сладостями, приценивались и перебирали все удовольствия, которые можно было получить на гулянье за пятнадцать копеек. Их выбор остановился на карусели. За катанье на карусели брали пятачок с человека за один круг. Дядя Семен и Клаша выбрали самых страшных деревянных коней, серых в черных яблоках, с оскаленными зубами и с яркомалиновыми седлами. Они уселись верхом на коней: на одного — дядя Семен, на другого — Клаша. И тут-то началось веселье, от которого сладко замирало сердце. Сверкая бисерной разноцветной бахромой, мелькая расписными колясками, толстобрюхими слонами и красавцами конями, под гармошку и бубен закружилась карусель. Все веселее заливалась гармошка и звенел бубен, все быстрее и быстрее вертелась карусель под «польку-бабочку».
— Держись, Клавдия Петровна: конь с норовом! — кричал дядя.
После карусели они выпили на оставшийся пятачок по стакану сладкого грушевого кваса и купили жареных семечек.
Но кататься каждое воскресенье на карусели было не по карману дяде Семену, и он придумал другое, бесплатное развлеченье — отправлялся с Клашей гулять на Ваганьковское кладбище, неподалеку от Пресненской заставы.
Огромное и зеленое кладбище издали можно было принять за густой и тенистый парк, если бы не кладбищенская ограда вокруг да не кресты на могилах. Сюда по праздникам и воскресеньям приходило много народу: рабочие с Прохоровки, мастеровые, белошвейки от Пресненской заставы. Кто — посетить родные могилы, кто — просто погулять и подышать свежим воздухом. Приходили целыми семьями, брали с собой закуски; взрослые устраивались на траве, выпивали и закусывали, а детвора с хохотом и визгом бегала по дорожкам, пряталась за кусты и памятники. Для них кладбище было бульваром. Только случайные чужие похороны ненадолго отвлекали ребят от веселой беготни. Они смолкали и шли провожать печальную процессию до могилы.
Дядя Семен и Клаша часами гуляли по кладбищу. Они останавливались около могил, рассматривая коленопреклоненных мраморных ангелов, высокие белые обелиски и часовни с окнами из разноцветных стекол.
Нагулявшись досыта, они шли в самый конец кладбища. Здесь было безлюдно, тенисто и прохладно. Таинственно шумели высокие густые деревья. В разросшихся кустах сирени и акации прятались скромные деревянные, покосившиеся от времени кресты. На могилах росли высокая сочная трава, колокольчики, ромашки. Клаше казалось, что она в лесу и что здесь, если поискать, то можно найти грибы и землянику и увидеть в траве скользкую, проворную змею… Редко-редко здесь показывалась на дорожке человеческая фигура.
Дядя Семен расстилал пиджак, и они усаживались около кладбищенской ограды. За оградой возвышалась железнодорожная насыпь. Стуча и громыхая, проносился поезд, оставляя позади себя клубы белого пара. Поезд скрывался вдали, и снова было тихо на кладбище, только шумели березы да качалась на могилах высокая трава.
Клаша лежала в траве и слушала рассказы дяди Семена. Он знал немало разных историй. Особенно любила Клаша рассказ о «доме без окон». Дядя Семен однажды показал ей на Средней Пресне этот таинственный и страшный дом. Недалеко от Горбатого моста, среди пустыря, заросшего бурьяном и крапивой, белели развалины двухэтажного каменного дома. Стены были исковерканы пулями, вместо окон зияли черные дыры, крыша сорвана.
Когда-то эти развалины были мебельной фабрикой Шмидта. В девятьсот пятом году, во время Декабрьского восстания, из этого дома отстреливались от царской полиции рабочие-шмидтовцы. Дом окружили жандармы.
— Перестреляем, как куропаток. Сдавайтесь! — грозились они.
Рабочие молча отстреливались, а один из них — ткач с Прохоровки, Миронин, — крикнул жандармам:
— Все равно победа за нами!
Его дочка, двенадцатилетняя отчаянная Катька, бегала по задворкам на баррикады от Средней Пресни к Зоологическому саду и носила рабочим еду.
Клаша отлично знала, до мельчайших подробностей, рассказ о «доме без окон», но каждый раз ей было жалко и обидно слышать, что так печально кончался рассказ. Жандармский генерал приказал своим войскам сжечь фабрику Шмидта. Рабочим пришлось сдаться.
После рассказов дяди, возвращаясь с кладбища домой, Клаша с ненавистью смотрела на усатого рыжего городового, что стоял у них на углу Башиловки. «Наверное, он тоже стрелял в рабочих».
Ей хотелось хоть одним глазом увидеть бесстрашную Катьку и ее отца. Она представляла себе Миронина высоким, широкоплечим и курчавым, похожим на дядю Семена, только постарше.
Как-то, гуляя по кладбищу, они встретили пару: высокого сутулого старика, одетого в синюю косоворотку, русские сапоги и суконный картуз, и девушку в кружевной косынке. Девушка несла еловый венок, украшенный бумажными розами, а старик, слегка прихрамывая и опираясь на палку, шел рядом. Увидя их, дядя Семен остановился и снял картуз:
— Здравствуй, Федор Петрович!
— Здравствуй, Семен Никифорович! — на ходу кивнул головой старик.
— Это кто, дядя Сень? — спросила Клаша, когда они прошли мимо.
— Миронин. На могилу к жене идет; он уже пятый год вдовеет.
— Он! Миронин! — Клаша от удивления остолбенела. «Так вот он какой, этот Миронин! Да таких стариков на Большой Пресне на каждом шагу сколько хочешь».
— А венок кто несет?
— Дочь его, Катя.
— Та самая девчонка?
— Какая же она девчонка! — засмеялся дядя Семен. — С девятьсот пятого года небось девять лет прошло. Ей сейчас двадцать один год. Она у нас ткачихой работает.
Клаша обернулась, чтобы еще раз посмотреть на Миронина и на его дочь, но их уже не было видно. Они свернули на боковую дорожку.
Когда она с дядей возвращалась домой, при выходе с кладбища их окликнул женский голос. Сзади шли Миронин и Катя. Домой пошли все вместе.
Тогда только что была объявлена война с Германией, и разговор у всех был один — про войну.
— Не забрали еще, так заберут, — говорил Федор Петрович. — Придет и твой черед! У нас из ткацкой семерых на пушечное мясо взяли.
Клаша слушала и исподтишка разглядывала Миронина. Он ей не нравился. Брови густые, клочкастые, точно приклеенные. И очки по-чудному носит — на самом кончике носа. А голос как у молодого! Старики так никогда не говорят.
Катя, маленькая и полная, шла вприпрыжку, мелкими шажками, искоса бросая взгляды на дядю Сеню. Всю дорогу Катя промолчала.
Когда дошли до Ваганьковского шоссе, старик Миронин остановился около трехоконного деревянного домишка. В одном из окоп виднелась низко склонившаяся фигура лысого старика. Старик сидел перед окном и сапожничал. Рядом с ним растрепанная белобрысая девчонка большим паровым утюгом гладила розовую кофту.
— Заходи, Семен Никифорович, как-нибудь вечером чайку попить, — пригласил Федор Петрович.
— И ты приходи с дядей смородину есть, — сказала Катя. — Отец два куста во дворе посадил.
— Погоди, я тебе еще кустов пять малины насажу, — пообещал Миронин и вошел в калитку.
В следующее воскресенье Клаша и дядя Семен отправились к Мирониным в гости.
Дома оказалась одна Катя. Сам Федор Петрович ушел к знакомому слесарю на Среднюю Пресню.
— Он у меня старик неугомонный: скачет, как молодой, и больная нога не мешает. Ну, уж ладно, давайте без хозяина чай пить. Пойдем в сад, — сказала Катя.
Клаша решила, что Катя шутит. Двор Мирониных был обычный московский двор — маленький и пыльный. В одном углу двора стояла телега с поднятыми оглоблями, а рядом — три огромные рассохшиеся бочки, нагроможденные одна на другую. В другой стороне — дровяной сарай. На протянутых веревках сушилось белье, заплатанная юбка, выцветшая детская рубашонка.
Клаша никак не могла понять, куда их ведет Катя.
Катя шла прямо к дровяному сараю. И здесь, в промежутке между высоким забором соседнего дома и стеной сарая, Клаша увидела сад: чахлую акацию, кривую березу и два куста красной смородины. Под березой был вкопан в землю самодельный стол, по бокам его две скамеечки. На заборе сушились чьи-то пестрые половики, справа красовался не то курятник, не то собачья будка. Оттуда торчали грязная солома и сломанное весло.
Дядя Семен и Клаша уселись на скамеечку.
Над скамейкой на ветке березы висела клетка с канарейкой.
— Это наша Марфенька, поет не хуже соловья, — сказала Катя и побежала в дом ставить самовар.
Скоро она вернулась, неся чайную посуду и нарезанный хлеб на тарелке. Было приятно смотреть, как она ловко хозяйничает, расставляет на столе чайные чашки, засыпает чай в голубой пузатый чайник, колет сахар.
Наконец вскипел самовар, и они сели пить чай. Пили чай долго. Потом играли в карты — в «акульку» и подкидного дурака. Слушали Марфеньку, а затем дядя Сеня с Катей взяли ведра и пошли за водой к Пресненской заставе. Там посредине площади была водонапорная колонка, из которой обитатели Преснепской заставы брали воду.
Пока они ходили за водой, Клаша вдоволь наелась красной смородины. Было уже около семи часов вечера, когда дядя Сеня и Клаша начали собираться домой.
На прощание Катя дала Клаше полный бумажный кулечек красной смородины.
— Отец, видно, еще не скоро вернется. Я вас провожу, — сказала она.
Катя проводила их до Трехгорного переулка.
Распрощавшись, дядя Семен минут пять шел молча и улыбался.
— Ну, Клаш, как тебе Катя понравилась?
Клаша ответила не сразу: она только что положила целую пригоршню смородины в рот. Выплюнув смородину на ладонь, Клаша степенно сказала:
— Она девушка ничего себе, веселая. А старик сердитый.
— Старик нам мешать не будет, — усмехнулся Семен. — Да и какой он, к лешему, старик — ему сорок восемь годов.
Дядя Семен обернулся и поглядел в сторону Ваганьковского шоссе. В конце улицы была видна Катина фигура в синем, в горошинку, платье. Катя шла быстро, мелкими шажками, подпрыгивая на ходу и размахивая правой рукой.
— Ишь ты, трясогузочка! — засмеялся дядя. — Если бы она за меня замуж пошла, на красную горку и свадьбу справили бы…
— А почему не на покров?
— Раньше, Клаша, никак не выйдет! Деньжонок малость надо на свадьбу скопить, — сказал дядя.
Но свадьбу не пришлось справлять. В феврале 1915 года жениха взяли на войну и угнали на фронт под Ригу.
Глава третья
Письмо от дяди Сени было получено 23 октября. А 24-го Клаша собралась ехать к Кате. Она всегда ей отвозила читать дядины письма.
— Приспичило! Сегодня нужно всю квартиру прибрать, завтра день рождения Веры Аркадьевны, — забыла, что ли? — сказала сердито тетка.
Она была сегодня не в духе, и Клаша не стала спорить.
Часов в шесть, когда уже был вымыт пол, вытрясены ковры и вычищено серебро, Клаша поехала на Пресню.
Дома Мирониных не оказалось, Федор Петрович и Катя куда-то ушли.
— Подожди, Катя обещалась скоро вернуться, — сказал сосед по комнате, старикашка сапожник. — Иди посиди у меня.
В маленькой тесной его комнатушке пахло табаком, кожей и сапожным клеем. На полу валялись сапоги, дамские туфли, обрезки кожи. Починенная обувь выстроилась на подоконнике и на верстаке. Старик взял черные ботинки с заплатками на носках и стал их чистить. Маленький, плешивый, на кривых ногах, он походил на гнома, — не хватало только длинной седой бороды. Щетка мелькала у него в руках, он что-то бормотал себе под нос.
В дверь постучали, и в комнату заглянул молодой парень со свертком под мышкой.
— Федор Петрович Миронин дома?
— Нету. Спозаранок куда-то ушел. А что передать надо? — спросил старик, разглядывая парня.
— Я попозднее сам зайду, — сказал тот и скрылся за дверью.
— Вот, черт хромой, не сидится ему дома! А тут люди ходят… Не иначе как опять в свой рабочий комитет на Прохоровку побег. Политик!
Клаше очень хотелось спросить, что это такое — «политик», но старик, бурча и вздыхая, полез под верстак и вынул оттуда лаковые мужские туфли.
На улице темнело. Маленькая комнатушка сапожника стала еще меньше и теснее. Старик влез на стол, снял висящую лампу-«молнию» и обрывком газеты медленно и осторожно начал протирать ламповое стекло.
Неожиданно за окном грянула песня:
Взвей-тесь, соколы, орла-а-ами!
Пол-но горе горева-а-ать.
Клаша увидела, как в сумерках по улице прошли юнкера в сторону Ходынки, все в длинных солдатских шинелях защитного цвета.
— Погодите, взовьетесь, чики-брики, только перышки полетят, — пробурчал старик.
Он задернул ситцевую занавеску, зажег лампу и стал собирать рассыпанные деревянные гвоздики.
Шаркая ногами, он медленно ходил около стола.
— Ну что за поганый народ эти заказчики! Торопят, торопят сапожника, а сами вовремя не являются! — ворчал старик.
Клаше показалось, что она давно уже сидит у сапожника. Она встала с табуретки.
— Ты куда же собралась? Погоди немножко, сейчас Катя придет. Письма-то дядя пишет? — спросил старик и присел на сундук против Клаши.
— Пишет.
— Так. Значит, «пишет, пишет царь германский, пишет русскому царю», — нараспев протянул старик. — А царя-то мы смахнули. — Он щелкнул пальцами в воздухе. — Небось и ты тогда с красным бантом ходила?
— Я только дома. На улице не пришлось. У Веры Аркадьевны гости были, так мы с тетей Дуней мороженое и суфле делали.
— Обидно, уважаемая, а я вот ходил. С демонстрацией до самой Театральной дошел. Народу сколько было! Страсть! И все друг дружку поздравляют, что царя больше нет. Многие даже целовались от радости. Ей-богу. Одна барыня в шляпке с черным пером меня чуть-чуть не поцеловала. — Старик тихонько засмеялся.
В передней хлопнула дверь, и послышались чьи-то быстрые шаги. Клаша выбежала в темный коридор и увидела Катю.
— А я тебя давно жду, — сказала Клаша.
Они вошли в комнату Мирониных.
Катя зажгла настольную керосиновую лампу и, не снимая пальто и белого шерстяного платка, стала читать письмо.
Клаша стояла рядом и глядела, как Катя быстро пробегала глазами строчку за строчкой.
— На, возьми. Он мне тоже писал, что скоро приедет, — сказала Катя.
Клаша сунула дядино письмо в карман своей жакетки и исподлобья поглядела на Катю. Ее обидело, что Катя так равнодушно говорит о приезде дяди Семена, да и письмо она что-то слишком скоро прочла.
Катя была чем-то озабочена. Она подошла к комоду, покрытому вязаной салфеткой, выдвинула нижний ящик, вытащила что-то из него и поспешно сунула в карман пальто. Взглянув на старые ходики, Катя вздрогнула, лицо у нее стало испуганное.
— Батюшки мои, уже половина восьмого! Как бы не опоздать.
«Наверно, к кавалеру на свидание торопится. Обязательно дяде Сене напишу», — подумала Клаша, косясь на Катю.
Катя подбежала к своей кровати, сдернула с нее серое байковое одеяло, потом взяла подушку-думку в розовой наволочке и, свернув подушку и одеяло в узел пошла к двери.
— Я сейчас вернусь. — Клаша услышала, как за Катей захлопнулась входная дверь.
«Кому же это она понесла подушку с одеялом?»
Клаша выскочила на двор вслед за ней. Уже совсем стемнело. Накрапывал дождик, двор был пуст, на веревке около крыльца висела чья-то рубаха. Кати не было видно.
«Словно сквозь землю провалилась», — удивлялась Клаша.
Поеживаясь от дождя, она с недоумением оглядывала темный двор. И вдруг заметила Катю. Та вышла из дровяного сарая, неся какой-то сверток. Клаша опрометью бросилась назад, влетела в комнату и как ни в чем не бывало уселась на стул около окна, еле переводя дыхание от волнения.
— Ну, теперь пойдем, Клаша, — сказала Катя, входя в комнату.
В руках у нее было знакомое серое одеяло, перевязанное крест-накрест бечевкой.
— Кому одеяло несешь? — не вытерпела Клаша.
— Варе. К ней из Кронштадта брат приехал.
— Брат? — переспросила Клаша.
Ткачиху Варю Филиппову, Катину подругу, Клаша знала хорошо. Это была красивая белокурая девушка, с такой длинной косой, что прохожие всегда на нее оглядывались.
«Наверное и брат у Варьки такой же красивый. Обязательно напишу дяде».
Клаша, обиженная и надутая, шла рядом с Катей. Та молча несла сверток. Сверток был тяжелый, — он сильно оттягивал Кате руку. Катя шла быстро, почти бежала; белый вязаный платок сбился у нее на затылке.
Не доходя до Пресненской заставы, она остановилась передохнуть. У ворот дома была скамейка. Катя положила сверток на скамейку и стала поправлять платок и растрепавшиеся волосы.
Клаша схватила сверток и приподняла его. Сверток был тяжелый, точно в нем лежала добрая дюжина кирпичей.
— Положи на место! — сердито сказала Катя.
— Я помочь хотела, — соврала Клаша.
Катя взяла сверток и пошла вперед.
— Я тебя не просила.
У Пресненской заставы на большой квадратной площади, неподалеку от водонапорной башни, был конец трамвайной линии.
Как только Катя и Клаша появились на углу площади, со стороны Зоологического сада показался трамвай номер 22.
— Беги скорей! Вон твой номер идет, — сказала Катя.
— Успею.
Трамвай, замедляя ход, заворачивал на трамвайное кольцо. С задней площадки прицепного вагона на ходу выскочил высокий солдат в серой папахе, с вещевым мешком за плечами и с маленькой плетеной корзинкой в руке. Солдат прыгнул неудачно. Он споткнулся и упал на колено. Плетеная корзинка отлетела в сторону.
— Тьфу, черт, сам под колеса лезет! — громко выругалась Катя.
Солдат поднял корзинку и торопливо зашагал в их сторону. Он был высокий, худой и шел, слегка прихрамывая, — быть может, был ранен, а может быть, ушиб ногу, прыгая с трамвая. Мокрая грязная шинель его обвисла; он был такой, как все солдаты, что возвращались с фронта и которых не раз видела Клаша. Но с каждым шагом он становился таким знакомым, таким своим, что Клаша обомлела. И сдвинутая назад папаха, и манера ходить, выпятив левое плечо вперед, — все было знакомо.
— Дядя Сень! — закричала Клаша на всю площадь высоким дрожащим голосом и, подбежав к дяде, повисла на его руке.
— Клаша? Ты откуда взялась?
— У Кати была. Она…
Но дядя Семен уже не слушал Клашу. Он весь засиял, заулыбался и рванулся навстречу Кате. Она была все такая же: маленькая, полная и краснощекая. И так же, по-смешному сощурив глаза, глядела снизу вверх на его бледное бородатое лицо.
— Ой, Сеня, как ты похудел! — тихо сказала она.
— Были бы кости, а мясо нарастет, — улыбнулся Семен, — А ты куда уезжаешь?
— Я не уезжаю, а иду сейчас… — Катя, не договорив, привстала на цыпочки и что-то шепнула Семену на ухо.
— Вот оно что! Тогда пойдем вместе. Я им тоже гостинцы привез.
Семен отдал Кате свою маленькую плетеную корзинку, а сам взял сверток с одеялом.
— Поезжай, племяша, домой, скажи Дуне, что я завтра вечерком забегу.
Дядя Семен ласково потрепал Клашу по плечу, и они с Катей сразу же быстро пошли через площадь к Трехгорному переулку, где была фабрика.
Клаша стояла и, недоумевая, глядела им вслед. «Зачем они к Прохоровке пошли, ведь Варька совсем в другой стороне живет… И кому же это он гостинцы привез?.. Нет, здесь что-то не то!»
Клаша тихонько побрела к остановке, нехотя влезла в пустой трамвай и села на любимое место у окошка.
Трамвай тотчас же тронулся. Из окна Клаша увидела, как по освещенной улице, по Большой Пресне, торопливо шли дядя Семен и Катя.
Дядя Семен широко шагал, держа под мышкой серый сверток. А рядом с ним, стараясь попасть в ногу, бежала вприпрыжку Катя. Она что-то горячо рассказывала дяде и размахивала корзинкой.
Они даже не взглянули на промчавшийся мимо них трамвай, в котором сидела Клаша.
Глава четвертая
На другой день, часов в пять утра, Клашу разбудил звонок на парадном. Спросонок Клаша не сразу поняла, где звонят.
За окном была ночь. Клаша чиркнула спичку. Рядом на кровати, раскинув руки в стороны и открыв рот, крепко спала тетка. В кухне было темно и тихо. Из крана в раковину капала вода. Клаша решила, что звонок ей почудился. Но на парадном снова зазвонили. Кто-то звонил настойчиво и нетерпеливо. И тут Клаша вспомнила, что сегодня, 25 октября, день рождения Веры Аркадьевны. Каждый год в этот день почтальоны с утра приносят поздравительные телеграммы.
Клаша накинула на плечи старую теткину шаль и, шлепая босыми ногами, побежала открывать дверь.
— Кто там? — спросила Клаша.
— Свои, свои, открывай! — послышалось из-за дверей.
Голос был мужской, хриплый, словно простуженный, и незнакомый.
Клаша открыла дверь на цепочку, как учила ее тетка. Из-за полуоткрытой двери на нее пахнуло холодком. В полумраке на площадке лестницы она увидела самого хозяина — полковника Зуева, Юрия Николаевича.
— Это я, открой, — сказал Зуев.
Она впустила Юрия Николаевича в переднюю и заперла за ним дверь. Полковник был без чемодана, его офицерская шинель защитного цвета была измята, точно на ней спали.
Но сам Юрий Николаевич изменился мало. Разве только похудел да был плохо выбрит.
— Иди, девочка, ложись, я разбужу Веру Аркадьевну.
Он снял шинель, поправил френч, причесал перед зеркалом седеющие редкие волосы и, осторожно ступая, пошел к дверям спальни.
Клаша побежала в кухню. На кровати, опершись локтем на подушку, приподнялась Дуня.
— Кто там? — спросила она сонным голосом.
— Хозяин приехал, Юрий Николаевич, — сказала Клаша.
— Господи Иисусе, надо поскорее самовар ставить, — заволновалась тетка и начала одеваться.
В кухню, распахнув дверь настежь, вошла Вера Аркадьевна в голубом нарядном капоте, отороченном белым пухом. У нее было радостное и заплаканное лицо.
— Дуня, милая, пошевеливайся скорей. Юрий Николаевич вернулся. Боже мой, какая радость! Какая радость! Сегодня мой день рождения, и он приехал.
— Недаром вам вчера, Вера Аркадьевна, на картах неожиданность выходила, — сказала Дуня.
— Боже мой! Приехал такой грязный, измученный, — говорила Вера Аркадьевна, не слушая Дуню. — Сделай поскорей ванну и приготовь чай. Что у нас после ужина осталось?
— Макароны, мясо холодное есть, — сказала Дуня.
— Ну вот и отлично, свари еще пяток яиц, только поскорей, Дуня. Знаешь, всмятку, как Юрий Николаевич любит.
Вера Аркадьевна зябко запахнула капот и выбежала из кухни.
— Рада без памяти, ишь как запрыгала! — усмехнулась вслед Дуня.
Из столовой доносились звон посуды и стук ножей. Вера Аркадьевна, не дожидаясь Дуни, сама накрывала на стол.
Из комнаты, где жила старая барыня, неумолчно трещал звонок.
— Клаша, беги скорей! Что ее там прорвало! — закричала тетка.
В кухню влетела растрепанная Надя, завернувшись, как шалью, в желтое атласное одеяло. На босых ее ногах были ночные шлепанцы.
— Дуня, Клаша, где махровое полотенце? Папочка умывается!
Из ванной комнаты слышались пофыркиванье, плеск воды и хриплый голос полковника Зуева.
Глава пятая
25 октября, день рождения Веры Аркадьевны, праздновался в доме Зуевых ежегодно. Клаша в этот день то и дело бегала открывать двери. Кроме обычных поздравительных телеграмм, посыльные в красных шапках приносили закутанные в бумагу огромные корзины цветов и торты в круглых картонных коробках. Вечером, часам к девяти, собирались гости. Входили в меховых шубках дамы; их головы были закутаны газовыми легкими шарфами, чтобы не смять завитых причесок. Звеня шпорами, входили вместе с ними военные. Просторная передняя с дубовой вешалкой и высоким зеркалом в углу наполнялась шумом, смехом, запахом духов. В гостиной несмолкаемо гремел рояль; в доме было светло, тепло, уютно. В столовой был накрыт стол на двадцать пять персон. Стол был заставлен винами и дорогими закусками от Елисеева. Нарядная, оживленная Вера Аркадьевна вместе с мужем радушно встречала гостей.
Но за время войны с каждым годом все скромнее и тише праздновался день рождения Веры Аркадьевны.
Дамы приходили уже не в таких роскошных туалетах, как прежде; на многих были сестринские косынки, а иные были в трауре. Уменьшилось количество поздравительных телеграмм, тортов и цветочных корзин.
А в этом году было хуже, чем когда-либо: не принесли ни одной корзины цветов, ни одного торта. Получили только три телеграммы, да и то одна из них была на имя полковника.
Сам полковник, закрывшись в кабинете, долго разговаривал по телефону и гневно на кого-то кричал. Не дождавшись обеда, он вдруг собрался и уехал.
В шесть часов вечера в доме Зуевых начали готовиться к приему гостей. Дуня накрыла на стол, но ни гости, ни сам полковник не являлись. Вера Аркадьевна ходила из комнаты в комнату, поминутно глядела на часы и вздрагивала от каждого телефонного звонка. Дуня в синем праздничном платье, в белом накрахмаленном фартуке сидела на кухне в ожидании гостей.
Гости начали собираться в восемь часов вечера. Первым пришел капитан Козлов — маленького роста человек с тоненькими ножками и с огромной черной холеной бородой. За капитаном явились красивый полковник Бульбаш с выбритым лицом и высокий худой поручик Кадаманов, напудренный, как женщина, и даже с браслетом на руке. Следом за ними приехал сам полковник Зуев, а с ним багрово-красный незнакомый генерал. Огромный, неповоротливый, как слон, генерал сам никак не мог раздеться. Клаша еле стащила с него шинель и глубокие резиновые калоши, и он прошел с полковником Зуевым в его кабинет.
Тотчас же туда прошли полковник Бульбаш с Кадамановым и капитан Козлов.
А гости все прибывали и прибывали. Многих Клаша знала в лицо; это были офицеры Алексеевского и Александровского юнкерских училищ; они бывали и раньше в доме Зуевых. Но некоторых Клаша видела впервые. Все они торопливо снимали шинели, приглаживали волосы и, на ходу поправляя шашки, проходили прямо в кабинет полковника. К девяти часам тяжелая дубовая вешалка была сплошь завешана офицерскими шинелями. И когда, наконец, приехал поручик Скавронский, Клаше пришлось положить его шинель на сундук в коридоре.
Клаша сидела в передней и удивлялась: никогда еще в доме Зуевых так странно не праздновали день рождения Веры Аркадьевны. Дамы — в столовой. Мужчины закрылись в кабинете. И только когда большие стенные часы пробили половину одиннадцатого, полковник и гости перешли из кабинета в столовую. Вера Аркадьевна тотчас же явилась в переднюю и велела Клаше идти в кабинет — слушать телефонные звонки.
В кабинете полковника — узкой, полутемной комнате — было сильно накурено. Тяжелые кресла были выдвинуты на середину, на круглом столе перед диваном валялись коробки с папиросами, стояли недопитые бутылки с нарзаном.
На письменном столе полковника лежал большой белый лист бумаги. Клаша увидела на нем какой-то странный чертеж, издали похожий на паутину. Она подошла ближе к столу и прочла заголовок на листе: «План города Москвы». Рядом с планом на столе лежало несколько штук отточенных карандашей и свернутая в трубку газета. Клаша только хотела взять газету, как в коридоре раздались чьи-то шаги и в кабинет вошел поручик Скавронский.
— Ах, это вы, Клашета, мамзель а ля фуршета! Ты что здесь делаешь?
— Телефон слушаю.
— Ну, ну, слушай, — снисходительно сказал поручик.
Повертевшись в кабинете, он взял со стола коробку папирос и, насвистывая, вышел из комнаты.
— Дятел длинноносый! — выругалась Клаша.
Она развернула газету и прочла непонятное название: «Социал-демократ».
Газету с таким названием Клаша видела впервые. На первой странице была статья «Петроград и провинция». Статья была подчеркнута синим карандашом. Видно, подчеркнул полковник. Синие восклицательные знаки и вопросы стояли на полях газеты.
Клаша начала читать статью. Статья призывала рабочих быть готовыми в любой момент выступить на помощь Петрограду. Клаша призадумалась.
Почему рабочим надо выступать в любой момент на помощь Петрограду? Что такое случилось в этом городе? Непонятно! Эх, если бы дядя Сеня пришел, он бы сразу рассказал, что к чему. Или Катя. Она сама ткачиха и, конечно, уж знает, кому
и как будут помогать рабочие.
Клаша подошла к окну и отдернула штору. За окном была ночь. По стеклу ползли мелкие дождевые капли. Клаша села на подоконник и обхватила руками колени; так сидеть было особенно уютно и тепло.
За стеной было слышно звяканье ножей и вилок, звон посуды, обрывки слов.
Клаша ясно представила себе столовую — большую комнату в три окна: в углу дубовый буфет с резными дверцами, посредине комнаты огромный стол, накрытый ослепительной скатертью, и вокруг стола офицеры.
На хозяйском месте сидит Вера Аркадьевна в синем шелковом платье, отделанном дорогими кружевами, которые Клаша возит два раза в год в чистку к Тушнову на Арбат.
Наверное, уж тетка подала бульон с пирожками. Небось всё съели, — может, даже на всех и не хватит! В этом году пирожки считанные — еле-еле достали белой муки. Вряд ли ей тетка оставила на кухне самый маленький пирожок с мясом. И варенье ее любимое, земляничное, небось всё с чаем выпили. Ну, это дело поправимое, можно в банку из-под варенья налить воды и сделать сладкий сироп.
А Надежда Юрьевна-то как сегодня расфуфырилась: душилась из пузатого флакона французскими духами: говорит, что маленький пузыречек стоит пятьдесят рублей. Наверное, врет. А сам полковник… два ордена нацепил… Станислава и Владимира.
В это время зазвонил телефон. Клаша спрыгнула с подоконника и подбежала к телефону.
— Скажите, это похоронное бюро? — спросил мужской пьяный голос.
— Не туда попал, это квартира! — сердито закричала Клаша и повесила трубку.
Она опять села на подоконник. За стеной по-прежнему звенели стаканы, шумели гости; ей было скучно и захотелось есть.
«Сбегаю-ка на кухню и возьму кусочек хлеба».
Клаша вышла в коридор. Дверь столовой была полуоткрыта. Клаша остановилась в нерешительности.
Как же она прошмыгнет на кухню? Вдруг заметит Вера Аркадьевна, она сидит как раз напротив двери.
В это время, покрывая шум и голоса, чей-то густой бас сказал:
— Господа офицеры! Тише! Сейчас Юрий Николаевич будет говорить.
В столовой сразу стало очень тихо. Клаша осталась за дверью в коридоре.
— Господа, мы накануне боя, — сказал полковник, — по не с Вильгельмом на фронте, а здесь, в Москве, с нашим внутренним врагом, с большевиками. Они в Петрограде уже начали восстание. Начали междоусобную войну. Кто может поручиться, что завтра они не начнут ее на улицах Москвы? Мы должны дать им отпор. Никакой пощады! Довольно того, что на фронте большевистская агитация разложила солдат. Наглость их не знает границ — солдаты не признают офицеров, не подчиняются дисциплине. Они не желают больше воевать. Они дезертируют. Хватит! Мы должны, господа офицеры, в этот ответственный момент, в этот тяжелый час сплотиться еще крепче. Мы, офицерство, и наша молодежь — я говорю об юнкерах. — Полковник повысил голос — На нас с надеждой смотрит вся Россия. Вчера на заседании Московской городской думы был организован, а сегодня утвержден Московский комитет общественной безопасности, который предполагает полковым и ротным комитетам объявить во всех частях войск московского гарнизона, что все распоряжения штаба Московского военного округа должны беспрекословно выполняться. Предлагаю тост за Московский комитет общественной безопасности и за доблестное офицерство! Ура!
— Ура! — подхватили офицеры.
Аплодисменты, крики, звон бокалов покрыли слова полковника.
Клаша не успела опомниться, как в кабинете затрещал телефонный звонок.
— Говорят из военного округа, срочно полковника Зуева, — строго сказал незнакомый мужской голос.
— Сейчас позову! — закричала Клаша и бросилась в столовую.
Полковник тотчас же вышел из-за стола.
— Иди пока в кухню, — сказал он Клаше и прикрыл за собой дверь в кабинет.
Клаша бросилась к тетке. Господи, какой страх! Тетка сидит на кухне и ничего не знает, а война-то уж, видно, началась, и не где-нибудь, а здесь под боком, в Москве.
Клаша распахнула дверь в кухню и остановилась на пороге.
У кухонного стола спиной к двери сидел дядя Семен и пил чай. Дуня, облокотившись на стол, не сводила с него глаз. Лицо у нее было красное и взволнованное.
— Ой, дядя Сень пришел! — обрадовалась Клаша и подбежала к столу.
— Здравствуй, Клавдия Петровна! — Дядя Семен улыбнулся и шутя дернул Клашу за косу.
— Дядь Сень, знаешь, что случилось! В Петрограде война!
— Ошалела! — испуганно отмахнулась Дуня.
— Ей-богу, тетя. Сейчас Юрий Николаевич всем гостям говорил, что в Петрограде большевики начали войну и в Москве скоро начнут, — может, завтра!
— А еще что он сказал? — спросил дядя Семен и отодвинул в сторону недопитый стакан чаю.

— Он много чего говорил. Еще сказал: «Мы спуску большевикам не дадим, и никакой им пощады». Дядя Сень, кто это такие большевики?
— Люди.
— «Люди, люди»! — рассердилась Клаша. — А где они?
— Везде, Клавдия Петровна.
Дядя Сеня встал из-за стола и, подойдя к стене, сиял свою шинель.
— Куда же ты, Сеня? Посидел бы! — сказала Дуня.
— Надо идти.
Дядя Сеня надел шинель и папаху.
Клаша схватила с кровати теткину шаль.
— А ты куда на ночь глядя?
— Я только до ворот дядю Сеню провожу.
— Провожальщица! — усмехнулась Дуня.
В эту минуту скрипнула дверь, и в кухню вошел сам полковник. В руке он держал белый запечатанный конверт.
— Клаша, отнеси этот па… — Но, увидев Семена, остановился на полуслове. — Откуда солдат? Какой части?
— Это, Юрий Николаевич, брат мой, Семен. Не признали? Он с фронта вернулся, — сказала Дуня.
— Дезертир? — спросил полковник и брезгливо оглядел Семена.
— А вы, господин полковник?..
Полковник остолбенел.
— Что?! — И вдруг заорал на всю кухню: — Так отвечать мне — офицеру! Дисциплины не знаешь! Мерзавец! Большевик!
— Не ори, отошло время на солдат орать — не боимся!
— Вон из моей квартиры! Сию же минуту вон!
— Уйду. Только мы, господин полковник, еще встретимся, — сказал Семен и, круто повернувшись, вышел.
Клаша, уронив табуретку, бросилась за ним вдогонку. Она догнала его во дворе и схватила за рукав. Несколько минут они шли молча.
— Что же ты мне, дядя Сеня, не сказал, что ты большевик? — спросила, наконец, Клаша.
— А я думал, что ты, Клавдия Петровна, сама знаешь.
На улице было тихо и пустынно. Моросил дождик. Тускло горели уличные фонари; голые ветки деревьев торчали из-за заборов. По шоссе промчался автомобиль, осветил черную мокрую мостовую и исчез.
— Дядя Сень, скажи: что в Петрограде случилось? — спросила Клаша.
— Где?
— В Петрограде.
Клаша, путаясь, рассказала про статью в газете, которую она прочла в кабинете полковника.
Дядя Семен улыбнулся:
— Уж что-нибудь да случилось, раз в газете пишут.
— А что? Скажи — что?
— Экая ты какая!.. Революция там, вот что. Ну, беги домой, а я на Ходынку пойду.
— Революция!.. — повторила Клаша. — А когда в феврале с красными бантами ходили, тогда чего было?
— Революция, да только не настоящая. Ну, я пойду, — заторопился дядя.
— Я к тебе послезавтра на Прохоровку прибегу, — пообещала на прощание Клаша.
— Там видно будет! — сказал Семен.
Когда Клаша вернулась домой, расстроенная и заплаканная Дуня мыла тарелки.
— Носит тебя нелегкая! Ложись спать, — заворчала она.
— Давай посуду вытру.
— Без тебя обойдется! Твое дело только тетку под выговоры подводить.
Клаша повесила шаль на гвоздь и приоткрыла дверь в коридор.
В освещенном коридоре было тихо. Дверь в столовую была плотно закрыта. Оттуда не доносилось ни звука.
Клаша на цыпочках вышла в коридор и заглянула в переднюю. Длинная дубовая вешалка была пуста. Только на крайнем крючке висел беличий жакет Надежды Юрьевны да шуба Марии Федоровны.
Глава шестая
Утром 26 октября Клаша встала в половине восьмого. Занятия начинались в прогимназии в девять часов, но трамваи ходили редко и были переполнены. Клаша встала рано, боясь опоздать.
Дуня ушла в очередь за хлебом. Клаша наскоро выпила жидкого чаю и съела холодную тушеную картошку. Потом собрала учебники, перевязала их ремешком и, одевшись, пошла в переднюю. Входная дверь была заперта на цепочку и на ключ. Вешалка пуста. Очевидно, Юрий Николаевич и поручик Скавронский еще не вернулись домой. Клаша вышла, тихонько прихлопнула за собой тяжелую парадную дверь.
Через узкие длинные окна на лестнице было видно серое осеннее небо. На улице шел мокрый снег и превращался в грязь. Клаша съежилась от холода, подняла воротник и, перепрыгивая через лужи, побежала к трамвайной остановке.
На углу Старой Башиловки возле серого дощатого забора столпились несколько человек.
— Бедная, несчастная Россия! — услышала Клаша.
Длинноносый худой человек в очках и шляпе, очень похожий на учителя географии, Николая Ивановича, читал объявление на заборе и покачивал головой.
Клаша привстала на цыпочки и прочла:
От Комитета общественной безопасности
ОБЪЯВЛЕНИЕ
МОСКВА ОБЪЯВЛЕНА НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ…
«Началось», — подумала Клаша, и у нее замерло сердце.
— Господа, в восемьсот двенадцатом году на Москву наступал Наполеон — и то ничего не мог сделать, — ораторствовал маленький морщинистый старикашка, повязанный поверх облезлой меховой шапки суконным башлыком. Он стоял на тумбе, размахивая руками, но его никто не замечал.
Быстро, строчку за строчкой, Клаша читала дальше:
— «…По городу будут ездить броневые автомобили и ходить патрули, которые в случае вооруженного сопротивления или стрельбы откроют огонь».
— Как же это понимать? Называется «Комитет общественной безопасности», а на улицах стрелять будут, — усмехнулся молодой парень с ведром и малярной кистью в руках.
— «…Без крайней нужды не выходить из дома…» — прочел кто-то вслух.
— О господи! А у меня на Болото дочка пошла, хотела мяса немного достать. Как-то она домой доберется! — заволновалась пожилая толстая женщина в вязаном платке.
«Чего она так испугалась? — недоумевала Клаша. — Нигде не стреляют, трамваи ходят, и автомобили ездят. Нужно торопиться, а то еще на урок опоздаешь. Учитель алгебры такой злой, что ни за что в класс не пустит».
Клаша влезла в трамвай. Всю дорогу она простояла на площадке. Через закрытую стеклянную дверь она видела, как спокойно дремали сонные пассажиры. Видно, никто не знал, что Москва на военном положении. Маленькая безбровая кондукторша в зеленом шерстяном шарфе лениво выкрикивала названия остановок. На улице было все обычно в этот ранний утренний час. По тротуарам шли, обгоняя друг друга, пешеходы, прогромыхала подвода с пустыми бочками, пробежало несколько мальчишек, размахивая сумками, прошла заплаканная женщина, неся через плечо на полотенце маленький гробик.
На мосту около Александровского вокзала трамвай неожиданно остановился. Шли солдаты. Взвод за взводом, рота за ротой, шли они куда-то, молчаливые, угрюмые, с винтовками за плечами. Солдаты прошли, и трамвай тронулся дальше.
Клаша чуть не опоздала. Она пришла в прогимназию, когда на круглых часах в раздевалке было без двух минут девять.
В этот день их отпустили на два часа раньше: заболела и не пришла на урок учительница истории.
Дома Клаша застала странную картину. Как всегда, дверь ей открыла Дуня; она держала огромный клетчатый плед; от него на всю переднюю несло нафталином. Это был тот самый плед, который старая барыня Мария Федоровна брала с собой, когда ездила в Троице-Сергиеву лавру на богомолье.
— Неси-ка скорей большие гвозди, — сказала Дуня и пошла с пледом в кабинет полковника.
Клаша разделась, взяла из кухонного стола коробку с гвоздями и побежала в кабинет. В кабинете был такой беспорядок, точно в доме убирались к большому празднику. У окна стояла раздвижная лестница, кресла были выдвинуты на середину комнаты, и в одном из кресел, закутавшись в пуховый платок, сидела Вера Аркадьевна. Возле нее стояла Надежда. На кожаном диване валялось ее желтое атласное одеяло и две подушки в нарядных наволочках с прошивками. Красный бухарский ковер, что лежал обычно на полу кабинета, был свернут в трубку.
Дуня с пледом в руках взобралась на лестницу.
— Правей, правей приколачивай! — волновалась Надежда Юрьевна.
— Клаша, давай гвозди, — сказала Дуня.
Окно завесили, и в кабинете стало темно, точно на улице наступили сумерки.
— Второе окно можно закрыть плюшевой скатертью. Верно, мамочка?
Вера Аркадьевна кивнула головой.
— Дуня, неси скорее вишневую скатерть.
Дуня побежала доставать из сундука скатерть.
— А ты, Клаша, что стоишь? Тащи подушки! — приказала Надежда Юрьевна. — Знаешь, те, из кладовки!..
Клаша, ничего не понимая, вышла из кабинета и столкнулась с Марией Федоровной и теткой.
Тетка несла, перекинув через плечо, тяжелую плюшевую скатерть и еще что-то темное, большое и мягкое, не то ковер, не то шаль.
Старая барыня, Мария Федоровна, в черном платье с высоким воротом, шла позади Дуни, прямая и строгая, похожая на самого полковника.
Через час квартиру Зуевых нельзя было узнать. На улице был день, а здесь, в комнатах, царила тьма. Пришлось зажечь электричество. Окна во всей квартире были завешены и заставлены. Ковры, шали, плед, скатерти и даже гладильная доска и огромный круглый медный поднос — все пошло в ход.
На подоконниках лежали взбитые горой подушки.
— Ну, теперь, кажется, все готово, — сказала усталая Надежда Юрьевна, усаживаясь на диван рядом с Марией Федоровной.
— Дуня, двери у нас заперты? — спросила старая барыня.
— Заперты, барыня.
— И на парадном и на кухне?
— И на парадном и на кухне.
— Хорошо. Можете идти. Без спроса двери никому не открывать, — распорядилась Мария Федоровна.
В кухне Дуня завесила окно половиком и старым одеялом, а на подоконник положила самую большую подушку в пестрой наволочке.
— Теть Дунь, зачем это?
— Стрелять будут.
— А почему на улицах тихо?
Дуня ничего не ответила. Она взяла из угла кочергу и просунула ее в ручку входной запертой двери.
— Так-то оно понадежнее будет!
После обеда Дуня села пришивать к новому фартуку карманы, а Клаша забралась на кровать и стала учить реки и города Франции.
Во всей квартире была такая тишина, точно в ней никто не жил. От этой тишины становилось как-то не по себе. На кухне даже не капала вода из крана. Дуня шила, низко склонившись над фартуком. Она нет-нет да поднимала голову и прислушивалась.
От занавешенных окон и закрытых дверей в кухне стало душно, и Клашу клонило ко сну.
— Вчера от нас дядя Сеня куда пошел? — спросила вдруг Дуня.
Клаша от неожиданности вздрогнула.
— На Ходынку.
— Господи Иисусе, час от часу не легче!
— А что?
Дуня помолчала и, покосясь на дверь, ведущую в коридор, сказала шепотом:
— Неспокойно на Ходынке. Два полка на большевистскую сторону стали. И артиллерия. Мне дворник сказал.
В эту минуту из кабинета затрещал звонок. Клаша спрыгнула с кровати и побежала в комнаты.
Надежда Юрьевна лежала на диване и читала роман. Электрическая лампа под зеленым абажуром горела на круглом столе.
— Ты что делаешь? — спросила Надежда.
— Города и реки учу.
— Успеешь завтра выучить. Возьми заштопай чулки.
Надежда Юрьевна вытащила из круглой шляпной картонки ворох шелковых чулок и положила на диван.
— Я сначала уроки выучу, а потом заштопаю, — тихо сказала Клаша, и лицо у нее стало упрямым.
— Все равно завтра в прогимназию не пойдешь. Город на военном положении, — отчеканила Надежда. — Только что звонил папочка и никому не велел выходить из дому. Поняла?
Клаша молча взяла чулки с дивана и села на ковер спиной к Надежде Юрьевне.
Глава седьмая
Утром тетка не пустила Клашу в прогимназию.
— Не пущу — убьют, ни за что не пущу, — твердила тетка. — На фабрике забастовки начались. На Ходынке, говорят, двух солдат и женщину убили.
Клаша в жакете и шапочке, с книжками в руках стояла посреди кухни и смотрела на тетку злыми глазами.
— Не пущу, раздевайся, — отрезала тетка.
Клаша от обиды чуть не заплакала.
«В Москве, может, настоящая революция началась, а я дома сиди!»
Она со злостью швырнула книжки на стол и стала раздеваться.
— Нечего книги швырять! Всякая козявка еще характер показывает! — заругалась Дуня.
«Это Надежда наговорила тетке. Ну, погоди ж, буду я твои чулки штопать! Как же!»
Клаша заявила тетке, что у нее болят зубы, улеглась на кровать и закрылась с головой теткиной шерстяной шалью. Лежала и думала об одном: как бы ей уйти из дому. Она ведь обещала сбегать сегодня к дяде Сене на Прохоровку. Вот тебе и сбегала! Что-то сейчас делается? А вдруг дядю Сеню убили… От этой мысли ей стало так страшно, что она даже зажмурилась.
Дуня, ворча и ругаясь, металась по кухне. Мария Федоровна потребовала, чтобы Дуня принесла в столовую все запасы продуктов, какие имелись в доме. И тетка таскала из кухни в комнату кулечки, пакетики, узелки.
— Видно, долго воевать собираются, раз запасы считают, — ворчала она, хлопая дверцами кухонного стола.
Клаша лежала молча. Время тянулось бесконечно долго. Не выдержав, она спрыгнула с кровати, схватила учебник, перелистала его и снова бросила на полку. Потом отдернула ватное одеяло, поглядела в окно. Большой каменный двор был пуст. Клаша покосилась на входную, запертую на ключ и кочергу дверь и, вздохнув, снова забралась на кровать…
Дуня, намаявшись и устав за день, спала крепко и не слышала, как Клаша перелезла через нее и ощупью нашла ее юбку. Осторожно, боясь в темноте на что-нибудь наткнуться и загреметь, Клаша побежала с юбкой в ванную и зажгла свет. В огромном теткином кармане лежало немало вещей. Два коробка спичек, обрывки бечевки, связка ключей от кладовой и дровяного сарая, огарок свечки и большой носовой платок с красной меткой на уголке. Но ключей от входных дверей в кармане не было. Клаша от злости с силой хлестнула юбкой об стенку.
«Куда же она могла запрятать ключи?»
Клаша вернулась в кухню, с минуту постояла в темноте, слушая, как во сне тяжко вздыхает и что-то бормочет тетка. Зажечь электричество она не решилась. Искать ключи в темноте было бесполезно. Клаша подошла к окну, влезла на подоконник, открыла форточку и, высунув голову, стала глядеть на улицу. С осеннего, темного неба медленно, точно нехотя, падал снег. Напротив чернел, как большая глыба, каменный трехэтажный дом. Во всех окнах его был потушен огонь, и только в верхнем крайнем, где-то у подоконника, просачивался мутный свет. Видно, там тоже прятались и завесили окна тяжелыми одеялами и коврами. На улице было холодно, темно и тихо. Так тихо, точно все вокруг притаилось и чего-то ожидало.
И вдруг где-то справа, около Ходынки, хлопнуло раз и другой, словно ударили доской об пол.
Б-бах! Б-бах! — повторилось снова.
«Стреляют, — ахнула Клаша, — стреляют!»
Опа стояла на подоконнике, поеживаясь от холода. Стояла до тех пор, пока не озябла.
Под утро Клаша проснулась. Ей было как-то неловко, жарко. Опа сбросила с себя одеяло. Но жар не проходил. Болела голова и особенно горло. Даже было больно глотать слюну.
Опа встала, через силу оделась, умылась и стала помогать тетке месить тесто. Это было ее любимым делом. Но сегодня у нее ничего не клеилось. Пальцы были какие-то непослушные, вялые, словно тоже из теста.
— Что это ты такая красная? — удивилась тетка.
— Не знаю.
— Ты уж не простудилась ли?
Клаша промолчала, только ниже наклонилась над квашней.
В доме, несмотря на ранний час, уже все встали. Хлопала дверь в ванной, слышался скрипучий и раздраженный голос Марии Федоровны, которая никак не могла найти щеточку для чистки ногтей. Через все комнаты из кабинета в спальню перекликались Вера Аркадьевна с Надеждой.
Дуня понесла черные вычищенные утконосые туфли старой барыне.
Клаша лениво месила тесто. У нее кружилась голова.
В кабинете полковника тонко и коротко зазвонил телефон.
«Наверно, хозяин или Надеждин муж. Сейчас Надежда будет кривляться и разговаривать деланным голосом: «Ах, милый Котик, где ты? Я так соскучилась!» У, ломака противная!» — подумала Клаша.
И действительно, по телефону начала говорить Надежда. Но она не ломалась, как обычно, а говорила серьезным и даже строгим голосом. И все повторяла: «Да, да, я слушаю». И вдруг закричала как-то особенно радостно:
— Мамочка, мамуся, иди скорей к телефону!
Клаша услышала, как из спальни в кабинет, шлепая но полу ночными туфлями, торопливо побежала Вера Аркадьевна.
На мгновение наступила тишина, а потом они обе заговорили разом, громко и радостно, перебивая друг друга. Но слов нельзя было разобрать.
Клаша, ничего не понимая, перестала месить тесто и, повернув голову, слушала.
Дверь из коридора распахнулась настежь, и в кухню влетела Надежда. Лицо ее сияло: она была босиком, в длинной шелковой ночной рубашке.
— Дуня, Клаша, большевиков прогнали! Наши взяли Кремль.
Клаша остолбенела. Густое и липкое тесто падало на пол с ее растопыренных пальцев.
Глава восьмая
Клаша лежала на кровати с закрытыми глазами и на все расспросы тетки упорно молчала. В кухню зашла Вера Аркадьевна и, увидев больную Клашу, разволновалась:
— Может, заразное? Сейчас, говорят, в городе свирепствует сыпной тиф. Только этого не хватает!.. Ах, боже, боже мой!
Вера Аркадьевна побежала в кабинет звонить по телефону доктору Светланову, который каждую субботу приходил к Зуевым играть в преферанс.
Доктор сразу же явился. В военной форме, звеня шпорами, большой, толстый и лысый, с рыжими пушистыми усами, он не спеша, враскачку вошел в кухню. От него пахло карболкой, табаком и духами. Из-за его спины выглядывали Вера Аркадьевна и Надежда.
— Ну-с, где больная? — спросил он смешным для его грузной фигуры тоненьким, женским голоском.
Дуня, пододвинув доктору табуретку к кровати, отошла к плите. Доктор велел снять с окна ватное одеяло и попросил чайную ложку.
— Скажи «а-а»!
— А-а-а! — прохрипела Клаша.
— Тэк-с, обычный случай, — сказал доктор и фыркнул в усы.
Потом он вытащил из кармана молоточек и деревянную трубку. Обхватив большой волосатой рукой Клашины плечи, он выслушивал ее и командовал:
— Дыши! Тэк-с, глубже! Не дыши! Тэк-с. Обычный случай.
Деловито и быстро он постукивал металлическим молоточком по Клашиной груди и в то же время рассказывал Вере Аркадьевне последние госпитальные новости.
— Вчера наши солдаты выкинули номер. Двадцать три человека ушли ночью из госпиталя к большевикам на Кудринскую площадь.
— Ушли, раненные? — удивилась Вера Аркадьевна.
— Да-с, ушли! Правда, двадцать два из них с легким ранением, но один, представьте, отправился на костылях. Черт знает что такое! И две наши дуры за ними уплелись — дежурная сестра и нянька.
— А они-то зачем? Я не понимаю, — протянула Надежда.
— Здесь и понимать нечего! — вспылил Светланов. — Мы, врачи, категорически отказались перевязывать этих разбойников. Ну, вот они и ушли, по-видимому, в большевистские сестры. Да-с!
Клаша перестала дышать. Она раскрыла рот и слушала доктора.
— Дыши, дыши сильней! — закричал вдруг Светланов.
Клаша, сопя носом, задышала изо всех сил, так что у нее даже закололо в спине.
— Тэк-с… обычный случай, флегмонозная ангина, — сказал доктор, пряча трубку и молоточек в карман.
— А это не заразно? — спросила Вера Аркадьевна, и пухлое лицо ее стало испуганным и сердитым.
Доктор фыркнул в свои рыжие пушистые усы.
— Полоскать горло йодным раствором. Пять капель на стакан воды и делать согревающие компрессы. Ну, и, конечно, смазывать, смазывать… — Он энергично повертел пальцем в воздухе, показывая, как надо Клаше смазывать горло.
Звеня шпорами, доктор вышел из кухни за Верой Аркадьевной и Надеждой, оставив после себя запах больницы.
…В городе забастовали все фабрики и заводы. Москва стала похожа на невиданный огромный военный лагерь. На многих улицах рылись окопы, сооружались баррикады. Телеграфные столбы, шкафы, табуретки, стулья, картинные рамы и детские коляски — все пошло в дело. По улицам ездили грузовики с вооруженными солдатами.
В районах — в Хамовниках, на Большой Пресне, на Ходынке и в Замоскворечье — укрепились большевики. В центре — на Театральной площади, на Остоженке, на Моховой, на Новинском бульваре, на Красной площади и в Кремле — засели юнкера и офицеры. Дома были превращены в крепости. Хозяева и квартиранты покинули свои квартиры.
Но на Старой Башиловке было спокойно. Изредка сюда доносились отдаленные глухие выстрелы.
В квартире Зуевых по-прежнему были завешены окна, а Дуня каждый вечер заставляла входную дверь цинковым корытом и двумя табуретками. Клаша лежала, обвязанная большим шерстяным платком, с компрессом на горле. Тетка натерла ее своим излюбленным средством — скипидаром со свиным салом.
— От этого хуже не станет, — говорила Дуня. — А если воняет — так не велика барыня! Не нюхай.
Клаша злилась:
«Лежишь, как колода, и ничего не знаешь!»
И она начинала приставать с расспросами к тетке.
— Что, что делается! — отвечала Дуня. — Известно что — стреляют!
— А наша улица чья — офицерская или большевистская?
— А я откуда знаю? Чего пристала! — сердилась тетка.
Но нет-нет и сама Дуня сообщала какую-нибудь новость:
— Наши-то обе в расстройстве сидят. Вера Аркадьевна карт из рук не выпускает, всё пасьянсы раскладывает, а Надежда плачет. Сейчас Константин Александрович по телефону звонил. Симоновские пороховые склады и Александровский вокзал большевики взяли. Им, говорят, с фронта громадная помощь подошла.
— А Кремль не взяли?
— Не слыхать. Да не разговаривай! Горло знай полощи!
Но Клаша и без того то и дело полоскала горло противным и терпким раствором йода.
Она провалялась в постели три дня.
Утром 31 октября Клаша проснулась очень рано и сразу почувствовала, что здорова. Какая-то бодрость была во всем теле.
«Господи, неужели выздоровела!» Она схватила с табурета чашку с водой и начала пить. Горло не болело, глотать было легко. Клаша села на кровать. От слабости у нее слегка кружилась голова, но чувство бодрости не проходило. Накрывшись одеялом, она встала с кровати и тихонько подошла к окошку. Не дойдя до окна, остановилась. Не веря своим глазам, она глядела на дверь. Дверь с черного хода была не заперта. Кочерга стояла у стены, крючок был снят с петли. Видно, тетка вышла за чем-нибудь по хозяйству в соседнюю квартиру.
Какая удача!
Клаша торопливо стащила с себя шерстяной платок, сняла компресс с горла и начала одеваться.
«Только б успеть до тетки, только б успеть!»
От волнения у нее дрожали руки, она криво застегнула кнопки на своем коричневом платье. Открыв стол, она вытащила кусок хлеба и две картошки и сунула в карман своей бархатной жакетки. Теперь оставалось только надеть черную меховую шапочку…
И тут Клаша вспомнила о главном. Она тихонько открыла дверь в коридор и выглянула. Тишина. В квартире все еще спали. Клаша на цыпочках пошла по коридору в кладовку. Здесь на полке лежала старая сестринская форма Надежды, в которой та щеголяла в прошлом году целых три месяца.
Клаша взяла белую косынку с красным крестом и спрятала ее под жакетку.
Теперь все было готово.
В кухне она вырвала листок из тетрадки и написала крупными
буквами:
Тетя Дуня, не беспокойся. Я пошла к дяде Сене.
Клаша.
«Надежда прочтет тете Дуне», — подумала она и, положив записку на перевернутую кверху дном кастрюлю, вышла из квартиры.
Затаив дыхание Клаша стала спускаться по лестнице, осторожно ступая со ступеньки на ступеньку, словно они были стеклянные.
Она вышла во двор. От свежего воздуха и от волнения у нее кружилась голова. Двор был пуст. Калитка открыта. Она побежала к воротам, прошмыгнула в калитку и очутилась на Старой Башиловке.
Глава девятая
В этот ранний утренний час Старая Башиловка была тиха и пустынна. Все ворота и калитки были плотно закрыты. Клашины шаги гулко раздавались на всю улицу. На углу Башиловки Клаша спряталась за каменный выступ дома. Она вытащила из-за пазухи сестринскую косынку и повязала ее на голову, а шапочку сунула в карман жакетки. Взглянула на себя в стеклянную дверь чужого парадного: «Ну прямо настоящая сестра милосердия!» — и побежала к трамвайной остановке.
На грязной мокрой мостовой валялись папиросные окурки и обрывки газет. Видно было, что в эти дни улицу не подметали. Петроградское шоссе тянулось мертвое, пустынное и такое же тихое, как Старая Башиловка.
«А может, трамваи-то не ходят, зря жду. Пойду лучше пешком», — подумала Клаша.
В это время за спиной загудела автомобильная сирена. Из ворот ипподрома медленно выехал неуклюжий грузовик. На нем, плотно прижавшись друг к другу, стояли солдаты с винтовками в руках.
«Кто? Большевики или офицеры?»
Клаша не отрываясь глядела на грузовик.
Он остановился в воротах ипподрома. Из шоферской кабины выпрыгнул бородатый человек в черном, заляпанном грязью пальто, и, прихрамывая, побежал внутрь двора.
«Да ведь это Миронин», — обрадовалась Клаша и бросилась за ним вдогонку.
— Федор Петрович, Федор Петрович!
Но он, не оглядываясь, исчез в воротах.
Клаша остановилась, переминаясь с ноги на ногу. Ее уже заметили с грузовика и не особенно дружелюбно разглядывали. В черной бархатной жакетке, в белоснежной батистовой косынке, стройная и румяная, она выглядела молодой барышней, которая ради кокетства надела сестринскую косынку.
Но один из солдат, безусый, круглолицый, совсем еще мальчишка, вдруг подмигнул ей и окликнул:
— Сестрица, кого ждешь?
Клаша улыбнулась — такое добродушное и круглое лицо было у солдата. Она хотела спросить его, как зовут только что ушедшего старика, но в эту же минуту тот появился сам. Через его плечо была повязана пулеметная лепта. В руке он тащил большой холщовый мешок, похожий на лошадиную торбу.
Это был Миронин. Клаша подбежала к нему:
— Здравствуйте, Федор Петрович. Вы не знаете, где дядя Сеня?
— У Никитских ворот, — хмуро ответил Миронин.
— А вы куда едете?
— Туда и едем. А тебе что?
Миронин спешил, и ему, видно, было не до разговоров.
— Возьмите меня с собой. Я раненых буду перевязывать.
 — Возьмите меня с собой. Я раненых буду перевязывать.
— Возьмите меня с собой. Я раненых буду перевязывать.
Старик прищурил глаза, оглядел Клашу с головы до ног и усмехнулся.
— А ты разве умеешь?
— Умею, — сказала Клаша и покраснела.
Она соврала. По правде говоря, перевязывать она не умела и крови побаивалась, но, когда в прошлом году семилетний мальчишка Пашка, сын дворника, гвоздем распорол себе ногу, у Клаши откуда что взялось. Она промыла и забинтовала Пашкину рану.
— Садись, — сказал Миронин.
Молодой круглолицый парень, которого он назвал Петькой, протянул Клаше руку, она влезла на грузовик. Машина рванулась и помчалась по Петроградскому шоссе к Триумфальным воротам.
Клаша стояла рядом с Петькой и держалась за борт кузова. На ухабах грузовик подпрыгивал, и вместе с ним подпрыгивала и Клаша.
— Не боишься? — спросил ее Петька.
Она молча помотала головой. Потом взглянула на Петьку и снова улыбнулась. У него были такие пухлые щеки, точно он нарочпо их надул. Голубые круглые глаза его с веселым удивлением смотрели на все окружающее.
«На переодетую девчонку похож», — подумала Клаша.
На грузовике, кроме солдат, ехало человек десять ра-бочих-красногвардейцев. Кто стоял, опираясь на свою винтовку, кто покуривал козью ножку. Пожилой рыжебородый солдат неторопливо дожевывал кусок черного хлеба. Все, кроме Петьки, ехали молчаливые и серьезные. Петьке, видно, очень хотелось заговорить с Клашей, но он стеснялся. Он только искоса поглядывал на нее да морщил свой, и без того короткий, пос.
Автомобильная сирена тревожно гудела на всю улицу; ветер бил в лицо, раздувал Клашину косынку. От ветра на глазах выступали слезы.
«Видела б меня сейчас тетка!» — подумала Клаша.
Грузовик промчался мимо Александровского вокзала, миновал Садово-Триумфальную площадь и свернул на Садово-Кудрипскую улицу.
— До Живодерки доедем, там свернем на Малую Бронную и напрямик к Никитским воротам. Это наш район, — сказал Клаше шепотом Петька. Он хотел еще что-то добавить, но в это время грузовик так подпрыгнул на ухабе, что Петька сильно ткнулся подбородком в дуло винтовки, которую держал перед собой.
— Христос воскрес! — засмеялся Петька и стал тереть ладонью ушибленное место.
— Зубы-то целы? — спросил его рыжебородый солдат.
— Целы, Ефим Лукич, — улыбнулся Петька, показав два ряда ослепительно белых и крупных зубов.
Грузовик свернул на Малую Бронную. Это была узкая кривая улочка с давно не мощенной мостовой. Неуклюже колыхаясь из стороны в сторону, грузовик тихо поехал по улице. И здесь Клаша впервые услышала странные звуки, точно где-то за домами изо всех сил выбивали палками ковры.
— Стреляют! — сказал Петька и деловито перехватил свою винтовку.
В конце Малой Бропной грузовик остановился. Из кабинки вышел Федор Петрович.
— Вылезайте, товарищи красногвардейцы! — закричал он.
Теперь выстрелы не походили на далекие, глухие удары. Стреляли где-то рядом, и слышно было, как резко и четко бьют винтовки. Но откуда стреляли большевики и откуда офицеры, было непонятно.
Клаша оглядывалась по сторонам. Перед ней тянулся Тверской бульвар, пустынный и страшный; осенние, голые деревья с черными, точно обгорелыми ветками застыли по обеим сторонам мокрой и широкой аллеи, которая уходила вдаль, к Страстному монастырю. Поперек аллеи лежали рядами садовые скамейки. А дальше, за скамейками, посередине бульвара валялась убитая черная лошадь.
В окнах ближайших домов с левой и с правой стороны Малой Бронной, пулями были выбиты стекла. В угловом каменном доме во втором этаже ветер трепал легкую тюлевую занавеску. Выбившись из окна наружу, она моталась, как спущенный белый флаг.
Дальше разглядывать Клаше не пришлось. Солдаты и красногвардейцы, пригнувшись, с винтовками наперевес, гуськом побежали с угла Малой Бронной на угол Тверского бульвара, к большому деревянному дому. Миронин побежал вместе с ними.
— Клаша! — махнул он рукой на бегу, и Клаша поняла — бросилась за ним.
— Сестрица, пригнись, убьют! — крикнул ей вдогонку Петька.
Большой нескладный серый дом, куда большевики делали перебежку с угла Малой Бронпой, Клаше был немного знаком. В этом доме жила белошвейка Таня, и сюда не раз Клаша ездила с поручениями от Веры Аркадьевны. Своим фасадом дом выходил на Никитскую улицу. По фасаду тянулась старая железная вывеска с надписью: «Никитская аптека».
Кроме аптеки, в доме были меблированные комнаты, музыкальный и фруктовый магазины, а внизу, в полуподвальном помещении, кондитерская «Ренессанс». Но весь дом чаще всего почему-то называли просто «Аптека». Теперь в аптеке, как в крепости, сидели большевики и отстреливались от офицеров и юнкеров. Те устроились на углу Никитской улицы, в желтом каменном доме, где был кинотеатр «Унион».
Клаша перебежала к аптеке и остановилась. Она не сразу поняла, что происходит. Позади серого дома на земле, на некотором расстоянии друг от друга, лежали, вытянувшись, люди.
«Убитые», — подумала Клаша.
Но один из «убитых», остроносый мужик в солдатской папахе, вдруг повернул голову и спросил хриплым басом:
— Товарищ начальник, пулеметные патроны привезли?
— Привезли, — ответил Миронин и стал стаскивать с себя пулеметные ленты.
«Это Федор Петрович-то начальник!» — удивилась Клаша.
На земле около аптеки валялась солома, обрывки окровавленных бинтов, куски ваты, битые стекла и пустые гильзы. У стены дома громоздились один на другом дощатые ящики из-под яблок, и почти на каждом ящике была черная и четкая надпись: «Кандиль первый сорт».
— Садись, Клаша, — сказал Миронин и, сняв верхний ящик, поставил его на землю. — Бинты и вата лежат в аптеке на скамейке с правой стороны.
Клаша только успела присесть на ящик, как откуда-то справа и слева и даже, как показалось ей, сверху затрещали ружейные залпы. Красногвардейцы и сам Миронин бросились на землю рядом с теми, кто уже лежал в цепи, и начали стрелять из винтовок. Клаша первый раз в своей жизни видела, как стреляют. Солдаты быстро и ловко заряжали винтовки, то и дело щелкали затворы, гремели выстрелы, и после каждого выстрела выскакивали пустые гильзы, отлетая в сторону.
Рабочие-красногвардейцы стреляли не так умело и не так быстро. Тех, в кого стреляли, не было видно. Одно только удалось разглядеть Клаше: почти из каждого окна театра «Унион», со второго этажа, торчали дула винтовок. После выстрела на конце дула курился сизый дымок.
Клаша отвернулась и стала искать глазами среди лежащих на земле стрелков дядю Семена. Ей показалось, что дядя лежит в цепи в самом конце улицы. Клаша вскочила с ящика и шагнула вперед. Но тотчас же над ее головой что-то цокнуло. От стены отлетел большой кусок штукатурки, осыпая белой пылью Клашины плечи.
— Ложись, ложись! — крикнул ей Петька и пригрозил пальцем.
Клаша присела на корточки за ящик. Ей было страшно.
«А вдруг сейчас кого-нибудь ранят или руку, ногу оторвут? Что я буду делать? Как перевязывать?..» — подумала она.
И в ту же минуту рыжебородый солдат, которого Петька называл Ефим Лукич, выполз из цепи, приподнялся и подошел к ней.
— Перевяжи, сестрица, — в руку кусануло.
— Сейчас!
Клаша бросилась за бинтами. Открыв дверь в аптеку, она остановилась на пороге. Вся аптека сотрясалась от страшного грохота. Густой и вонючий пороховой дым плавал по комнате. Присмотревшись, Клаша увидела, что на белом аптечном столике, придвинутом к окну, стоял пулемет. Солдат-пулеметчик с забинтованной головой, согнувшись, почти скорчившись, стрелял из пулемета в каменный дом напротив. Рядом с пулеметчиком перед окнами стояли на коленях красногвардейцы и, прячась за подоконники, тоже стреляли в кинотеатр «Унион».
Через полуоткрытую дверь соседней комнаты Клаша увидела человека в солдатской папахе. Он сидел на полу, держа телефонную трубку и закрыв левой рукой ухо, надрываясь кричал:
— Военно-революционный комитет? Военно-революционный комитет? Говорят от Никитских! Пришлите срочно людей и оружие!
К запаху ружейного дыма примешивался острый запах лекарств. Тяжелые аптечные шкафы стояли вдоль стен с настежь раскрытыми дверцами и с выбитыми стеклами. На грязном, затоптанном полу был рассыпан порошок, валялись белые фарфоровые банки с надписью по-латыни. Недалеко от входной двери лежал, вниз лицом, убитый красногвардеец. Из-под его плеча растекалось темное пятно — не то кровь, не то пролитый йод. Здесь же на длинной аптечной скамейке, на которой обычно посетители дожидались заказанных лекарств, возвышалась большая груда ваты, ворох бинтов и марли. Клаша схватила этот ворох, прижала его к груди и, теряя по пути бинты, выбежала вон.
Ефим Лукич, уже без шинели, сидел на земле и зажимал пальцами рану. Рядом с ним лежала винтовка.
Пуля попала ему в левую руку повыше локтя и прошла через мякоть навылет. Но Клаше казалось, что рана опасная и солдат умрет. Между пальцев у Ефима Лукича просачивалась кровь и стекала вниз по руке.
Клаша бросила бинты и вату на ящик и начала перевязывать. Руки у нее от волнения тряслись. Она сорвала бумажную обертку с бинта и кусочком ваты вытерла кровь вокруг раны. Потом выбрала самый широкий бинт и только начала его накладывать, как проклятый бинт вырвался из рук и покатился к ногам солдата.
— Ничего, дочка, навостришься, — сказал Ефим Лукич и, подняв бинт, подал его Клаше.
Наконец кое-как Клаша забинтовала руку. Повязка вышла похожей на пухлый белый шар. Забинтованная рука никак не хотела влезать в рукав шинели. Солдат накинул шинель на плечи, поднял с земли винтовку и пошел обратно на свое место.
— Вы ведь раненый, — сказала Клаша.
— Ну и что? — усмехнулся Ефим Лукич. — Чай, не насмерть.
А раненые всё прибывали. Не успела Клаша перевязать остроносого бородатого красногвардейца, что спрашивал про пулеметные патроны, как за ним пришел высокий латыш в кожанке. За латышом пришли еще двое — рабочие из Миусского парка. Клаша еле успевала перевязывать. Вскоре она в самом деле «навострилась». Правда, волновалась по-прежнему, но уже перевязывала быстро и аккуратно. Бинтов и ваты теперь у нее выходило меньше.
Неожиданно она увидела дядю Семена. Он выбежал из аптеки в одной гимнастерке и серой папахе, осунувшийся и весь какой-то черный, словно в копоти. В руках он держал винтовку.
— Федор Петрович, патроны кончились!
Миронин, который лежал в цепи, оглянулся через плечо и крикнул:
— Возьми у крыльца в мешке. В комитет дозвонился?
— Дозвонился. Обещали прислать, — ответил Семен.
«Значит, это он говорил в аптеке по телефону», — догадалась Клаша и, боясь, что дядя Семен уйдет, крикнула во весь голос:
— Дядя Сень! Дядя Сень!
Семен повернулся и, увидев Клашу, на мгновение опешил, даже раскрыл рот, но потом улыбнулся и подошел к ней:
— Молодец, Клавдия Петровна. А тетка знает?
— Я ей записку оставила.
— Ну ладно, перевязывай.
Дядя Семен схватил мешок с патронами и исчез в аптеке.
Клаша снова стала перевязывать. Ей казалось, что она очень давно ушла со Старой Башиловки к Никитским воротам. Обрывками, словно в тумане, мелькнула квартира Зуевых, кухня с завешенным окном, кастрюли на полках, услужливая слезливая тетка, злая старая барыня, капризная Надежда…
Приемным покоем служила кондитерская «Ренессанс». Сюда клали тяжелораненых. Кондитерская — большое полуподвальное помещение — была окрашена масляной небесно-голубой краской. С плафона, аляповато разрисованного гирляндами цветов и фруктов, летела босоногая красавица-богиня. Из огромного рога изобилия богиня сыпала сдобные румяные булки, баранки и пирожные. На зеркальных стенных полках кое-где стояли пустые конфетные коробки и стеклянные банки из-под монпансье.
Раненые, бледные и грязные, лежали на полу. Некоторые из них стонали. Смуглый горбоносый солдат с курчавой забинтованной головой бредил:
— Ой, слушай меня, Серго, слушай! — выкрикивал он чуть не плача.
Но слушать его было некому. С полки с конфетных коробок безучастно смотрели пухлые розовые боярышни в жемчужных кокошниках, томные девушки в длинных белых платьях с распущенными волосами. А с круглой атласной бонбоньерки самодовольно усмехался георгиевский кавалер Кузьма Крючков — краснощекий, в лихо надетой набок фуражке и с взбитым казацким чубом.
За тяжелоранеными два раза в день приезжал санитарный автомобиль. Клаша с нетерпением поджидала его. Наконец он появился. На автомобиле приехала Катя. Она была в своей синей драповой жакетке и белом шерстяном платке. Платок был такой измятый и грязный, что казался серого цвета. Через плечо у Кати висела винтовка.
Увидев Клашу, Катя не очень удивилась.
— Берегись смотри, Клавдюшка. Под пулю не угоди, — сказала она и, вдруг притянув к себе Клашу, крепко ее поцеловала.
Потом Катя побежала к Семену в аптеку, поговорила о чем-то с отцом и, забрав раненых, уехала на Новинский бульвар, где уже второй день шли бои с офицерами.
«Из винтовки стреляет, вот счастливая!» — позавидовала Клаша.
Только успел скрыться санитарный автомобиль, как снова тяжело ранили двух человек. Клаша перевязала их. На носилках раненых отнесли в кондитерскую и положили на полу за прилавком. Здесь меньше дуло, и сюда реже за-летали пули. В темном углу под прилавком Клаша нашла немного соломы. Присев на корточки перед ранеными, Клаша осторожно и ловко подсунула им солому под головы.
— Скоро санитарный автомобиль приедет и вас заберет, — сказала Клаша.
Раненые отлично знали, что автомобиль придет еще не скоро, но хотелось верить Клаше, которая волновалась и ждала этого автомобиля не меньше, чем сами раненые.
— Мы живучие — дождемся! — сказал один из них, похожий на Тараса Бульбу. — Дождемся, — повторил он тихо.
— Я навещать вас буду! — крикнула Клаша с порога.
А на улице по-прежнему стреляли. Клаша, пригнувшись, побежала к аптеке. У крыльца она увидела Миро-вина и маленького белобрысого солдата в стеганой ватной кацавейке. Он что-то рассказывал Миронину и растерянно тыкал пальцем в сторону кинотеатра.
Миронин стоял, опираясь на винтовку. Черное потертое пальто его было расстегнуто. Старенькая меховая шапка куличиком съехала набок. Миронин ругался:
— К чертовой бабушке! Они небось стреляют, когда мы своих переносим. К чертовой бабушке!
— А раз у них сестрица из окошка флагом машет, — говорил солдат и снова тыкал в сторону кинотеатра.
— Какая там сестрица! — Миронин сдвинул и без того нависшие густые брови и побежал в аптеку вместе с солдатом.
Клаша осторожно пробралась вдоль степы аптеки и спряталась за выступ дома. Отсюда ей был отлично виден театр «Унион». В угловом окне театра развевался белый флаг с красным крестом посередине.
«А где же сестра, про которую говорил солдат?»— подумала Клаша, и, точно в ответ на ее мысли, в окне рядом с флагом появилась женщина в сестринской косынке. Она подняла руку вверх и что-то крикнула. Слов нельзя было разобрать, да и сестру не удалось хорошенько разглядеть. Она тотчас же скрылась.
Клаша ничего не понимала.
— Товарищи! — раздался позади голос Миронина.
Клаша обернулась и увидела Федора Петровича. Он вышел из аптеки уже один, без солдата.
— Товарищи солдаты и красногвардейцы! — повторил Миронин.
Стрелкй повернули головы на его голос, а некоторые перестали стрелять.
— Сделаем-ка, товарищи, на минуту передышку. Но мой совет — из цепи не выходить и винтовок из рук не выпускать.
— Это что ж, товарищ начальник, перемирие, что ль? — спросил один из стрелков.
Но Миронин, ничего не ответив, снова пошел в аптеку. Солдаты и красногвардейцы перестали стрелять. Прекратили стрельбу и из театра «Упион». На улице вдруг стало непривычно тихо.
Красногвардейцы сидели на земле и занимались каждый своим делом: кто переобувал сапоги, кто закусывал, кто курил, а кто просто отдыхал, вытянув ноги, с наслаждением ощущая, что хоть на минуту можно не сгибаться и не прятаться от пуль.
Клаша, вынув из кармана жакетки кусок хлеба и картошку, начала есть. Только сейчас она почувствовала, как проголодалась.
«Может, дядя Сеня тоже есть хочет?»
Клаша побежала в аптеку. В аптеке дядя Семен с Мирониным и тремя красногвардейцами стояли около окна и не отрываясь глядели на улицу. Клаша подошла к дяде и дернула его за рукав.
— Ты чего?
— Картошки с хлебом хочешь?
— Давай.
Дядя Семен начал закусывать. Клаша выглянула в окно.
В кинотеатре «Унион» в угловом окне по-прежнему висел белый флаг с крестом.
И вдруг тяжелая парадная дверь театра медленно приоткрылась. Из нее высунулась голова офицера с большой черной холеной бородой. Клаша узнала его. Это был капитан Козлов. Капитан осмотрелся вокруг и, убедившись, что улица пуста, скрылся в подъезде. Через минуту из дверей «Униона» вышла сестра милосердия с белым флагом в руке. Это была маленькая хорошенькая женщина в черной шелковой шубке, обшитой по подолу дорогим пушистым мехом. Шубка была модная, чуть пониже колеи. Из-под шубки виднелись стройные ноги, обутые в высокие, туго зашнурованные ботинки. Осторожно и легко она пошла через дорогу с угла Никитской улицы к белому трехэтажному каменному дому, который был как раз напротив аптеки. Она шла, точно танцуя, кокетливо придерживая левой рукой отлетающую полу шубки, а в правой несла белый флаг с красным крестом.
Клаша не успела опомниться, как женщина быстро и уверенно прошла мимо, равнодушно взглянув в сторону аптеки.
— Шустрая дамочка! — сказал пулеметчик.
Сестра милосердия, дойдя до дома, скрылась в подъезде. И тотчас же из настежь открытых дверей театра показались еще двое. Это были юнкера Александровского военного училища. На белых погонах с золотыми широкими галунами четко выделялась буква «А».
Юнкера осторожно несли носилки, на которых кто-то лежал, прикрытый шинелью. Оба они, высокие, с прямыми плечами и с тонкими перетянутыми талиями, были похожи друг на друга, как двойники. Юнкера подходили уже к каменному дому, как вдруг передний споткнулся о край тротуара и чуть не упал. На минуту он выпустил из рук носилки. Носилки тяжело грохнулись на камни мостовой. Шинель с них сползла, и красногвардейцы увидели, что под ней лежал не человек, а разобранный пулемет. Тяжелая пулеметная лента, словно змея, соскользнула на мостовую.
— Так вот у вас какие раненые! Бей их, гадов! Стреляйте, товарищи! — закричал Миронин и выбежал из аптеки на улицу.
Красногвардейцы и дядя Семен схватились за винтовки. Юнкера бросились обратно в театр «Унион». Вдогонку им затрещал пулемет и загремели ружейные выстрелы. Клаша видела, как один из юнкеров, взмахнув руками в коричневых перчатках, упал поперек трамвайных рельсов. Второй, уткнувшись головой в землю, остался лежать около носилок.
— Расплатились пташки за свои замашки! — сказал пулеметчик.
Из окон кинотеатра снова высунулись дула винтовок. Опять началась перестрелка.
Глава десятая
Большевики оказались под двойным обстрелом. Почти в лоб били юнкера и офицеры из театра «Унион», а с тыла, откуда-то с правой стороны Тверского бульвара, обстреливали из неизвестного дома.
Отвечать неизвестному противнику наугад было бесполезно да и опасно. В конце Тверского бульвара на Страстной площади стояла большевистская артиллерия и стреляла в Александровское юнкерское училище. Пули могли попасть в своих же.
Решено было послать разведчика. Но попасть на правую сторону Тверского бульвара было нелегко. Нужно было перебежать улицу под обстрелом юнкеров из «Униона». И все же охотников вызвалось много. Миронин выбрал круглолицего Петьку.
— Счастливо оставаться, сестрица! — крикнул он, пробегая мимо Клаши.
Клаша молча кивнула ему головой. Она еле успевала перевязывать раненых. Уже в кондитерскую снесли девять человек.
— Может, и пробежит парнишка! — сказал рабочий, которому Клаша бинтовала ногу.
Клаша обернулась.
Петька уже был на другой стороне улицы, но в ворота прошмыгнуть не успел. Пошатнувшись, он упал на колени и неуклюже повалился на бок.
— Подстрелили, гады, — скрипнул зубами раненый.
Через полчаса в разведку ушел другой. Этот пошел бульваром, прячась за деревья и перевернутые садовые скамейки. Он пробирался то бегом, то ползком. Из чердачного окна аптеки наблюдатель видел, как разведчик благополучно дошел до дома, куда его послали, и скрылся в воротах.
Но прошел час — разведчик не возвращался.
— Видно, и этого ухлопали, а может, и арестовали.
— Еще бы, сразу видать, что наш! — переговаривались красногвардейцы.
— Вот если б ему погоны нацепить, тогда б статья другая.
— И без погон пройти можно!
— Черта с два. Проходных дворов здесь нету.
Стреляли всё чаще и чаще. Пули уже начали летать со стороны Спиридоновки и Большой Никитской улицы. Видно, юнкера пробрались и туда.
Клаша перевязывала раненых и не слышала, как в кондитерскую вошел дядя Семен. Осторожно переступая через лежащих бойцов, Семен подошел к ней сзади.
— Ну как, справляешься? — спросил он.
— Справляюсь.
Руки и край косынки у нее были запачканы кровью, да и сама косынка потеряла свой прежний ослепительно белый цвет.
Когда Клаша кончила бинтовать, дядя Семен отозвал ее в сторону.
— Клаша, — сказал он, — надо бы сходить на Тверской бульвар, к юнкерам, поглядеть, откуда они стреляют и где стоит пулемет… Как ты?..
Клаша переступила с ноги на ногу и поглядела на дядю.
— Пойду.
— Не струсишь?
— Не струшу. Сейчас надо идти?
— Сейчас. Идти придется напрямик. Проходных дворов не имеется. У нас есть подозрение на два дома. На белый с балконом и на красный каменный. Поняла?
— Поняла. Я только руки вымою.
Через пять минут со стороны аптеки появилась девочка в черной бархатной жакетке и в круглой меховой тапочке. Длинная русая коса была у нее перекинута через плечо. В руках девочка держала небольшую плетеную корзинку, в каких обычно отпускают пирожные в кондитерских. Не успела она появиться на бульваре, как выстрелы с правой стороны Тверского бульвара прекратились.
«Это они нарочно перестали, а как только подойду поближе, так и трахнут! И сразу насмерть, как Петьку», — подумала Клаша, и ей стало страшно.
Она на мгновение остановилась около дерева.
«А как же Катя не боится! Даже из винтовки стреляет!»
И Клаша поспешно зашагала по левой стороне Тверского бульвара.
Уже начинало темнеть. Бульвар точно вымер. Далеко, в конце его, одиноко маячил памятник Пушкину. Пушкин стоял, заложив руку за спину и склонив немного набок курчавую голову, будто прислушивался к далеким выстрелам.
Клаша шла не оборачиваясь, стараясь держаться ближе к домам. Из аптеки с тревогой и волнением за ней следили красногвардейцы. Клаша благополучно дошла до белого дома с балконом. У ворот дома никого не было видно. Она огляделась по сторонам и перебежала через бульвар на правую сторону улицы.
«Может, юнкеров здесь и нету! Может, они в соседнем доме сидят», — подумала Клаша, открывая тяжелую чугунную калитку. Она вошла во двор и столкнулась лицом к лицу с усатым юнкером.
— Куда, мадемуазель? — спросил юнкер, загораживая дорогу.
— К знакомым.
— Зачем?
— Одолжить картошки, — не растерялась Клаша и показала на корзинку.
— Ах так, проходите, — сказал юнкер и лениво козырнул.
Клаша торопливо пошла по огромному пустому двору, вымощенному булыжником. Во дворе возвышалось два четырехэтажных красных дома. Один невдалеке от ворот, другой в глубине двора. Клаша вошла в подъезд первого дома. Ей нужно было скрыться с глаз юнкера-часового. Через стеклянную дверь парадного ей хорошо было видно, как юнкер постоял-постоял у калитки и не спеша вышел на улицу.
Клаша выскочила из подъезда и прошмыгнула в глубь двора. Здесь у стены дровяного сарая она увидела трех юнкеров. Клаша спряталась за водосточную трубу каменного дома. Двое юнкеров стояли к ней спиной и о чем-то спорили. Третий, присев на корточки, поспешно набивал патронами пулеметную ленту.
«Вот почему не стреляли — патроны кончились», — сообразила Клаша. Опа решила посмотреть, куда же понесут готовую ленту.
Спор между юнкерами разгорался. Один из них, плотный и такой плечистый, что можно было подумать, будто у него подложены ватные плечи, вдруг выругался и, круто повернувшись, пошел в сторону Клаши.
Прятаться уже было поздно. Юнкер увидел ее за углом дома.
— Ты что здесь делаешь? — спросил он.
Клаша молча смотрела на его красивое, молодое, но какое-то помятое лицо с припухшими мешками около глаз.
— Что ж ты молчишь? Ты где живешь? Здесь? — допытывался юнкер.
— Здесь, — сказала Клаша и ткнула пальцем куда-то вверх.
— А ну, пойдем? Показывай.
Юнкер пропустил Клашу вперед.
«Что ж теперь будет? Что же будет?»
Клаша вошла в подъезд четырехэтажного дома. Они стали подниматься по лестнице. Юнкер вытащил портсигар и закурил.
Клаша покорно шагала со ступеньки на ступеньку.
«А что, если взять да позвонить в первую попавшуюся дверь? Нет, нельзя. Не признают. Всюду чужие!»
— Ну, скоро? — спросил нетерпеливо юнкер, когда они очутились на площадке третьего этажа.
— Скоро, — вздохнула Клаша.
Она решила: «Будь что будет, а до четвертого этажа дойду!»
— Может быть, ты на чердаке живешь? А? — язвительно спросил юнкер. — Стой! — грубо сказал он и схватил ее за плечо.
Клаша остановилась.
— Черт бы побрал эти шпоры! — выругался юнкер и, поставив ногу на ступеньку, стал застегивать расстегнувшийся ремешок.
Клаша с тоской обвела глазами белые стены, высокие, обшитые клеенкой двери чужих квартир. От неизвестности у нее замирало сердце, а к горлу подступала противная тошнота, — такое чувство она испытывала перед экзаменами.
«Чтоб ты провалился сквозь землю!» — пожелала Клаша юнкеру, глядя с ненавистью на его согнутую широкую спину.
— Ну-с, — сказал юнкер и выпрямился.
Клаша в отчаянии шагнула еще на одну ступеньку выше. На лестнице было уже темно.
И тут случилось такое, чего никак не ожидали ни Клаша, ни сам юнкер.
Над их головами на крыше что-то страшно ухнуло. Это было похоже на выстрел из, огромней пушки. По крыше с грохотом посыпались листы железа и кирпичи. С потолка отвалился большой кусок штукатурки, и полетела белая пыль.
Юнкер на минуту остолбенел, а потом бросился на чердак.
— Стой здесь! — закричал он Клаше.
Клаша прижалась к стене.
— П-поручик убит! — послышался сверху чей-то заикающийся голос.
— Что? — выкрикнул юнкер.
На площадку лестницы с чердака спрыгнул маленький человек в длинной, не по росту, юнкерской шинели. На копчике его острого носа блестело пенсне. Он был без фуражки; из расцарапанной щеки текла кровь.
— Поручика убили, — повторил он. — Бомбу солдат бросил с соседней крыши.
— А где солдат? Задержан?
— Нет, убежал, — сказал маленький юнкер, глотая слюну.
— Шляпа несчастная, ворона! Надо было стрелять! И чему только вас, дураков, в университете учат! — презрительно сказал плечистый юнкер и, гремя шпорами, побежал вниз докладывать начальству о случившемся. — Девчонку постереги! — крикнул он снизу.
Студент-юнкер с минуту стоял как бы в столбняке, потом, опомнившись, вдруг закричал на всю лестницу визгливым и захлебывающимся голосом:
— Юнкеришка! Хам! Наполеон с Арбата! Плевал я на тебя и твои приказы. Плевал!
Не взглянув на Клашу, он бросился вниз, путаясь в полах своей длинной шинели. Клаша слышала, как стучали его сапоги по каменным ступеням лестницы, как сильно хлопнула внизу дверь. Затем все смолкло.
Клаша оглянулась. Раздумывать и ждать было некогда. Бежать вниз опасно. Сразу нарвешься на юнкеров. Спрятаться на лестнице негде. Оставалось одно — укрыться на чердаке. И Клаша бросилась по чердачной лестнице наверх.
Увидеть что-либо на чердаке не было никакой возможности. Здесь было темно, и после разорвавшейся гранаты плавал дым и столбом стояла пыль. К сернистому запаху примешивался запах копоти от печных труб. В темноте где-то под крышей блестело полукруглое чердачное окно.
Клаша, вытянув руки, ощупью двинулась по чердаку. Она старалась держаться ближе к стене. Пригнувшись, она шла медленно, то и дело натыкаясь на протянутые веревки. Споткнувшись о деревянную балку на полу, она чуть не упала и раза два больно ударилась головой о стропила.
Наконец кое-как она добралась до конца стены. Здесь в темном углу можно было спрятаться. Она присела на пол и пощупала руками вокруг себя. Под руки ей подвернулись какие-то пустые бутылки и большая бельевая корзина. Корзина была дырявая, без ручек. Клаша залезла под корзину и свернулась калачиком. Руки у нее были в земле и в пыли, а на лицо и на волосы налипла паутина. Она лежала, боясь дышать. От пыли, копоти и сернистой вони щекотало в носу, хотелось чихнуть. Так она пролежала минут десять, но ей казалось, что она здесь очень, очень давно.
— Дай бог, чтоб не пришли, — шептала Клаша.
Но с чердачной лестницы уже доносились голоса и звон шпор.
— Черт побери, ну и темень же здесь! — сказал хриплый голос, и вслед за этим чиркнула спичка, а за ней другая и третья.
Сквозь прутья корзины Клаша увидела офицера. От неожиданности она чуть не вскрикнула. Это был Надеждин муж, поручик Скавронский. Он стоял на лестнице и заглядывал на чердак. За ним виднелись еще две фигуры. Спички погасли и, снова наступила темнота.
— Где пулемет? — спросил Скавронский.
— У среднего окна, — ответил юнкер, и опять вспыхнула спичка.
Все трое влезли на чердак.
Поминутно зажигая спички и чертыхаясь, Скавронский пошел к окошку. Клаша видела то освещенный кусок сапога, то офицерскую шашку, то руку юнкера, который придерживал, словно дама юбку, полы своей длинной шипели.
— Нагнитесь, господин поручик! Здесь стропила, нагнитесь! — заботливо предупреждал один из юнкеров.
Скавронский что-то пробурчал в ответ.
Наконец они добрались до окошка. Скавронский зажег спичку и присел у пулемета.
— Ну, кажется, все части целы, — сказал он минут через десять, поднимаясь на ноги. — А где?.. — спросил он.
У Клаши замерло сердце и сразу похолодели руки. «Меня ищут! Меня!» Она зажмурила глаза.
— Здесь, — ответил юнкер.
Клаша приоткрыла один глаз и увидела, как юнкер осветил что-то темное, похожее на большой узел, недалеко от пулемета.
Поручик Скавронский зажег спичку и наклонился над убитым. Затем что-то сказал, но так тихо, что Клаша не могла разобрать слов.
— Ну-с, господа юнкера, несите пулемет.
Юнкера понесли пулемет, а Скавронский освещал им спичками дорогу. Клаша лежала под корзинкой, зажав обеими руками рот и еле сдерживаясь, чтобы не чихнуть.
— Сейчас перейдем в дом номер двадцать два. Пулемет поставить на колокольню! — приказал поручик.
Юнкера с пулеметом начали осторожно спускаться с лестницы. Спичка в последний раз осветила чердак и погасла. Поручик Скавронский тоже сошел вниз. Клаша с облегчением вздохнула и, закрыв голову полой жакетки, с наслаждением чихнула два раза.
Опа еще долго просидела на темном чердаке, боясь, как бы не попасться снова юнкерам. Она старалась не глядеть в сторону убитого офицера. Ей казалось, что офицер шевелится и дышит.
«А может, он не убитый!» — думала Клаша.
Чуть-чуть светлело полукруглое чердачное окно. Через окно было видно, как на темном осеннем небе дрожит и мигает единственная звездочка. В дальнем углу чердака шуршала и скреблась мышь.
Наконец Клаша осторожно поползла к выходу.
Глава одиннадцатая
После того как Клаша побывала в разведке, многие из красногвардейцев стали называть ее не сестрица, а запросто: Клаша.
— Дельная девушка, — сказал Миронин.
— Молодец, Клаша! — похвалил дядя Семен.
С наступлением вечера перестрелка у Никитских ворот почти прекратилась, только изредка в темноте нет-пет да щелкнет одинокий выстрел. Красногвардейцы, солдаты, собрались около аптеки и ожидали назначения в ночной караул. Накрапывал дождик. Приподняв воротники, стрелки молча сидели в темноте. Кто курил, а кто дремал, прижавшись к стене.
Клаша прибиралась в кондитерской, сметала в угол самодельной метелкой — пучком соломы — битые стекла, гильзы и бинты.
— Клаша, ты здесь? — спросил с порога Миропин.
— Здесь.
— Пойдем-ка на ночлег. Устала небось?
— Немножко устала, — сказала Клаша, выходя из кондитерской.
Тут у порога уже ждали несколько солдат и красногвардейцев.
— Ну, пошли, товарищи! — сказал Миропин.
Дом, в котором решили ночевать, был в десяти шагах от аптеки, на углу Малой Бронной улицы. Это был большой каменный опустевший дом, из которого при первых же выстрелах разбежались жильцы. Парадное с выбитыми стеклами было открыто настежь. Миронип и красногвардейцы ощупью поднялись по темной лестнице на второй этаж. Квартира оказалась незапертой. Миронин открыл дверь, и все вошли в темную переднюю.
— Погодите, ребята, я сначала сам погляжу.
Он ушел и минут через пять позвал стрелков в комнаты. Они вошли, жмурясь от яркого света, и, ошеломленные, остановились на пороге. Такое великолепие они видели впервые. Горела огромная люстра, переливались и сверкали хрустальные подвески. Люстра освещала богато убранную столовую с большим, мореного дуба, буфетом во всю стену, отделанным гранеными зеркалами. Посередине комнаты стоял круглый стол на львиных ножках, покрытый дорогой вышитой скатертью. В углу в стеклянном футляре громко тикали большие столовые часы.
— Проходите, ребята, устраивайтесь, — сказал Миронин.
Красногвардейцы и солдаты несмело вошли в комнату и стали снимать с себя мокрые и грязные шинели. Они свалили шинели в угол, около большой белой изразцовой печки.
— Устраивайтесь в этой комнате и в соседней. Здесь окна во двор выходят. В остальных света не зажигайте, а то с улицы стрелять начнут, — приказал Миронин красногвардейцам и ушел.
Один из солдат обдернул гимнастерку, пригладил волосы и осторожно присел на край дубового стула с высокой спинкой. Глядя на него, и другие сели за стол.
— Невредно живут! — подмигнул Ефим Лукич, оглядев столовую.
Клаша сняла свою бархатную жакетку и косынку. Теперь, при ярком свете люстры, Клаша увидела, какая она грязная и пыльная. Коричневое платье, которое она берегла как зеницу ока, было измято и порвано в двух местах.
«Ну и достанется мне от тетки!» — подумала она.
— Это что за штуковина повешена? — спросил толстый белобрысый солдат, разглядывая квартиру с таким видом, точно собирался остаться в ней жить.
Над столом на зеленом шелковом шнурке висело искусно выточенное деревянное яблоко. Солдат дотронулся до яблока — и вдруг в дальнем конце квартиры затрещал звонок.
Два стрелка вскочили с места, а сам белобрысый схватился за винтовку.
— Балуй! Маленький, что ли! — исподлобья поглядел Ефим Лукич.
— Это звонок, чтоб кухарку вызывать: подавай, мол, второе или третье блюдо, — объяснила Клаша.
— А будь оно неладно! — Солдат махнул рукой и уселся за стол.
— Ну что ж, ребята, не на именинах, рассиживаться некогда. Давайте закусывать да на боковую. Через два часа сменяться, — сказал Ефим Лукич.
Порывшись в кармане шинели, он вытащил небольшой газетный сверток. В свертке оказался крохотный кусочек сала, весь в хлебных крошках и махорке. Ефим Лукич вынул перочинный ножик, бережно счистил крошки и махорку и торжественно положил сало на клочок бумаги. Остальные красногвардейцы вынули свои запасы: воблу, черный хлеб и несколько холодных картошек.
— Ну, дочка, подсаживайся к угощению, — позвал Ефим Лукич.
Клаша стояла у печки и заплетала косу.
— Пожалуй, такого угощения здешние хозяева вовек не едали, — усмехнулся высокий черноглазый рабочий с обмотанным вокруг шеи шарфом.
И действительно, странно и убого выглядели на красивой дорогой скатерти куски черного липкого хлеба, две ржавых воблы и жалкий замусоленный кусочек сала.
— Господское брюхо к грубой пище не приспособлено, — сказал черноглазый и начал чистить воблу.
— У них, Вася, щи и то с трикадельками! — заметил его товарищ, которого за силу и необычайную смуглость лица прозвали Чугунный.
— Ничего, придет время — и мы трикадельки есть будем, — отозвался черноглазый.
— А может, ребятки, и сейчас чего перекусить найдется? — сказал Ефим Лукич.
Он подошел к буфету и открыл обе дверцы. На нижней полке стояли высокие стопки красивых фарфоровых тарелок, а на верхней Клаша увидела начатую головку голландского сыру, блюдо с холодным мясом и большую синюю вазу с домашним печеньем. В глубине буфета сверкал граненый хрусталь и узкогорлый графин с вином.
— Запасливые! — засмеялся Ефим Лукич. — А ну, давай, дочка, ставь на стол.
Клаша вынула фарфоровые тарелки, разложила на столе вилки и ножи, поставила блюдо с холодным мясом, вазу с печеньем и головку сыру.
Толстый белобрысый солдат достал из буфета графин с вином. Вино было темно-красного цвета и при свете люстры соблазнительно переливалось и играло.
— Вкусица! — причмокнул языком белобрысый.
— Не дури, поставь на место! — строго сказал Ефим Лукич и так поглядел на солдата, что тот, смутившись, сунул графин на полку и отошел от буфета.
Закусив, солдаты и красногвардейцы стали укладываться на полу на шинелях.
Клаша устроилась рядом, в соседней высокой комнате, обставленной красивой белой мебелью. Огромная белая кровать была покрыта шелковым, василькового цвета покрывалом. У кровати лежала пушистая медвежья шкура. На туалетном столике перед зеркалом блестели флаконы и безделушки, а на тумбочке у кровати сидела красавица кукла с голубым бантом на завитых волосах. У куклы были приклеены настоящие ресницы. Такую игрушку Клаша видела только в витринах магазина. Присев на край кровати, она осторожно взяла куклу, боясь измять ее пышное, в воланах, шелковое платье.
Глаза куклы под длинными темными ресницами казались живыми, белые мелкие зубки сверкали из-под полуоткрытых розовых губ. От куклы пахло духами. Клаша посадила куклу к себе на колени и кончиками пальцев тихонько провела по ее красивому фарфоровому личику, потом погладила длинные завитые локоны.
«Это не тряпичная Мотька с бусинками вместо глаз. Как бы еще не разбить!»
Клаша поправила бант на ее волосах, посадила куклу на прежнее место и стала раздеваться. Лечь на широкой белой кровати она не решилась. Сняв пестрые вышитые подушки с тахты, она улеглась на ней, накрывшись своей жакеткой.
Клаша уже стала засыпать, как дверь в комнату приоткрылась и на цыпочках вошел Ефим Лукич.
— Дочка, не спишь? Я тебе гостинец принес.
Ефим Лукич поставил на пол перед тахтой десятифунтовую банку с вареньем, положил сверху серебряную разливательную ложку и вышел из комнаты. Клаша открыла банку. Это было ее любимое земляничное варенье.
На рассвете ее разбудил Ефим Лукич. Поеживаясь от холода и зевая, она вышла на улицу с красногвардейцами — и опять началось все снова: стрельба, раненые, перевязки.
Глава двенадцатая
С рассвета до полудня не умолкала перестрелка. На помощь Клаше приехали две молодые работницы с табачной фабрики Габай. Но помогала только одна, высокая белокурая девушка, повязанная лиловым шарфиком. Вторая неплохо стреляла и была все время с красногвардейцами в аптеке.
В полдень усталые, грязные, измученные люди узнали радостную новость. По телефону из Военно-революционного комитета передали, что большевики взяли в Лефортове Алексеевское юнкерское училище. Это известие придало силы красногвардейцам.
— Ну, теперь офицерской шатии скоро карачун будет! — сказал Ефим Лукич.
Сегодня был горячий день. С Воробьевых гор большевики били по Кремлю из шестидюймового орудия. На Театральной площади большевики наступали на гостиницу «Метрополь», где засели юнкера. Каждый раз, когда с Воробьевых гор ухала пушка, Чугунный подмигивал и, косясь в сторону Кремля, говорил:
— Будьте здоровы, господа офицеры!
А рядом лежащий с ним в цепи белобрысый солдат громогласно объявил:
— Ну прямо как на станции Молодечно. Ей-богу! В тютельку!
Клаша не знала, что за станция Молодечно и как там стреляли, но сегодня стреляли беспрерывно — со всех четырех сторон.
Стреляли с Воробьевых гор, стреляли со Страстной площади, стреляли на Театральной площади. К залпам пушек, которые отлично были слышны, примешивалась и своя пулеметная и ружейная стрельба у Никитских ворот. И на все эти выстрелы злобно и непрерывно отвечали юнкера и офицеры: отвечали пушечными и пулеметными выстрелами с Арбата, с Остоженки, из театра «Унион», с телефонной станции и из Кремля. Хотя стреляли много, но бестолково. Особого урона выстрелы не приносили, и раненых было немного.
— Невпопад бьют, мажут, — говорили красногвардейцы.
И вдруг от снаряда загорелась аптека.
— Выносите пулемет, пулемет выносите! — закричал Миронин, но красногвардейцы уже тащили из аптеки пулемет и патроны.
— Не иначе, как юнкерье с Арбатской площади. Из бомбомета ахнули, — сказал Чугунный.
Аптека занялась вся сразу. Это было старое трухлявое здание. Кроме того, в аптеке было немало горючих веществ: бензина, спирта, эфирных масел. То и дело слышались короткие взрывы, взметывались страшные огненные языки. Черный дым клубами выбивался из окон. И вскоре с треском и грохотом провалилась крыша.
— Эх, плохо нам будет теперь без телефонной связи! — беспокоились красногвардейцы.
Но выход был найден. Решили пользоваться телефоном в одной из опустевших квартир.
Аптека горела до самого вечера. Теперь красногвардейцы и солдаты перешли в каменный дом на углу Малой Бронной. Но этот пункт не был так хорошо защищен, как аптека. Приемную и перевязочную устроили в подъезде углового дома, где Клаша ночевала накануне.
В сумерки неожиданно начали стрелять из Хлебного переулка. Три красногвардейца во главе с дядей Семеном отправились на разведку, и только они ушли, как приехала Катя на санитарном автомобиле. Она привезла перевязочный материал. Клаша, увидев ее, очень обрадовалась.
— Ну, как дела, Клавдюшка? — спросила Катя, входя в подъезд.
Опа присела на нижнюю ступеньку лестницы и, сняв с головы платок, начала причесывать волосы. Клаша села рядом.
— Ничего дела. Идут! — ответила Клаша.
— Небось испугалась, когда загорелась аптека?
— Испугалась, — призналась Клаша.
— Теперь, Клавдюшка, недолго осталось ждать. Победим! Все равно победим… И Кремль у юнкеров возьмем. Сейчас нам на помощь рабочие отряды из Твери и Иванова-Вознесенска приехали. Оружие привезли… Патроны.
— А ты тогда в одеяле тоже патроны несла? — вдруг спросила Клаша.
Катя обняла ее за плечи и улыбнулась.
— Я сразу догадалась, что патроны. И дядя Сеня такие же гостинцы с фронта привез!
— Ох, Клавдия Петровна, уж больно ты у нас догадливая! — засмеялась Катя. Она помолчала и сказала тихо: — Победим, Клавдюшка! Конец господской власти! Теперь наша власть будет. Рабоче-крестьянская! В Петрограде уж седьмой день, как большевики взяли власть. Товарищ Ленин Председателем Совнаркома избран.
— А кто это Ленин? Тоже большевик?
— Он, Клаша, самый большой большевик. Он вождь наш, руководитель нашей власти.
Клаша хотела было спросить, видела ли Катя Ленина, как дверь приоткрылась, и заглянул Миронин:
— Катя, иди-ка сюда!
Катя встала, поправила на голове платок и вышла на улицу.
Уже было совсем темно, когда Клаша в конце Малой Бронной увидела небольшую женскую фигуру. Фигура пробиралась как-то бочком, по стенкам домов, под мышкой у нее был сверток.
Клаша стала приглядываться. Фигура приближалась, и Клаша узнала в ней портниху.
— Анна Петровна! — окликнула Клаша.
Анна Петровна остановилась, узнала, в свою очередь, Клашу и, взмахнув как-то нелепо руками, спотыкаясь и чуть не падая, бросилась к ней.
— Клашенька, — лепетала портниха, прижимая сверток к груди. — Клашенька!
— Что вы здесь делаете, Анна Петровна?
— Заказ, заказ сдавать на Живодерку несу. Юбку клеш и крепдешиновую блузочку. Ой, сколько я натерпелась страху! Меня на Арбате чуть не убили. А сейчас солдат не пропускает, — жаловалась сквозь слезы Анна Петровна. — Двадцать четвертого утром примерка была, а первого заказчица велела к восьми часам принести. Она именинница сегодня. Ну кто же знал, что такое начнется! Клашенька, как же мне попасть на Живодерку?
— Пойдемте, я вас провожу, — сказала Клаша и взяла сверток из рук портнихи.
— Не сомни, Клашенька!
Пока они шли, Анна Петровна опомнилась и заметила на Клаше сестринскую косынку.
— Перевязываешь?
— Перевязываю.
— Большевиков?
Клаша кивнула головой.
Анна Петровна как-то странно пискнула и, выхватив пакет из рук Клаши, бросилась вдоль улицы.
Глава тринадцатая
Это было третье утро, которое Клаша проводила на улице. И это утро также началось со стрельбы. С Арбата прибежал мальчишка-разведчик лет двенадцати, в женской кацавейке и в солдатской большой папахе. Папаха сползала ему на глаза. Мальчишка передал, что с Арбатской площади по Никитскому бульвару идут с винтовками юнкера-александровцы.
— Для дорогих гостей патронов не жалко, — сказал Миронин.
Он велел переставить пулемет на крышу трехэтажного дома, который своим фасадом выходил к Никитскому бульвару. Пулемет был поставлен. Клаша сидела в темном парадном на ящике и ожидала раненых. Она слышала, как затрещал пулемет и защелкали ружейные выстрелы. Все было как всегда.
Клаша плохо выспалась за эту ночь. Потягиваясь и протирая глаза, она приоткрыла дверь парадного и остановилась на пороге, вдыхая холодный утренний воздух. Начинал накрапывать дождь. Клаше стало холодно; она приподняла воротник, засунула руки в карманы жакетки, зевнула.
«Экая рань! У нас еще, наверное, все спят и тетка самовара не наставляла».
В предутренней мгле она увидела двух солдат. Они шли из того дома, где стоял на крыше пулемет. Солдаты несли носилки.
«Ну вот и первого раненого несут!» — подумала Клаша.
Когда они подошли ближе, Клаша бросилась к ним навстречу: она увидела на носилках Катю. Катя лежала, свесив руки вниз и как-то странно прижав голову к плечу.
 Катя лежала, свесив руки вниз и как-то странно прижав голову к плечу.
Катя лежала, свесив руки вниз и как-то странно прижав голову к плечу.
Солдаты вошли в парадное и осторожно опустили носилки на каменный пол.
— Темно, — сказал один из них.
Он достал из кармана шинели коробок и чиркнул спичку. Клаша наклонилась над носилками. Катя лежала с закрытыми глазами. Лицо ее было теперь бледное и осунувшееся. Знакомый шерстяной платок на голове намок и покраснел от крови. Солдат осторожно приподнял платок на лбу. Около уха, пониже виска, Клаша увидела небольшую рану.
— Насмерть, — сказал солдат и взглянул на товарища. Они сняли шапки.
Постояв еще с минуту, они неловко и почему-то на цыпочках вышли из подъезда. Клаша села на ящик и, закрыв лицо руками, горько заплакала. Сквозь слезы она видела, как в парадное вбежал Миронин. Опираясь на винтовку, он опустился около носилок и, приложив ухо к Катиной груди, замер.
Клаша, боясь пошевелиться, сидела на ящике.
— Не дышит, — тоскливо сказал Миронин и поднялся с пола. — Эх, Катюшка, Катюшка!
Как-то особенно сильно прихрамывая, он медленно вышел из парадного.
Минут через десять убитую Катю перенесли в другой подъезд.
А около двух часов дня пришла радостная весть: большевики взяли Кремль!
Глава четырнадцатая
Шофер, замедляя ход, въехал в Кремль через Троицкие ворота. На грузовике были Миронин, дядя Семен, Клаша, Ефим Лукич, Чугунный и еще несколько солдат и красногвардейцев.
Клаша увидела большую площадь, вымощенную булыжником. Грязные, затоптанные погоны валялись на площади: офицерские — золотые и юнкерские — с буквой «А». Здесь же были брошены штыки, сломанные винтовки, пустые гильзы, пулеметные ленты и два больших бинокля.
— Налегке господа офицеры удирали, — усмехнулся Чугунный, — даже погончики поскидали!
Вся площадь была изрыта окопами. Возле окопов копошились солдаты и красногвардейцы. Они собирали на земле какие-то длинногорлые железные бутылочки.
— Ишь, паразиты, сколько гранат набросали! — сказал Ефим Лукич.
Грузовик остановился. Солдаты и красногвардейцы слезли. Клаша осталась сидеть на грузовике.
«Так вот он какой, Кремль! Кремль, в который так рвалась Катя!»
Клаша представляла его совсем другим. Побывать за кремлевскими стенами ей до этого не удалось. Проезжая мимо в трамвае, она видела только огромные золотые купола церквей и соборов, похожие на луковицы, да зеленые крыши строений. Она не раз слышала, как Надежда говорила, что в Кремле есть Царь-пушка и Царь-колокол. И Клаше казалось, что в Кремле все должно быть огромных размеров.
Теперь, сидя на грузовике, она с любопытством и удивлением оглядывала самую обыкновенную площадь и желтые длинные здания, похожие на обычные казармы.
Вдоль одного из них на каменном постаменте стояли старинные пушки с тонкими, смешными дулами. Около пушек пирамидами, словно яблоки в фруктовом магазине, лежали чугунные ядра.
Площадь была полна людей. В шинелях, в морских форменках, в кожанках, в ватниках и в черных суконных куртках, они стояли с винтовками в руках и оживленно переговаривались.
Иные торопливо пробегали по площади, скрываясь в воротах одного из каменных длинных зданий.
То и дело раздавались радостные приветствия:
— А! Прохоровцы!
— Гужоновцам почтение!
— Ивановским ткачам!
— Здорово, питерские моряки!
К дяде Семену и Миронину подошли несколько матросов, красногвардейцев и пожилой военный в солдатской папахе и в полушубке защитного цвета.
— Здравствуйте, товарищи! От Никитских ворот? — спросил военный.
— От Никитских. Здравствуй, товарищ комиссар! — ответил Миронин.
Комиссар стал о чем-то его расспрашивать и неожиданно повернулся в сторону грузовика.
— А это чья девочка?
— Это моя племянница, — ответил Семен.
— Она у нас раненых перевязывала, в разведку ходила, — сказал Миронин.
— Вот она какая, наша молодежь! — улыбнулся комиссар и пристально посмотрел на Клашу.
Клаша вспыхнула. Потом комиссар сказал что-то Миронину, указав рукой вправо, и пошел к желтым зданиям. Все пошли вслед за ним.
— Клаша, слезай! — крикнул Семен.
Она спрыгнула с грузовика и побежала догонять дядю.
Площадь здесь слегка поднималась в гору. Все вошли в узкий пролет между зданиями и свернули вправо. И здесь Клаша увидела огромный дом с толстыми белыми колоннами. Стекла в доме были разбиты пулями. Одна из колонн была наполовину разрушена, и на земле валялись куски кирпича и штукатурки.
— Николаевский дворец! — сказал комиссар. — Здесь юнкерье и офицеры наших пленных расстреливали. От пятьдесят шестого полка только двадцать человек уцелело.
Клаша но успела разглядеть дворец. Они свернули по узкой дорожке, вымощенной каменными плитами, к высокой красной церкви с белыми наугольниками. Возле церкви ходили часовые с винтовками.
— Вот и Чудов монастырь! Пришли! — сказал комиссар.
Монастырская церковь оказалась темной и тесной. Пахло ладаном, свечами и солдатскими шинелями. Большой золотой иконостас, темные, нахмуренные лица святых с круто изогнутыми бровями, зажженные стеклянные цветные лампады перед иконами, бархатные ковры и дорожки на каменном полу — все было как в обычной церкви. Невдалеке от входа, около круглой колонны, густо увешанной иконами, стоял часовой — матрос.
— Подождите, товарищи, здесь, — сказал комиссар и пошел к царским вратам.
Все остановились у амвона. Клаша стала рядом с дядей Семеном, разглядывая темный старинный иконостас и золотые тяжелые ворота, наглухо закрытые и задернутые изнутри шелковой красной занавеской.
Комиссар подошел и открыл их настежь. В глубине алтаря, отделанного позолотой, Клаша увидела офицеров и юнкеров. Их было человек пятьдесят.
— Выходите по одному! Мы пленных не расстреливаем, — сказал комиссар.
Офицеры, скучившись, молча стояли в алтаре, не двигаясь с места. Никто не хотел выходить первым.
— Ну, долго вас упрашивать? — повысил голос комиссар.
В ответ в алтаре зашевелились, зашептались, и кто-то взволнованно закашлял.
Первым вышел смуглый офицер в коричневом френче, с Георгиевским крестом. На его плечах торчали белые нитки, — видно, он наспех оторвал свои погоны.
— Товарищ, отведите арестованных в Николаевский дворец, — сказал комиссар матросу.
Один за другим медленно и нехотя выходили офицеры и юнкера из алтаря. Небритые, в помятых шинелях, а многие без фуражек, арестованные старались глядеть в сторону.
Но иные, засунув руки в карманы, шагали с независимым видом и даже пытались презрительно улыбаться.
И вдруг Клаша рванулась вперед.
— Ты чего? — спросил дядя Сеня.
— Хозяин, Юрий Николаевич, — шепнула Клаша.
И действительно, из алтаря шел полковник Зуев. Высокий и прямой, он шел, вздернув голову. Небритое худое лицо его выражало раздражение и брезгливость. Он шел с таким видом, точно его оторвали от важного и срочного дела бедные просители. На его плечах блестели полковничьи погоны. Серая офицерская шинель была застегнута на все пуговицы.
Дядя Сеня шагнул к полковнику и загородил ему дорогу.
— Вот мы и встретились, господин полковник!
Полковник вздрогнул и остановился. Он узнал Семена.
— Тебя не спрашивают, болван! — сказал он с ненавистью.
Дядя Семен не помня себя бросился на полковника и рванул его за шинель.
— Товарищ Мурашов! Призываю к революционному порядку! — крикнул Миронин срывающимся хриплым голосом.
Семен дернулся и неуклюже, как-то боком, отступил в сторону. Лицо его стало землистым, руки дрожали.
Все это произошло в одно мгновение, и, когда Клаша опомнилась, полковник уже шагал к выходу.
— У нас вот такой же гад капитан на корабле был. Ох и мордовал матросиков! — сказал кто-то сзади.
Когда Клаша вместе со всеми вышла из Чудова монастыря, на улице уже начинало темнеть. Где-то в глубине Кремля глухо и монотонно звонили ко всенощной. По площади торопливо пробежали два монаха. Широкие полы их черных ряс раздувались по ветру.
— И что шмыгают, черти долгогривые! — со злобой сказал дядя Семен.
Около Троицких ворот уже прохаживались солдаты — часовые.
На кремлевской стене с винтовкой в руке стоял матрос.
— Сейчас, товарищи, будет митинг, — сказал комиссар.
Бойцы собрались в огромном сводчатом зале Арсенала. Здесь был латышский отряд, тот, что дрался около Ильинских ворот. Здесь были рабочие-красногвардейцы из Хамовников, из Иванова-Вознесенска, с Прохоровки, матросы и солдаты из Питера.
Грязные, усталые бойцы жадно слушали комиссара.
— Сегодня, после пятидневного кровавого боя, наши враги — офицеры и юнкера — разбиты наголову. Кремль взят. Офицеры сдались и обезоружены. В Москве отныне утверждается народная власть, власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Это — власть мира и свободы. Всякий, кто поднимет руку против этой власти, будет сметен революционным народом. Рабочие и солдаты завоевали свободу своей кровью, и они не выпустят ее из своих рук.
Комиссар кончил говорить, и Клаша увидела, как из толпы кто-то поспешно пробирается к нему. Она узнала дядю Семена. Он был без шапки, бледный, в расстегнутой шипели.
— Слово имеет солдатский депутат девятнадцатого сибирского стрелкового полка Семен Мурашов, — сказал комиссар.
— Товарищи солдаты и красногвардейцы! Товарищи матросы! — начал громко и раздельно дядя Семен и вдруг замолчал.
Он переступил с ноги на ногу, глубоко вздохнул и обвел глазами высокий сводчатый зал Арсенала. Перед ним, опираясь на винтовки, в грязных шинелях и в ватных кацавейках, в морских форменках стояли бойцы и ждали.
«Ой, неужели ничего не скажет?» — замерла Клаша.
Дядя Семен расстегнул пуговицу на своей гимнастерке и облизнул сухие губы.
— Давай, Мурашов! Давай! — крикнул кто-то из задних рядов.
Дядя Семен точно ждал этих слов. Он выпрямился и подался весь вперед.
— Правильно здесь говорил товарищ комиссар! — выкрикнул он. — Правильно! Я вот про себя, конечно, скажу. Я двадцать девять годов на свете прожил. А как я их жил? Как?..
Дядя Семен заговорил быстро и горячо. Он торопился, ему не хватало слов, но он не смущался своей нескладной и взволнованной речью. Он видел, как серьезно и внимательно слушают его бойцы. Тишина была в огромном зале Арсенала, переполненном людьми.
Семен вспомнил голодное, безрадостное детство, когда после смерти отца больная мать послала его и двух сестренок просить милостыню. Зимой у них на троих была одна пара залатанных валенок. Восьми лет он нанялся в пастухи к богатому и прижимистому мужику Вишнякову, прозванному в деревне за жадность и скопидомство Сундуком. Немало доставалось Сеньке от хозяина оплеух и затрещин за проклятых гулён-коров, которые иной раз пропадали по два, а то и по три дня. Немало натерпелся он страха и от сундуковского быка — злого и бодучего Яшки, который так и норовил пырнуть его рогом.
До двадцати лет маялся Семен в батраках. Потом его забрали на «действительную». Три года выносил он тупую и жестокую муштру, и даже во сне ему чудился сердитый окрик фельдфебеля и звон офицерских шпор.
После «действительной» — Прохоровка. Грошовое жалованье с вычетами и штрафами, придирки старшего мастера, беспросветная фабричная жизнь, где единственным развлечением у рабочей молодежи по воскресеньям были игра в «три листика» и в «козла» да выпивка в складчину.
Потом война. Рижский фронт. Сырые окопы, голод, тиф, вши. В штабе солдат презрительно называли «серой скотинкой». Со всех концов России пригоняли их тысячами на фронт в вагонах с надписью: «40 человек 8 лошадей». И здесь гибли они — рабочие и крестьянские сыны. Умирали от германских пуль, умирали от удушливых газов, умирали от сыпного и брюшного тифа. Умирали за господское добро, за сытое и бездельное житье генералов и помещиков.
— Теперь у нас воля, родная власть! Наша, рабоче-крестьянская! Не всем только привелось дожить до такой большой радости. — Голос у дяди Семена неожиданно дрогнул.
«Это он о Кате», — подумала Клаша.
— Много наших товарищей погибло от юнкерских и офицерских пуль. Да. Много убито наших дорогих товарищей… Слава им и вечная память.
Дядя Семен замолк, и, словно в ответ на его слова, все, кто был в Арсенале, запели нестройными голосами не знакомую Клаше песню. Пели все — красногвардейцы и солдаты, пели матросы из Питера, пел Миронин, пел дядя Семея и седой комиссар:
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
Пели усталые, грязные, но счастливые люди. Песня лилась и ширилась, и Клаше казалось, что эту песню, торжественную, как клятва, жадно слушает старый Кремль и вечерняя притихшая земля.
Об авторе книги — Антонине Голубевой
Не часто бывает, чтобы только что вышедшая книга сразу полюбилась читателям, стала передаваться из рук в руки, переиздавалась, быстро исчезала с прилавков книжных магазинов. Но так именно случилось с вышедшей в 1936 году книгой Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума».
В течение первых же лет своей книжной жизни «Мальчик из Уржума» выходил одним изданием за другим, книга была переведена на языки братских народов нашей страны, она была издана в Чехословакии, Польше, Болгарии, Румынии, Югославии…
Это могло показаться удивительным: в этой повести не было никаких приключений, которые так любят молодые читатели; в ней рассказывалось о детстве и юности известного большевика, видного деятеля партии Сергея Мироновича Кирова. Да и фамилия автора никому не была известна — это была ее первая книга…
Почти четыре десятка лет прошло со дня выхода первой книги Антонины Голубевой; после этого она написала еще не одну книгу, и стоит подумать о том, что делает ее произведения привлекательными для читателей, а первую и главную ее книгу — такой живучей, не перестающей вызывать интерес у нескольких поколений детских читателей.
Для этого следует, прежде всего, заглянуть в прошлое писательницы. История ее жизни — история жизни человека, ищущего деятельность, которая была бы не только профессией, но и призванием.
А профессий Антонина Голубева переменила множество. Она была и продавщицей в магазине игрушек, и экскурсоводом, и драматической актрисой. Везде ей было интересно, но всегда ей казалось, что эта работа — не самая главная для нее, что ее ждет что-то другое… Что же?
О литературной работе она тогда не думала, хотя книги она /побила страстно и все свое свободное время непрерывно читала, стараясь приобщиться к тому великому, что оставили людям русские и иностранные писатели. Но вскоре Антонина Голубева поймала себя на том, что ей нравится не только читать, но и самой сочинять… В магазин, где она продавала игрушки, мамы любили приводить своих детей. Продавщица, помогая выбрать интересную игрушку, рассказывала о них детям сказки. Они были поинтереснее кукол и зверьков, которых она продавала…
А работая актрисой на Севере, Антонина Голубева начала записывать в деревнях сказки, ходившие среди поморов, и обрабатывать эти сказки так, что они становились уже настоящими литературными произведениями.
И постепенно все яснее становилось молодой актрисе, что не театр, а литература является ее настоящим призванием. Без колебаний она бросила театральную работу и поступила учиться в Ленинградский литературный рабочий университет — так назывались в те годы литературные курсы, куда шли учиться литературно одаренные люди, работавшие на фабриках, заводах, в учреждениях. В 1934 году Антонина Голубева окончила Литературный рабочий университет, а драматическое событие в жизни нашей партии и всей страны подсказало ей тему первой книги.
1 декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, был злодейски убит руководитель Ленинградской партийной организации Сергей Миронович Киров. Это был один из виднейших и популярнейших деятелей партии.
Прекрасный оратор, простой и добрый человек, он был известен далеко за пределами Ленинграда, и его смерть потрясла всю страну.
Но начинающей писательнице хотелось написать не о человеке, который был членом Политбюро, выдающимся деятелем гражданской войны, а о бедном мальчике, который еще не носил тогда фамилию Киров, приобретенную позднее в партийном подполье, а просто был Сережей Костриковым и жил в сиротском приюте в своем родном Уржуме — маленьком городишке, затерянном в бескрайних и мрачных вятских лесах. Да, ей был бесконечно интересен этот мальчишка, вышедший из самых низов, видевший в своем детстве самое горькое, унизительное, что может выпасть на долю человека. Путь этого мальчишки из сиротского приюта в журналистику, литературу, а затем в революцию был ей близок и понятен.
Антонина Георгиевна Голубева родилась в Москве, в январе 1899 года, в семье рабочего. И это обстоятельство имело для писательницы немаловажное значение. На всю жизнь сохранился у нее интерес к жизни московских рабочих, к жизни городской бедноты. Вторая ее книга — «Белоснежка», написанная в соавторстве с Диной Бродской, — была посвящена рабочим московской Трехгорной мануфактуры, знаменитому революционному оплоту у Пресненской заставы. Очень характерной для Антонины Голубевой книгой является и небольшая повесть «Клаша Сапожкова», вышедшая в 1939 году. Когда ее читаешь, то понимаешь, что автор пишет только о том, что он превосходно, во всех мелочах, знает. В этом рассказе об Октябрьских боях 1917 года в Москве точен не только каждый исторический факт, абсолютно точна география, раскрыт характер каждой улицы, каждого дома. Старая Пресня описана так, как будто автор всю жизнь прожил там, бродил по кривым и горбатым переулкам этой рабочей окраины, жил в рабочих казармах Прохоровской фабрики, где в длинных и сырых каменных коридорах не выводятся застарелые запахи махорки, немытого белья и кислой капусты…
Все это не было придумано, «сочинено» Антониной Голубевой.
Прежде чем написать свою повесть о московских рабочих, поднявших восстание за власть Советов, писательница сидела в архивах, изучала все материалы, а главное — разыскивала людей, которые были участниками Октябрьских боев и подолгу их расспрашивала о всех подробностях жизни и событий двадцатилетней давности.
Иначе она не умела работать. И точно так же она работала над своей самой первой и самой известной книгой «Мальчик из Уржума». Антонина Голубева поехала в далекий городок, который в то время еще мало изменился с тех пор, когда в нем родился Сергей Костриков, и там беседовала с людьми, которые когда-либо знали будущего героя ее книги, были знакомы с его родными и друзьями. А когда Антонина Голубева решила написать уже не про Сережу Кострикова, а про Сергея Кирова, она поехала в Томск, где Сергей Костриков учился на общеобразовательных курсах, стал большевиком, испытал первый арест, подполье. И жизнь томских рабочих, томских студентов она описала с такой же тщательностью, такой же точностью, с какой писала об Уржуме, о пресненских рабочих.
Конечно, у такого автора работа над книгой занимала очень много времени. Но зато, читая эти книги, переносишься в старое, давно минувшее время, видишь его так отчетливо и ясно, как будто рассматриваешь фотографию. И нам становится понятным, почему так беззаветно шли на бой рабочие, почему молодые талантливые люди отказывались от карьеры, богатства и уходили в революцию, где их ждала бедность, тюрьма, ссылка. Наш глубокий и искренний интерес к людям с большой и чистой совестью, живших и умиравших за других — обездоленных и бесправных, — никогда не иссякнет.
И это обеспечивает книгам Антонины Голубевой долгую жизнь.
Лев Разгон
INFO
Для среднего возраста
Антонина Георгиевна Голубева
МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА
КЛАША САПОЖКОВА
Повести
Ответственные редакторы
Т. П. Николаевой И. В. Омельк
Художественный редактор
В. А. Горячева
Технический редактор
Р. Б. Сиголаева
Корректоры
Л. И. Дмитрюк и В. Е. Калинина
Сдано в набор 11/IX 1973 г. Подписано к печати 4/II 1974 г. Формат 84x108 1/32. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 16,8. Уч. изд. л. 14,79. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 1324. Цепа 64 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сущевский вал, 49.
Голубева А. Г.
Г62 Мальчик из Уржума. Клаша Сапожкова. Повести. Рис. Г. Фитингофа, В. Петровой. Оформ. Г. Ордынского. М., «Дет. лит.», 1974.
319 с. с ил. (Историко-революционная б-ка).
…………………..
FB2 — mefysto, 2022
Оглавление
МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА
Повесть о детстве и юности
С. М. КИРОВА
Рисунки В. Петровой
Глава I
ДОМИК НА ПОЛСТОВАЛОВСКОЙ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Глава II
КУЗЬМОВНА
Глава III
СЕРЕЖИНА БАБУШКА
Глава IV
СИРОТЫ
Глава V
НУЖДА
Глава VI
В ПРИЮТ
Глава VII
«ДОМ ПРИЗРЕНИЯ»
Глава VIII
ВОСПИТАННИКИ
Глава IX
ПРИЮТСКОЕ ЖИТЬЕ
Глава X
ДОМОЙ
Глава XI
В ШКОЛУ
Глава XII
ПРИЮТСКИЕ И ГОРОДСКИЕ
Глава XIII
УГУ
Глава XIV
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
Глава XV
САНЯ-РЕАЛИСТ
Глава XVI
ВТОРОКЛАССНИК
Глава XVII
СПЕКТАКЛЬ
Глава XVIII
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК?
Глава XIX
УРЖУМСКОЕ НАЧАЛЬСТВО
Глава XX
«БЛАГОДЕТЕЛИ»
Глава XXI
В КАЗАНИ
Глава XXII
УГЛОВОЙ ЖИЛЕЦ
Глава XXIII
НОВЫЕ МЕСТА, НОВЫЕ ЛЮДИ
Глава XXIV
СОЕДИНЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
Глава XXV
ЗНАКОМСТВО СО СТУДЕНТОМ
Глава XXVI
КАТОРЖНЫЕ
Глава XXVII
СЛУЧАЙ С ДВИГАТЕЛЕМ
Глава XXVIII
«БЛАГОДЕТЕЛИ» ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Глава XXIX
ЖИЗНЬ ВТРОЕМ
Глава XXX
ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ
Глава XXXI
КРАМОЛЬНИКИ
Глава XXXII
ДОМИК ПОД ГОРОЙ
Глава XXXIII
ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Глава XXXIV
«ИСКРА» НА УРЖУМКЕ
Глава XXXV
ТАЙНАЯ ТИПОГРАФИЯ
Глава XXXVI
КОГДА ГОРОД СПАЛ
Глава XXXVII
ПОСЛЕДНИЙ ГОД В КАЗАНИ
Глава XXXVIII
ШКОЛЬНЫЙ БУНТ
Глава XXXIX
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ КАЗАНИ
Глава XL
СЕРГЕЙ УЕЗЖАЕТ
КЛАША САПОЖКОВА
Повесть
Рисунки Г. Фитингофа
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Об авторе книги — Антонине Голубевой
INFO