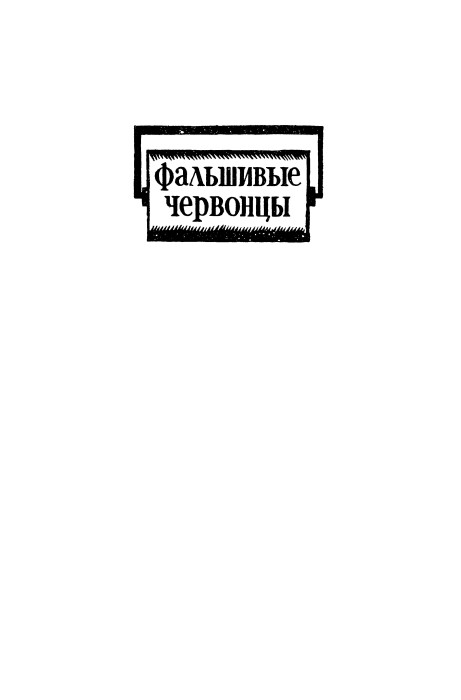А. Сапаров
Фальшивые червонцы
Две повести из хроники чекистских будней

ОПАСНЫЕ КОМЕДИАНТЫ



Убийство на Фонтанке
Мышиная возня «бывших людей». — Новая встреча с прокурором Измайловым. — Мадам Горюхина принимает визитера. — Розыски Глафиры Нечаевой и ее рассказ. — За что убили Иннокентия Замятина?
Уголовная хроника середины двадцатых годов была насыщенной и чрезвычайно пестрой. Заурядные квартирные шалости тихих домушников соседствовали в ней с дерзкими налетами вооруженных бандитских шаек, а скандальные разоблачения финансовых афер нэпачей — с поимками растратчиков, дорвавшихся до казенных денег, чтобы спустить их в рулетку в прокуренных залах игорного клуба «Трокадеро» на Петроградской стороне.
Каждое утро, ровно к восьми ноль-ноль, вся эта беспокойная, кричащая информация, подобно мутной пене большого города, скапливалась на столе дежурного по Ленинградскому угрозыску. В милицейском обиходе с легкой руки какого-то остроумца именовалась она «букетом моей бабушки».
В дежурные назначали опытных и достаточно искушенных оперативников, умеющих быстро разобраться в каждом цветочке этого зловонного «букета». К девяти часам, когда начиналось утреннее совещание у начальника угрозыска, надо было выделить наиболее сложные и трудоемкие происшествия, связаться с мобильными опергруппами, действующими в разных концах Ленинграда, отдать все необходимые распоряжения.
Происшествие в Летнем саду, где извлекли из Фонтанки утопленника, скорей всего не привлекло бы внимания дежурного. Ничего в нем вроде бы загадочного: похоже на тривиальное бытовое самоубийство, ежели судить по обнаруженной предсмертной записке, не исключается, впрочем, и убийство. Решающее слово в такого рода случаях за судебно-медицинской экспертизой, ей и все карты в руки.
Загвоздка была в другом, и загвоздка до крайности странная, наводящая на размышления. Среди документов погибшего мужчины обнаружили свидетельство об окончании Императорского Александровского Лицея — новехонькое, на гербовой бумаге, с соответствующими подписями и печатью.
Распорядившись, чтобы скорей были собраны сведения, характеризующие личность утопленника, дежурный попросил телефонистку связать его с Александром Ивановичем Ланге, давним своим товарищем по службе в Петроградской Чека.
Александр Иванович, как и предполагал дежурный, заинтересовался происшествием в Летнем саду. Внимательно выслушал, велел переправить на Гороховую все документы, обнаруженные на трупе, а затем, помедлив с минуту, раздумал и сказал дежурному, что нет смысла прибегать к никчемной канцелярской волоките. Через полчаса, сказал Ланге, он сам заявится в угрозыск и попутно получит удовольствие от лицезрения старого своего приятеля.
— Вот и хорошо, дорогой Александр Иванович, жду тебя с нетерпением, — обрадовался дежурный, чувствуя, что попал в самую «жилу».
Так оно и было в действительности. Неожиданное сообщение об утонувшем в Фонтанке обладателе лицейского диплома открыло перед чекистами Ленинграда новое направление поиска.
Причины к тому накопились весьма основательные.
С весны 1924 года на Гороховой, 2, в полномочном представительстве ОГПУ, начали получать сигналы, свидетельствующие об активизации в городе всяческих недобитков и осколков сановно-сиятельной Российской империи. А осколков этих, надобно заметить, в те времена насчитывалось еще порядочно, хотя после октябрьской очистительной бури минуло без малого семь лет.
Иной скептик, тем более недостаточно осведомленный об остроте и жесткости классовой борьбы в двадцатых годах, возможно расценил бы активность «бывших людей» как безобидное чудачество, от которого, дескать, ни жарко ни холодно, поскольку смахивает оно на веселый водевиль из репертуара театра «Кривое зеркало».
Сойдутся, предположим, в пивном заведении возле Витебского вокзала десятка полтора желтых кирасиров, служивших когда-то в полку императрицы Марии Феодоровны. Сойдутся вроде бы нечаянно, в силу случайного стечения обстоятельств. Посидят за кружкой «Красной Баварии», повспоминают былое, повздыхают.
Никакие они теперь не кирасиры, не капитаны и не ротмистры в сверкающих золотым шитьем мундирах, а всего-навсего мелкие конторщики, ломовые гужбаны, ночные сторожа, либо горемыки безработные, существующие жалкими поденными заработками.
Между тем «случайное» их сборище в пивном заведении приурочено к какой-нибудь памятной дате, давным-давно преданной забвенью всеми нормальными людьми. Например, к тезоименитству той же вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, в бозе почившей на далекой чужбине, или в память пятнадцатилетия высочайшего смотра, устроенного кирасирскому полку в Красном Селе самим государем-императором.
И разговоры на нем отнюдь не безобидные, особенно под конец, когда окажет действие шестая кружка «Красной Баварии».
На Гороховой информация об этих конспиративных собраниях сортировалась по отдельным папкам с названиями, коротко сообщавшими сословные признаки их устроителей. Исчезнувшее из разговорного обихода слово «правоведы» обозначало бывших воспитанников Императорского училища правоведения, в стенах коего готовились ученые знатоки Свода законов Российской империи, а под несколько легкомысленным словечком «пажи» надлежало иметь в виду родовитых придворных особ, состоявших в свите царя или царицы.
Веселым водевилем тут и не пахло.
Напротив, если вдуматься как следует, если присмотреться повнимательней, вся эта закулисная возня «бывших людей» была как бы отражением неслыханного ажиотажа среди белой эмиграции, возникшего вскоре после смерти Ленина.
Умер испытанный вождь победоносной пролетарской революции, и воскресли заново сладкие мечты о возвращении в родовые поместья, на фабрики и заводы, отобранные народом у класса эксплуататоров. Сверх меры было опять прогнозов и всяческих пророчеств, с суетливой поспешностью составлялись новые планы ликвидации Советской власти.
Рабочие и крестьяне Страны Советов смыкали свои ряды, стараясь восполнить тяжелую утрату массовым ленинским призывом в большевистскую партию. Тем временем в Париже и в Софии, в Гельсингфорсе и в Праге шло буйное ликование.
Витийствовали с трибун лидеры обанкротившихся партий и правительств, состязались в красноречии. За закрытыми дверями денно и нощно совещался битый Красной Армией генералитет. «Близится девятый вал и счистит с русской земли комиссарскую нечисть», — предсказывали белогвардейские газеты.
Впрочем, эмигранты не ограничивали себя лишь упражнениями в составлении лихих прожектерских планов. Резко усилилась их шпионская и диверсионно-подрывная работа против СССР, участились антисоветские провокации, выстрелы из-за угла, переходы границы вооруженными бандами.
Короче говоря, за воспрянувшей духом белой гвардией нужен был глаз да глаз. С этой точки зрения подозрительные сборища «бывших людей», как ни потешны они, также требовали присмотра.
Учитывали, конечно, чекисты и весьма занятную возню на лицейском подворье Ленинграда. Не молодую, не звонкоголосую возню юных лицеистов времен Пушкина, а, скорей, зловещее змеиное шипенье, явно не имеющее ничего схожего с вольнолюбивыми лицейскими традициями. Шипенье антисоветское, раздраженное, старческое.
На Гороховой было известно, что у жительствующих в городе питомцев бывшего Императорского Лицея существует своя подпольная «касса взаимопомощи» с выборным правлением, что в дни лицейских праздников собираются они на домашние обеды по подписке, отстояв предварительно молебен в церкви Козьмы и Демьяна.
Удивительны были эти богослужения лицеистов двадцатых годов XX века. Ни Пушкина, ни Кюхельбекера добрым словом на них не поминали, хотя должны бы, казалось, с гордостью произносить славные их имена, украсившие лицейскую историю.
Поминали всякий раз махровых реакционеров и мракобесов, отличавшихся собачьим усердием на верноподданнической государевой службе, а специально заказанный молебен в день святого Николая Мирликийского, изрядно встревожив прихожан церкви лукавыми поповскими иносказаниями, осмелились посвятить «невинно умерщвленному» самодержцу всероссийскому Николаю II.
Осведомлены были чекисты, что на одном из домашних обедов, хватив горячительного, бывшие воспитанники Лицея с великим воодушевлением скандировали чьи-то стишки, сочиненные в подражание известному пушкинскому шедевру. Стишки были убогие, пакостные, с недвусмысленными антисоветскими намеками:
Сомкнется вновь наш тесный круг друзей,
Польются вновь родного гимна звуки...
Словом, поднабрался со временем целый ворох тревожных фактов и наблюдений. Надо было принимать какие-то меры.
Очень бы, конечно, эффективно малость вразумить не в меру ретивых любителей конспиративных штучек. Вызвать повесткой на Гороховую, вежливо и твердо потребовать объяснений.
Что это, дескать, за «касса взаимопомощи» создана вами в обход советских законов и кому она оказывает вспомоществование, если на балансе ее всего 23 рубля и 89 копеек? Растолкуйте также, сделайте милость, какой гимн изволите называть родным: быть может, «Боже, царя храни»? И вообще, милостивые государи, пора бы уж в условиях пролетарской диктатуры вести себя несколько скромней. Мы имеем возможность и достаточные основания любому из вас предъявить серьезный счет, но, как видите, не предъявляем, воздерживаемся. Следовательно, и вам нет резона нарываться на излишние осложнения. А стишки, кстати сказать, декламировались у вас скверные, явно графоманские. Просвещенной публике как-то не к лицу восхищаться столь дурным сочинительством...
Дала бы нужный эффект душеспасительная беседа, наверняка поубавила бы резвости. Но прежде чем отсылать повестки с приглашениями на Гороховую, следовало запастись уверенностью, что за всеми этими чудачествами не сокрыто нечто более существенное. Иначе только поможешь врагу, предупредишь об опасности.
Уверенности такой у Александра Ивановича не было, да и быть не могло. Напротив, чекистский опыт подсказывал, что на поверхности чаще всего бывают видны одни мелочишки, что изучать все надобно с должной основательностью и тогда, чем черт не шутит, может открыться истинная суть безобидных с виду явлений.
Вдобавок к тому в распоряжении Александра Ивановича имелись и кое-какие сведения из-за рубежа, невольно заставляющие призадуматься. Знал он, к примеру, что в Париже, на весьма конфиденциальном совещании руководящих деятелей белой эмиграции, довольно загадочное заявление сделано Владимиром Николаевичем Коковцевым. По словам бывшего царского премьер-министра, получалось, что наиболее весомую и хорошо организованную силу антисоветского подполья в Советском Союзе представляют лицейские его друзья и однокашники.
Иначе говоря, как ни расценивай все эти разрозненные и противоречивые факты, требовалась солидная проверка. По своему обыкновению, Александр Иванович начал ее с литературных источников. Высвободил вечерок от срочной работы, проконсультировался с многоопытными библиографами Публички и, выписав на свой абонемент груду тяжелых фолиантов, засел за ознакомление с историей лицейского образования в России.
Отобранные им книги были в дорогих кожаных переплетах, на великолепной веленевой бумаге, с иллюстрациями известных графиков. Сама их внешность заранее должна была внушать почтительное отношение к Императорскому Лицею и к благородным его воспитанникам, составлявшим государственную элиту.
С царскосельским периодом, как ни желательно было почитать о школьных годах великого поэта, Александр Иванович знакомиться не стал. Не хватало для этого времени, надо было торопиться, экономить каждый час. К тому же и перемены в жизни Лицея начинались лет тридцать спустя, примерно с середины девятнадцатого столетия, когда из зеленых кущ Царского Села перевели его в Санкт-Петербург, в специально выстроенное казенное здание на Каменноостровском проспекте.
Новый высочайше утвержденный лицейский устав круто обрывал коротенькую эпоху вольнолюбия и свободомыслия, не оставляя сомнений в истинном назначении этого аристократического учебного заведения. Отныне в задачу Императорского Лицея входило «воспитание благородного юношества для гражданской службы по всем частям, требующим высшего образования, преимущественно же для служения по Министерству внутренних дел».
Отпечатанные на плотной гербовой бумаге ежегодные списки выпускников Лицея наглядно подтверждали, что устав соблюдается с достаточным усердием и рвением. Бесчисленные Голицыны, Шереметевы, Путиловы, Гагарины, Белосельские перемежались в них только немецкими фамилиями, да и то с непременным баронским «фон». Для простонародья доступ в благородное юношество был закрыт наглухо.
Отыскались в списках и знакомые лица.
Прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты Измайлов, тот самый, что требовал каторжных работ для Александра Ивановича Ланге, тоже, оказывается, происходил из лицейской братии. Выпуска 1889 года, Федор Федорович Измайлов, собственной, как говорится, персоной. С отличием кончил ученье, чертов дуболом, с похвальной грамотой.
В читальном зале библиотеки было тихо и не очень людно, как всегда в жаркие месяцы каникулярных отпусков.
За соседними столиками, перешептываясь и ловко перебрасываясь записочками, листали толстые тома трое юных рабфаковцев. Худые, изрядно отощавшие парни в дешевых рубахах из грубого полотна, называемых толстовками. Разгружали небось с утра вагоны в торговом порту, зарабатывали хлеб насущный, а теперь будут до закрытия читального зала корпеть над книгами. Двужильный, неунывающий народ эти рабфаковцы, бесстрашно атакующие твердыни науки. Посмотришь на них, и невольно придут на память молодые годы.
Коротенький судебный фарс при участии прокурора Измайлова открыл тогда шлагбаум к длительным заокеанским одиссеям Александра Ланге, имевшего партийную кличку Печатник. Точнее, не с суда начались они, эти одиссеи, прежде надо было отсидеть три года в одиночке, а выйдя на волю, чувствительно столкнуться с полицейским всевластием. Суд был первым толчком.
Прокурор запросил для него восемь лет каторги. Помимо того, еще и поражение в правах, а также последующую высылку под надзор полиции. С настырной старательностью обращал внимание господ присяжных заседателей на то обстоятельство, что числился Ланге в подпольной типографии не просто наборщиком, работающим ради куска хлеба, но и активно распространял нелегальные противоправительственные издания. Главное же, и это прокурор оценивал, как бесспорное доказательство злонамеренных деяний обвиняемого, пытался сотрудничать в марксистской газетке, публикуя свои корреспонденции под рубрикой «Письма с заводов».
Почтительное возражение адвоката, заметившего, что корреспонденции эти писаны не больно умелой рукой, вывело прокурора из равновесия. «Все они неумелые, господин адвокат! — закричал он в ярости, мгновенно утратив благовоспитанную респектабельность манер. — Котят топят, пока они слепые!»
А стукнуло Печатнику в ту пору ровно двадцать годков, и был он, наверно, чем-то схож с этими вот лохматыми рабфаковцами. Была тогда весна, ранняя и необычайно дружная, горячо припекало солнышко. Если подтянуться на руках и осторожно выглянуть в зарешеченное окно камеры, видно было, как буйно цветет на каменном тюремном дворе одинокая старая черемуха.
Выпустили его из «Крестов» раньше положенного срока. Согласно великодушной амнистии монарха, но с запретом на проживание в Санкт-Петербурге, Москве и еще четырнадцати губернских городах империи, старательно перечисленных в царском указе.
Месяца три ему удалось продержаться в «нелегалах» и даже выполнить несколько поручений комитета. С грехом пополам удалось, с огромным риском. Затем товарищи снабдили его липовым паспортом, раздобыли деньжонок на билет третьего класса, пожелали счастливого возвращения. Другого выхода в создавшихся условиях не было, только эмиграция.
Но прокурор Измайлов исключения из правила не составлял. Разве что был пооткровенней своих коллег, цинично ляпнув вслух изобретенную им формулу уничтожения инакомыслящих.
Придерживались ее и в Америке, где любят хвалиться демократией и всяческими свободами для граждан. На английском языке эта формула звучала мягче, не столь прямолинейно, как у господина Измайлова, хотя существо оставалось неизменным.
Власти штата Висконсин выпроводили Печатника со своей территории, объявив нежелательным иностранцем. Схватили на улице, умело защелкнули на запястьях стальные браслеты и в черной полицейской карете довезли до границы штата. На прощание пригрозили тюрьмой, если опять попадется в их лапы.
В Чикаго он шесть долгих недель отмытарился в каталажке для уголовников. На хлебе и воде, вместе с бандитами и мошенниками. Ни обвинения никакого, ни допросов: на местных скотобойнях шла забастовка, и все подозрительные элементы обязаны были дожидаться ее окончания на казенных харчах.
Ну, а знаменитый калифорнийский поход безработных 1914 года, в котором возглавлял он смешанную русско-мексиканскую колонну, закончился кровавой полицейской расправой над безоружными людьми. Залпами по ним стреляли, точь-в-точь как на Дворцовой площади в 1905 году, патронов было велено не жалеть.
Да, подражателей и ревностных последователей у прокурора Измайлова хватало и за океаном. В держимордах нигде не ощущается недостатка.
На Гороховой Александр Иванович Ланге считался искусным контрразведчиком, умеющим разобраться в самых запутанных и сложных ситуациях. Молодые сотрудники КРО, едва осваивающие азы чекистской службы, смотрели на всегда спокойного и невозмутимого Печатника с искренним восхищением, как смотрят обычно на ветеранов, чьи подвиги кажутся молодежи легендарными. Старый партиец, подпольщик с дореволюционным стажем, награжден орденом Красного Знамени и Значком почетного чекиста, принимал участие в разгроме опаснейшей агентуры Бориса Савинкова. Попробуй-ка сравняться с Печатником!
Мало кто знал на Гороховой, а начинающие товарищи и тем более, какой дорогой ценой расплачивается Александр Иванович за удивительные свои открытия.
Одна лишь Марья Ивановна, верный спутник жизни, могла бы при желании порассказать и о злейшей бессоннице, и о тягостных приступах головных болей, одолевающих ее мужа, да вряд ли захочет она искать сочувствия на стороне.
Марья Ивановна сама работала в контрразведке и давно успела понять, что без тяжелого, самоотверженного труда ничего здесь добиться нельзя. Поднимется среди ночи, увидит, что опять лежит бледнущий, без кровиночки на лице, с широко раскрытыми страдальческими глазами, вздохнет украдкой и молча отправится на кухню смачивать полотенце холодной водой.
Расследование нелегальной деятельности бывших лицеистов досталось Печатнику как раз в пору очередного недомогания. На службу он являлся вялый, невыспавшийся, с тяжелой, будто похмельной головой. Знакомый доктор из медчасти, давний его партнер по шахматишкам, настоятельно советовал просить у начальства внеочередной отпуск, обещая организовать недельку-другую безмятежной райской жизни на сестрорецком курорте.
Соблазнительно было подремонтироваться, отдохнуть чуток, набраться силенок, побродив в одиночестве по берегу залива. Все же пришлось отказаться, сказав спасибо доктору за товарищескую заботу. Не умел он отдыхать, когда есть в нем нужда.
Тайная канитель лицеистов настораживала Александра Ивановича многими своими компонентами. И составом господ, усердно посещающих конспиративные сборища, где что ни фигура, то ярый ненавистник всего советского, и странным заявлением бывшего царского премьера, который числится в активных членах Высшего монархического совета и болтать зря не должен.
Плохо было другое.
Не хватало во всем этом конкретности, уцепившись за которую начинаешь разматывать клубок, докапываясь до сердцевины. Как-никак солидные перед тобой противники, в недавнем прошлом заметные государственные мужи, ворочавшие департаментами и министерствами. Должно у них быть нечто сугубо затаенное, ревниво оберегаемое от посторонних. Но что же именно, кроме фиктивной «кассы взаимопомощи»?
Происшествие в Летнем саду добавило Печатнику новых беспокойств. Он нисколько не удивился, ознакомившись с актом судебно-медицинской экспертизы, который утверждал, что извлеченный из Фонтанки утопленник убит ударом в затылок. Удивило бы его, если бы мужчина этот ни с того ни с сего вздумал кончить самоубийством, бросившись в реку, да еще захватив с собой свидетельство.
Погибшего звали Иннокентием Иннокентьевичем Замятиным. Ему было тридцать три года от роду, проживал он на Лахтинской улице в густонаселенной коммунальной квартире, а работал разъездным экспедитором треста хлебопекарной промышленности.
Ни жены, ни отца с матерью, ни каких-либо родственников и близких друзей Замятин не имел. Жил одиноким холостяком, славился своей нелюдимостью и редкой в его возрасте склонностью к молчанию.
Соседям по квартире и сослуживцам, пытавшимся как-то сблизиться с ним, Замятин неохотно сообщал, что страдает с детских лет эпилептическими припадками и потому, дескать, лучше всего оставить его в покое.
Трижды за последние месяцы брал, как выяснилось, недельные отпуска без сохранения содержания. Мотивировка выглядела вполне уважительно — надо повторять лечебный курс в какой-то частной клинике для нервнобольных.
Был всегда трезв. Изредка, не чаще двух раз в месяц, наведывался в игорные клубы. Увлекался преимущественно рулеткой, испытывал собственную систему игры, упорно воздерживаясь от повышения ставок. Выигрывал обычно незначительные суммы и сразу уходил. Крупье игроков такого свойства недолюбливают, называя про себя занудами.
Правда, в последний раз, в синем зале Владимирского клуба, Замятину крупно везло и он ошеломил всех присутствующих уверенной, безошибочной игрой. Лихачом с выигрыша не воспользовался, ушел к себе на Петроградскую сторону пешком. На прощание сказал, что намерен вскоре испытать счастье еще разок, после чего с рулеткой будет покончено навсегда. До смерти ему оставалось два дня.
Примерно так выглядели материалы, с похвальной расторопностью собранные работниками угрозыска. Увы, в них не было ни малейшего намека на объяснение причин загадочного убийства.
Кому встал поперек дороги тихий экспедитор? Для чего нужно было сбрасывать его труп в Фонтанку, довольно неуклюже инсценируя ограбление и самоубийство? Вопросы эти, как и многие другие, оставались без ответа.
Материалы угрозыска имели вдобавок грубые изъяны. Без особых затруднений, просто телефонным звонком в архив, Печатник установил, что никакой склонности к эпилепсии у погибшего не наблюдалось. По крайней мере, в годы лицейского обучения, о чем убедительно говорил доставленный на Гороховую личный формуляр.
Как и прочие воспитанники привилегированного учебного заведения, Иннокентий Замятин был отменно здоров, регулярно проходил медицинские освидетельствования, а летом 1913 года, в канун выпуска, отличился в состязаниях столичных легкоатлетов и сумел завоевать приз, врученный ему, как сообщалось в формуляре, собственноручно самой государыней императрицей.
Открытие это вносило существенную поправку в облик убитого. Нетрудно было догадаться, что и лечебные отпуска, и выдумка насчет эпилепсии понадобились для каких-то особых целей, которые он держал в секрете.
Возникла острейшая нужда в дополнительной информации, характеризующей Иннокентия Замятина.
Допросы обитателей коммунальной квартиры и сослуживцев экспедитора решительно не годились, — товарищи из угрозыска и без того успели наделать шума. Еще менее целесообразными были разговоры с его лицейскими однокурсниками, проживающими в Ленинграде. Сказать ничего не скажут, а концы обязательно спрячут.
Прикинув разные варианты решения этой задачи, Печатник надумал съездить на Лахтинскую улицу.
В светло-сером костюме с искрой и в остроносых модных туфлях, приобретенных с получки в комиссионном магазине, выглядел он довольно солидно. Не хуже, должно быть, чем выглядят самоуверенные дипломаты из открывшихся в городе иностранных консульств. Лицо строгое, внушительное, на висках благородная седина. И осанка веская, вызывающая уважение с первого взгляда.
Критически исследовав себя перед зеркалом, висевшим в передней, Александр Иванович остался удовлетворенным. Не последовало замечаний и от жены, а на вкус ее можно рассчитывать смело. Правда, Марья Ивановна не спросила даже, по какому случаю нарядился он в будний день: обнаруживать излишнее любопытство у них было не принято. Нарядился — стало быть, так нужно в интересах службы, расскажет при случае сам.
Маленькую угловую комнатку с окном во двор, предназначенную в былые времена для горничной, в коммунальной квартире на Лахтинской улице занимала мадам Горюхина, бывшая владелица этого пятиэтажного доходного дома. Муженек ее лет пять назад вздумал сигануть за границу, прихватив с собой все наличные капиталы и заодно молоденькую любовницу из кордебалета Мариинского театра. Мадам Горюхина с той поры коротала дни на вдовьем положении.
Чрезмерно любопытствующих фининспекторов и въедливую домовую общественность должен был ублажать имеющийся у мадам патент кустаря-одиночки, изготовляющего дамские корсеты без применения наемной рабочей силы. Патент был исправный, честь честью. Что же касаемо неофициальной и строго засекреченной стороны жизненных ее пристрастий, то знали про нее только клиенты мадам, выбираемые с должной осмотрительностью.
Мадам Горюхина давала нуждающимся людям деньги в рост. Разумеется, не просто так, а под надежный залог и с процентами, исчисляемыми не совсем по-божески.
Вот ее-то и выбрал Печатник после внимательного изучения списка жильцов огромной коммунальной квартиры. Процентщица, по его предположениям, могла кое-что рассказать о своем умершем соседе.
Визит был тщательно продуман.
Начал Александр Иванович с извинений за вынужденное вторжение в чужую обитель. Ни к кому другому в этой квартире, напоминающей Ноев ковчег, он обратиться не смеет, к одной лишь мадам Горюхиной, да и то доверительно, полностью рассчитывая на ее умение держать язык за зубами.
Себя Александр Иванович отрекомендовал кузеном Иннокентия Иннокентьевича, утратившим с ним связь в годы революции. В Ленинграде он проездом, всего на недельку, собирается подписать довольно выгодный контракт с большевиками. Постоянно жительствует в Ревеле, волею судеб обрел ныне эстонское гражданство. Мадам, вероятно, наслышана о приборах всемирно известной фирмы «Электро-Континенталь»? Контрольный пакет акций этой фирмы принадлежит ему с прошлого года, и он, естественно, заинтересован в завоевании новых рынков сбыта.
Изобразить неподдельное родственное огорчение, вызванное прочитанной в газете хроникерской заметкой о несчастном случае на Фонтанке, было не очень затруднительно. Натуральности ради несколько словечек пришлось ввернуть на английском языке, что произвело должный эффект.
Мадам Горюхина слушала своего нежданного гостя в той амплитуде быстро меняющихся состояний, какую способны вызвать в душе подпольной процентщицы небрежные упоминания контрольных пакетов акций и выгодных контрактов. С большим трудом удалось ей преодолеть и растерянность, и изумление, и свойственную профессии недоверчивость.
— Значит, вы... оттуда? Из Ревеля? — задыхаясь, переспросила мадам Горюхина. — Ах ты господи, а у меня-то, как на грех, не прибрано в комнате! Вы уж извините, пожалуйста, не осуждайте бедную женщину... Не угодно ли чайку? Я мигом вскипячу, примус у меня за ширмой... Вот к чаю, извините, ничегошеньки нету сегодня, всего лишь ванильные сухарики...
Гость поспешил отказаться и от чаю, и от ванильных сухариков, сказав, что совсем недавно завтракал у себя в гостинице. Ежели мадам не имеет ничего против, он покорнейше просит рассказать хоть что-нибудь о его несчастном кузене, столь трагически погибшем во время купания. Судьба, как говорят, индейка, и от несчастий никто не имеет гарантии, но утонуть в цветущем возрасте, это, согласитесь, жестоко и в наш жестокий век...
— Не утонул вовсе Иннокентий Иннокентьевич, — сказала вдруг процентщица. — Убили его, горемычного...
— То есть как — убили? В газете же написано, что он жертва несчастного случая на воде, я сам читал!
— Мало ли что пишут в газетах...
— Но позвольте, позвольте, за что же с ним могли расправиться? И кто именно? Неужто у бедного Иннокентия были враги? Или его ликвидировали в застенках Чека? Умоляю вас, сударыня, не скрывайте от меня правды, скажите все, что вам известно!
— Нечего мне скрывать, да и не знаю я ничего... Слышала разговор такой, женщины во дворе болтали, а в точности кто же вам объяснит... Может, сам утоп, царство ему небесное, может, и верно нашлись злые люди. Убить-то у нас способны за здорово живешь, чего только мы тут не нагляделись...
Сболтнув лишнее, мадам Горюхина поспешно отрабатывала задний ход. Гость ее оказался достаточно учтивым человеком и не настаивал на подробностях. Напротив, с охотой поддержал ее версию: действительно, жизнь человеческая стала дешевле пареной репы, обмазурился народ, утратил христову веру.
Расспросы свои гость вел, как и подобало иностранцу, в несколько наивной манере. Интересовался бытовыми условиями существования своего покойного родственника. Где служил Иннокентий, был ли доволен своей должностью, сколько получал жалованья. И вообще, каково ныне в красной России людям благородным, не рабоче-крестьянского происхождения. Верно ли толкуют у них в Ревеле, будто новая экономическая политика Советской власти означает постепенное возвращение к принципу частной собственности, не заблуждаются ли его ревельские друзья?
В ответ надо было выслушивать слезливые жалобы и стенания процентщицы. И не просто так, из вежливости, а с соболезнующим выражением на лице, ибо, назвавшись груздем, приходится лезть в кузов. Зато удалось разузнать кое-что довольно любопытное.
Выяснилось, к примеру, что в короткие свои загородные отлучки, объявленные на службе лечебными отпусками, Иннокентий Замятин уезжал в брезентовом долгополом дождевике и в болотных сапогах, добывая эту охотничью амуницию у какого-то приятеля. Мадам еще любила подшучивать над его страстишкой и всякий раз допытывалась, почему он возвращается с пустыми руками, без трофеев, а Иннокентий Иннокентьевич отвечал ей с виноватой улыбкой, что всегда был неудачником, что зайчишки и куропатки достаются другим, более сноровистым.
Друзей и близких родственников у Иннокентия Иннокентьевича не водилось. Захаживал, правда, к нему некий старичок, но изредка. По манерам смахивает на большого русского барина, а про себя говорил, что человек он мастеровой, с эксплуататорами чужого труда знаться не желает. Чудной такой старикан, маленько с придурью. Нет, ни имени, ни фамилии его мадам не знает.
Была еще у Иннокентия Иннокентьевича то ли жена, то ли сожительница, имевшая на него огромное влияние. Эту звали Глафирой. К себе ее не водил, встречались где-то в другом месте. Стеснялся, поди, лезть к добрым людям со своей пассией. С виду обыкновенная работница, ткачиха или белошвейка. Одним словом, из простонародья.
Как-то мадам очутилась на Выборгской стороне и случайно ее увидела. Шагает под ручку с Иннокентием Иннокентьевичем, видно дожидался ее у фабричных ворот. С мордочки гладенькая, лет двадцати, брюнеточка, а так — ничего особенного. Удивительно, чем смогла прельстить столь достойного молодого человека.
— Почему вы думаете, что особа эта имела влияние на Иннокентия? — спросил Александр Иванович ревнивым тоном уязвленного в лучших чувствах кузена. — Мало ли смолоду бывает любовных интрижек? Крутил романчик от скуки, вот и все...
— Извините, сударь мой, я точно вам говорю, — возразила процентщица. — Командовала им, как ей вздумается...
— Но вы же не были с ней знакомы!
— Зато с ним прожила три года по соседству. Сама все видела, знаю в точности. Ссора у них как-то вышла, недоразумение. Последние месяцы совсем не встречались, так он весь извелся, бедняжка. С лица потемнел, ни с кем говорить не может. Поверьте мне, ужасные были переживания. И все из-за этой твари, прости меня господи, все из-за нее, чертовки...
— А не кончил он на этой почве самоубийством?
— Ну что вы такое говорите, сударь мой! — всплеснула пухлыми ручками мадам Горюхина. — Другое я мыслю, совсем другое. Не убит ли за нее? Из ревности, а? У них, у фабричных, расправы бывают ужасные. Выследят где-нибудь — и ножичком в бок...
— Недурно бы разыскать эту особу. Поговорить с ней по душам, порасспрашивать. Вы адреса ее не знаете?
— Увы, сударь мой, не знаю.
— А на какой фабрике работает?
— И этого сказать не могу. Возле Гренадерского моста их повстречала, а фабрик там пруд пруди. Как раз смена кончилась, толпой валили работницы...
— Жаль, что не знаете...
— А на что вам искать-то ее? — удивилась процентщица. — Беспокойство себе причините, хлопоты лишние, неприятности. Глядишь, и беда может грянуть, на шантаж нарветесь. Опять же власти у нас строго присматривают за иностранцами, к любой ерунде могут придраться... Нет, не советую связываться, бог с ней...
Гость задумчиво кивал головой, как бы уступая перед неотразимостью доводов мадам Горюхиной. В самом деле, негоже ему, солидному коммерсанту, разыскивать какую-то сожительницу своего трагически погибшего кузена. Слишком велика честь для этой особы, слишком хлопотное занятие...
Визит следовало заканчивать. С тем же задумчивым видом и как-то даже небрежно гость попрощался, быстро ушел. Процентщица осталась в недоумении, стараясь догадаться, чем вызвана столь внезапная перемена.
Задача была сложной.
Трудно найти иголку в стоге сена, но еще, пожалуй, труднее разыскать в Ленинграде молодую женщину, о которой известно, что зовут ее Глафирой, что она брюнетка и, возможно, трудится на одной из фабрик Выборгской стороны, причем разыскать быстро. Любые проволочки в подобных случаях идут во вред следствию.
Не заезжая на службу, Александр Иванович вскочил в трамвай и отправился к Гренадерскому мосту. На Выборгской стороне ему не нужно было кого-либо расспрашивать. Знал он ее, эту рабочую цитадель большевизма, как собственные пять пальцев еще с той далекой поры, когда скрывался здесь от царских ищеек.
Ближе других к мосту расположена бумагопрядильная фабрика известного мануфактуриста Керстена, названная ныне «Октябрьской». Это, собственно, маленькая фабричонка, сооруженная еще в незапамятные времена. Низкие, будто вросшие в землю, корпуса с островерхими крышами, закопченные, подслеповатые окна, тяжелый, несмолкаемый гул сотен ткацких станков.
Обращаться к инспектору по кадрам вряд ли имело смысл. Покрутишь в руках списки, в лучшем случае выяснишь, сколько на фабрике работниц по имени Глафира. Неизвестно даже, брюнетки они или блондинки, — кадровикам внешность безразлична.
Начал Александр Иванович с розысков секретаря партийной ячейки. Минут десять они пошептались при закрытых дверях, после чего в ячейку было вызвано несколько партийцев фабричного управления, которым Александр Иванович объяснил задачу.
В обеденный перерыв по всем цехам «Октябрьской» было оглашено несколько непривычное объявление. Сводилось оно к тому, что каждую работницу, которая так или иначе знает гражданина Замятина, Иннокентия Иннокентьевича, просят незамедлительно явиться в фабком. Дело сие срочное, большой важности, просят поэтому использовать обеденный перерыв.
Риск, конечно, был. Окажись в логических умозаключениях Александра Ивановича ошибка — и не прояснить бы ему эту загадочную историю, не докопаться до причин убийства на Фонтанке. Вернее, и прояснил бы, и докопался бы, но гораздо позднее.
Однако от ошибок не могут уберечься и те сверхосторожные товарищи, которые ни разу в жизни не рискуют.
Глафира вбежала в тесную комнату фабкома стремительно, сразу внеся в нее ощущение тревоги. Увидела за столом председателя незнакомого мужчину в светло-сером костюме с искрой, остановилась в нерешительности, подумала и все же спросила напрямик, разом отметая условности ситуации:
— Это вы интересуетесь гражданином Замятиным?
— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Александр Иванович. — Присядьте вот здесь, не будем торопиться. Мне действительно надо знать о ваших взаимоотношениях с Иннокентием Иннокентьевичем Замятиным. Сразу хочу предупредить — не из праздного любопытства. Основания для этого веские...
— Его арестовали, да? Он в тюрьме?
— Обещаю вам ничего не скрывать, но прежде должен услышать ваш рассказ. Могу задавать вопросы, если желаете, быть может, так будет удобнее. Скажите прежде всего — чем была вызвана ваша ссора с Замятиным, из-за чего вы повздорили?
— Вам и это известно? Вы следователь, да?
Трудный получился у них разговор. Вдвойне трудный и мучительный, потому что нужно было вторгаться в душу симпатичного тебе человека, расспрашивать о сокровенном и глубоко личном, хотя расспрашивать об этом неловко и не хочется.
Окончился перерыв на обед, снова заработали сотни ткацких станков, сотрясая старую фабрику монотонным своим гулом, а они все сидели друг против друга в тесной комнатке фабкома, все разбирались в сложностях Глашиной любви.
История эта была примечательна накаленной атмосферой своих страстей и непримиримых классовых противоречий, свойственных духу времени. Что-то схожее с ней и вообразил Александр Иванович, заканчивая беседу с мадам Горюхиной. Не во всех, конечно, подробностях, — у каждой такой истории свой сюжет, своя движущая пружина развития, но в главном он не ошибся, вообразил все правильно.
Глафира Нечаева, ткачиха «Октябрьской» и дочь расстрелянного махновцами комиссара продотряда, нашла свою любовь в театре, на «Слуге двух господ». Так уж на роду ей было написано, не иначе. Сколько устраивалось на фабрике культпоходов по профсоюзной линии, всякий раз с подругами пойдет в театр, с подругами и обратно вернется. А тут все получилось шиворот-навыворот.
Кеша не сразу сказал правду о себе, а то бы ничего у них быть не могло. Говорил, что безумно любит, что дня не прожить ему без встречи, что никого нет у него на всем белом свете, кроме Глашеньки. Про дворянскую свою кровь молчал, надо и не надо хвалил всегда простой трудящийся люд, на хребте которого держится жизнь.
Весной они сговорились встретиться у Казанского собора. Собирались в «Ша нуар» или в «Метрополь». У Кеши был день рождения, и он втемяшил себе в голову, что непременно должен свести ее в первоклассный ресторан.
Явилась она на свидание раньше назначенного срока. Принаряженная, понятно, в лучшем своем платье. На Выборгской у них цветочниц не встретишь, а тут их полно. Ради праздника она решила преподнести имениннику маленький букетик фиалок.
И вдруг она увидела своего Кешу. Вернее, сперва услышала его голос у себя за спиной. Кеша стоял навытяжку перед каким-то пучеглазым немолодым дядькой и униженно оправдывался. Говорили они на иностранном языке, по-немецки или по-французски, разобрать она не сумела. Разговор шел какой-то нервный, и сердитый дядька этот чего-то от Кеши добивался.
Взамен праздника в первоклассном ресторане у них вышло бурное объяснение на улице. До полуночи ходили по набережной Невы у Литейного моста, и вот тогда, оправдываясь перед ней, Кеша сказал, кто он такой и почему скрыл свое происхождение. «Я всей душой стремлюсь к честной трудовой жизни, — уверял ее Кеша, — а они тянут меня назад. Но поверь, любимая, я с ними обязательно порву. Во имя нашего чувства, во имя очищения от всей этой грязи».
Кто тянет его назад, Кеша не стал объяснять. На ее вопросы отвечал как-то неопределенно. Мол, старые друзья, учился вместе с ними, многое их связывает друг с другом. Когда она сказала, что пучеглазый другом ему быть не может — слишком старый, Кеша ответил, что это бывший его благодетель.
Такое у них было объяснение на улице. Но порвать с прошлым Кеша не смог, — не хватило характера. Через месяц после того случая они и совсем рассорились. Просто она выгнала его и велела больше к ней не ходить, с досады обозвала кисейной барышней.
Кеша ездил тогда в какую-то служебную командировку. Уезжая, сказал, что на неделю, не больше, и ровно через пять дней вернулся. Что-то в нем надломилось в той поездке, приехал на себя непохожий. Вздыхает беспричинно, зубами скрипит, бормочет какие-то жалкие слова о людской злобе. Она его начала расспрашивать, допытывалась, в чем тут дело, и в конце концов выгнала вон. Напоследок сказала, что мужчине полагается быть мужчиной и попусту нюни не разводить. Решил рвать с прошлым — рви крепко, без слюнтяйства.
— А куда он ездил в командировку?
— Этого я не знаю. О служебных своих занятиях он никогда не рассказывал...
— В конце мая была командировка?
— Правильно, в конце мая, как раз белые ночи начались. Значит, вам и без меня все известно? Для чего же спрашиваете? Он арестован, да? Скажите мне правду!
Вот и подоспел срок объявить этой милой девушке жестокую правду. Хочешь не хочешь, а отмалчиваться больше нельзя, надо говорить.
— Иннокентий Иннокентьевич не арестован. Его убили...
— Кешу убили! — Глашенька побледнела, глаза ее мгновенно наполнились слезами.
— Думаю, что расправились с ним те самые друзья, которыми он тяготился и с которыми хотел порвать... Поэтому прошу вас, Глашенька, опишите мне подробнее того пучеглазого... Это очень важно, нам надо найти его...
Глафира Нечаева долго молчала, отвернувшись и пряча заплаканное свое лицо. Александр Иванович не торопил.
— Кеша ненавидел своих друзей, — подтвердила она. — Я знаю это лучше всех, я всегда это чувствовала... Они убили, они, тот пучеглазый, будь он проклят!
Встреча в Висбадене
Генерал пытается запугивать. — Далекоидущие планы эмиграции. — Совещание у Мессинга. — Нужны факты, побольше достоверных фактов!
Висбаден, 15 августа 1924 года
Возник генерал за его спиной с неплохо рассчитанной неожиданностью. Воспользовался дверью, ведущей на застекленную веранду, хотел, конечно, произвести впечатление.
— Слушаю вас, господин штабс-капитан!
Прозвучало это официально и в общем-то ни к селу ни к городу, если принять во внимание давнее их знакомство. Словом, в обычной его манере властолюбивого выскочки. Бывало, и в Пруссии, под сумасшедшим огнем кайзеровских артиллеристов, любил изображать этакого невозмутимого служаку, которому все на свете трын-трава. Лучшие полки русской гвардии обливаются кровью, вот-вот сработает немецкий капкан, а его хлебом не корми, дай поиграть в уставные штучки-дрючки.
Понадобилось вскочить, вытянуться, отрапортовать с лихим Преображенским шиком.
Звероватое насупленное лицо Александра Павловича оставалось при этом непроницаемым, почти враждебным. И ощущение внезапно возникло такое, будто ничего не изменилось в мире с того холодного петроградского вечера в декабре 1917 года, с последней их встречи.
Полковой комитет сместил тогда Александра Павловича с должности командира полка, словно бы в издевку назначил штабным писарем второго класса. Обозленный и жаждущий скорейшего реванша, уезжал он на Украину, а оттуда в Новочеркасск, к мятежным казачьим атаманам.
Заснеженная вокзальная платформа была битком набита шумными толпами мешочников, места в переполненных вагонах брались с бою, и очень надолго запомнилось, как стремительным рывком вскочил он на обледеневшую подножку, в короткой полковничьей бекеше с каракулевым воротником, упругий, яростный, чем-то напоминающий выпущенного на свободу кровожадного хищника.
— Имею честь, ваше превосходительство, передать поклон от Дим-Дима, а вместе с ним и кое-какие небезынтересные сведения...
— Письмо привезли?
— Никак нет, ваше превосходительство! В последний момент решено было воздержаться...
— Узнаю Дим-Дима, — недовольно хмыкнул Кутепов. — Как он там, наш вечный жизнелюб и эпикуреец? Надеюсь, в добром здравии?
— На болезни пока не жалуется. Заботы у него иного свойства...
— Все услужает врагам России?
— С волками жить — по-волчьи выть, ваше превосходительство! — отпарировал он, смело глянув в холодные, немигающие глаза Александра Павловича. — Издали-то многое выглядит странным и даже трудно объяснимым. К слову, например, и некоторые разглагольствования зарубежных соотечественников, усердно поучающих нас уму-разуму. Им, оказывается, виднее издалека, как надобно действовать в Питере или, допустим, в Москве... Эйфелева башня высокая, обзор с нее великолепен...
Намек на известную всем болтливость эмигрантских деятелей был достаточно прозрачен, и Кутепов медленно налился кровью, через силу сдерживая гнев. Еще с минуту разглядывал в упор, как бы стараясь без ошибки оценить всё разом: и ранние седые прядки на голове своего гостя из Ленинграда, и безукоризненную его офицерскую выправку, неистребимую даже в партикулярном платье, и, что важнее всего прочего, заслуживает ли доверия этот блистательный преображенец из семьи потомственных гвардейских офицеров, непонятным образом уцелевший в большевистской Совдепии.
— А ты не ершись, Назарий Александрович! — примирительно сказал он, властным жестом указывая на кресло. — Не для колкостей мы встретились, побережем друг другу нервы.
— Благодарствую, Александр Павлович. Я ведь, собственно, лишь пытался ответить на ваши слова о прислуживании врагам России.
— С волками, говоришь, живете и по-волчьему научились подвывать? Ну как они там, волки эти серые? Лютуют по-прежнему?
— Всяко бывает, Александр Павлович. Человек, как вам известно, в отличие от скотины, существо неприхотливое, ко всему быстро привыкающее. Вот и мы выучились жить соответственно заданным жизнью условиям. В высокие эмпиреи не лезем, долбим потихонечку в одну точку. Получается вроде бы недурственно, иначе вряд ли имел бы удовольствие лицезреть ваше превосходительство...
— Доехал благополучно? Соглядатаев за собой не тащишь?
— Обошлось без них. Да и откуда им взяться здесь? На Гороховой не глупцы сидят, ремесло свое изучили основательно, но и преувеличивать их способности незачем...
— Ты что же, сам бывал на Гороховой? Больно хорошо осведомлен...
— Бывать, к счастью, не довелось, а вот от людей многое слышал. Впрочем, вернуться в Берлин мне нужно вечерним поездом. Береженого сам бог бережет...
— Да, да, плацкарта для тебя куплена, я распорядился... Уедешь непременно вечерним... Кстати, а где ты остановился?
— В пансионате на Кюрфюрстендам..
— По рекомендации советского посольства?
— В посольство нашему брату ходить не положено. Слишком мелкие мы для этого сошки... Отметки у консула за глаза хватит...
— А присмотр за тобой есть?
— Не могу знать, ваше превосходительство. Осторожность, понятно, лишней не будет...
— Да, да, это само собой...
Разговор был какой-то клочковатый, внутренне напряженный, и чувствовалось, что думает Кутепов совсем о другом, вовсе не о берлинском местожительстве своего гостя. Назревала какая-то каверза.
Так оно и случилось. Стремительно, будто решившись на крайнее средство, Кутепов вскочил с кресла. Приблизился вплотную, обдавая жарким дыханием, спросил грубо, с угрозой:
— Скажи, Назарий Александрович, ты присягу государеву блюдешь?
Между прочим нечто схожее допускали они еще в Ленинграде, когда детально обсуждался план встречи с главой «Российского общевоинского союза». Правда, затруднительно было предположить столь грубый солдафонский ход.
Ловушка, думалось, будет искусно подготовленной, по-настоящему опасной.
— Это что же — допрос, ваше превосходительство? По какому, однако, праву?
— Не крути хвостом, каналья! — вспылил вдруг Кутепов, надвигаясь еще ближе. — Отвечай без дурацких потуг на остроумие!
— Какой ответ вам желателен?
— Купили тебя за сребреники? Продал душу дьяволу?
Налицо был чудовищный перебор. Хорошо бы, разумеется, дать сдачи, причем с довеском дать, чтобы не остаться в долгу перед этим обнаглевшим господином. Но тогда они зайдут слишком далеко.
— Успокойтесь, ваше превосходительство. Не забывайте, пожалуйста, о высоких целях нашего свидания. К тому же у вас нет повода для подозрения...
— А вы не учите меня, милостивый государь! — прохрипел Кутепов в ярости. — Попрошу не забываться!
— Вот именно, ваше превосходительство: забываться никому и никогда не следует, в том числе и генерал-лейтенанту, лицу ответственному. Револьверчик свой, кстати, соблаговолите не вынимать. Народ мы тертый, нас такими эффектами испугать нельзя. Отдаете ли вы отчет в собственных действиях, Александр Павлович? И как прикажете понимать ваши унизительные вопросы?
Избранная им тактика оказалась правильной. В звероватых, с сумасшедшинкой глазах Кутепова попеременно мелькнули и удивление, и застарелая угрюмая подозрительность, и нечто смахивающее на обычную человеческую растерянность. Через силу он скривил губы в улыбку:
— Извини, Назарий, малость я действительно погорячился...
Нависла тяжелая, томительная пауза. Кутепов бегал по комнате, медленно остывал.
— Отдаю ли себе отчет, спрашиваешь? Отдаю, дорогой мой, полностью отдаю. Осведомлен, что работаете вы в дьявольски трудных условиях, что рискуете головой. Осведомлен и высоко ценю, поверь на слово. Разреши, однако, поинтересоваться, хотя бы по праву старшего в чине. Скажи мне откровенно — ратуешь ли ты за возрождение нашего многострадального отечества, не пал ли духом?
— Отказываюсь постичь вашу логику, уважаемый Александр Павлович. Старшинство старшинством, но кто же позволил вам переступать границу, допустимую среди порядочных людей? Вы, как я разумею, не следователь, не палач, а я не обвиняемый. Напротив, я ваш гость. К тому же вы изволите путать божий дар с яичницей. Верность моя присяге и мои размышления о будущем нашего отечества — это, простите, совершенно разные материи. Но у меня нет ни малейшего желания обсуждать их с вами в настоящих условиях...
— Ладно, ладно, брось кипятиться. — Кутепов явно сбавлял тон, суетливо усаживая его в кресло. — Больно нежные мы сделались, больно чувствительные и обидчивые. На кого обиделся-то? На старого своего однополчанина, с которым столько всего пережито....
— Никто не согласится подвергаться оскорблениям. Тем более совершенно незаслуженным...
— Ну будет, Назарий, не серчай. Ты бы лучше попробовал недельку-другую покрутиться в моей шкуре, тогда бы и лез в амбицию. Думаешь, сладко генералу Кутепову на заграничных харчах? Думаешь, не догадываюсь, сколь хитроумные козни плетутся против моей скромной персоны врагами отечества?
— Нам и подавно не сладко, ваше превосходительство. Но вряд ли это оправдание для унизительных допросов и взаимной подозрительности. Согласитесь, Александр Павлович, что, устраивая мое, более чем опасное, путешествие, руководители наши вправе были надеяться на уважительное обращение с их посланцем. Про старое наше личное знакомство я уж не хочу напоминать...
— Ладно, ладно, выяснили отношения, и достаточно. — Кутепов пытался обернуть все в шутку. — А примем тебя, батенька, наилучшим образом. Обласкаем, приветим на чужбине, домашним обедом накормим. Грех будет жаловаться на такой прием, Назарий Александрович. Кстати, а где же наши любезные хозяева?
Юзефовичи появились в ту же секунду, будто ждали условленного сигнала за плотно прикрытой дверью гостиной. Первым, выпятив округлое бюргерское брюшко, вкатился улыбающийся розовощекий Ярослав Дмитриевич, за ним дородная его половина. С места в карьер оба защебетали, искусно уводя разговор в тихое русло пустопорожней светской болтовни. Вероятно, так у них и было все задумано. Репетировали наверно, заранее сговаривались.
Обед тем не менее начался хмуро, и неестественность возникшей ситуации долго давала себя знать.
Александр Павлович с наигранной оживленностью расспрашивал гостя, без особой надобности вспоминая имена общих знакомых, продолжающих жить на берегах Невы. Подчеркнуто сдержанные, сухие ответы нисколько, казалось, не раздражали его, хотя в других бы условиях обязательно взорвался. С холопским усердием помогали ему хозяева. Интересовались разными подробностями бытия в недавней столице Российской империи, обнаруживали при это дремучее эмигрантское невежество.
Скучновато было за этим обедом и довольно муторно, как случается в доме, где разразился нелепейший скандал с битьем посуды, который пытаются замять вежливыми, бессодержательными разговорами. Перед десертом, когда хозяйка вышла распорядиться и мужчины остались за столом одни, Кутепов выразительно глянул на хозяина, как бы напоминая ответ:
— А не прогуляться ли нам, господа? Окрестности здесь живописные, и погода сегодня дивная...
— Увольте, ваше превосходительство, — поспешил отказаться Юзефович и жалобно забормотал о несносном своем ревматизме, от которого не стало житья.
— А ты не возражаешь, Назарий?
— С удовольствием пройдусь. Помнится, покойная маменька привозила меня еще в детстве на здешние воды, годков тридцать минуло с тех благостных времен. Любопытно будет осмотреть достопримечательности курорта...
Но тратить время на праздные осмотры редкостей Висбадена в намерения генерала не входило. С тихой, заросшей диким виноградом Эмзерштрассе, минуя оживленный центр, свернули они в парк, возле фонтанов и ванной галереи останавливаться не стали и ходко направились к берегу Рейна.
— Ну-с, штабс-капитан, докладывай! — велел Кутепов, убедившись, что никого, кроме них, на узенькой горной тропке не видно. — С чем тебя прислали?
Порядок доклада был обсужден в Ленинграде. Сперва шли вещи не очень значительные и, надо думать, более или менее известные штабу «Российского общевоинского союза». Об очередных территориальных сборах приписного состава, о некоторых изменениях в штатном расписании стрелкового полка, о начатых испытаниях нового образца противогаза. Зато под конец, как бы на десерт, полагалось сообщить лакомую новость: программу осенних маневров Ленинградского военного округа.
Докладывать надлежало солидно, без чрезмерных подробностей и без торопливости, четким языком профессионала-штабника, уверенного в достаточной компетентности слушателя. Если будут вопросы, отвечать на них коротко, намекнув, что многое сознательно не досказывается и излишнее любопытство все равно не найдет удовлетворения.
Слушал генерал жадно, впитывал в себя каждое слово. Расписание и схема осенних маневров, как и ожидалось, вызвали у него потребность в уточнениях.
— Будь любезен, изложи все это на бумаге, — попросил Александр Павлович небрежным тоном привыкшего повелевать начальника. — Память у меня, увы, слабеет...
— Не имею права, ваше превосходительство! Получил на сей предмет специальные указания...
— Это что еще за новости! — возмутился генерал. — Стало быть, и мне у вас отказано в доверии?
— Нет, Александр Павлович, все это гораздо сложней. Остановка тут за другим...
— За чем же именно? Объясни, голубчик, сделай милость.
Объяснение также входило в программу встречи. Надо было сказать генералу, что строжайшая конспирация составляет альфу и омегу всей их работы. Без конспирации в России и шагу нельзя ступить. Что же касается нравов эмигрантской публики, то они, к несчастью, отличаются безалаберностью и отсутствием элементарных представлений о такте. У всех еще в памяти сенсационные публикации в газете «Общее дело», издаваемой в Париже господином Бурцевым. Неужто эти люди настолько наивны и полагают, что их писания не изучаются на Гороховой и на Лубянке?
Помимо вышеизложенного, и это приказано было особо подчеркнуть в разговоре с его превосходительством, доверительная информация сообщается лишь для сведения генерала Кутепова, как лица, ныне стоящего во главе русских вооруженных формирований за границей. Сотрудничество в любой форме с специальными службами иностранных государств считается недопустимым и приравнено к государственной измене. Освобождение родной земли от диктатуры большевистских правителей есть внутреннее дело самих русских патриотов.
Разъяснения Кутепову не понравились. Слушал он их сердито, собирался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Некоторое время они шагали молча, посматривая на открывающуюся впереди панораму судоходного Рейна.
— Богатеет Европа, — не то с завистью, не то с сожалением произнес Александр Павлович, указывая рукой на вереницы тяжелых барж, плывущих по реке. — Успели оправиться от военных потрясений, наживают деньгу, и все у них построено на голом чистогане. Точь-в-точь как, бывало, у наших пройдох — гостинодворцев. Ты мне, я тебе, а даром, извините, за амбаром...
— Почему же даром, Александр Павлович? Будущая российская держава, богатая и могучая, щедро разочтется со всеми, кто окажет ей дружескую помощь в трудную годину. Но только не территориальными уступками, это исключено...
— Да, да, разумеется, — скучающе подтвердил генерал. — Впрочем, мы с тобой люди военные, дисциплинированные, наше дело ать-два, кругом марш... Не так ли, друг мой?
Продолжать разговор на эту тему вряд ли было целесообразно, хватит и того, что сказано.
— Ты, я вижу, все еще дуешься? Брось, Назарий Александрович, обид между нами быть не должно. Вернешься в Петроград, передай Дим-Диму дружеские мои поздравления. Молодцом, скажи, действуете, нисколько не хуже других наших организаций. В недалеком будущем, скажи, рассчитываю лично поздравить его с генеральским званием. Да и сам ты, батенька, малость засиделся в штабс-капитанах, пора бы тебе примерять полковничьи погоны. Как считаешь, прав старик Кутепов?
— Спасибо на добром слове, ваше превосходительство.
— Не за что благодарить, Назарий Александрович. Каждому воздастся по заслугам, Россия сыновей своих не забудет. И изменников она не забудет, сурово покарает каждого. А теперь слушай меня внимательно и постарайся передать мои слова в точности. — Кутепов остановился, пристально посмотрел, будто желая проверить его умение запоминать. — Итак, первый наш и наиважнейший вопрос, к счастью, благополучно разрешился. Кому быть венценосцем, кому продолжить славную династию Романовых — такой это вопрос...
Ленинград, 3 сентября 1924 года
Докладываю о выполнении задания.
Приехав в Берлин, я незамедлительно отослал почтовую открытку по условленному адресу. Спустя четыре дня, в пятницу, получил телеграмму: «Александр Павлович просит приехать воскресенье, пятнадцатого августа, Висбаден, Эмзерштрассе, 52».
Телеграмма была без подписи, но я знал, что в курортном городке Висбадене занимается торговой деятельностью штабс-капитан Я. Д. Юзефович, мой сослуживец по Преображенскому полку.
Конспиративное свидание и совещание с генералом Кутеповым, специально прибывшим ради того из Парижа, в общей сложности длилось восемь часов, от поезда до поезда.
О постыдной сцене с попыткой взять меня на испуг угрозами я уже докладывал. Хочу добавить, что она вполне в натуре Кутепова, всегда отличавшегося пошлыми хулиганскими замашками. Вместе с тем она свидетельствует об известной настороженности и, возможно, о существовании дополнительных источников информации в Ленинграде. Из ряда замечаний генерала я вынес убеждение, что в Ленинграде несомненно существует конспиративная группа, с которой он связан издавна и возлагает на нее определенные надежды.
Супруги Юзефовичи вовлечены в нелегальную деятельность монархистов, но вряд ли на серьезных ролях. Полагаю, что их квартира и торговая фирма в Висбадене используются для свиданий.
Мое сообщение, в особенности об осенних маневрах войск ЛВО, произвело впечатление и было доложено в обусловленном порядке. Просьбу изложить все в письменном виде я отклонил, сославшись на категорический запрет и заодно высказав все те соображения, о которых мы договаривались. Кутепов выслушал их снисходительно и дал понять, что мы — жалкие провинциалы, которые не смыслят в вопросах высокой политики.
Прогулка наша в окрестностях Висбадена была заранее подстроена: Я. Д. Юзефович и еще какое-то неизвестное мне лицо сопровождали нас в отдалении, пытаясь при этом оставаться незамеченными.
Все сказанное А. П. Кутеповым во время прогулки я, естественно, воспроизвожу на память, так как записывать воздержался. Судя по инциденту в ревельской гостинице, поступил я правильно, потому что искали агенты полиции документы.
Некоторые важные места нашего разговора я постарался выучить наизусть и воспроизвожу дословно. Они подчеркнуты красным карандашом.
Престолонаследие и программа. В начале разговора Кутепов объявил мне и просил сообщить руководству, что «Российский общевоинский союз», в котором он имеет честь главенствовать, всецело ориентируется на великого князя Николая Николаевича, как единственного достойного претендента на русский престол.
В связи с этим было заявлено, что «Корпус офицеров императорской армии и флота», находящийся под эгидой великого князя Кирилла Владимировича, состоит сплошь из авантюристов, что сочувствуют ему лишь банкиры-космополиты (Мятлев, Рубинштейн и другие), а все здоровые, истинно патриотические силы эмиграции открыто презирают это сборище.
Следует всегда помнить, заметил генерал, что Николай Николаевич является старейшим в доме Романовых и еще в 1913 году высочайшим повелением был назначен главой семейного совета. Выбор, таким образом, сделан правильный.
Политическое кредо Николая Николаевича изложено в недавней его беседе с корреспондентом американского телеграфного агентства. Соответствующие печатные материалы, излагающие основные его тезисы, поступят в ближайшее время в распоряжение Дим-Дима через посредство специального курьера.
Государственный переворот в России мыслится без привлечения интервенционистских войск союзников. Иностранная помощь будет принята только финансовая и материально-техническая (например, автомобили и аэропланы).
Николай Николаевич незамедлительно объявляется военным диктатором. Советы как форма народовластия на первый период сохраняются. Но без коммунистов и без сочувствующих им лиц.
При особе диктатора создается исполнительный орган (Директория), состоящий из шести достаточно авторитетных в обществе персон: трое от эмиграции и трое из числа ныне проживающих в России активных деятелей движения. Поименно вопрос пока не решен.
Предусмотрен также созыв Сената в составе всех сенаторов, кои состояли таковыми до вынужденного отречения царя от престола и ничем не запятнали свою репутацию. Функции Сената — исключительно совещательные.
Русская армия перестает впредь именоваться «Красной». Весь командный состав будет оставлен на прежних должностях, но при условии абсолютной лояльности к новому режиму. Комиссары и политруки упраздняются.
В кратчайший срок намечено созвать Земский собор из представителей всех сословий, на котором оформляется процедура избрания царя. Вновь избранный русский царь, если у него не окажется мужского потомства (прямой намек на бездетность Николая Николаевича), заранее назначает своего преемника.
Кирилл Владимирович, как всем известно, присвоил себе титул «Местоблюстителя Государева Престола». В ближайшие недели ожидается и самозваное провозглашение его императором.
Надо учитывать, подчеркнул генерал, что юридической силы эти самозваные акты Кирилла Владимировича не имеют. Во-первых, Кирилл Владимирович навеки опозорил свое имя преступным нарушением присяги в феврале 1917 года, выйдя на улицы столицы с красным бантом в петлице; во-вторых, он сын лютеранки, что по законам Российской империи препятствует возведению на царство, и, в-третьих, им затеяна в условиях эмиграции преступная междоусобная смута, ведущая к распылению активных сил, к раздору.
Тактика и осуществление переворота. Неоднократно, причем с явным удовлетворением, генерал давал понять, что верных слуг и помощников у него на русской территории вполне достаточно, а посему он с особым чувством благодарит судьбу, даровавшую ему надежную офицерскую организацию в Петрограде, да еще возглавленную лицами, которых он лично знает и считает своими единомышленниками. Ради курьеза добавлю, что Дим-Диму он авансом посулил генеральское звание, а мне — производство в полковники.
Переворот, по словам Кутепова, будет осуществлен в несколько последовательных этапов. Для почина, в целях дезорганизации властей, планируется локальное восстание на Кавказе, которое потребует спешной переброски туда войск ВЧК — ОГПУ. Следом будут произведены концентрированные удары по Москве и Петрограду.
Главенствующая роль отведена заблаговременно сформированным и обученным боевым колоннам «Народной стражи», в которые входит отборное офицерство добровольческой армии. Сам генерал надеется возглавить колонну, имеющую конечной целью Москву.
Образ действий «Народной стражи» — беспощадно карательный, репрессивный. В крупных городах и даже волостных центрах по пути колонны проводится немедленный расстрел партийного актива и заключение в тюрьму всех остальных коммунистов. Ради быстроты операции и создания паники намечено воспользоваться автомобилями и аэропланами, совершенно отказавшись от железных дорог.
«Ты, надеюсь, слышал, как поступали Булак-Балахович, Борис Савинков и им подобные? — спросил меня генерал. — Вот и мы хотим воспользоваться их методами, но с должным усовершенствованием. Важна немедленная ликвидация главарей большевизма, а без этой публики население стряхнет с себя чары свободомыслия и само начнет хозяйничать. Всюду нас будут встречать верные помощники. Они и сейчас собраны в решающих пунктах, а спустя полгода вся подготовительная работа полностью завершится».
В ответ на мое осторожное замечание, что план этот выглядит несколько легковесно, генерал сослался на успешную практику захвата маленьких уездных городов Белоруссии отрядами Савинкова и вновь подчеркнул особую важность создания паники.
Сроки выступления. Несколько раз генерал повторял, что более года ждать они не могут и не будут. Причины выставлялись разные, в том числе и разброд в лагере большевиков после кончины В. И. Ленина, а также преклонный возраст Николая Николаевича, которому скоро исполнится семьдесят лет.
Заслуживают внимания слова Кутепова о пагубном, как он выразился, воздействии времени, работающего против идеи монархической реставрации в России.
«Мы отсюда видим, а вам и еще виднее, что подрастающая русская молодежь сильно развращена коммунистами и с каждым годом развращается еще заметнее. Мало остается достойных граждан, помнящих и любящих старые добрые порядки, все меньше их вес и влияние в окружающей среде. Молодежь в Совдепии безбожна, насквозь пропитана классовой рознью. Следовательно, сам ход исторического развития властно поторапливает нас с активным выступлением, иначе мы можем просто опоздать. Надо железной рукой уничтожить идиотическое понятие о классах и классовой борьбе, вычитанное из книг Карла Маркса. Все русские люди, независимо от имущественного и сословного положения, будут равны перед законом».
Расстановка сил в эмиграции. Высказывания генерала по данному вопросу, как и по другим, отличаются категоричностью. Для успешного захвата власти нужны испытанные офицерские кадры, опытные и беспощадные бойцы, жаждущие восстановления своих попранных сословных прав и привилегий. Основная масса офицерства (марковцы, дроздовцы, алексеевцы и прочие) верна Николаю Николаевичу и считает его своим военным лидером. Отщепенцев, ныне примыкающих к лагерю Кирилла Владимировича, в расчет можно не брать. Многие из них одумаются в последнюю минуту и поспешат исправить допущенную ими промашку.
Об А. Ф. Керенском и немногочисленных его сторонниках из левых партий также нет смысла говорить всерьез. При любых условиях возвращение Керенского в преданную им и загубленную Россию исключено самым решительным образом. Если же решится приехать на свой страх и риск, разговор с этим краснобаем-адвокатишкой будет суровым — «становись к стенке, предатель!»
Значительная часть «левой» эмиграции, в основном либерально настроенная интеллигенция, объединяется вокруг профессора П. Н. Милюкова и созданной им газеты «Последние новости». Беда этих господ в том, что ныне, очутившись в эмиграции без гроша в кармане, они исповедуют республиканские взгляды, тогда как до свержения царя были верноподданными престола. Несмотря на это, соглашение с ними начисто не исключается: при непременном, однако, условии признания монархической платформы.
Личность Кутепова. За истекшие после нашей последней встречи семь лет А. П. Кутепов заметно погрузнел, состарился и выглядит значительно старше своего возраста. По-прежнему непреклонен в суждениях, страшно самолюбив, не останавливается перед любыми средствами ради достижения поставленной цели. Со своей стороны полагаю, что среди врагов Советской власти из числа лидеров современной эмиграции он наиболее опасен.
Бросается в глаза возросшая склонность генерала к жестокости. Еще в бытность свою в Преображенском полку Кутепов, подобно многим выскочкам, случайно затесавшимся в среду гвардейского офицерства, выделялся чрезмерным служебным усердием, а также очевидными для всех карьеристскими наклонностями. Известна была его большая требовательность к подчиненным, особенно к нижним чинам и унтер-офицерам, сочетавшаяся с откровенным низкопоклонством перед влиятельными персонами. Известна была и его страсть к суровым наказаниям подчиненных.
Ныне жестокость сделалась как бы главенствующей чертой характера Кутепова. Во время нашей пешеходной прогулки, к примеру, он без всякой нужды счел возможным заговорить о драконовских порядках, введенных им в 1920-1921 гг. в галлиполийском лагере, где очутилась тогда разбитая армия Врангеля. Рассказывая об этом, он самодовольно похвалялся, что был прозван за свою жестокость «Кутеп-пашой».
«Ты, надеюсь, знавал полковника Астахова из Волынского полка?» — спросил Кутепов, обращаясь ко мне, а когда я в свою очередь поинтересовался, не тот ли это Астахов, что повел в феврале 1917 года запасной батальон волынцев на Мариинский дворец для ареста царских министров, обрадованно воскликнул: «Тот самый, представь, тот самый! Так вот, уведомляю тебя, сударь мой, что собственноручно отрубил голову этому мерзавцу. За государственную измену, за преступное нарушение присяги».
Далее этот новоявленный Кутеп-паша, смакуя подробности, рассказал, как явился к нему в галлиполийский лагерь полковник Астахов и как он, Александр Павлович Кутепов, предал его казни в назидание другим изменникам, перешедшим на сторону Февральской революции.
Подозреваю, что этот странный разговор был затеян с желанием припугнуть меня. Вместе с тем он весьма и весьма характерен для представления о личности Кутепова.
Назначение Преображенского полка. По мнению генерала, Преображенский полк самой историей предназначен вновь стать ядром будущей русской армии. Командовать полком он собирается лично, давая при этом понять, что вправе надеяться на более высокое положение свое после государственного переворота. Генералы, по его мнению, должны быть во главе батальонов и, возможно, даже рот. Никто из бывших преображенцев от службы освобожден не будет.
Полк объявляется личной лейб-гвардией его императорского величества, как было при Петре. Досадная утрата полкового знамени, случившаяся из-за провала верных людей, схваченных чекистами, приравнивается к утрате в боевых условиях и славного имени преображенцев бесчестить не может.
«Мною, как тебе ведомо, 3 декабря 1917 года был отдан приказ о временном расформировании Преображенского полка, — сказал генерал. — Мне же, как видно, самим божьим промыслом уготовано восстанавливать полк заново».
Кодовая таблица, пароль, курьерская связь. В дополнение к устному своему докладу, прилагаю кодовую таблицу условных наименований для шифрованной переписки. Таблица также выучена наизусть и воспроизводится по памяти.
Курьерская связь поддерживается через Ревель. Пароль для первого курьера: «Я слышал, у вас продается кишмиш?» Дим-Дим обозначается в переписке, как «Преображенский», а сам Кутепов, как «Орлов». Обозначения эти временные.
Прилагаю к донесению 300 франков и 75 долларов, врученных мне лично при отъезде из Висбадена.
Ленинград, 5 сентября 1924 года
Мессинг (заканчивает разговор по телефону). Именно, именно так мы и собираемся поступить! Другого, к сожалению, не дано, ответный ход за господином Орловым. До свидания, товарищ Менжинский, будьте здоровы!
(Кладет трубку.) Чего же вы стали, будто на параде? Присаживайтесь, товарищи, прошу. Ты почему невеселый, Петр Адамович? Тебе нынче положено ходить с задранным носом, начали вроде бы прилично...
Карусь. Так-то оно так, товарищ комиссар, да не всё меня удовлетворяет. Прожектов генеральских сколько угодно, а стоящей информации маловато...
Ланге (улыбается). Петр Адамович мечтал обзавестись нужными ему адресочками с помощью генерала Кутепова и теперь испытывает разочарование. Обманул его многоуважаемый клиент, отделался ерундовской суммой в иностранной валюте...
Карусь. На адресочки я, положим, не рассчитывал, а зацепочку хотелось бы иметь...
Мессинг (весело). Не гневи бога, Петр Адамович. Зато у тебя в руках самоновейший план ликвидации Советской власти. Да еще какой план-то! Жаль, нельзя познакомить с ним наших пропагандистов! На аэропланах собираются порхать со своей «Народной стражей», все равно что бабочки! Эх, шпана золотопогонная! Учили их, учили...
Ланге. Советы без коммунистов — это все, что они способны выдумать...
Мессинг. Да и то не выдумали — у эсеров украли идейку, у кронштадтских мятежников. А зацепочка будет у тебя, товарищ Карусь. Этот предводитель «Народной стражи», по всему видать, птичка пуганая. Ему еще требуется кое-что обмозговать, сомнений у него вполне достаточно...
Ланге. Да уж сомнений вагон и маленькая тележка. Тем более после оглушительного провала в Минске. Воображаю, какую они там подняли шумиху!
Мессинг. Я только что разговаривал с Менжинским, коснулись и этого скандального происшествия. Сообщение об аресте Савинкова опубликовано всего неделю назад, а трескотня в газетах идет во всю Ивановскую...
Ланге. И собак вешают на ГПУ?
Мессинг. А на кого же еще, друг ситный? Не на папу же римского им вешать собак! Редактор «Общего дела» господин Бурцев, говорят, публично поклялся, что сжует собственные галоши, ежели не сумеет доказать похищения Савинкова агентами Чека.
Ланге. У него с Борисом Викторовичем счеты старинные, многолетние. Еще со времен разоблачения Азефа. Бурцев, кстати, явственно намекал тогда на таинственные связи господина Савинкова с Охранным отделением. Опровержение, между прочим, было слабенькое, совершенно неубедительное...
Мессинг. Эка что вспомнил! С той поры много воды утекло, и теперь они единомышленники. Разногласия все побоку, поскольку враг у них общий...
Карусь. Черт с ними, пусть трезвонят, нам не привыкать к газетной шумихе.
Мессинг. Савинков, к слову сказать, на допросах играет в стопроцентную капитуляцию перед Советской властью. Надо думать, расскажет немало занятного...
Ланге. Вот уж поостерегся бы верить этому деятелю!
Мессинг. Пусть суд решает — верить или не верить, у нас своих забот полно. Меня, Петр Адамович, настораживает эта ревельская история. С чего бы вдруг устраивать заварушку? Не дал ли в чем маху твой человек?
Карусь. Нет, товарищ комиссар, действовал он строго по нашей договоренности. Обратно ехал через Штеттин, в Ревеле пересел на советский пароход «Франц Меринг», в гостинице останавливался всего на одну ночь — дожидался парохода. Свиданий ни с кем не имел и наблюдения за собой не обнаружил...
Мессинг. Чем же объясняешь обыск?
Карусь. Сказать наверняка пока трудно. Быть может, случайность, хотя верится в нее слабо. Возможно, и сознательная провокация по заказу из Парижа...
Мессинг. Изъяли у него что-нибудь?
Карусь. Ни единой мелочишки, товарищ комиссар. Вернулся к себе в номер, понял, что рылись у него в чемодане, и в этот самый момент врываются полицейские. С ордером на обыск, все честь честью. Обыскивали тщательно, ничего не взяли и ушли. Назарий Александрович в тот же вечер навестил нашего консула, посольство заявило устный протест. Ответ пока не получен, но меня обещали поставить в известность...
Ланге. Что-что, а отбрехиваться они специалисты.
Мессинг (кивает головой). Ответ, понятно, будет формальный, не в нем суть. Важно докопаться, что означает сей фокус эстонской полиции и кто за ним стоит. Похоже, что господин Орлов. В таком разе естественно предположить, что была за твоим человеком слежка. От самого Висбадена вели его, а не заметил он по своей неопытности...
Ланге. Тогда и здесь попытаются присматривать?
Мессинг. Не исключено. Так или иначе, сомнений у его превосходительства достаточно, и в дальнейшем проверять будут главным образом комбрига...
Карусь. Учтите, Станислав Адамович, что сведения об осенних маневрах — аргумент солидный и, по-моему, вполне убедительный. С бухты-барахты таких сведений не раздобудешь, надо для этого окопаться в штабе округа...
Мессинг. Маневры, друг ситный, штуковина довольно громоздкая и многолюдная, от любопытных глаз скрывать ее трудно. Говорю это к тому, что не следует переоценивать силу наших козырей. Кстати, новую порцию дезинформации заготавливайте впрок. Договорись с Особым отделом округа, после мне доложишь. Мелочей каких-нибудь наскребите, второстепенных фактиков. Баловать их не будем...
Ланге. А по мне, лучше вообще обойтись без этого. Ответное письмо генералу с твердым изложением принципиальной позиции — и за глаза хватит. Заявляем, дескать, еще раз, что на сотрудничество с иностранными разведслужбами согласия не даем...
Мессинг (иронически улыбается). На идейности желаешь выехать? Не выйдет, Александр Иванович, не поймут тебя. Разговаривать с этой публикой мыслимо только на ее языке, не иначе. Они сами по уши в дерьме и на всех прочих смотрят сообразно собственным представлениям о порядочности. Не хочешь торговать родиной оптом и в розницу — значат, незачем валандаться с тобой, поищем более сговорчивых. Философия, брат ты мой, применительно к подлости.
Ланге. Согласен, Станислав Адамович. А с другой стороны, нельзя не считаться с реальными фактами. Генерал знает Дим-Дима как облупленного. Вместе служили в Преображенском полку, оба командовали батальонами, причем у Дим-Дима был царский, особо почетный. В душе, надо думать, Кутепов дико завидовал своему родовитому конкуренту, — сам-то в преображенцы устроился по протекции. Разве не вправе он думать, что такой человек, как Дим-Дим, может отказаться от сомнительных связей с иностранными разведками? Вправе. Следовательно...
Мессинг. Следовательно, в рассуждениях твоих обнаруживается существенный просчет.
Ланге. Какой?
Мессинг. Они были бы правильными, если бы Кутепов самого себя считал ничтожеством. А он себя считает первейшим патриотом и спасителем России. Переменились амплуа — вот чего ты не учитываешь. Кутепов ходит теперь в генерал-лейтенантах, он — глава вооруженных сил, крупная фигура белогвардейского лагеря, а высокородный Дим-Дим как-никак служит большевикам, заделался советским комбригом и, стало быть, изменил России. Такова нынче психология эмигрантской шпаны. Единственный, с их точки зрения, непростительный грех — это сотрудничество с Советской властью. Все прочее, включая и шпионаж против бывшего своего отечества, в норме, в порядке вещей. Таким образом, проверять комбрига они начнут как раз в этом смысле — согласен ли на шпионаж...
Карусь. Ну, проверить-то довольно затруднительно...
Мессинг. Найдут способ, будь спокоен. Но прежде всего им желательно убедиться, что нет тут подмены, что курьера в Висбаден прислал именно комбриг, а не мы, к примеру...
Карусь. Вы не учитываете, что Назарий Александрович лично известен Кутепову.
Мессинг. Учитываю, но это, к сожалению, ничего не решает. В штабе-то округа не Назарий Александрович, а коли и был бы там, то на третьестепенной должностишке. Цену они знают каждому. Возглавить конспиративную офицерскую организацию в Ленинграде и объединить вокруг себя людей способна крупная личность.
Ланге. Прощупывать будут через параллельные каналы.
Мессинг. Если имеют их, то, конечно, через параллельные. Так что ухо надо держать востро. Прими меры, Петр Адамович; всякие случайности должны быть начисто исключены. Лично побеседуй с комбригом, пуще всего пусть остерегаются каких-либо самостоятельных шагов. Глупо будет, ежели дадим расшифровать себя раньше срока.
(Обращается к Ланге.) Ну, а что у тебя с твоим утопленником?
Ланге. Утоп он не с божьей помощью. Нашлись добрые люди — помогли исчезнуть с лица земли...
Мессинг. Убийство, значит? А с какой целью? Кому он мешал?
Ланге. Разбираюсь помаленьку. Нашел девушку одну, которая связана была с покойным, ищу другие ниточки...
Мессинг. Это хорошо, что ищешь. А помаленьку разбираться не выйдет, дорогой Александр Иванович. Надо эту историю раскручивать быстро, сам понимаешь.
Ланге. Я-то понимаю, да маловато пока фактов. Судебно-медицинская экспертиза нашла, что смерть последовала от удара в затылочную область. Били каким-то тупым предметом. Сперва стукнули, а после уж труп швырнули в Фонтанку. Самоубийство инсценировано наспех, кое-как...
Мессинг. Графическая экспертиза была?
Ланге. Почерк подделан, это и так видно. Вот, пожалуйста, убедитесь сами.
(Достает из папки, читает.) «В смерти моей никого не вините. Ужасно надоело прозябать в нищете». Нищеты, между прочим, никакой не было, жил настоящим барином. Накануне смерти ночь напролет резвился во Владимирском клубе, выиграл в рулетку кучу денег...
Мессинг. Ограбили его?
Ланге. В том-то и фокус, что не догадались. Или не успели по-настоящему инсценировать ограбление. На трупе найдены кошелек, документы, золотое кольцо, а деньги сотрудники угрозыска обнаружили в письменном столе, в незапертом ящике. Тысячу сто рублей, сумма весьма порядочная...
Мессинг. С кем водился, узнал?
Ланге. Жил замкнуто, а дома принимал какого-то старичка, да и то редко. Отзывы на службе благоприятные. Исполнителен, аккуратен, к обязанностям относился добросовестно. В последнее время, правда, замечали за ним некоторую склонность к меланхолии. Сидит, говорят, на рабочем месте и вроде бы витает где-то в облаках... Отпуска брал за свой счет, якобы для лечения, а сам куда-то ездил. Куда — пока неизвестно.
Мессинг. Да, много у тебя туманного: какой-то старичок, куда-то ездил... Лицей он кончал на казенном коште?
Ланге. На казенном. Он ведь из семейства сильно прохудившихся помещиков...
Мессинг (улыбается.) Справку, поди, запас?
Ланге. А как же, без справочки с этой публикой не разберешься.
(Заглядывает в материалы.) Отец его статский советник, служил в Государственной канцелярии, еще при Александре III. В Лицей его взяли, как сказано, «в уважение заслуг покойного родителя». Выпуска 1913 года, коллежский асессор, числился за Министерством внутренних дел, затем работал в Государственной канцелярии. Осенью 1919 года арестовывался в связи с заговором Поля Дюкса. Взят был в засаде, серьезного за ним ничего не значилось. Получил высылку в трудовой лагерь до конца гражданской войны, а через год амнистирован...
Мессинг. Богатая справочка, не подкопаешься. Вот только главного в ней не усматриваю — за что же стукнули его, за какую провинность? Из бывших лицеистов с кем-нибудь поддерживал контакты?
Ланге. Бывал иногда на панихидах. Раза два приглашался на дом к Путилову, и это, признаться, наводит на размышления...
Карусь. К какому Путилову? Уж не к тому ли, что управлял канцелярией Совета Министров?
Ланге. К тому самому, представь!
(Снова заглядывает в материалы.) Александр Сергеевич Путилов, тайный советник, 1872 года рождения, ныне служит статистиком в Госбанке. Вот и спрашивается, зачем бы его превосходительству знаться со скромным коллежским асессором? Господа эти и по нынешнее время чувствительны к тонкостям табели о рангах.
Мессинг. Да, не очень логично. Этот Путилов председательствует в «кассе взаимопомощи»?
Ланге. Председателем числится у них бывший князь Голицын, а Путилов — рядовой член правления. Этот Голицын, кстати, довольно колоритная фигура. Был последним премьер-министром перед Февральской революцией, ставленник царицы. Теперь одряхлел и ослаб. Подагра у него, из дому выходит редко...
Мессинг. Подагрик взят для вывески — это ясно. Заправляют там отнюдь не подагрики.
(Встает из-за стола, прохаживается.) Думаю я, друзья мои, что лицейская эта братия пока что переигрывает нас по всем статьям. Заняты они более серьезными предметами, чем салонная болтовня...
Карусь. Представьте, Станислав Адамович, и я думаю об этом. А не ведет ли к лицеистам параллельная линия Кутепова?
Мессинг (круто остановился, лукаво подмигивает Карусю). Темна вода во облацех! Прекрасная штуковина эти догадки, не так ли, Петр Адамович? Главное, по-всякому можно крутить — и так и этак, и на любой манер, благо фантазия богатая...
Ланге. А враг тем временем действует.
Мессинг. Вот то-то и оно! Действует! Советы без коммунистов собирается учредить, «Народную стражу» формирует из отъявленных головорезов и палачей. Какой же сделаем вывод, дорогие товарищи?
Карусь. И нам надо действовать.
Мессинг. Золотые твои слова, товарищ Карусь! Именно действовать, и прежде всего накапливать факты. Догадки мало чего стоят без реальных подтверждений. В этом разрезе давайте и работать. Факты сами подскажут, гадать не придется.
(Ланге и Карусь уходят.) Да, Петр Адамович, чуть было не забыл!
(Смеется.) Должностишку своему Кириллу Владимировичу ты измени в святцах, поправочку сделай...
Карусь (смеется). Объявил себя императором?
Мессинг. Объявил, сучий сын! Тридцать первого августа, всего неделю назад, в баварском городишке Кобурге. Пышная была церемония, с митрополитами. Можешь посочувствовать генералу Кутепову и великому князю Николаю Николаевичу, забот у них теперь изрядно прибавится...
Карусь. Комедианты они, товарищ комиссар. Жалкие шуты, базарные скоморохи...
Мессинг. И опасные, добавь. Этого мы не имеем права забывать. Очень опасные комедианты.
Письмо с ловушкой
С чего начиналась игра. — «Я сжег за собой все мосты». — Поспешный отъезд чернобородого. — Восходящая звезда контрреволюции. — Доктор Пасманик обличает профессора Милюкова. — Пэгги придумал ловушку.
Тайное свидание на курорте Висбаден имело свою предысторию, причем довольно длинную. И своего талантливого организатора, предусмотрительно рассчитавшего многие ходы сложной и смелой комбинации советской контрразведки, нацеленной на обезвреживание коварных замыслов белоэмигрантов.
Осенью 1923 года, а если быть совершенно точным, то в субботу, 21 сентября, во второй половине дня, из невысокого двухэтажного особняка на рю Колизе, принадлежавшего русскому промышленнику Третьякову, вышел коренастый чернобородый мужчина.
У стоянки таксомоторов мужчина чуть замедлил шаг, оглянулся на зашторенные окна особняка и побрел своей дорогой. Ничто не выдавало в нем состоятельного господина с туго набитым бумажником — ни дешевая, прошлогодней моды, одежда, приобретенная, скорей всего, по случаю сезонных распродаж, когда цены снижаются почти вдвое, ни заурядная внешность и манеры бедного изгнанника, длительное время лишенного жизненных благ.
В тот же вечер чернобородый умчался экспрессом в Берлин, взяв билет первого класса. Провожающих на вокзале не было, как не было и встречи в Берлине: путешествовал он в одиночестве, общения с людьми не искал. И по-видимому, очень спешил, потому что через двое суток уже находился в комфортабельной каюте немецкого парохода «Святая Каролина», следующего пассажирским рейсом Гамбург — Ревель.
Ревельское его житие также оказалось непродолжительным. Сняв номер в гостинице «Золотой лев», чернобородый сытно пообедал, нанял извозчика, не спрашивая о цене, и направился в Вышгород. На Рыцарской улице, возле дома № 5, он отпустил лихача. Весь первый этаж этого дома арендовало паспортное бюро посольства Великобритании, и у подъезда здесь бессменно дежурил полицейский.
Нормальные визитеры паспортного бюро были приучены к медлительным порядкам тихого английского учреждения. Впрочем, чернобородому не пришлось ждать. Вышколенный секретарь встретил его приветливой улыбкой и немедленно проводил в кабинет мистера Эрнста Бойса, редко кого удостаивающего личной аудиенции. Беседовали они с глазу на глаз более часа.
После встречи с главой паспортного бюро чернобородый путешественник повел себя и вовсе замысловато. Освободился от маленького дорожного саквояжика, бросив его на произвол судьбы в гостиничном номере, утратил внезапно вкус к путевым удобствам. Из Ревеля отправился дальше на попутной крестьянской подводе, да и то на ночь глядя, под мелким, моросящим дождичком, зарядившим, судя по всему, надолго.
Путь чернобородого, как читатель, наверно, успел догадаться, лежал к советской границе, которую он и перешел в глухую предрассветную пору близ Усть-Нарвы. Тайную тропу через заболоченный кустарник указали ему местные контрабандисты, благо вознаграждение было достаточно щедрым.
Добравшись до Гатчины, чернобородый сел в ранний утренний поезд и в обществе говорливых молочниц, везущих свой товар по условленным адресам, благополучно доехал до станции Лигово. В беседы с женщинами не вступал, всю дорогу упорно помалкивал.
Минут бы еще пять-десять, и можно бы заканчивать путешествие на Балтийском вокзале, но сошел он с поезда почему-то в Лигове. И трамвайные маршруты менял без всякой логической причинности: с одиннадцатого неизвестно зачем пересел в девятнадцатый, с девятнадцатого на шестерку, а на Марсовом поле вышел и добрых полчаса прогуливался, частенько оглядываясь по сторонам и внимательно изучая окружающую обстановку.
Было тихое, безветренное утро бабьего лета. В Летнем саду, у памятника дедушке Крылову, громкоголосо резвились малыши под бдительным присмотром нянек. Золотым сияньем сверкали на солнце кресты храма «Спас на крови».
Прогулка по Марсову полю, видимо, успокоила чернобородого, придала ему уверенности, и он занялся своими делами.
С отменным аппетитом позавтракал в маленькой ресторации на Конюшенной площади. Затем долго бродил по невским набережным, а в третьем часу дня взял извозчика и съездил на Спасскую улицу в Преображенский собор. Богомольцев в это время дня было немного, всего с десяток старух, и никто ему в соборе не мешал. Опустившись на колени перед иконой Иверской богоматери, чернобородый с чувством предался молитве.
Отдохнуть с дороги он явно не спешил. Лишь поздно вечером, весь долгий день проведя в движении, отправился на Васильевский остров. У Шестнадцатой линии вылез из трамвая, свернул к Неве, и, уверенно разыскав нужный ему дом, юркнул во двор.
Таинственное путешествие по маршруту Париж — Петроград приблизилось, таким образом, к благополучному финалу. Во дворе чернобородый поднялся на третий этаж, осторожно подергал ручку звонка. Дверь ему открыл какой-то старик, он вошел в квартиру и не выходил из нее почти целые сутки. Отсыпался, надо полагать, приводил себя в порядок.
Однако финал этого путешествия лишь с виду казался благополучным. На самом-то деле был он не совсем таким, на какой надеялись и сам чернобородый путешественник, и отправившие его в дальний вояж господа. Они-то, понятно, пребывали в уверенности, что ни единой душе на свете неизвестно про их секретное предприятие. Мистера Бойса и молчаливых его сотрудников можно было при этом в расчет не брать: всем известно, с какой тщательностью хранятся тайны в недрах Интеллидженс сервис.
Тем чувствительнее оказалось бы, наверно, разочарование всех этих излишне самоуверенных господ, если бы вдруг обнаружилось, что каждый шаг их секретного агента взят под контроль чекистами. Но обнаружить сие было совсем не просто, и длительное время эти господа пребывали в счастливом неведении, надеясь на крупную удачу.
Хлопотливую и необыкновенно трудоемкую возню с незваным гостем из Парижа Мессинг поручил Петру Адамовичу Карусю, общепризнанному в чекистских кругах знатоку белой эмиграции.
Карусь был осведомлен не только о всех дорожных приключениях чернобородого — знал он и многое другое. На Гороховой своевременно получили предупреждение о том, что в Петроград направляется с тайной миссией бывший полковник лейб-гвардии артиллерийской бригады, что зовут его Алексеем Владимировичем Вяземским, хотя липовое удостоверение, которым снабжен агент ради маскировки, выписано на имя Ивана Пантелеевича Смирнова, уполномоченного по заготовкам Саратовского губпотребсоюза.
Загодя чекистам удалось собрать довольно подробные материалы, характеризующие личность этого посланца белогвардейского лагеря.
На рю Колизе еще заканчивался инструктаж чернобородого и последние приготовления к опасному путешествию, а Петр Адамович успел выяснить, что Вяземский — Смирнов из дворян Тамбовской губернии, что ему тридцать восемь лет, что за год до начала войны с немцами кончил он Академию Генерального Штаба.
Активный участник гражданской войны на Юге, марковец, георгиевский кавалер. Из Севастополя бежал с армией барона Врангеля, а в пору галлиполийского сиденья был подручным Кутеп-паши и способствовал введению палочной дисциплины в лагере, выполняя кровавые обязанности председателя военно-полевого суда.
В общем, фрукт отменный, знали, кого направить в Петроград.
Скудновато выглядела информация о целях путешествия Вяземского — Смирнова. Думалось, что для установления контактов с остатками монархически настроенной публики, для вербовки новых сторонников, но утверждать наверняка было затруднительно. Тут допустимы всяческие варианты, вплоть до оголтелых террористических выходок.
Свидание на Рыцарской улице — вот что беспокоило Петра Каруся более всего прочего. Капитан королевского флота метрополии Эрнст Томас Бойс был давним его знакомцем и давним противником. Еще с грозной незабываемой осени 1919 года, с труднейшей операции петроградских чекистов по ликвидации заговора Поля Дюкса.
Эрнст Бойс — известный разведчик-профессионал, у англичан считается крупным специалистом по России. И «паспортное бюро» всего лишь ширма, прикрывающая специфические занятия Интеллидженс сервис в лимитрофных государствах. Такие же бюро открыты, кстати, при посольствах Великобритании в Риге и Гельсингфорсе. Послам они подчинены лишь формально, у них собственная курьерская связь с Лондоном, собственный бюджет.
Визит Вяземского — Смирнова к мистеру Бойсу означал новый этап в шпионско-диверсионной практике «Российского общевоинского союза». До сей поры генерал Кутепов предпочитал обходиться без посторонней помощи, переправы своей агентуры через границу устраивал самостоятельно. Раз уж обратились за содействием к Бойсу — значит, заставила нужда. Однако услуги положено оплачивать, даром англичане благодетельствовать не захотят. Следовательно, у чернобородого путешественника должны быть задания и от английской секретной службы.
В то безоблачное сентябрьское утро, когда парижский гость сошел с пригородного поезда на станции Лигово и принялся петлять на трамваях с очевидным намерением получше запутать следы, Карусь дежурил у себя в служебном кабинете. Бессменное это дежурство длилось уже вторые сутки подряд, с момента перехода границы агентом белогвардейцев.
Время от времени в кабинете звонил телефон. Из разных концов города Петру Адамовичу докладывали последние новости, выслушивали его указания, и, хоть все было сделано для предотвращения любых неожиданностей, каждый раз он настойчиво просил своих товарищей:
— Не упустите его, хлопцы! Не дайте ему оторваться!
В десять часов вечера стало ясным, что чернобородый собрался устроить ночевку на Васильевском острове, и Карусь позволил себе маленькую передышку.
Теперь он знал доподлинно, что явка у этого типа английская. Как раз на Шестнадцатой линии мистер Бойс содержал свою явочную квартиру. Правда, «паспортное бюро» не пользовалось ею вот уже много месяцев: то ли англичане считали квартиру взятой на прицел чекистами, то ли берегли для экстраординарных надобностей. Судя по визиту чернобородого, оправдывалось последнее предположение: берегли и теперь сдали в аренду белякам.
С отдыхом у Петра Адамовича получилось неважно. Да и что это за отдых, ежели всю ночь названивают по телефону, сообщая обстановку на Шестнадцатой линии. В явочную квартиру никто больше не входил, никто из нее и не вышел. Света в окнах нет, голосов не слышно. Спят, надо думать, мирным сном, отдыхают.
— Глядите, братцы, в оба! — требовал Карусь от своих товарищей, несущих бессонную уличную вахту. — Держите его на коротком поводке!
Требовал по инерции, не очень опасаясь каких-либо осложнений и случайностей в первую ночь. Разведчикам свойственны все обычные человеческие слабости. Добравшись до сравнительно безопасного местечка, они норовят чуточку расслабиться, отдохнуть, малость набраться силенок. Вот наступит утро, тогда и воспоследует дальнейшее развитие событий, а пока чернобородый акклиматизируется в питерских условиях.
Всего, конечно, наперед никогда не угадаешь, но в общих чертах схема действий Вяземского — Смирнова была понятна. Известны были и лица, с коими попытается он вступить в контакт. Сослуживцы, разумеется, по гвардейской артбригаде, бывшие родовитые офицеры — немало их еще толчется в городе. Прощупывать будет облюбованных заранее людишек, передавать поклоны от родственников и знакомых, обитающих ныне в эмиграции. Вполне вероятно, что и акцию какую-нибудь вздумает предпринять — все тут зависит от наличия соответствующих условий.
Чернобородый преподнес сюрприз.
Никакой особой акклиматизации ему не понадобилось. Выспался на явочной квартире, отдохнул до вечера от дорожных своих передряг и, точно у себя в Париже, спокойненько отправился на Малую Посадскую улицу. Бесцеремонно расспросил дворничиху о жильцах интересующей его квартиры, с нахальной самоуверенностью постучал в дверь. В гостях, правда, был недолго, всего минут десять. Вышел на улицу, не спеша прогулялся по парку, ужинать зашел в ресторан Иванова на Большом проспекте и даже заказывал тамошнему скрипачу «Очи черные», небрежно швырнув на эстраду смятую пятерку.
Сюрприз, преподнесенный чернобородым, заставлял всерьез призадуматься. Не нагловатое поведение этого субъекта было тому причиной, — излишнюю самонадеянность в конце концов можно объяснить личными качествами агента. Настораживал адрес, выбранный для первого петроградского визита.
На Малой Посадской жительствовал комбриг Дмитрий Дмитриевич Зуев, занимающий должность начальника строевого отдела штаба Петроградского военного округа.
Карусь не был знаком с комбригом Зуевым. Не подворачивалось удобной оказии, да и надобности в личном знакомстве как-то не возникло. Все зигзаги жизненного пути Дмитрия Дмитриевича и без того были досконально изучены, будто Петр Адамович собирался стать когда-нибудь биографом этого человека с интереснейшей судьбой.
Комбриг Зуев по праву занимал свое место в славной плеяде военспецов Красной Армии, верой и правдой служивших Советской власти. Такой вывод сам собой приходил в голову, если судить по анкетным данным и весьма лестным характеристикам, накопившимся в его послужном списке.
Анкеты, правда, не в состоянии объяснить, каким образом бывший камер-паж императрицы и бывший батальонный командир лейб-гвардии Преображенского полка разрывает со своим прошлым и становится крупным военным деятелем вооруженных сил победившего пролетариата. Анкеты всего только сборище разрозненных и часто противоречивых фактов, а факты требуется хорошенько осмыслить, сделав из них необходимые выводы.
В среде офицеров-преображенцев Дмитрия Дмитриевича дружески называли Дим-Димом, и шутливое это прозвище незаметно закрепилось за ним на всю последующую жизнь.
Военная карьера Дим-Дима складывалась на редкость удачливо. В августе 1915 года был прикомандирован к царской ставке в Могилеве и сопровождал в разъездах по фронтам чрезвычайную военную миссию англичан, возглавляемую лордом Педжэтом. Вернувшись в полк, принял первый батальон — честь для молодого офицера поистине необычная. Блистательно образован, знает многие европейские языки. Отличается личной храбростью, ранен в бою.
Победу Октября не в пример большинству своих друзей Дим-Дим встретил без злобы и ожесточения. Призван в Красную Армию, служил на строевых должностях, к обязанностям своим относился добросовестно. В штабе округа пользуется большим авторитетом. Умный, энергичный и знающий свой участок работы начальник отдела. Держится скромно, с достоинством.
Таковы были факты. Тем не менее чернобородый посланец Кутепова направился именно к Зуеву, ни к кому другому. Знал стервец, что идет к ответственному работнику Красной Армии, что у Дмитрия Дмитриевича в послужном списке отличия за борьбу с басмачами в Туркестане, что каждодневно он доказывает свою преданность революции. Знал все это и все же прямым ходом направился на Малую Посадскую. Выходит, имел на то какие-то основания?
За годы работы на Гороховой Петр Адамович многому успел научиться. И терпеливой выдержанности умудренного опытом следователя, и доходящей иногда до самоистязания служебной щепетильности, и умению здраво оценивать сложные явления жизни. Когда имеешь дело с живыми людьми и от тебя в какой-то степени зависит их дальнейшая судьба, поспешность способна обернуться непоправимой трагедией. Так же, впрочем, как и излишняя подозрительность, нашептывающая тебе на ухо готовые решения.
Сомнениями своими Карусь по старой дружбе поделился с Печатником, рассказал о неожиданном фортеле чернобородого.
— Напрасно беспокоишься, страшного ничего не усматриваю, — пожал плечами рассудительный Александр Иванович. — Наоборот, великолепно все складывается. Ты сам посуди, коли комбриг этот — порядочный человек, не скотина белогвардейская с двойным дном, он и сам знает, как следует ему поступить. Ну, а ежели замаскированный оборотень — значит, выдаст себя, не удержится. Так что твоя обязанность в данном случае нехитрая — наберись малость терпения и жди...
Ждать пришлось недолго.
На следующее утро Петру Адамовичу велели связаться поскорей с комиссаром штаба округа. Событие там чрезвычайное, связаться требуется без промедлений, комиссар не отходит от телефона.
Выяснив, что стряслось в штабе, Карусь облегченно вздохнул и заулыбался. Нет, комбриг Зуев никакой двойной игры не вел и вести не собирался. Убедительнейшим образом подтвердило это и личное их знакомство, состоявшееся в тот же день.
Не из легких было это знакомство и не сразу поняли они друг друга, отыскав общий язык. К тому же в обрез было времени, а от согласия или отказа Дмитрия Дмитриевича зависел успех задуманной чекистами комбинации.
Всего хуже, однако, обнаруживать в таких разговорах благородное нетерпение, многозначительно поглядывать на часы, поторапливать. Собеседника надо убеждать, причем убеждать доказательно, терпеливо, настойчиво, с тонким пониманием его психологии.
Сюжет событий, разыгравшихся накануне, выглядел в общем-то простенько. Чернобородый явился к комбригу и не застал его дома. Лишь в двенадцатом часу ночи Дмитрий Дмитриевич вернулся с загородных штабных учений. Встревоженная жена вручила ему записку с поклонами от некоего сослуживца по Преображенскому полку, и он до утра не смог уснуть, напрасно проворочался в постели. Рано утром, явившись на службу, прежде всего разыскал комиссара штаба. Комиссар, в свою очередь, счел необходимым немедленно оповестить о случившемся товарищей с Гороховой.
— Что же вы думаете предпринять, когда этот человек заявится к вам снова? — осторожно спросил Карусь.
— Спущу его с лестницы! — не задумываясь ответил комбриг Зуев. — Предпринимать что-либо другое в мою компетенцию не входит. Власть в ваших руках, вот вы и действуйте...
— Увы, Дмитрий Дмитриевич, не так-то все это легко, как кажется. Мы имеем, конечно, возможность арестовать его. Можем и к уголовной ответственности привлечь за нелегальный переход границы. А дальше что?
— Не могу знать, товарищ Карусь! И, откровенно говоря, знать не желаю. Лично я сжег все мосты, соединявшие меня с прошлым. Работаю честно, стараюсь вкладывать в доверенное мне дело всего себя без остатка. Не достаточно ли этого для беспартийного специалиста? С одного вола семь шкур не дерут...
Петр Адамович охотно согласился: этого более чем достаточно. И вдруг добавил, в упор глянув на собеседника:
— Особенно в тех ситуациях, когда про запас оставлен маленький мосточек... Психологический, так сказать, почти условный, где-то в сокровенных тайниках сознания...
— Вы заблуждаетесь, товарищ Карусь! — вспыхнул Дмитрий Дмитриевич. — У вас нет права сомневаться в моей честности. В конце концов я доказал ее в боевой обстановке.
— Нет, не заблуждаюсь, дорогой комбриг. В отличие от вас, я рассуждаю вполне реалистически, а вы, похоже, и впрямь витаете в сфере идеального...
— Это почему же, разрешите узнать?
— Да потому, что не замечаете кипящей вокруг вас ожесточенной классовой борьбы. Вернее, замечаете, но упорно не хотите замечать. Давно умолк гром сражений, но борьба-то не прекращается, и пока не видно ее окончания. Острейшая, между прочим, борьба. Непримиримая, бескомпромиссная, умеющая вовлекать в свою орбиту всех без исключения. Право же, дорогой Дмитрий Дмитриевич, отгородиться от нее крайне затруднительно. Даже честно выполняя служебные обязанности. Кстати, а чем вы объясняете, что господин Кутепов направил своего человека именно к вам? В Петрограде сколько угодно бывших гвардейских офицеров, не менее родовитых, с громкими дворянскими фамилиями, а про Зуева известно, что он комбриг Красной Армии и, стало быть, находится во враждебном лагере... Зачем же связываться с Зуевым?
— Затрудняюсь ответить, товарищ Карусь. Я и сам всю ночь об этом думал. Кутепов, вероятно, надеется на давнее наше знакомство и приятельские отношения, на совместную службу в Преображенском полку. С моей стороны, смею вас заверить, ни малейшего повода не давалось...
— Верю, что не давалось. А курьера шлют к вам — это бесспорный факт. И довольно нагло напоминают о мосточке, который, дескать, связывает дворянина Зуева с дворянином Кутеповым. Вот ведь какая диалектика, дорогой Дмитрий Дмитриевич. Очень они рассчитывают на живучесть сословно-кастовых предрассудков, в честность вашу верить не хотят. А мы вам говорим: рвите с прошлым окончательно и бесповоротно, так как нейтральная позиция в наши дни немыслима...
— Но я отнюдь не нейтрален, я служу в Красной Армии!
— Тем не менее вам не верят, на вас рассчитывают, как на единомышленника...
Длинный был спор, мучительный для них обоих.
Узнав, чего от него ждут, Зуев отказался наотрез. Сгоряча даже буркнул, что с младых когтей презирает голубые жандармские шинели и их самодовольных владельцев. Позднее, несколько поостыв, извинялся и путано объяснял разницу между царскими охранниками и сотрудниками ГПУ, оберегающими интересы трудового народа. После этого опять отказывался, мотивируя свой отказ отсутствием способностей к мистификации. Причин нашлось у него великое множество, причем каждая, по его мнению, была уважительной.
Все это нужно было терпеливо выслушивать и еще терпеливее опровергать, отыскивая убедительные аргументы. При этом надо было помнить, ни на минуту не упускать из виду, что к вечеру, к новому визиту чернобородого, должны они сговориться по всем пунктам.
Дим-Дим страшно не любит напоминаний об этой затянувшейся многочасовой беседе в его служебном кабинете на Дворцовой площади. Сама жизнь, учитель достаточно суровый, многое ему подсказала и на многое раскрыла глаза.
Комбинация развертывалась строго по плану.
Вяземский — Смирнов притащился на Малую Посадскую ровно к девяти часам вечера, как и обещал в своей записке. С лестницы его Дмитрий Дмитриевич спускать раздумал, — это было бы во вред задуманному варианту, но из квартиры своей выпроводил немедленно. И вдобавок сердито отчитал гостя за преступное легкомыслие, категорически запретив впредь какие-либо необдуманные действия. Сделано это было с должной энергией и тоном, не допускающим возражений.
Встреча с чернобородым состоялась спустя три дня у подъезда кинематографа «Сплендид-Палас» на Невском проспекте. Все эти дни Вяземскому — Смирнову было велено сидеть тихо, без нужды на люди не высовываться, а возле кассы кинотеатра понатуральнее изобразить случайный характер свидания старых приятелей-сослуживцев, которые на радостях решили спрыснуть это событие в ближайшей пивной.
Как и предусматривалось планом, комбриг Зуев доверительно сообщил посланцу Кутепова, что имеет честь возглавлять в Петрограде малочисленную, но весьма влиятельную и надежно сколоченную группу бывших гвардейских офицеров. Само собой разумеется, стоящих на платформе монархического возрождения России и признающих верховное предводительство великого князя Николая Николаевича.
Работа офицерской группы целиком строится на принципе жесточайшей конспирации. Посему следует воздерживаться от несогласованных посещений Петрограда. Тем более нежелательны личные контакты с ним, с главой организации. Войти в доверие к большевикам не столь легко, как думают иные люди в условиях эмиграции, и он не имеет желания рисковать своим служебным авторитетом. Данная встреча непосредственно с ним пусть будет первой и последней.
Чернобородый слушал Дим-Дима почтительно и с большой охотой обещал передать все сказанное кому следует. Дело, казалось, сделано, и можно расходиться, не заговори он вдруг о задуманной им террористической акции.
По словам чернобородого, он готов провернуть акцию самостоятельно, не впутывая в нее нелегальную офицерскую организацию. Неплохо бы, допустим, швырнуть бомбочку в коридорах Смольного либо перед окнами цитадели чекистов на Гороховой. За рубежами Советского Союза это должно вызвать огромный резонанс, и весь мир сумеет наглядно убедиться в могуществе антибольшевистского подполья. С собой у него нет соответствующих технических средств, но ревельские друзья обещали полное содействие. Достаточно дать им сигнал, и спустя неделю все необходимое для такой акции будет прислано в Петроград.
— Глупости это! — резко оборвал чернобородого Дмитрий Дмитриевич. — Чистейшей воды абракадабра! Бомбы, милый мой полковник, мы и сами в состоянии раздобыть, в Ревель для этого обращаться не нужно. Но какой от них, спрашивается, прок? Неужто мало нам кровавых уроков прошлого? Комиссары немедленно ответят жестокими репрессиями, начнутся аресты, и вся наша многолетняя работа пойдет насмарку...
— Осмелюсь заметить, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, что генерал Кутепов придерживается несколько другой точки зрения...
— Передайте генералу, что он допускает колоссальную ошибку в оценке реальностей здешней обстановки. Впрочем, передавать ничего не нужно, я об этом сам напишу... Террором свалить большевиков нельзя, зарубите это на носу, полковник. А на резонансы Европы нам плевать с высокого дерева. Хваленой организованности большевиков мы обязаны противопоставить свою собственную, не менее надежную организацию подполья — в этом, и только в этом, ключ к решению русского вопроса. Дисциплина нам нужна, а не террор!
— Слушаюсь, Дмитрий Дмитриевич! Вам, конечно, виднее на месте, не смею спорить...
Обо всем вроде бы удалось сговориться с Вяземским — Смирновым. Тем не менее в четко разработанный план понадобилось вносить существенные поправки.
Чернобородый вежливо отклонил предложение Дим-Дима содействовать безопасному его возвращению в Париж. С явным оттенком хвастовства заметил, что друзья у него по ту сторону границы всемогущие и устроят переправу как должно. Чувствовалось, что с отъездом из Петрограда не торопится. Шныряет допоздна возле красноармейских казарм, что-то вынюхивает, что-то высматривает.
На Гороховой было известно, что чернобородый гонец Кутепова из «горячих голов». Это, естественно, вызывало озабоченность. Поди знай, что на уме у взбесившегося беляка! Не хватает еще дождаться какой-нибудь пакости. Отпустишь вражину подобру-поздорову, иначе нельзя согласно условиям задуманной игры, а в благодарность получишь дикую выходку вроде стрельбы на улице или швыряния бомб.
Ради перестраховки решено было ускорить отъезд ретивого полковника. Незачем ему околачиваться в Петрограде, пусть убирается восвояси.
В тот вечер чернобородый ужинал в ресторане «Белая ночь» на Петроградской стороне. Засиделся, как всегда, допоздна, с удовольствием потягивая сладкую вишневую наливочку. Был в превосходном настроении. Заказывал оркестру «Очи черные» и «Гайда тройка», велел снести за соседний столик полдюжины шампанского в презент от неизвестного лица, строил глазки молоденьким женщинам.
Рассчитался он с официантом ровно в полночь. Вышел из ресторана, поискал извозчика и, не найдя такового, поплелся к себе на Васильевский остров. Мурлыкал вполголоса нечто весьма фривольное, слегка пошатывался.
В первом часу ночи с ним приключилась до крайности нелепая и обидная история.
Не успел чернобородый перейти Тучков мост, как из темноты перед ним возникли три дюжих молодца, умеющие управляться со своим делом быстро и сноровисто. Один из них, ни словечка не сказав, приставил ко лбу Вяземского — Смирнова холодно поблескивающее дуло револьвера, а двое других с ловкостью цирковых фокусников молниеносно опустошили содержимое его карманов.
— Караул, гра-а-бят! — попытался воззвать к милиции чернобородый и тут же вынужден был умолкнуть, приведенный в чувство тяжелыми затрещинами. Бельгийский десятизарядный браунинг вызвал похвалу дюжих молодцов, но еще более возликовали они, быстренько обследовав все отделения его бумажника.
— Казенные там бумаги у меня! Верните хоть бумаги! — смиренно попросил чернобородый. На снисхождение дюжих молодцов он не очень рассчитывал, скулил просто так, для порядка. Однако бумаги ему швырнули обратно и даже оставили в бумажнике рублей восемь на мелкие расходы. Вслед за тем он был награжден сильным пинком в зад, и ночное происшествие закончилось.
Подторапливание, как и надеялся Петр Адамович, оказало свое воздействие.
Ранним утренним поездом, едва успев забежать на Шестнадцатую линию, чернобородый почел за благо ретироваться из Петрограда. Настроение у него было кислое, в милицию он, понятно, обратиться не посмел.
До границы с Эстонией любителя ресторанных кутежей сопровождали молодые помощники Петра Адамовича. Держались на почтительном расстоянии, в глаза старались не бросаться. Они же, кстати, осуществили и деликатную ночную процедуру возле Тучкова моста, напомнив чернобородому о суровой действительности.
Бельгийский десятизарядный маузер с запасной обоймой к нему был сдан по акту коменданту Гороховой, а 164 доллара и 209 рублей, изъятых во время ночной операции подторапливания, направили в Госбанк для зачисления по статье «непредвиденные доходы». Копию приходного ордера Карусь со свойственной ему щепетильностью в денежных вопросах подшил к делу.
Дело это, впоследствии изрядно разросшееся, осенью 1923 года было еще тоненьким, едва-едва возникшим, и до конспиративного свидания с генералом Кутеповым предстояло немало потрудиться, осилив чертову прорву подготовительной работы.
Петр Адамович Карусь не сомневался, что обанкротившийся курьер утаит от начальства скандальные подробности своего пребывания в Петрограде. Кому охота изображать себя в глупейшем виде бессильной жертвы налетчиков? Наоборот, логично было думать, что чернобородый усердно приналяжет на расписывание и всяческое подчеркивание позитивных сторон своей миссии, что встречу и беседу с Дмитрием Дмитриевичем Зуевым преподнесет в наилучшем свете.
Беспокоило другое. Как отреагирует на доклад своего эмиссара Кутепов, известный не только авантюрными замашками, но и своей поистине болезненной подозрительностью? Возьмет ли на веру существование в Петрограде тайной офицерской организации или вдруг засомневается?
Свойства характера генерал-лейтенанта Кутепова, этой восходящей звезды контрреволюционного лагеря, не являлись загадкой для чекистов.
Александр Павлович Кутепов был энергичен, дико властолюбив и совершенно неразборчив в средствах для достижения цели. Втайне он мечтал о личном своем диктаторстве, что не мешало ему клясться в верности престарелому Николаю Николаевичу. Короче говоря, это был кандидат в маленькие российские наполеончики, натура тщеславная, одержимая огромным самомнением.
Общую эту характеристику Петр Адамович мог бы дополнить немалым числом любопытных подробностей, составив подробный перечень кутеповских похождений и подвигов. Перечень этот получился бы довольно длинным и всеобъемлющим — начиная с бегства Кутепова из революционного Петрограда в декабре 1917 года и до искусного захвата ключевых позиций на рю Колизе, в штабе «Российского общевоинского союза».
Почти все похождения генерала Кутепова выглядели откровенно карьеристскими, с изрядной толикой авантюризма, и почти в каждом он неизменно обнаруживал редкостную способность выходить сухим из воды. Другого, менее расторопного, непременно бы расстреляли, навесив позорный ярлык изменника, а этот смуглолицый, сорокалетний ловкач, с выпирающими по-азиатски скулами и чуть раскосыми глазами, всякий раз умудрялся и славу себе добыть, и популярность свою заметно приумножить.
Непостижимо авантюристической выглядела история с его знаменитой телеграммой-ультиматумом генералу Деникину.
Было это в феврале 1920 года, в канун эвакуации белогвардейцами Новороссийска. Удары наступающей Красной Армии день ото дня становились все грознее и неотвратимее, фронт белой армии трещал, надвигалась окончательная катастрофа. Между Деникиным и бароном Врангелем как раз в эти месяцы завязалась откровенная драчка за право возглавлять обреченное дело контрреволюции.
Свежеиспеченный генерал-майор Кутепов, без году неделя командовавший Добровольческим корпусом, именно в феврале обратился с ультиматумом к главнокомандующему Деникину. Командир корпуса добровольцев демагогически потребовал внеочередной эвакуации его частей за границу ради «сохранения их до того времени, когда родине снова понадобятся надежные люди».
Ультиматум был бесцеремонный, наглый и состоял из десяти категорических пунктов. Заканчивался требованием немедленно передать в распоряжение командира Добровольческого корпуса единственную железную дорогу, по которой еще могли спасаться вояки Деникина. Начхать, дескать, мне на всех прочих, пусть гибнут в огне сражений, главное — пристроить на корабли марковцев и дроздовцев, чьи руки по локоть в крови.
Как всякий здравомыслящий человек, Карусь отказался бы поверить в эту дикую фантасмагорию, но по роду служебных своих занятий приходилось ему время от времени знакомиться с официальными документами недавнего прошлого. Познакомился он в том числе и с ответом генерала Деникина, сообщающего автору ультиматума, что, «охотно принимая советы своих соратников», он тем не менее вынужден требовать «соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного к начальнику».
Требование Деникина вызывало улыбку. О каких там «правильных взаимоотношениях» могла идти речь, когда основой основ в лагере белогвардейцев всегда были корыстный эгоизм и людоедское человеконенавистничество? Кутепов лишь осмелился перешагнуть через общепринятую норму, да и то рассчитал все безошибочно, нажив на своем дерзком ультиматуме капитал «бесстрашного защитника добровольцев».
Эмигрантская действительность, изучением которой занимался Карусь, наглядно подтверждала, что «основа основ» по-прежнему остается незыблемой. Ели друг друга господа эмигранты поедом, и в скандалах не было недостатка.
Умеренные монархисты, называвшие себя «непредрешенцами», выдвинули формулу «вождь — армия — интервенция». С пеной у рта они доказывали жизненную необходимость провозглашения великого князя Николая Николаевича верховным предводителем всей эмиграции, потому как «русский народ ждет своего воскрешения от высшей, Богом данной власти».
Легитимисты-«кирилловцы», услышав этакое, возмущались и яростно протестовали в своих изданиях: помилуйте, какой еще понадобился верховный предводитель эмиграции, ежели налицо у нас законный «Местоблюститель Государева Престола», великий князь Кирилл Владимирович, который вот-вот провозгласит себя императором!
И «непредрешенцев» и «кирилловцев» ядовито высмеивали бойкие фельетонисты «Последних новостей», просвещенные либералы кадетского направления, благо материала для сарказма хватало с избытком.
Вовсе курьезный оттенок приобрела словесная перепалка враждующих сторон, когда подал голос доктор Даниил Самойлович Пасманик, личность в некотором роде уникальная и неповторимая даже в пестром эмигрантском паноптикуме.
Доктора Пасманика, видного сионистского деятеля, приобретшего скандальную славу пламенной защитой дома Романовых в наиболее глухие годы разгула черносотенцев, вывел из равновесия профессор П. Н. Милюков. Точнее, не сам профессор, а крылатые слова, брошенные в одном из публичных выступлений Павла Николаевича и мгновенно подхваченные эмигрантской печатью. «Я не знаю, как мы придем в Россию, но я твердо знаю, как мы туда не придем», — сказал П. Н. Милюков, недвусмысленно осуждая интервенционистские замыслы главарей белого движения.
«Вождь должен знать, что делать, — возопил неистовый Даниил Самойлович. — Вы не знаете, вы не вождь, я за вами не пойду». И, недолго думая, разразился статьей, зовущей к открытому террору против всех советских людей, работающих за границей, иносказательно именуя убийства и подлые выстрелы в спину сильными политическими «встрясками».
Генерал Кутепов, как и подобает военному человеку, не принимал участия в шумных дискуссиях и эмигрантских скандалах. Вместо бесплодных словопрений он молча готовил эти самые кровавые «встряски», усиленно засылая на советскую территорию фанатически настроенных террористов-головорезов.
Выиграть задуманную чекистами сложную игру против «Российского общевоинского союза» и зловещих его планов — значило выиграть мир и спокойствие для советского народа. Ради этой благородной цели стоило трудиться днем и ночью.
Долгие недели ушли на томительное ожидание ответного хода генерала Кутепова.
Давно вернулся в Париж чернобородый полковник, успел отчитаться на рю Колизе и вновь уехать, на этот раз в Черногорию, к месту своего постоянного жительства. Давно истекли все сроки, а Кутепов все еще не обнаруживал интереса к подкинутой ему приманке, будто и не велик был искус.
Лишь в последних числах декабря, в канун нового, 1924 года, дождались наконец весточки из Парижа. Поступила она по согласованному с чернобородым каналу связи.
Это было маленькое частное письмецо с перечислением заурядных семейных новостей, адресованное к тому же не Дмитрию Дмитриевичу Зуеву, а подставному лицу.
Скупые шифрованные строчки, предназначенные для Дим-Дима, оказались нарочито сухими и сдержанными. По старой полковой дружбе Дмитрия Дмитриевича Зуева приветствовали, но в форме намеренно безличной, какой-то неопределенной.
Важнейшее заключалось в требовании реальных доказательств существования нелегальной офицерской организации. Доказательства генерал Кутепов желал иметь внушительные: дислокация войск Петроградского военного округа, описание нового стрелкового оружия Красной Армии, новый полевой устав пехоты.
Цена была назначена по-базарному, с бессовестным запросом, и все же Карусь чувствовал себя победителем. Замысел его, похоже, оправдывался, приманка сработала надлежащим образом, и теперь надо было хорошенько обдумать дальнейшие ходы, завязав всю комбинацию тугим морским узлом.
От мысли отправить в заграничный вояж самого Дмитрия Дмитриевича пришлось отказаться. Соблазнительно выглядела встреча двух преображенцев, немалые преимущества сулила, но шаг этот был бы ошибочным, чересчур рискованным.
Комбриг Зуев слишком заметная фигура, ему нельзя разъезжать по конспиративным свиданиям. Да и не к лицу главе серьезной антисоветской организации становиться мальчиком на побегушках. Исполнителей у него вполне достаточно, найдет кого отправить.
Срочно нужен был курьер.
Желательно из бывших офицеров гвардии, лично известных генералу Кутепову, что упростило бы контакты. И, само собой разумеется, вполне надежный человек. С житейским опытом, с умением ориентироваться в трудной обстановке.
Имя штабс-капитана Муравьева первым произнес Дмитрий Дмитриевич Зуев, и это было похоже на сеанс отгадывания чужих мыслей. Оба они, и Карусь, и Дим-Дим, как выяснилось, думали одинаково.
— Согласится ли Назарий Александрович?
— Полагаю, что отказываться не будет, — сказал комбриг Зуев. — Он у нас дядя с твердыми взглядами. И Кутепова знает как облупленного, — служил у него в батальоне...
— Обидели его, к сожалению. Нашлись в отделе кадров сверхбдительные деятели...
— Я в курсе дела, — подтвердил комбриг Зуев. — Между прочим, недавно беседовали об этом, обменивались мнениями. Назарий Александрович трагедии из своего увольнения не строит. Рассуждения у него здравые и по-своему убедительные: в мирное, мол, время комбаты из дворянского сословия являются излишней роскошью для армии. Пора, мол, рабоче-крестьянской власти выращивать собственные командные кадры, созрели для этого все необходимые условия...
Назарий Александрович Муравьев и впрямь был личностью примечательной во многих отношениях. Блестящий гвардейский офицер, командир
роты Преображенского полка, он осенью 1918 года волею судеб оказался в рядах молодой Красной Армии. Службу нес исправно, из рядовых красноармейцев-обозников выдвинулся в командиры стрелкового батальона, принимал участие в разгроме Юденича под стенами Петрограда.
Свое неожиданное и не совсем справедливое увольнение в запас Назарий Александрович воспринял по-мужски, без истерики. Получил выходное пособие по демобилизации, зарегистрировался, как положено, на Бирже труда и спустя месяц начал работать инструктором допризывной подготовки в трудовой семилетней школе на Выборгской стороне.
— Мы могли бы возбудить ходатайство о вашем возвращении на строевую службу, — сказал Петр Адамович под конец их длительной беседы. Сказал и тут же сообразил, что не следовало говорить этих слов.
— Благодарствую, товарищ Карусь, — вежливо отказался Назарий Александрович. — С малых лет приучали меня обходиться главным образом собственными силами, так что нет теперь резона переучиваться. Да и должностью своей весьма доволен. Увлекательная, знаете ли, работенка, с молодежью. От нее и сам как-то молодеешь...
Съездить в Германию Назарий Александрович взялся без малейших колебаний. Сказал, что не пробовал сроду быть разведчиком, но понимает всю необходимость такой поездки. Еще сказал, что давно ощущает чудовищную глубину пропасти, в которую скатилась белая эмиграция.
И, спасибо ему, труднейшую свою миссию выполнил находчиво, не дрогнул перед трудными испытаниями в Висбадене. Хладнокровно вел себя, с должной выдержкой, не грех поучиться у него многим товарищам.
Мессинг был прав, опасаясь, что известие об аресте на советской земле Бориса Савинкова должно насторожить главарей белогвардейщины. Могло оно и вообще свести к нулю все достигнутые результаты. Больно уж близкими по срокам оказались оба эти события: не успел уехать домой Назарий Александрович, как грянул гром среди ясного неба и всколыхнулось вонючее эмигрантское болото, оплакивая попавшего в беду «великого террориста».
Но обедня стоила свеч. Достаточно было почитать собственноручные показания Бориса Викторовича Савинкова, и сразу становилось ясным, что лагерю контрреволюции нанесен сокрушительный удар. А Кутепов, если ему желательно, пусть затевает новую перепроверку, это его право.
В душе Карусь исключал неудачу. Не говорил об этом даже близким своим товарищам, но про себя крепко надеялся на азартный характер генерала. Скажется он, обязательно должен сказаться. Провал Савинкова, разумеется, удвоит подозрения Кутепова. Тем не менее игру он ведет свою, вполне самостоятельную. «Великий террорист» в его глазах всего лишь ловкий конкурент, сломал себе шею — туда ему и дорога. К тому же и политическая обстановка в эмиграции заставляет искать эффективных «встрясок».
Опять надо было запастись терпеньем.
Ничего другого изобрести нельзя, поскольку сделано все необходимое и инициатива на какое-то время перешла к твоему противнику. Сиди и, как говорят, не рыпайся, жди своего часа. Для очистки совести можешь проверить готовность всех участников комбинации. Это не важно, что в каждом ты полностью уверен, все равно проверь. Поразмысли также о коварных сюрпризах и неожиданностях, которые частенько сбивают с толку и которые надо оборачивать в свою пользу. А главным образом, сиди и дожидайся. Таковы правила игры.
Кутепов впрочем не собирался ждать.
Через две недели после возвращения Назария Александровича из Висбадена пожаловал в Ленинград генеральский курьер. С шифрованным посланием для Дим-Дима, с тяжелой пачкой отпечатанных на тонкой бумаге листовок и, что предвещало немалые хлопоты, с ненасытной жаждой террористических действий, которая распирала этого офицерика еще сильнее, чем в свое время чернобородого.
Один из участников комбинации, молодой еще чекист, по условиям игры должен был принимать этого курьера на специально подготовленной явочной квартире.
Задание есть задание, и никого не должно беспокоить, нравится оно исполнителю или совсем не нравится. В соответствии с инструкцией молодому товарищу полагалось тонко и психологически безошибочно разыграть перед курьером роль нижестоящего члена монархической офицерской организации. Помнить о законах гостеприимства, любезно угощать зарубежного коллегу водкой и с сочувственным выражением лица выслушивать несусветно пошлую антисоветчину, когда оплевываются и смешиваются с грязью все самые дорогие для тебя человеческие святыни. Даже поддакивать время от времени, понимающе кивая головой.
Мучительное было задание. До смерти хотелось сгрести в охапку этого захмелевшего самодовольного гуся, намять ему бока, призвать к порядку.
— Бешеный он какой-то, весь насквозь пропитан ненавистью, — жаловался молодой чекист, рассказывая Петру Адамовичу Карусю о своих наблюдениях. — Два у него револьвера на вооружении, бельгийский маузер и «стейер» прямого боя, совершенно новенький. За поясом охотничий кинжал, а в кармане маленькая зеленая склянка с плотно притертой пробочкой. Думаю, что в ней сильнодействующее ядовитое вещество. Очень он с ней осторожен, видно, и сам побаивается. Опасаюсь я, товарищ Карусь, не натворил бы у нас безобразий этот прохвост. Не вернее ли будет изолировать его от греха подальше?
— Нет, дорогой товарищ, не вернее, — покачал головой Петр Адамович и невольно усмехнулся, вспомнив чекистскую свою молодость: первые задания и ему казались тогда неслыханно трудными, почти невыполнимыми. — Изолировать курьера проще пареной репы. Выписал ордер на арест, посадил в одиночку и пиши обвинительное заключение. Большого ума для этого не требуется, а вот убежден ли ты, что не останешься в накладе?
— Затрудняюсь сказать, товарищ Карусь...
— Вот и я, брат, затрудняюсь, а действовать вслепую не в моем духе. Так что потерпи и старайся ничем себя не выдать. А безобразничать мы ему не разрешим. Ни в коем разе не должны разрешить. Иначе нас с тобой надо гнать отсюда за дармоедство...
— Еще я забыл доложить, товарищ Карусь: страшно он заботится о листовках своих, которые притащил в брезентовом мешке, Я, говорит, на горбу их пер, через болото, с опасностью для жизни, вы, говорит, с ними поаккуратнее...
— Учтем его просьбу, дорогой товарищ. С листовками все будет в полном ажуре...
Кутеповское послание, адресованное комбригу Зуеву, удалось быстро расшифровать. Послание в общем-то было ерундовское. С весьма наивным и глупо тенденциозным обзором международного положения, с требованиями всемерно ускорить активные действия. Другого от Кутепова и ждать нечего: этому подавай побольше смертей, шпионских сведений, кровавых «встрясок».
Наибольший интерес чекистов вызвала записочка от какой-то Пэгги, приложенная в качестве довеска к посланию. Открытый текст, тайнописи никакой не выявлено, а содержание темное, невразумительное, с загадочными намеками.
Комбриг Зуев долго и удивленно разглядывал эту записочку, усмехался в усы, снова и снова перечитывал.
— Жив курилка! — весело произнес Дмитрий Дмитриевич, возвращая записку. — В туманном Альбионе анекдотики свои рассказывает, англичан смешит...
— Пэгги — это псевдоним?
— Просто полковое прозвище. Для узкого офицерского круга, для разных застолиц и мальчишников. Был у нас такой типус. Малевич-Малевский его фамилия, Павел Николаевич, полковой адъютант. Редкостный балагур и сочинитель всякой похабщины. Вот его и окрестили на английский манер, не помню уж, по какому случаю, стали называть Пэгги. У вашего покорного слуги, между прочим, тоже имелось в полку свое прозвище...
— Какое же? Это любопытно.
— Царь зулусов, представьте. Ни больше и ни меньше.
— А в тексте записочки вы не усматриваете каких-либо несуразностей? Ошибки, допустим, намеренной или явного искажения общеизвестных фактов. Поглядите хорошенько, Дмитрий Дмитриевич, это чрезвычайно важно...
Комбриг Зуев задумался, снова перечитал странную записку.
— Есть тут, пожалуй, маленькая неточность. Видите, в конце написано: «Всегда с умилением вспоминаю твою застольную притчу о бургундском вине»?
— Притча эта не ваша?
— В том-то и фокус, что не моя. Павел Николаевич сам ее придумал и страшно этим гордился. При любом винопитии, а случались они у преображенцев частенько, любил с удовольствием повторять. Мол, кто бургундского не пьет, тот набитый болван, тот враг живота своего, тот достоин презрения истинных мужчин и так далее. Шутовская глупая побасенка, целиком в его характере. Удивляюсь, зачем было приписывать ее мне!
— А затем, дорогой товарищ комбриг, что крайне хочется им убедиться в подлинности Дмитрия Дмитриевича Зуева, вступающего в сотрудничество с его превосходительством генералом Кутеповым. Примерно такую ловушку и следовало ждать. Простенькую, как видите, в некотором роде даже изящную, но срабатывающую безотказно...
— Стало быть, и от авторства мне следует отказаться?
— Непременно! — рассмеялся Карусь. — На кой вам черт брать на душу идиотские сочинения Малевича-Малевского? Человек вы солидный, всеми уважаемый, с положением. Напишите ему, что знать, мол, ничего не знаю. Притча эта твоя, милейший Павел Николаевич, не приписывай ее мне, сроду не имевшему литературных талантов. И вообще, Дмитрий Дмитриевич, давайте ускорим составление ответов этим господам. Курьера они прислали отчаянного, с сумасшедшинкой, так что задерживать его в гостях не хочется. Отправим поскорей обратно...
Балагур и сочинитель анекдотов Павел Николаевич Малевич-Малевский, бывший полковой адъютант лейб-гвардии Преображенского полка, давно уж числился у чекистов как платный агент Интеллидженс сервис.
Петр Адамович не стал сообщать об этом комбригу Зуеву. У секретных служб свои неписаные правила и законы: каждый знает лишь то, что ему положено знать в интересах общего дела.
А. П. Кутепов — Д. Д. Зуеву
Дорогой друг, был рад получить от тебя весточку, которую с нетерпением ждал столько времени. Спасибо, что прислал Назария, он твердый и верный преображенец, для роли курьера подходит.
Направляю тебе листовки с изложением последней беседы нашего верховного вождя с американским корреспондентом. В ней изложены основные вехи программы движения, используй по своему усмотрению.
Сообщаю некоторые соображения о политической обстановке на Западе по русскому вопросу.
У французов медовый месяц заигрывания с большевиками закончился. В недалеком будущем можно ждать охлаждения, тем более имея в виду, что французские рантье с русскими акциями все настойчивей требуют возмещения убытков и правительство поневоле должно нажимать на Советы в смысле признания старых долгов.
В Англии красные ничего добиться не сумели, и здешнее правительство изыскивает способ уничтожения осиного гнезда в Москве. Способ, разумеется, такой, чтобы самим остаться в тени, заставив других таскать каштаны из огня.
У итальянского правительства настроение к большевикам самое отрицательное, но эта страна никакой помощи нам не окажет.
Зато в Германии для нас складывается обнадеживающая картина, как благодаря росту национализма, так и ввиду возможности реставрации монархии. Круги, близкие к Гинденбургу, сообщают о переговорах между Германией и Англией по вопросу о ликвидации коммунистической опасности. Вполне возможно, что немцы помогут нам существенно, в особенности если их благословят англичане. К сожалению, мутят воду в этой стране самозванцы во главе с Кириллом Владимировичем.
Что же касается окраинных государств, то есть Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши и Румынии, — они готовы всеми мерами содействовать сокращению жизни московских правителей.
Однако на других надейся и сам не плошай. Нам сейчас надо думать о подрубании основных столбов советского здания. Для этой благородной цели могу прислать специально обученных и готовых на все патриотов. Сообщи, когда можешь их принять, какие намечаются фигуры в первую очередь.
Считаю, что вам необходимо в первую очередь: 1) увеличить число ячеек, воспитывая их на предмет готовности к решительным действиям в надлежащий момент; 2) выявлять надежные части в войсках и усиливать их преданным командным составом; 3) захватывать возможно большее число видных должностей; 4) попытаться искать сторонников в верхах партии, прощупать на сей счет троцкистов.
Как видишь, мы здесь ставку делаем на Красную Армию как на нашу будущую национальную русскую армию.
Благодарю за присланную информацию. Нам жизненно необходимы сведения, дающие представление о вооруженных силах, об экономике, о разногласиях в партии.
Предпринимаю все возможное, чтобы поддержать твою работу средствами. Можешь ли ты по своему положению встречаться с иностранцами? Было бы хорошо тебе самому побывать за границей, тогда договорились бы до всего.
Поклон всем нашим. Храни тебя Господь.
Орлов.
Д. Д. Зуев — А. П. Кутепову
Дорогой Александр Павлович, сердечно благодарю тебя за твой обзор международного положения, которое в главных чертах считаю вполне благоприятным для нашего святого дела. По твоему указанию оформляем местные ячейки, построенные по принципу троек и пятерок. Выявляем наиболее твердые и стойкие части в войсках округа, на которые можно опереться. Исключительно ценно твое указание о захватывании важных должностей в советской иерархии, но учти, что это дается трудно.
Со своей стороны прошу тебя принять во внимание следующее. Твой человек, присланный к нам, совершенно лишен понятия об осторожности. Мне доложили, что порывался чуть ли не на Невском проспекте стрелять в первых попавшихся коммунистов. Пришлось с ним повозиться и понервничать, что в наших условиях, и без того нервозных, совершенно нежелательно. Впредь прошу слать людей дисциплинированных, выдержанных, умеющих управлять своими чувствами.
Вопрос о «подрубании столбов» многократно обсуждали еще до твоего письма. Всякий раз получается разнобой: часть наших считает эту меру преждевременной, другие — вообще недопустимой формой борьбы, а горячие молодые головы, понятно, готовы на любые крайности.
Личное мое мнение таково: враги наши — партия массовая, быстро и умело восполняющая потери, а единичные выстрелы хороши были в 1917-1918 гг. Теперь, увы, поздно. Результат будет, как после смерти Урицкого, — массовые репрессии против наших людей, что сразу разрушит плоды наших многолетних трудов.
Поездка моя за границу в настоящий момент исключена, так же как и встречи с иностранцами.
В Питере мы довольно прочны. В вооруженных силах связи крепкие и надежные. Вычищенные из армии (кое-кто, как Назарий, попался под подозрение и уволен) ведут работу по гражданской линии.
В заключение несколько слов об обстановке в войсках округа. Напряженные усилия по подготовке командного состава дали положительные результаты. Стрельба за этот год повысилась. Маневры были неплохие, войска проявили присущую им выносливость, боевой дух, действовали умело и настойчиво.
Крепко жму твою руку.
Преображенский.
Пэгги — Царю зулусов
Пишу тебе с оказией. Живу постоянно в Англии, много разъезжаю. Специально заинтересован Евразийством (м. б., слыхал?), издаем книги и брошюры для распространения в России.
Постараюсь выслать первую нашу брошюру «Задачи евразийского движения» и, если хочешь, пошлю постепенно и остальные. Имею возможность послать к тебе человека, но не иначе, как с твоего согласия. Всегда с умилением вспоминаю твою притчу о бургундском вине.
Пэгги.
Царь зулусов — Пэгги
Здорово, старина. Счастлив иметь твою весточку. Память у тебя, как видно, ослабла, и собственную притчу ты приписываешь мне. Нехорошо, брат, этакая скромность хуже гордыни.
Буду рад получить твои издания. Человека присылай, если он местный и знает наши порядки. Англичан ради бога не шли, а лучше всего приезжай сам, тогда и притча пригодится.
Царь зулусов.
Акт о сожжении
29 декабря 1924 года мы, нижеподписавшиеся... составили настоящий акт на уничтожение путем сожжения контрреволюционной литературы, поступившей в КРО.
Предано уничтожению 5000 экз. листовки «Великий князь Николай о будущем русского народа и России». Два экземпляра означенной листовки переданы в распоряжение тов. Каруся П. А.
Следы ведут в Басков переулок
Гибель Кости Угренинова. — Герцогиня Лейхтенбергская помогает чекистам. — Смотр выпускников Лицея. — Глашенька опознала тайного советника. — Охотник за миллионами.
Совпадения чаще всего бывают случайными. Правда, иные из них настолько зловещи и многозначительны, что волей-неволей заставляют вздрогнуть. И никак не избавиться от их впечатляющей силы, сколько ни внушай себе, что перед тобой обыкновенная сцепка случайно столкнувшихся житейских явлений.
В конце мая 1924 года бывший лицеист Иннокентий Замятин вернулся из очередного «лечебного» отпуска. Был страшно подавлен, чем-то угнетен, плакался и бормотал жалобные бессвязные слова у Глашеньки Нечаевой, осуждая сатанинскую злобу, превращающую людей в диких животных.
И в конце мая, в ту же самую пору белых ленинградских ночей, погиб Константин Петрович Угренинов, молодой талантливый чекист. Погиб трагически, распятый заживо, ни слова не сказав своим мучителям. Неизвестно даже, где искать его безымянную могилу, зарыли, должно быть, в лесу под Усть-Нарвой.
Нет прямой связи между этими разрозненными фактами. Нет и не предвидится, а если и есть она, попробуй-ка докажи ее существование. Глафире Нечаевой неведомо, куда и по какой надобности уезжал ее возлюбленный, да и никто не раскроет теперь тайны, а Иннокентия Иннокентьевича спрашивать поздно, потому что мертвые безмолвствуют.
С другой стороны, туманны и совсем не разгаданы таинственные обстоятельства гибели Константина Угренинова. Каким образом сумели схватить его фашиствующие молодчики доктора Сильверстова? И мог ли быть их сообщником тихий экспедитор треста хлебопекарной промышленности?
В общем, как ни рассматривай оба эти явления, получалось, что скорей всего они просто совпали во времени. Мало ли что случается на земле, не будучи взаимосвязанным и взаимообусловленным. Жизнь полна неожиданностей.
Но почему же тогда засело в голове это странное совпадение, мешая жить и работать? Чем бы ни занялся, о чем бы ни размышлял, непременно возвращаешься мыслями к нему и, главное, видишь, почти осязаемо представляешь страшную расправу фашистов над твоим беззащитным товарищем. Нервы, надо полагать, разыгрались, сказывается переутомление.
Печатник был едва знаком с Костей Угрениновым. Частенько так бывает, когда служебные интересы вплотную не соприкасаются и встречаться приходится редко. Запомнилась мягкая улыбка, освещавшая тонкое Костино лицо, врожденная его деликатность и какая-то застенчивость.
Говорили, что Костя Угренинов сочиняет на досуге стихи. Читал он их с неохотой, только близким своим друзьям по их настойчивым просьбам, и те искренне удивлялись, не находя в его стихотворениях ничего схожего с бойкой газетной поэзией, приуроченной к красным датам революционного календаря. Угрениновские стихи были тихие, задумчивые, хватающие за душу, воспевались в них березовые рощи, необъятная синева небес, полуденная песенка жаворонка.
Еще любили вспоминать, всегда с доброй усмешкой, знаменитые рапорты, которыми бомбардировал застенчивый Угренинов высокие служебные инстанции, настаивая на немедленном увольнении из органов ВЧК — ОГПУ. Рапорты эти, в отличие от стихотворных его опытов, вызвали в свое время много шуму и помогли круто изменить судьбу молодого работника КРО.
Несмотря на молодость, Константин Петрович был членом большевистской партии с дореволюционным стажем. Прапорщик военного выпуска, недоучившийся студент юридического факультета столичного университета, он связался с коммунистами на фронте, в окопах под Перемышлем, и до последнего своего вздоха оставался верен избранному пути.
После победы Октября Угренинова, как и многих других, направили по партийной путевке в Петроградскую Чека.
Работал он несколько месяцев в знаменитой ревизии члена коллегии ВЧК М. С. Кедрова. Помогал очистить Мурман от заядлых белогвардейцев и подпольной агентуры интервентов, оставшихся в наследство от Главномура; утверждал Советскую власть. С севера был направлен в Особый отдел кавалерийской дивизии на Западный фронт. Трудился всюду с выдумкой, с огоньком, с полной отдачей всех сил. И, подобно большинству коренных питерцев, очутившихся на других участках гражданской войны, тянулся душой к берегам Невы, в любимый свой Петроград.
В личном его деле, среди прочих документов, подшито немногословное заявление на имя начальника Особого отдела Запфронта Филиппа Медведя. После сыпного тифа Угренинову был предложен медкомиссией месяц на дополнительное лечение и заслуженный отдых. В заявлении своем он пишет, что «отдыхать в настоящее время стыдно», и просится в Петроград, где начинал когда-то чекистскую службу, где его многие знают: «Там я смогу принести больше пользы».
Увы, на берегах Невы Косте Угренинову не посчастливилось. Вместо оперативной работы его с ходу засадили за канцелярский стол. Кадровики при этом рассуждали здраво и на свой резон вполне убедительно: товарищ грамотный, с незаконченным юридическим образованием, должен навести строгий порядочек по части входящих и исходящих бумаг.
Угренинов занимался канцелярскими делами без малого два года. Наводил и в конце концов навел образцовый порядок, втайне рассчитывая, что скоро его заменят другим работником.
Начальство, однако, не спешило с переменами, начальство было удовлетворено существующим положением вещей. Вот тогда-то и возникла серия настойчивых угрениновских рапортов по команде, которые к тому же были составлены в весьма энергичных выражениях.
В одном из этих рапортов, красочно описав свой рабочий день завзятого канцеляриста, Угренинов делал следующий невеселый вывод: «Такова истинная причина, побуждающая меня выбраться поскорее из этого бумажного царства, где я, как человек, стремящийся принести максимальную пользу Республике (а я вправе говорить такое о себе как солдат, жертвовавший головой для революции), вынужден ежедневно заниматься постылым бумагомаранием и протиранием брюк в служебном кресле».
У оперативной работы нет ни малейшего сходства с канцелярским бумагомаранием. Особенно в тех случаях, когда доверяют тебе ответственные и совсем небезопасные поручения, где все целиком зависит от твоего искусства перевоплощаться, от личных твоих достоинств и талантов.
«Человек состоит из души, тела и паспорта», — любит пошучивать Станислав Адамович Мессинг в минуты благодушного настроения. Так вот, требуется и паспорт сменить на чужой, и телом своим управлять в соответствии с заданным условиями образом, и думать научиться по-новому, не так, как думал прежде, в собственном своем обличье. Тогда, быть может, выйдет из тебя стоящий оперативник.
Константин Петрович Угренинов был, как говорится, оперативником милостью божьей.
Находчив, сообразителен, умен, прилично изъясняется по-французски и по-английски и, что ценнее всего другого, умеет сохранять ясную голову в острейших кризисных ситуациях. А ситуации эти, кстати, имеют обыкновение возникать в самые неподходящие моменты: все, казалось бы, складывается не в твою пользу, все из рук вон плохо, безнадежно, но ты найди единственно верный выход, переиграй судьбу, на то ты и зовешься оперативником.
Последнее задание Угренинова было не из самых тяжких. Ездил он сравнительно недалеко, повидал нужных ему людей и должен был возвращаться домой. Прикрытие имел надежное, документы подлинные — не липу какую-нибудь второсортную, вызывающую приступы бдительности у любого пограничного жандарма, не говоря уж о многоопытных сотрудниках контрразведки.
К назначенному сроку он не появился в Ленинграде. Особого беспокойства это не вызвало, потому что сроки чаще всего ориентировочны, с поправками на разные осложнения и неожиданности, стерегущие в такого рода путешествиях.
Не вернулся он и спустя месяц после назначенного срока. Был известен день его прибытия в Ревель, а самого Угренинова все не было.
На Гороховой про несчастье с молодым чекистом впервые услышали от особы, имеющей прямое родственное отношение к великому князю Николаю Николаевичу, главному претенденту на российский престол.
Да, так и было это, не иначе. Исследователи всех сложностей и противоречий классовой борьбы в двадцатых годах нашего столетия могут принять сей факт как совершенно подлинный.
О трагической гибели молодого чекиста сообщила герцогиня Лейхтенбергская. Сообщила по велению совести, искренне возмущаясь каннибальской жестокостью недавних своих знакомых из так называемого великосветского общества.
С первых дней революций Дарья Евгеньевна причисляла себя к тем немногим русским интеллигентам, кто имеет право находиться как бы над схваткой. Если бы ее попросили однажды объяснить, на чем, собственно, держится это ее сомнительное право, она, вероятно, напутала бы с ответом и все же старалась быть во всем нейтральной, никак не выражать своего личного отношения к происходящему в стране.
Отец ее, герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбергский, на старости лет ввязался в дурно пахнущие политические интриги и комбинации, слишком охотно давая согласие на участие в эмигрантских «правительствах», двоюродный ее дядюшка, великий князь Николай Николаевич, выступал в роли кандидата в верховные вожди белой эмиграции, а она по-прежнему жила в маленькой своей квартирке на Моховой улице в Ленинграде, окруженная любимыми книгами и картинами. На эмигрантские харчи не рвалась, новой жизни вокруг себя не одобряла и не осуждала, будучи вполне удовлетворенной своей участью.
Спору нет, внушать самой себе, будто пребываешь над схваткой, куда как легче, нежели в действительности сохранять нейтралитет. У жизни свои законы, и переступить их бывает трудно.
Александр Александрович Блок, по праву старого знакомства, прислал ей однажды милое письмецо, выражая уверенность, что и она примет участие в хлопотах общественности по созданию коммунального драматического театра на Фонтанке. Ни минуты не колеблясь, она влезла с головой в эти хлопоты. Театр получился отменный, с талантливой труппой и с неукротимым стремлением избавиться от надоевшей всем академической рутины.
Максим Горький, обладавший талантом выискивать необходимых ему сотрудников хоть на дне морском, втянул в созданное им издательство «Всемирная литература». Для затравки подсунул перевод с испанского, поторапливал всячески и с щедрым своим великодушием расхвалил несовершенный ее опус.
Отыскалась для нее работа и в Публичной библиотеке. Как раз по ее характеру — увлекательная и захватывающая библиографическими находками, так что об отказе не могло быть и разговора.
В Ревель Дарья Евгеньевна ездила с ведома властей, дождавшись визы в установленном для всех советских граждан порядке. Поездка была связана с невеселыми семейными обстоятельствами — скоропостижно скончалась дальняя ее родственница, оставив в наследство коллекцию акварелей итальянских мастеров.
В русских эмигрантских кругах Ревеля нежданный приезд герцогини Лейхтенбергской произвел сенсацию. Некоторые откровенно ее сторонились, за глаза называя чуть ли не «красной» герцогиней и тайным эмиссаром Коминтерна; другие, напротив, с навязчивой бесцеремонностью лезли в друзья и покровители. Про то, что сочинялось о ней в местных газетах, лучше не вспоминать.
Едва ли не в первый день ей предложили устроить бегство в Шуаньи, под крыло Николая Николаевича. Она, понятно, отказалась наотрез и даже не захотела встретиться с присланным за ней офицером из личной стражи дядюшки. Мотивировка была уважительной — она не желает причинять неприятности своему супругу, оставшемуся дома. По той же причине было отказано и в заявлениях для печати.
Но полностью отгородиться от знакомых оказалось выше ее сил. Изредка она появлялась на светских приемах, имела длительные беседы со многими лицами, претендующими называться духовными вождями эмигрантской колонии в Ревеле.
Услышанное и увиденное в одной из здешних гостиных потрясло Дарью Евгеньевну до глубины души.
Отвел ее в сторонку Борис Павлович Сильверстов, модный когда-то столичный лекарь. Особыми доблестями сроду не славился этот верткий человечек — был обычным бойким докторишкой с румяными щечками и нафабренными щегольскими усиками, а тут ни с того ни с сего заговорил вдруг о терроре, о политических убийствах и акциях возмездия.
Под аккомпанемент пустопорожней светской болтовни ей было предложено вступить тайным членом в некую террористическую лигу антикоминтерновского характера. То ли в подтверждение своих полномочий, то ли по свойственной ему браваде, доктор Сильверстов принялся рассказывать Дарье Евгеньевне, как он и его единомышленники казнили недавно в лесу выслеженного ими сотрудника ГПУ. Казнь по решению антикоммунистической лиги была выбрана медленная и достаточно устрашающая, в чем легко убедиться, взглянув на фотографии.
От фотографий этих у нее сдавило дыхание.
На искривленной сосне, напоминающей лиру, был распят молодой мужчина. Нагой, подобно Иисусу Христу, весь растерзанный и окровавленный. Рядом с ним, любуясь на дело рук своих, позировали самодовольные, улыбающиеся палачи.
Возвратившись из заграничной поездки, Дарья Евгеньевна не могла найти покоя. Пробовала доказывать себе, что незачем ей вмешиваться в политику, что совесть у нее чиста, а решительный ее отказ записаться в лигу прозвучал, должно быть, с излишней резкостью, встревожив доктора Сильверстова.
Все ухищрения были напрасны, и колебания ее кончились тем, что она сама отнесла в комендатуру ГПУ маленькую записку, в которой настаивала на личной встрече с Мессингом по крайне важному и неотложному вопросу.
Станислав Адамович Мессинг принимал герцогиню Лейхтенбергскую в служебном своем кабинете. Печатника вызвали по телефону не сразу, и он успел лишь к заключительной части их беседы.
— Еще раз благодарю вас, Дарья Евгеньевна, за очень ценное сообщение, — сказал Мессинг. — И за свойственное вам стремление к справедливости большущее спасибо. Относительно доктора Сильверстова вы не ошиблись нисколько: негодяй это законченный, стопроцентный. К тому же еще с очевидными садистскими наклонностями. Нам кое-что известно о засекреченных расправах, числящихся на счету его бандитской «лиги». Хватают они, как правило, ни в чем не повинных людей, объявляют агентами ГПУ, глумятся, истязают, а тамошняя полиция бессильна навести порядок...
— Выходит, и распятый на кресте ни в чем не виноват? — дрожащим голосом спросила Дарья Евгеньевна.
— Думаю, что так оно и есть. Бедняга какой-нибудь из оголодавших, разуверившихся эмигрантов. Подал, наверно, заявление в советское посольство. Решил возвращаться на родину с повинной головой — вот вам и готовый агент ГПУ...
— Ужасно это, товарищ Мессинг! Варварство какое-то, дикий каннибализм!
— Согласен, Дарья Евгеньевна. Но таково, к несчастью, нынешнее одичание нравов белогвардейщины. Да вы и сами нагляделись на это досыта, не мне вам рассказывать...
Проводив до двери свою посетительницу и любезно с ней попрощавшись, Мессинг медленно обернулся к Александру Ивановичу. Радушная улыбка исчезла с его лица, в глазах светилась боль.
— Загубили нашего Костю, — глухо произнес Станислав Адамович. — Такого хлопца загубили, сволочи... Прошу тебя, срочно организуй поиск по всем каналам, постарайся раздобыть вполне достоверную информацию. Что там стряслось и почему он попался к ним в лапы?
— Возможно, его спровоцировали?
— Все возможно, дорогой Александр Иванович, ничего нет на этом свете невозможного. Только чует мое сердце, не видать нам больше товарища Угренинова...
Мессинг оказался прав.
В лесу под Усть-Нарвой, совсем рядышком с советской границей, сложил свою голову именно Константин Петрович Угренинов. Об этом говорили сведения из разных источников, полученные на Гороховой вскоре после визита Дарьи Евгеньевны. Сведения эти были точными, никакой почвы для иллюзий не оставляли.
Строгая ревизия, предпринятая по распоряжению Мессинга, промахов и упущений не обнаружила. Все было сделано, как до́лжно, с необходимой предусмотрительностью, и теперь оставалось лишь строить догадки о причинах катастрофы.
Провалы всегда тягостны.
Чувствуешь себя виноватым, чего-то своевременно не доглядевшим, в чем-то жестоко заблуждавшимся, ищешь и не находишь толкового объяснения случившемуся, впадая от всего этого в еще большую тревогу.
Добро, если провал не связан с кровавыми жертвами, если имеются и время и средства для исправления допущенной ошибки, тогда хоть последнее слово остается за тобой. Хуже, когда в результате провала гибнет товарищ. Тут уж ничего не исправишь, сколько ни старайся, и не доищешься многих тайн, потому что мертвых воскресить нельзя.
На Александра Ивановича неудачи действовали, как подстегивающие удары кнута. Молчаливый от природы, он замыкался в себе, терял сон и аппетит, часами оставаясь наедине со своими раздумьями. Близкие друзья знали это свойство его натуры, попусту в такую пору не беспокоили.
Всеми мыслями Александра Ивановича завладел вытащенный из Фонтанки лицеист Замятин. Совпадения, конечно, мало что способны объяснить, опираться на них рискованно, и все же была у Иннокентия Иннокентьевича некая замаскированная часть его скромного бытия, очень уж старательно скрываемая от посторонних. Вопрос весь заключался в том, связана ли она с возросшей в последние месяцы активностью лицейского подполья или не имеет к ней никакого касательства.
Лицейская эта публика, кстати, всегда выступала как сплоченная и неплохо организованная сила. Имелся у них когда-то свой клуб, именуемый Собранием лицеистов. На Мойке, в доме известного столичного ресторатора Донона, просуществовал до весны 1919 года. Была собственная кофейня на Караванной улице, ликвидированная по требованию Петроградской Чека, был коллективный огород на Полюстровской набережной. Пытались они, под флагом коммерческих соображений, открыть и свой аукционный зал в городе, хлопотали об аренде помещения на Невском проспекте, да сорвалась эта затея.
Печатника в бывшем лицейском хозяйстве интересовал лишь клуб. И даже не собственно клуб, в помещении которого разместились теперь коммунальные учреждения, а члены этого привилегированного аристократического Собрания, фотографические их изображения.
Предпринятые им розыски увенчались полным успехом. Ни единой бумажки не пропало в архиве за истекшие годы, ни единой фотокарточки. Прямо хоть садись и пиши по клубному делопроизводству историю благородного Собрания лицеистов: кого и когда принимали в действительные члены, кто выступал поручителем, каков был вступительный взнос.
Отобрав с десяток нужных фотографий, Александр Иванович вызвал на Гороховую Глашеньку Нечаеву. Неплохо бы и самому съездить на Выборгскую сторону, обойтись без официальщины, но протокол опознания требовал определенного порядка.
За неделю, минувшую после их знакомства на фабрике, Глашенька многое успела обдумать и, едва очутившись в кабинете Александра Ивановича, сразу заговорила о главном, больше всего ее волнующем.
— Неспроста убили они Кешу, уверяю вас, товарищ следователь. Я вспомнила, он мне ясно сказал, что собирается вывести на чистую воду своих бывших дружков. Вот за это с ним и рассчитались они... Почувствовали для себя угрозу и убили...
— Целиком с вами согласен. Расправились с ним действительно неспроста. Имелись для этого веские причины. Беда наша, Глашенька, в другом. Вот вы говорите — они с ним рассчитались, они почувствовали угрозу. А кто они — вам это известно?
— Я думала, вы это разузнаете...
— Увы, Глашенька, не разузнали пока, — грустно сознался Александр Иванович. — Ничего еще не знаем в точности, но хотим поймать убийцу. И вы должны оказать нам в этом содействие...
— С охотой бы, товарищ следователь, с большой радостью, но что я могу?
— Помните, вы рассказывали о встрече у Казанского собора? Того человека, что отчитывал тогда Замятина, вы опознать могли бы?
— Пучеглазый он, я вам объясняла. Невысокого росточка, пониже Кеши будет... Сердитый очень, настойчивый... Лет ему, верно, с пятьдесят, а может, и поболее...
— Вот среди этих граждан нет его? — Александр Иванович разложил на столе пять пронумерованных фотографий из делопроизводства лицейского клуба.
Глашенька впилась в них глазами, побледнела, вся напряглась и после секундного раздумья твердо указала на фотографию за номером три:
— Вот этот, товарищ следователь! Определенно этот, очень даже похож... На карточке он моложе и почище одет, тот был гораздо старше. Вроде братьев они...
Под третьим номером для опознания был предъявлен фотопортрет тайного советника Александра Сергеевича Путилова. Сравнительно ранний портрет, датированный далеким 1903 годом. Не дослужился еще в ту пору Александр Сергеевич до кресла управляющего канцелярией Совета Министров и в тайных советниках не состоял. Был, поди, скромным чиновником с неплохим будущим, успел дотянуть до статского советника. Однако повадка чувствуется и по раннему портрету. Неглуп, энергичен, умеет настоять на своем. С характером мужчина, крепкий орешек.
Занятная все-таки штуковина интуиция следователя! Рассматривая отобранные фотографии до прихода Глашеньки, Александр Иванович подумал, что остановится она непременно на Путилове. Никакой еще не заметно пучеглазости на этом портрете, нормальная физиономия тридцатитрехлетнего мужчины, а вот, поди ж, угадал, не ошибся. И не растолкуешь сего явления с позиций материализма. Чертовщина какая-то получается, сплошное предчувствие.
Кроме чертовщины имелись, правда, и кое-какие соображения чисто практического свойства. Из активного ядра внезапно зашевелившихся питомцев Лицея как раз Путилов, ныне тихий советский службист, был наименее ясной фигурой, а неясность заставляет обычно присмотреться внимательней.
Характеристика из Госбанка, как и рассчитывал Печатник, оказалась вполне благополучной.
К служебным своим обязанностям статистик Путилов относится с должным усердием, на работу никогда не опаздывает, все поручения выполняет точно в срок. К секретной документации не допущен. Активный член Осоавиахима и МОПРа, аккуратно платит членские взносы. Ни в чем предосудительном не замечен.
Все было в норме. Другой характеристики, собственно, и ждать не следовало. Давным-давно канули в небытие злые недели чиновничьего саботажа, когда царские прислужники, высокопоставленные и даже мелюзга, являлись в присутствие, чтобы открыто третировать Советскую власть. Ныне они выделяются своей старательностью. И в ячейку МОПРа вступят с превеликой готовностью, — надо же помогать трудовыми гривенниками узникам международного капитала, и в осоавиахимовском тире с первого выстрела попадают в фанерного Чемберлена. Иные пошли времена, иные и песни.
Александр Сергеевич Путилов жительствовал в Басковом переулке, в дореволюционной своей барской квартире, разгороженной предприимчивыми квартирантами на множество изолированных тупичков и закоулков.
От былого великолепия удалось ему сохранить две небольшие комнатенки с окнами во двор, выгороженные в некое подобие отдельной квартирки. Общим телефоном и коммунальной ванной он предпочитал не пользоваться.
Не затрагивали его и шумные словесные перепалки, возникающие на кухне по всяческим поводам и вообще без повода. Всем жильцам была ведома занимаемая им позиция строгого невмешательства в квартирные склоки, и его перестали принимать в расчет. Стучи не стучи к нему в дверь, все равно отсидится молча, голоса не подаст.
Житейские обыкновения бывшего тайного советника могли бы, наверно, служить примером редкостного педантизма, гарантирующего его сторонникам долголетие и цветущее здоровье.
По утрам, в начале девятого часа, Александр Сергеевич выходил из дому. В чеховском пенсне на шелковом черном шнурочке, с неизменным своим портфелем из крокодиловой кожи, служившим одновременно и хозяйственной сумкой, с туго свернутым зонтиком на случай дурной ленинградской погоды.
В воротах дома ему низко кланялся старый дворник Шакир, помнивший его еще важной персоной. Сдержанно ответив на подобострастное приветствие старика, Александр Сергеевич ходким спортивным шагом направлялся на службу. С Баскова переулка сворачивал на Надеждинскую, с Надеждинской на Невский, с Невского на Фонтанку — всегда по единственному и неизменно соблюдаемому маршруту.
Без пяти девять, минута в минуту, тайный советник занимал рабочее место в статистическом подотделе Госбанка, ведавшем валютными операциями, и точно в девять, не теряя даром ни секунды, принимался щелкать ручкой арифмометра.
Праздную болтовню сослуживцев, а также обсуждение последних сплетен, знаменующие начало занятий в подотделе, Александр Сергеевич отказывался поддерживать. На вопросы, обращенные непосредственно к нему, либо отмалчивался, либо отвечал подчеркнуто сухо, давая понять, что рабочее время следует использовать более разумно. Начальство ценило столь деловитого и собранного сотрудника, не торопясь, впрочем, высказывать свое одобрение вслух.
Обратный путь к дому также проделывался пешком, причем в любую погоду. По дороге иной раз Александр Сергеевич заглядывал в кондитерскую Жоржа Бормана на Невском, брал пирожных к чаю или печенья, а на углу Литейного покупал вечерний выпуск «Красной газеты», убедившись предварительно, что в нем напечатана очередная глава авантюрного романа из жизни контрабандистов.
Педантизм и аккуратность тайного советника сказывались буквально в каждой мелочи. Остановят его, предположим, на улице, спросят, который час или каким трамваем проехать к Варшавскому вокзалу. Другой бы на его месте попросту отмахнулся
или буркнул нечто нечленораздельное, а он растолкует все подробнейшим образом и золотые часы достанет из кармана, не сочтет за труд.
Короче говоря, житие Александра Сергеевича выглядело со стороны удивительно скучным и однообразным.
В гости ходит редко, у себя почти не принимает. С соседями по квартире держится натянуто, чуть ли не враждебно. На прогулку соберется с супругой, и то норовит погулять возле Александро-Невской лавры, где меньше толкотни.
Очутись на месте Печатника кто-нибудь менее искушенный, с нетерпением молодости и жаждой немедленных ощутимых результатов, утратил бы, наверно, охоту к дальнейшему изучению этого серенького жития. Тем более что по всем решительно статьям не обнаруживалось подкрепления возникшим подозрениям. К контрреволюционным заговорам прошлого А. С. Путилов касательства не имел, тайных связей с эмигрантскими кругами не поддерживает. Ну а злополучная встреча с Иннокентием Замятиным возле Казанского собора могла быть и обыкновенной случайностью.
Но Печатник отказывался верить в благонамеренность бывшего тайного советника. Ему говорили, что вряд ли есть резон тратить силы на регистрацию никчемных фактиков никчемного существования банковского статистика, что сто́ящего все равно ничего не выяснишь, а он упрямо стоял на своем. И внимательнейшим образом перечитывал коротенькие рапорты своих помощников, делал для себя какие-то пометки, с окончательными выводами не торопился.
К исходу недели произошло событие, наглядно подтвердившее, что и упрямство бывает полезным.
В кондитерской Жоржа Бормана на Невском проспекте, куда заглянул после службы Александр Сергеевич Путилов, было оживленно. Многочисленные сластены и сладкоежки осаждали прилавок с хорошенькими продавщицами в белых кружевных наколках и модных юбочках в оборочку. Еще больше покупателей толкалось в сторонке от прилавка, вкушая на ходу фирменные пирожные «эклер», которыми успел прославиться оборотистый владелец шоколадной фабрики.
Рассчитавшись с кассиршей за купленные сладости, отошел от прилавка и скромный банковский статистик. Поставил на мраморный столик корзиночку с пирожными, рассеянно посмотрел на окружающих, не спеша полез в карман пальто за перчатками. При этом, будто машинально, он вынул сложенный вчетверо листок плотной синеватой бумаги, употребляемой обычно для изготовления калек и чертежей.
В следующее мгновение по соседству с Александром Сергеевичем появился лохматый молодой человек в кожаной тужурке мотоциклиста, проделавший примерно те же самые операции. Не поглядев друг на друга и не обмолвившись ни единым словечком, они натянули перчатки, взяли со столика свои корзиночки и разошлись. Синеватый листок мотоциклист ловко сунул в карман своей тужурки.
Мимолетная эта пантомима, разыгранная с виртуозным умением, заставила решать молниеносную задачу на сообразительность. Помощник Печатника, начинающий чекист из практикантов, присланных на Гороховую комсомолом, нес в тот вечер службу без напарника и разорваться, естественно, не мог. Пойдешь за мотоциклистом — упустишь главную свою цель, отправишься по привычному маршруту к Баскову переулку — обязательно упустишь лохматого молодого человека, который к тому же на собственном мотоцикле и скроется из виду запросто.
Как ни зелен был юный практикант, а задачу решил безошибочно, с тонким пониманием мгновенно изменившейся обстановки, заслужив тем самым похвалу Печатника.
Менее суток понадобилось на сбор необходимой информации о мотоциклисте, пожаловавшем вдруг в кондитерскую для встречи с тайным советником. Информация эта была не совсем обычной и открыла новое направление поиска. Волей-неволей пришлось заниматься делишками, очень уж смахивающими на сюжетные хитросплетения детективных романов.
Лохматого молодого человека величали Саввой Лукичом Тумановым. По месту жительства числился он в лицах свободной профессии, на учет Биржи труда не становился, якобы из-за неуплаты членских взносов в профсоюз, а если глянуть в корень, отбросив всю эту маскировочную шелуху, был обыкновенным пройдохой и мошенником. Не очень, правда, значительного масштаба, скорей всего, из кандидатов в крупные авантюристы.
Пестрая биография Саввы Лукича Туманова, известного более под кличкой Нашатырь, целиком соответствовала принципам, которыми он руководствовался в жизни.
Был когда-то Нашатырь студентом Горного института — исключен со второго курса за злостные хищения в профессорском гардеробе. Неведомо каким чудом пролез в комсомол — изгнан с позором за соучастие в темных махинациях спекулянтов. Несколько месяцев трудился в угрозыске, принят был с практикантским испытательным сроком — обвинен в самочинных обысках, едва спасся от скамьи подсудимых.
Самоновейшей страстью этого искателя приключений, целиком пожирающей все его время, стала охота за миллионами. Нашатырь заделался кладоискателем.
Сведущие люди утверждали, что некие сокровища он уже разыскал — то ли шкатулку с драгоценностями, то ли закопанный на огороде ящик фамильного серебра, но в последний момент будто бы постигло его страшное разочарование. В чем заключалось это разочарование, установить пока не удалось. Зато удалось доподлинно выяснить, что охота за кладами идет полным ходом и приятелям своим, таким же мошенникам, в минуту веселых застольных откровений Нашатырь пообещал стать чуть ли не Ротшильдом, так как держит в руках все нити к будущему своему обогащению.
Не существовало еще в литературе великого комбинатора Остапа Бендера, не родилась еще голубая мечта о Рио-де-Жанейро, благословенной обители миллионеров. Своим дружкам Нашатырь сказал, что, разбогатев, немедленно переберется в Париж. Не через румынскую — через финляндскую границу, где у него есть знакомые контрабандисты, знающие надежные тропы.
Розыски кладов и сокровищ, к слову заметить, в первой половине двадцатых годов были довольно модным общественным поветрием. Как-то сами собой возникали упоительные, волнующие слухи о несметных богатствах, спрятанных убегавшими от революции аристократами, о бриллиантовых диадемах и платиновых слитках, ждущих, когда их извлекут на свет божий удачливые ловцы счастья. Бойкие газетные сообщения об удивительных находках в помещичьих усадьбах и княжеских особняках заметно подогревали интерес к кладоискательству. В итоге охотников за сокровищами развелось изрядное число, и Савва Лукич в этом смысле особой оригинальностью не отличался.
Наблюдение за Нашатырем установило вскоре, что манит его к себе главным образом бывшая Фурштадтская улица, переименованная в улицу Петра Лаврова.
Каждое утро Савва Лукич прохаживался по Фурштадтской из конца в конец, неизменно задерживаясь возле особняка князя Кочубея. Особняк этот, как и другие дома столичной знати, после революции был густо заселен, что, по некоторым признакам, вносило дополнительные трудности в и без того нелегкую задачу Нашатыря.
Вскоре Савва Лукич покончил с уличными прогулками и начал переходить к более активным действиям. Явился к управдому, предъявил поддельное удостоверение агента угрозыска, долго рассматривал план второго этажа и с приличествующей моменту суровой дотошностью выяснял всевозможные подробности о жильцах, квартирующих в княжеских покоях.
Наибольшее внимание Нашатыря привлекла, несказанно удивив управдома, одинокая старуха Пелагея Матвеевна, занимавшая бывший кабинет Кочубея. Точнее заметить, не весь кабинет, а левую его половину, украшенную старинным камином с затейливыми украшениями из саксонского фаянса: при распределении жилплощади слишком просторный княжеский кабинет был поделен надвое дощатой перегородочкой, как, впрочем, и все другие помещения особняка.
Управдом поспешил заверить сотрудника угрозыска, что Пелагея Матвеевна ни в чем предосудительном не замечена. Состоит, правда, в церковной «двадцатке» Пантелеймоновской церкви и целыми днями мотается по городу с какими-то поручениями батюшки, но это еще не криминал. Задолженности по квартплате за ней не числится, подозрительные личности не заходят, краденого не скупает. Все это, должно быть, обыкновенное недоразумение или сознательный оговор безвредной старухи. Если товарищу из уголовного розыска желательно, он, управляющий домом, вызовет Пелагею Матвеевну в контору и все в момент разъяснится.
От встречи со старухой Нашатырь благоразумно уклонился. Во всяком случае, не пожелал встречаться в конторе, при свидетелях, сухо поблагодарив управдома. Зато на следующее утро пожаловал к Пелагее Матвеевне собственной персоной. Сотрудником угрозыска называться не стал, скромно сообщил, что работает монтером в Электротоке и намерен обследовать состояние проводки на предмет предотвращения возможных коротких замыканий.
Обследование проводки было на редкость обстоятельным, отнюдь не лениво-казенным, и Пелагея Матвеевна осталась в полном ублаготворении.
Не поленившись, представитель Электротока обстучал молоточком стены кабинета, залез в камин, чтобы убедиться в исправности дымохода, и, что особенно растрогало старуху, взялся безвозмездно починить замок, которым Пелагея Матвеевна запирала свое жилище. Был приветлив и уважителен, не поморщившись выслушивал все ее жалобы на рыночную дороговизну и многочисленные хворобы.
Замо́к он починил с поразительной быстротой, возвратив в тот же день к вечеру. От вознаграждения за труды решительно отказался, чаю с вареньем и то не попил, сославшись на ужасную свою перегруженность служебными заданиями. Пожелал Пелагее Матвеевне всего наилучшего и откланялся. Истинно благородный молодой человек, каких теперь немного.
Охота за кладом приближалась к решающему действию.
Оставлять и далее инициативу в руках пройдошливого Нашатыря вряд ли было целесообразным. Посоветовавшись с Мессингом, Печатник решил предпринять меры, отрезавшие Савве Лукичу дорогу к обогащению.
Кабинет князя Кочубея и впрямь оказался с любопытной начинкой. Не потребовалось слишком больших усилий для обнаружения замурованного в стене, по соседству с камином, маленького железного ящика. Вот только содержимое княжеского тайника вызвало бы, наверно, у Саввы Лукича еще одно жестокое разочарование.
В ящике, запечатанном сургучной печатью, хранилась толстенная пачка акций «Франко-русского смешанного общества», ставшая всего лишь бумажной макулатурой. Еще в нем были просроченная закладная на родовое поместье князей Кочубеев в Полтавской губернии, серебряный царский рубль, известный нумизматам под наименованием «семейный» и представляющий некоторую ценность, а также триста рублей новенькими керенками. Лежал еще в ящике кожаный бювар с любовными письмами на французском языке, многие из коих были датированы минувшим, девятнадцатым веком.
Никаких драгоценностей в железном ящике не оказалось. Раскрасневшаяся от свалившихся на ее голову неожиданностей, Пелагея Матвеевна засвидетельствовала сей несомненный факт с явным огорчением, поставив в протоколе свою подпись квартиросъемщицы.
Нашатыря в то дождливое пасмурное утро задержали у ворот особняка князя Кочубея. Вооружен он был комплектом специальных инструментов, аккуратно уложенные в кожаный докторский саквояжик, заранее предвкушал серьезные перемены в своей жизни и с величайшей неохотой отправился на Гороховую.
Попервости Нашатырь со свойственным ему апломбом петушился и яростно протестовал против своего незаконного задержания. Вслед за тем принялся сочинять отчаянные небылицы, рассчитанные на доверчивых простаков, обнаруживая при этом недюжинный талант импровизатора. В конце концов пришлось ему выкладывать все начистоту, потому что другого ничего не оставалось.
Откровенный рассказ неудачливого охотника за миллионами и порадовал Александра Ивановича Ланге и, как часто бывает, добавил ему новых беспокойств.
Следы вели в Басков переулок.
Соблазнительно было немедленно встретиться с тайным советником, задать ему несколько щекотливых вопросов. Подобные соблазны довольно часто возникают в следственной практике. Не мудрствуй без нужды, как бы подсказывают они, иди к цели прямо, ставь лобовые вопросы, и ты добьешься успеха.
Печатник знал им цену, этим лукавым соблазнам. Менее всего мог он рассчитывать на откровенность Путилова. Нет, саморазоблачений от этого деятеля не дождешься, сколько ни надейся. Этого надо припереть к стенке неопровержимыми доказательствами, лишь тогда он заговорит, да и то сквозь зубы.
А банковский статистик Путилов продолжал тем временем свои ежедневные хождения на службу и обратно. Ходит себе и ходит, чинный, невозмутимый, с портфелем из крокодиловой кожи взамен хозяйственной сумки и с туго свернутым зонтиком. Остановит его случайный прохожий на улице — с удовольствием остановится, скажет, который час, не остановит никто — важно шествует по своему неизменному маршруту.
Вот эти-то якобы случайные прохожие и привлекли однажды внимание чекистов. Что-то слишком регулярно попадаются они тайному советнику на его пути, почти каждый день. Нет ли за уличными встречами чего-либо затаенного, скрываемого от посторонних?
Далее пошла серия удивительных открытий.
Долговязый сутулый мужчина в надвинутой на глаза шляпе, расспрашивавший тайного советника возле Аничкова моста, как доехать ему до Финляндского вокзала, при ближайшем рассмотрении оказался Алексеем Александровичем Рихтером, бывшим полковником лейб-гвардии Семеновского полка. Этот Рихтер, родившийся и всю жизнь проживший на берегах Невы, сам мог бы выполнять обязанности гида в Ленинграде.
Еще поразительней выглядела другая мимолетная уличная сценка. На углу Надеждинской и Невского тайного советника остановил смуглолицый мужчина в клетчатом пальто спортивного покроя. Учтиво поинтересовался, который час, выслушал ответ и, поблагодарив, быстро нырнул в толпу.
Непросто было угнаться за быстроногим типом в клетчатом пальто. Однако и результат превзошел все ожидания. К вечеру помощники Печатника доподлинно установили, что это был член правления нелегальной «кассы взаимопомощи» лицеистов некий Шильдер. В случайных прохожих играли, таким образом, люди, превосходно знающие друг друга.
— Молодцы, ребятки! — похвалил своих сообразительных помощников Александр Иванович Ланге. — Вот теперь мы с вами, похоже, зацепились за стоящие вещи...
Из стенограммы допроса гр-на Туманова С. Л.
— А теперь, Савва Лукич, потрудитесь объяснить ваш повышенный интерес к дому Кочубея на улице Петра Лаврова. Что вы там собирались найти?
— Видите ли, гражданин следователь, это — история умопомрачительная, и я, право, не уверен, смогу ли вас убедить...
— Рассказывайте, я вас слушаю.
— Нынешней весной, примерно в конце мая, была у меня несколько странная встреча. В Летнем саду, с одним почтенным старикашкой. Годков так на восемьдесят, а может, и поболее того. Познакомились мы в общем-то случайно и разговорились. Старикашка этот открыл мне свою великую тайну. Доверительно, разумеется, под большим секретом. Фамилию назвать отказался, но дал почувствовать, что состоит в родстве с ныне покойным князем Кочубеем, скончавшимся в Баден-Бадене. По словам старикашки, в особняке князя на Фурштадтской замурован сейф с фамильными драгоценностями. Старикашка умолял меня посодействовать выемке этого сейфа и в награду предложил двадцать процентов куртажных. Остальное он якобы обязан отправить вдове князя, которая больна и нуждается в помощи.
— Вы, разумеется, дали свое согласие?
— Каюсь, гражданин следователь, не удержался. Двадцать процентов куртажных могли составить достаточно приличную сумму, а материальное мое положение не из блестящих. Мы условились, что я помещу в «Красной газете» объявление о продаже инкрустированного перламутром секретера, что должно было означать успешное завершение выемки...
— Любопытно. Выходит, этот ваш таинственный старичок был уверен, что вы его не обманете?
— А как же, гражданин следователь! Савва Туманов беден, это правда, но благородства отнюдь не лишен!
— Послушайте, Туманов, вы отдаете себе отчет, где сейчас находитесь?
— Само собой, гражданин следователь. В ГПУ нахожусь, в узилище для контриков, но, уверяю вас, — по чистейшему недоразумению.
— Шутовской тон оставьте, Туманов. И сказочки свои могли бы приберечь для более подходящего общества. Итак, кто вас снабдил вот этой схемой расположения тайника?
— Я же вам сказал, старикашка один, фамилию его не знаю.
— Где вы с ним встретились?
— В Летнем саду, возле памятника великому баснописцу Крылову.
— А не в кондитерской Жоржа Бормана на Невском?
(С. Л. Туманов ошеломлен вопросом следователя, долго молчит, не зная, что сказать.)
— Вот видите, Туманов, шуточки бывают хороши лишь к месту, а в вашем положении они выглядят просто глупыми. Стало быть, где и когда вы познакомились с Александром Сергеевичем Путиловым?
— Извините меня, гражданин следователь, я действительно малость зарапортовался и вел себя, как последний дурак. Очень прошу, не сердитесь, я все вам расскажу по правде. Александра Сергеевича я знаю давно, с мальчишеских лет. Дело в том, что моя покойная матушка служила в канцелярии Совета Министров, и у Александра Сергеевича, как бы это выразиться, был с ней амурный грешок...
— Грешки вашей матушки меня не интересуют. На каких условиях вы согласились работать?
— Александр Сергеевич Путилов просил передать мне, что в случае удачи мне выделят пятьдесят процентов...
Николай Третий или Кирилл Первый?
Жизнь у нас и жизнь в эмиграции. — Конкурирующие императоры. — Побег из трудовой колонии. — Обед в «Старом Тифлисе». — Паша Киселев помогает чекистам.
Год 1925-й начался с разгула стихии.
В ночь на 3 января заштормило, с Финского залива поднялся шквалистый, сильный ветер, и Нева опять вышла из гранитных своих берегов, причинив Ленинграду новые убытки и разрушения. В сравнении с катастрофическим наводнением в сентябре 1924 года разрушения были помельче, и материальные потери не столь опустошительны, но тревог досталось ленинградцам с избытком.
На Балтийском судостроительном заводе пришлось отсрочить закладку серии первых советских лесовозов.
Торжественная церемония у стапеля состоялась только во второй половине января, и на митинге корабелов была зачитана телеграмма председателя ВСНХ Дзержинского. «Закладка судов в Ленинграде, — писал Феликс Эдмундович, — это еще один шаг к раскрепощению рабоче-крестьянского Союза от рабской зависимости, в которой иностранный капитал держал царскую Россию». Головному лесовозу серии присвоили имя «Товарищ Красин».
Краснопутиловцы, неизменно идущие в авангарде ленинградского рабочего класса, ознаменовали начало нового года выпуском двух магистральных паровозов, значительно увеличив декабрьскую свою производительность труда. По тем масштабам это был крупный трудовой успех.
Население города на Неве увеличилось за истекший год на сто сорок тысяч человек, заметно перевалив за миллион.
Возросла нужда в жилье, и стройсезон 1925 года обещал быть, как никогда, оживленным. По плану Ленсовета в городе намечалось выстроить тридцать четыре новых каменных дома, рассчитанных на пять тысяч новоселов. Подобного размаха строительных работ при Советской власти еще не случалось.
Помимо того, были запланированы и другие жизненно необходимые новшества. Например, строительство мощной водопроводной подстанции за Невской заставой, дающей возможность жителям этой рабочей окраины отказаться от пользования неочищенной невской водой.
Боевым лозунгом текущего момента сделалась культсмычка города и деревни.
Промышленные предприятия Ленинграда брали шефство над отдаленными уездами и волостями губернии, деятельно налаживали работу сельских изб-читален. В подшефных волостях начали открываться созданные ленинградцами прокатные пункты сельскохозяйственных машин. Тракторов в них пока было маловато, а новые конные молотилки и веялки имелись в достатке.
На Монетном дворе начали пробное изготовление первых советских золотых червонцев. В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, открылся судебный процесс Ивана Окладского — подлого провокатора, выдавшего царской охранке Желябова, Халтурина и других выдающихся деятелей «Народной воли».
«Ленинградская правда» в одном из номеров напечатала протест Бориса Лавренева, гневно выступившего против беззастенчивого, с шулерскими подтасовками и наглыми купюрами, опубликования его рассказа «Сорок первый» на страницах рижской белоэмигрантской газеты «Сегодня».
«Конечно, нет необходимости доказывать налетчикам наглость их поступка, ибо они люди конченые, — говорилось в письме известного советского писателя. — Но во избежание вешания на меня собак досужими охотниками, считаю нужным заявить, что воровской налет на мою общественную и литературную честь совершен по всем правилам эмигрантской шантрапы — без моего ведома».
Прочитав в газете это сердитое письмо литератора, Петр Адамович Карусь от души порадовался.
До чего же меткими бывают разящие писательские слова! Прямо снайперский безошибочный выстрел в десятку, бьет наповал.
Именно в мелкотравчатую шантрапу вырождалась постепенно шустрая эмигрантская братия за рубежами Советского Союза. От доморощенного хулиганья с Лиговки и Обводного канала, в широченных брюках-клеш, с татуировками на груди, с кастетами в карманах, отличало ее родовитое дворянское происхождение, громкие титулы и звания, а суть, ежели разобраться, одинакова. Поистине шантрапа без чести и совести. Конченые люди, как пишет Борис Лавренев, шуты гороховые.
Почти одновременно с публикацией в «Ленинградской правде» до крайности занимательную судебную хронику напечатали в Париже милюковские «Последние новости». В ней, точно в зеркале, отразились трагикомические будни обнищавшей духом эмиграции.
Сыр-бор загорелся на этот раз в дорогом фешенебельном антиквариате на бульваре Сен-Жермен. Прогуливаясь в предобеденные часы, некая львица полусвета увидела в витрине этого магазина памятную ей мужскую палку. Из палисандрового дерева, с инкрустацией и с набалдашником, усыпанным мелкими бриллиантами по голубому полю из ляпис-лазури.
Львица полусвета, учуяв рекламный запашок, обратилась в частное детективное бюро. И разразился очередной всесветный скандал. С поминанием титулованных имен, со сладострастным выворачиванием для всеобщего обозрения грязного эмигрантского белья. Громкий вышел скандальчик, достаточно мерзопакостный — целиком в духе нравов белогвардейщины.
Палка из палисандрового дерева, как выяснилось, принадлежала некогда самодержцу всероссийскому Николаю Романову. По какому-то семейному поводу батюшка-царь презентовал ее своему двоюродному братцу великому князю Кириллу Владимировичу, а тот, весьма охочий смолоду до амурных приключений, счел возможным передарить вышеозначенной столичной красотке. В ознаменование услуг. Каких в точности, репортеры не уточняли, ограничиваясь в своих отчетах стыдливыми многоточиями.
Частные детективы не даром ели свой хлеб и быстро обнаружили виновницу. Горничная львицы полусвета мадемуазель Мари-Жак получила шесть месяцев тюрьмы. Императорская палка вернулась к законной своей владелице, заработавшей ее в трудах праведных.
«Последние новости» обо всем этом сообщали с нескрываемым удовлетворением. Как и подобает солидному органу либерально-кадетской окраски, стоящему на страже священного принципа частной собственности.
Обе непосредственно заинтересованные стороны предпочли отмолчаться. «Собственная его императорского величества канцелярия» в Кобурге каких-либо комментариев по поводу этой истории не дала. Не последовало откликов и из Шуаньи, от окружения великого князя Николая Николаевича.
Соперничающим претендентам в императоры было, признаться, не до газетных сенсаций. Все их силы отнимала яростная драка за монарший престол, за влияние на умы и сердца, за призрачное право говорить от имени русской эмиграции, рассеянной октябрьской бурей по всему свету. При этом, понятно, подразумевалось право выступать и от имени всего русского народа, «изнывающего под ярмом большевистской диктатуры», но в первую очередь борьба шла за эмигрантов.
Никто не ведал в точности, сколько их насчитывается за пределами Советской России. По некоторым статистическим данным, считалось, что миллион душ или даже полтора миллиона, по другим, более приближенным к истине, — восемьсот пятьдесят тысяч.
Главной обителью белой эмиграции после 1917 года стала Франция, где проживало четыреста тысяч человек. Далее следовали Германия — сто пятьдесят тысяч, Польша — сто тысяч, Китай и страны Дальнего Востока — семьдесят тысяч.
Значительные эмигрантские колонии обосновались также в Югославии, Финляндии, Чехословакии, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии и Румынии. Только власти Турции сочли возможным избавить себя от бремени общения с беспокойными русскими, выслав их из страны в административном порядке.
Наивно было бы считать, что вся эта огромная масса лишенных родной почвы людей сплошь состояла из злобных недругов Советской власти. Изрядно насчитывалось в ней и просто обманутых, колеблющихся, с запозданием сожалеющих о своем легкомысленном решении покинуть отчизну. Горькая их участь была схожа с судьбой крохотной песчинки, которую подхватил и закружил могучий ураган.
В Берлине и в Париже, в Варшаве и в Ревеле дипломатические представительства Советского Союза не испытывали недостатка в тысячах покаянных просьб и ходатайств беглецов, мечтающих о скорейшем возвращении домой. Известно было, что во многих случаях визит в советское посольство грозит смертью от руки крайних элементов или зачислением в предатели, в агенты ГПУ и Коминтерна, что означало бойкот и презрение окружающих. Несмотря на это, наплыв желающих вернуться в СССР неуклонно возрастал с каждым годом.
Не менее легковерно было бы и преувеличивать значение прогрессивных идей и настроений в недрах белой эмиграции. Тем более в первой половине двадцатых годов, вскоре после крушения империи, когда не утихли еще раскаленные человеческие страсти и у многих теплилась надежда на кровавый реванш.
Так уж все расслоилось и бесповоротно размежевалось в те годы. Рядом с мечтающими об искуплении своей вины перед народом нетерпеливо ждали сигналов боевых походных труб звероватые вешатели и заплечных дел специалисты из контрразведок Врангеля, Колчака, Юденича. Этих было куда больше, нежели успевших прозреть на чужбине. Эти отличались ненасытной злобой и страстью к кровопролитию. К тому же они присвоили себе роль глашатаев общественного мнения, потому что были нахальны и горласты.
О небезынтересных сдвигах в умонастроениях эмигрантской публики свидетельствовало и самозваное венчание в императоры великого князя Кирилла Владимировича. Как ни смехотворно выглядел со стороны сей опереточный «государев акт», а считаться с его последствиями приходилось.
Сам-то новоявленный монарх не стоил и ломаного гроша. Ничтожная пустышка в мундире капитана первого ранга. Смолоду жалкий флотский жуир, затем пьяница, кокаинист, азартный карточный игрок. Государственной мудростью отнюдь не обременен: в сравнении с ним и Николай II сошел бы за мыслителя.
Опасным было окружение Кирилла I.
Верховодила всеми делами в Кобурге его супруга Виктория Феодоровна, женщина неглупая, изворотливая, умеющая при надобности произвести должное впечатление.
Вскоре после окончания торжеств по случаю «государева акта» Виктория Феодоровна заказала дорогие апартаменты на «Луизитании», роскошном океанском пароходе, и отправилась в Америку за долларами. Побывала у престарелого автомобильного короля Форда в его загородной резиденции близ Детройта, добилась аудиенций у Рокфеллера, Мак-Кормика и других финансовых воротил, любезно раскрывших перед ней свои чековые книжки.
На обратном пути Виктория Феодоровна неожиданно навестила известного нефтяного магната Генри Детердинга, жительствующего в Англии. Спустя две недели после этого визита супруге короля нефти, русской по происхождению, высочайшим императорским повелением был дарован титул «княгини Донской».
О цене этого «повеления» в печати, естественно, не сообщалось, но финансовые возможности императорского двора в Кобурге заметно возросли. Отныне бойкая торговля графскими и княжескими титулами стала существенной статьей дохода Кирилла I. Сколько ни бесились в Шуаньи по этому поводу, сколько ни протестовали, «императорские повеления» сыпались одно за другим.
Канцелярией Кирилла I управлял капитан второго ранга Гарольд Карлович Графф, давнишний его приятель и собутыльник. Фигура в общем-то бесцветная, вполне достойный представитель бесчисленного племени сухопутных морячков, коих всегда было с избытком в столичном гвардейском экипаже, долгие годы возглавляемом Кириллом Владимировичем.
Зато в военном штабе «кирилловцев», обосновавшемся в Мюнхене, полноправным хозяином числился генерал-лейтенант Василий Викторович Бискупский, личность во многих отношениях редкостная.
Ни единой душе в русской армии не известны были ратные доблести и заслуги храброго генерала Бискупского. Военнопленный с первых дней боевых действий, он заделался на немецком рационе усерднейшим германофилом. В открытую сотрудничал с генеральным штабом, с кайзеровскими разведслужбами, а в сентябре 1919 года, в канун осеннего наступления Юденича на Петроград, ужасно разгневал зубров белого движения, неожиданно образовав в Берлине самостийное «российское правительство». Разумеется, во главе с самим собой, премьер-министром Бискупским.
О действиях этих стало известно «верховному правителю» адмиралу Колчаку. Затревожились военные миссии англичан и французов. Вдобавок ходили смутные слухи, что за спиной Василия Викторовича стоит будто бы генерал Юденич, вздумавший таким способом обеспечить свою независимость от Колчака.
Последовал раздраженный запрос в Ревель, в штаб Юденича, с требованием немедленно объясниться. В ответ была получена столь же раздраженная телеграмма: «Категорически объявляю, что никогда не имел и не имею отношения к генералу Бискупскому и германофильским организациям в Берлине».
Заделавшись правой рукой кобургского императора, генерал Бискупский с наслаждением погрузился в привычную стихию закулисных интриг и комбинаций. Смещен был с должности советника граф Бобринский, первейший друг Кирилла Владимировича. Оттерли помаленьку и камергера Мятлева, ведавшего разведкой.
«Государев акт» вызвал раскол эмиграции на непримиримо враждующие лагери «николаевцев» и «кирилловцев». Углублению этого раскола и в особенности вербовке новых верноподданных была целиком посвящена хлопотливая деятельность генерала Бискупского.
Уж что-что, а стравливать людей он умел, как никто другой. Перессорились при его ловком содействии даже члены семейства Романовых. Николай Николаевич, понятно, и слышать не хотел о признании кобургского самозванца, у него имелись свои соображения о порядке престолонаследия. Однако великие князья Андрей Владимирович, Дмитрий Павлович и Александр Михайлович поспешили отправить Кириллу I приветственные верноподданнические телеграммы. После они отреклись от своих телеграмм, сослались на недоразумение, но дело было сделано.
Вершиной интриганских усилий Бискупского, правда не принесшей ему слишком большой славы, надо считать сенсационный приезд в Кобург казачьего генерала Шкуро. Того самого генерала по фамилии Шкура, что переименовал себя ради благозвучности в Шкуро, а в годы гражданской войны по заслугам получил прозвище Шкуро-Вешатель.
Прикинув шансы «за» и «против», сметливый казачий генерал решил переметнуться в лагерь Кирилла I. Аудиенция, данная ему в личных покоях императора, отличалась особой теплотой и сердечностью, хотя высокие договаривающиеся стороны не по всем статьям беседы сумели прийти к обоюдному согласию.
Шкуро, недолго думая, похвастался, что за него горой стоят все донские и кубанские казачьи части, покинувшие родину с армией барона Врангеля. Явился он, дескать, пред светлые очи самодержца с предложением немедленно созвать в Париже съезд казачьих депутатов. Съезд этот официально провозгласит преданность казаков Кириллу I, и камарилья Николая Николаевича в Шуаньи будет посрамлена окончательно.
Идейка выглядела заманчиво, сулила немалые преимущества, но и цена оказалась чрезмерной. На организационные расходы Шкуро потребовал миллион марок и лишь позднее, сообразив, что хватил через край, обещал удовлетвориться половиной этой суммы.
Кирилл Владимирович определенного ничего не сказал. Обещал подумать, посоветоваться с приближенными. Авансом ходоку казачьих частей выписали чек на сто тысяч марок.
Позднее стало для всех очевидным, что и одной паршивой марки не следовало давать этому пустобреху. С созывом казачьего съезда начались сплошные затруднения: то одно мешало, то другое, а устроитель его, прикинувшись обиженным, не казал больше глаз в Кобург. Словом, плакали денежки, заработанные для императорской казны Викторией Феодоровной в трудном ее заокеанском турне, бесследно сгинули в широких карманах Шкуро-Вешателя.
Николай Третий или Кирилл Первый?
Вопрос этот был поставлен остро, непримиримо, и все ожесточенней делалась потасовка двух враждующих лагерей белогвардейщины, все более дикие формы принимала. Не было в ней ни благородства, ни запрещенных приемов, ни даже обычного здравого смысла, свойственного всем нормальным людям, — наружу лезло лишь остервенение мастеров скуловорота, стремящихся к победе любой ценой.
Стороннему наблюдателю картина казалась нелепой, напоминающей дурной сон. Шел восьмой год строительства новой социалистической жизни, укреплялся международный авторитет Советской власти, а в Шуаньи и в Кобурге все еще делили право на российскую корону. Фантасмагория какая-то, бред сивой кобылы!
Если бы, к примеру, выйти на улицу и спросить любого встречного ленинградца, за кого он — за Николая Третьего или за Кирилла Первого, реакция была бы скорей всего насмешливо-снисходительной. «Ты что, браток, пьешь с утра и не закусываешь? — рассмеялись бы в ответ. — Валяй домой, хорошенько проспись». Могло, впрочем, обойтись и без юмора, смотря на кого наскочишь. Могли за милую душу сгрести в охапку и препроводить на Гороховую, поскольку вопросик-то явно контрреволюционный, подстрекательский.
Но чекистам по роду их занятий не полагалось устраивать референдумы на улицах. Не следовало им тратить душевные силы и на бесплодные возмущения по поводу благоглупостей и несуразностей эмигрантского бытия.
Практическая задача, стоявшая перед Петром Адамовичем Карусем и его товарищами, была сходна с задачей вдумчивого исследователя, который всякому явлению жизни должен найти свое место и назначение. Исследователя не только вдумчивого, но и знающего, как из противоречивых фактов действительности сделать правильный вывод, не ошибиться в расчетах.
Оба кандидата в монархи имели свои собственные политические программы. С существенными, конечно, различиями, как и положено серьезным конкурентам. Николай Николаевич, допустим, стоял за Советы без коммунистов, а Кирилл Владимирович вообще не признавал никаких Советов.
Объединяла их свирепая, застарелая ненависть к социализму, к рабочим и крестьянам Советской России. С ней они ложились, с ней и вставали, опережая друг друга в искусстве поэффектней нагадить бывшей своей родине.
С «Российским общевоинским союзом», детищем генерала Кутепова, открыто соперничал теперь «Корпус офицеров императорской армии и флота», спешно сколоченный сторонниками Кирилла I. Филиалы этого «Корпуса», возникавшие у границ СССР, строились на заговорщических началах, с соблюдением конспирации и строжайшей дисциплины. В Гельсингфорсе это была террористическая «Дружина Александра Невского», в Софии — «Союз государевых людей», в вольном городе Данциге — «Союз законопослушных».
Ради чего существовали змеиные гнезда «кирилловцев»?
Ответ подсказывала сама жизнь. Ради организации всяческих антисоветских провокаций, ради засылки на советскую землю многочисленной тайной агентуры.
Более или менее удачное начало игры против Кутепова позволяло взять под контроль ближайшие планы заправил «Российского общевоинского союза».
Жил, однако, на свете и генерал Бискупский, лично возглавлявший разведку «кирилловцев». Искушенный мастер шпионажа, старательный ученик немецкой школы секретной службы. Ясно было, что этому господину при любых условиях захочется обзавестись надежной сетью в Ленинграде. Своей собственной, действующей по его заданиям и в его интересах.
Мысль о «кирилловцах» беспокоила Петра Адамовича Каруся.
Хуже нет, когда перед тобой целина. Ни следов на ней, ни малейшего указания, позволяющего избрать верный курс. Догадываешься, что враг где-то поблизости, нутром чуешь его присутствие, а как обнаружить — не знаешь.
Дорога к ленинградскому резиденту кирилловской монархической организации была и долгой, и весьма запутанной.
Началось все с незначительного происшествия. В конце декабря 1924 года из трудовой исправительной колонии, расположенной близ села Рыбацкого, совершил побег заключенный Архипов.
Активный врангелевец, бывший подполковник из Дроздовской добровольческой дивизии, прославившейся своими палаческими подвигами на Юге, Архипов был осужден на полтора года за проживание в Ленинграде по чужим документам. В колонии ему оставалось находиться всего три месяца, и казалось, не было никакого резона к побегу. Тем более с разбойным нападением на конвоира и с похищением казенного револьвера.
Спустя трое суток беглеца обнаружили.
Доехав до станции Званка, Архипов направился к дощатым баракам строителей Волховской гидростанции и вскоре разыскал нужного ему человечка. Пообедал с ним в столовой рабкоопа, пошептался о чем-то, уйдя к берегу реки, и, не таясь, направился на железнодорожную станцию. В общем, вел себя дерзко, с неосмотрительностью, трудно объяснимой в его положении.
Петр Адамович Карусь, которому доложили об этих событиях по телефону, распорядился беглого врангелевца не трогать. Пусть нахальничает сколько вздумает, важно — держать его в поле зрения. И характеристику важно поскорей получить на его сообщника. Точную характеристику, исчерпывающую: что за человек, чем занят на стройке, какие интересы могут связывать его с Архиповым.
Правильное вроде решение было принято, вполне разумное, но следом за ним начались сплошные осечки и неприятности, внесшие в работу изрядную долю нервотрепки.
На Московском вокзале, в вечерней толчее переполненных людьми перронов, Архипову удалось оторваться. Почувствовал ли он за спиной «хвост», сплоховал ли товарищ с периферии, ехавший с ним в вагоне до Ленинграда, но факт оставался фактом: вооруженный бандюга бесследно исчез, будто сквозь землю провалился.
Новую порцию огорчений Доставила Петру Адамовичу полученная вскоре шифровка из Симферополя. Этот подполковник-дроздовец, как сообщали крымские товарищи, давно ими разыскивается, и судить его надлежало совсем не за проживание по чужим документам, а за более тяжкие преступления.
После краха врангелевской авантюры Архипов бежал в горы. Сколотил там банду из отъявленных белогвардейских недобитков, разбойничал на дорогах, спалил сельсовет и школу неподалеку от Алушты, с изощренной жестокостью казнив тамошних коммунистов. После этого пытался скрыться в Турцию, организовал вооруженное нападение на рыбачью шхуну, промышлявшую кефаль в прибрежных водах. В перестрелке с чоновцами был ранен, бежать сумел в самую последнюю минуту. Проще говоря, это — матерый контрреволюционер, убийца, социально опасная личность, и в случае задержания должен быть немедленно этапирован в Симферополь для предания суду на месте совершенных злодейств.
Еще более неожиданно выглядели материалы, доставленные фельдъегерской связью с Волховстроя.
Сообщник врангелевского подполковника, как точно установлено местными товарищами, является командиром взвода охраны Василием Меркуловым. Уроженец Ленинграда, прапорщик военного времени, в войсках ВЧК — ОГПУ служит третий год. У красноармейцев пользуется авторитетом, в предосудительных поступках не замечен. Взводу его доверяются важнейшие объекты Волховстроя.
Увы, в беспокойных чекистских буднях нередко случается этакое нагромождение сплошных неожиданностей. Важней всего в подобной ситуации сохранить выдержку, хладнокровие. И еще, пожалуй, способность из собственных упущений извлечь правильные выводы. Вот тогда, смотришь, и пойдет на убыль черная полоса неприятностей и дождешься наконец-то истинного успеха.
Были предприняты энергичные меры к немедленному розыску бежавшего врангелевца. Исчез он в Ленинграде и, надо думать, далеко уйти не успел.
Оперативные группы чекистов перекрыли все вокзалы, пригородные железнодорожные станции, ночлежные дома, воровские хазы и притоны. У работников милиции и угрозыска появились подробные описания примет Архипова.
Несколько проще было разобраться с его знакомцем на Волховстрое. На сей счет местным товарищам следовало руководствоваться четкой инструкцией Петра Адамовича: интереса своего ни в коем случае не обнаруживать, держаться по возможности в тени, но каждый шаг Василия Меркулова взять под неослабный контроль.
Спустя два дня, в студеное январское воскресенье, комвзвода Меркулов собрался на побывку в Ленинград. Подал рапорт по команде, сослался на неотложные семейные обстоятельства и, выписав в штабе батальона увольнительную, приобрел плацкартный билет на ночной вологодский поезд.
Известие об этом, признаться, обрадовало Каруся. Почему-то он был уверен, что Василий Меркулов непременно выведет на след беглеца, и заранее предвкушал, как развернутся дальнейшие события.
Но получилось все по-другому — и неожиданнее, и, главное, значительно перспективней. Так уж устроена жизнь — нельзя вогнать ее в жесткие рамки загодя заготовленной схемы, распорядится она на свой вкус.
С вокзала Василий Меркулов отправился пешочком на Стремянную
улицу, в холостяцкую свою берлогу. До середины дня отсыпался, приводил себя в порядок, а в третьем часу, зябко поеживаясь, вышел из дому.
Не в холодной казенной шинельке на рыбьем меху и не в буденовке, а заправским щеголем. В дорогой енотовой шубе, в высокой бобровой шапке, лихо сдвинутой набекрень. И походочка была у него отнюдь не строевая, неторопливая. Повстречались бы с ним красноармейцы его взвода и наверняка не узнали бы своего бравого командира.
Около пяти часов вечера, нагулявшись досыта, франтоватый отпускник завернул в кавказский ресторанчик «Старый Тифлис», расположенный неподалеку от шумной Сенной площади. Снисходительным барским жестом поприветствовал бородатого швейцара, услужливо подхватившего его шубу и бобровую шапку, с удовольствием оглядел себя в массивном зеркале, рядом с которым возвышалось чучело огромного медведя. Чувствовалось, что в «Старом Тифлисе» Василий Меркулов не впервой и порядки здешней ресторации хорошо ему известны.
Местечко в жарко натопленном зале комвзвода облюбовал укромное — за отгораживающими от любопытных взоров чахлыми ресторанными пальмами, в дальнем уголочке.
Сациви, шашлычок по-карски и осетринку на вертеле заказывал с толком, не торопясь, как подобает истинному ценителю и знатоку восточной кухни. Надлежащим образом распорядившись и отослав официанта, вынул из жилетного кармана золотые часы, щелкнул массивной крышкой, чуть заметно скосив глаз в сторону входной двери.
Спустя десять минут в «Старый Тифлис» пожаловал новый гость. Это был высокий и слегка сутуловатый мужчина неопределенного возраста. В наглухо застегнутом морском кителе и в брюках, заправленных в дорогие фетровые бурки. Выправка у него была несомненно офицерская, военная.
Свободных мест в ресторанчике хватало, обеденная пора едва началась. Несмотря на это, новому гостю приглянулся столик за пальмами, занятый Василием Меркуловым. Учтиво попросив разрешения составить компанию, он уселся и подозвал официанта.
Чересчур оживленный разговор между случайными сотрапезниками показался бы, наверно, подозрительным. Да и не было, похоже, никакого разговора, кроме отдельных фраз и замечаний, которыми они вполголоса обменялись.
Первым отобедал Василий Меркулов. Щедро рассчитался с официантом, кивнул своему соседу на прощание и ушел из «Старого Тифлиса». Спустя полчаса после него, выпив черного кофе по-турецки, удалился и мужчина в фетровых бурках.
Пустяшный, казалось бы, эпизодик, совершенно незначительный. Мало ли кто и с кем оказывается порой в нежданном соседстве. На улице, в магазине, в кинематографе, за ресторанным столиком. Встретятся незнакомые люди, покалякают о разной ерунде и разойдутся, чтобы не увидеться больше никогда.
Но в оперативной практике пренебрегать нельзя и пустяками. Разберись прежде, установи что к чему с неопровержимой доподлинностью, а после можешь записывать в незаслуживающие внимания житейские мелочи. Только так, не иначе.
Для Петра Адамовича это странное застолье в «Старом Тифлисе» обернулось бессонной ночью, целиком ушедшей на кропотливое изучение архивных документов недавнего прошлого. Их было порядочно, этих документов. Кое-что они разъясняли, но, к сожалению, далеко не все.
Высокий представительный мужчина в фетровых бурках, пожелавший отобедать в обществе командира взвода, был Михаилом Михайловичем Старовойтовым. Из дворян Саратовской губернии, 1880 года рождения, профессиональный моряк, бывший капитан первого ранга. На царской яхте «Полярная звезда» служил когда-то старшим офицером.
Не было ничего удивительного в том, что Михаилом Михайловичем Старовойтовым, верным слугой старого режима, неоднократно интересовались на Гороховой.
Удивительно было другое. История кратковременных арестов и задержаний этого человека, как своеобразный послужной список эпохи, отражала пору чекистской молодости самого Петра Адамовича Каруся. И хоть не привелось ему лично встречаться со старшим офицером царской яхты — возились с ним другие сотрудники, — каждый из этих периодов помнился отчетливо, точно было это вчера.
Первый раз Старовойтова задержали и доставили на Гороховую весной 1919 года. Трудное было тогда времечко, смертельно опасное для завоеваний Октября. Армия Юденича черной тучей нависла над красным Питером, и в самом городе воспрянули духом подпольные силы контрреволюции. Петроградская Чека в ту памятную весеннюю пору осуществила массовые обыски в буржуазных кварталах города, а на помощь чекистам пришли многие тысячи добровольных помощников с заводов и фабрик.
Группа коммунистов Путиловского завода, которой было поручено обыскать квартиры буржуазии на Конногвардейском бульваре, нашла необходимым препроводить гражданина М. М. Старовойтова в Чека вместе с обнаруженной у него коллекцией холодного оружия.
Добросовестная щепетильность была в крови путиловских пролетариев, и они отдельным примечанием указали в составленном ими акте, что «вышеназванный гр-н Старовойтов в момент обыска вел себя вполне лояльно, изъятию оружия не препятствовал и даже, по доброй своей воле, никем к тому не принуждаемый, извлек из тайника принадлежавший лично ему офицерский кортик с золотой императорской монограммой».
Примечание дотошных помощников Чека, надо полагать, сослужило Михаилу Михайловичу Старовойтову добрую службу, и он без задержки был отпущен домой.
Не менее благополучно кончился для него и второй арест в октябре того же 1919 года. На этот раз имелись, правда, кое-какие основания для ареста, гораздо серьезнее коллекции холодного оружия. Ряд материалов свидетельствовал о принадлежности Старовойтова к тайной офицерской организации, которая была создана в Петрограде для освобождения бывшего российского самодержца и его семейства.
В иное бы время, наверно, и разобрались в этих материалах до конца, раскрутили бы тоненькую ниточку улик, а в ту грозную осень все внимание Петроградской Чека было нацелено на скорейшую ликвидацию заговора Поля Дюкса, ловкого агента Интеллидженс сервис. Старший офицер царской яхты касательства к этому заговору не имел, от участия своего в тайной офицерской организации он упорно открещивался, и в конце концов его отпустили с миром.
Третий и последний арест пришелся на 1921 год, когда чекистами Петрограда был раскрыт заговор профессора Таганцева, тесно связанного с кронштадтскими мятежниками и с их иностранными покровителями. Опять улики против М. М. Старовойтова выглядели жиденькими, слабо подтвержденными, требующими длительной проверки. Как третьестепенному участнику таганцевской группы, дали ему высылку на год в трудовой лагерь.
К архивным документам ни прибавить нечего, ни убавить — они достояние истории. В настоящее время — третий год подряд — Михаил Михайлович Старовойтов трудится лоцманом в морском торговом порту. Квартирует на Канонерском острове, в казенном общежитии. Старый холостяк, близких родственников нет. Контактов с дореволюционными сослуживцами подчеркнуто избегает, от выдвижения в капитаны дальнего плавания отказался, сославшись на пошатнувшееся здоровье.
И вот — встреча с Василием Меркуловым в «Старом Тифлисе». Случайный ее характер начисто отпадал, потому что случайными такие вещи бывают редко. Беглый врангелевец вполне обдуманно отправился на Волховстрой, к комвзвода Меркулову, так же как и Меркулов совсем не случайно придумал себе скоропалительную командировку в Ленинград.
Требовалось тщательно разобраться в связях этих людей.
Лоцмана Старовойтова в морском порту ценили высоко. Опытнейший судоводитель, тонкий знаток портовой акватории, все проводки у него тютелька в тютельку, верняковые. В случае надобности не отказывается от сверхурочных вахт, охотно выручает заболевших товарищей. В быту скромен, к спиртным напиткам пристрастия не замечено. Лишь слабое здоровьишко помешало выдвинуть его в капитаны Совторгфлота, на самостоятельный пост.
Лестную служебную характеристику подтверждал и вахтенный журнал. Проводки у Михаила Михайловича действительно были благополучные. Никаких происшествий и досадных недоразумений с иностранными гостями портовых причалов, работа аккуратная, профессиональная.
Настораживала одна маленькая подробность.
За минувшую навигацию чаще других навещал причалы Ленинграда немецкий пароход «Данеброг».
Начал свои рейсы за древесиной еще в апреле, когда ледовая обстановка в морском канале была не совсем благоприятной для судоходства, приходил в мае, в июне, в июле и в октябре, сразу после большого ленинградского наводнения. Порт приписки у него Гамбург, но древесину нашу берет и для англичан, и для шведов. Словом, активнейший купец, великое спасибо ему за содействие развитию внешней торговли Советского государства.
Все пять раз на капитанский мостик «Данеброга» неизменно поднимался лоцман Старовойтов, и это поневоле обращало на себя внимание. Точно других лоцманов в порту не водится, всегда Михаил Михайлович. Трижды он проводил немецкий пароход в очередные свои вахты, согласно расписанию, а два раза подменял заболевших товарищей по лоцманской службе.
Впрочем, спешить с выводами не следовало. Сомнение, коли оно возникало, надо устранять проверкой. Иначе житья от него не будет, изведешься весь, строя разные догадки.
Один из лоцманов, которого подменяли на «Данеброге», и впрямь был болезненным, часто хворающим ветераном причалов. Хроническая язва желудка у человека, месяцами отлеживается на больничной койке. Другого Карусь счел нужным разыскать и побеседовал с ним с глазу на глаз.
Беседа получилась с неожиданностями.
Раскрасневшись от смущения, лоцман этот признался, что в канун прихода немецкого лесовоза они засиделись в пивной, отмечали день рождения Михаила Михайловича Старовойтова, и на вахту он не явился по причине жестокого перепоя. Михаил Михайлович великодушно выручил его, пошел по-товарищески навстречу, а после, конечно, и он не остался в долгу. Глупейшая, короче говоря, вышла история. Еще хуже будет, ежели дойдет до огласки. Разговоры начнутся в лоцманской службе, проработки...
— Вдвоем вы в тот вечер пьянствовали?
— Вдвоем, товарищ начальник.
— А после пивной добавляли у Старовойтова на дому?
— Так точно, добавляли. Значит, вам все известно? Я-то, признаться, не хотел к нему идти, отказывался, а он силком потащил на Канонерский остров. Пойдем, говорит, посидим в человеческих условиях... Вот и посидели... Сам-то Михаил Михайлович пьет аккуратно, а меня, каюсь, развезло тогда вдребезги... Вы уж извините меня, товарищ начальник, больше такое не повторится...
Отпустив лоцмана, Петр Адамович стал прикидывать весомость добытых фактов. Уверенности, да еще стопроцентной, по-прежнему не было. Приходит она с неопровержимыми уликами, а пока не пойман — не вор. У бывшего старшего офицера царской яхты имелись какие-то причины почаще бывать на борту «Данеброга» — это было бесспорно и вполне доказано. Но что за причины?
Между тем ход следствия затормозился.
Безрезультатными оказались розыски Архипова. Исчез беглый врангелевец на Московском вокзале, и никакими усилиями не удавалось напасть на его след. Либо засел в глубоком подполье, на неизвестной чекистам явке, либо вырвался из Ленинграда.
Не было, к сожалению, дополнительной информации и с Волховстроя. Командир взвода Василий Меркулов, по-царски отобедав в «Старом Тифлисе», вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Обходил по ночам наряды, проверял бдительность личного состава, устраивал политинформации, а однажды даже наведался к комиссару части, чтобы выяснить, скоро ли намерены рассматривать его заявление о приеме в партию.
В морском порту тем временем шла деятельная подготовка к предстоящему открытию навигации. Ремонтировались краны, готовился необходимый такелаж, в грузовых артелях усиленно изучали технику безопасности, чтобы предупредить несчастные случаи.
Лоцманская служба зимой не очень обременялась тяготами работы, и у Михаила Михайловича Старовойтова выпадали свободные вечера для развлечений. Днем он домовничал у себя на Канонерском острове, коротал часы за раскладыванием пасьянсов, за чтением пухлых романов, а по субботам, случалось, отправлялся в театр. Драме и опере неизменно предпочитал оперетку.
Вполне можно предположить, что дорога к резиденту «кирилловцев» в Ленинграде была бы еще длиннее, если бы не активное содействие Павла Ивановича Киселева, заметно ускорившее ход событий.
Павлом Ивановичем, правда, никто этого молодого человека не называл. Звали попросту Пашей или товарищем Киселевым, что вполне закономерно, если тебе всего двадцать лет и ты еще не успел совершить ничего выдающегося. К тому же никаких наклонностей к обнаружению вражеских конспиративных квартир у Паши Киселева отродясь не водилось, и вышло все как-то само собой, почти случайно.
Пашина наклонность была иная, чертовски трудная и обременительная: Паша мечтал заделаться в ближайшем будущем инженером-путейцем, для каковой цели и приехал в город на Неве из глухой своей деревеньки Большие Кисели, отделенной от ближайшей железнодорожной станции доброй сотней километров отчаянного бездорожья.
С немалой морокой Паше Киселеву удалось зачислиться на рабфак при Институте инженеров железнодорожного транспорта. Койки в студенческом общежитии для него не отыскалось, не попал он, к огорчению своему, и в счастливый список государственных стипендиатов, поскольку стипендий было маловато, а нуждались в них поголовно все рабфаковцы.
Месяца полтора Паша Киселев перебивался с горем пополам, снимая угол у сердобольной старушки за три рубля, а после ему привалила большая удача. Встретил возле института земляка из Больших Киселей, чистосердечно рассказал ему о своих мытарствах в незнакомом городе, и тот по-свойски помог устроиться на вакантную должностишку дворника.
Обязанностей дворничьих, тем более в зимние снегопады, было невпроворот, но если встать спозаранку и не лениться, то запросто успеваешь к первой лекции на рабфаке. Опять же своя личная комнатенка. Полуподвальное помещение, тусклое оконце на манер тюремного, и все же — сам себе хозяин, с переполненным шумным общежитием не сравнишь.
В семнадцатую квартиру, как и в некоторые другие, Паша Киселев подрядился таскать дрова. За отдельное вознаграждение, естественно не даром.
Напилить ножовкой в дровяном сарае, меленько наколоть, связать в охапочку и доставить на пятый этаж не позднее девяти часов вечера, ибо в десять хозяйка квартиры, симпатичная и приветливая дамочка, ложилась спать. Работенка, как говорится, не бей лежачего, всего и хлопот минут на двадцать, а полтинник в скудном Пашином бюджете лишним никогда не бывал.
Отказали Паше в семнадцатой квартире как-то не по-хорошему. Проще говоря, грубо и бесцеремонно отказали, наплевав на самолюбие человека. Поднялся на верхотуру с охапочкой на хребте, позвонил, а двери почему-то открыть не хотят. Слышны чьи-то приглушенные голоса, причем мужские, а дамочка одинокая, безмужняя, потом ему сквозь дверь объявляют, что услуги его больше не требуются. И велят оставить принесенные дрова на лестничной площадке.
Пашин земляк, с дореволюционной поры служивший в питерских дворниках, наставлял его, что амбиция в этой должности способна лишь навредить. У жильцов характеры разные, кто сладенький наподобие медового пряника, а кто и грубиян, барством своим желает козырнуть. Дворнику на это обижаться не положено, должность у него услужающая, подчиненная.
Совет был мудрым, но Паша все равно рассердился. Не мог он позволить, чтобы обращались с ним, точно с серой бессловесной деревенщиной. И твердо решил объясниться, высказать хозяйке семнадцатой квартиры все напрямик. Забирайте, мол, барынька, ключи от вашего дровяного сарая и таскайте свои охапочки на собственном горбу. Проживем как-нибудь без ваших полтинников, с голоду не подохнем, перебьемся.
К шести часам вечера хозяйка семнадцатой квартиры возвращалась домой. Дождавшись половины седьмого, Паша Киселев поднялся на пятый этаж, готовя себя к принципиальному разговору. Но входная дверь, прихваченная обычно железным крюком, была в этот раз слегка открыта, и это пробудило в нем смутное чувство тревоги, заставив сразу забыть все приготовленные слова.
Паша тихо вошел в темную прихожую, собрался кашлянуть, давая знать о своем приходе, и вдруг услышал возбужденные мужские голоса в столовой.
Говорилось там, в этой столовой, нечто столь чудовищное и дикое, столь не соответствующее всем Пашиным представлениям о жизни, что он как остановился возле вешалки с шубами, так и застыл, весь превратившись в слух.
Выдержки у него, к счастью, хватило, и он не ворвался к этим злым недругам Советской власти, не сказанул им сгоряча все, что о них думает. Осторожно он вышел на площадку, осторожно прикрыл за собой дверь. Нужды в этом не было, но и по лестнице он спускался тихонько, стараясь не шуметь.
На Гороховую Павел Иванович Киселев примчался в восьмом часу вечера. Взволнованный его сбивчивый рассказ был выслушан с должным вниманием и пришелся как нельзя кстати, ускорив разгадку некоторых секретов ленинградской агентуры «кирилловцев».
Во-первых, стало понятным, каким способом сумел бесследно исчезнуть опасный врангелевский недобиток, которого разыскивали по всему Ленинграду. Тайны тут никакой не было. Прямо с вокзала подполковник Архипов направился по известному ему адресочку, чтобы засесть в «нелегалах» накрепко, не показываясь на глаза людям.
Во-вторых, и это особенно обрадовало Петра Адамовича Каруся, удалось точно установить контакты лоцмана Старовойтова с бежавшим из трудовой колонии преступником.
Раскрылся вскоре и довольно хитроумный способ посещений конспиративной квартиры, изобретенный бывшим старшим офицером царской яхты.
По обыкновению своему, Михаил Михайлович Старовойтов надумал провести свободный вечерок в оперетке, благо давали «Сильву» с участием известной примадонны.
В театр приехал заблаговременно, купил билет, разделся в гардеробе. Но вместо зрительного зала направился зачем-то на улицу. То ли покурить на свежем морозном воздухе, то ли дождаться запаздывающего приятеля. Однако ни курить, ни дожидаться кого надо не захотел, а, воровато оглянувшись, шмыгнул во двор соседнего дома. На пятом этаже этого дома, в квартире семнадцать, сидел взаперти подполковник Архипов.
Ликвидировать тайную базу «кирилловцев» было теперь делом несложным. Выжди удобный момент, приезжай с ордером — и конец вражьему гнезду. Только вряд ли стоило торопиться с этой процедурой. Выявленная конспиративная квартира тем и хороша, что позволяет нащупать тщательно скрываемые связи и контакты врага.
Вот с Архиповым следовало поспешить. На свободе оставлять этого бандюгу было слишком опасно. Правда, и тут желательно было прежде установить, на какую роль он готовится — в качестве ли курьера за границу или для разбойничьих похождений в городе.
Все встало на свои места через несколько дней.
Дождавшись вечерних сумерок, врангелевец наконец-то вылез из своей норы. На людях держался спокойно, с нагловатой самоуверенностью. Вразвалочку дошагал до Садовой улицы, на трамвайной остановке купил свежий номер «Огонька» и уселся в прицепной вагон девятки, следующей к Варшавскому вокзалу.
Операцией по захвату бандита руководил сам Петр Адамович, передоверить никому не решился. Брали Архипова с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Вышли вслед за ним на трамвайном кольце, дали возможность купить билет до Пскова, затем отойти от билетной кассы, где было многолюдно. Навалились на него дружно, мигом защелкнули наручники на запястьях. Менее минуты потребовалось на эту молниеносную схватку.
На первом допросе Архипов пробовал куражиться.
— Чистенько работает нынче ГПУ, — сказал он, криво усмехнувшись. — Интересуюсь, гражданин следователь, сколько мне добавят за самовольную отлучку из колонии?
— За побег и за разбойное нападение на конвоира добавят, что положено по закону, — разъяснил Карусь. — Но главное, Архипов, не в побеге. И не в крымских ваших художествах. Главное совсем в другом, как вы сами должны понимать...
— О каких художествах разговор? Неужто амнистия бывшим врангелевским солдатам и офицерам отменена?
— Нет, амнистия в силе. Но подпадают под нее все честно сложившие оружие враги Советской власти. На разбойников и убийц она не распространяется...
— Я не разбойник, гражданин следователь! Я допустил оплошку, сбежав из колонии, но я собирался ее исправить...
— И для этого направились с фальшивым удостоверением личности в Псков? А далее куда держали путь?
— Рассчитывал поискать счастья вне Ленинграда...
— Не в городе ли Мюнхене? Существует там некая монархическая организация, называется, если не ошибаюсь, «Корпус офицеров императорской армии и флота». Разрешите заодно выяснить, с чем собирались явиться к генералу Бискупскому?
— Никакого Бискупского я не знаю!
— Полно, Архипов! Врать надо в меру, а то вы, пожалуй, скажете, что незнакомы и с Василием Меркуловым, и с Михаилом Михайловичем Старовойтовым...
Трудно куражиться и отвиливать, когда пойман с поличным. Трудно, да и небезопасно, если учесть предстоящий суд.
Собственноручные показания врангелевца подтвердили многие догадки Петра Адамовича Каруся. Направили Архипова действительно в Мюнхен, к генералу Бискупскому. Снабдили паролем, явками, адресами. Шпионскую информацию приказали выучить наизусть. Информация, кстати, была довольно ценной и свидетельствовала о немалых возможностях ленинградской агентуры «кирилловцев».
Тихий захват Архипова на Варшавском вокзале давал известные преимущества для контригры чекистов. Пусть думают враги, что курьер благополучно движется по своему маршруту, пусть дожидаются известий из Мюнхена.
Самое важное отныне заключалось в том, чтобы держать на прицеле Михаила Михайловича Старовойтова — козырного туза «кирилловцев» в Ленинграде. Не за горами была весна и подъем флага навигации. Можно было не сомневаться, что в числе первых гостей к ленинградским причалам снова пожалует «Данеброг».
Из собственноручного показания гр-на Архипова В. М.
Настоящим я, бывший подполковник царской армии Архипов Виктор Михайлович, подтверждаю, что показания, данные мной на допросах от 11 февраля и 14 февраля 1925 года, были ложными.
Побег мой из трудовой колонии был устроен при содействии бывшего прапорщика 109-го Ладожского пехотного полка Василия Меркулова, известного мне еще с германского фронта. Меркулов снабдил меня адресом квартиры на улице Ракова, где можно было укрыться от преследования, а также познакомил меня с М. М. Старовойтовым, отрекомендовав его как доверенное лицо вел. князя Кирилла Владимировича. Умонастроение Меркулова резко противосоветское, в партию он вступает ради продвижения по служебной линии.
В Мюнхен я должен был добираться следующим путем. Границу перейти севернее гор. Острова, в районе дер. Замошье. На латвийской территории ни к кому не обращаться вплоть до гор. Риги, где на улице Тиргонуела, в торговом доме «Ширман и Кº», спросить Никиту Владимировича Михайлова. Пароль: «Я к вам от друзей из гардемаринского класса». Никита Михайлов должен был снабдить меня деньгами и документами для дальнейшего следования.
Поскольку переход границы планировался собственным моим попечением и полной уверенности в успехе не было, М. М. Старовойтов приказал мне выучить наизусть секретные сведения для передачи генералу Бискупскому.
Сведения эти следующие...
Житие тайного советника
«Цезарем быть нашему Сашеньке, цезарем!» — Восхождение к вершинам. — Александр Путилов против Чрезвычайной Комиссии. — Успехи и просчеты.
Печатник будто в воду глядел, не возлагая слишком больших надежд на признания Александра Сергеевича Путилова. Откровенность этому человеку была начисто противопоказана, в душе он считал ее сквернейшим из недостатков человечества.
У бывшего тайного советника и управляющего канцелярией Совета Министров Российской империи имелось множество добродетелей и достоинств, открывавших прямую дорогу к могуществу.
Умение скрывать свои мысли было главнейшим среди них. Свойство это еще в юности сделалось основополагающим, и рядом с ним, как бы дополняя его, обозначились постепенно другие черты характера. Сказывалось оно, это свойство, во всем без исключения — в знакомствах с людьми, в оценках явлений действительности, в словах и поступках, даже во взаимоотношениях с собственной супругой.
Про Эммануила Ласкера, знаменитого шахматного чемпиона, говорили, что умеет он рассчитывать свои партии на десять ходов вперед, прозорливо отгадывая замыслы противника.
Александр Сергеевич посмеивался про себя, слушая столь наивные восхваления Ласкера. Экая невидаль, десять шахматных ходов! Жизнь надо уметь рассчитывать, всю человеческую жизнь, а не какую-то игру, состоящую из сплошных условностей. На года, на десятилетия вперед, чтобы отчетливо виднелась конечная ее цель, чем-то схожая с покрытой вечными снегами горной вершиной. Вот это достойно восхищения, хотя чемпионскими лаврами не увенчивается.
Как и старшие его братья, Сашенька Путилов вырос в родовом именье «Глубокое», в двадцати пяти верстах от Костромы, издавна принадлежавшем его родителям.
С малых годочков отличался хилым здоровьем, беспрерывно болел и едва не отдал богу душу в младенчестве. Если бы это случилось, предсказание его деда по матери, отставного свитского генерала, состоявшего в свое время при особе императора Николая I, оказалось бы несостоятельным.
Согласно семейным преданиям, полуослепший дед, взяв на руки слабенького недоношенного внучонка, воскликнул с поразившей всех силой убеждения: «Цезарем быть нашему Сашеньке, цезарем!» В тот же день, в тихий предобеденный час, дед скончался от разрыва сердца. Слова его считались в семье пророческими.
Действительность, правда, совсем не подтверждала этих слов. Узкогрудый, непомерно крупноголовый, с тонкими рахитичными ножками, младший отпрыск фамилии Путиловых менее всего напоминал победоносного Цезаря.
Упрямо сторонился шумных детских забав, по-стариковски искал уединения, спрятавшись от няньки где-нибудь в кустах боярышника и не отзываясь на встревоженные голоса взрослых. Мальчишка рос диковатый, с превеликими странностями.
Блистательная военная карьера не могла зажечь его воображения. Не влекла и входившая в моду стезя предпринимательства, на которой иные его родичи быстро достигли преуспеяния, заделавшись обладателями миллионных состояний.
На семейном совете решено было отвезти младшего сына в Санкт-Петербург, в Императорский Александровский Лицей. Заведение вполне достойное, нисколько не хуже любого университета, не говоря уж о Кадетском корпусе, а смекалистому человеку и на чиновничьем поприще открыты широкие возможности.
К этому времени Сашенька Путилов поокреп и мало-помалу набрался силенок. Не доктора ему помогли, с величайшей готовностью приезжавшие в «Глубокое», благо гонорары были щедрыми, не микстуры и целебные ванны Баден-Бадена. Сам себе помог, благо с редкостной для его возраста настойчивостью взялся догонять широкоплечих старших братьев.
По утрам, уединившись в каретном сарае, он часами терпеливо упражнялся с гирьками по какому-то немецкому самоучителю. Наловчился отменно плавать, фехтовать, стрелять из пистолета.
В сенокосную пору, взяв у управляющего маленькую косу-литовку, уходил с наемными работниками на заливные луга. Напрасно было отговаривать его, предостерегать от чрезмерных физических нагрузок — все равно сделает по-своему, как задумано.
Ученье в столице давалось Сашеньке легко.
Курс наук, преподаваемых в Лицее, считался трудным, кое-кто плакал горючими слезами в дортуарах и бегал по репетиторам, а он с первого года заделался любимцем профессоров.
По латыни — «пятерка», по логике — «пятерка» с плюсом, по закону божьему — первейший ученик. Иностранные языки знает назубок, без малейшей запиночки, точно произрастал до пятнадцати лет не в провинциальной костромской глуши, а на берегах Темзы либо Сены.
Высшей точкой лицейского взлета Сашеньки Путилова была хитрая юриспруденция, которой на старших курсах придавалось первейшее значение. Тут он был вне досягаемости для простых смертных, одинаково преуспевая и в церковном, и в международном праве, и в полицейском, и в уголовном.
Разбуди его ночью, задай вопросик с подковыркой, а он, глазом не моргнувши, отчеканит любую из статей толстенного Свода законов. Да еще возьмется комментировать, умненько ссылаясь на забытые богом и людьми разъяснения правительствующего Сената. Память у юнца просто умопомрачительная, феномен какой-то по части законов, запоминающая машина.
В октябре 1893 года, в годовой лицейский праздник, их рассадили по казенным каретам и неспешной трусцой повезли в Зимний дворец, на торжественную церемонию выпускного акта.
Все было согласно исстари заведенным правилам — и новенькие с серебряным шитьем мундиры, и долгое ожидание в огромном зале для приемов, и заученные напутственные фразы государя императора, произнесенные скучающим голосом, вроде бы нехотя. Лишь главного не было, самого желанного.
Исключительные дарования лучшего воспитанника курса остались без соответствующей оценки начальства. Всех аттестовали коллежскими асессорами, и ему присвоили тот же скромный чин. Это означало, что каждую ступеньку крутой служебной лестницы надобно одолевать на общих основаниях.
Влиятельных покровителей, способных замолвить словечко, у него не нашлось. Уж на что тупицей считали Ванечку Нарышкина, бездарь редкостная, буквально непроходимая, а добился назначения в канцелярию министра двора, поближе к пирогу. Его же, наиболее одаренного и многообещающего, запекли в министерство земледелия, в департамент по землеустроительным делам. Сиди в жарко натопленной приемной с широкими зеркальными окнами на Мариинскую площадь, разбирайся в бесчисленных ходатайствах.
Другой бы, наверно, возроптал на судьбу или хлопнул в сердцах дверью, надолго распрощавшись с хмурой, негостеприимной столицей. Александр Путилов не позволил себе и минутной слабости. Была бы голова на плечах — и в мелких чиновниках можно пробить себе дорогу.
Началась служба царю и отечеству. Восхождением к вершинам ее назвать нельзя, просто монотонные чиновничьи будни, в которых одна неделя схожа с другой, словно они родные сестры.
Но и будни имели свои малоприметные бугорочки, возвышавшие их над серой равниной обыденности. Сегодня, скажем, столоначальник милостиво похмыкал, одобрив черновик составленной тобой памятной записки для его превосходительства: мысли и соображения твои он выдаст за плод собственных раздумий, и это зачтется тебе в недалеком будущем, даром не пропадет. Завтра усердие и сообразительность скромного коллежского асессора будут одобрены самим директором департамента.
Москва и та не сразу строилась. На все требуется время и терпеливость, тем паче на карьеру. Важно, чтобы бугорочков этих прибавлялось в твоем послужном списке, чтобы во всякую минуту находиться на виду у власть имущих, оставаясь при этом на почтительном расстоянии, в готовой к услугам безвестности.
Жил он строго, по-монашески.
Записался в лицейский клуб, регулярно показывался в обществе, не упуская случая посетить места, где блистает вся чиновничья столица, а на заполночные холостяцкие пирушки однокурсников и сослуживцев и калачом его не заманишь. Отговорится, сославшись на тысячу причин, ни за что не пойдет. Лишняя трата энергии, бессмысленная суета.
Отец его, как и дед, скончался в одночасье от сердечного удара. В «Глубоком», окруженная приживалками и странницами, коротала дни изрядно состарившаяся матушка. Усиленно звала вернуться к тихим усадебным радостям, бросить казенную маету в дождливом Санкт-Петербурге, приискивала богатых невест.
Радости тихого помещичьего существования казались ему теперь идиллической чепухой для ограниченных натур. В семье никто больше не вспоминал вещие дедовы слова, сказанные при его рождении, забыли их с годами. А он помнил дедово пророчество, он всерьез собирался достигнуть славы и известности. Не цезаревой, разумеется, всяк сверчок должен знать свой шесток, — но достаточно громкой и высокой.
К тридцати годам, менее чем за десять лет службы в столице, Александр Сергеевич Путилов стал надворным советником.
Положение его в департаменте было вполне солидным. С ним считались, уважая за образованность, его прочили в кресло директора. Радоваться бы молодому чиновнику, обзавестись семьей, наконец-то пожить в свое удовольствие.
Радоваться он не торопился, по-прежнему укрощая естественные в его возрасте порывы и желания. До цели было еще очень далеко, а директорское кресло совсем не та вершина, к которой он стремится.
Нужно было набраться терпения и ждать счастливого случая. История учит, что цезари рождаются при благоприятном стечении обстоятельств. Так было в древности, и так, очевидно, будет всегда.
Знакомство с Петром Аркадьевичем Столыпиным на первый взгляд выглядело чисто служебным, ни к чему не обязывающим. Встретились они в Саратове, в просторном губернаторском кабинете с чудесным видом на широкий волжский простор, потолковали о всякой всячине, и никакой душевной близости между ними не возникло. Губернатор всегда остается губернатором. Столичный чиновник, даже приехавший с ревизией земельной управы, обязан помнить об этом, соблюдая разделяющую их дистанцию.
С земельной управы и ее повседневных нужд разговор перекинулся на волновавшую всех в те времена жгучую тему. Заговорили о бурном шквале революционных потрясений, расшатывающем устои самодержавия и государственности. Столыпин был тогда молод, полон энергии и высказывался с продуманной определенностью крутого администратора, который знает, чего он добивается.
Стачки и забастовочное движение на заводах ничуть не беспокоили Столыпина. Тут нужна строгость, другого ничего не требуется. Разумная строгость в соединении с разумной гибкостью властей. Зачинщиков и смутьянов — на каторгу, всех прочих — постепенно приучать к повиновению.
Иная статья — крестьянские бунты, поджоги помещичьих усадеб. Россия испокон веков является земледельческой страной, и аграрный вопрос для нее наиглавнейший. Решать его следует обдуманно, путем смелых реформ.
После обеда, когда дамы удалились на половину хозяйки дома и было подано кофе, разговор принял более конкретный характер. У саратовского губернатора имелась, оказывается, своя система взглядов на сельскую общину как источник многих зол Российского государства. Взгляды эти приезжий ревизор полностью разделял и с удовольствием поддакнул своему собеседнику, высказав попутно собственные мысли на сей предмет.
С этого началось их сближение.
Видно было, что Столыпин всерьез заинтересовался столичным гостем, увидев в нем единомышленника. С сочувствием расспрашивал о тяготах и несправедливостях департаментской службы, ядовито высмеял тупоголовых санкт-петербургских сановников, разлегшихся на пути молодых дарований бесчувственными колодами. Многозначительно и как бы намекая на какие-то перемены, Столыпин заметил, что с радостью отдал бы дюжину канцелярских чинодралов взамен одного действительно умного сотрудника.
Спустя полгода в жизни Александра Сергеевича Путилова начались крупные перемены. Похоже было, что дождался он счастливого случая, вытянул свой удачливый билет.
В апреле 1906 года саратовский губернатор Столыпин стал министром внутренних дел, а вслед за тем, быстренько оттеснив престарелого Горемыкина, и председателем Совета Министров. Имя Петра Аркадьевича сразу приобрело известность. Открылась эпоха знаменитых столыпинских реформ, призванных стать мощным заслоном перед силами революции.
Штык-юнкер, как прозвали остряки нового любимца царя, не забыл своих обещаний. Напротив, едва появившись в столице, обласкал и возвысил Александра Сергеевича Путилова, пригласив к себе в обер-секретари.
Любил советоваться со своим фаворитом, вызывая в Елагин дворец с утренними конфиденциальными докладами, частенько давал щекотливые и сугубо доверительные поручения. Александр Сергеевич, естественно, в долгу не оставался, всячески угождал благодетелю.
По рекомендации всесильного штык-юнкера перекочевал он и в канцелярию Совета Министров, в Мариинский дворец, где суждено было ему прослужить долгие годы. Получил вскоре действительного статского советника, в тридцать пять лет щеголяя в генеральском пальто на красной подкладке, был назначен товарищем главноуправляющего государственной канцелярией. Дедово пророчество вроде бы постепенно сбывалось.
Драматические выстрелы в киевском театре выбили из-под ног Александра Сергеевича привычную опору. Надев траурную повязку, он дольше других оплакивал безвременную кончину Столыпина. Утрата была для него чувствительная, трудно восполнимая, но совсем не катастрофическая. Он успел упрочиться в столице, он пустил глубокие корни.
Летом 1914 года Россия вступила в войну.
На политической арене чаще, чем требуется, сменялись теперь правительства. Возникали и исчезали в небытие премьер-министры, чья участь решалась прихотью царицы или безграмотной записочкой святого старца Распутина. Премьеры, как им положено, формировали кабинеты, устраивая всякий раз очередную министерскую чехарду. В министерствах соответственно объявлялось о новых назначениях и новых отставках. Служивый сановно-сиятельный и чиновничий мир столицы существовал в беспрерывном вращении, в хитростях интриг и закулисных сговоров.
Его эта карусель почти не затрагивала. Подобно лорду хранителю печати, он восседал на своем посту устойчиво, потому что любой власти требуется преемственность. Обзавелся множеством полезных знакомств, приобрел сенаторскую осанку, умел ладить и с прекраснодушными либералами, и с оголтелыми черносотенцами вроде Пуришкевича. В Царском Селе, в окружении императрицы Александры Федоровны, к нему относились милостиво.
Следующим его шагом должна была сделаться самостоятельность. Единственное, чего не хватало ему для полноты мироощущения и без чего до конца дней пришлось бы держаться в тени, на втором плане. Самостоятельность крупная, истинно государственная. На мелочи, наподобие губернаторского поста или министерского портфеля при очередной перетасовке карт, размениваться не было охоты.
Почему бы, предположим, не возглавить тайному советнику Путилову правительственный кабинет? Вот тогда он сумел бы развернуться с должной силой и, кто знает, быть может, сумел бы превзойти незабвенного Петра Аркадьевича.
Страна переживает труднейший период российской истории. Разруха в хозяйстве и военные неудачи вызвали смуту, усиливается хаос, монархия в опасности. Пусть доверят ему формирование правительства, не вмешиваясь в его способы управлять обществом, и он добьется чудодейственного исцеления от всех российских недугов. Рука у него твердая, опыта достаточно, враги отечества скоро почувствуют железный характер Путилова.
Программа обдуманных им мер спасения престола была не совсем оригинальной. Изложенная на бумаге, она, вероятно, состояла бы из сплошных запретов, ограничений и репрессий, призванных потуже затянуть узду.
И главное — поскорее обезвредить ненавистного Александру Сергеевичу стоглавого дракона революции. Всех этих социал-демократов и горластых студентиков, кадетов и анархистов, присяжных поверенных и слишком многое вообразивших о себе университетских профессоришек. Виселицами обезвредить, расстрелами, безжалостными карательными экспедициями.
Но до вершины своих вожделений он так и не успел дошагать — бодливой корове бог рог не дает. Когда разыгрались в столице февральские события 1917 года и слабовольный император отрекся о г престола, стало понятно, что с программой обдуманных им реформ надобно повременить.
Стремительно и неотвратимо рушился заведенный издавна порядок. На площади перед Мариинским дворцом пели «Марсельезу». Министры последнего царского кабинета разбежались, точно трусливые зайцы, а глава правительства, престарелый князь Голицын, скрывался где-то на частной квартире и звонил ему по телефону нарочито измененным голосом, разыгрывал дурацкую конспирацию.
Тайный советник Путилов в подобных условиях счел за благо отойти в сторонку. Никому дел своих не сдавал, вызвал казенный автомобиль и умчался к себе домой, на Басков переулок. Лучше он почитает Тацита или займется переводами из Поля Верлена, нежели взирать на всю эту мерзость.
Надежды он, конечно, не утратил. Преемственность власти, что там ни говори, служит гарантией успеха, и знания его в административной сфере могут понадобиться господам из Временного правительства.
Пройдет несколько дней, поутихнет упоение свободой, и за ним обязательно пришлют, его будут умолять вернуться к исполнению долга. Не исключено, что он даст согласие на сотрудничество с демократией. В конце концов пути развития не всегда прямолинейны, иной раз к цели приходится идти окольными тропками компромиссов.
Только не приехали за ним, увы! И, следовало думать, не приедут вовсе, зачислив в одиозные фигуры царского режима. Барахтаются кое-как, губят основы порядка и государственности, возделывая почву для разгула черни.
В отличие от иных своих коллег и сослуживцев, Александр Сергеевич отчетливо предвидел дальнейший ход исторического развития. Керенскому ни при каких условиях не устоять на ветру, не взять в руки твердую власть. Мелковат для серьезных испытаний, чересчур склонен к позерству, к пустопорожней революционной фразеологии. На смену говорливому адвокатишке непременно придут большевики.
Случилось это даже раньше, чем рассчитывал тайный советник Путилов.
Смертельно испуганных членов Временного правительства заперли в казематах Петропавловской крепости. Из Смольного провозглашались ленинские декреты, окончательно взрывающие старый мир. На Дворцовой площади днем и ночью полыхали костры, возле которых толпились вооруженные рабочие и матросы.
Для Александра Сергеевича все это было равнозначно личной
катастрофе. И не потому вовсе, что был он сказочно богат. Нет, другие теряли несравненно больше. Рядом с ними, с крупными промышленными магнатами, владельцами необозримых земельных угодий, миллионерами и банковскими тузами, выглядел он всего лишь маленькой, незначительной букашкой.
Тем не менее счел себя лично обворованным. Промышленники и владельцы земли лишались своих заводов и родовых поместий, отобранных декретами Советской власти. Немалая, конечно, потеря, чрезвычайно болезненная и обескураживающая, но ее восстановит время, ибо право частной собственности всегда останется незыблемым.
Своя потеря казалась ему трагедией, — он лишался мечты всей жизни. Большевистский эксперимент неминуемо закончится крахом, в этом он был убежден. Однако на ликвидацию его потребуются долгие месяцы, а возможно, и долгие годы. Кому он будет нужен тогда, постаревший, вышедший в тираж. На сцене засверкают новые кандидаты в цезари, молодые, победоносные. Стариков попросят уйти в тень.
Ненависть целиком заполнила сердце тайного советника, вытеснив все прочие человеческие чувства. Холодная, расчетливая и непримиримо злопамятная ненависть уязвленного самолюбия. Александр Сергеевич Путилов сделался яростным врагом Советской власти.
Врагов этих и без него насчитывалось сколько угодно. В одном Петрограде они составляли неисчислимый легион. Врагов могущественных, влиятельных, умеющих наносить тяжелые удары. Впрочем, немало было и способных лишь на бессильное шипенье из подворотни, на мелкие трусливые укусы.
Тайного советника интересовали, разумеется, только влиятельные и сильные недруги Смольного. Душа его томилась жаждой действий.
Как многие люди его круга, он мог бы бежать из столицы, обезопасить себя от возможных неприятностей. В Ростов-на-Дону, к примеру, где, накапливались противоборствующие силы, готовые развязать гражданскую войну, либо в эмиграцию, куда-нибудь в Париж, в Лондон, на худой конец, в сытый и недалекий Гельсингфорс.
Бегство он исключил, запретив себе даже думать об этом варианте. В Петрограде место истинному борцу, рядышком со Смольным, под боком у Чрезвычайной Комиссии. Волков бояться — в лес не ходить, а удары, нанесенные в Петрограде, подобны ударам в сердце.
Едва ли не первым организованным средством борьбы, доставившим уйму хлопот новым хозяевам жизни, сделался чиновничий саботаж.
Александр Сергеевич не принимал в нем участия и не очень одобрительно относился к этой затее кадетов, считая ее заранее обреченной. Большевики легко расправятся с саботажниками, отделив чиновничью мелюзгу от истинных вдохновителей стачки. С десяток крупных лиц уволят или посадят для острастки в тюрьму, а мелюзга как ни в чем не бывало примется за работу.
Примерно так все и разыгралось в ближайшие недели. Стачечные комитеты стали самораспускаться, с волынкой было покончено. Вдобавок агентам Дзержинского удалось раскрыть тайну финансовых источников, публично обвинив руководителей саботажа в хищении народных средств и прочих неблаговидных махинациях. Вышла конфузная история, комиссары Смольного могли радоваться.
Значительно серьезнее выглядели дошедшие до Александра Сергеевича сведения о тайном блоке офицерства четырех столичных полков — Преображенского, Семеновского, Волынского и Финляндского, — якобы созревшем в последние месяцы, с весьма решительными намерениями.
Надежные осведомители сообщили тайному советнику, что во главе военного заговора — генерал Борис Шульгин, давний приятель Карла Густава Эмилия Маннергейма, кончавший вместе с ним Пажеский корпус.
Еще говорили, что в заговоре участвуют эсеры, делегировавшие для связи известного террориста Филоненко, что штаб-квартира у заговорщиков в Экономическом клубе на Михайловской площади и что существует будто бы договоренность с генералом Маннергеймом: едва тот со своими войсками приблизится к Выборгу, заговорщики выступят в Петрограде.
Осторожненько, ибо разумная осмотрительность была его житейским правилом, он попытался наладить связь с руководителями блока. Без личных свиданий, конечно, — упаси господи от подобной глупости! Контакты возникли через третьих лиц, имя Александра Сергеевича вслух не произносилось.
Но информация из Экономического клуба оказалась огорчительной и разочаровывающей. Заговорщики эти при ближайшем рассмотрении выглядели безответственными, самонадеянными офицериками. Много пьют, еще больше болтают, и, что хуже всего, — никакой заботы о безопасности.
Полупьяный Шульгин, как ему доложили, восседая в клубном буфете, жалует георгиевскими кавалерами безусых восторженных юнкеришек. Явочная квартира у них где-то в Песках, у известной кокотки, связанной с чинами французского посольства.
В открытую ведутся разговоры о взрыве поезда с Лениным при отъезде большевистского правительства в Москву, о распределении городских объектов на предмет вооруженного захвата. Семеновцы якобы должны брать штурмом Смольный, а преображенцы — мосты через Неву, Петропавловскую крепость и здание Чека на Гороховой.
Слушал Александр Сергеевич своего информатора и едва сдерживал проклятья. Господи, что же это творится на белом свете и до какого бедлама можно дойти с подобными господами! Ведь ищейки с Гороховой также способны навестить Экономический клуб. Скорее других, пожалуй, осчастливят своим визитом, всё разузнают, всё разнюхают. Неужто эти самонадеянные тупицы не сообразили, с каким огнем идет игра?
Нет уж, увольте от медвежьих услуг безмозглых союзничков! В компании с идиотами он погибать не собирается.
Большевики — публика организованная, четкая, с военной дисциплиной. И бороться против них надо с помощью их же средств. Ни малейшей, следовательно, расхлябанности. Все должно быть законспирировано строжайшим образом. От телефонных разговоров следует отказаться. Почтовая связь пригодна лишь в некоторых исключительных случаях.
Блок четырех полков, как и следовало предвидеть, бесславно лопнул. Преображенцев разоружили в их же казарме на Миллионной. Приехали ночью на броневиках, наставили в упор пулеметы — и, пожалуйте бриться, милостивые государи, сдавайте оружие. Шульгин из Петрограда бежал. Успел дать тягу и Филоненко, объявившийся позднее в штабе атамана Каледина.
Да что там вспоминать, провалов было с избытком, не только этот. И все они доказывали, что нельзя безнаказанно нарушать золотое правило, которым руководствовался Александр Сергеевич. Хотите чего-то добиться в борьбе — умейте быть хитрыми и дьявольски изобретательными, учитесь искусству перевоплощения, обдумывайте каждый свой шаг.
Оставаться в Питере на положении безработного тайного советника было немыслимо. Выбрав удобный момент, Александр Сергеевич поступил на службу, не оскорбился предложенной ему ничтожной должностишкой. Натурально и убедительно изображал лояльность, в короткий срок добился признания своих способностей.
Довелось побывать ему и на Гороховой, сподобился такой чести. У других, вместе с ним арестованных, были крупные неприятности, а его выпустили ровно через десять дней. И даже отметили на прощание его старательность — настолько были любезны.
Забрали Александра Сергеевича в пору массовых облав и арестов в октябре 1919 года. Привели в тюрьму на Шпалерной улице, заперли в многолюдной общей камере.
Боже мой, кого только не было здесь и каких только бранных слов не сыпалось на голову большевиков! Войска генерала Юденича вплотную подошли к стенам города, с часу на час ждали уличных боев. Заключенные полагали, что скоро они поменяются ролями со своими тюремщиками.
У тайного советника хватило сообразительности помалкивать. Сказался больным, залез на дощатые нары и молча отлеживался, не принимая участия в шумных словопрениях камеры.
Ночью особо ретивых хулителей советских порядков увели на допрос, а рано утром к ним в камеру явился небритый рыжеволосый субъект в матросском бушлате и с маузером на боку.
— Граждане паразиты трудового народа! — прохрипел он с порога простуженным басом. — Красный Петроград в опасности, так что кому желательно трудиться на пользу обороны — выходи добровольно вперед. А кто не желает, того заставим в порядке обязательного постановления...
Александр Сергеевич слез с нар первым, косых взглядов соседей не устрашился. И работал, надо ему воздать должное, с превеликим усердием, до кровавых мозолей натер ладони.
Строили они баррикады на Петергофском шоссе, неподалеку от завода, принадлежавшего двоюродному его братцу Александру Ивановичу Путилову, известному миллионщику. Глянул бы кто со стороны, быть может и удивился бы столь знаменательному совпадению исторических обстоятельств. Правда, философствовать тут было некому да и некогда — все таскали тяжелые мешки с песком. Таскал и сопровождавший их субъект с маузером.
— Буржуй ты видать отменный, а совесть не совсем потеряна, — одобрил он тайного советника, когда в баррикадах не стало надобности. — Мозоль колупать не советую, она затвердеет. И на память тебе останется. Гордиться ею будешь. Прощевай пока, господин хороший, извини, коли невзначай обидели...
Таким вот идиллическим образом закончилось личное его общение с грозной Чрезвычайкой. И потому только, что вел себя благоразумно, с пониманием психологии этих людей.
Время между тем продолжало свой неумолимый бег.
Под стенами Петрограда растрепали чересчур самонадеянного генерала Юденича, в Иркутске расстрелян был адмирал Колчак. Крушением закончилась и добровольческая эпопея на Юге, битые вояки барона Врангеля кормили вшей в галлиполийском лагере. Большевистский эксперимент, судя по многим признакам, затягивался на долгие годы.
Введение новой экономической политики не обрадовало Александра Сергеевича. Бурное ликование некоторых своих друзей, вообразивших, будто начинается постепенный возврат к старому, он считал очередным заблуждением.
Совсем не о бессилии кремлевских правителей говорило это новшество в политике. Скорее, о мудрой предусмотрительности, об умении проницательно заглядывать в будущее. Расчистив себе дорогу, большевики двинутся вперед, и тогда их будет еще трудней остановить.
Словом, как ни прикинь, а получалось, что прав он был в своем споре с Марковым 2-м.
Диктатура пролетариата — штука серьезная, и опровергать ее надо умеючи, менее всего рассчитывая на перерождение новой власти. Ее надо расшатывать, эту железную диктатуру взбунтовавшейся черни. Методично, каждодневно, с упорством крота, который делает свое дело, не будучи заметным на поверхности земли. Расшатывать всеми доступными способами, не гнушаться любой черновой работы, потому что это единственный путь к ее крушению.
Кредо свое он выложил Николаю Евгеньевичу еще в ноябре 1918 года, когда Марков 2-й собрался бежать за границу. Знакомы они были с давних пор, еще до избрания этого бойкого инженера в депутаты Государственной думы от Курской губернии и до скандальной его известности в качестве лидера «Союза русского народа». Питали друг к другу невысказанные симпатии, хотя встречались редко, от случая к случаю.
Всю весну и почти все лето 1918 года Николай Евгеньевич целиком посвятил лихорадочной деятельности спасителя царского семейства.
Создал в Петрограде тайные офицерские отряды, засылал своих лазутчиков в Екатеринбург и Тобольск, где содержали под стражей бывшего российского самодержца, сам ездил в Вологду, пытаясь заручиться поддержкой дипломатических миссий Франции и Англии.
Хлопот и конспиративной возни было сверх меры, а кончилось все полным фиаско. Большевики не захотели дожидаться спасителей Николая Романова — расстреляли всю царскую семью.
Бежать вместе с Николаем Евгеньевичем он отказался наотрез. И более или менее откровенно высказал свои соображения по сему вопросу.
Сильная добровольческая армия, сколачиваемая на Юге из офицерства, — это хорошо. Прямое военное вмешательство западных держав — еще лучше. Но при этом не следует забывать об активизации в тылу большевиков, в их жизненно важных центрах. Питер — как раз такой оплот большевизма, не зря его называют в газетах колыбелью Октября, и работа здесь имеет колоссальное практическое значение. Иначе говоря, пусть бегут за границу другие, счастливого им пути. Лично он остается в Петрограде.
— Для чего? — нетерпеливо перебил Николай Евгеньевич. — Ты же сам видишь, работа здесь бессмысленна. Стало быть, ради геройской смерти в застенках Чрезвычайки? Нет уж, сударь мой, благодарствую! Я лично предпочитаю собственными руками расстреливать красную сволочь...
— Люди живут всюду, — возразил он. — Живут, приспосабливаются, помаленьку работают. Что же касается застенков, то не все ли равно, где умирать? К тому же разговоры о всемогуществе чекистов кажутся мне преувеличенными. У них есть успехи, но и на старуху бывает проруха...
— Пока ты ищешь ее, эту проруху, они тебя сцапают, как бывшего сановника империи, и в два счета поставят к стенке... Один в поле не воин, не нами это придумано...
— Во-первых, дорогой мой, и один кое-что способен сделать, а во-вторых, найдутся и у нас надежные бойцы, сколько угодно их в городе. Сигнала ждут, настоящего дела...
— Вместе с надежными войдет в твой дом Иуда Искариот, — предсказал Марков 2-й. — Непременно войдет, я нашу публику изучил. И тридцати сребреников просить не будет, продаст по дешевке...
Договориться им было невозможно, поскольку стояли они на позициях диаметрально противоположных. Николай Евгеньевич был раздосадован крахом своих честолюбивых планов, напуган газетными сообщениями о суровых приговорах Чрезвычайной Комиссии, любой ценой ему хотелось вырваться из Петрограда. В ответ он упорно отстаивал свою точку зрения.
А искушение было заманчивым. Проводник у Николая Евгеньевича отличный, из парголовских контрабандистов, знающих границу вдоль и поперек. С головы берет дороговато, по три тысячи рублей думскими, но зато переводит безошибочно. Всего сутки мучений, страхов, физической усталости, и можно плевать на Гороховую. Но что бы, спрашивается, он делал там, в эмиграции, где и без него достаточно громких имен? И что бы он там значил?
Марков 2-й рассчитывал поскорее добраться до Парижа, откровенно похваляясь своими планами. В захолустном Гельсингфорсе ему делать нечего, надо повидать членов Высшего монархического совета, информировать их о здешней обстановке. Судьбы России ныне решаются в Париже, туда он и держит путь.
Поездка Николая Евгеньевича в этом смысле представляла кое-какой интерес. Было бы глупо не воспользоваться удобной оказией, и он ловко направил разговор в нужное русло.
Кроме поклонов знакомым, уважаемый Николай Евгеньевич должен передать кому следует несколько маленьких правил, совершенно обязательных на будущее. Прежде всего, никто из эмигрантов и ни при каких условиях не должен обращаться лично к нему, к Александру Сергеевичу Путилову. Ни письменно, ни путем присылки курьеров.
В Петрограде нет тайного советника Путилова, есть тут некто по фамилии Герасименко. К этому Герасименко и надлежит впредь обращаться, адресуясь, понятно, не на Басков переулок, а по одному из нижеследующих адресов. Записывать их нельзя, придется запомнить. Да, да, в целях осторожности, ибо запись может попасть в руки врага.
Расстались они почти по-родственному. Напоследок Марков 2-й с привычным красноречием думского говоруна расхваливал его за мужество и патриотическую верность долгу. Поручения все обещал выполнить аккуратно.
Спустя несколько месяцев Александр Сергеевич вычитал из «Петроградской правды» о сборище монархических лидеров в Париже, в фешенебельном отеле «Мажестик», где с речью, как сообщала газета, «выступал удравший из Советской России известный мракобес и реакционер Марков 2-й».
Известие это было обнадеживающим: просьбы его, выходит, переданы кому положено, и впредь можно не опасаться неожиданного подвоха со стороны эмигрантов. Пусть ищут чекисты мифического Герасименко, не так-то скоро найдут.
Созданная им трехступенчатая система связи с заграничным центром была сложной и не совсем удобной. Куда проще адресованную тебе корреспонденцию получать без промежуточных инстанций, но тогда и риск многократно увеличится. На Гороховой неплохие контрразведчики, пренебрегать их опытом опасно.
В Герасименках он числился недолго, менее года. Контакты с Высшим монархическим советом наладились устойчивые. Приезжали к нему курьеры, с которыми занимались другие люди, а он их и в глаза не видел. Приходили шифрованные письма и посылки с литературой. Система действовала без осечек, но предусмотрительность никогда не бывает чрезмерной.
Вскоре он сделался доктором Рабиновичем, благо настоящий доктор Рабинович, специалист по венерическим и кожным болезням, практиковал неподалеку от Баскова переулка, ни сном ни духом не ведая, что имя его пущено в международный оборот. Затем корреспонденция из Парижа начала доставляться для Ивана Ивановича Иванова, личности и вовсе бесформенной, как бы лишенной свойственных человеку индивидуальных черт: в городе насчитывалось более сотни Иванов Ивановичей Ивановых.
Конспирация была необходима, без нее ничего не добьешься. Но еще сильнее занимала его мысль об ответных ударах. Возникнув однажды, эта мысль с каждым днем делалась все более неотступной, поглощая бездну духовных сил. Чем бы он ни занимался, рано или поздно приходил к ней, потому что и самые изощренные конспиративные уловки в его положении не были решением вопроса. Если хочешь уцелеть — непременно противоборствуй и, по возможности, давай сдачи чекистам. Иначе тебя сомнут, как смяли многих других.
Шансов на большие успехи, в сущности, было немного. У Гороховой четкая организация, опытные кадры, материальные средства и, наконец, прорва добровольных помощников из простонародья, считающих долгом своим донести о любом подозрительном факте. А что у тебя и горстки связанных с тобой питомцев Лицея? Чем ты способен обезвреживать замыслы чекистов?
И все же кое-какие шансы имелись. Было бы глупостью отказываться от них, устрашившись неравенства сил.
Бесчисленные провалы антисоветских групп и организаций полностью подтверждали правоту его рассуждений. В чем их главная беда? Да в том, что работали с завязанными глазами. О Гороховой, о ее кадрах и планах знали не больше того, что известно всем обывателям. Между тем врага нужно изучать с такой же тщательностью, с какой он изучает своих противников. Иначе неравенство сил превращается в ахиллесову пяту, сулящую неизбежное и неотвратимое поражение.
Удача, в особенности первая, окрыляет.
Такой удачей для Александра Сергеевича была история с разоблачением чекиста Угренинова. Она помогла ему ощутить свою способность к тяжелым ответным ударам.
В эмиграции шла отчаянная междоусобная драка двух монархических кланов. Враждовали по-шекспировски, как Монтекки и Капулетти. Ревностные сторонники Николая Николаевича ругательски ругали приверженцев Кирилла Владимировича, и те, в свою очередь, не оставались в долгу, лихо упражняясь в выборе оскорбительных эпитетов. Попробовали, кстати, втянуть в склоку и его, сидящего в глубоком подполье. Истинно сказано, что боги наказывают, отнимая разум.
Ему было безразлично, чей окажется верх в потасовке великих князей. Он поддерживал контакты с обоими лагерями, не испытывая при этом каких-либо угрызений совести.
Для него было важно другое: и «николаевцы» и «кирилловцы» одинаково ненавидели Советскую власть. Следовательно, они — его союзники, а в чьи руки попадет конфиденциальная информация, значения не имеет. «Кирилловцы» связаны с немцами, у «николаевцев» ориентация на французов и поляков. Была бы ценная информация из Совдепии, а заинтересованный генштаб всегда отыщется.
Дело Угренинова возникло с записочки доктора Сильверстова. Переслали ее по «кирилловскому» каналу связи из Ревеля, и, что было возмутительным нарушением конспирации, открытым текстом. С доктором Сильверстовым он был знаком, состоял даже в его пациентах в былые времена, но вряд ли это могло служить оправданием легкомысленной выходки.
Справедливости ради надо признать, что содержание записочки оказалось любопытным.
Доктор Сильверстов сообщал, что поставлен во главе вооруженной антикоминтерновской лиги. В отличие от эмигрантских златоустов, расточающих себя на праздную болтовню, люди его заняты полезным очистительным трудом — они выслеживают и физически истребляют эмиссаров Кремля. Как легальных, с дипломатическими иммунитетами, так и замаскированных, тайных. Последним, естественно, уделяется повышенное внимание, хотя разоблачать их сложно и хлопотно. Именно по этой линии его людям нужна помощь извне, в частности из Санкт-Петербурга.
Сотрудничество с доктором Сильверстовым ознаменовалось серьезным успехом. Вместе с ним возникло радостное ощущение значительности собственных сил. Отныне он чувствовал себя не только поставщиком секретных сведений, интересующих чужеземные разведслужбы. Впервые у него появилась возможность самому влиять на события.
Вдохновляла счастливая легкость победы. С надежной оказией ему доставили из Ревеля маленькую фотокарточку. По-видимому, любительскую, моментальную, какие мастерят уличные фотографы, не больно-то заботясь о художественной выразительности — лишь бы похоже было.
«Субъект сей рекомендуется здесь Сергеем Ивановичем Гронским, поручиком Олонецкого пехотного полка, — сообщал доктор Сильверстов. — Есть некоторые основания подозревать в нем секретного сотрудника ГПУ. Не откажите помочь в опознании, премного нас обяжете».
На карточке во весь рост был изображен молодой человек лет тридцати пяти. Спокойное уверенное лицо, высокий лоб, слегка прищуренные зоркие глаза. В ладно сшитом костюме, при галстуке, с франтовской тростью. Стоит на остановке таксомоторов и, видимо, не знает, что попал в объектив фотографа.
Мнимого поручика Олонецкого полка опознал он сам, ничьей помощи не потребовалось. Зрительная память у него была цепкая, натренированная с детства, и одного взгляда на фотографию хватило, чтобы явственно припомнить их встречу.
На Гороховой это было, в незабываемом октябре 1919 года. Этот самый молодой человек входил дважды в комнату рыжеволосого матроса с маузером. Запомнил он и его фамилию — Угренинов. Рыжеволосый еще называл его, помнится, Костей. Значит Константин Угренинов — несомненно тайный агент ГПУ.
Азартное охотничье нетерпенье охватило Александра Сергеевича, и он не стал дожидаться очередного курьера «кирилловцев», пренебрег обычной осторожностью. Спешно снарядил к доктору Сильверстову своего сотрудника «333». Лучше бы, наверно, воздержаться, не понадобились бы впоследствии крутые меры. Впрочем, он все равно становился опасным, этот слюнтяй. Рано или поздно возник бы вопрос о его ликвидации.
Случилось так, что казнь чекиста происходила в присутствии впечатлительного «333». В лесу между прочим, в пошлейшей обстановке, напоминающей дурные сцены из средневековой жизни. Трудно сказать, хотел ли доктор Сильверстов произвести впечатление на его посланца или не сообразил сдуру, что лишний свидетель неминуемо ведет к лишним неприятностям. Похоже, что хвастался с умыслом, набивал цену своим молодчикам.
В Ленинград «333» вернулся предельно взвинченный, готовый на любую глупость. К счастью, состояние его своевременно заметили, и катастрофа была предотвращена. Иначе побежал бы с повинной, хватило бы ума.
Дело прошлое, но тот вечер запомнился надолго. Отвратительное было самочувствие, хуже некуда. Можно, оказывается, считать себя волевым, несгибаемым человеком, у которого стальные нервы, и ошалело, совсем по-дамски, вздрагивать от телефонных звонков. И воображать всю эту сцену в мельчайших подробностях, будто сам являешься исполнителем. И не находить себе места в тягостном предчувствии беды. Слабостей, увы, не лишены и сильные мира сего.
Впрочем, смятенность чувств была непродолжительной. Ему позвонили на службу, в статистический подотдел, произнесли условленную фразу, означавшую благополучный исход операции, и он моментально взял себя в руки.
«333», слава богу, умер не в пытках, как распятый на сосне чекист. Думается, и сообразить ему было некогда, что с ним происходит, а это смерть легкая, наиболее гуманная.
На следующий день в вечерней газете появилась заметка о вытащенном из Фонтанки несчастном самоубийце. План, таким образом, был выполнен, и несостоявшийся Иуда Искариот получил по заслугам.
Приятными и безболезненными подобные акции никак не назовешь. Уголовщина, если разобраться, кровавая и грязная работенка, связанная к тому же с огромным риском. Но есть у нее и свои плюсы. Они надежно охраняют от опаснейшей бациллы предательства. Благодаря им крепнет дисциплина среди твоих людей, безоговорочное послушание.
Логика тут, в сущности, простая, людоедская. Нет желания очутиться на Гороховой — стало быть, очищайся от скверны, будь жестоким и беспощадным. И гляди в оба, ибо бацилла предательства подстерегает на каждом шагу.
Изрядную головоломку преподнесло тайному советнику возвращение лицеиста Афанасия Павловича Хрулева.
Из эмиграции приезжали многие, не один Хрулев. Сочинят слезницу пожалобнее, запишутся на прием в советском посольстве и терпеливо ждут решения своей участи. В родных пенатах блудных сынов принимали со сдержанной вежливостью, без попреков и без распростертых объятий. Помогут устроиться на работу, помогут с жильем и, разумеется, изучают, настороженно присматриваются.
Афанасий Хрулев воротился из Парижа через Берлин. Разыскал в добром здравии жену и подросшего сына, устроился на должность в коммерческий отдел управления Северо-Западной железной дороги. Жил тихо и уединенно, встреч с бывшими однокашниками не искал.
Обо всем этом тайному советнику исправно докладывали помощники, и мало-помалу он успокоился. Не было оснований подозревать Хрулева в связях с ГПУ: видно, намытарился человек на чужбине, припал к семейному очагу и рад-радешенек жалкой зарплате совслужащего, хотя в былые времена блистал в чиновничьих кругах столицы, занимая довольно крупные посты. Не всякий, к сожалению, способен на подвижничество, есть натуры смиренные, робкие.
Однако месяца через полтора ему передали, что Афанасий Павлович желает встретиться с ним, с Александром Сергеевичем Путиловым. Не говорит напрямую в чем дело, но дает понять, что свидание это крайне желательно и неотложно. И как бы между прочим сообщает, что в канун своего отъезда из Парижа имел конфиденциальную встречу с влиятельной персоной из Высшего монархического совета.
Новость эта заставляла насторожиться. Личное свидание с Хрулевым, понятно, исключалось, — не мог он пойти на такой риск. Не имел права подставлять под удар и своих людей.
Пока тянули с ответом, Афанасий Хрулев предпринял крайне неожиданный маневр. Явился поздно вечером в Басков переулок, трижды надавил кнопку звонка, как было указано на двери, и молча протянул ему какой-то конверт.
— Кто вы? — в страхе отшатнулся Александр Сергеевич. — Что вам угодно?
— Я — Афанасий Павлович Хрулев, — сказал нежданный визитер взволнованным шепотом. — Берите, берите скорей, там все написано! — и стремительно сбежал по лестнице, сунув ему в руки конверт.
Глупо было догонять Хрулева, привлекая внимание любопытствующих соседей. Еще глупее было бы уничтожить злополучный конверт, не ознакомившись с его содержанием. Короче говоря, дурацкая эта выходка заставила решать сложнейшие проблемы.
Понадобилась уйма ухищрений и предосторожностей, чтобы вскрыть конверт, не оставляя следов. Письма в нем не оказалось — лишь простенькая схема какой-то квартиры с едва заметным крестиком на стене одной из комнат. И всего два слова в нижнем углу, нацарапанные остро отточенным карандашом: «Фурштадтская, Кочубей».
Головоломка сделалась еще более сложной.
Эту или подобную схему тайный советник ждал с нетерпением, потому что испытывал нужду в средствах, а миллионные сокровища лежали где-то рядышком, припрятанные в тайниках. В данном случае речь шла, несомненно, о кладе в особняке князя Кочубея.
Загадочным было другое: с какой целью применен столь странный способ пересылки схемы? И не провокация ли это, не хитрая ли уловка чекистов?
Так или иначе, от прямых контактов с Хрулевым следовало воздержаться. К тому же, как сообщили ему, Афанасий Павлович выехал в длительную служебную командировку. Как нарочно, не было связи и с парижскими друзьями, — очередной курьер от них ожидался через месяц, не раньше.
Вот тут он и вспомнил о Савве Туманове, непутевом отпрыске весьма уважаемых родителей. С помощью Саввы безопаснее всего испытать честность Хрулева. Репутация у этого молодого негодяя подмоченная, но от политики он достаточно далек. Пусть займется розысками княжеских сокровищ на свой страх и риск. Сойдет все благополучно — стало быть, Афанасий Павлович ни в чем не виноват. Ну, а коли возникнут осложнения — выводы будут напрашиваться сами собой.
Передачу схемы Савве Туманову удалось осуществить с отменной точностью безукоризненно налаженного механизма. Твердым был и джентльменский уговор с этим авантюристом: ни при каких условиях не называть имени Александра Сергеевича, нести ответственность в одиночку, за что Савве Туманову полагалось пятьдесят процентов от общей суммы.
Неудача на Фурштадтской прозвучала, как сигнал бедствия.
Правда, специальные наблюдатели, издали контролировавшие действия Саввы Туманова, утверждали, что арестован он якобы за самозванство, что предъявлял кому-то фальшивое удостоверение агента угрозыска, но Александр Сергеевич этим басням не верил. Для него было ясно, что несчастьем он обязан предателю Хрулеву.
Была объявлена тревога.
Расписание тревоги тайный советник разрабатывал лично, стараясь заранее предусмотреть любые случайности. Менялось все одновременно — явки, система оповещения, пароли, шифр, клички. Никто отныне не имел прямого выхода на него, на руководителя организации.
Ближайшему своему помощнику, заставившему замолчать «333», Александр Сергеевич отдал распоряжение, брезгливо при этом поморщившись:
— Ликвидируйте христопродавца...
Бедный, бедный господин Путилов! В лютой злобе своей, в безмерном классовом ослеплении, не мог он догадаться, просто сообразить не мог, кто придет на выручку обреченному Афанасию Хрулеву.
Из стенограммы допроса гр-на Хрулева А. П.
Ланге (улыбается). С протестами, Афанасий Павлович, давайте малость повременим. Уверяю вас, иной раз и постылая тюремная камера становится благословенной обителью спасения, за которую хочется благодарить.
Xрулев (возмущенно). Отказываюсь постичь вашу логику, товарищ следователь! Меня хватают на улице, ни слова не сказавши впихивают в автомобиль ГПУ, и я же, выходит, обязан рассыпаться в благодарностях. Что же тогда называть беззаконием? Нет, я решительно протестую! На родину я вернулся с чистой совестью и ни в чем перед Советской властью не виноват...
Ланге. Охотно допускаю, что не виноваты. Тем не менее мы обязаны уточнить кое-какие обстоятельства, связанные с вашим пребыванием в Париже. В каких вы там состояли организациях?
Xрулев. В Париже я бедствовал, как большинство русских людей. Числился членом «Юнион женераль де шоффер рюсс»...
Ланге. Это Союз русских шоферов?
Xрулев. Да, это профессиональное объединение, но без всяких прав и материальных средств. Ютится в гараже на рю Санс, около станции метрополитена. Французские власти считают его незаконнорожденным детищем и всячески третируют...
Ланге. К Высшему монархическому совету вы имели отношение?
Xрулев (возмущенно). Помилуйте, товарищ Ланге! Там собрались политики высшего полета...
Ланге. В царское время вы были надворным советником?
Хрулев. Совершенно справедливо. Чин это не бог весть какой, если вы знакомы с табелью о рангах...
Ланге. Служили у Владимира Николаевича Коковцева?
Хрулев. Некоторое время я действительно числился по канцелярии Совета Министров. Осенью 1914 года уехал добровольцем в действующую армию...
Ланге. В эмиграции встречались с Коковцевым?
Хрулев. Изредка. Главным образом на различных собраниях, где он витийствовал. Я не возьму в толк, для чего вы об этом расспрашиваете? Неужто вы думаете, что между мной и господином Коковцевым есть что-либо общее?
Ланге. Минутку, Афанасий Павлович, все в свое время. Прежде я бы хотел, чтобы вы ответили на мои вопросы. Очень важны ответы честные, от этого многое зависит.
Хрулев. Я от вас ничего не скрываю. Абсолютно ничего.
Ланге. Вот и отлично. Тогда скажите мне, какое поручение было вам дано перед отъездом в СССР? И насколько удачно вы сумели его выполнить?
Хрулев (заметно смущен, мнется). Право, это ошибка, товарищ следователь. Никакого поручения никто мне не давал. Да я бы и не согласился, потому что нас предупреждали в советском посольстве.
Ланге (встает, ходит по кабинету). Странно, очень странно... За что же в таком случае решено вас убить?
Хрулев (ошеломлен). Меня? Убить? Простите, товарищ следователь, ничего не понимаю...
Ланге. Я и сам в недоумении, уважаемый Афанасий Павлович. Не могут же они приговаривать к смерти всех возвращающихся на родину...
Хрулев. Кто они?
Ланге. Ваши друзья, Афанасий Павлович. Бывшие воспитанники Императорского Лицея. Если желаете поименно, могу в первую очередь назвать Александра Сергеевича Путилова. Знаком вам этот господин?
Хрулев. Я не верю! Этого не может быть!
Ланге. Может, Афанасий Павлович. Вам известно о смерти Иннокентия Замятина? Вы, кажется, одного с ним выпуска?
Хрулев. Мне рассказывали... Бедняга почему-то кончил самоубийством...
Ланге. Примерно такая же история должна была приключиться и с вами, уважаемый Афанасий Павлович. Еще вчера. Вы, говорят, на дачу собрались ехать?
Хрулев (растерянно). На дачу... В Карташевку, пятичасовым поездом, а забрали меня в четыре...
Ланге. Ну вот, где-то в Карташевке и планировалось ваше «самоубийство»: вероятно, должны вы были броситься под поезд...
Хрулев. Боже мой! Это ужасно.
(Длительная пауза.) Значит, ГПУ спасло меня от смерти?
Ланге (с улыбкой). Выходит так, Афанасий Павлович. Я же вам говорил, что с протестами следует повременить, а вы горячились... Никогда не надо горячиться. Сказать по совести, был у нас и свой резон поспешить вам на помощь. Мы хотели выяснить причину этой хладнокровно подготовленной расправы. Однако вы утверждаете, что никаких поручений не имели... Возможно, вы не решаетесь сказать нам правду?
(Долгая томительная пауза.)
Хрулев. Нет уж, я скажу! Судите меня, наказывайте по заслугам, но я все скажу...
Пропажа секретных документов
Улики прямые и косвенные. — Инженер Ружейкин и его властолюбивый секретарь. — Старый знакомец Печатника. — Подъем флага навигации в порту. — Сроки подпирают.
Открытия Александра Ивановича Ланге наглядно доказывали, что интерес чекистов к бывшему тайному советнику Путилову был обоснован и закономерен.
В обличье скромного банковского статистика скрывался враг. Хитрый, умный и чертовски изобретательный, научившийся не оставлять за собой следов.
Но следы все же оставались. Следы обязательно остаются — весь фокус в умении их обнаруживать.
Глашенька Нечаева без труда опознала в тайном советнике того самого властного и сердитого дядьку, который начальничьим тоном распекал ее возлюбленного у Казанского собора. Из этого следовало, что Путилов как-то причастен к печальному происшествию с Иннокентием Замятиным. Улика, разумеется, косвенная, неотразимой ее назвать трудно, но и сбрасывать со счетов не стоит, вполне может пригодиться.
Хитро организованная передача схемы в кондитерской Жоржа Бормана и откровенные показания Нашатыря, этого незадачливого охотника за сокровищами, были уликой прямой, убедительно подтверждающей противозаконный характер деятельности тайного советника. О том же самом свидетельствовали и «случайные» встречи на улицах, когда отлично знающие друг друга господа играют в незнакомцев.
Немало заслуживающего внимания порассказал Печатнику Афанасий Павлович Хрулев, приговоренный к «самоубийству» после провала на Фурштадтской улице. С перепугу ли, с досады ли на безжалостных своих лицейских однокашников, но рассказал все чистосердечно, без утайки даже тех подробностей, которые были для самого не очень благоприятны.
Эмигрантские одиссеи Афанасия Павловича ничем не отличались от горестей и злоключений многих тысяч русских людей, покинувших родную землю с разгромленными белыми армиями.
Быстро проел золотые часишки и перстенек с бриллиантами, оставшийся в память об умершей матери. Мотался по влиятельным знакомым, добывал разные справки и рекомендательные письма, чтобы получить нансеновский паспорт, да так и не получил, остался беспаспортным. Выстаивал унизительно долгие очереди за нищенским вспомоществованием, распределяемым наехавшими из Америки старухами-благотворительницами. Голодал, конечно, хлебнул беды вволю.
Политических скандалов и дрязг, раздиравших эмиграцию, упорно сторонился. Ни к «николаевцам», ни к «кирилловцам» примкнуть не пожелал. Уклончиво объяснял знакомым, что предпочитает жить сам по себе, вне группировок.
Грызла лютая, неизлечимая тоска — страшная эмигрантская болезнь. Ностальгией ее зовут или как-то по-другому, это все равно, а болезнь действительно страшная.
На берегах Невы, в Эртелевом переулке, в отцовской квартире, где рос он с малолетства, волею судеб остались жена и кроха-сынок. Все мысли были с ними, ни о чем другом думать он не мог и не умел.
В числе первых смельчаков Афанасий Павлович принялся хлопотать о въездной визе. Отправился на рю Гренель, в советское посольство, вручил дежурному консульскому сотруднику длиннющее прошение с покорнейшей просьбой сжалиться и дать право снова увидеть родину.
Угрозы оголтелых соотечественников нисколько не страшили Афанасия Павловича: пусть не подают руки при встрече, пусть клеймят кличкой изменника, возвращается он не куда-нибудь — к себе домой, в Россию.
Не пугали его и зловещие разговоры о неизбежной якобы ссылке в трудовые лагеря, ждущей в СССР всех возвращенцев: за невольную свою провинность перед родиной он готов ответить сполна. Отработает срок в трудовом лагере, отсидит в тюрьме — лишь бы вернуться, лишь бы увидеть своих.
Виза была получена сравнительно быстро. И тут его подстерег сюрприз. Окольными путями Афанасию Павловичу дали знать, что с ним возымел желание побеседовать сенатор Коковцев, бывший его патрон, всесильный министр финансов, а впоследствии и председатель Совета Министров.
Владимир Николаевич Коковцев в отличие от бедствующей эмигрантской голытьбы не голодал и не холодал. Квартира у него была барская, шикарная, на Колонель Бонне, где благоденствуют состоятельные русские изгнанники. Правда, любезное сенаторское приглашение последовало не на дом, что было бы более естественно, а в плохонький ресторанчик «у Мартьяныча». И не к обеденному часу, а к первому завтраку, который у французов состоит из чашки кофе со сливками и микроскопического кренделька.
Беседовал с ним Владимир Николаевич точно с равным, в лениво-снисходительной дружеской манере. За решение возвращаться в Совдепию не корил, лишь заметил вскользь, что следовало прежде посоветоваться с умными, знающими людьми и что общественное мнение эмиграции справедливо осуждает лиц, готовых сотрудничать с узурпаторами-большевиками.
Завтрак приближался к концу, когда Владимир Николаевич как бы к слову промолвил, что осмеливается просить уважаемого Афанасия Павловича о маленькой дружеской услуге.
В Питере, в ничтожной должностишке мелкого совслужащего, влачит ныне жалкое существование тайный советник Путилов. Давний его приятель, государственная голова, большая умница. Неплохо бы передать Александру Сергеевичу со столь удобной оказией маленькую записочку, слегка подбодрить хорошего человека. Записочка, в сущности, совершенно безобидная, и ежели уважаемый Афанасий Павлович сомневается, сейчас же можно распечатать конверт и лично в том убедиться.
Сработала проклятая чиновничья привычка к низкопоклонству перед сиятельными персонами, и он взял этот злополучный конверт, отказавшись от проверки. Раскаивался после, ругал себя за отсутствие твердого характера.
Ужасно это неприятно — начинать новую жизнь советского гражданина с обмана властей, взявшись за доставку нелегальной корреспонденции. Но коли свалял дурака, не годится и на попятную лезть. Иначе говоря, виноват он, готов за это нести заслуженную кару. На Басков переулок съездил, конверт вручил в собственные руки господина Путилова.
Чувствовалось, что Афанасий Хрулев не знаком с привезенным им письмом. Тем паче не догадывался он о причине, вызвавшей гнев бывших лицейских друзей. Использовали его в должности «темного» курьера, заподозрили в измене и, не колеблясь, решили ликвидировать, как был ликвидирован Иннокентий Замятин. Крутые, видать, нравы у этих лицеистов, беспощадные.
Пришлось Печатнику договариваться с дирекцией железной дороги и отправлять Афанасия Павловича в длительную служебную командировку прямо из тюремной камеры. Не уберешь его подальше от людей Путилова — стало быть, получишь еще один «несчастный» случай.
Конспиративная связь с членом Высшего монархического совета Коковцевым, злейшим врагом Советской власти, могла бы стать убедительным основанием для немедленного ареста тайного советника. Да и других оснований набиралось более чем достаточно.
Но Печатник с развязкой не спешил. Прикинул все доводы «за» и «против», поразмыслил и пришел к выводу, что спешить не в интересах следствия. Противник перед ним был оборотистый, ловкий, дальновидно рассчитывающий свои ходы. Поторопишься с арестами — и дашь ему возможность спрятать концы в воду.
Бросалась в глаза почти чудодейственная перемена всего жизненного уклада Александра Сергеевича Путилова, случившаяся в последние дни.
Никаких больше пеших хождений на работу и обратно. Ехать-то всего ничего — пара коротеньких
остановок, а лезет в трамвай, пешком не идет. И на улице ни единая душа не остановит больше тайного советника.
Разом прекратились все подозрительные звонки в статистический подотдел — немногословные, состоящие из заранее условленных фраз. Сам Александр Сергеевич также перестал пользоваться телефоном. Явится на службу, уткнется в бумаги, головы ни разу не поднимет.
— Похоже, что переполох на лицейском подворье, — высказал предположение Мессинг. — Перестраиваются на ходу. Либо решено стихнуть на какой-то срок, временно исчезнуть со сцепы, либо вступила в действие новая система связи, нам, к сожалению, неизвестная...
— Возможны оба варианта одновременно, Станислав Адамович. Шайка-лейка у них крупная, размах большой, сразу такую махину затормозить трудно...
— В любом случае мы обязаны побыстрей прощупать всех, кто выходил на связь к Путилову. Очень тебя прошу, не мешкай, пожалуйста, с этим делом, поторапливайся...
Хлопотливой, чрезвычайно трудоемкой проверке выявленных кадров тайного советника как раз и были посвящены все усилия Александра Ивановича Ланге.
Какое там — не мешкай! Самого себя лишил он покоя и помощников своих загонял до седьмого пота, требуя быстроты, точности и предельной целеустремленности в исследовании каждого факта.
Справедливости ради заметим: не напрасно требовал Печатник, с ощутимой пользой для следствия. Из частностей и мелочишек мало-помалу складывалась целостная картина расстановки сил в контрреволюционном лицейском подполье.
О долговязом гражданине в надвинутой на глаза шляпе, что разговаривал с Путиловым возле Аничкова моста, сведения поначалу были довольно скудные.
Полковник лейб-гвардии Семеновского полка Алексей Александрович Рихтер, коренной житель Северной Пальмиры, потомственный дворянин. Хлеб насущный некоторое время добывал в артели грузчиков на станции Московская-Сортировочная, был ломовым извозчиком. Уволен из артели за прогулы и нерадивость. Роль провинциала, якобы не знающего, как добраться до Финляндского вокзала, разыгрывал, конечно, с какой-то специальной целью. Но истинная причина уличного свидания на Аничковом мосту неизвестна.
Чуть позднее выяснилось, что этот самый Рихтер вдобавок еще и активный участник подавления революции 1905 года. Был в ту пору штабс-капитаном, выезжал с полком в Москву во время Декабрьского вооруженного восстания, а по возвращении семеновцев в Санкт-Петербург удостоен высочайшей награды «за усердие и храбрость». В общем, каратель и палач с заслугами, руки его обагрены кровью героев Красной Пресни.
И уж вовсе все встало на свои места, когда по архивным материалам Петроградской Чека было установлено, что полковник Рихтер в 1918 году деятельно подвизался в тайной офицерской организации, созданной для освобождения царя Николая II. Возглавлял, оказывается, разведгруппу организации, ездившую в Тобольск, пользовался особым доверием Маркова 2-го.
От ареста ускользнул, сбежав своевременно из Петрограда. Чем был занят в стане белогвардейцев, у генерала Деникина, и каковы его подвиги периода гражданской войны, предстояло еще уточнять.
Тайный советник, нисколько не стесняясь, использовал этого зубра на грязной черновой работе. К примеру, в качестве уличной ищейки, пущенной по следу Афанасия Павловича Хрулева. Само собой напрашивалось предположение, что использовался он и в качестве убийцы, которому приказывают тихо ликвидировать намеченную жертву.
В паре с полковником следил за Афанасием Павловичем некий вертлявый господинчик лет тридцати пяти. Глазки у него вороватые, блуждающие, подбородочек острый, лисий, ухмылка гаденькая.
Сменяли шпики друг дружку в подворотнях и парадных, тщательно выдерживали дистанцию. Слежка за Хрулевым велась непрерывно, с утра до позднего вечера. По всему было видно, что ищейки натасканные, с опытом уличного наблюдения.
Вертлявого господинчика с острым подбородочком величали Владимиром Николаевичем Забудским.
Не в пример полковнику Рихтеру, с горем пополам окончившему в юности Кадетский корпус и по неизвестным причинам отчисленному из Академии Генерального Штаба, этот был питомцем Императорского Лицея, личностью почти интеллигентной.
Сынок херсонского вице-губернатора, бывший владелец огромных поместий в Таврической губернии. До революции служил в канцелярии Совета Министров, ныне безработный. Числится на учете Биржи труда, источники существования туманны. За спекуляцию иностранной валютой и мошенничество приговаривался к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Освобожден досрочно в связи с обострившимся туберкулезным процессом, имеется соответствующая справка медицинской комиссии.
Последнее обстоятельство вдруг разозлило Печатника, и он сделал себе пометочку на календаре. Для заготовки древесины в лесах Карелии, дела общественно полезного, помогающего народному хозяйству, туберкулез, оказывается, служит препятствием, а вот рыскать по Ленинграду в амплуа филера-добровольца нисколечко не мешает. Нужно было выбрать время и потолковать с товарищами из лагерного начальства. С этаким гнилым либерализмом они ставят себя в глупейшее положение.
Впрочем, и блистательный гвардейский полковник, заделавшийся под старость сыщиком, и шпик с высшим лицейским образованием были всего лишь мелкими сошками в сравнении с фигурой истинно загадочной, трудно объяснимой.
Фигурой этой, которую удалось засечь среди подручных тайного советника, являлся Михаил Шильдер, или «смуглолицый в клетчатом пальто», как окрестили его помощники Александра Ивановича Ланге.
Этот в безработных отродясь не состоял. Этот трудился в Севзапвоенпроме, имел доступ к секретам ленинградской оборонной промышленности. И вообще, судя по многим признакам, благоденствовал на советской почве, заделавшись незаменимым специалистом.
Больших усилий не потребовалось для установления биографических его координат. Загляни в любой дореволюционный справочник и мигом вычитаешь необходимые сведения о Михаиле Владимировиче Шильдере. Лицеист выпуска 1913 года, потомственный дворянин, единственное чадо крупного царского сановника.
Карьеру с помощью влиятельного родителя Михаил Шильдер делал стремительную, год от года набирал высоту. Несмотря на молодые свои годы, успел достичь чина надворного советника. В военном министерстве числился секретарем самого министра, уцелевая на этой выгодной должности при любых перетрясках правительственных кабинетов. Служебные характеристики имел самые лестные: умен, исполнителен, блестяще образован. Но то было в царское время, когда перед такими искателями чинов раскрывались все дороги.
Куда как сложнее оказалось разобраться в тайных пружинах процветания Михаила Шильдера при Советской власти. В Севзапвоенпроме работает чуть ли не с основания треста. Случались за эти годы неоднократные чистки аппарата от чужаков, бывали увольнения в связи с сокращением штатных единиц, а «смуглолицый в клетчатом пальто» неизменно оставался на своем месте. Ныне подвизается в секретарях начальника технического отдела, причем и здесь успел обзавестись блистательными характеристиками, составленными в превосходных степенях.
По роду своей работы Александр Иванович Ланге частенько сталкивался с вопиющим благодушием и верхоглядством некоторых руководящих товарищей. Понятие о бдительности у таких деятелей весьма кособокое, примитивное. Существуют, мол, надзирающие органы пролетарской диктатуры — ГПУ, милиция, уголовный розыск, им положено присматривать за происками врага, а наша обязанность — разбираться с хозяйственными проблемами текущего дня, быстрей восстанавливать разрушенное народное хозяйство.
Досадно было видеть этих прекраснодушных болтунов. Хотелось иногда стукнуть кулаком по столу и выложить горькую правду в глаза.
Вы что, други любезные, белены объелись или начисто утратили классовое чутье в угаре нэпа? С каких же это пор борьба против врагов рабоче-крестьянской власти перестала входить в круг ваших прямых служебных обязанностей? Да знаете ли вы, ротозеи с партбилетом, что пригретый вами контрик занят в Севзапвоенпроме явной антисоветчиной? Начитанность и образованность не остановили его перед вступлением в церковную «двадцатку» Козьмодемьянского собора. Будучи допущенным к государственным тайнам, он тем не менее считает долгом своим посещение провокационных панихид по «невинно умерщвленному императору». А вы с легким сердцем подписываете ему характеристики, состоящие из сплошных восхвалений. Очнитесь, братцы!
Но стучать кулаком не полагалось. Еще менее допустимым было преждевременное разглашение оперативных следственных материалов, даже если это помогло бы кому-то самокритично взглянуть на собственные поступки.
Полагалось делать свои чекистские дела тихо и, по возможности, неприметно. Оставаться всегда в тени, не лезть ни к кому с менторскими нравоучениями и, что важнее всего прочего, глядеть в оба, не прозевать решающую минуту, когда требуется твое вмешательство.
Начальником технического отдела в Севзапвоенпроме работал инженер Ружейкин. По узкой своей специальности корпусник, один из известнейших кораблестроителей Ленинграда.
Начинал когда-то карьеру на «Северно-Судостроительной верфи», на знаменитых ее стапелях, где ковалась мощь русского военно-морского флота. С годами вырос в крупного инженера широчайшего профиля. Знаток технических новшеств в машиностроении, изобретатель, техническим отделом руководит безукоризненно.
Ружейкин-то как раз и нахваливал своего секретаря, не жалея при этом радужных эпитетов. Работник всеми уважаемый, авторитетный, с мнением которого принято считаться. Дескать, и деловит Михаил Владимирович Шильдер, и схватывает сложнейшие инженерные вопросы на лету, и вообще без него он, Ружейкин, все равно что без рук — секретарь в техническом отделе выдающийся, поистине незаменимый.
Оспаривать это суждение не хотелось, да и не было для того достаточно веских оснований. Толковые секретари действительно большая редкость, и Шильдер со своим опытом прислуживания царским сановникам вполне мог очаровать простодушного Ружейкина. Только вот куда нацелена деловитость «смуглолицего в клетчатом пальто»? Вряд ли на процветание советской оборонной индустрии. Думается, в другую сторону, в противоположную.
Скоро Печатнику доложили о странных несуразностях во взаимоотношениях начальника отдела и его секретаря. Ружейкин известен своей рассеянностью, смахивающей порой на чудачество. Способен, допустим, в разгар делового совещания прервать себя на полуслове, уставившись в потолок и, вероятно, обдумывая внезапно родившуюся идею. На помощь ему приходит в таких случаях секретарь, неизменно находящийся рядом с начальником. Не просто напомнит о чем шла речь, но и сердито прикрикнет на своего шефа, будто тот у него в подчинении.
Еще было замечено сослуживцами, что, уезжая в Москву, в очередную служебную командировку, Ружейкин спрашивал у своего секретаря, нет ли для него поручений в столице. Сказано это было на людях, со свойственной Ружейкину прямотой, и Шильдер якобы смутился, отвел начальника в сторонку, что-то шепотом ему выговаривал.
У фактов подобного свойства огромная сила эмоционального воздействия на психику следователя. Они настораживают и будоражат, как тревожные сигналы о неблагополучии, зовут к активности, к решительным действиям и, что скрывать, нередко подбрасывают слишком поспешные выводы.
В случае с Михаилом Шильдером торопливость исключалась категорически. Ежели подручный тайного советника пробрался в Севзапвоенпром со специфическими намерениями, а сомнений в этом почти не было, то излишней скоропалительностью только вспугнешь вражеского лазутчика. Нужны тут железные доказательства и прямые улики, надобно до конца раскрыть всю механику растаскивания секретной информации.
По просьбе чекистов в Севзапвоенпроме ввели кое-какие строгости, призванные оградить государственные тайны. Ревнивее стали соблюдаться инструкции по работе с секретной документацией, ограничили список лиц, допущенных на особо важные промышленные объекты.
Начальнику технического отдела также пришлось выслушать замечания ревизоров. Некоторые секретные чертежи и схемы, как было установлено, он прихватывал домой. Объяснял эту вольность желанием помозговать на досуге, когда мысли свободны от надоевшей ежедневной текучки. Квартира у него отдельная, посторонних лиц не бывает, имеется на дому и несгораемый шкаф.
Упрек Ружейкин выслушал без амбиции, с обычным своим отсутствующим выражением лица. От нарушений правил обещал впредь воздерживаться, бормотал извинения.
Значительно острее отреагировал на критику секретарь начальника, пустившись в длинные рассуждения об особенностях творческой натуры своего патрона, с которыми, дескать, не желают считаться и бюрократизма ради ставят талантливому инженеру палки в колеса.
Строгости вводились постепенно и весьма основательно, под флагом очередной проверки севзапвоенпромовского хозяйства. Требовалось наглухо перекрыть пути утечки секретной информации и не создавать при этом излишней нервозности в коллективе. Нагрянули, дескать, въедливые ревизоры, обнаружили кое-какие упущения, и, как всегда, началась полоса перестраховочных мероприятий.
Замысел Печатника строился с учетом характера избалованного ружейкинского секретаря. Вполне допустимо, что «смуглолицый в клетчатом пальто» испугается, захочет выждать более благоприятных условий, не решаясь рисковать. Пусть ждет, это в конце концов устраивало следствие. Вероятнее, однако, что соблазн возьмет верх над осторожностью. Тогда придется лезть на рожон, другого выхода нет. Пусть себе лезет на доброе здоровьичко, пусть рискнет — удобнее будет схватить с поличным.
Ускоренное изучение людей тайного советника Путилова шло тем временем полным ходом. Как и следовало ожидать, в поле зрения попадали новые, еще неизвестные чекистам персонажи.
Безработный полковник Рихтер в ближайший воскресный день обнаружил несколько удивительный в его общественном положении интерес к найму дачи. Сел в пригородный поезд, доехал до Парголова и медленно прошелся вдоль пыльных здешних улочек, изучая заманчивые предложения дачевладельцев.
Ни одна из сдающихся на лето дач ему не понравилась, и с досады полковник вздумал завернуть в пристанционный буфет. Уселся за крайний столик, попросил бутылку «жигулевского» и бутерброд с сыром. Пил медленно, смаковал каждый глоток, вытирая платочком вислые рыжие усы.
Вскоре к полковнику подсел моложавый краснощекий гражданин в толстом, домашней вязки, свитере и в шкиперской фуражке с лакированным козыречком, какие были в моде у местных щеголей. Не поздоровавшись и не посмотрев друг на друга, они перебросились несколькими фразами, сказанными вполголоса, после чего полковник заспешил к своему поезду, а его франтоватый сосед остался в буфете допивать жигулевское пиво.
Жизнь все же великая и неистощимая мастерица на всякого рода случайности, поразительные выверты, редкостные совпадения. За ее безграничной фантазией не угнаться и изощренному романисту.
Моложавый краснощекий гражданин в шкиперской фуражке с лакированным козыречком был, оказывается, давним знакомцем Печатника.
Именно это обстоятельство послужило причиной невеселых раздумий Александра Ивановича Ланге о мере доверия и жалостливой сентиментальности, дозволенной в работе чекиста.
Напрасно, выходит, поверил он тогда в исповедь кающегося преступника. Поверил, расчувствовался, вспомнил своего братишку, умершего под саблями белогвардейцев, и вот теперь, спустя пять лет, возвращен на исходную позицию. Ничего не скажешь, поучительный урок преподнесла ему жизнь.
Расследовалось тогда дело крупной шайки контрабандистов, состоявшей по преимуществу из парголовских жителей. Сложнейшее было дело, очень уж запутанное, многослойное, и собственно контрабандистские художества шайки тесно переплетались в нем с платными услугами некоей иностранной разведке, с шпионажем и тайными складами оружия.
Иван Корнеев, молодой вихрастый парень, на фоне заматерелых нарушителей границы казался белой вороной. Не юлил на допросах, не сочинял небылиц, охотно раскаивался в содеянном. И в довершение всего, горько рыдая, поведал о тяжелой семейной трагедии, толкнувшей его в объятия контрабандистов.
Нет, не корысть им руководила, не стремление заработать бешеную деньгу на пестрых заграничных тряпках, столь любимых модницами. Причина у него, как он думает, заслуживающая уважения. Право нарушать границу она, разумеется, не дает, это ясно каждому, но выслушать его должны хотя бы с сочувствием.
Старший брат Ивана Корнеева был красногвардейцем с «Нового Лесснера», активным борцом за народное счастье. Кровавые опричники генерала Маннергейма зверски убили его в сосновом бору на окраине города Лахти. Вместе с братом мученическую смерть приняли сотни таких же рабочих петроградских парней, в лесу все они и закопаны карателями.
Страшно хотелось ему побывать на братовой могиле, из-за этого он связался с шайкой. Могилу, к счастью, разыскал, молча склонил перед ней голову. Нарушать границу впредь не собирается, а за ошибку свою готов ответить вполне.
Исповедь эта растрогала Печатника. Осуждая себя за черствость, он еще подумал тогда, что сам-то небось не выберется навестить могилу брата.
Не нужно для этого записываться в контрабандисты, садись в поезд, езжай до Гомеля. В том белорусском городе, в сквере перед гостиницей «Савой», могила председателя уездной Чрезвычайной Комиссии Ивана Ланге и других гомельских партийцев. Высится над ней, как писали ему белорусские товарищи, скромный обелиск из серого камня, а на обелиске простая надпись: «Коммунарам, павшим смертью храбрых в борьбе с контрреволюцией».
О гибели своего любимого брата Александр Иванович узнал с опозданием, спустя два с лишним года.
Приехал в Россию из опостылевшей эмиграции и с места в карьер, не повидав никого из близких, окунулся в кипящий водоворот бурных революционных страстей 1917 года.
Стаскивал с трибун лживых эмиссаров Временного правительства, призывающих к войне до победного конца, партизанил в сибирской тайге, помогал раскрыть и ликвидировать крупный заговор омской буржуазии, валялся в злом сыпняке. Много было в ту горячую пору дел у бойцов революции, и смерть стерегла на каждом шагу, как подкараулила она Ивана Ланге.
Гомельская драма разыгралась ранней весной 1919 года. В феврале на Гомельщине повсеместно победила Советская власть, а в конце марта в город ворвалась на рассвете банда осатаневших белогвардейцев. Гостиница «Савой», где размещался ревком и другие советские организации, была осаждена. Защитники ее геройски держались целые сутки. Из Минска, Бобруйска, Унечи и других мест спешила к ним подмога, опоздавшая всего на несколько часов. Ивана Ланге и его боевых товарищей казнили после мучительных пыток и издевательств.
Печатник обо всем этом узнал на Гороховой, когда запрягся в нелегкую чекистскую упряжку. И однажды, как бы в наглядное подтверждение библейской заповеди о неотвратимости возмездия, получил возможность глянуть на убийцу своего брата.
Это был чистенький бледнолицый офицерик, из тех, что озверели и полностью утратили человеческий облик, лишившись родовых своих усадеб. Гуманитарий с университетским образованием, тонкий ценитель живописи и поэзии.
Людоедски жестокие расправы в Гомеле были лишь эпизодом в длиннющем списке злодейств этого благовоспитанного душегуба. Да и попался он, кстати, будучи наемным сотрудником английской секретной службы. Сперва пробовал хорохориться, изображать нечто высокоидейное, а умереть по-мужски характера не хватило. Закатил напоследок омерзительную сцену, горестно оплакивал драгоценную свою жизнь. От хлюпиков такого сорта надолго портилось настроение.
Правдивость Ивана Корнеева тогда проверяли. Брат его и впрямь числился в списках расстрелянных белофиннами питерских красногвардейцев. Замечательный был партиец, убежденный революционер с Выборгской стороны.
Проверку всего остального Печатник счел излишней формальностью и теперь, узнав о парголовском свидании полковника Рихтера со старым своим знакомым, чувствовал себя невольным соучастником кощунства.
Палачи вроде Рихтера были убийцами и мучителями красногвардейцев, а этот преуспевающий краснощекий щеголь нашел с ними общие интересы. Врал, значит, тогда на следствии, ничего не понял, ничему не научился. Брат его сложил голову за революцию, а он, продажная душонка, готов услужать империалистам за жалкие подачки! Вот уж истинно, Иван не помнящий родства!
Смысл таинственной встречи в пристанционном буфете был ясен. Через Парголово, с помощью Ивана Корнеева, у подпольной организации лицеистов налажена линия связи. Запасная или, быть может, главная, но обязательно линия связи. Иначе зачем бы полковнику Рихтеру ехать на свидание с контрабандистами, что всегда сопряжено с опасностью. Вопрос весь в том, куда нацелена линия тайного советника, на какие зарубежные центры.
Ясным становилось и многое другое. Александр Иванович чувствовал, что вышел на след крепко сколоченного и достаточно разветвленного монархического подполья в Ленинграде.
Панихиды по убиенному императору и липовая «касса взаимопомощи» напоминали вершину айсберга. Все наиболее существенное было надежно упрятано под воду.
Шпионаж, разумеется, — без него не обойдешься, если желательно иметь богатых покровителей из иностранных разведок. Террористические акции, диверсионно-подрывная работа против Советской власти, подготовка к активным уличным выступлениям. Программа у господина Путилова должна быть широкой, благо ненависти к социализму ему не занимать.
Подводная часть айсберга обнажалась очень медленно и как бы нехотя, ценой самоотверженных усилий чекистов.
Зримые черты приобретали расстановка сил и структура тайной организации лицеистов, способы оповещения, состояние дисциплины и другие подробности, дающие представление об общей картине.
Не хватало сведений о заграничных хозяевах тайного советника Путилова. На кого он изволит трудиться, забравшись в подпольную нору? С «николаевцами» связан либо с «кирилловцами»? Или с обоими лагерями белогвардейщины, что также не исключалось?
Ранней весной 1925 года из Парижа прибыл еще один курьер, доставивший очередные инструкции для Дим-Дима.
Требования генерала Кутепова были на сей раз рекордными по беспардонной наглости. Настаивал он ни больше, ни меньше, как на... захвате власти в Ленинграде людьми Дим-Дима!
Воспаленное воображение авантюриста подсказало ему, что кучка вооруженных мятежников способна взять в свои руки Смольный, объявив по радио о крушении Советской власти на берегах Невы. Захват Смольного мог быть при этом и кратковременным, всего на несколько часов, ради политического эффекта за границей. Участники авантюры, естественно, приносились в жертву.
Столь же характерной в послании генерала была и небольшая частность. Пустячок, так сказать, маленький штрих генеральской психологии.
Кодовую таблицу, дающую ключ к дальнейшей шифрованной переписке с Дим-Димом, Кутепов предложил по брошюре Л. Троцкого «Запад и восток». Главари белой эмиграции давали таким образом понять, что внимательно наблюдают за последними событиями внутрипартийной жизни в СССР, что яростные наскоки троцкистов на ленинский партийный курс вполне их устраивают, полностью совпадая с планами «Российского общевоинского союза».
Александр Иванович Ланге с удовольствием посмеялся над дикими вожделениями обезумевших парижских головушек. Посмеялся и неожиданно для самого себя пришел вдруг к любопытной идее.
Почему бы, собственно, не обзавестись нужными ему сведениями с помощью самого Кутепова? Попыток, как говорится, не убыток. Изобразить все можно в виде здорового стремления к единовластию. Уж если от комбрига Зуева ждут вооруженного захвата власти в Ленинграде, то и он вправе требовать объединения всех подпольных ячеек под своим руководством. Выкладывайте, дескать, карты на стол, ваше превосходительство, хватит играть втемную.
Петр Адамович Карусь встретил идею своего товарища сочувственно, хотя и без энтузиазма. Со свойственной ему прямотой сказал, что шансы на успех минимальны. Не захочет генерал раскрывать своих козырей, поостережется.
Вид у Петра Адамовича был измученный. Вздохнув, он признался, что сыт по горло общением с его превосходительством. Кутепов этот, если вдуматься, чертовски напоминает глухаря на весеннем току: можешь из пушек палить, глухарь все равно ничего не услышит, песня у него своя.
Опять вот соизволил прислать бешеного курьера, которому требуется намордник, настолько он осатаневший и кровожадный. Дворцового переворота генералу недостаточно, требует еще и секретных сведений. Нажимают, видать, хозяева, субсидирующие генерала, нужны им конкретные доказательства успехов его ленинградской агентуры.
Годы совместной службы на Гороховой выработали между Ланге и Карусем ту особую степень взаимопонимания и товарищества, когда в долгих объяснениях нет никакой нужды, все без слов понятно.
Вымотался Петр Адамович, нелегко ему тянуть свою тяжелую ношу. Ответственность исключительно велика, прав на ошибку не дано. Чуть возьмешь фальшивую ноту с этой обнаглевшей эмигрантской публикой, и могут выбиться из колеи, пачками станут засылать своих молодчиков с бомбами и маузерами. А это опять кровь, опять невинные жертвы...
— Как же ты надумал с военно-морской информацией?
— Дулю он у меня получит! — рассмеялся вдруг Карусь, с юношеской стремительностью вскочив со стула. — Дулю с маком, как говорят у нас в Белоруссии! Сперва я хотел сыграть на ведомственной разобщенности: флот, мол, подчинен непосредственно Москве, у военного округа свои заботы и тому подобное. Дмитрий Дмитриевич, молодчина, отыскал более удачное решение...
— Интересно, что за решение?
— Он, знаешь ли, весь затрясся от ярости, узнав, чего ждет Кутепов. Сволочь, говорит, паршивая, меня нацелил Смольный захватывать, а сам собирается открыть торговлишку военными тайнами отечества. Христопродавцем обозвал генерала, скотиной грязной. А постановили мы с Дмитрием Дмитриевичем отказать господину Кутепову. Так и напишем: Кронштадт, мол, национальное достояние России, морской щит Санкт-Петербурга, а посему никаких сведений по флотской части дать не могу, совесть не позволяет.
— Неплохо постановили, — одобрил Печатник. — Целиком в характере комбрига Зуева. Хорошо бы еще добавить, что информации о русском флоте ждут, дескать, не дождутся в английском Адмиралтействе и что честь русского патриота восстает против заведомого предательства национальных интересов. Убедительней будет звучать отказ...
— А не оскорбится Кутепов? Намек-то очень прозрачный...
— Скушает за милую душу, не беспокойся. Оскорбляться эта шантрапа разучилась... Какие могут быть оскорбления, когда ходят в платных холуях иностранцев?
Шифровка в Париж переписывалась трижды, пока не получила окончательного благословения Мессинга.
Важным в ней было каждое слово. Общий смысл ответа Дим-Дима должен оставаться приятельским, сугубо доверительным, но и твердость нужна, четкая, бескомпромиссная позиция.
В штабе «Российского общевоинского союза», похоже, вообразили, будто в Ленинграде у них стадо послушных баранов, готовое выполнять идиотские распоряжения вроде штурма Смольного. Ошибка это, господа, причем ошибка пагубная, непростительная. Конспиративная группа Дим-Дима состоит из офицеров, не имеющих желания наниматься в лакеи к иностранцам. Сотрудничество с этой группой мыслимо лишь на основе полного равенства, а поэтому надо воздерживаться от глупых, необдуманных приказов.
Ответ ожидался незамедлительный.
На словах курьера просили сообщить генералу Кутепову, что к следующей связи с Ленинградом будут готовы материалы, представляющие огромный интерес для его превосходительства. Какие именно, решено было не уточнять. Больше гарантии, что поторопятся, не захотят тянуть время.
Из Ленинграда курьер выехал легально. Отправили его в международном вагоне, с безупречно выправленными документами. Простенькая эта хитрость понадобилась, чтобы лишний раз продемонстрировать влияние и могущество людей Дим-Дима. Для них, занимающих важные посты у большевиков, ничего не составляет устроить заграничную командировку своему человеку.
— Послание, которое вы обязаны доставить генералу, имеет весьма важный, почти решающий характер, — сказали курьеру, малость обомлевшему от комфорта международного вагона. — Мы не желаем подвергать вас опасностям нелегального перехода границы. И письмом этим рисковать не имеем права. Тем более что, по имеющимся у нас данным, на границе с Латвией сейчас тревожно...
Короче говоря, все было предпринято, чтобы подчеркнуть серьезность возникших разногласий с Парижем. И Кутепов не замедлил уточнить свою позицию, быстренько прислал ответ. Но прежде чем это случилось, возникло резкое осложнение обстановки, требующее срочного вмешательства чекистов.
Для Александра Ивановича осложнение это было не совсем неожиданным. Нечто схожее и должно было произойти после введения строгостей в Севзапвоенпроме. Нельзя было, правда, рассчитывать, что секретарь Ружейкина отважится на столь безрассудную выходку. Уместнее было ждать более тонкого хода, но у всякого свои собственные представления о благоразумии. «Смуглолицый в клетчатом пальто» решил пренебречь даже элементарной осторожностью.
Еще накануне Печатнику сообщили, что в техническом отделе Севзапвоенпрома созывается важное совещание. Из Москвы прибыли эксперты, рассматриваться будет проект нового крепостного орудия повышенной дальнобойности, Остановились эксперты в гостинице «Европейская», там и предположено устроить совещание.
Информация подобного свойства принимается обычно к сведению. Не станешь ведь всякое лыко вставлять в строку. Надумали товарищи вести сугубо секретные разговоры в гостиничных условиях, стало быть, имелись на то какие-то причины, хотя здравый смысл подсказывает другое решение вопроса, более разумное.
Следующий день — это был вторник — выдался на Гороховой исключительно напряженным.
С утра, приехав на службу, Печатник узнал, что в морском торговом порту в полдень состоится торжественная церемония подъема флага навигации. Петр Адамович Карусь выглядел озабоченным предстоящими хлопотами: как он и думал, в числе первых визитеров ленинградского порта оказался немецкий лесовоз «Данеброг». Пришел за деловой древесиной, доставил из Гамбурга партию закупленных в Германии ткацких станков.
— Чего ты расстраиваешься, друг ситный? — посмеялся Александр Иванович, желая подбодрить товарища. — Как ты спланировал еще зимой, так все и идет, ни сучка ни задоринки...
Разве мог он думать тогда, что к вечеру сам заинтересуется подозрительным гостем из Гамбурга и вместе с Петром Адамовичем всю ночь не сомкнет глаз, дожидаясь сообщений с портовых причалов. Предвидеть такое редко удается.
Совещание в «Европейской» началось ровно в десять часов утра. Спустя час на Гороховой стало известно о крупной неприятности в Севзапвоенпроме, а еще через полчаса Печатник с группой своих сотрудников входил в подъезд этого солидного учреждения.
Таинственно исчезли секретные документы, связанные с проектом нового крепостного орудия. Хранились они в папке, были заблаговременно подготовлены к докладу, а папка лежала в сейфе. Уезжая в гостиницу, начальник технического отдела сунул ее в свой портфель, содержимым не поинтересовался.
После этого все развертывалось, как в дурном сне.
На правах председательствующего Ружейкин открыл совещание экспертов, начал докладывать о разработанной ленинградцами новинке артиллерийского вооружения Красной Армии и тут же, к ужасу своему, обнаружил недостачу важнейших бумаг.
Совещание было прервано.
Сгоряча Ружейкин накинулся на своего секретаря с упреками в халатном отношении к служебным обязанностям. В ответ Михаил Шильдер с убийственной вежливостью напомнил, что вот уже три дня болен и на работу не ходит. Имел, дескать, все основания не приезжать и в гостиницу, так как чувствует себя отвратительно. Поэтому все замечания в свой адрес вынужден отвести, как незаслуженные и даже оскорбительные. Начальник технического отдела лично готовил документы к совещанию, ему лучше знать, где они находятся.
Истина в такого рода случаях дается нелегко. В глаза первым делом лезут всякие пустяки. Существенные и не очень существенные, выводящие на след преступника и, напротив, услужливо навязывающие ложные решения.
Разобраться во всем этом изобилии фактов требуется быстро и безошибочно, иначе упустишь сроки. Отбросить ненужную, отвлекающую внимание шелуху, зацепиться за решающее звено и, главное, действовать с должной энергией.
Раньше всего Печатник установил, что из папки Ружейкина украдены самые ценные документы проекта — схема с расчетной таблицей, баллистическая характеристика, сравнительные данные. Это доказывало, что случайный характер происшествия в Севзапвоенпроме исключен полностью. Похищенные документы отбирала опытная, знающая рука.
Далее стало ясным, что грубейшим образом были нарушены правила секретного делопроизводства, на которые так рассчитывал Печатник. Сейф в кабинете Ружейкина при ближайшем рассмотрении оказался простеньким железным ящиком с весьма нехитрым запорным устройством. Отпереть такой ящик легче легкого. К тому же и ключ к нему, как выяснилось, был утерян рассеянным его владельцем.
Убитый горем Ружейкин выглядел жалко. Сидит в своем просторном кабинете с низко опущенной седеющей головой, всхлипывает, бормочет нечто маловразумительное и не добьешься от него толковых ответов по существу дела, кроме интеллигентского отчаянного самоуничижения: я, мол, один во всем виноват, я допустил служебную халатность, я прошляпил.
Секретаря своего начальник технического отдела ни в чем решительно не подозревал: Михаил Шильдер, по его мнению, был благороднейшим человеком, не способным на преступление и бесчестные поступки. Отличается великой преданностью делу, аккуратностью, к тому же в настоящее время болен.
«Благороднейший человек» тем временем отсиживался дома, предоставив своему патрону самому выпутываться из сквернейшей истории.
К врачу он действительно обращался, проверка это подтвердила. Обнаружили у него простуду, рекомендовали постельный режим. На совещание мог действительно не приезжать.
Так все складывалось в то несчастливое тревожное утро, и не было, казалось, ни малейшего намека на реальную зацепку, позволяющую быстро обнаружить преступников. Секретные документы исчезли бесследно.
Днем положение улучшилось.
Во втором часу пополудни из дома на Литейном проспекте, где с давних времен обитало семейство Шильдеров, вышел осанистый рослый старик с хозяйственной сумкой в руке. Дойдя до трамвайной остановки, он раздумал садиться в вагон и медленно направился к Невскому проспекту.
Это был родитель «благороднейшего человека» Владимир Александрович Шильдер. В прошлом генерал от инфантерии, камер-паж его императорского величества, предводитель дворянства Витебской губернии, член Государственного совета, а после революции кустарь-одиночка и иждивенец сына, поскольку пенсион бывшему камер-пажу по советским законам не полагался.
Старик держал путь на Кузнечный рынок.
Шагал степенно, по-генеральски, часто останавливался поглазеть на витринные благодати и привычно извлекал из жилетного кармана старинные часы-луковицу. Рыночное оживление в это время дня заметно снижалось, лучшие привозные продукты были уже раскуплены домашними хозяйками, так что шагал он без всякой надежды на богатый выбор, по-видимому, за какой-нибудь ерундовиной, которую запросто купишь в любую пору.
Ровно в два часа пополудни, минута в минуту, старик очутился возле шумных торговых рядов. Но покупать ничего не стал, даже не приценивался к выставленным товарам, а лишь прогулялся из конца в конец рыночной территории, зорко вглядываясь в толпу.
В тот же примерно срок и с такой же завидной точностью появилась на Кузнечном рынке и другая персона, давно уж интересующая чекистов.
Это был Михаил Михайлович Старовойтов, бывший старший офицер царской яхты, а ныне скромный лоцман морского торгового порта. В руках у него также была хозяйственная сумка.
Четверть третьего герои коротенькой рыночной пантомимы заняли свои места. После этого должна была вступить в действие несложная, но старательно отрепетированная техника тайной встречи.
У табачного киоска, на ласковом солнечном припеке, они сблизились вплотную. Разумеется, как незнакомые люди, случайно очутившиеся по соседству друг с другом. Оба с видимым удовольствием закурили, причем бывший камер-паж учтиво чиркнул старенькой зажигалкой, оба поставили свои хозяйственные сумки на выступающий бортик ларька. Минуты две они курили в молчании, а после того мирно разошлись. Бывший камер-паж по ошибке снял с бортика сумку бывшего старшего офицера, бывший старший офицер — сумку бывшего камер-пажа.
На Гороховой эта интермедия получила обстоятельную и всестороннюю оценку.
Александр Иванович Ланге не сомневался теперь, что исчезнувшие документы находятся в целости и сохранности у лоцмана Старовойтова, что украдены они из сейфа не кем-нибудь, а «благороднейшим человеком».
Разъяснилась, кстати, и организационно-техническая сторона этой дерзкой операции: ночная сторожиха, дежурившая у подъезда Севзапвоенпрома, подтвердила, что в понедельник вечером заходил на службу Михаил Шильдер. Был закутан теплым шарфом, со сторожихой не поздоровался, но она его узнала.
Для Петра Адамовича Каруся изрядной неожиданностью явилась несомненная связь питомцев Лицея с «кирилловцами». До сих пор он, признаться, думал, что самозванного императора из Кобурга эта сановитая публика ни в грош не ставит, что все ее симпатии целиком принадлежат великому князю Николаю Николаевичу.
Действительность, однако, утверждала обратное. Противоречия во вражеском лагере сильны, как бы говорила она, драка идет отчаянная, но преувеличивать значение разногласий не стоит, потому что в решающий момент возможны всяческие компромиссы.
Но все эти побочные соображения отступали на задний план перед главнейшей задачей текущего момента. Пока суд да дело, требовалось зорко присматривать за «Данеброгом». Пришел он к ленинградским причалам не с добрыми намерениями и увезти, как видно, собирается не только деловую древесину.
Странные порой стечения житейских условий облегчают или, наоборот, чувствительно тормозят работу чекистов. Лоцмана Старовойтова следовало схватить с поличным, и желательно без промедлений. Подмога следствию подоспела вдруг с неожиданной стороны.
Подъем флага навигации вызвал в порту бурный прилив трудового энтузиазма. Стосковавшиеся за зиму артели грузчиков с азартом набросились на трюмы первых гостей ленинградских причалов, и выгрузка закипела вовсю, предвещая солидный диспач — премию за обработку иностранных кораблей.
Позднее, в середине лета, случалось портовикам и самим раскошеливаться, выплачивая демерредж, пароходы неделями дымили на рейде, а тут появилась возможность заработать изрядную сумму в золотом исчислении, и никто, естественно, не желал ее упустить. Работали весело, напористо, во все возрастающем темпе.
Навалились портовики и на лесовоз из Гамбурга. Едва сошли по трапу таможенные власти, как заворочался высокий портальный кран и началась выгрузка тяжелых ящиков с ткацкими станками. В результате трюмы быстро опустели. Следом появился рядом с «Данеброгом» крутобокий портовый буксирчик и в два счета перетянул его к стенке Лесного мола, где без промедления началась погрузка древесины.
Капитан «Данеброга» при этом заметно нервничал.
Ему бы радоваться и потирать руки в предвкушении лишних доходов, — не часто ведь удается досрочно отправиться в обратный рейс, сократив портовую стоянку, а он был недоволен портовиками Ленинграда. Ворчал, сердито хмурился, искал повода к чему-нибудь прицепиться.
Заметно нервничал и Михаил Михайлович Старовойтов, хотя и старался виду не подавать.
Согласно расписанию, составленному в лоцманской службе, досталась Михаилу Михайловичу проводка старой посудины под шведским флагом, и он надеялся выводить «Данеброг» на обратном пути. Досрочный отход парохода путал все его карты. И ничего нельзя было придумать, сколько ни старайся. Не станешь ведь говорить начальству: хочу, мол, вести только «Данеброг», все прочие суда меня не интересуют.
К счастью, обошлось все благополучно, и в последний момент Михаила Михайловича направили на «Данеброг». Кто-то снова захворал в лоцманской службе или по другой причине — на радостях ему было некогда разбираться.
Чуть позднее, обдумывая свою судьбу в одиночной камере, он сообразил, что «счастье» это организовано чьими-то незаметными стараниями, что попался он по-дурацки, глупее никак не придумаешь. Увы, догадка сия лишь разжигала огонь запоздалых сожалений.
Финал операции в порту был проведен энергично.
Уходил «Данеброг» ранним утречком. Формальности заняли всего полчаса, и оставалось лишь принять на борт лоцмана. Капитан по-прежнему хмурился, считая, видимо, свой приход в Ленинград явно неудачливым. Но, увидев быстроходный лоцманский катер и знакомую фигуру на нем, он заметно повеселел. Только ненадолго повеселел, потому что все дальнейшее было для капитана ужасно.
У самого трапа «Данеброга», в трех всего шагах от сверкающих его медных поручней, к Михаилу Михайловичу Старовойтову приблизились двое мужчин. Что-то ему сказали, по-видимому что-то неприятное, так как Михаил Михайлович вздрогнул и с тоской глянул на стоящий у причала недосягаемый «Данеброг». Вслед за тем мужчины бережно подхватили лоцмана с обеих сторон и усадили в стремительно подъехавший закрытый автомобиль.
Сердце капитана бешено колотилось. С перепугу он вообразил, что и его сейчас пригласят в этот автомобиль, что катастрофа неминуема и неотвратима. Однако страшного ничего не произошло, и «Данеброг» успел
уйти в свой рейс без задержки.
Новый лоцман, поднявшийся на капитанский мостик взамен бедняги Михаила Михайловича, был, правда, мрачноват и до крайности необщителен. Отказался от традиционной рюмки коньяку и даже руки не подал капитану на прощание.
Украденные из Севзапвоенпрома документы, как и следовало надеяться, были обнаружены у лоцмана Старовойтова.
Аккуратный от природы, Михаил Михайлович сложил их в конверт из плотной бумаги и, для верности, запечатал сургучом. Сопровождались эти документы шифрованной запиской, которую еще предстояло разобрать дешифровщикам на Гороховой. Найдены были в конверте и другие шпионские материалы.
Пришло время разворошить осиное гнездо монархистов.
Главари «Российского общевоинского союза» отказывались раскрывать свои козыри, так что не было никаких резонов для дальнейшего промедления с арестами. В ответном письме Дим-Диму генерал Кутепов сообщал, что высказанная им идея дворцового переворота якобы понята не совсем правильно и что он по-прежнему вынужден настаивать на подготовке к крупным антисоветским акциям. Объединение подпольных сил под руководством Дим-Дима генерал считал несвоевременным.
— Ну и черт с ним, — рассердился Мессинг, прочитав очередную шифровку из Парижа. — Будем брать тайного советника и всю его компанию, хватит церемониться с этой публикой. А ответственность за провал надо возложить на его превосходительство, в другой раз небось будет сговорчивее...
А. П. Кутепов — Д. Д. Зуеву
Христос воскресе, дорогой друг! Подробно изучив обстановку у вас по твоим письмам и другим заслуживающим доверия источникам, я пришел к убеждению, что в настоящий момент мы могли бы добиться крупного успеха, особливо политического успеха, путем организации миниатюрного дворцового переворота.
Мыслится эта акция, как дело небольшой и очень смелой группы твоих людей, захватывающих Смольный и ставящих мировое общественное мнение перед совершившимся фактом. При этом неизбежны жертвы, но ведь русским не впервой подниматься на Голгофу, тем более ради святого дела.
Напиши мне срочно твои соображения относительно ваших возможностей для такой акции. Какая требуется помощь, сколько нужно людей, оружия, есть ли у тебя надежные воинские части, готовые подняться по твоему приказу.
Не приедешь ли сам куда-либо под видом поправки здоровья? Хорошо бы нам обо всем поговорить наедине, ибо не все можно доверить бумаге.
Направляю в твое распоряжение наши агитматериалы. Пользуйся с толком, нам нелегко их печатать, еще труднее пересылать.
Жду твоего ответа. Храни тебя Господь.
Сердечно твой Усов.
Д. Д. Зуев — А. П. Кутепову
Дорогой друг, идея дворцового переворота, высказанная в твоем письме, выглядит неожиданной и, не скрою от тебя, несколько оторванной от реальных условий жизни.
Захватив в случае удачи здание Смольного института, мы, питерцы, одни ничего не добьемся. Дворцовые перевороты хороши, но отнюдь не в советской действительности, так как против нас немедленно поднимутся массы и сотрут всех в порошок. Ты забываешь, что главное у нас не вспышкопускательство и не уничтожение отдельных личностей, какие бы ответственные посты они ни занимали, а ликвидация всей большевистской олигархии. Для этого нужны не перевороты, а прежде всего сплочение и объединение противоборствующих сил.
Хочу со всей откровенностью высказать тебе свои соображения по этому поводу. Мои достаточно осведомленные люди докладывают, что у нас, в Питере, имеются группы, располагающие надежной связью с тобой. Действуют они в изоляции от нас, и это я считаю вредным для дела, совершенно недопустимым. Сейчас важно все внутренние связи и линии сконцентрировать в одних руках. Смею тебя уверить, что моя группа, как располагающая наиболее серьезными возможностями, лучше всего подходит для такой цели. При этом за тобой, конечно, сохраняется верховное руководство.
Сообщи свои соображения на сей счет. Добавлю сугубо доверительно, только для твоего сведения, что об идее с дворцовым переворотом не решился сообщить своим сотрудникам, дабы не вызвать напрасное раздражение. Оно у наших имеется, скрывать не хочу. Говорят, что вожди эмиграции не учитывают реальную обстановку, ставят подпольные силы в глупое положение и т. д.
У нас ценнее всего прочего длительная и упорная работа, которой все мы и заняты. Из воинских частей, на которые крепко полагаюсь, назову школу связи. Там есть наши люди, ведется систематическая обработка личного состава. Есть и другие воинские части с перспективой на будущее, но, повторяю, нужна работа, нужна организация, на которую уйдет не менее года.
Выехать за границу не имею права, а перепиской, как ты правильно говоришь, живого общения заменить нельзя. Вероятно, смогу прислать к тебе Назария. Человек он толковый, многократно проверенный, с ним можешь быть вполне откровенным. О времени выезда сообщу.
За литературу спасибо. Используем ее по назначению.
Шлю тебе новый внутренний устав Красной Армии, он только с печатного станка. Прочти внимательно, устав неплох.
С курьером твоим получил ряд вопросов, писанных не твоей рукой. Кто-то там у вас интересуется военно-морскими делами, состоянием обороны Кронштадта и тому подобным. Отвечать на эти вопросы считаю для себя унизительным и не стану. Кронштадт, как ты знаешь не хуже меня, национальная защита России от морских и северных государств. Оборона его со времен Петра дело святое.
Крепко жму твою руку.
Захаров.
А. П. Кутепов — Д. Д. Зуеву
Дорогой друг, спасибо за твое письмо. Не все ты, к сожалению, понял касательно дворцового переворота. Уточнять этот вопрос письменно не будем. Я согласен с тобой, что важна у вас кропотливая работа, собирательство, накопление сил, но и ты согласись, что не век же готовиться, надо и действовать.
Способны ли вы на крупную акцию в Петрограде и что для этого необходимо? Твоя задача — Петроград, не забывай об этом.
Я категорически против преждевременного объединения внутренних связей. Когда вы закончите свою подготовку, будете готовы к решительным действиям, тогда и получите все в свои руки. Но не ранее того.
Сожалею, что не имеешь права на выезд. Очень рассчитывал встретиться с тобой где-нибудь в Висбадене или Наугейме, там всегда можно прогуляться в окрестностях, не привлекая ничьего внимания.
Присылай Назария. За неимением гербовой будем писать на простой. Согласен с тобой: офицер он действительно отменный и верный.
Еще раз хочу напомнить: ждать слишком долго мы просто не имеем права. Если хотим победить, обязаны идти на риск, другого не дано.
Твой Усов.
Акт о сожжении
28 апреля 1925 года мы, нижеподписавшиеся... составили настоящий акт на уничтожение контрреволюционной монархической литературы нижеследующих наименований:
1. Листовка «Чего хочет русский народ» . . . 3000 экз.
2. Листовка «Великий князь Николай о будущем русского народа и России» . . . 2500 экз.
3. Брошюра «Задачи Евразийского движения» . . . 15 экз.
Согласно полученным указаниям начальника КРО по одному экземпляру каждого наименования оставлено для приобщения к делопроизводству.
Пауки в банке
Съезд объединения или раздора? — В кружке «Зеленой лампы». — Тайный советник верен собственной инструкции. — Круговая порука. — Первая трещина в стене.
Сообщение ГПУ об аресте в Ленинграде контрреволюционной группы бывших лицеистов всколыхнуло тряское эмигрантское болото.
Раньше других заквакала газета «Возрождение», имевшая неистребимую привычку хвастаться своей исключительной осведомленностью обо всем, что происходит в Советском Союзе.
Нелегальный информатор «Возрождения», жительствующий «где-то в России», узнал якобы из достоверных источников, что брошенные в тюрьму питомцы Императорского Лицея, во главе с тайным советником Путиловым, ни в чем решительно не повинны, что обвинение против них фабрикуется с целью отвлечь внимание советского народа от трудностей, испытываемых большевистской системой.
Как всегда, «Возрождение» призывало к консолидации всех борцов за светлое будущее России, которая, дескать, является лучшим средством для скорого сокрушения диктатуры кремлевских правителей.
Отзвук милюковских «Последних новостей» был несколько сдержаннее. Всего-навсего десятистрочная информационная заметочка, да и та с предусмотрительной ссылкой на рижскую газету «Сегодня» как главного поставщика антисоветских известий. Всяческие призывы к консолидации и единению эмигрантских сил профессор Милюков и его единомышленники считали чистейшей воды шарлатанством, не без основания полагая, что в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань.
Дежурный офицер штаба «Российского общевоинского союза», куда обратились за разъяснением вездесущие корреспонденты, от комментариев благоразумно уклонился.
Зато в Кобурге, в резиденции императора Кирилла I, с нескрываемым злорадством всю ответственность за горестный провал в Ленинграде возлагали на горе-конспираторов из ближайшего окружения генерала Кутепова. Эти господа, по мнению Кобурга, более похожи на салонных сплетниц, нежели на серьезных военных деятелей, не случаен потому и страшный разгром, учиненный чекистами.
С обычной для него желчной язвительностью выступил в «Общем деле» господин Бурцев.
У Владимира Львовича Бурцева на все мыслимые и немыслимые конфликты жизни имелась собственная точка зрения: что бы где ни стряслось, кого бы где ни арестовали, всюду Бурцев усматривал козни платных провокаторов. И в этот раз он дал понять читателям своей газеты, что намерен в ближайшие недели выступить с сенсационными разоблачениями. Речь будет идти о платном сотрудничестве в Чека некоторых именитых особ, чья репутация кажется доверчивой публике совершенно безукоризненной. Между тем беда в Ленинграде — прямой результат изменнической деятельности этих новых Азефов с родовитыми именами. Желающие знать правду обязаны внимательно следить за свежими выпусками «Общего дела», и их любознательность найдет полное удовлетворение.
Вся эта чересполосица мнений и диаметрально противоположных оценок являлась как бы копией с пестрой картины нравов российской эмигрантской колонии. И без того суматошные, бесстыдно крикливые и обнаженные, приобрели они к 1925 году все отличительные свойства всеобщей и всеобъемлющей склоки. И страсти разыгрались поистине лютые, каких еще сроду здесь не видывали.
Началась свара с первых номеров «Возрождения», новой ежедневной газеты крайне правых кругов эмигрантского лагеря, вышедших в свет под редакцией небезызвестного Петра Бернгардовича Струве.
Тучный сей деятель, которого В. И. Ленин метко назвал «великим мастером ренегатства», хаживал когда-то в первых легальных марксистах России, слыл за просвещенного либерала, за правдолюбца. На страницах редактируемой им газеты Петр Бернгардович предстал перед изумленной читательской аудиторией в роли страстного поборника монархического возрождения Российской империи. Пируэт, таким образом, был совершен виртуозный.
Статейки Петра Струве с нескрываемым удовлетворением цитировались в салонах Высшего монархического совета. Великий князь Николай Николаевич провозглашался в них «воином царского корня» и «венценосным предводителем русских людей». Данную ему в Шуаньи милостивую великокняжескую аудиенцию ретивый автор описал столь восторженно и пылко, что мигом почернели от зависти самые усердные борзописцы, издавна набившие руку на сочинении льстивых придворных дифирамбов.
Литературная бойкость великого мастера ренегатства и хамелеонских превращений имела, разумеется, дальний прицел. Вместе с друзьями своими Петр Бернгардович задался целью объединить все антибольшевистские силы за рубежами Советского Союза.
Добивались они созыва Зарубежного съезда, который от имени всех русских изгнанников, рассеянных по многим странам, должен объявить крестовый поход против Советской власти. Вождем этого похода загодя был намечен престарелый Николай Николаевич, на челе коего, если верить проницательности редактора газеты «Возрождение», явственно обнаруживалась «печать исторической избранности».
По первости идея Зарубежного съезда казалась упавшей на благодатную, хорошо унавоженную почву. Так или иначе, но сплачивались вокруг нее на редкость разношерстные элементы.
Лихорадочную политическую активность развил в европейских столицах Марков 2-й. Без устали выступал с публичными лекциями, охотно председательствовал на благотворительных обедах и вечерах эмигрантов, добился избрания своего в члены инициативной группы по созыву Зарубежного съезда.
Программа этого общепризнанного столпа реакции и мракобесия полностью соответствовала замыслам устроителей съезда. «Русские люди должны поддерживать интервенцию, — открыто и беззастенчиво заявлял Марков 2-й, — какова бы она ни была — даже если результатом ее станет разделение России на сферы влияния. И такой исход лучше для нас, нежели господство III Интернационала».
Как ни прискорбно выглядело это со стороны, с явным сочувствием отнеслись к идее Зарубежного съезда и в литературном кружке «Зеленая лампа», у Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус.
Жили эти беглецы из революционного Петрограда в своей фешенебельной парижской квартире, сохраненной еще с дореволюционной поры, упражнялись помаленьку в сочинении антисоветчины.
Дмитрий Мережковский, к примеру, всерьез доказывал, будто в Советском Союзе изобретена новая смертная казнь. Заключалась она в том, что «сажают человека в мешок, наполненный вшами, и вши заедают его до смерти», По мере способностей старалась не отстать от муженька и Зинаида Гиппиус. Выпустила злопыхательский лживый «Дневник», облила помоями Александра Блока и Максима Горького, как платных лакеев большевистского режима.
Раз в неделю, очевидно для пущей важности, супруги-литераторы собирали у себя на чашку чая писателей-эмигрантов, именуя эти сборища кружком «Зеленой лампы».
По слухам, члены кружка не полностью были согласны с инициаторами съезда. Имелись кое-какие моменты, вызывающие некоторые возражения, но в основном и тут выработали общую для всех платформу. Что же касается Ивана Бунина, то он во всеуслышание заявил, что почтет за великую для себя честь выступить с трибуны собрания лучших людей земли русской. И верно — в назначенный срок выступил на Зарубежном съезде, унизился до злобной антисоветской брани.
Справедливости ради следует все же сказать, что трогательного единодушия хватило у эмиграции ненадолго и вскоре появились разногласия. Были они громкими и скандальными, эти разногласия, тотчас пошли в ход взаимные оскорбления, хлопанье дверьми, даже рукоприкладство.
Яростную оппозицию Кобурга следовало предвидеть заранее. Не мог «император всея Руси» поддерживать начинания главного своего конкурента. Созыв Зарубежного съезда был объявлен в Кобурге незаконным смутьянством.
Заранее было ведомо, что и профессор Милюков, вкупе со своими либерально настроенными приятелями, поспешит публично отмежеваться. Мешать инициаторам не станет, но и содействия от него не жди, такой это политикан, сверхосторожный, увертливый.
Полнейшей сенсацией оказались смертельные распри в самой инициативной группе. На первом ее заседании составляли проект учредительной резолюции, и вот тут-то развернулась отчаянная потасовка едва ли не за каждое слово.
Представитель Торгпрома промышленник Третьяков объявил, что, по его мнению, ссылка резолюции на «высшую Богом данную власть», которой дожидается в неволе русский народ, в настоящее время звучит старомодно, что тезис этот надобно изложить как-то современнее, потоньше, с учетом демократических чаяний русской общественности.
Третьякову немедленно возразил Марков 2-й, в свою очередь потребовав убрать из проекта заявление о том, что будущий статут России должен возводиться «на основах правового государства».
Спор получился бурным и непримиримым, враждующие стороны ни в чем не желали поступиться своими позициями. Дошло мало-помалу до непотребных выражений и ругани.
Третьяков демонстративно покинул заседание, Петр Струве кинулся его догонять, а вошедший в раж Марков 2-й кричал обоим вдогонку, что мириться с крамолой не желает, что либералов и бунтовщиков намерен лично развешивать на фонарных столбах Москвы и Петрограда. Составление проекта отложили до следующего заседания.
Еще яростнее забушевали противоречия, когда начались выборы делегатов на Зарубежный съезд. Иезуитские интриги и подтасовки, которыми злоупотребляли правые элементы, пытаясь гарантировать избрание «нужных» им людей, повсеместно вызвали бесчисленные протесты.
Скандал разразился на всю Европу.
В Белграде, после первого тура выборов, эмигрантская колония раскололась на несколько враждующих партий, причем каждая норовила быть представленной собственной депутацией.
О свирепых схватках с мордобоем сообщали из Риги и Ревеля. В Праге трижды созывали выборщиков и трижды откладывали собрание: не хватало кворума. Многие эмигранты упорно бойкотировали друг друга, не желая встретиться даже по столь уважительному поводу.
Варшавская газетка «За свободу» опубликовала гневное письмо М. П. Арцыбашева, протестующего против вопиющих беззаконий. Широко известный автор «Санина» и других произведений, человек, отрицавший когда-то всякое право и порядок, возмущался ныне злостным нарушением простейших демократических норм. «Ничтожная кучка из двухсот человек, — писал Арцыбашев в редакцию газеты «За свободу», — самовольно присвоила право говорить от лица всей русской колонии в Польше, насчитывающей восемьдесят тысяч душ».
Зрелище, короче говоря, было мерзкопакостным и непристойным. «Освободители» русского народа вели себя, как пауки в банке. Грызлись, сквалыжничали, насмерть истребляя ближнего и дальнего.
Штаб «Российского общевоинского союза» официально занимал позицию строгого невмешательства. Военные, дескать, вне политики, так было и так будет во все времена.
Это, разумеется, не означало, что генералу Кутепову безразличен Зарубежный съезд, созываемый ради утверждения Николая Николаевича верховным вождем эмиграции. Скорее наоборот, именно теперь, в разгар предсъездовской борьбы мнений, ощущалась особая нужда в демонстрации могущества Кутепова.
До зарезу нужен был какой-либо впечатляющий политический акт, способный доказать, что антисоветское подполье в Совдепии действует, что сотни невидимых миру храбрецов готовы по его приказу наносить большевикам крепкие удары. Взрывы бомб были необходимы, восстание или мятеж, меткие пули террористов. Словом, нечто эффектное, убедительное для всех.
Ответная шифровка Дим-Дима обрушилась на генерала подобно ледяному отрезвляющему душу. Безукоризненно вежливая была шифровка, почтительная, даже дружественная, но абсолютно непреклонная по духу своему.
Стало очевидным, что вооруженный захват Смольного или нечто схожее с этой акцией группа Дим-Дима не осуществит ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Добровольное восхождение на Голгофу — удел мученических жертвенных натур, а эти так называемые советские военспецы успели привыкнуть к чечевичной похлебке своих новых хозяев. Тактика у них выжидательная, сверхосторожная, надеются и на елку влезть, и не оцарапаться. Придет срок, и малодушие обернется для них горючими слезами. Горько будут сожалеть, да как бы поздно не было...
Новым ледяным душем, еще более неприятным, стало для генерала известие об арестах лицеистов в Ленинграде. И, что удручало более всего, не находилось средств раздобыть достоверную информацию о размерах и причинах этого провала верных людей. Курьер, которого впопыхах снарядили к Дим-Диму, был схвачен на границе, что свидетельствовало о принятых чекистами мерах предосторожности.
Помощники генерала спешно готовили нового курьера, рассчитывали пробиться в Ленинград через финляндскую границу, но он отменил все приготовления. Хочешь не хочешь, надо было дожидаться обещанного визита Назария Александровича. Правда, неизвестно, когда соблаговолят прислать его питерцы. И с какими известиями явится он в канун Зарубежного съезда, тоже неизвестно.
В Ленинграде тем временем еще только складывались необходимые условия для задуманной отправки курьера к генералу Кутепову.
Гораздо медленнее складывались они, гораздо труднее, чем надеялись и Печатник, и Петр Адамович Карусь, и другие работники Гороховой, на чьи плечи легла обязанность вести следствие по делу арестованных лицеистов.
Налицо был несомненный сговор.
Все привлеченные к ответственности вели себя на допросах примерно по одинаковой схеме. Уклонялись от прямых ответов на прямые вопросы, охотно жаловались на слабую память и вообще всячески тянули волынку.
Признавали, к примеру, свое участие в панихидах по усопшим однокашникам, но зато старательно открещивались от более грозных обвинений. И еще пробовали уверять следователей, будто всегда были и остаются убежденными сторонниками рабоче-крестьянской власти, что арест их — чистейшее недоразумение.
Владимир Забудский, изворачиваясь, как цирковой акробат, уверял, что ничегошеньки не слышал о существовании полковника Рихтера, вместе с которым бегал по следу Афанасия Павловича Хрулева.
Полковник Рихтер старался доказать, что в Парголово ездил на поиски некоего мифического сослуживца по Семеновскому полку, обещавшего войти в бедственное его положение и пристроить на какую-то службишку.
«Благороднейший человек» из Севзапвоенпрома не имел, естественно, ни малейшего отношения к пропаже секретных документов из сейфа Ружейкина, поскольку был хвор в те дни, а престарелый родитель его ни с кем не обменивался хозяйственными сумками на Кузнечном рынке.
Сговор действовал с железной непреодолимой последовательностью и методичностью.
Чувствовалась воля опытного режиссера, требующего от исполнителей не просто знания своих индивидуальных ролей, но и выполнения общей для всех сверхзадачи. Вкратце сводилась она к простым, как коровье мычание, ответам на любые вопросы следователя: «не помню», «не знаю», «извините, меня подводит ослабевшая память».
Режиссура спектакля немогузнаек принадлежала тайному советнику Путилову. Это от него, надежно изолированного в одиночной камере, тянулись незримые нити к участникам контрреволюционной группы, это он в благовремении позаботился выработать единообразную для всех линию поведения на случай провала.
Обыск у Путилова, как и предполагали на Гороховой, особо крупных открытий не дал. Приехали к нему в Басков переулок в седьмом часу вечера, точно рассчитав время возвращения статистика с работы, представились, предъявили ордер.
— Надеюсь, мне дадут поужинать у себя дома? — холодно осведомился тайный советник и, не дожидаясь разрешения, кивнул встревоженной супруге: — Накрывайте на стол, Наталья Михайловна. Не беспокойтесь попусту, недоразумение должно рассеяться...
Это была ставка на психологический эффект. Точно так же, как и образцовый порядок в ящиках его письменного стола и на книжных полках, наталкивающий на мысль, что напрасны поиски у тайного советника каких-либо секретов.
Любая вещь была здесь на виду, ничто не скрыто, не спрятано: и связанные голубой ленточкой письма, и коробочка с личными документами, и специальная шкатулка для орденов и медалей, заработанных тайным советником на службе царю и отечеству.
Но открытие в доме Путилова все же состоялось. Немаловажное открытие, дающее хорошую перспективу.
Печатник решил воздержаться от участия в обыске. Устроился поудобнее в мягком кожаном кресле, снял с полки увесистый том сочинений лорда Байрона, со вкусом иллюстрированный английскими художниками.
Товарищи его работали, старались не упустить ни единой мелочи, заслуживающей внимания, а он листал страницу за страницей, точно все происходящее в этой квартире было для него безразлично. И лишь изредка поднимал глаза на хозяина, как бы желая убедиться, что тот по-прежнему играет в олимпийское бесстрастие и невозмутимость.
Трудно объяснить, зачем полез он на верхнюю полку, где стояли толстенные тома Британской Энциклопедии. Не за справкой, конечно, и не из любопытства, так как издание это, датированное 1911 годом, успело состариться и поотстать от быстротекущей жизни. Сработала хватка бывалого оперативника — другого объяснения не придумаешь.
В полотняном кармашке для карт и схем, подклеенном к изнанке кожаного переплета, хранился сложенный вчетверо листок голубоватой писчей бумаги.
Нет, то был не шифр заговорщиков и не список явочных квартир. То был весьма занимательный документик, сочиненный господином Путиловым в назидание коллегам и сообщникам. Своего рода толковое карманное руководство по самозащите на Гороховой, сформулированное в виде лаконичных, почти библейских заповедей.
Доказывать обязаны они, твой долг отрицать.
Каждое неосторожное слово будет использовано против тебя.
Не помнить выгоднее, чем помнить.
Заповедей было, как и требуется, ровно десять. Прочитав их раз и другой, Печатник с нескрываемой усмешкой глянул на заметно побледневшего хозяина. Тому не удалось или не захотелось отворачиваться, взгляды их встретились, и сказано ими было гораздо больше, чем говорится порой в многочасовом разговоре.
Поздно ночью, вернувшись с Баскова переулка, Печатник обнаружил на обороте листка другую важную запись. Обнаружил и, признаться, вздрогнул, точно над ухом у него раздался пушечный выстрел.
Запись была учинена остро отточенным карандашом, едва различалась на голубоватой бумаге и состояла из одной-единственной строчки: «Константин Угренинов, 430-333». И все. И больше ни слова, как в скупых кладбищенских надгробиях.
Цифра «430-333» служила несомненно ключом. Не разгадав, что кроется за ней — адрес ли чей-то, фамилия или кличка, — нельзя было выяснить тайну гибели молодого чекиста, зверски растерзанного в лесу под Усть-Нарвой.
Александр Иванович и раньше догадывался, что тайный советник замешан в этом страшном преступлении. Либо через подручных своих, либо непосредственно. Но подозрение это не имело веской основы, являлось чисто интуитивным. Теперь оно было как-то подтверждено этой записью, по-прежнему нуждаясь в доказательстве.
Можно было, понятно, взять в оборот господина Путилова прямыми, лобовыми вопросами. Разрешите, мол, ваше превосходительство, выяснить, когда и каким способом свели знакомство с покойным моим другом Константином Угрениновым? И что значат эти, схожие с телефонным номером, цифирки?
Но атака не лучший способ единоборства с такими господами, как тайный советник. Человек, заблаговременно сочиняющий заповеди для сообщников, отделается от лобовых вопросов пустыми отговорками. Откровенность не в его интересах, не испытывает он и каких-либо угрызений совести.
Первая беседа с тайным советником полностью подтвердила этот вывод и свелась она в основном к официальному знакомству. Держался Путилов хладнокровно, на вопросы отвечал с рассчитанной медлительностью опытного юриста, знающего цену словам. Бешеной ненависти, мелькнувшей в его глазах во время обыска, не было и в помине. Глаза Путилова выражали теперь усталую покорность судьбе, сыгравшей с ним, с маленьким совслужащим, столь нелепую шутку.
— Мне, надо полагать, предъявят обвинение? — осторожно напомнил тайный советник. — В ГПУ, вероятно, существуют какие-то сроки, за соблюдением которых следят органы прокурорского надзора?
— А как же! — подхватил Александр Иванович. — Следят, причем достаточно строго! И сроки существуют, вы правильно заметили, и обвинение будем предъявлять в соответствии с законом. Вы и сами небось соображаете, о чем пойдет речь?
— Не имею ни малейшего понятия...
— Обвиняетесь вы, гражданин Путилов, в том, что создали у нас в Ленинграде монархическую контрреволюционную организацию из бывших выпускников Лицея, что руководили ее антисоветской деятельностью. Такова общая формула обвинения. В подробности пока вникать не будем, у нас есть еще время...
— Да, формула достаточно громкая, — сказал тайный советник и, после паузы, добавил: — По советским законам она карается высшей мерой наказания. Но я надеюсь, ко мне применить эту формулу будет невозможно...
— Надейтесь, гражданин Путилов. И заодно подумайте о преимуществах полного разоружения перед лицом следственных органов. Читали, поди, как вел себя на суде Борис Викторович Савинков? Неглупый господин, сообразил в конце концов, что борьба с Советской властью совершенно бесперспективна. И вам бы полезно поразмыслить по этому поводу...
— Благодарю покорно, гражданин следователь. — В прищуренных глазах тайного советника сверкнула злая молния, сдержаться он все же не сумел. — Наполнять фактами эту формулу вам придется самостоятельно. Я вам в этом деле, извините, помощником быть не могу...
— Ну что ж, на нет и суда нет. Моя обязанность напомнить обвиняемому, что чистосердечное раскаяние учитывается при определении меры наказания, а решать — право ваше. Не хотите добровольно разоружаться, тем основательнее будем доказывать каждый факт вашей преступной деятельности...
На этом первый их разговор и кончился. Не было смысла попусту тратить время. В прочной стене круговой поруки, созданной стараниями тайного советника, наметились кое-какие щели. Вот на них-то и следовало сосредоточить все усилия. Расширять эти щели, использовать их в интересах следствия.
Труднее всех было Михаилу Михайловичу Старовойтову. Схвачен у трапа иностранного парохода, из кармана его френча извлекли конверт с украденными секретными документами. Попробуй тут выкручиваться и финтить!
Все же Михаил Михайлович пробовал, не вдруг-то решился признавать свою вину. Пробовал даже уверять следователя, будто впервые видит этот злополучный конверт. Похоже, что кто-то решился на провокацию, благо легче легкого скомпрометировать бывшего царского офицера.
Очная ставка с Архиповым принудила лоцмана пересматривать свое поведение, так как дальнейшее запирательство становилось глупым и опасным мальчишеством.
Топил его беглый врангелевец усердно, с каким-то сладострастным ожесточением, точно вымещал на нем свой собственный крах. Разошелся настолько, что пожалел о своем необдуманном побеге. Лучше бы отсидеть ему срок в исправительно-трудовом лагере, где кормят и показывают по воскресеньям кинокартины, чем ввязываться в безумные затеи Михаила Михайловича.
Попросив перо и бумагу, резидент «кирилловцев» в Ленинграде собственноручно описал всю свою шпионскую карьеру.
Сотрудничество с Кобургом началось у него еще осенью 1923 года. В сентябре или в начале октября вручили ему записку великого князя Кирилла Владимировича.
Записка была доверительной. Вероятно, по праву старого знакомства с Кириллом Владимировичем, возникшего еще в Гвардейском экипаже. Предлагалось в ней послужить на благо России — иными словами, выполнить кое-какие задания.
Из Германии записку привез капитан парохода «Данеброг» Иоганн Гартман. Дал прочесть у себя в каюте и тут же сжег на огне свечи, и пепел предусмотрительно выбросил за борт. Капитан этот, ежели чекисты интересуются подобными людьми, опытный немецкий разведчик. Напрасно отпустили его подобру-поздорову, — это ярый ненавистник Страны Советов.
Каким способом разнюхали в Кобурге про то, что устроился он на работу в торговый порт, сказать затруднительно. Узнавали они между прочим и про многое другое, гораздо более важное, — информация у них поставлена солидно.
Знали, к примеру, антисоветскую настроенность Василия Меркулова, служившего в охране Волховстроя. Про то, что подполковник Архипов намерен бежать из лагеря с помощью Меркулова, сообщили также они. Короче говоря, каждый визит «Данеброга» в ленинградский порт обязательно сопровождался новыми заданиями.
Для связи с параллельно действующей в Ленинграде организацией монархистов был прислан из Кобурга пароль. Михаила Михайловича Старовойтова должны были остановить на субботнем спектакле в фойе театра оперетты. Кто именно — не сообщалось. Пароль: «Мы с вами кажется встречались в 1917 году?». Ответ: «Нет, в 1917 году я жил безвыездно в Балаклаве».
В период навигации ему было нелегко высвобождать субботние вечера для посещения театра, но он старался и регулярно бывал в оперетке, дожидаясь условленной встречи.
Остановил его в фойе театра молодой энергичный мужчина. Сухощавый, смуглолицый, с властными манерами. Себя назвал просто Мишелем, фамилию не открыл. Позднее они встречались с ним много раз, всегда в новых местах, по его выбору.
О свидании на Кузнечном рынке также было заранее условлено с Мишелем. Он же рекомендовал и простенькую комбинацию с хозяйственными сумками. Сказал, что способ это проверенный и сравнительно безопасный.
Из пяти изображений молодых мужчин, предъявленных для опознания, Михаил Михайлович Старовойтов уверенно выбрал фотографию «смуглолицего в клетчатом пальто».
— Вот это и есть Мишель... Этого человека я узнаю среди тысячи людей.
В следующем пятке находилось изображение тайного советника Путилова. Резидент «кирилловцев» долго рассматривал каждую из предложенных фотографий, припоминал, а потом заявил, что никого из указанных лиц не знает. Контакты его с подпольной организацией лицеистов замыкались на Михаиле Владимировиче Шильдере. Так, по-видимому, было безопаснее.
На Шильдере замыкалась и вся филерская деятельность лицеистов. Он единолично распоряжался ищейками, бегавшими по следам Афанасия Павловича Хрулева. Следовало предполагать, что и другие деликатные операции лицейского подполья находились в его ведении, поскольку был он у тайного советника чем-то вроде начальника штаба.
Прежде чем установить это, Печатник много часов проканителился с Алексеем Александровичем Рихтером.
Осложнялось все заметной туповатостью бывшего полковника императорской лейб-гвардии. В общем, нечто напоминающее грибоедовского Скалозуба, хотя последний в филерах и не хаживал. Чрезмерным интеллектом отнюдь не обременен. Соображает с характерной заторможенностью прирожденного кретина, тугодумен, педантичен, медлителен. Внушили ему веру в спасительную силу всеотрицания, вот и отпирается напропалую, без царя в голове.
— Ладно, пусть будет по-вашему, Алексей Александрович! — сказал Печатник тоном отчаявшегося человека. — Согласимся, что Путилова вы действительно не имели чести знать и возле Аничкова моста с ним отроду не встречались...
— Так точно, не знаю его и не встречался.
— Предположим также, что и в Парголово ездили с единственным намерением найти своего приятеля по Семеновскому полку, хотя фамилию его запамятовали...
— Так точно, запамятовал, гражданин начальник! Томлюсь в тюрьме совершенно безвинно, лью горькие слезы. Помилосердствуйте, ради христа, войдите в мое положение...
— Безвинно, говорите? Скромничать изволите, Алексей Александрович! Впрочем, согласен с вами, пустяки эти вроде свидания с Путиловым и поездки в Парголово мы действительно отбросим в сторону. Судить вас придется за другое...
— Судить? Меня? За что же, гражданин начальник?
— За ваши подвиги при подавлении вооруженного восстания в Москве, Рихтер. Надеюсь, припоминаете, когда это было? В 1905 году, в декабре месяце, на Пресне. Садитесь, пожалуйста, вот за этот столик и опишите все по порядку: сколько человек вами расстреляно без суда и следствия, на каких улицах, за какие провинности. Следствию важны ваши собственноручные показания...
Надо было видеть в эту минуту физиономию бравого карателя из гвардейцев. Длинное лошадиное лицо полковника вытянулось еще более, нижняя челюсть отвисла.
— Я не расстреливал! Это какое-то недоразумение, гражданин начальник!
— Расстреливали! — жестко произнес Печатник. — Лично расстреливали, из своего офицерского браунинга. Кроме того, усердствовали по вашему приказу солдаты. Третья рота семеновцев, которой вы тогда командовали, особо отличилась на Прохоровской мануфактуре, у Горбатого моста...
— Это ошибка... Я никого не убивал...
— Нет, не ошибка! Вы что же, Алексей Александрович, вообразили, что память у нас коротка? Минуло, дескать, двадцать годков, и все давно забыто? Ошибаетесь! Сохранены в архивах соответствующие документы, живы-здоровы свидетели ваших злодейств...
Полковника лейб-гвардии трясло.
Медленно и как-то противоестественно он стал вдруг сползать с табуретки, на которой сидел, и тяжело плюхнулся на пол, заголосил тоненьким, пронзительным фальцетом:
— Пощадите меня, гражданин начальник! Пощадите, заклинаю всем святым! Я все вам расскажу, ничего не буду скрывать...
Говорят, что ползающий на коленях враг способен доставлять ни с чем не сравнимое удовлетворение. Александр Иванович Ланге никакого удовлетворения при этом не испытывал, такой у него был характер. Одну лишь брезгливость ощущал он, слушая стенания и вопли кающихся палачей. К горлу неудержимо подступала тошнота, хотелось встать и пошире распахнуть окно.
Полковничья истерика, к счастью, оказалась короткой. Вызвали тюремного врача, дали глотнуть успокаивающих капель.
Спустя полчаса, поминутно сморкаясь в грязный носовой платок, полковник Рихтер уже рассказывал историю своего грехопадения. Торопливо рассказывал, с множеством никчемных подробностей, точно опасался, что не захотят слушать его, поведут сразу на расстрел.
Главным виновником полковничьего грехопадения был «смуглолицый в клетчатом пальто».
После двухлетней отсидки в исправительно-трудовой колонии близ города Рыбинска Алексей Александрович Рихтер твердо надумал начать новую трудовую жизнь.
С блистательным существованием столичного гвардейского офицера было безвозвратно покончено. Стихли кровопролитные сражения гражданской войны, упрочилась и крепко встала на ноги молодая Советская власть. Пришел срок и таким, как он, зарабатывать свой хлеб насущный.
В грузовой артели на станции Московская-Сортировочная хлеб этот доставался несладко, в тяжелом физическом труде, но зато жизнь была вполне сносной.
И товарищи рядом были добрые, справедливые. Им, в сущности, наплевать, кто ты таков — бывший ли полковник императорской лейб-гвардии или бывший генерал-губернатор, — лишь бы вкалывал по-настоящему, ваньку не валял. И не корчил из себя белую дворянскую кость — этого они страшно не любили. Если артель отправляется с получки в трактир на Загородном проспекте, заказывает поджарку по-извозчичьи и яичницу на огромной сковороде, а на стол торжественно водружают четвертную бутыль водки — не отставай от всех, не выламывайся, будь человеком компанейским.
Разыскал полковника Мишка Шильдер, давнишний петербургский знакомый и собутыльник. С таинственным видом, по чьему-то конфиденциальному поручению. Разыскал и принялся обхаживать, как красну девицу, воскресив угасшие было мечтания. Ты, говорил, дорогой Алексис, офицер с головы до пят, ты испытанный боевик, у тебя известные всем заслуги перед троном и отечеством. Не стыдно ли тебе, милый Друг, уподобляться вьючному животному, которое гнет спину ради пропитания? Нам предстоят великие дела и великие подвиги, родина наша изнывает под большевистским гнетом, она ждет не дождется своих благородных освободителей.
В общем, за словом в карман не лез, пока уговаривал. Увольняться по собственному желанию не рекомендовал, велел лучше стать прогульщиком, ставшим в тягость артели. При этом велел в обязательном порядке зарегистрироваться на Бирже труда, что даст безопасный статут безработного. Ищу, мол, работу, мытарюсь, голодаю — никаких подозрений.
«Подвиги» по освобождению родины на поверку оказались до смешного ничтожными, подчас и унизительными, заданиями Мишки Шильдера. Сходи, сбегай, принеси, передай — и все это многозначительно, с недомолвками. Короче говоря, черт знает что, а не боевая работа. С обещанным приличным вознаграждением также ничего не вышло. Подачки были какие-то жалкие, совсем не вознаграждение.
За неким господином Хрулевым, возвратившимся из Парижа, они вели наблюдение — это правильно. Охотились за ним вдвоем с Володькой Забудским целую неделю. Приказано было непременно выследить сношения оного Хрулева с Гороховой, — репатриант подозревался в измене. Ему-то, собственно, выпало только помогать Володьке. Старшим тогда назначили Забудского, как большого знатока всех тонкостей уличной слежки.
В Парголово его снарядил Мишка Шильдер. Дал подробные приметы человека, с которым надлежало встретиться в тамошнем буфете, сказал, за какой столик садиться и что именно заказывать. Тому человеку велено было сообщить, что посылка ожидается не в пятницу, а в следующий вторник. Ничего больше, только эти слова. Человек выслушал сообщение молча, в ответ ничего не сказал.
И уличная встреча с тайным советником была. Решив все рассказать по правде, он ничего не намерен утаивать.
Встреча была возле Аничкова моста. Мишка Шильдер хворал тогда, на улицу не выходил, пойти пришлось взамен него. Путилову надо было сказать условную фразу, смысла которой он и до сих пор не понимает: «Куропатки продаются по три рубля за пару».
Для начала, остановив у моста, велено было заговорить о чем-нибудь нейтральном. Совершенно верно, спрашивал он, если память не изменяет, как проехать на трамвае до Финляндского вокзала. Или что-то в этом роде, ерунду какую-то.
Щели в стене круговой поруки становились угрожающими для тайного советника. Как всегда бывает, одно признание тянуло за собой другое.
Перетрусивший полковник лейб-гвардии, сам того не желая, вышиб с наезженной колеи своего напарника по уличной слежке. Тот ознакомился с показаниями Рихтера и мигом учуял шаткость собственной позиции. Смешно было ссылаться на слабую память, когда следователю все известно. Смешно и, пожалуй, опрометчиво в создавшихся условиях, поскольку каждый спасается в одиночку.
Торопливо наверстывая упущенное, Владимир Николаевич Забудский принялся валить всю ответственность на Шильдера. Эпитетов и бранных выражений при этом не жалел, назвал даже своего приятеля «взбесившимся негодяем».
С Михаилом Шильдером они вместе поступали в Лицей, вместе и кончили его в предвоенном, 1913 году. Шильдер всегда был высокомерен, спесив, с неутолимым честолюбием прирожденного карьериста. В жилах у него кровь надменных остзейских баронов, хоть он и скрывает это, выдавая себя за чистопородного русака. Бароны те, как всем известно, сплошь выродки и маньяки. Ради тщеславных своих замыслов способны вырезать половину человечества.
К нелегальщине и интриганству у Михаила Шильдера редкие способности. Словечка никогда не скажет в простоте, по-человечески, весь насквозь пропитан тайнами, умолчаниями, недоговоренностями.
Вдобавок еще и беспощаден этот Шильдер. Кровь людская для него на манер простой водицы. Взять, допустим, злосчастную историю с Афанасием Павловичем Хрулевым. Никаких не было доказательств его измены, одни лишь догадки и предположения, а велел уничтожить всеми уважаемого семейного человека.
Печатник не выдержал, усмехнулся:
— Вы так браните своего приятеля, что можно подумать, будто сами ходили в ангелочках...
— Я не ангел, гражданин следователь, я тоже виноват. Но в сравнении с Шильдером моя вина ничтожна...
— Это как раз мы и обязаны выяснить. Вернемся поэтому к делу. Так кому же было приказано уничтожить Хрулева?
— Мне и полковнику Рихтеру. Словом, нам обоим, совместно. Не знаю, выполнил ли распоряжение Алексей Александрович, а я прямо сказал Шильдеру, что на мокрые истории согласия моего нет...
— Верно ли это, Забудский? Разве не вами был сброшен в Фонтанку Иннокентий Иннокентьевич?
— Не мной! Клянусь собственным здоровьем, не мной! Лично я, гражданин следователь, на человека поднять руку не способен. Тем более на Иннокентия Иннокентьевича, с которым вместе учился и всегда был в добрых отношениях...
— Выходит, Замятин покончил самоубийством?
— Так писали в газете, но я думаю, что бедный Иннокентий был ликвидирован. Кто это сделал, сказать точно не могу — к сожалению, не знаю. Замятин был в подчинении у Шильдера, занимался какими-то особыми поручениями, совершенно секретными. Допускаю, что мог с ним расправиться сам Шильдер. Или кто-нибудь другой по его поручению. Насчет Иннокентия Иннокентьевича, кстати, шли такие же разговоры, как и про Хрулева: что предатель, что связан с Гороховой и тому подобное...
— Скажите, Забудский: когда и где вы познакомились с Константином Петровичем Угрениновым?
— Знаком с ним не был, но фамилию эту слышал от Иннокентия Иннокентьевича. Случилось это за день до его смерти. Мы с Иннокентием Иннокентьевичем совершенно случайно столкнулись тогда у подъезда Владимирского клуба...
— Случайно? Разве вы не следили за Замятиным по поручению Шильдера? Давайте уж не крутить, Владимир Николаевич. Решено говорить правду — вот и говорите...
— Да, я наблюдал за ним, вы правы... Шильдер распорядился докладывать ему о времяпрепровождении и всех встречах Иннокентия... Поверьте, я обязан был подчиняться приказу... За ослушание меня могла постичь страшная кара...
— Продолжайте, Забудский. Что было, когда вы столкнулись у Владимирского клуба?
— Иннокентий, конечно, понял что к чему. Он был достаточно умен. Обозвал меня полицейским шпиком, но не рассердился. Он вообще в ту ночь был как-то возбужден, разговорчив, может быть даже под хмельком... Пойдем, говорит, рядышком, господин Шерлок Холмс, как вполне порядочные граждане... Таиться нам стыдно, все-таки старые лицейские аборигены... И мы отправились вдвоем на Петроградскую сторону, где он квартировал...
— Почему у вас зашел разговор об Угренинове?
— Иннокентий, как я уже докладывал, был малость не в себе. Шагал рядом со мной и громко рассуждал на всякие отвлеченные темы. Об Угренинове он заговорил внезапно, без всякого повода. Сказал, что это настоящий мужчина, рыцарь своей идеи и умер по-человечески, не пискнув. Я спросил — кто это такой, но Иннокентий промолчал, не ответил. Потом велел мне запомнить эту фамилию. Хорошая, говорит, русская фамилия, не то что какой-то Шильдер...
— Что еще он говорил?
— Самого себя ругал нещадным образом. Я, говорит, тупоумный кретин, который по собственной охоте влез в кучу с дерьмом... И меня ругал, но больше всего почему-то Шильдера. Еще он сказал, что скоро со всем этим дерьмом покончит...
— Вы донесли Шильдеру об этом разговоре?
— Донес, гражданин следователь, о чем весьма сожалею. Правда, в подробности не вникал, рассказал лишь в общих чертах.
— Очень мило, Забудский. И после этого вы еще пытаетесь доказать следствию, что не убивали Замятина. Ведь донос ваш был и смертным приговором, разве вам это непонятно? Ну хорошо, поговорим о другом. Скажите, какой у вас был кодовый номер для письменных донесений?
— Мне было велено подписываться цифрой 440...
— А Замятин имел номер?
— Кажется, имел и он, хотя точно сказать затрудняюсь. Кажется, у него был номер 333...
Вот так все становилось на свои места. Тайный советник Путилов еще воображал, что созданная им круговая порука действует безотказно, что заповеди его стали нерушимым законом лицейского подворья, а следствие уже раскрыло многие секреты созданной им организации.
Допрос Ивана Корнеева, старого знакомца Печатника, помог уточнять многие существенные детали.
Похоже было, что парголовская линия связи использовалась лишь в крайних обстоятельствах. Курьером на ней раза три или четыре ходил рослый молодой мужчина в болотных сапогах и в брезентовом дождевике.
Из Парголова на подводе они доезжали до Агалатова, якобы к родственникам Ивана Корнеева, а оттуда по заболоченным лесным тропкам пробирались на финскую территорию.
Около Териок, на лесной мызе, принадлежавшей богатому судовладельцу из Гельсингфорса, курьера всегда ждали какие-то люди. Обратно он возвращался дня через три, за услуги платил в Ленинграде. В последний раз — это было в мае 1924 года — курьер вернулся раньше назначенного срока. Не то заболел, не то струсил, понять было трудно.
В предъявленном ему изображении Иннокентия Иннокентьевича Замятина контрабандист опознал курьера. И опять, конечно, слезно каялся на допросах, опять хотел убедить следователя, что до конца понял допущенную им ошибку и впредь обещает жить честно, не поддаваясь соблазнам легкой наживы.
Слушали Ивана Корнеева вежливо, но веры фальшивым клятвам не давали. Запоздалое раскаянье человека, предавшего память своего брата-героя, дешево стоит, веры ему нет.
Важно было побыстрее установить, как удалось тайному советнику обречь на мученическую смерть Константина Угренинова. И кое-что другое, все еще не разгаданное до конца, было чрезвычайно важным, требующим немедленного ответа.
Из докладной записки
...В гостинице «Баярд» (это неподалеку от фривольного театрика Фоли-Бержер) меня разыскал мужчина среднего возраста, с английскими усиками, опрятно одетый, весьма и весьма самоуверенный. Назвался полковником Зайцевым, Сергеем Антоновичем. В офицерском союзе (РОВС), по его словам, ведает каким-то отделом или управлением.
С самого начала разговора пробовал выпытать цель моего приезда в Париж, ссылаясь при этом на отсутствие генерала. Откровенничать с ним я, естественно, воздержался. Уезжая, Сергей Антонович пообещал, что встреча состоится в ближайшее время, что ограниченные сроки моей командировки они принимают во внимание.
На следующий день никакого телефонного звонка не последовало. Пообедав в дешевом ресторанчике на Итальянском бульваре, я отправился бродить по городу.
Слежку обнаружил на Елисейских полях, близ плац Конкорд. Велась она, как полагаю, не очень умелыми людьми, почти в открытую. Виду я не подал, прогулку свою продолжил как ни в чем не бывало, изображая любопытствующего путешественника.
Портье гостиницы, куда я вернулся в восьмом часу вечера, вручил мне конверт с запиской. Генерал сообщал, что ждет меня ровно в десять утра у себя дома, на рю Дюрбиго. Записка была без подписи, но почерк я узнал. Согласно инструкции записка мной уничтожена.
Встреча наша с А. П. Кутеповым, считая и поездку в Шуаньи, длилась в общей сложности более десяти часов. Переговорено было о многом, и я останавливаюсь только на важнейших моментах, причем некоторые выражения привожу дословно (в кавычках).
Начал генерал с расспросов о причине ленинградской неудачи лицеистов. Довольно длинное мое объяснение выслушал молча, в мрачной задумчивости.
Прежде всего я сказал, что факт контактов Путилова, Шильдера и других арестованных лиц с агентурой великого князя Кирилла Владимировича следует считать абсолютно достоверным, что Дим-Дим слышал об этом, будучи приглашен на конфиденциальное совещание высших чинов штаба округа.
Сотрудничество с «кирилловцами», как точно установлено, было не только нетерпимым с нравственной точки зрения, но и по-мальчишески неосмотрительным, так как агентура «кирилловцев» действует топорно, без соблюдения должной конспирации.
Сообщение мое произвело сильное действие. Генерал вскочил, забегал по комнате, бормоча в гневе: «Канальи! Изменники! Себя губят и святое наше дело губят!»
Далее, со ссылкой на мнение Дим-Дима, я сказал, что ленинградский провал является результатом кустарничества и разобщенности подпольных сил, что жертвы принесены напрасно, так как их можно было избежать.
Слушал генерал внимательно, не перебивая, в состояние аффекта не впадал. Развивая эту мысль, я заметил далее, что обстановка у нас изменилась к худшему, что ГПУ свирепствует, а посему нужна теперь, как никогда, сугубая осторожность.
Аресты лицеистов, сказал я, тягостны, но все пострадавшие не занимали сколько-нибудь видных постов. Будет совсем плохо, если в результате какой-нибудь оплошки или непродуманной засылки «горячих голов» чекисты нападут на след военной организации, а такой вариант нельзя считать исключенным.
«Дим-Дим, кажется, напустил в штаны?» — спросил генерал довольно грубо, на что я не менее дерзко ответил, что разница между пребыванием в Париже и в Петрограде, по соседству с Гороховой, довольно существенна. После этого обострений в разговоре не было.
Расспросы генерала в основном касались нашей работы в Красной Армии, готовности избранных нами частей, в частности школы связи.
Отвечал я сдержанно, как было условлено. На вопрос о том, как реагируют в Советском Союзе на созыв Зарубежного съезда, я ответил, что официальная пропаганда высмеивает эту затею, а широкой публике наплевать на все начинания эмиграции.
Идея поездки в Шуаньи была высказана генералом за домашним завтраком, в присутствии его супруги и малолетнего сына. Думаю, однако, что решено было все заранее.
Несколько позднее, когда мы остались одни за столом, генерал с озабоченным выражением лица просил ничего «лишнего» великому князю не говорить, ограничиваться только ответами на прямые вопросы. Я, конечно, заверил его, что для меня достаточно удостоиться аудиенции у верховного вождя.
Выехали мы во втором часу пополудни и спустя сорок минут прибыли в Шуаньи. Ехали в наемном таксомоторе, с русским шофером и личным телохранителем генерала.
Усадьба Шуаньи, принадлежащая графу Тышкевичу, сильно напоминает среднего достатка русские помещичьи усадьбы. У ворот поставлена охрана в казачьей форме донцов. В саду и перед домом также суетятся служащие охраны из офицеров-галлиполийцев, эти все в штатском.
Ждать мне пришлось недолго. Аудиенция была дана в гостиной. Генерал, явно рисуясь, представил меня великому князю как гонца из Петрограда, сказал несколько лестных слов о Дим-Диме, и после обычных светских любезностей началась беседа.
Интересовался Николай Николаевич главным образом современным состоянием Красной Армии, дисциплиной, подготовкой комсостава, взаимоотношениями между нижними чинами и командирами. Сказал, что отлично помнит Дим-Дима, что знавал его родителей, велел кланяться. На прощание обнял меня и несколько театрально благословил на подвиг.
Выглядит Николай Николаевич одряхлевшим старцем. Дыхание тяжелое, астматическое, со свистом. Бодрость его показная и дается ему нелегко. Вся аудиенция длилась не более получаса. Вслед за тем мне было сказано, что предстоит еще свидание с великой княгиней Станой Николаевной, пожелавшей меня видеть и расспросить.
В отличие от своего супруга, Стана Николаевна сохранилась лучше. Спрашивала о положении с религией в Советском Союзе, о притеснениях священнослужителей, другое, по-видимому, ее не интересует. Отвечал я в меру своих познаний в этом предмете. Сказал, что с притеснениями церкви кончено, чему она обрадовалась.
Забавный эпизод произошел в конце беседы. Стана Николаевна, отпуская меня, сочла нужным благословить маленькой иконкой. Просила беречь себя, без нужды не подвергаться риску, так как верные офицеры нужны для спасения родины.
Генерал Кутепов, стоявший рядом, счел нужным вмешаться и со свойственным ему солдафонством рявкнул: «Не будет беречься — засажу мерзавца на гауптвахту!»
Сколько веревочка ни вьется...
Полезный разговор о сапожном ремесле. — Дневник Иннокентия Замятина. — «Благороднейший человек» сознается в убийстве. — Крушение тайного советника.
Визит к князю Голицыну назревал с неделю.
Все не удавалось выкроить свободный вечерок, одна срочная надобность подхлестывала другую, и каждый раз, мысленно подводя итоги прожитого дня, Печатник с сожалением думал, что упускает благоприятный шанс.
Если бы ему задали вопрос — а в чем, собственно, таится упущенный шанс, — ответить было бы затруднительно, потому что он и сам не знал точно, чего ждет от встречи. И все же чувствовал, что съездить на Большую Пушкарскую обязан, что надо ему познакомиться и поговорить с Голицыным.
Предварительно Николая Дмитриевича Голицына опрашивал молодой сотрудник отдела, выделенный в помощь Печатнику. Вызвал, как положено, на Гороховую, снял допрос по существу дела, отобрал подписку о невыезде. Проще сказать, совершил все казенные формальности, которые в подобных обстоятельствах неизбежны.
Большего от молодого товарища и ждать было нельзя.
Не станешь ведь привлекать к уголовной ответственности древнего восьмидесятилетнего старца и без того сверх меры наказанного стечением житейских случайностей. Всеми покинут, всеми заброшен, коротает свой век в убогом стариковском одиночестве. Супруга его, урожденная баронесса Гринберг, умудрилась, по слухам, при живом муже выскочить замуж и благоденствует где-то на юге Франции, взрослые сыновья разлетелись по белу свету.
Мучает окаянная подагра, стародавнее несчастье всей голицынской фамилии, нестерпимо ноют на рассвете исковерканные болезнью косточки. Пропитание свое приходится зарабатывать изготовлением дамских кокетливых туфелек — ремесло, которым овладел он смолоду ради забавы, никак не подозревая, что станет им кормиться.
Вины своей Николай Дмитриевич Голицын не отрицал и не старался преуменьшить. Дернула его нечистая сила дать согласие на председательство в этой злосчастной «кассе взаимопомощи»! Знал ведь, что начинание ерундовское, в некотором роде даже противозаконное, что имя его кому-то понадобилось для вывески, а все же дал согласие, не сумел твердо возразить.
У него, между прочим, всегда вот так — и не хочет, а поневоле соглашается, не умеет отказать. В декабре 1916 года, когда пригласили вдруг в Царское Село, в личные покои императрицы, также не нашел мужества ответить категорическим «нет». Заделался на старости лет премьер-министром. Последним премьер-министром царской России, молниеносно и бесславно изгнанным из Мариинского дворца.
Просто курам на смех все получилось. Глава правительства, коего вышибают с премьерского кресла ровно через сорок дней после назначения! И кто вышибает? Не царь, не всесильная царица, а сама госпожа революция!
Молодой следователь, беседовавший с Николаем Дмитриевичем на Гороховой и составивший протокол допроса, был недоучившимся студентом исторического факультета. Ему бы в первую очередь заинтересоваться тайными пружинами липовой «кассы взаимопомощи», порасспрашивать о тонкостях взаимоотношений среди бывших выпускников Лицея, а он напирал на всяческие курьезы истории, благо рассказчик перед ним был умелый, многое на своем веку повидавший.
Плодом этой любознательности молодого товарища стало довольно длинное показание последнего царского премьера о последнем заседании его правительства.
Документик по-своему увлекательный, для историков, вероятно, находка. С юмористическим описанием панического бегства министров из Мариинского дворца, с многословным пересказом злоключений князя в каменном мешке Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, откуда выпустили его по милостивому распоряжению председателя Государственной думы господина Родзянко.
Печатника все эти пикантные штришки крушения самодержавной власти интересовали значительно меньше, чем его молодого коллегу. И, размышляя о предстоящей поездке на Большую Пушкарскую, готовился он выяснять более насущные вопросы.
Голицын встретил нежданного гостя вежливой улыбочкой, мигом скинул грязный сапожничий фартук, сбегал куда-то, предварительно извинившись, и через минуту вернулся в потертом, но вполне приличном сюртуке.
Выцветшие его слезящиеся глазки светились живейшим интересом и к самому визитеру, и к цели его нежданного визита. Руки свои с уродливо скрюченными пальцами он стыдливо прятал за спину. Стеснялся, должно быть, не хотел показывать.
Давняя следовательская привычка к обстоятельности в любом начинании заставила Печатника досконально изучить жизнь этого глубокого старца. По крайней мере в главнейших ее чертах, поскольку разговаривать надо было с уникальным обломком прежнего мира.
Еще в шестидесятых годах минувшего столетия князь Голицын зарекомендовал себя блистательным кавалером и покорителем сердец, известным всему сановно-сиятельному Санкт-Петербургу. Очаровывал гордых красавиц на придворных балах, с подкупающей самоуверенностью брал призы за блистательное исполнение полонеза и мазурки, не поморщившись проигрывал за ночь огромные суммы, а с выигрыша поил лошадей шампанским.
«Наш Гри-Гри» ласково называли его фрейлины императрицы, и сама императрица, тогда еще совсем молоденькая, испытывала слабость перед мужскими его чарами. Покровительствовала своему любимцу, ревниво следила, чтобы не обошли князя чинами и наградами, добилась назначения его наместником на Кавказ, чем повергла в изумление бесчисленных завистников.
Наместничество князя, как и следовало предвидеть, оказалось весьма коротким. Воротившись на берега Невы, он был назначен членом Государственного совета, получил бриллиантовые знаки к ордену Александра Невского, коими удостаивали только крупных государственных деятелей.
Жизнь вел праздную и легкую.
Увлекался спиритизмом и лаун-теннисом, председательствовал в благотворительных обществах, содержал конюшню скаковых жеребцов. Шли годы, голова посеребрела и лоб избороздили глубокие стариковские морщины, а он все еще рядился в одежду очаровательного кавалера «Гри-Гри», Так что скандалезное его назначение в главы правительства повергло в изумление самых отъявленных придворных скептиков, давно отвыкших чему-либо удивляться.
Отыскать верный, безошибочный тон в разговоре с этим престарелым царедворцем было куда труднее, нежели с процентщицей Горюхиной.
Выручила нежданно новая профессия князя, и добрых полчаса ушло у них на заинтересованное обсуждение тонкостей кустарного пошива дамских туфелек.
Гость, как выяснилось, неплохо разбирался в этом ремесле, спрашивал знаючи, с толком, а заметно повеселевший хозяин с удовольствием давал все необходимые разъяснения.
Когда дошел у них черед до более щекотливых материй, гость недвусмысленно осудил согласие Николая Дмитриевича числиться в председателях лицейской «кассы взаимопомощи», устроенной попечениями господина Путилова. Понимающе усмехнувшись, гость назвал этот поступок новой ошибкой князя Голицына, из чего следовало, что осведомлен и о старых его ошибках.
Тут же гость счел нужным добавить, что оголтелые антисоветчики любят пользоваться доверчивостью своих знакомых. Доверчивостью излишней, опасной, а иногда и наклонностью некоторых лиц к известному легкомыслию.
Именно по этой причине следственные органы вынуждены тратить уйму времени и сил на скрупулезную проверку фактов — иначе в компании с преступниками могут пострадать и совершенно невинные люди.
Намек был правильно понят.
— Вы безусловно правы, товарищ Ланге! — с юношеской пылкостью воскликнул престарелый князь. — Этот Путилов, насколько мне помнится, всегда был порядочной свиньей. Интриган, доложу я вам, самой высшей марки! Канцелярский крючок, выскочка! Превосходно ведь знал, что живу я вне политики, что в мои годы дороже всего ценится спокойствие! И все же льстил напропалую, извивался, как змей-искуситель...
— Были, значит, свои резоны для этого, — наставительно заметил гость. — Разве плохо обзавестись мальчиком для битья? Удобно, предусмотрительно и, наконец, вполне безопасно для собственной персоны. Вывеска как-никак солидная, есть на кого спихнуть ответственность. Я, дескать, всего лишь рядовой член правления, а председатель у нас князь Голицын...
— Золотые ваши слова, товарищ Ланге! Полностью с вами согласен, именно вывеска! Но я в козлах отпущения пребывать не намерен! Пусть ищут дураков в другой губернии! Да-с, в другой, а меня попрошу уволить!
— Случается, что и против желания запутывают...
— А я не дамся им в руки! Нет моего согласия — и кончен разговор! Со свету небось не сживут, в Фонтанке не утопят...
Последнее, надо полагать, было сказано в известной запальчивости и вырвалось само собой, нечаянно. Впрочем, гость и бровью не повел, услышав вдруг странное заявление насчет Фонтанки. Развивал, не торопясь, достигнутое между ними взаимопонимание, обстоятельно расспрашивал о Путилове и Шильдере, интересовался мнением князя по поводу развернувшейся в эмиграции драчки между «николаевцами» и «кирилловцами». Учтивый был собеседник, обходительный и приятный во всех отношениях.
Лишь собравшись откланяться, гость неожиданно спросил князя Голицына:
— Кстати, а что у вас общего с Иннокентием Иннокентьевичем Замятиным? Вы, случаем, не родственники?
Спрошено это было небрежным тоном, как бы из обычного любопытства, но чувствовалось, что ответ ожидается прямой, без вранья и увиливания, поскольку многое гостю и без того известно.
С минуту или две длилась у них напряженная пауза.
— Так уж и быть, все вам выложу, — вздохнул Голицын. — Садитесь, пожалуйста, разговор это долгий...
В родстве Голицыны и Замятины отродясь не состояли, но знакомством своим с Иннокентием Иннокентьевичем он всегда дорожил. Точнее, пожалуй, дружбой своей с этим прекрасным молодым человеком, не просто светским знакомством.
Подобные отношения между ними могут кое-кому показаться неуместными и противоестественными: один смотрит в могилу, другому жить и жить. Тем не менее были они очень близки.
Сошлись года три назад, весной 1922 года. Это сейчас, слава всевышнему, все помаленьку образовалось, а тогда валялся он в этой самой конуре бесчувственным бревном. Ни работы не было, ни куска хлеба. Отчаянное, проще сказать, положение. Старость, болезни, упадок сил, полнейшее ко всему равнодушие.
Иннокентий Иннокентьевич разыскал его по доброте своей души. Благороднейший был человек, светлая личность. Разыскал, помог, утешил и заботился о нем, словно верная нянька.
Совершенно справедливо, эволюция его взглядов произошла чрезвычайно значительная. В ту пору, то есть в 1922 году, Иннокентий Иннокентьевич кипел весь, возмущался, последними словами клеймил новых хозяев жизни.
Это, говорил, дико и чудовищно, чтобы русский светлейший князь подыхал с голоду! Еще говорил, что надобно действовать, что русские люди слишком медлительны и слишком долго раскачиваются. Любое скептическое замечание о бессмысленности борьбы против диктатуры большевиков, помнится, выводило его из себя.
Да, перед самоубийством своим был поистине неузнаваем. От прежнего кипения не осталось и следа, другой сделался человек.
К тому же, на беду свою, влюблен был, а влюбленные, как известно, имеют склонность к созерцанию и задумчивости. Предмет его страсти, увы, оказался обыкновенной фабричной работницей, так что любовные конфликты, по всей вероятности, переросли у них в идейные. Смешно, разумеется, прежде такого не видывали никогда...
— Не нахожу в этом ничего смешного, — нахмурился гость, прервав словоохотливые рассуждения князя. — Кстати, фабричная эта работница, которую вы изволите вышучивать, убеждена в отсутствии каких-либо поводов для самоубийства Замятина. Вероятно, она честнее относится к памяти умершего друга... Честнее, достойнее, не будучи при этом благородного происхождения.
И снова возникла у них длинная напряженная пауза.
Старик был смущен возникшей неловкостью, прятал глаза, без надобности перекладывал с места на место немудрящий свой инструмент. Видно было, что идет в нем какая-то внутренняя борьба, что хочется ему сказать нечто очень важное, глубоко затаенное, и не хватает для этого решимости.
Гость, в свою очередь, выдерживал характер, не торопил. В конце концов Николай Дмитриевич отважился:
— Думал я, товарищ Ланге, обойтись без казенного вмешательства, надеялся на суд божий, да, видно, никуда не денешься...
Голицын вздохнул и решительно вытащил из настенного сапожничьего шкафчика тоненькую тетрадочку в мягком коленкоровом переплете.
— Вот, полюбопытствуйте, ежели желательно. Это дневник бедного Иннокентия Иннокентьевича... Крик отчаянья, можно сказать, настоящая человеческая исповедь.
— Как он попал к вам?
— Сам забежал с ним, сам Иннокентий Иннокентьевич. Перед смертью своей, за день либо за два. Просил меня принять на сохранность, никому без его ведома не показывать...
— Стало быть, опасался держать дома?
— Похоже, что так и было. Взволнованный заскочил, чем-то огорченный, в растрепанных чувствах. Да вы почитайте, все сразу поймете, без слов...
Исповедь Иннокентия Замятина, как и положено предсмертной исповеди, была откровенной. На многие вопросы, интересующие Александра Ивановича, дала она исчерпывающие ответы, над многими тайнами лицейского подполья приоткрыла завесу.
«Они лишили меня доверия, они считают меня созревшим для предательства, — писал Иннокентий Замятин на последней странице своего дневника, и Печатнику не нужно было догадываться, кто обозначен под этим «они». — Боже правый, какая нужна злоба, какое человеконенавистничество, чтобы обычное чувство сострадания к ближнему возвести в степень измены! Но измены чему? Разве гнусное глумление над беззащитной жертвой является эквивалентом рыцарства и чистоты помыслов? Разве палаческие забавы стали для нас высшей доблестью служения России? Нет, не верю! Пусть меня убьют, пусть меня распинают заживо, но я не верю и никогда не поверю! Права Глашенька, когда говорит...»
Что говорила ему Глашенька, Иннокентий Замятин не дописал. Не успел этого дописать или не смог. Торопливые нервные строки круто обрывались на половине листа, а далее была смерть от руки подосланного убийцы. Смерть всего лишь за сомнение в правоте дела, которому служил курьер тайного советника, его секретный агент «333».
Все целиком подтверждалось, все было в точности так, как предполагал Александр Иванович, стараясь найти разгадку таинственного «самоубийства» на Фонтанке.
Иннокентия Замятина направили в Ревель, к доктору Сильверстову, воспользовались для такого экстренного случая парголовской линией связи.
Из Выборга, на пароходе «Уутсу», он добрался до места назначения и в кафе «Палас» встретился с представителем антикоминтерновской лиги.
Передал тому слово в слово выученное наизусть сообщение, недоумевая про себя, с какой стати проявлен столь повышенный интерес к какому-то никому неизвестному Константину Угренинову. Задание было выполнено, и он решил возвращаться обратно.
Вместо Выборга курьер тайного советника очутился в глухом лесу под Усть-Нарвой, совсем рядышком с советской границей. Жестокая казнь чекиста происходила на его глазах, и подробное описание этого преступления одичавших беляков заняло в дневнике Иннокентия Замятина несколько страниц.
«Умер он молча, стиснув зубы и ничего не сказав. Кривоногий подручный доктора, с самого начала распоряжавшийся пытками, выхватил с матерным ругательством револьвер и трижды выстрелил ему в грудь. Это были выстрелы бессилия, выстрелы в мертвого человека. Кривоногий пытался изобразить себя победителем, но все поняли, что упорство комиссара не сломлено».
Строчки эти жгли сердце Печатника, заставляя снова и снова вспоминать Костю Угренинова. Живого, а не распятого озверевшими палачами, с тихой застенчивой улыбкой, каким он всегда останется жить в памяти своих товарищей.
Решающее объяснение с тайным советником пришлось вновь отсрочить.
Прежде требовалось взять себя в руки, малость успокоиться. Эмоции для разговора с господином Путиловым были бесполезны и даже опасны, нужна для этого максимальная собранность.
И факты нужны. Точно выверенные факты обвинения. Вот тогда он запросит пощады, хотя и гордится в душе своей исключительной выдержкой. Непременно запросит, не должен составить исключения из правила.
Фактов было достаточно. Но еще оставался нерасколотым орешком «смуглолицый в клетчатом пальто», ближайший сподвижник тайного советника, начальник его штаба.
Этот, надо полагать, надеется, будто следствию ничего о его делишках неизвестно, будто алиби у него крепкое, непробиваемое. В дневнике между тем сказано немало обличающих Шильдера слов. Есть, кстати, фраза, недвусмысленно выводящая на след убийцы: «Сегодня Мишель Ш. грозил мне в открытую».
Чем грозил? Смертью, конечно, беспощадной расправой лицейского подполья, которая и не замедлила разразиться, навсегда заткнув рот «неудобному» лицеисту Иннокентию Замятину.
Допрос ближайшего подручного тайного советника Александр Иванович решил сопровождать очными ставками. Так было верней и надежней — пусть не воображает себя непробиваемым.
— Итак, гражданин Шильдер, вы по-прежнему продолжаете утверждать, что не состояли в конспиративной антисоветской организации бывших воспитанников Лицея?
— Не состоял, гражданин следователь. До своего незаконного ареста я долгие годы работал в Севзапвоенпроме. К служебным обязанностям относился всегда добросовестно, и вы можете в этом убедиться, если наведете справки... Я полагаю, что со мной произошло какое-то недоразумение.
— Уточняю свой вопрос: скажите, какого рода секретные поручения давались вами Владимиру Николаевичу Забудскому? Известен вам оный гражданин?
— Владимира Николаевича я знаю с лицейских времен, но поручений ему не давал. И не мог давать, поскольку к Севзапвоенпрому он отношения не имеет...
— Прекрасно! Не давали, стало быть, и не могли давать? В таком случае нам не остается ничего другого, как послушать Забудского. Он тут поблизости, сейчас мы его пригласим...
Очная ставка Забудского с Шильдером напоминала достаточно избитую ситуацию клоунских интермедий, когда роли участников строятся на контрасте состояний: чем больше горячится и настаивает один, тем хладнокровнее отрицает все другой.
— Позволь, Мишель, разве ты не приказывал мне вести слежку за Афанасием Павловичем Хрулевым? — спрашивал Забудский. — По-твоему, я это выдумал? Выдумал?
— Да, выдумал, — невозмутимо подтверждал Шильдер. — У тебя всегда была склонность фантазировать...
— Помилосердствуй, дорогой друг! Зачем же мне нужны эти фантазии на Гороховой? Я говорю святую правду потому лишь, что убедился в бесполезности сопротивления...
— Вы оговариваете ни в чем не повинного человека, Забудский! Вы — жалкий лжец, и я сожалею, что считал вас когда-то своим товарищем!
Забудского увели конвоиры. Растерянный, так ничего и не понявший в происходящем, он и впрямь выглядел жалко.
— Лихо вы расправились со своим приятелем, — почти добродушно констатировал Печатник. — Ну что ж, поглядим, что будет дальше...
Дальше вышло не так гладко.
Полковник лейб-гвардии Рихтер был горласт, спесив и, едва услышал слово «оговор», моментально взорвался. Бывшего собутыльника и дружка своего обозвал трусливым щенком, который, дескать, шкодить большой мастак, а нести ответственность боится. Показания, данные на прежних допросах, полковник повторил с злым ожесточением.
— Выламываться не рекомендую, милостивый государь, — наставительно посоветовал Рихтер на прощание. — Вы изволили втравить меня в пошлейшую антисоветчину и теперь меня же стараетесь изобразить доносчиком. Глупо, Шильдер, глупо и недостойно! Просто я понял, что дело наше дохлое, и решил сдаваться на милость победителя. Надеюсь, и вы сообразите это сделать. Своим умом не дойдете — поможет гражданин следователь Ланге. Хватка у него есть...
Вслед за тем, не переводя дыхания, была устроена еще одна очная ставка. На этот раз с Михаилом Михайловичем Старовойтовым, резидентом «кирилловцев» в Ленинграде, который методично выложил свою долю обличений.
Почва под ногами «благороднейшего человека» заколебалась. Все труднее и труднее было выламываться. Напор фактов оказался подавляюще сильным.
— Должен заметить, что хватка у вас действительно железная, — через силу улыбнулся Михаил Шильдер. — Ничего не поделаешь, вынужден сознаваться и я...
Правда, сознавался он как-то не по-людски. Норовил больше обойтись точно взвешенными порциями полуправды и полупризнаний.
Взял на себя главную организаторскую роль в устройстве панихид и обедов по подписке, что было всего лишь безобидной данью стародавней лицейской традиции. Затея с созданием «кассы взаимопомощи» также принадлежала ему, Михаилу Владимировичу Шильдеру. Неприятностей от нее вышла пропасть, а практический результат свелся к нулю, так как денежных средств наскребли ничтожно мало.
Обязан он чистосердечно признать и слежку за бывшим лицеистом Хрулевым, вернувшимся из Парижа. Имел место этот прискорбный момент, отрицать нельзя. Афанасий Павлович кое-кому из его друзей показался личностью сомнительной, вот и решено было понаблюдать за ним исподтишка. Некрасиво, разумеется, не совсем законно, но что делать, допущена такая глупость.
От хищения секретных документов из Севзапвоенпрома «благороднейший человек» открещивался категорически. Признав этот факт, следовало сознаваться и в шпионаже в пользу иностранной разведки, а заходить столь далеко в планы его не входило. Михаил Шильдер все еще надеялся обойтись малыми признаниями. По этой же причине, надо полагать, выгораживал и тайного советника Путилова.
Всякое случается в ходе следствия. И наивное, и неожиданное, и трагикомическое. Упорствующего лжеца доконали, как это ни странно, показания... Шильдера-старшего.
Показания эти были убийственны. Посидев неделю в тюремной камере, бывший камер-паж его императорского величества счел для себя полезным целиком осознать свою вину. Невольную, конечно, вину, продиктованную исключительно отцовским чувством, а не другими побуждениями.
Сказать по правде, ему до смерти не хотелось тащиться на Кузнечный рынок. Подобные занятия не больно-то совместимы с почтенным его возрастом. Однако сын настаивал на своей просьбе, говорил, что не решается пойти на рынок, так как за ним возможна слежка.
Поневоле пришлось дать согласие. Что именно содержалось в той злополучной сумке, он даже понятия не имеет. Какие-то документы. Вполне вероятно, что и секретные. Велено было обменяться сумками с гражданином Старовойтовым и идти скорей домой, что он и сделал, о чем горько сожалеет.
— Ну-с, а теперь что скажете? — спросил Печатник, не без удовлетворения зачитав протокол допроса Шильдера-старшего. — Будете небось требовать очной ставки с родителем? Сочиняет, скажете, собственного сыночка оклеветал?
Вопросы его остались без ответа. Видно было, что «благороднейший человек» сомлел и упорствовать больше не в состоянии. Шильдер-старший нанес сокрушительный удар по Шильдеру-младшему.
— Конфузная история, не так ли, гражданин Шильдер? Слишком уверовали вы в спасительную силу запирательства, слишком понадеялись на заповеди тайного советника Путилова... Между тем думать вам следовало о себе, о своем разоружении перед Советской властью, на других не рассчитывать...
— Да, вы правы, — с трудом выдавил Михаил Шильдер. — Я действительно взял эти документы из сейфа. Разрешите я объясню, с какой целью это было сделано...
— А что тут объяснять, Шильдер? Украли вы их из сейфа своего начальника с намерениями, отнюдь не входящими в секретарские обязанности, переправить собирались в Кобург. Для следствия этот эпизод вполне ясен. Хотелось бы получить ваши разъяснения по некоторым другим пунктам обвинения. Расскажите, к примеру, как докатились до убийства и за что был вами ликвидирован Иннокентий Замятин?
— Это ложь! — отчаянно взвизгнул Михаил Шильдер. — Он утонул! Сам утонул! Сам! Сам! Вы никогда не сумеете доказать!
— Докажем, Шильдер, не извольте беспокоиться. А пока ознакомьтесь, пожалуйста, с дневником покойного Замятина. Там, кстати, и о вас кое-что говорится.
— Я не убивал Замятина! Я ни в чем не виноват!
Начиналась, увы, еще одна истерика. Опять понадобилось вызывать тюремного врача с успокоительными каплями, опять дожидаться конца диких воплей и стенаний.
За истерикой, как правило, следовали усиленные попытки спихнуть е себя ответственность. На кого угодно спихнуть, хоть на отца родного. Лишь бы самому казаться второстепенным исполнителем чужих приказов, жертвой рокового стечения обстоятельств, чуть ли не безвольной марионеткой, которой распоряжались злые люди.
У Михаила Шильдера выбора не было. Над ним возвышался лишь тайный советник Путилов, руководитель конспиративной организации. И «благороднейший человек» поспешил воспользоваться единственной своей возможностью, рыцаря из себя не разыгрывал.
Да, он сознается перед лицом правосудия. Он капитулирует. Вина его бесспорна, но это вынужденная вина, подневольная.
Несчастного Иннокентия Иннокентьевича велел уничтожить Путилов. Сразу после возвращения курьера из Ревеля.
Первоначально для этой акции намечался полковник Рихтер, но в последнюю минуту было принято другое решение. Полковник имеет склонность к запою и спьяна мог проболтаться, акцию поручили ему, Шильдеру.
Насильно заставили, поверьте, под страхом смерти. С Путиловым не всякий осмелится спорить, это властолюбивый и жестокий диктатор. Отказ от ликвидации бедного Иннокентия Иннокентьевича стоил бы ему собственной головы.
Встреча с Замятиным была устроена в пивной у Синего моста. Они тогда окончательно поссорились и разошлись врагами. Догнал он Иннокентия и ударил железной тростью по голове. Записка насчет самоубийства изготовлена была заранее.
Инициатором хищения секретных документов орудийного проекта явился также Путилов. Никаких резонов, говорящих о крайней рискованности этой выемки, слушать не пожелал. Смеялся прямо в глаза, сравнивал Михаила Шильдера с напустившим в штаны трусливым школьником.
По замыслу тайного советника подозрение должно было пасть на Ружейкина. Таким способом, говорил он, мы убьем сразу двух зайцев: большевики откажут в доверии полезному для них специалисту, а капитан «Данеброга» увезет ценный материал, представляющий несомненный интерес для наших друзей в Кобурге.
Последнее имело, вероятно, значение решающее, потому что налаживание деловых контактов с Кобургом весьма заботило Путилова. Не столько даже с Кобургом, сколько со стоящими за спиной Кирилла Владимировича немецкими военными кругами.
Единственной реальной силой в Европе, способной разделаться с Советской властью, Путилов считал немцев. Поддерживал сношения с штабом Кутепова, не гнушался подачками из Парижа, от Высшего монархического совета, но ставка была взята на Германию.
Политические взгляды тайного советника претерпели в последнее время серьезные изменения. Идеалом государственного устройства в современных условиях он считал фашистскую диктатуру Муссолини. С удовольствием любил повторять, что Бенито Муссолини надо было родиться не в Италии, а в России, где он больше ко двору.
Допросы «благороднейшего человека» помогли чекистам заполнить последние пустоты в обширном материале, собранном Александром Ивановичем Ланге и его помощниками.
Все теперь было раскрыто и расшифровано с исчерпывающей определенностью: и персональный состав участников контрреволюционной организации лицейского подполья, и каналы связи с зарубежными монархическими центрами, и пароли, и явочные квартиры. Тайное постепенно стало явным, непроясненных вопросов больше не было.
— Допускаю, что может возникнуть надобность повторить все вами сказанное на очной ставке с тайным советником, — предупредил Шильдера Александр Иванович. — Я знаю, насколько вы боитесь своего шефа, и хотел бы порекомендовать держаться спокойно. Господин Путилов хоть и страшноватый субъект, но кусаться мы ему не разрешим...
— Я ненавижу его, гражданин следователь, — пылко вскричал «благороднейший человек». — Поверьте, я все расскажу без малейшего колебания, потому что испытываю радость, наконец-то освободившись от его дьявольских чар!
— Вот и хорошо, гражданин Шильдер. Но громких слов, повторяю, не требуется, учреждение у нас строгое, деловое. Просто вам надо будет кратенько повторить сказанное на допросах...
Права народная мудрость: сколько веревочка ни вьется, а конец бывает. Тайный советник, судя по всему, еще лелеял надежду скрыть от следствия свои преступления, еще рассчитывал на упорство связанных круговой порукой сообщников. Между тем подоспел срок держать ответ за все содеянное. И никакая сила на свете не могла этого изменить.
Допрос Путилова изрядно затянулся.
Устраивали перерывы, несколько раз принимались пить чай, от драматических взлетов и тяжких продолжительных пауз
вновь возвращались к тихой уравновешенной беседе. Позиции свои тайный советник сдавал неохотно, со скрипом.
— В прошлый раз мы с вами расстались не очень удовлетворенные друг другом, — заметил Печатник, начиная этот долгий и нелегкий разговор. — Вероятно, не было еще тогда соответствующих предпосылок для взаимопонимания. С чего сегодня начнем?
Путилов безразлично передернул плечами: дескать, не моя здесь воля и не мне определять порядок допроса. Весь его вид по-прежнему выражал усталую покорность судьбе, сыгравшей с ним, ни в чем не повинным служащим Госбанка, нелепую шутку.
— Следовало бы, наверно, придерживаться хронологической последовательности событий. С этой точки зрения довольно интересен эпизод, относящийся к 1918 году. В тот период, если не ошибаюсь, в феврале или в начале марта, вами была предпринята первая попытка консолидации активных антисоветских сил в Петрограде...
Усталая покорность превратностям судьбы мгновенно сменилась искусно разыгранным удивлением: тайный советник изображал теперь ничего не понимающего человека.
— Вы напрасно удивляетесь, Александр Сергеевич. Я имею в виду ваше тогдашнее намерение установить контакт с главарями контрреволюционного блока четырех столичных гвардейских полков. Экономический клуб на Михайловской площади, генерал Шульгин, упования на Маннергейма... Припоминаете, надеюсь? Однако ворошить старое вряд ли есть нужда. Попытки ваши успехом не увенчались и, следовательно, не представляли особой социальной опасности. Поговорить нам придется о более современных материях. Начнем, пожалуй, с ваших чисто уголовных преступлений...
Изумление на лице тайного советника перешло в угрюмую настороженность.
— На вашей совести, гражданин Путилов, по крайней мере два убийства. О них мы и поговорим...
— Это чистейшая фантастика! — быстро сказал Путилов. — На подобное я лично органически не способен!
— То есть, вы желаете сказать, что собственными руками никого не убивали? С этим я полностью согласен, лично вы находились на почтительном расстоянии. Константин Петрович Угренинов зверски растерзан сворой доктора Сильверстова в лесу под Усть-Нарвой. И Иннокентия Замятина ликвидировали достаточно далеко от Баскова переулка. Но вы же юрист по образованию, вы должны знать, как квалифицирует закон ответственность за убийство.
— Еще раз повторяю, гражданин следователь: все ваши голословные обвинения совершенно беспочвенны. Я никого не убивал и вести разговор на эту тему отказываюсь. В конце концов и самая пылкая фантазия должна иметь разумный предел...
— Отказываетесь, значит? А я, признаться, здорово просчитался в оценке вашей личности. — Печатник огорченно мотнул головой. — Представьте, считал бывшего тайного советника Путилова персоной более проницательной и, пожалуйста не сердитесь, более умной. Неужто вы до сих пор воображаете, что отделаетесь запирательством? Но ведь это наивно, Путилов. Обвинения против вас доказаны, причем доказаны всесторонне и полностью. Чтобы не быть голословным, попрошу вас, гражданин Путилов, ознакомиться хотя бы с показаниями ваших друзей...
Знакомился Путилов с документами достаточно долго и внимательно. Надел чеховское свое пенсне на черном шелковом шнурочке, по нескольку раз перечитывал каждый протокол допроса. Лицо у него было каменное, отрешенное.
— Ежели и этого для вас мало, мы имеем возможность устроить очные ставки с вашими сообщниками. К примеру, с Михаилом Шильдером...
— Не затрудняйте себя, это излишне, — фыркнул тайный советник, брезгливо поджав тонкие бескровные губы. — Я все изложу сам...
И писал он достаточно долго. Писал, старательно зачеркивал написанное, переписывал все заново, если его уличали во лжи. Вынужденно согласившись с одним, норовил выгадать хоть малую толику в другом, пробовал даже торговаться, даже познаниями своими в римском праве пробовал щеголять перед Печатником, вспомнив, должно быть, былые времена и свое амплуа первого ученика Лицея.
Станислав Адамович Мессинг вошел в кабинет именно в такой момент препирательств тайного советника со следователем. Грозно нахмурился, собрался, видно, сказануть нечто весьма язвительное, но так и просидел молча до окончания допроса.
Когда тайного советника увели обратно в камеру, Мессинг бегло просмотрел его собственноручные показания. От души поздравил Печатника с успешным окончанием трудного следствия, задумался, потом весело рассмеялся:
— Каков гусь, а? Небось все кишки тебе вымотал?
— Гусь-то он гусь, да уж больно злобный, — устало согласился с ним Александр Иванович Ланге и опять, в который уж раз за последние недели, с грустью вспомнил своего погибшего товарища.
ФАЛЬШИВЫЕ ЧЕРВОНЦЫ
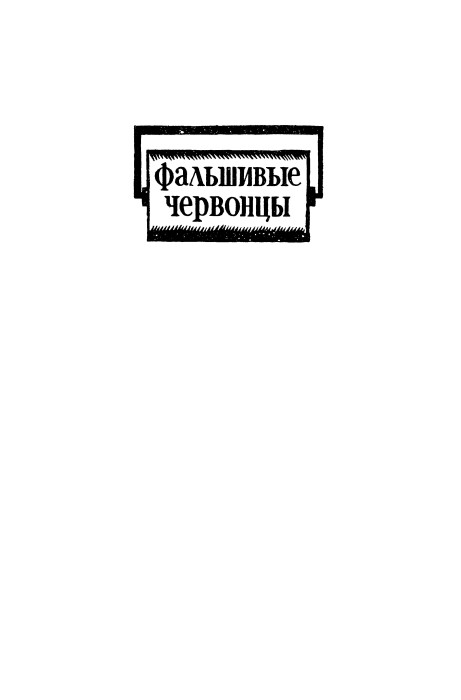


1
Осенью 1928 года в Ленинграде и в некоторых других городах Советского Союза появились в обращении фальшивые червонцы.
Первый сигнал опасности раздался из кассы Московского вокзала, продающей железнодорожные билеты на Симферополь и Кисловодск.
Пересчитывая дневную выручку, артельщик-инкассатор обратил внимание на новенькие банковские билеты НУ 781787 и НН 609679. Достал из своего чемоданчика лупу, сличил их с другими десятирублевыми купюрами. Оба билета оказались поддельными.
Напрасно было расспрашивать кассира. Огорченный этим неприятным происшествием, он лишь вздыхал и бессильно разводил руками. С утра до позднего вечера, как всегда в разгар бархатного курортного сезона, у его окошечка толпилась очередь жаждущих уехать на курорт. Пассажиры нервничали, всячески поторапливали, работать пришлось с большим напряжением. Кто всучил ему фальшивки, кассир запомнить не смог.
Спустя несколько дней поддельные деньги были обнаружены в Гостином дворе, на Сытном рынке, в магазине готового платья на проспекте Красных Зорь и в некоторых других местах.
Владелец магазина клялся и божился, что новыми хрустящими червонцами расплачивался с ним какой-то светловолосый молодой субъект, купивший демисезонное пальто, шляпу и брюки-гольф спортивного покроя.
Все фальшивые билеты были десятирублевого достоинства.
Банковские эксперты в своем заключении единодушно отметили весьма квалифицированное исполнение поддельных денег, что свидетельствовало о том, что фальшивомонетчики располагают необходимыми техническими средствами.
Речь шла, таким образом, о серьезной диверсии, угрожающей финансовому могуществу нашего государства.
ГПУ были предприняты строгие меры, но задержать распространителей фальшивок долгое время не удавалось.
2
Из Ориентировки за 14 октября 1928 года:
«Начиная с середины сентября, а также в октябре наблюдаются многочисленные факты появления фальшивых червонцев в Ленинграде и близлежащих местностях. По наружному виду подделки мало чем отличны от настоящих денег, что затрудняет их распознавание и выявление преступников.
Банковские билеты достоинством в один червонец (нами зарегистрированы серии НУ, НН, ОЗ, ЗР, БН, ПН) изготовлены литографским способом на достаточно качественной плотной бумаге и с должными водяными знаками.
Главные признаки фальшивости: общее очертание букв печатного текста несколько бледнее нормы, также несколько бледнее обычного правая и левая розетки, причем в левой розетке, в вензеле «РСФСР», грубо очерчена теневая сторона.
Следует при этом помнить, что на некоторых билетах розетка с вензелем исполнена несравненно лучше и почти ничем не отличается от настоящей.
Есть основания предполагать, что фальшивые банковские билеты крупными партиями засылаются на территорию СССР зарубежными монархическими организациями, действующими в контакте с английской секретной службой Интеллидженс сервис. Установлено, что к этой авантюре белогвардейцев причастна военизированная антисоветская организация быв. великого князя Кирилла Владимировича «Корпус офицеров императорской армии и флота».
Цель этой вражеской диверсии помимо расстройства экономической мощи СССР заключается также в финансировании подпольной агентуры «кирилловцев».
Настоящее сообщается для сведения и принятия соответствующих оперативных мер. Подробные указания по данному вопросу будут переданы в ближайшие дни.
Полномочный представитель ОГПУ в ЛВО
С. Мессинг».
3
Выходцами из России в криминальном бюро вольного города Данцига ведал инспектор Герхард Штраус.
Это был немолодой, внешне медлительный, чуточку старомодный чиновник, обремененный многочисленным семейством и несколько устаревшими понятиями о служебном долге. Инспектор полиции Герхард Штраус считал, к примеру, что никакая сила на свете не в состоянии заставить его черное называть белым, что зло рано или поздно отступает перед силами добра и что за любым преступлением, независимо от побудительных мотивов, руководивших преступником, непременно восследует законное возмездие. Более молодые сотрудники криминального бюро исподтишка посмеивались над его взглядами.
Возню с русскими эмигрантами, составлявшими в Данциге довольно пеструю и скандалезную колонию, начальство всучило инспектору Штраусу помимо его желания.
Решающим при этом явилось, должно быть, то обстоятельство, что знал он русский язык, выучившись ему когда-то в Самарской губернии, где лет десять прослужил смолоду в скромной должности помощника землеустроителя губернской земской управы.
Правда, русские люди, которых узнал он и полюбил в ту далекую пору, были совсем иные, на здешних эмигрантов непохожие. У тех, у самарских, были добрые, приветливые лица и широкие характеры. По воскресеньям они пели грустные, хватающие за сердце песни, чем-то схожие с русской красавицей Волгой.
А эти... Черт бы их побрал совсем, всех этих наглецов и высокомерных задавак, вообразивших, будто рабочие и крестьяне новой России ждут не дождутся их триумфального возвращения на родину!
Иначе говоря, хлопот и всяческих неприятностей с эмигрантами из России у инспектора хватало. Были среди них, разумеется, честные горемыки, волею судеб оторванные от родной почвы и по-человечески глубоко переживающие свое несчастье. Но имелись и беззастенчивые карточные шулера, и содержательницы тайных притонов разврата с несовершеннолетними наложницами, и ловкие пройдохи-аферисты, способные устраивать умопомрачительные мошенничества. Возни с этой публикой было вдоволь.
Наиболее отвратительной частью русской колонии, по твердому убеждению инспектора, следовало считать ее влиятельную руководящую верхушку во главе с генералом Глазенапом.
Карточного шулера, как правило, изобличали в употреблении крапленой колоды и слегка помятого, с внушительными синяками на морде, волокли в полицию. Шулер, конечно, плакался при допросе, униженно вымаливал себе снисхождение властей, норовя при этом поэффектнее рухнуть на колени перед многоуважаемым и высокочтимым инспектором криминального бюро.
Заканчивалось такое происшествие несколькими месяцами тюремного заключения либо административной высылкой из Данцига. К тому же разоблаченному шулеру наглухо закрывался доступ во все приличные дома, поскольку никому не хочется поддерживать знакомство с заведомым жуликом.
Куда как сложнее было разбираться с персонами высокопоставленными. Тут требовались отменная выдержка, хладнокровие и, главное, — проверенные многократно доказательства.
Будь ты хоть сто раз уверен в безошибочности своих наблюдений, все равно задумаешься, прежде чем вызывать этих самоуверенных господ в полицию. Иначе начнутся гневные телефонные звонки из весьма высоких инстанций, от прокуратуры до президентской канцелярии включительно, забегают пронырливые адвокаты и тебя же в конце концов могут изобразить идиотом.
Чего уж скрывать, к генералу Глазенапу и его любовнице баронессе Марии Фредерикс инспектор присматривался с особенно повышенной настороженностью. Живут припеваючи, снимая роскошный особняк на Хейлигенштрассе, закатывают у себя дорогостоящие светские приемы, разъезжают по лучшим европейским курортам, а на какие, спрашивается, доходы?
У генерала в недавнем прошлом была «Балтийская винная торговля», жалкая фирма-ублюдок, обанкротившаяся в первый же год существования, не выдержав конкуренции. Не с убытков же после ее краха шикует эта подозрительная парочка?
Про генерала и баронессу в городе ходило немало любопытных сплетен.
О Петре Владимировиче Глазенапе рассказывали, будто состоял он в свое время в высокой должности генерал-губернатора Санкт-Петербурга, сиятельной русской столицы. Еще говорили, что отличился в боях против большевиков, что нажил каким-то таинственным способом огромное состояние.
Другие, напротив, утверждали, что состояния никакого не было и быть не могло, что существует его превосходительство на средства Марии Фредерикс, единственной дочери царского министра двора барона Фредерикса, а вывезенных ею из России бриллиантов должно хватить на долгие годы роскошной жизни.
Инспектор Штраус сплетням не верил.
Смешно было поверить в мифические бриллианты, ежели эта самая Мария Фредерикс до появления генерала в Данциге кормилась исполнением легкомысленных песенок на эстраде ночного кабаре «Луна-парк». Худющая была, изголодавшаяся, похожая на облезлую кошку. Да и сам генерал не сразу заделался важной персоной с неограниченными средствами. Давно ли довольствовался убогим номерком в пансионате Дейтшес-хауз, предназначенном для голытьбы? Двухэтажного особняка тогда и в помине не было, нищенствовал подобно большинству русских эмигрантов.
Старомодность житейских воззрений Герхарда Штрауса, угрожавшая его служебной карьере, заключалась между прочим и в том, что превыше всего ценил он свою независимость. Инспектор криминального бюро имеет право начинать любое расследование без оглядки на вкусы и симпатии начальствующих особ. Его прямой долг бороться с преступностью, предупреждать ее, за это, в сущности, платят ему жалованье налогоплательщики.
Деликатнейшая и сугубо негласная проверка, организованная инспектором, поначалу не дала ощутимых результатов.
Банковский счет его превосходительства оказался пустым. Лишь изредка на него зачислялись ничтожно маленькие суммы, собираемые эмигрантской колонией в благотворительных целях. Сборы такого свойства у русских очень популярны. Сами сидят голодные, без гроша в кармане, а кому-то стараются помочь, кого-то непременно облагодетельствовать.
Не смогла сообщить ничего заслуживающего внимания и кухарка баронессы Фредерикс, хотя на уговоры этой сварливой и вздорной особы инспектор потратил много времени.
Кухаркина информация была, попросту сказать, ерундовской.
Собираются, мол, у господина генерала бывшие офицеры императорской гвардии, клянут на все лады Советскую власть, готовятся ликвидировать ее с божьей помощью в недалеком будущем. А что в этом угрожающего общественному порядку в городе Данциге? Пусть себе собираются, пусть на здоровье клянут. В компетенцию криминального бюро подобные сборища не входят. К тому же и не просто ликвидировать ее, эту Советскую власть. Существует вот уж десять лет, ничего с ней не делается.
Словом, начало было обескураживающе скверным. Однако и торопиться с окончательными выводами не хотелось. Торопливость в подобных делах начисто исключается.
Вскоре инспектор получил от своей тайной осведомительницы информацию истинно сногсшибательную. Похоже было, что в генеральском особняке на Хейлигенштрассе свили себе гнездо опаснейшие преступники. Каторга плачет по этим мерзавцам, разыгрывающим роль благородных господ из высшего общества.
Кухарка баронессы, следует отдать ей должное, несмотря на вздорный свой характер, оказалась женщиной сообразительной и достаточно ловкой. Воспользовалась отдушиной старинного камина и, представьте, сумела подслушать конфиденциальный разговор генерала Глазенапа с одним из его постоянных посетителей.
Разговор носил инструктивный характер и напоминал последнее напутствие. Посетитель, как выяснилось, едет в Советскую Россию с секретным поручением. Генерал Глазенап подробнейшим образом объяснял ему, в чем будут заключаться его обязанности, когда он достигнет Ленинграда.
Наиболее интересное кухарка услышала под конец разговора. Хозяин ее вручил своему клиенту двадцать тысяч рублей на расходы по командировке и счел нужным предостеречь, что размен этих червонцев сопряжен с известной долей опасности, так как напечатаны они отнюдь не в большевистской типографии. Качество оттисков выше всяких похвал, заметил генерал, но разумная осторожность все же должна соблюдаться. Вслед за тем они заговорили о том, как надежнее спрятать эти червонцы при переходе советской границы.
— Надеюсь, фрау, вы не фантазируете? — вежливо осведомился инспектор. — Сведения, которые вы сообщаете, слишком важны, вы должны отчетливо это сознавать...
— Разрази меня гром небесный, господин Штраус! — заверила кухарка, сама взволнованная своим неожиданным открытием. — Передаю весь разговор слово в слово, ничего не фантазирую. Я и гостя этого разглядела, если желаете знать. Чернявенький такой, бледнолицый, среднего роста. Баронесса зовет его попросту Жоржем, а он ее Марго. Они, видать, давнишние приятели...
— Где же у них изготовляются поддельные деньги?
— Вот этого сказать не могу, господин Штраус, не знаю. Только не дома, уж это точно. Где-нибудь, наверно, в специальном помещении...
На следующий день по распоряжению инспектора было произведено скрытное изъятие денежных купюр, расходуемых генералом и его любовницей. Проверка, к сожалению, не подтвердила возникших опасений: и сам Глазенап, и баронесса Фредерикс расплачивались всюду настоящими деньгами.
Впрочем, это не снимало остроты проблемы. Во-первых, изготовление банковских билетов чужеземного государства также является тягчайшим уголовным преступлением, караемым по всей строгости закона, а во-вторых, и это больше всего волновало инспектора, где же гарантия, что великосветские мошенники не вздумают печатать немецкие марки.
Между тем секретная осведомительница инспектора явно вошла во вкус сенсационных разоблачений и спустя день явилась к нему с новой охапкой фактов.
По ее словам, в генеральском кабинете только что побывал еще один визитер, также уезжающий в Россию нелегальным путем, причем вручили ему пятнадцать тысяч рублей поддельными червонцами, обстоятельно проинструктировав, как их надо сбывать.
Но еще более интересное открытие сделала кухарка, потихоньку проследив за щеголеватым молодым человеком с военной выправкой, исполняющим обязанности не то адъютанта, не то личного генеральского секретаря.
Вопреки предположению инспектора Штрауса, фальшивые червонцы хранятся у генерала не в сейфе, а в изобретательно оборудованном тайнике, до которого не вдруг-то докопаешься.
Кухарка своими глазами видела, как генеральский адъютант проследовал на веранду второго этажа, служившую чем-то вроде зимнего сада с вьющимися вдоль стен тропическими растениями и ухоженными пальмами в изящных дубовых кадушках.
Тайник этот устроен в крайней кадушке, по правую сторону от входной двери. Достаточно слегка надавить кнопку, и беззвучно открывается тщательно замаскированная вместительная ниша. Изнутри она обита светлым металлом. Пачки червонцев лежат там в два ряда, их очень много.
— Нам необходимо поскорей раздобыть образец фальшивки, — сказал инспектор Штраус скорее самому себе, нежели своей сотруднице, с лихорадочной поспешностью соображая, как лучше осуществить эту не совсем законную выемку. Признаться, он был слегка ошарашен и не вдруг-то сообразил, что тут к чему, увидев протянутый ему кухаркой новенький советский червонец.
— Я подумала, господин Штраус, что вы непременно пожелаете убедиться во всем собственными глазами, — скромно потупившись, объяснила его настырная помощница. — Вот, пожалуйста, я захватила образец. Не беспокойтесь, никто не видел, как я открывала этот тайник...
Установить поддельность банковского билета было делом не очень сложным. Нашлись у инспектора добрые знакомые, великолепно разбиравшиеся в иностранных валютах, и к вечеру он получил авторитетное заключение экспертизы.
Дальнейшие самостоятельные действия приобретали несколько рискованный характер. Хочешь не хочешь, а следовало идти с докладом к самому директору криминального бюро, потому что и на обыск, и на арест преступников требуется виза начальства. Тем более высокопоставленных, известных всему городу.
Директор криминального бюро выслушал инспектора Штрауса с непроницаемым лицом каменного египетского сфинкса. Такова была его излюбленная манера выслушивать доклады подчиненных.
— Оставьте все материалы у меня, Герхард, — произнес директор своим сумрачным, ничего не выражающим голосом. — Я обязан посоветоваться с президентом полицай-президиума. Дело это не столь ясное и доказанное, как вам кажется...
— Имейте в виду, господин директор, генерал и его любовница могут скрыться или перепрятать обличающие их документы, и тогда следствие зайдет в тупик...
— Да, да, я имею это в виду, — поморщился директор. — Ступайте, Герхард, я позвоню вам...
Весь вечер инспектор прождал обещанного директорского звонка. Волновался, нервничал, но звонка не было.
Утром, приехав к себе в бюро, он по давней привычке развернул «Данцигер фольксштимме». В рубрике светской хроники, набранной мельчайшим петитом, сообщалось, что на американском пароходе «Луизитания» из Данцига уехали г-н Глазенап и г-жа Фредерикс.
Почти в ту же минуту, точно по мановению волшебной палочки, раздался долгожданный телефонный звонок.
Как бы в насмешку, инспектору приказывали, не теряя даром ни единой минуты, обыскать особняк генерала Глазенапа и в случае обнаружения серьезных компрометирующих данных такового немедленно арестовать.
— Он успел смыться! — заорал в телефонную трубку инспектор. — Его предупредили сообщники! Хотел бы я знать, какая жирная свинья устроила эту гадость! И сколько за эту услугу было заплачено!
— Не болтайте ерунды, Штраус! — строго прервал его директор криминального бюро. — Делайте, что вам приказано!
Запоздалый обыск оказался, естественно, пустой тратой времени и сил. Никакого тайника в особняке генерала обнаружено не было, хотя уволенная накануне кухарка клялась, что открывала его собственноручно. Исчез куда-то, будто растворившись в воздухе, и щеголеватый молодой человек, состоявший при особе Глазенапа в личных секретарях.
Спустя месяц после этой истории инспектор Штраус весьма чувствительно поплатился за свою дерзость и непочтительное отношение к начальству. Без всякого повода его вызвали в директорат полицай-президиума, наговорили кучу любезностей и порекомендовали уходить на заслуженный отдых.
Свободного времени у отставного инспектора стало с превеликим избытком.
На досуге, занявшись от нечего делать разведением цветов, Герхард Штраус много размышлял. Очень хотелось ему додуматься, каким образом бывший губернатор Санкт-Петербурга и в эмиграции сумел пребывать во влиятельных персонах, для которых никакие законы не писаны.
Увы, тайну сию понять было невозможно.
4
Инспектор Штраус, как и многие другие, заблуждался.
Генерал-лейтенант Петр Владимирович Глазенап в губернаторах Санкт-Петербурга отродясь не состоял. Точнее сказать, был назначен военным генерал-губернатором, но не Санкт-Петербурга, а Петрограда, да не успел, что называется, с оформлением в должности. Не хватило для этого самой малой малости.
Назначил Глазенапа приказом по Северо-Западной армии генерал Юденич, возмечтавший в октябре 1919 года захватить революционный Питер и жестоко расправиться с его защитниками, установив виселицы вдоль всего Невского проспекта.
Что же касается непосредственного вступления в губернаторскую должность, то помешала этой сладостной для Петра Владимировича процедуре победоносная Красная Армия.
Воинство Юденича было вдребезги разбито у стен города революции и кинулось наутек, чтобы найти свой бесславный конец в дощатых лесных бараках, сооруженных для него эстонскими властями. Вместе со всеми побежал и несостоявшийся губернатор.
У генерала Юденича, как у любого из претендентов в ниспровергатели Советской власти, имелись свои любимцы-фавориты и свои злейшие недруги.
История умалчивает о том, каким способом смог завоевать сердце Николая Николаевича Юденича молодой черноусый штабс-ротмистр 20-го драгунского Финляндского полка Петр Глазенап: офицериков, подобных ему, в Северо-Западной армии было хоть пруд пруди. Скорее всего, надо думать, ловким умением постичь даже невысказанные желания главнокомандующего или всегдашней готовностью к свирепому палачеству, к тонким штабным интригам — на все эти штучки штабс-ротмистр был крупным специалистом.
Достоверно известно другое. Именно в результате удивительной благосклонности стареющего Юденича этот никому не ведомый драгунский офицер сумел сделать чудовищно скоропалительную карьеру, за какой-нибудь год превратившись в генерал-лейтенанта.
Исследователи нравов гражданской войны должны когда-нибудь подробно описать редкостную особенность российской белогвардейщины, за короткий срок наплодившей прорву крупных и мелких авантюристов.
Так уж оно получалось повсеместно — и в лагере адмирала Колчака, и у Деникина, собиравшего добровольческие офицерские полки, и всюду, где было поднято кровавое знамя контрреволюции: на передний план непременно выскакивали бойкие вертлявые людишки без каких-либо признаков чести и совести.
Громкозвучные идеи возрождения «единой и неделимой России» служили для этой публики чем-то вроде удобного трамплина к разбойничье-наглому личному обогащению, к нахватыванию всяческих чинов и наград.
В летописях белого движения зарегистрирован совершенно анекдотический случай, когда некий князь Бермонт-Авилов (выступавший, кстати, в качестве основного конкурента Юденича) сам себя произвел в... генералы! Некогда было ждать чьих-то великодушных милостей, да и не хотелось их ждать. Сел князь за письменный стол и в два счета накатал соответствующий приказ, бестрепетно под ним подписавшись. Дескать, с такого-то числа считать Бермонта-Авилова генерал-майором.
Петр Владимирович Глазенап, захудалый помещик из Херсонской губернии, по достоинству должен быть отнесен в разряд авантюристов крупного масштаба.
Правда, весьма продолжительное время с карьерой у Петра Владимировича решительно не клеилось. В драгунском полку командовал он эскадроном, но продвижения по службе не было. Сколотил партизанский отряд, соблазнившись лаврами Дениса Давыдова, нашумел своим ночным рейдом в немецкий тыл, да малость переусердствовал по части расписывания собственных доблестей и заслуг. Вместо Георгиевского креста получил строгое внушение от начальства.
Не очень плодотворной оказалась и поездка Глазенапа в Ростов-на-Дону, к Деникину. Встретили там довольно сухо, предложили снова командовать эскадроном, а ему до смерти хотелось иметь полк.
Зато в Гельсингфорсе, в окружении Николая Николаевича Юденича, наконец-то повезло. С места в карьер был назначен начальником штаба дивизии, затем ездил в Стокгольм и Лондон с деликатными поручениями самого главнокомандующего. Короче говоря, быстро пошел в гору.
Авантюристические наклонности Петра Глазенапа нашли подробное и всестороннее отражение в оперативных материалах, собранных ленинградскими чекистами еще в годы вооруженной борьбы за Советскую власть, когда надо было внимательно изучать руководящие кадры контрреволюционного лагеря.
Немало занятных наблюдений содержали эти материалы, составившие объемистую папку. Трагикомический эпизод с несколько преждевременным назначением в военные губернаторы невзятого города занимал в их числе лишь малую толику, потому что основные события в биографии этого деятеля начались позднее, сразу после разгрома армии Юденича. Вот тогда-то и развернулся он по-настоящему, показал себя во всем блеске.
К слову заметить, и на крахе северо-западной авантюры белогвардейцев генерал Глазенап со свойственной ему бесцеремонностью грабителя успел погреть руки, отхватив в свою пользу изрядный куш в твердой иностранной валюте.
Как сказано в пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло...
Николай Николаевич Юденич откровенно недолюбливал своего заместителя, генерала Родзянко. Знали об этом в армии все, знал и Глазенап, по мере сил растравливая старика хитроумным нашептыванием: дескать, и интриган Родзянко, и подкапывается под авторитет главнокомандующего, и вообще надобно поставить его на место.
Уходя на покой после крушения своих честолюбивых замыслов и отдав приказ о расформировании Северо-Западной армии, генерал Юденич решил напоследок утереть нос своему недругу. Председателем ликвидационной комиссии, вопреки всеобщим ожиданиям, был назначен не Родзянко, а Глазенап, несостоявшийся губернатор. Иначе говоря, бросили щуку в реку...
Трудилась ликвидационная комиссия в Ревеле с полгода. Было тут всякое, что случается обычно при дележе добычи: грандиозные скандалы, мордобой, проклятия обманутых и обиженных. Были сенсационные разоблачения в ревельских газетах, были даже вызовы на дуэль. Каждый рвал свою долю с злобным остервенением. Доля председателя ликвидкома, естественно, оказалась львиной.
Последующие зигзаги жизненного пути Петра Владимировича Глазенапа напоминали пестрый калейдоскоп.
Одни могли его видеть в туманном Лондоне, на Даунинг-стрит, в служебном кабинете Уинстона Черчилля, где попусту слов не тратят и даром денег не дают.
Другие лицом к лицу сталкивались с ним в игорных залах Монте-Карло, за длинными столами, крытыми зеленым сукном, где крутится бесстрастное колесо фортуны, а политикой и не пахнет.
Третьи утверждали, что добился он личной аудиенции у престарелого немецкого генерала Людендорфа, известного своей антисоветской направленностью и заигрыванием с «кирилловцами».
Жил Глазенап на широкую ногу, по-барски. Останавливался только в фешенебельных дорогих отелях, часто менял любовниц и автомобили. Приобретенный им в Восточной Пруссии старинный охотничий замок месяцами дожидался своего нового хозяина, беспрерывно разъезжавшего из страны в страну.
Чекисты, разумеется, догадывались о цели всех этих генеральских путешествий. Знали они про германофильскую ориентацию Глазенапа, вскоре приведшую его в ряды платных информаторов полковника Николаи, тогдашнего руководителя немецкой разведки. Своевременно удалось зафиксировать и возникновение его контактов с Интеллидженс сервис.
У немцев Петр Владимирович Глазенап числился в картотеке под кодовым номером 0714. Англичане окрестили его с библейской торжественностью, присвоив кличку Моисей. Судя по некоторым признакам, можно было думать, что обе разведки не подозревают в нем агента-двойника.
Ранней весной 1924 года разыгралось происшествие, слегка подмочившее репутацию Моисея.
Случилось оно, это драматическое происшествие, в поезде Ревель — Рига. Ни стрельбы, ни погони, ни экстренной остановки поезда не было, так что пассажиры остались в неведении о головоломных загадках, которые предстояло решать лучшим умам Интеллидженс сервис.
В поезде обокрали дипкурьера англичан.
Собственно, и не обокрали вовсе, а молниеносно сумели подменить его чемодан с дипломатической почтой, воспользовавшись минутной отлучкой в туалет. Из запертого на ключ купе, в полупустом спальном вагоне, с виртуозной рассчитанностью каждого мгновения этой сверхдерзкой операции. Подмена, кстати, оказалась настолько ловкой, что бедный дипкурьер обнаружил ее только утром, когда поезд прибыл к месту назначения и большинство пассажиров успело разойтись.
Легко вообразить громы и молнии официального Лондона. Было назначено тщательное расследование, как гласное, так и сугубо негласное, на виновных посыпались суровые административные кары. Однако похитителей так и не удалось обнаружить. Чемодан с дипломатической почтой бесследно исчез.
На перроне ревельского вокзала, в толпе провожающих, видели генерала Глазенапа. Появился он всего на несколько минут и почему-то был в гриме, с наспех подклеенной бородкой.
Лишь эта косвенная улика, да кое-какие следы немецкой агентуры, организовавшей похищение чемодана дипкурьера, могли питать недоверие Интеллидженс сервис к Моисею — прямых доказательств измены не находилось. Тем не менее Петру Владимировичу перестали платить, и на несколько лет наступила полоса охлаждения в его связях с английской секретной службой.
К этому времени, прочно обосновавшись в Данциге, генерал Глазенап всецело посвятил себя ревностному служению великому князю Кириллу Владимировичу, «Местоблюстителю Государева Престола».
Выбор между Николаем Николаевичем и Кириллом Владимировичем, двумя соперничавшими претендентами в российские императоры, был для Глазенапа не легок и не прост. Свяжешься не с тем лагерем — и запросто продешевишь, не на удачливую лошадку поставишь; а в простофилях пребывать он не собирался, желательно было играть на выигрыш.
В конце концов Петр Владимирович Глазенап объявил себя убежденным «кирилловцем». Созданная им в Данциге офицерская конспиративная организация была названа «Союзом законопослушных». Всяческие благотворительные лотереи, товарищеские ужины однополчан и собеседования за чашкой чая, устраиваемые от случая к случаю, служили лишь прикрытием закулисной ее деятельности — шпионажа и диверсий против Советского Союза.
Среди материалов, собранных чекистами, хранились, между прочим, выдержки из показаний разоблаченных на советской территории агентов Глазенапа.
Это были негодяи и продажные шкуры, решительно ни в чем не уступающие своему вожаку. Сперва они пробовали куражиться на допросах, пытались даже играть в благородных рыцарей белой идеи, а будучи уличенными в грязной уголовщине, немедленно начинали ползать на коленях, слезно вымаливая пощаду. Если бы однажды Петр Владимирович смог прочесть все, что рассказывали о нем эти «законопослушные» бандиты, его бы, наверно, затрясло от страха. Читать такое о себе тяжело.
В 1927 году Глазенап собрался навестить Советский Союз, и в материалах были подробно отражены все приготовления советских властей к встрече столь высокого гостя. Чекистам было известно, что едет он с инспекционными намерениями, что рассчитывает лично повидать и проинструктировать свою нелегальную агентуру в Ленинграде и других наших городах.
Из Данцига Петр Владимирович проследовал в Берлин, из Берлина в Кобург, в резиденцию Кирилла Владимировича, затем опять в Берлин, на Курфюрстендамм, 180, где у него состоялись длительные совещания с известными антисоветчиками. После этого, запасшись фальшивыми документами, генерал отправился в Ригу.
Нелегальный переход советской границы, к сожалению, сорвался. Искренне сожалел об этом не только генерал, но и чекисты Ленинграда.
Виной всему была болтливость белогвардейской газеты «Сегодня», издававшейся в Риге. Дернула нелегкая репортера этой газеты тиснуть заметочку о приезде его превосходительства, да еще с многозначительными намеками на некое опасное путешествие, которое ему предстоит.
Петр Владимирович перепугался, усмотрел в этой публикации козни своих врагов, якобы предупреждающих ГПУ о тайных его намерениях, и тотчас вернулся к себе в Данциг.
Примерно к этому же периоду относится и возобновление деловых его контактов с Интеллидженс сервис. Неизвестно, что этому способствовало: то ли англичане предали забвению злополучную историю с украденным чемоданом дипкурьера, что совершенно непохоже на них, то ли насущные нужды взяли верх над старыми обидами.
Так или иначе, Моисей опять выплыл на поверхность. И снова пользовался услугами английской секретной службы, переправляя своих людишек на советскую землю. Само собой не даром, не ради идейных соображений и классовой солидарности — в обмен на шпионскую информацию. Бесплатно джентльмены из Интеллидженс сервис и пальцем не захотят шевельнуть.
Много любопытнейших сведений накопилось за десятилетие о генерале Глазенапе и его похождениях. Не хватало только достоверных фактов, свидетельствующих о причастности Петра Владимировича к распространению фальшивых червонцев.
ГПУ было осведомлено, что поддельные банковские билеты изготовляются за границей, что впутались в эту грязную аферу некоторые господа из ближайшего окружения Кирилла Владимировича. Невольно напрашивался вывод, что и генерал Глазенап, будучи авантюристом до мозга костей, не должен оставаться в стороне. Но это пока было лишь предположение, не больше.
5
После денежной реформы 1922-1924 годов на смену обесцененным «совзнакам» с их астрономическим эквивалентом пришла наконец твердая и устойчивая советская валюта.
Золотое содержание рубля было приравнено к дореволюционному и выражалось в 0,774234 грамма чистого золота.
«Что действительно важно — это вопрос о стабилизации рубля», — говорил Владимир Ильич Ленин. Молодому Советскому государству удалось одолеть эту исполински трудную проблему без чьей-либо помощи, в условиях жестокой финансовой блокады со стороны капиталистического окружения.
Диверсия белогвардейцев с фальшивыми червонцами была, естественно, опасной и встревожила органы государственной безопасности. Коллективными усилиями была проделана огромная работа по обнаружению преступников и их укрывателей. Десятки опытнейших бойцов незримого фронта приняли в ней участие, вложив в порученное дело всю силу своего интеллекта, остро отточенной наблюдательности и безошибочно действующей следственной интуиции.
Случилось так, что наиболее ощутимый вклад в решение общей задачи внес молодой сотрудник контрразведки Сергей Павлович Цаплин, всего лишь второй год служивший на Гороховой в скромной должности практиканта.
К концу двадцатых годов заметно поредела и поубавилась железная когорта ветеранов Чрезвычайной Комиссии, начинавших чекистскую вахту вместе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.
Давали себя знать колоссальное напряжение нервов, бессонные ночи, раньше срока нажитые болезни. Взамен выбывающих из строя чекистов старшего поколения на охрану завоеваний революции становилась молодежь.
Сергей Цаплин был из этой комсомольской поросли второй половины двадцатых годов.
За свои четверть века, как большинство его сверстников, успел он прожить жизнь нелегкую и уж, конечно, не праздную. Работал года полтора инструктором губкома комсомола, усердно грыз гранит науки, будучи рабфаковцем в университете, прошел суровую выучку военмора, отслужив положенный срок на линейном корабле «Марат».
Признаться, даже и в мыслях не держал он заделаться когда-нибудь сотрудником контрразведки. Мечта у него была совсем иной окраски — авиационная, воздухоплавательная. И вроде бы подворачивался подходящий случай стать курсантом военно-теоретической школы ВВС. Оставалось лишь подать заявление с необходимыми документами и не растеряться перед лицом грозной медкомиссии, которая, по слухам, браковала нещадно.
Судьба, однако, рассудила по-другому. Точнее выражаясь, не судьба, а члены бюро губкома, вручившие Сергею Цаплину путевку на Гороховую, 2, в распоряжение товарища Мессинга.
Знакомство и первый коротенький разговор с Станиславом Адамовичем Мессингом запомнились надолго.
— Прибыл к вам с комсомольской путевкой, — отрекомендовался он для начала. — Не знаю, смогу ли быть полезным...
— Сможешь, друг ситный, — усмехнулся Станислав Адамович, как бы читая его мысли вслух. — Если, конечно, дурака не будешь валять, а возьмешься с огоньком, по-комсомольски...
— Я, товарищ Мессинг, о другом мечтал...
— Знаю, в авиаторы собирался. Но учти, там молодые хлопцы в цене, с запасом прочности, а ты у них пойдешь за переростка. В общем, советую выбросить из головы авиационные мыслишки. Осваивай чекистскую нашу специфику, присматривайся, учись. Что непонятно — обязательно спрашивай, не стесняйся. Работа у нас, сам скоро увидишь, нисколько не легче авиаторской...
Поколение, к которому принадлежал Сергей Цаплин, победу Октября встретило в мальчишеском возрасте. Штурмовать Зимний дворец ему не пришлось, да и в сражениях гражданской войны успели принять участие лишь отдельные счастливчики. С завистью взирало это поколение на подвиги своих отцов и старших братьев, с неутоленной жаждой действия, способного хоть в какой-то степени компенсировать вопиющее упущение природы.
Не в правилах молодых людей двадцатых годов было отказываться от заданий комсомола, искать личную выгоду или ронять свое революционное достоинство недобросовестным отношением к порученной работе. Ежели говорят тебе надо — стало быть, действительно надо. В лепешку разбейся, а задание выполни.
К новым своим обязанностям Сергей Цаплин привыкал со скрипом, каждый день подстегивая себя напоминанием о дисциплине и комсомольском долге.
Больно уж все было непохоже здесь на пройденные им житейские университеты: ни веселого многоголосья комсомольских будней в губкоме, где сколько голов, столько и мнений, ни суровой собранности военморского бытия на борту линейного корабля, когда приказ командира — железный закон, а твое дело выполнять команду.
На Гороховой дороже всего прочего ценилось самостоятельное умение мыслить.
Дадут тебе поручение, немногословно объяснят, что тут к чему, вот и думай, соображай, ищи самый разумный вариант. Неплохо, понятно, посоветоваться со старшими товарищами, в помощи никогда не откажут, с удовольствием поддержат новичка квалифицированной консультацией, но беда в том, что не всякий раз имеется время для разговоров. Бывает такая сложится обстановочка, столько в ней драматизма и неотложной срочности, что каждая минута на счету. Вот и приходится действовать собственным разумением, на дядю со стороны не
надеяться.
Мессинг не застращивал начинающего практиканта, по-честному предупредив о трудностях чекистской профессии. Их и впрямь было сверх всякой нормы, этих каждодневно и ежечасно возникающих проблем, которые требуют мобилизации всех твоих сил.
Чем больше присматривался Сергей Цаплин к окружающей его действительности, тем отчетливее начинал сознавать, что поставлен на ответственный боевой пост. Стоишь на том посту без винтовки, открытый всем ветрам, и не жди разводящего в предписанный уставом час, смены может не быть. Пост твой круглосуточный, боеготовность тут требуется в любую минуту дня и ночи.
Наглядным доказательством этого был, пожалуй, и экстренный ночной вызов к самому начальнику КРО.
Не успел, можно сказать, добраться последним трамваем до холостяцкой своей комнатки на проспекте Декабристов, еще чайник не вскипел на примусе, как следом летит посыльный мотоциклист в забрызганной грязью шинели. Время позднее, далеко уж за полночь, дождище хлещет на улице, и никому, собственно, нет дела, что башка у тебя разламывается от усталости, — служба есть служба, зря мотоциклиста не отправят.
Еще нагляднее простую эту истину подтверждал Эдуард Петрович Салынь, ведавший на Гороховой отделом контрразведки. Слабого здоровьишка, узкогрудый, с чахоточным румянцем на впалых щеках, он сильнее других нуждался в отдыхе и, вероятно, в длительном санаторном лечении, а домой всегда уезжал последним.
— Не серчайте, Сергей Павлович, на мое начальничье самоуправство, — извинился Салынь, поднимаясь ему навстречу. — Думал-думал и, к великому сожалению, иного выхода не нашел, а времени у нас с вами в обрез. Шестичасовым утренним поездом следует ехать на станцию Званка, а оттуда еще дальше — в село Старая Ладога... Дело весьма срочное, откладывать мы не имеем права...
С обычной своей суховатой сдержанностью, немногословно и очень точными словами Эдуард Петрович изложил суть возникшей вдруг ситуации.
В бухгалтерии розничной базы Губпотребсоюза, в Апраксином дворе, задержан вечером некий Емельян Иванович Комаров, мелкий торговец-лотошник из Старой Ладоги. Среди предъявленных им в кассу денежных купюр был обнаружен фальшивый червонец. Комарова доставили в милицию и обыскали. При этом было найдено еще два поддельных десятирублевых билета.
На допросе в отделении милиции лотошник показал, что фальшивками с ним расплатился кто-то из староладожских жителей. Кто конкретно, торговец не помнит или не желает сказать.
Самого Комарова отпустили, и поздним вечерним поездом он уехал к себе в Старую Ладогу. С горя, а возможно, с перепугу изрядно напился в буфете Московского вокзала. Кричал, захмелев, что кругом теперь сплошные притеснения, что дерут с него семь шкур — и фининспектор, и сельсовет, и милиция.
— По имеющимся сведениям, в тех краях частенько появляются фальшивые деньги, — сказал Салынь. — Думаю, полезно будет погостить немножко в Старой Ладоге, присмотреться к тамошним людям и порядкам. С осоавиахимовской работой вы знакомы?
— Приблизительно, товарищ начальник. На линкоре случалось кое-что делать, мы шефствовали над низовой ячейкой Морзавода...
— Вот и прекрасно. Документы вам подготовлены на имя Сергея Павловича Морозова, инструктора Осоавиахима. Свяжитесь с местными комсомольцами и коммунистами, организуйте, если потребуется, обход домов. С соответствующей, понятно, агитацией за укрепление обороноспособности страны, с вербовкой новых членов Осоавиахима. В общем, действуйте сообразно с возникшей обстановкой. Желаю вам успеха, товарищ Морозов.
Ему бы распрощаться по-хорошему и топать в канцелярию за документами, а он вздумал задавать начальнику глупейшие мальчишеские вопросы.
— Как мне быть в случае обнаружения фальшивомонетчиков? Имею ли я право на аресты?
Салынь сразу нахмурился, заметно потемнел лицом. Собрался вроде бы сказать нечто резкое, бьющее наотмашь, да не сказал, воздержался. Молча ходил по своему кабинету, зябко ежась от промозглой осенней сырости, глухо покашливал.
— Вы сами подумайте, Сергей Павлович, что у нас с вами будет, если каждый инструктор Осоавиахима примется хватать и арестовывать советских граждан. — В глазах начальника КРО была стужа. — Пародия получится на революционную законность, возмутительный жандармский произвол...
— Я не то хотел сказать, вы меня неправильно поняли...
— Боюсь, что я понял правильно, товарищ Морозов. Поймите и вы меня, поскольку задача, стоящая перед вами, очень деликатная. Интересующую нас тему надо нащупывать осторожно, не ставя под подозрение всех граждан Старой Ладоги. Уж коли вы работник Осоавиахима, значит, на первом плане должны быть именно осоавиахимовские заботы, а все остальное как бы между прочим, в порядке обычной человеческой любознательности. Улавливаете смысл?
— Задание ясно, товарищ начальник! Разрешите выполнять?
— Выполняйте, товарищ Морозов, — усмехнулся Эдуард Петрович и хитро подмигнул на прощание. — Надеюсь, что съездите с ощутимой пользой...
Вот и еще один предметный урок получил он, чтобы запомнить его на долгие годы своей чекистской службы.
Такая у него была теперь работа — весьма щедрая на уроки жизни, быстро и целеустремленно формирующая характер, отсекая от него все ненужное и вредное для профессии контрразведчика.
6
Из Ориентировки за 21 октября 1928 года:
«Стало известно, что Зилупское отделение латвийской секретной службы готовит в ближайшее время нелегальный переход нашей границы агентом кирилловского «Корпуса офицеров императорской армии и флота», направляющимся в Ленинград и другие города с шпионско-диверсионными заданиями.
Переправу агента должны организовать сотрудники капитана Аккермана по просьбе Реджинальда Стиорса, резидента английской разведки в Риге. Следует иметь в виду, что агент будет снабжен крупной партией фальшивых советских червонцев.
Приметы агента: среднего роста, русоволосый, плотного телосложения, глаза серые, уши маленькие, слегка приплюснутые, нос прямой, 35-40 лет. По-русски говорит с легким балтийским акцентом. Вооружен, владеет приемами рукопашного боя.
Документы возможны на имя Эдуарда Алексеевича Дернова, уроженца города Рыбинска. Возможны также следующие варианты: Попов, Дорн, Добровский, Прошилович, Мотивко.
В случае обнаружения вышеуказанного лица немедленно докладывайте. Без согласования с нами никаких оперативных мер прошу не предпринимать.
Полномочный представитель ОГПУ в ЛВО
С. Мессинг».
7
Старая Ладога с незапамятных времен славилась как большое торговое село, благо срублена была на знаменитом пути древних «из варяг в греки», на высоком обрывистом берегу Волхова.
Добравшись утренним поездом до станции Званка, Сергей Цаплин быстро нашел попутного возницу и сговорился с ним за полтора рубля.
День был хмурый, с низко нависшими рваными тучами, из которых сыпался то дождь, то мокрый снег. Подводчик, слегка хмельной щупленький мужичок в брезентовом дорожном балахоне, сказал, что первым долгом надобно погреть нутро в сельповской чайной: иначе озябнешь в этакую мокропогодицу и, упаси господи, схватишь какую-нибудь злую хворобу.
Выехали они со станции только в полдень, рассчитывая засветло добраться до места.
Еще в чайной Сергей Цаплин успел выяснить, что завтра, в воскресенье, в Старой Ладоге открывается осенняя конная ярмарка. Обстоятельство это, явно неучтенное в Ленинграде, скорей всего, осложняло его миссию. Имелись в нем, правда, и свои выгоды, которыми следовало воспользоваться. На ярмарки, особенно осенние, отовсюду съезжается множество людей, и приезжему, если он того желает, легче остаться незамеченным в шумной толчее.
Всю дорогу словоохотливый подводчик рассказывал о предстоящем торжище и жуликоватых цыганских барышниках, пригоняющих на ярмарку ладных с виду двухлеток. Верить им нельзя ни на грош, обманут за милую душу, потому что у двухлеток тех обязательно есть скрытая порча, которую разглядеть сумеет не всякий.
Неплохо бы, конечно, направить разговор в нужное русло. И все же Сергей Цаплин предпочел воздержаться от расспросов. С интересом слушал бесконечные байки насчет ухищрений цыган, потому что негоже командированному соваться в дела, не имеющие прямого касательства к кругу его служебных интересов.
Поддельные червонцы всплыли в разговоре сами собой, когда он спросил, у кого обычно квартируют приезжие.
— У Фили Кривого, у кого же еще, — сказал подводчик.
— А это кто такой?
— Партейный он у нас, почтой прислан заведовать... Обидели его малость, сердитый нынче, да все равно к нему просись в ночлежники. Вашего брата, командировочного, Филя уважает...
— Чем же его обидели?
— Фальшивые денежки, говорят, принял взамен настоящих, сослепу не разобрался. Вот и всыпали бедняге за халатность, чтоб в другой раз поаккуратней был при исполнении должности. За денежки те из жалованья грозятся вычитать, да еще нахлобучка вышла от почтового начальства...
— Чудеса какие-то! Откуда же в вашей местности фальшивые деньги?
— Кто его знает откуда. Сказывают, будто шайка-лейка объявилась в Ленинграде. Печатают эти самые денежки, сколько им захочется, и все у них честь честью выходит, подкопаться трудно.
— Неужто и от настоящих не отличишь?
— То-то и горе, что не отличишь, — подтвердил подводчик с воодушевлением. — Уж на что Емелька Комарик тертый у нас калач, все ходы-выходы знает, а и тому, сказывают, всучили подделку...
До Старой Ладоги они добрались уже только в сумерках.
Проехали мимо запертого на замок сельсовета, мимо каменных приземистых лабазов торгового ряда, вымощенного крупной булыгой. Возле домика местной почты подводчик остановил свою лошаденку.
— Туточки обитает Филя Кривой! — объявил он и, не дожидаясь разрешения, легонько постучал кнутовищем в окно. — Открывай, Филипп Изотыч, гостя к тебе доставил!
Староладожский почтарь Филипп Изотович Окунев был богатырского сложения мужчина лет сорока пяти, а может, и меньше. С правой щеки, от самого виска, рассекая надвое нижнюю губу, тянулся у него глубокий сабельный рубец, и от этого казалось, будто он презрительно улыбается, хотя глаза Филиппа Изотовича оставались серьезными, даже строгими.
— Пожалуйте ваши документы, товарищ, — попросил он, впустив гостя в жарко натопленную горницу и не приглашая садиться. Надел очки в грубой металлической оправе, внимательно рассматривал удостоверение осоавиахимовского инструктора и приклеенную к нему маленькую фотографическую карточку.
— Додумались в центре, уважили слезные мои мольбы, — сказал Филипп Изотович, возвращая удостоверение. — С Осоавиахимом у нас форменная труба в Старой Ладоге, поработать тебе придется основательно. Да ты располагайся, дорогой товарищ Морозов. Пальтишко свое сними, садись к печке, озяб, поди, в дороге...
Бывают натуры легкие, широко раскрытые. Сходишься с ними как-то сразу, с первой встречи, стремительно сокращая расстояния, отделяющие людей друг от друга. Именно таким был отсекр
[1] здешней партячейки, человек удивительно душевный, прямой, многое на своем веку перевидавший и переживший.
Чугунок с горячей картошкой в мундире, деревенский хлеб, нарезанный крупными аппетитными ломтями, и уютно мурлыкающий самовар подавала им дочка Филиппа Изотовича, молчаливая и застенчивая девчонка лет шестнадцати.
Они не спеша поужинали, выкурили по тоненькой папироске «Сафо», предложенной гостем, с удовольствием разговорились. И очень скоро почувствовали взаимное расположение единомышленников, понимающих все с полуслова.
Говорил больше хозяин, а гость лишь изредка вставлял уточняющие вопросы, предпочитая слушать.
В заведующих почтой и отсекрах сельской партячейки Филипп Изотович недавно, всего третий год. Прислан в Старую Ладогу по решению укома партии для налаживания агитмассовой работы, но успехами пока хвастаться не может.
Коммунистов здесь всего-навсего трое, да и комсомольская ячейка малочисленная, слабая, без настоящего авторитета среди молодежи. А село, надобно заметить, труднейшее, на общественные мероприятия неподатливое, с весьма заметным торгашеским и кулацким засильем.
Богатырская комплекция Филиппа Изотовича была, оказывается, обманчива. Хлипкое у него здоровьишко, точнее сказать, совсем никудышное.
Летом шестнадцатого года, на позициях под Перемышлем, был травлен зловредными немецкими газами, с полгода харкал кровью в госпитале. Осенью девятнадцатого, в сентябре, в смертельном неравном бою с конницей белого генерала Шкуро отведал острой казацкой шашки, чудом остался в живых. Отсюда все последствия: с виду крепкий мужик, а фактически инвалид.
Шрам на щеке, хоть и заметен любому и каждому, в общем-то сущая пустяковина: удар у беляка получился скользящим. Истинная беда с предплечьем. Разламывается к непогоде, свербит и ноет, так что волком завоешь от боли.
На приезжего товарища руководитель староладожских коммунистов возлагал огромные надежды. С увлечением планировал, какие великие дела сумеют они провернуть при содействии умудренного опытом инструктора Осоавиахима. Отставание села в оборонных вопросах становится просто позорным, надо с ним кончать.
Пришлось осторожно ввернуть в разговор, что срок командировки у него, к сожалению, ограничен, за неделю многого едва ли успеешь добиться.
Было как-то совестно и неловко перед Филиппом Изотовичем. Объявить бы ему всю правду напрямик, и коллективными усилиями решать задачу. Внести, к примеру, ясность в историю с фальшивыми червонцами, за которые получил он нагоняй от своего почтового ведомства. Кто их принес на почту, когда и кем они обнаружены. Если это был почтовый перевод, то должны остаться следы. Копия квитанции или накладная на отправку корреспонденции.
Но раскрывать себя он не мог, не имел права. Волей-неволей надо было дожидаться, не вспомнит ли об этом происшествии сам Филипп Изотович.
Перед тем как укладываться спать, Филипп Изотович завел довольно занятное объяснение с дочкой. Говорили они вполголоса в дочкиной светелке, за тонкой бревенчатой перегородкой. Не каждое слово можно было разобрать, и все же объяснение это выглядело странным, в доме отсекра партячейки трудно объяснимым.
Дочка наотрез отказывалась пойти утром в церковь на воскресную службу. Сквозь слезы твердила отцу, что стыдно ей перед подругами, что и без того ее видели прошлый раз на паперти, хватит ей срамиться. Отец между тем настаивал, чтобы обязательно пошла. И в сердцах напомнил о какой-то дочкиной провинности, которую другим путем загладить нельзя.
В горницу Филипп Изотович вернулся насупленный. Глянул исподлобья на гостя, будто проверяя, слышал ли тот его разговор с дочкой, помолчал в невеселой задумчивости, тяжело вздохнул:
— Ошибочка, понимаешь, приключилась у моей Клавдии. Затем и гоняю ее в церковь... А девке, само собой, срамиться нет желания. Плачет, отказывается...
— Какая ошибочка, Филипп Изотович?
— А такая, дорогой товарищ Морозов, что надобно мне изловить в нашей местности одного мошенника. Не ради вычетов из зарплаты — перебьюсь как-нибудь, с голоду не подохну. И не ради выговора, который объявлен мне начальством за здорово живешь. Из принципа требуется его поймать, чтобы не морочил больше добрых людей...
— Не пойму я ничего, Филипп Изотович. При чем здесь церковь? О каком мошеннике ты говоришь?
— А ты не спеши, товарищ Морозов. Сейчас я тебе все объясню по порядку...
История эта заслуживала внимания.
Филиппа Изотовича на прошлой неделе вызвали в уком партии. Не желая закрывать почту на целый день, он оставил взамен себя Клавдию. Велел быть поаккуратней с деньгами и спокойно уехал. После смерти жены Клавдия у него и за хозяйку, и за помощницу в работе. Девчонка толковая, серьезная, комсомолка, понадеяться на нее можно вполне — все сделает как надо.
Совещание отсекров сельских партийных ячеек затянулось до вечера. Среди прочих важных вопросов была на нем и информация начальника милиции о появлении в округе фальшивых червонцев. Было рекомендовано товарищам повнимательней присматриваться, научили, как надо отличать подделки от настоящих денег.
Вернувшись домой, Филипп Изотович, несмотря на поздний час, вздумал проверить наличность в кассе. Клавдия уже спала, а он сидел с лампой и подолгу рассматривал каждую купюру, выискивая изъяны. Две хрустящие новенькие десятирублевки показались ему сомнительными.
Пришлось будить дочку. Спросонок Клавдия ничего толком не сказала, но утром кое-что разъяснилось.
Оба червонца менял на почте бойкий разговорчивый дядька, похожий ухватками на приказчика. Дважды забегал к ней с одинаковой просьбой, и дважды Клавдии оказывала ему услугу, соблазнившись видом новых бумажек.
Дядька этот не из староладожских жителей. Клавдия долго припоминала, где его видела раньше, и наконец вспомнила: возле церкви, во время крестного хода в престольный праздник. Дядька шел впереди священника, в руках у него была икона.
Стало быть, не простой богомолец — из церковного актива. У церкви его надо искать, больше негде. Вот из-за чего приходится ссориться с Клавдией.
— А выговор тебе за что?
— Вот за это самое, — нахмурился Филипп Изотович. — Червонцы оказались фальшивыми, как я и думал. Двадцать целковых из жалованья высчитают, да еще выговор впридачу: за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей...
— Так это же форменное головотяпство!
— Как хочешь называй, дорогой товарищ Морозов. Мне на выговор этот плевать, не шубу с него шить, с выговора. Мне надобно добраться до этого ловкого мошенника. И доберусь, можешь быть спокоен, разыщу сукиного сына!
8
Воскресное утро у Сергея Цаплина выдалось свободным.
Сумрачная, неразговорчивая Клавдия спозаранку убежала из дому, Филипп Изотович вызвал к себе комсомольского секретаря, который должен был готовить собрание молодежи по осоавиахимовским вопросам, а Сергей Цаплин отправился взглянуть на здешнюю ярмарку.
Было свежо и безоблачно, как всегда бывает в канун настоящих заморозков. Под ногами звонко хрустели тонкие ледяные корочки.
Ярмарочная жизнь, громкоголосая, чуточку нервная и суматошная, вступала в свою колею, предвещая оживленный торговый денек.
Понаехало с ночи, запрудив всю площадь на волховском берегу, множество подвод с искусно сработанным товаром местных бондарей, шорников, тележных и санных мастеров. Весело зазывали желающих на ходу перекусить бойкие продавцы горячей снеди, расхваливая знаменитые ладожские пироги с сигом. О чем-то жалобном и неизъяснимо тоскливом плакалась охрипшая шарманка. Нахохленный и словно невыспавшийся попугай доставал из ящика за полтинник счастье всем желающим.
Центром притяжения на ярмарке были конные ряды, и Сергей Цаплин не утерпел, с любопытством прошелся из конца в конец торжища, разглядывая выставленных на продажу лошадей.
Азартное напряжение чувствовалось в конных рядах с особой силой. Смуглые чернобровые цыгане в полушубках, туго затянутых красными кушаками, на все лады превозносили достоинства своих коней, божились, клялись всем святым, отчаянно хлопали шапками оземь. Если покупатель выражал вдруг сомнение или собирался вовсе уйти, его останавливали, бесцеремонно хватая за рукав. Хозяин лошади этаким чертом вскакивал на нее и с места, отчаянным рывком, пускался в бешеный галоп. Вдогонку ему неслось поощряющее улюлюканье толпы, свист, громкий одобрительный хохот.
Выбравшись из толчеи конных рядов, Сергей Цаплин направился к пригорку, на котором возвышалась древняя староладожская церковь. Еще издали он увидел Клавдию, дежурившую возле коновязей, где оставляли свои повозки приехавшие из соседних деревень богомольцы.
Пост свой Клавдия выбрала с расчетливым умыслом: и видно все вокруг, и вроде бы не имеет она никакого касательства к церковной службе, просто кого-то здесь дожидается.
Беспокоила несогласованность их действий.
Обнаружив дядьку, разменявшего у нее фальшивые деньги, Клавдия, естественно, помчится к отцу, сама ни в какие объяснения вступать не станет. А что предпримет Филипп Изотович?
К сожалению, они не сговорились на сей предмет, хотя следовало бы как-то условиться. Между тем сгоряча легко выкинуть любое коленце, не думая, на пользу пойдет оно или во вред.
Будто в подтверждение тревожных его размышлений, Клавдия встрепенулась, как охотник, заприметивший долгожданную добычу.
Причиной тому был немолодой коренастый мужчина в бекеше офицерского покроя и в новой каракулевой шапке, подъехавший к церкви. Небрежно кинув вожжи своей жене, оставшейся хлопотать у коновязи, мужчина направился к церковной калитке, щедро одаривая на ходу побирушек заранее приготовленной мелочью. Клавдия проводила его глазами до входа в церковь и пулей помчалась домой.
Можно бы, конечно, до поры до времени занять нейтральную позицию. Пусть отсекр партячейки возьмет в оборот этого типа в офицерской бекеше. Интересно будет услышать его оправдания, заодно выяснить имя и фамилию.
Но оправдания эти скорей всего окажутся стандартными для подобных ситуаций: дескать, знать ничего не знаю, за что купил, за то и продал. Вместе с тем эффект неожиданности исчезнет начисто, а с ним потеряешь и ниточку, столь необходимую следствию. Нет, нужно было вмешаться и предотвратить скандал, от которого пользы никакой.
Отсекра партячейки Сергей Цаплин застал поспешно надевающим полушубок. Чувствовалось, что настроение у Филиппа Изотовича до крайности воинственное.
— Что так быстро, товарищ Морозов? — вежливо спросил Филипп Изотович, думая совсем о другом. — Или не понравилась тебе наша ярмарка? Ты обожди меня здесь, я мигом обернусь, тогда и сговоримся насчет собрания... Пошли скорей, Клавдия!
— Минуточку, Филипп Изотович! Задержись, пожалуйста, есть серьезный разговор. Мошенник твой никуда не денется, в церкви он, на воскресной службе, а с пылу с жару как бы не наломать тебе дров...
Удивленный Филипп Изотович вопросительно глянул на своего гостя, потом на дочку. Сообразительная Клавдия молча выскользнула из горницы, оставив их вдвоем.
— Убежден ли ты, Филипп Изотович, что самое важное во всей этой заварушке вернуть обратно твои деньги? Ну, отдаст он двадцать целковых, а дальше что?
— В милицию его сдам, — не совсем уверенно сказал Филипп Изотович. — Там небось живо разберутся...
— В чем разберутся-то? Он ведь не дурачок, этот дядя. Скажет, что сам пострадал от жулья, обманули, дескать. И ежели рыльце у него в пушку, непременно постарается замести следы, благо нами же и предупрежден об опасности...
— Что ты предлагаешь?
— Ни в коем разе не нарываться на скандал — это во-первых. Отправляйся в церковь, захвати с собой Клавдию. Надо не шуметь, а потихоньку разведать, кто он таков, этот тип. Где обитает, чем дышит и вообще. После этого дело само подскажет, какие требуются меры. Разве нельзя допустить, что он и на ярмарке захочет воспользоваться своими фальшивками? Лично я такой возможности не исключаю. А коли так, следует за ним присмотреть. Поймаем на месте преступления — тогда труднее будет выкручиваться... Соображаешь, Филипп Изотович?
— Послушай товарищ Морозов, да ты никак...
Филипп Изотович оборвал себя, не пожелав высказывать возникшую догадку вслух. Нахлобучил на голову шапку-ушанку, позвал Клавдию и, не прибавив больше ни слова, отправился в церковь.
Через час кое-что разъяснилось.
Мужчина в офицерской бекеше, опознанный Клавдией, был Николаем Сергеевичем Биткиным, членом церковной «двадцатки» из соседней деревни Дубно.
Фигура в здешних местах довольно известная, уважаемая. Хозяйство у него зажиточное, без малого кулацкое, хотя наемным трудом пользуется редко и осмотрительно. В прошлом судился за дезертирство из Красной Армии, от тюремного заключения освобожден согласно амнистии. Староладожская церковная «двадцатка» возложила на Биткина всю хозяйственную мороку, ибо человек он ловкий, оборотистый, со связями в Ленинграде, благодаря чему здешний приход считается преуспевающим.
Сведения были не бог весть какие, Сергей Цаплин хорошо это понимал. Мало ли в округе бывших дезертиров и даже участников «зеленых» банд, давным-давно загладивших свои прежние грешки? Сколько угодно в окрестных деревнях и зажиточных хозяев. Не станешь подозревать всех подряд, нужны для этого веские доказательства.
И все же предчувствие подсказывало Сергею Цаплину, что доказательства будут. Вот только дождаться, пока выйдет этот дядя из церкви, и глянуть на его ярмарочные покупки. Вернее, не на сами покупки, а на деньги, которыми будет он рассчитываться. Похоже, что опять должны пойти в ход фальшивые червонцы.
Так все и вышло.
На ярмарке член церковной «двадцатки» задерживаться не пожелал. Отправил супругу к мануфактурным палаткам, та выбрала отрез добротного синего сукна и, не торгуясь, заплатила новенькими десятирублевыми купюрами. Сразу после этого Биткины запрягли лошадь и укатили к себе домой.
Вскоре после них уезжал из Старой Ладоги и Сергей Цаплин.
Пока запрягали норовистого сельсоветского жеребца, состоялось коротенькое объяснение с Филиппом Изотовичем.
— Заварил кашу, и до свидания! — иронически щурил глаз отсекр партийной ячейки. — Не знаю твоих служебных секретов, товарищ Морозов, да и знать не хочу, но получается все как-то несолидно... Собрание-то назначено, вся молодежь должна прийти. Значит, по-твоему, мне одному отдуваться?
— Ничего, Филипп Изотович, ты сдюжишь. К ночи я вернусь, мне в уезд надо всего на полчасика...
— Езжай, езжай, товарищ Морозов. Рысак у нас отменный, домчит тебя в два счета. А вообще-то долго канителиться не советую. — Филипп Изотович смахнул улыбку с лица. — Как бы не сбег этот церковный деятель. Сарафанная почта знаешь какая быстрая? Пронюхает, что взяли его на прицел, и даст ходу...
Признаться, Сергей Цаплин и сам этого побаивался. Особенно после громких стенаний владельца мануфактурной палатки, узнавшего, что его обжулили среди бела дня.
— Будь здоров, Филипп Изотович, — сказал на прощание Сергей Цаплин. — Спасибо тебе за товарищескую помощь, за хлеб-соль. Надеюсь, еще свидимся...
9
Цаплин. Докладывает Морозов. Извините, товарищ начальник, но у меня срочное дело, и я бы хотел...
Салынь. Откуда вы говорите?
Цаплин. Я говорю из служебного помещения, посторонних здесь нет. Рядом со мной Василий Васильевич Епифанов, заместитель начальника уездной милиции.
Салынь. Что у вас стряслось? Поймали жар-птицу за хвост?
Цаплин. Вроде бы — да.
Салынь. К чему излишняя скромность, товарищ Морозов? Поймали или вам кажется, что поймали?
Цаплин. Видите ли, товарищ начальник, это трудно объяснить, тем более по телефону...
Салынь. В таком случае, зачем пользоваться телефоном. Приезжайте в Ленинград, и завтра утром побеседуем.
Цаплин. В том-то и штука, что до завтрашнего дня ждать рискованно.
Салынь. Улетит ваша жар-птица?
Цаплин. Не исключено и это, а главное — могут исчезнуть интересующие нас перышки...
Салынь. Так... понимаю... Наследила жар-птица убедительно? Есть за что ухватиться?
Цаплин. Дважды наследила, товарищ начальник. В первом случае все в порядке. На почте это было, без шума, тихо и спокойно. А второй раз, к сожалению, получилась некоторая огласка. Ярмарка здесь, всюду полно народу...
Салынь. Изымали вы лично?
Цаплин. Нет, зачем же. Согласно моему указанию сделал это участковый милиционер товарищ Васильев. С составлением акта, как положено по закону. Плохо, что владелец мануфактурной палатки малость расшумелся, и это внушает мне беспокойство...
Салынь. Перышки те самые?
Цаплин. Вне всякого сомнения, товарищ начальник. Они у меня, всего их три штуки.
Салынь. Какое впечатление производит жар-птица?
Цаплин. Информация пока самая поверхностная. В 1919 году скрывалась в лесу, имела в связи с этим неприятности. В настоящее время известна своей активностью по линии местных церковников. Со знакомствами в Ленинграде, с опытом и сноровкой. Судя по способам разбрасывания перышек, действует вполне обдуманно, старается лично оставаться в тени...
Салынь. Да, скудновато у вас с информацией. Что предлагаете конкретно?
Цаплин. Прошу разрешения на срочный осмотр гнездышка. Думаю, что сделать это надо без промедления, сегодня же, потому что с ярмарки могут просочиться разговоры, и тогда картина здорово изменится. К полуночи, если не терять даром времени, успеем доехать до места.
Салынь. А вдруг ничего не найдете?
Цаплин. Уверен, что найду, товарищ начальник. Ради страховки предлагаю оформить осмотр, как мероприятие в порядке борьбы с незаконным самогоноварением. Поступил, мол, сигнал, и необходимо убедиться в его достоверности...
Салынь. Что же, это разумно. Именно с поиска самогонного аппарата и начинайте, а ежели результаты будут плачевными, никаких намеков на перышки. Извинитесь за беспокойство и сразу уезжайте. Понятно?
Цаплин. Понятно, товарищ начальник. Разрешите выполнять?
Салынь. То есть, как? Вы что же, в одиночку собираетесь действовать? Передайте трубку Василию Васильевичу, он окажет вам необходимое содействие.
Епифанов. Слушаю, Эдуард Петрович.
Салынь. Попрошу вас, товарищ Епифанов, пособить нашему представителю в этой неожиданной операции. Дайте квалифицированных людей, неплохо если и сами поедете. Ордер надо выписать в расчете на самогонный вариант, это Морозов придумал неплохо. По возвращении сразу информируйте. Желаю удачи, Василий Васильевич. Надо полагать, все будет в порядке.
Епифанов. Постараемся, Эдуард Петрович.
10
До деревни Дубно насчитывалось двадцать километров, да еще с гаком. Лишь половина из них по шоссе, а далее раскисшими осенними проселками по бездорожью. Автомобиль дирекции Волховстроя, на который рассчитывал Епифанов, оказался в ремонте. Пришлось ехать на лошадях.
К полуночи, насквозь промокшие и окоченевшие, они добрались до места. Деревня в столь поздний час уже спала, огней в окнах не было, и еще порядочно времени ушло на сбор понятых, необходимых для производства обыска.
Открыл им сам Биткин. С излишней резкостью гаркнул на рвавшуюся с цепи собаку, остервенело пнул ногой стоявшее у порога пустое ведро. Заметно было, что встревожен, изрядно нервничает.
Обязанности они распределили еще в дороге, и обыск взяли на себя милицейские товарищи. Сергей Цаплин сосредоточился исключительно на хозяевах. Встал в сторонке со скучающим, безразличным видом, ни во что не вмешивался, оценивающе примечал каждую мелочишку их поведения.
Узнав причину ночного визита милиции, Николай Сергеевич Биткин принялся негодовать и возмущаться.
Неужто начальство не изучило до сих пор здешних самогонщиков и лезет среди ночи к порядочным людям? Спросите у кого угодно в деревне, всякий объяснит, что человек он всеми уважаемый, трезвый, так что самогонный аппарат ему без надобности. При крайней нужде всегда купишь в Старой Ладоге бутылку-другую, разор не велик, А крушить все в доме, да еще в поздний, заполночный час, — грубое нарушение закона, за которое начальство по головке не погладит.
Странная, однако, получалась история. Чем громче негодовал хозяин, тем меньше верилось в искренность его возмущения.
Похоже было на другое. Похоже, что Николай Сергеевич доволен причиной вторжения непрошеных гостей. Грозится поехать с жалобой к прокурору, домогается сочувствия у застенчиво безмолвствующих понятых, а в душе небось злорадствует: ищите, ищите ветра в поле...
Обыск тем временем приближался к концу. Слазали с фонарем в подполье, где хранилась картошка, обшарили хозяйственные пристройки, сенной сарай и маленькую черную баньку, стоявшую на берегу реки. Ни змеевика, ни других хитроумных приспособлений самогонщиков обнаружено не было.
Вопросительно глянув на Сергея Цаплина, заместитель начальника милиции с недовольным лицом направился к столу. Пододвинул к себе лампу, достал из сумки бумагу и ученическую чернильницу-непроливайку. Результаты обыска надлежало зафиксировать актом, и они условились, что Василий Васильевич будет при этом изображать полнейшую неудачу.
Остановка теперь была за Сергеем Цаплиным, а он еще не принял окончательного решения, обдумывая, с чего же вернее начать. Фальшивки могли быть спрятаны в окованном железными полосками сундуке с одеждой, на котором, безучастно сложив руки на груди, восседала грузная, дородная хозяйка. Удобно их засунуть под перину или, к примеру, в икону с мерцающей перед ней лампадкой. Любой из этих вариантов вызовет, конечно, шумные протесты хозяев, так что желательно не ошибаться, надо бить наверняка.
Предпочтительнее все же начинать с иконы. Верующие нередко отваживаются на циничное богохульство, а этот ходит в членах церковной «двадцатки», этому и карты в руки.
— Иконка-то у вас, кажется, редкостная, — громко похвалил Сергей Цаплин. — Старинного, видать, письма, новгородского либо суздальского. Разрешите полюбопытствовать?
В глазах Биткина на мгновение вспыхнула растерянность, но он удержался, ничем не выдал своих чувств. Зато бурно отреагировала хозяйка. С неожиданной для ее комплекции резвостью сорвалась со своего насиженного места, кинулась наперерез, загораживая руками дорогу к иконе.
— Не позволю! — закричала она дурным, истеричным голосом деревенской кликуши. — Правов таких нету, не смеете трогать божий лик! Не позволю!
Спасибо Василию Васильевичу, сообразил усадить ее обратно на сундук да еще пошутил при этом, заметив, что самогонный аппарат в лампадке спрятать немыслимо, а любоваться искусством старинных богомазов никому не возбраняется, в том числе и работникам милиции.
Зябко ощущая на спине колючие взгляды хозяев и понятых, Сергей Цаплин медленно приблизился к освещенной тусклым мерцанием иконе. Постоял, как бы и впрямь любуясь потемневшим изображением Николая Чудотворца, не торопясь начал снимать икону с крючка. И тут к его ногам шлепнулся завязанный в тряпицу тугой узелок.
Догадка оказалась правильной.
В узелке были червонцы. Те самые, хорошо знакомые Сергею Цаплину. Двести сорок пять купюр. И все десятирублевого достоинства, все новенькие, нетронуто хрустящие.
Пока пересчитывали толстую пачку и составляли акт изъятия, Николай Сергеевич Биткин успел прийти в себя. От подписи под актом он отказался наотрез.
— Не мои это деньги... Подписываться не стану...
— А чьи же они? — рассердился Епифанов. — Не валяйте дурака, гражданин Биткин, все равно это бесполезно...
— Подсунул их кто-то... Не мои это червонцы, знать ничего не знаю...
— Да кому же взбредет подсовывать этакую уйму денег? Вы что, Биткин, в своем уме? Или нас всех считаете идиотами?
— Не стану подписываться... Хошь режьте меня, хошь стреляйте — нету моего согласия...
Пререкания грозили принять затяжной характер, и Сергей Цаплин решительно их оборвал:
— Подписывать акт или отказываться — добрая воля гражданина Биткина. Хочет ставит подпись, хочет не ставит, для нас важен результат обыска. Собирайтесь, Николай Сергеевич, вы поедете с нами!
— За что забираете? Я ни в чем не виноват! — заскулил Биткин, а жена его, словно услышав боевую команду, начала причитать как по покойнику. Рвала на себе волосы, брякнулась с размаху на пол, завыла в голос.
Хотелось сказать этим бесстыжим людям что-нибудь злое, гневно обличительное. Хранят у себя фальшивые червонцы, прячут их в иконе и еще изображают святую невинность.
— Вы арестованы, — усталым голосом объявил Сергей Цаплин. — Вот ордер на ваш арест...
11
Допросы Биткина были тягучими, редкостно утомительными, и после них отчаянно разбаливалась голова.
Попробуй-ка часами продираться сквозь каменную стену вранья. Причем вранья глупейшего, безнадежно тупого, но повторяемого с неизменным упрямством фанатика. Непременно почувствуешь себя вконец опустошенным.
Сперва церковный активист решил держаться на голословном отрицании всего. Колотил себя в грудь, божился и клятвенно уверял следователя, что не ведает, как узелок с червонцами очутился у него в избе. Чудеса какие-то, прямо наваждение от лукавого. Обнаглел до такой степени, что пробовал даже строить намеки, будто подброшен тот узелок работниками милиции. Для чего — объяснить затруднялся, но факт, что подброшен.
Понадобилось вызвать из Старой Ладоги Клавдию Окуневу, дочку отсекра партячейки. На очной ставке она опознала в Биткине того самого разговорчивого дядьку, что дважды забегал к ней на почту менять свои фальшивые червонцы.
Опознал Биткина и торговец-лотошник Емельян Комаров по прозвищу Комарик. Рассердился, стыдил мошенника, требовал немедленного возмещения понесенных им убытков.
Эксперты дали заключение, что все двести сорок пять десятирублевок, обнаруженных при обыске у Биткина, являются поддельными.
Следующая порция биткинского вранья была нисколько не интереснее предыдущей.
После очных ставок Николай Сергеевич взялся доказывать, будто нашел сумку с деньгами в Ленинграде. Поехал в город по хозяйственным надобностям, заглянул за покупками на Сенную площадь, где торгуют в ларьках оконным стеклом, и вдруг привалило человеку шальное счастье.
Сумка эта валялась в грязи, затоптанная сотнями ног. Николай Биткин поднял ее и денежки в милицию не сдал, за что готов нести кару по всей строгости закона. Грех, понятное дело, великий, попутала его нечистая сила, и вину свою он осознает.
Про то, что денежки фальшивые, слышит впервые от следователя. Знал бы заранее, поостерегся бы их тратить. И не пришлось бы маяться в тюрьме за компанию с разным ворьем и жуликами. Ведь он, Николай Сергеевич Биткин, человек честнейшего образа жизни, под судом и следствием отродясь не состоял, у односельчан своих пользуется уважением.
— Позвольте, а в 1920 году разве не было у вас судимости?
— То, гражданин хороший, в счет не берется согласно советским законам. Амнистия тогда вышла всем, которые по несознательности и темноте своей хоронились в лесу, дезертирничали. Прощение, одним словом, от самого Президиума ВЦИК...
— Ну хорошо, допустим на минуту, что вы нашли сумку с деньгами. Зачем же было сочинять провокационные выдумки, будто фальшивые червонцы подкинуты вам милицией?
— Испугался, гражданин следователь, каюсь в том чистосердечно. Посудите сами. Среди ночи нагрянули ко мне с обыском, весь дом перерыли, всех соседей всполошили, тут кто хочешь заикаться начнет. Верьте мне, я правду говорю. Затем, видать, и подброшена была та сумка, пропади она пропадом, что денежки в ней ненастоящие... Замыслили втравить в историю безвинных людей, вот и кинули ее в грязь... Найдется, дескать, простодушный человек, подберет...
— Кто замыслил?
— Откуда же мне то знать, гражданин следователь? Человек я маленький, смирный, в аферы эти не лезу и лезть не хочу...
Примерно так выглядели допросы, и не было, казалось, удержу беспардонному вранью церковного активиста. Над Биткиным в конце концов не капало, выдумками своими и отговорками он сознательно затруднял расследование.
Нервничать и торопиться приходилось Сергею Цаплину. Где-то разгуливали на свободе непойманные фальшивомонетчики, а он день за днем выслушивал пустопорожнюю брехню Биткина, терял понапрасну драгоценное время.
На один из допросов зашел к нему в следственную комнату Эдуард Петрович Салынь. Посидел, по своему обыкновению, у окна, ни во что не вмешиваясь, внимательно слушал, оценивающе присматривался к говорливому церковному деятелю.
Уходя, Салынь подкинул молодому следователю толковый совет.
Не худо бы заинтересоваться дезертирскими похождениями этого обнаглевшего субъекта. Амнистия после окончания гражданской войны распространялась на лиц, уклонявшихся от службы в Красной Армии. Но среди дезертиров бывали и убийцы, и грабители, и злостные конокрады, причем кое-кому из этой публики удалось выкрутиться, избежать законного возмездия. Вполне допустимо, что и за Биткиным числится с той поры должок. Предъявить его к оплате было бы и справедливо, и очень полезно для следствия. Быстренько учует, что взялись за него основательно, и, смотришь, изберет другую линию поведения.
Салынь попал в точку. Дезертирское прошлое церковного деятеля на поверку оказалось весьма красноречиво рисующим истинный его облик.
Выяснилось, к примеру, что из запасного пехотного полка, квартировавшего в Гатчине, умудрился он сбежать ровно за неделю до осеннего наступления Юденича на Петроград: рассчитал время с математической точностью, не ошибся. Однополчане Николая Биткина выступили на защиту Петрограда, гибли в тяжелых кровопролитных боях с белогвардейцами, а он отсиживался в лесной землянке, спасал свою шкуру.
Вслед за тем стало известно, что шайка дезертиров, сколоченная им в глухих чащобах Заладожья, весьма усердно промышляла разбоем и конокрадством.
До зимы дезертиры обходились мелкими кражами в прибрежных деревнях — то мережи рыбачьи опустошат, лакомятся жареным на костре сигом, то уведут из стада ягненка. С наступлением холодов вольная житуха в землянках несколько осложнилась. Тогда шайка начала грабить в открытую, быстро превратившись в дерзкую банду налетчиков.
Должок за Биткиным насчитывался изрядный. Вооруженное нападение на кассира торфоразработок, дерзкие ограбления на дорогах, многочисленные художества с угоном лошадей.
Непонятно было, как смог он миновать скамьи подсудимых, но допросы свидетелей разъяснили и это обстоятельство. Грабители из биткинской шайки предпочитали бесчинствовать подальше от тех мест, где их знали в лицо. Дождавшись амнистии, они спокойно вернулись в свои деревни.
Очередной разговор в следственной камере начался издалека, с уточнения фактов и событий почти десятилетней давности.
— Помочь следствию вы упорно отказываетесь, — сказал Сергей Цаплин. — Не знаю, в чем тут загвоздка, по-видимому, есть у вас причина брать на себя всю ответственность. Дело это хозяйское, всякий живет своим умом. Давайте, Николай Сергеевич, поговорим сегодня на другую тему
— не о фальшивых деньгах, которые вы будто бы нашли на Сенной площади. Расскажите, пожалуйста, как вы дезертировали 5 октября 1919 года из Красной Армии и чем после этого были заняты?
Вопрос Биткину пришелся не по вкусу.
— Нечего мне рассказывать, — забормотал он, стараясь отделаться ничего не значащими, пустыми словами. — Был такой случай. Сбежал из полка, отпираться не буду. Боялся кровопролития и смертоубийства, как истинно верующий православный человек, не хотел попасть на фронт. Спасибо Советской власти, подвела под амнистию, простила мой грех...
— Нет уж, Николай Сергеевич, давайте не будем валить все на религию. Да и амнистия была гораздо позднее, а мне надобно знать, чем вы занимались в дезертирах. Вы и ваши друзья, с которыми скрывались тогда в лесу...
— Известно чем, гражданин следователь. В лесу обитали, хоронились подалее от людских глаз. Дезертирская житуха паршивая, голодная. Обовшивел весь, износился, на дикого зверя был похож по обличью.
— Не сочувствия ли ищете, Биткин? Сочувствовать дезертирским невзгодам я не имею желания. К тому же интересуют меня более конкретные вещи. Вот, допустим, 22 февраля 1920 года, километрах в пяти от станции Войбокало, среди бела дня было совершено ограбление кассира Никифорова, везшего жалованье рабочим торфоразработок. Бандиты отняли у него саквояж с деньгами, винтовку, увели казенную лошадь, а самого Никифорова, кстати, старого больного человека, связанного и раздетого до белья, обрекли на мучительную смерть, так как мороз в тот день был крепкий, двадцатипятиградусный. Не припоминаете ли подробностей этого происшествия, Николай Сергеевич?
«Конкретные вещи» еще менее понравились Биткину. Снова, в который уж раз, он заюлил, принялся уверять, что его путают с кем-то другим, что вышла ошибка. Лишь ознакомившись с обличающими показаниями своих приятелей по дезертирской банде, вынужден был поджать хвост.
— Быть может, желаете очную ставку? — осведомился Сергей Цаплин. — Это легко устроить. Прошло с той поры восемь лет, но вас-то, надеюсь, узнают. Как не узнать главаря банды? Кроме того, считаю полезным предупредить вас, Николай Сергеевич, что эпизод возле станции Войбокало далеко не единственный, который я собираюсь вменить вам в вину. Житуха в дезертирах, похоже, была не такой уж паршивой. Поразбойничали досыта, поиздевались над окрестным населением, а после амнистии взялись играть в благородных раскаявшихся граждан...
— Чего вы от меня хотите? — глухо спросил церковный активист.
— Немногого, Биткин, всего лишь правдивых показаний. Знакомы мы с вами больше недели, достаточно пригляделись друг к другу, пора бы и кончать с запирательством. Тем более что пользы от него ни на грош. Наоборот, как бы не получилось для вас во чужом пиру похмелье...
— Скажешь вам правду, а вы не поверите... На стрелочниках-то легче всего отыгрываться, стрелочник всегда виноват.
— Чистосердечное раскаянье никому не приносило ущерба. Только пользу. И то, что в этой истории имеются фигуры поважнее Николая Сергеевича Биткина, сомнений у меня не вызывает. Остановка, как видите, за правдивым вашим рассказом о происхождении фальшивых червонцев.
Но Биткин не торопился выкладывать свой рассказ. Мямлил, всячески уклонялся от прямых ответов, а затем ни с того ни с сего стал жаловаться на недомогание. С самого утра его лихорадит и голова точно не своя, чугунная. Неплохо бы устроить маленький перерыв, дать ему отдохнуть.
— Поразмыслить желаете? — догадался Сергей Цаплин. — Пожалуйста, думайте на здоровье. Хочу, однако, предостеречь. Не упустите срока, Николай Сергеевич, потому что ложка дорога к обеду...
«Недомогание» Биткина длилось всего несколько часов, закончившись вполне благополучным исцелением. К вечеру позвонили из тюрьмы и сообщили, что заключенный настаивает на встрече со своим следователем, так как решил дать важные показания.
— Скажите, уважаемый гражданин следователь, зачтется ли правда моя? — попробовал затеять торг церковный активист. — Обману не будет? Очень вас прошу, напишите в протокольчике, что раскаялся, мол, раб божий Биткин, от души все рассказал, без малейшей утайки... Ну и так далее, сами небось знаете, что надо писать в протокольчике...
— Зачем нам обманывать друг друга? Мы не в храме божьем, Николай Сергеевич, у нас тут учреждение серьезное...
— Тогда записывайте, что скажу. Червонцы те, дьявол их разорви, не мои вовсе. Дал их мне Федор Игнатьевич Федотов. Шурин мой, землячок, одним словом. Исполу ссудил, по-свойски...
— Как же так — исполу? На каких условиях?
— Пять рубликов ему, а пять мне. С каждой десятки. Условия-то ничего были, подходящие...
— Стало быть, Федотов предупредил вас, что червонцы эти фальшивые?
— Намек такой сделал. Дескать, поаккуратней с ними будь, на рожон не лезь. Прямо ничего не говорил, только намек сделал...
— И вы согласились?
— Соблазн был велик, гражданин следователь. Эх, кабы заранее знать, ни за что бы не полез в эту кашу!
12
Из Ориентировки за 25 октября 1928 года:
«По имеющимся данным установлено, что в полицай-президиуме города Данцига имелись доказательства причастности генерала Глазенапа и его сожительницы баронессы Фредерикс к распространению фальшивых червонцов на территории СССР. Указанным лицам была предоставлена возможность замести следы и скрыться. В настоящее время они в Кобурге, в резиденции быв. великого князя Кирилла Владимировича.
Согласно тем же источникам информации, нелегальное печатание поддельных советских дензнаков организовано белогвардейцами в Германии. Следует ждать засылки новых агентов, снабженных фальшивками.
В ближайшее время возможно появление быв. полковника Ивана Дмитриевича Покровского, сотрудничающего в Интеллидженс сервис с дореволюционного периода.
Покровский неоднократно переходил советскую границу, был замешан в известном заговоре Поля Дюкса (осень 1919 г.). Высокого роста, блондин, 38-40 лет, лицо худощавое, глаза карие, нос прямой, коротко подстриженные усы. Характера авантюристического, способен на крайние средства.
Полномочный представитель ОГПУ в ЛВО
С. Мессинг».
13
С дальнейшими оперативными мероприятиями торопиться не следовало.
Сергей Цаплин додумался до этого вполне самостоятельно, без подсказки старших товарищей. И более того, неожиданно для себя заслужил одобрение начальника КРО, заметившего с улыбкой, что котелок у практиканта варит неплохо и вероятность грубых ошибок по этой причине намного сокращается.
Больно уж занимательной и перспективной фигурой оказался шурин Николая Биткина. Прямо не родственник, исполу ссужающий ближних своих фальшивыми червонцами, а человек — вопросительный знак, человек — сплошная загадка.
Начать хотя бы с того, что Федор Игнатьевич Федотов работал не где-либо, а в судостроительной верфи.
Факт сам по себе настораживающий. Чекистам было известно, что корабли новой серии привлекают усиленное внимание многих секретных служб.
По специальности Федор Игнатьевич был плотником, а по складу характера — злостным летуном. Длительное время бегал с работы на работу, нигде не задерживаясь. Все гонялся за длинным рублем, выгадывал разные удобства и привилегии. Однако в строительной конторе на верфи против обыкновения своего застрял основательно. Второй год трудится, хотя ездить надо из конца в конец города, да и с заработком там не густо.
Еще более настораживающие открытия последовали, когда удалось разобраться с прошлым этого человека. Служил-то Федотов, как выяснилось, в драгунах, в том самом Финляндском полку, где подвизался и нынешний генерал Глазенап — совпадение само по себе весьма подозрительное.
Дальнейший поиск привел к новому сюрпризу. Федор Игнатьевич состоял, оказывается, в денщиках у тогдашнего командира эскадрона Петра Владимировича Глазенапа. И служакой, надо думать, был усердным, с холуйскими замашками, поскольку отбарабанил в этой должности всю империалистическую войну.
Совпадения такого свойства будоражат мысль следователя, вызывая всяческие ассоциации. Но есть у них и существенный изъян, — они редко выдерживают критический анализ.
С командиром эскадрона Федотов расстался давно, лет десять назад. Глазенап за эти годы стал генералом, влиятельной персоной белогвардейского лагеря, а бывший его денщик как-никак служил в Красной Армии, ранен на Восточном фронте. Ничего вроде бы общего между ними быть не может, слишком разные люди.
Судостроительную верфь Федотов мог облюбовать без всякого умысла. Понравился человеку коллектив, пришлась по душе работа, вот и застрял, покончив с летунством. Мало ли подобных фактов в окружающей действительности?
Всем бы был хорош этот критический анализ, если бы не история с фальшивыми червонцами. Оставалось невыясненным главное: откуда у плотника судоверфи поддельные деньги, как к нему попали, за какие услуги и одолжения?
Ответ на эти вопросы требовался незамедлительный. И получить его следовало путем внимательного изучения образа жизни Федора Игнатьевича, причем срок на такое изучение был очень коротким. Слухи об аресте церковного активиста наверняка дойдут до его шурина, и тогда он, естественно, замкнется, примет меры предосторожности.
Между тем в плотницком житье-бытье не было ничего заслуживающего внимания. Рано утром едет двумя трамваями на верфь, к вечеру возвращается в крохотную свою комнатенку, примыкающую к кухне, в густонаселенной коммунальной квартире. Сам смотается в лавочку за провизией, сам и щи себе варит холостяцкие на примусе, благо жена с детьми отправлена в деревню.
Невеселая одинокая житуха, когда неделя похожа на неделю, как родные сестры.
За покупки Федотов рассчитывался без обману, фальшивок в оборот не пускал. И вообще был достаточно осторожен. На люди без нужды не лезет, с соседями по квартире общается редко, лишь в самых неотложных случаях.
Столь же монотонно выглядела и служебная характеристика на Федора Игнатьевича. Работник квалифицированный, мастер золотые руки. От дела не бегает, но и особым усердием хвалиться нельзя. Прогулов и опозданий нет. Общественная жилка полностью отсутствует, по характеру своему сугубый индивидуалист.
Дальнейшее изучение казалось напрасной тратой сил. И тут, к немалой радости Сергея Цаплина, приоткрылась вдруг маленькая тайна бесцветной холостяцкой жизни. Приоткрылась и как бы осветила федотовскую натуру новым светом.
В один из вечеров Федор Игнатьевич, любивший домоседство и уединение, покинул свою прокуренную комнатенку. Соседке на кухне объявил, что вызвали срочно на работу, надо отстоять ночную смену по случаю экстренного заказа, но на верфь и не подумал ехать. Вместо верфи направился на извозчике в центр города, к Лиговскому проспекту.
Спустя полчаса Сергею Цаплину доложили по телефону, у кого в гостях интересующий его субъект. Заехал он к некоей развеселой девице Митрофановой, известной более под кличкой Маруська-Пистолет. Заехал с ночлегом, условился, видно, заранее. Обычно Маруська-Пистолет появлялась на Лиговке часов с шести вечера, вышагивала по своему привычному маршруту, а тут осталась дома, поджидала клиента.
Через час поступило новое сообщение.
Ночлег, похоже, отменялся. Маруська-Пистолет и ее кавалер вышли на улицу, прогулялись пешочком до Московского вокзала, наняли дорогого лихача и отправились на Петроградскую сторону.
Внешность девицы была обычной и удивления не вызывала. Накрашена, намалевана, в коротенькой своей беличьей шубке и с сумкой на плече.
Непохожим на самого себя сделался плотник Федотов. Взамен замасленной рабочей куртки и мятой кепочки на Федоре Игнатьевиче было добротное пальто-реглан из серого драпа, какие носят состоятельные нэпманы, богатая боярская шапка с бархатным верхом, новый костюм, лакированные туфли. Да и держался он этаким уверенным в себе фертом. Властным кивком головы подозвал лихача, на сиденье уселся важно, с сознанием собственного достоинства.
За Каменноостровским мостом, у подъезда ночного заведения «Приют Черной речки», парочка щедро рассчиталась с извозчиком.
Швейцар заведения радушно приветствовал их, как старых знакомых, а подбежавший распорядитель с любезными улыбочками и поклонами отвел в отдельный кабинет на втором этаже.
Кутеж в «Приюте Черной речки» длился до трех часов ночи. Дорогой кутеж, с купеческим размахом. Лилось рекой шампанское, захмелевшая Маруська-Пистолет танцевала танго со всеми желающими, баяниста и скрипача по-царски потчевал парниковой клубникой сам Федор Игнатьевич.
Наутро, ровно в полвосьмого, плотник Федотов явился на свое рабочее место. Опять в замасленной куртке, в надвинутой на лоб мятой кепочке. Ничто не напоминало в Федоре Игнатьевиче праздного, беззаботного гуляку, который допоздна швырял деньгами в ночном заведении за Каменноостровским мостом. Только мрачноват был с большого похмелья, работал зло, молча. В обеденный перерыв услугами столовой не воспользовался, одну за другой жадно выпил три кружки пива.
Водевиль с переодеванием задал Сергею Цаплину немало дополнительной мороки.
Владелец «Приюта Черной речки» охотно засвидетельствовал, что гость этот не впервые наведывается в его ресторанчик. Средствами, должно быть, не стеснен, мужчина щедрый, широкой души. Вероятно, из преуспевающих коммерсантиков или спекулянтов. Эти господа обычно стараются кутнуть в укромном тихом уголке, подальше от шумного центра и любопытствующих фининспекторов.
Деньги, потраченные Федотовым в «Приюте Черной речки», были настоящими, не фальшивыми, что говорило о должной предусмотрительности плотника.
С Маруськой-Пистолет по просьбе Сергея Цаплина связались работники угрозыска. Заглянули к веселой девице, найдя благовидный предлог, без особого труда обнаружили в шкафу дорогостоящие предметы мужского туалета.
Маруська-Пистолет, не смутившись, объяснила, что это вещи ее постоянного поклонника, за которого она намерена выйти замуж. Служит он где-то за городом, навещает ее изредка, примерно раз в неделю.
Мужик денежный, любит пустить пыль в глаза. Но безумно ревнив, требует от нее верности до гробовой доски.
На вопросы о занятиях своего кавалера Маруська-Пистолет дала путаные, сбивчивые ответы. Чувствовалось, что Федор Игнатьевич лишнего ничего не рассказывал, остерегался.
Следующее утро началось с новостей, оттеснивших на второй план ночные похождения Федотова.
В седьмом часу, когда он вышел из дому, направляясь на работу, к нему с плачем кинулась на грудь какая-то женщина. Судя по одежде, деревенская, приезжая, с убогим фанерным чемоданчиком.
Федор Игнатьевич был неприятно удивлен и встревожен ее внезапным появлением. Пошептался со своей гостьей на улице и повел ее к себе домой. На верфь в то утро не поехал, прогулял.
По телефону Сергею Цаплину сообщили приметы этой женщины, и он долго ломал голову, стараясь догадаться, чья жена нагрянула из деревни — самого Федора Игнатьевича либо церковного активиста Биткина. Впрочем, любой из этих вариантов требовал готовности к дальнейшему развороту событий.
Ровно в десять часов утра гостья плотника снова появилась на улице. Вела себя нервно, часто оглядывалась по сторонам, а в трамвайной сутолоке обеими руками уцепилась за фанерный свой чемоданчик, точно в нем были несметные сокровища. На Московском вокзале купила билет до станции Званка и после этого долго томилась в зале для транзитных пассажиров, пока не объявили посадку на вологодский поезд.
Минут через двадцать засекли на улице и самого плотника. Вновь переодевшегося, не в рабочей спецовке, с озабоченным хмурым лицом.
Быстро дошагав до трамвайной остановки, Федотов отправился на Выборгскую сторону. Проехав несколько остановок, вышел из трамвая, посидел в маленьком скверике, нетерпеливо посматривая на расположенный напротив завод.
Дождавшись перерыва на обед, стал прогуливаться у входа в контору заводоуправления. Кого-то явно высматривал среди выходящих служащих, хотя и напускал на себя безразличие случайного прохожего.
Интересующий его работник заводоуправления был моложе Федотова и годился ему, пожалуй, в сыновья. Несмотря на такую разницу в возрасте, Федор Игнатьевич обращался с ним почтительно, едва ли не вытягиваясь в струнку.
Разговаривали они мало, всего минуту, после чего конторщик вернулся в заводоуправление, а плотник поехал к себе домой.
На улицу Федотов вышел лишь затемно. К этому времени у Сергея Цаплина накопилась кое-какая информация о человеке из заводоуправления, с которым встречался плотник.
Конторщика звали Николаем Николаевичем Карташевым. Служил он в плановом отделе предприятия, работающего на нужды обороны, и, что особенно тревожило, в прошлом был офицером 20-го драгунского Финляндского полка.
Подпоручик военного производства из недоучившихся студентов столичного университета. Мелкопоместный дворянин Воронежской губернии. На заводе четвертый год, характеризуется положительно: дисциплинирован, исполнителен, в планово-экономических вопросах разбирается хорошо и дело свое знает.
— Цепочка-то мало-помалу разматывается, — удовлетворенно сказал Эдуард Петрович Салынь, выслушав доклад Сергея Цаплина. — Теперь держите этих субчиков покрепче, из виду не выпускайте. Должны они нынче встретиться, похоже на то. Сговариваться будут, следы попытаются заметать. Вполне вероятно, что и третий вот-вот возникнет на горизонте.
Встреча конторщика и плотника состоялась в тот же вечер.
Место для встречи было выбрано с хитрым умыслом — на набережной Невы, у Медного всадника. Будто ненароком столкнулись двое знакомых, обрадовались случаю, решили на ходу поговорить. Кругом все просматривается, подойти к ним нельзя. В общем, договаривайся, о чем хочешь, никто тебя не услышит.
Прав оказался Эдуард Петрович и насчет третьего. Просто не счел нужным информировать практиканта раньше срока, как того требуют непреложно суровые правила сохранения служебных секретов.
О третьем Сергею Цаплину сообщили поздно ночью. Подняли с постели телефонным звонком.
Это был плотный ширококостный мужчина лет тридцати пяти. В сером брезентовом дождевике, в испачканных грязью сапогах, в старенькой фуражке с зеленым землемерским околышем, загнанный какой-то с виду, чем-то напуганный. Продефилировал несколько раз мимо дома конторщика Карташева, все не решаясь войти в парадную. От встречных шарахался, на лестничной площадке перед дверью долго стоял, вслушивался в тихие ночные шорохи.
Впустил его в квартиру сам Карташев, конторщик с оборонного завода. Сразу после этого окна были зашторены.
Сергей Цаплин принял к сведению информацию своих товарищей, несущих бессонную вахту. Он еще не знал в ту пору, что третий этот доставит ему труднейшие дни и ночи, после которых даже вранье церковного активиста будет казаться сущей безделицей.
14
«Латвия, город Резекне, улица Лачплесиса, 31
Анне Александровне Зайцевой
Дорогая Анна Александровна! Вас, Олю и Жоржика горячо целую и по-родственному обнимаю, дай вам Бог доброго здоровья. Посылочку получила, премного за нее благодарна.
У нас жизнь идет по-прежнему, и Катенька еще не оправилась после болезни. Доктора находят у нее ТБЦ, как по-ученому называют чахотку.
Думаю и все не могу придумать, чем можно спасти бедную мою девочку. Молюсь за нее денно и нощно. И вас всех прошу об этом — молитесь за Катеньку, за ее здоровье.
О себе писать, право же, нечего, да и нет желания. От Викентия Викентьевича было коротенькое письмо из Смоленска, он шлет вам поклоны и низко кланяется.
Погода у нас отвратительная, все дожди и дожди. Скорей бы уж наступала зима с ее холодами и снежными сугробами. Пишите, родные, не забывайте меня надолго.
Ваша Соня».
15
Бесхитростную эту открытку опустил в почтовый ящик на углу Невского и улицы Марата коренастый плотный мужчина в сером дождевике с капюшоном. Похож он был то ли на лесничего, то ли на агронома из отдаленной местности, вздумавшего навестить город по служебным своим надобностям. И держался как слегка оробевший в большом городе провинциал — медлительно, осторожно.
Адресованная за рубеж Советского государства почтовая открытка могла привлечь к себе внимание. Однако никакой тайнописи в ней не содержалось, а отсутствие обратного адреса легко было объяснить рассеянностью, свойственной многим людям.
Из текста открытки практическое значение имели всего два слова — ТБЦ и Смоленск. Все остальное являлось лишь набором пустопорожних фраз, всецело зависящим от литературных способностей их автора.
Предрасположенность к ТБЦ, будто бы обнаруженную у бедной Катеньки докторами, следовало читать, как известие о благополучном исходе первого этапа операции — без осложнений с пограничной стражей, без пристроившегося за спину «хвоста». Ну а письмецо мифического Викентия Викентьевича, якобы прибывшее из Смоленска с поклонами и поцелуями, в свою очередь должно было толковаться, как намерение прежде всего ехать именно в этот город — в Смоленск.
Естественно, что и очень искушенный специалист по дешифровке оказывался бессильным перед этими загодя условленными сигналами.
Мужчина в сером дождевике, отправивший хитроумную почтовую открытку в город Резекне, не имел никакого касательства ни к лесничеству, ни к агрономической науке. Практиковался он в другой сфере человеческой деятельности — был профессиональным разведчиком, доверенным лицом генерала Глазенапа.
28 октября 1928 года, в ранний утренний час, сквозь плотную завесу тумана, нависшего над редколесьем и кустарником заболоченной низины, мужчина этот тайно перешел линию советской границы.
Переправу устроили ему молчаливые расторопные сотрудники пограничной комендатуры в Зилупе, и устроили, надо воздать им по заслугам, с блистательной латышской аккуратностью. Все у них было обдумано и заранее предусмотрено, так что риск казался совершенно ничтожным, сведенным до минимума.
Иди прямо, никуда не сворачивай с узкой тропки в болоте и постарайся быстрей оторваться от опасной зоны, где хозяйничают патрули пограничной стражи. Туман послан тебе самим господом богом. В пяти шагах ничего не видно, так что экономь каждую минуту столь благоприятно сложившихся условий.
Впрочем, риск, конечно, был. Мужчина в сером дождевике знал это по собственному опыту, потому что не впервые направлялся на территорию Советского Союза с секретными заданиями.
Тягостные провалы случались во все времена, даже в первые годы после гражданской войны, когда пограничная служба большевиков была слабой. Его самого чуть-чуть не изловили в ту пору, едва унес ноги. Риск, к сожалению, неизбежная изнанка подобных вояжей. И с этим положено считаться, ежели хочешь уцелеть.
К девяти часам утра туман начал рваться на клочья и впереди показались серые нахохленные от осенней сырости крестьянские дома.
У околицы деревни медленно и важно размахивал темными крыльями старый ветряк.
Это деревня Покровка, ошибки быть не могло. За короткий срок он успел уйти от границы на порядочное расстояние.
Что ж, неплохо для начала, совсем неплохо.
Свернув с дороги, мужчина в сером дождевике направился дальше по размокшему тяжелому жнивью. С трудом волоча ноги, достиг реденького подлеска, углубился в него и обогнул Покровку с северной стороны, избегая нежелательных встреч. Осторожность была его противоядием против всяческих случайностей.
В полдень он решил устроить коротенький привал.
Еще издали облюбовал большой стог сена, сметанный хозяином близ проселка, ловко вырыл себе нору, с удовольствием прилег на мягком пахучем ложе. Завтрак или обед, которым он подкреплял силы, изысканностью не отличался. Ломоть черного хлеба, кусок толстого, слегка розоватого шпика, посыпанного солью, несколько расчетливых глотков из висевшей за поясом плоской походной фляжки.
Радовала погода. Прямо заказная выдалась погодка, специально для него, для его безопасности. Весь день, то затихая ненадолго, то вновь усиливаясь, лил унылый осенний дождь.
Идти было тяжело, зато и встречные попадались редко. Лишь в сумерках пришлось соскочить с дороги и пропустить бегущий к границе военный грузовик.
В кузове грузовика, накрывшись хлопающими на ветру брезентовыми полотнищами, сидели красноармейцы. Молодые парни с винтовками, наверно очень сильные и бесстрашные. Глядеть на них, лежа в мокрых кустах, было невесело.
На ночлег он остановился в чьем-то заброшенном сарае, какие ставят обычно неподалеку от лесных покосов. Обошел его дважды, зорко присматриваясь, наметил путь отхода на случай тревоги. Костерок разжег малюсенький, с дороги неприметный, развесил над ним задубевший свой дождевик. Спал не раздеваясь, часто просыпался.
Еще день понадобился ему на оставшиеся до Пскова сорок километров. В город следовало войти с наступлением темноты, чтобы не болтаться без нужды на его улицах.
Ленинградский поезд отходил ровно в восемь тридцать. Если, понятно, не изменилось расписание.
Километров за семь до Пскова неожиданно подфартило. С раскисшего узенького проселка на шоссе выехал пароконный крытый фургон. Возница фургона, заметив одинокого путника, круто натянул вожжи.
— Садись, дядя, подвезу!
Первым желанием было выхватить браунинг. Подойдя ближе, он убедился, что продиктована эта мысль склонностью к истерии, а не здравым смыслом. Фургон нагружен какими-то чемоданами и тюками, ликвидировать одинокого возницу, да еще по соседству с городом, было бы ужасающей глупостью.
Спустя четверть часа он уже знал, что тюки и чемоданы принадлежат управляющему здешним совхозом товарищу Иванову, что товарища Иванова вызвали на совещание в Ленинград, да там и оставили, назначив директором треста. Вещички велено отправить багажом, малой скоростью, для каковой цели пришлось снарядить эту пароконную колымагу, потому как иначе теперь из совхоза выехать нельзя — дороги окончательно развезло.
Знал он и многое другое, столь же для него бесполезное, ибо возницу просто распирало от неудержимой словоохотливости.
Спросить, кого взял себе в попутчики, этому чудаку и в голову не пришло. Все рассказывал и рассказывал, самого себя перебивал, с увлечением живописуя ничтожные подробности совхозного бытия без управляющего.
И тут возникла довольно оригинальная идейка. Въезжать в город на громыхающей совхозной колымаге было, разумеется, и удобно, и безопасно. Но почему бы не воспользоваться этим даром небес еще полнее? Тогда не нужно будет лезть к билетной кассе, где возможны осложнения и неприятности. Входи в вагон с третьим звонком и спокойно езжай.
Миновав центр Пскова, освещенный с губернской склонностью блеснуть великолепием, свернули к вокзалу. Квартала за два он попросил остановить фургон. Небрежным тоном сказал, что должен зайти на полчасика к родственникам, а возницу просит, если, конечно, это не составит большого труда, купить ему билет до Ленинграда. Желательно плацкартный, с постельным бельем. В дороге хотелось бы по-человечески отдохнуть и выспаться. Завтра у него хлопотливый денек, придется вдоволь набегаться по учреждениям.
Возница с удовольствием взял деньги на билет, и, таким образом, было сделано великое дело. Тем более что рядышком светились окна какого-то питейного заведения. Можно, следовательно, перекусить и малость привести себя в порядок. И главное — нет нужды лезть на глаза вокзальным соглядатаям.
Накормили его быстро, дешево и вполне прилично. Заведение, судя по его посетителям, было третьесортным, с накрытыми грязной клеенкой столиками и изрядно заплеванными полами.
Возле высокой буфетной стойки ссорились подвыпившие мужики, с кухни тянуло запахом кислых щей и еще чего-то неописуемого, чем пахнут подобные заведения. Каждый здесь был занят самим собой, лучшего ничего и не требовалось.
С горячей ли пищи или от счастливого стечения обстоятельств, но настроение заметно подпрыгнуло. Все пока складывалось великолепнейшим образом. Полоса грозных опасностей, стерегущих обычно на границе, осталась позади.
Удача сопутствовала ему и в поезде.
Вагон был наполовину пуст. В купе домовито устраивался на ночь совсем еще молоденький парнишка. Студентик, должно быть. Вежливенький такой, услужливый, аккуратный и, к счастью, совсем нелюбопытный. Мигом сбегал к проводнику за недостающим полотенцем, дал ему почитать свежую псковскую газетку, где писали о скандальном судебном процессе над какой-то шайкой грабителей.
Недурно бы затеять разговор с этим студентиком. Порасспрашивать, подзапастись полезными сведениями. Известно, что вагонные собеседования располагают к откровенности, пренебрегать ими никогда не стоит.
Увы, сил больше не оставалось, неудержимо клонило в сон. Покрутив ради видимости газету и не дочитав статейку насчет изобличенных грабителей, он завалился на боковую.
Ленинград встретил их хмурым, низко нависшим небом. Хорошо хоть без дождя.
Студентик вежливо попрощался и сразу исчез в толпе встречающих. Торопился, наверно, к себе в общежитие или прямо на лекции.
В поезде удалось отдохнуть. Просыпался, конечно, по привычке, выходил в коридор, прислушивался, а после Луги его сморило, и он уснул, как в собственной постели. Настроение соответственно было бодрым, деятельным. Удача всегда подхлестывает, настраивая на оптимистический лад.
У Технологического института он вышел из трамвая и ходким шагом направился к Обводному каналу. Действовал уверенно и четко, будто сдавал экзамен по конспирации.
Вот подходящий двор, вроде бы проходной. Свернуть на минутку, испытать. В случае опасности подняться по лестнице, постучать в любую дверь в поисках несуществующих жильцов, заготовить извинения за вынужденное беспокойство.
Проверка полностью удалась.
Не тащил он за собой «хвоста», не привлек к своей персоне ничьего внимания и вообще был свободен, как вольная птица, ненароком залетевшая в чужой город. Временно залетевшая, всего на один денек. Впереди у нее другие края, более приятные.
Ленинграда он, признаться, терпеть не мог. И злился всегда, читая восторженные описания Северной Пальмиры, находил их искусственными и неправдивыми. Какая там к дьяволу Пальмира! Под ногами слякоть, вечные дожди, насморки, облупленная штукатурка на стенах домов.
Генерал как-то заметил с язвительной усмешкой, что сказывается его немецкая кровь. Дескать, тевтоны желали бы захлопнуть окно в Европу, прорубленное в давние времена волей царя Петра, да руки у них коротки, не получается. И так далее, в духе обычных шуточек господина Глазенапа.
Нет, объяснялась эта неприязнь не голосом крови. За что будешь любить город, в который надо являться крадучись, где караулит тебя миллион капканов? Не за что его любить.
Кроме того — он не хотел признаваться в этом даже самому себе, — тяготило предчувствие. Темное, бессознательное и оттого вдвойне неприятное ожидание беды, стерегущей его именно в этом городе на Неве. Возникнув однажды, предчувствие жило в его душе, и всякий раз он нервничал, спешил раньше срока выбраться из Ленинграда.
В это утро на душе было спокойно.
С волчьим аппетитом он позавтракал в ресторанчике на проспекте Нахимсона. Заказал поджарку по-московски, блины со сметаной и графинчик водки. На закуску подали соленые груздочки и отлично приготовленного судака в белом соусе.
Водку он допивать не стал, ограничив себя двумя маленькими рюмочками. С чаевыми решил не прибедняться, сунул официанту рублевку. Пусть знает, что и скромно одетые гости бывают при деньгах.
День у него был полностью свободным. Ни к кому из своих подотчетных лиц заходить он не будет. Зачем подставлять под удар славных драгун, миссия на этот раз другая.
Просто требуется убить как-то время до поезда в Москву. Скромно, разумеется, не привлекая к себе чьих-либо взоров. В кино, допустим, сходить на дневной сеанс либо в музей, хотя от экспонатов этих пыльных его всегда тошнит.
Денег, слава богу, хватало. Настоящих, во всех отношениях безопасных. Плотную пачку с червонцами он побережет до Смоленска, начинать не будет. Жалованьишко у корнета небось мизерное, каких-нибудь семьдесят целковых, а в пачке пятьсот десятирублевок, целое состояние по советским понятиям. Небось возрадуется корнет, начнет еще сдуру шиковать.
На Невском он купил у газетчика почтовую открытку и марку.
Послание Анне Александровне Зайцевой сочинял в фойе «Паризианы», дожидаясь первого дневного сеанса, который начинался в одиннадцать часов.
Писалось легко и почему-то усмешливо. По-всякому будут рассматривать его сочинение, а найти ничего не сумеют. Одни лишь горькие жалобы несчастной Сони. Вспомнился вдруг легкомысленный мотивчик, услышанный прошлой зимой в берлинском мюзик-холле: «Соня, ты мой ангел, Соня, ты злодейка...»
Скисло настроение в кино. Крутили откровенную пропагандистскую белиберду. Белогвардейцы изображены пьяницами и насильниками, комиссары сплошь благородные герои, вовремя приходящие на помощь жертвам кровавого террора. И в зале, увы, нескрываемое сочувствие благородным героям. Господа большевики весьма умело гнут свою линию, не считаться с этим фактом глупо.
Хотелось уйти. Подняться с кресла, демонстративно и сердито хлопнуть дверью. Невероятным усилием он приказал себе высидеть всю картину. Смотреть ее в конце концов необязательно. Закрой глаза, расслабься, можешь даже вздремнуть под бойкий аккомпанемент здешнего тапера.
После «Паризианы» дела у него складывались намного веселее и до отъезда в Москву все шло как по маслу. Взял извозчика, смотался на Васильевский остров, затем на Петроградскую сторону и в билетные кассы. Разъезжая по городу просто так, старательно изображал делового человека, занятого командировочными хлопотами. Актерствовать было приятно.
Отобедал он в ресторане Федорова, по соседству с роскошным Елисеевским магазином. Благополучно завершилась и покупка билета на десятичасовой московский поезд. Спальный вагон, нижняя полка, накрахмаленное постельное белье.
Ох уж эти спальные буржуйские вагоны! Надежнее бы ехать по-пролетарски, в сидячем, бесплацкартном, где набито народу как селедок в бочке и отсутствуют соблазны цивилизации. В таком курятнике волей-неволей держишь себя на взводе, не раскисаешь.
Случилось все после Малой Вишеры.
В полночь он вышел из своего купе, направился в туалет и вдруг услышал приглушенный разговор в купе у проводницы. Мужские голоса, властные и напористые, требовательно задавали вопросы, проводница тихо отвечала.
Говорили о пассажирах ее вагона, похоже было, что дали глянуть на какую-то фотографию. После томительной паузы проводница неуверенно сказала, что такого среди пассажиров ее спального вагона вроде бы не было. В первом купе едут военные, во втором... «А вы внимательней смотрите!» — велел нетерпеливый мужской голос, и опять наступила долгая пауза.
Понадобилось всего несколько считанных секунд, чтобы вернуться в свое купе за пиджаком и запереться в уборной. Окошко там открывалось с натугой, прыгать в него слишком опасно: почти наверняка свернешь себе шею. Еще опаснее выйти на площадку, — неизвестно, в какую сторону они вздумают двинуться. Остается стрелять первым. Иначе самого застрелят в сортире.
И тут он опять услышал голоса. За дверью уборной, в узеньком коридорчике.
«Значит, вы уверены, что до Москвы никто у вас не сходит?» — спросили проводницу, а та ответила, что билеты они просматривали, могли лично убедиться. Не сходит никто ни в Бологом, ни в Твери. После этого хлопнула дверь, и мужчины ушли.
Встряска была слишком сильной.
Он вернулся в купе, лег, снова вышел в уборную, стараясь побыстрей совладать с разыгравшимися нервами. Его несомненно ищут! Объяснение провалу найти трудно, но он взят в клещи чекистами, и теперь они идут по следу. В Москве на перроне устроят встречу, сомневаться в этом не приходится.
Где-то была допущена оплошность, и его взяли на прицел. В Ленинграде, конечно, в этом несчастливом городе с вечной слякотью и дождями. Обедал у Федорова, как загулявший купчик, раскатывал на извозчике... Идиот несчастный, тупица!
Впрочем, почему же в Ленинграде? Гораздо раньше, скорее всего, еще в пограничной полосе. А возница на пароконном фургоне, слишком услужливо выскочивший на дорогу? Разве случайно появился он на его пути со своей глупой болтовней, призванной ослабить внимание? А вежливый тихий студентик, довезший его до Ленинграда и сдавший с рук на руки? Боже милостивый, сколько идиотских ошибок допущено, как он был доверчив и глуп!
Всю ночь он бодрствовал.
Лежал на своей нижней полке, накрывшись с головой одеялом, лихорадочно обдумывал ситуацию. Выйти придется на какой-то из станций, другого ничего не остается. Исчезнуть из вагона по возможности незаметно, без шума, повернее оторвавшись от преследования. Ну и держать себя в железной узде самодисциплины. Не все еще загублено, остались кое-какие шансы выкрутиться с честью. Серого Волка ноги кормят. Ноги и сообразительная голова.
В Клину, за девяносто километров от Москвы, он расстался с уютом спального вагона. Вылез в окошко уборной и стремительно нырнул под стоящий на соседнем пути состав с порожняком.
Прыжок получился мягким, кошачьим. Смотритель с молоточком, проверявший вагонные буксы, даже не обернулся в его сторону.
До Москвы он добирался целый день. Менял пригородные поезда, соскакивал на ходу у семафоров и топал пешком, а на станции Сходня и вовсе отказался от услуг железнодорожного транспорта. Вышел на шоссе, дождался попутной машины с какими-то бочками, доехал за трешку.
«Хвоста» за ним не было — это точно. Самые опытные ищейки не смогли бы уследить за его неожиданными хитроумными зигзагами. И билет на Смоленск он раздобыл с помощью сердобольной маленькой старушенции, едущей погостить у замужней дочери. Ловко заговорил ей зубы, пожаловался на фронтовое ранение ноги, на нестерпимые боли, и старушка согласилась постоять в очереди.
Нервное напряжение несколько снизилось. Только зверски истязал голод. В шикарный вокзальный ресторан с хрустальными люстрами и белоснежными скатертями он не решился лезть. Хватит ленинградских излишеств, вполне достаточно. Поблагодарил старушенцию за услугу и вышел на вокзальную площадь.
Новая встряска обрушилась на него ровно через десять минут. Ужасная по своей дикой нелепости, чем-то схожая с кошмарным сном и тем не менее толкнувшая к новым безрассудствам.
Харчевня, которую он разыскал, была извозчичьей. Гоняли тут чаи с баранками, баловались иногда водочкой, а разносолов в меню не было и, судя по всему, не предвиделось. На первое жиденькие монастырские щи без мяса, на второе — отварная картошка с грибной подливкой.
Едва он взялся за свою миску со щами, как к нему, не очень твердо держась на ногах, приблизилась мрачноватая небритая личность. «Выдь, Коля, на улицу, поговорить надо», — прохрипела личность, обдав острейшими запахами стойкого перегара. «В чем, собственно, дело? — строго спросил он, всем своим существом предчувствуя беду. — Вы меня с кем-то путаете». На личность его строгая интонация не произвела ни малейшего впечатления. Наоборот, личность явно возвысила голос, ища сочувствия за соседними столами. «Ах, путаю, да? А кто Нюркину долю замотал? Не ты разве, гад? Отдай, говорю, добром! Я и милицию могу крикнуть, мне ничего не стоит!»
Посетители харчевни прислушивались к их объяснению с нескрываемым злым любопытством. Назревал скандал.
Изо всей силы толкнув личность в грудь, он бросился к входной двери, выскочил в переулок, коротким ударом в подбородок свалил какого-то мужчину, преградившего дорогу, и побежал в темноту. Вслед неслись возбужденные крики.
Позднее, чуть отдышавшись в говорливом многолюдье бесплацкартного вагона, он ругательски ругал себя за паникерство. Следовало откупиться, сунуть этому бродяге червонец, свести разговор к шутке. Наконец, выйти с ним на улицу, разделаться без нежелательных свидетелей.
Но тогда, отчаянно петляя во мраке московских тупичков, подворотен и глухих переулочков, он и не подумал об этих возможностях. Страх парализовал его неистощимую изобретательность, которой он так гордился в душе. Страх глупый, унизительный, опустошающий. Нервная система явно отказывала.
В Смоленск скорый поезд прибывал на рассвете. Сразу идти по адресу корнета вряд ли было разумно. Сперва требовалось кое-что разведать, прояснить слегка обстановочку. Адрес достаточно старый, никем, в сущности, не проверенный. Мало ли какие перемены случаются за столько лет. Особенно с офицерами, активно участвовавшими в борьбе против большевиков.
До полдесятого он обретался на местном привозе. С жадной торопливостью набросился на горячие пирожки у мордастой торговки, принудив себя остановиться на шестом, выпил бутылку вкуснейшего топленого молока, купил хороших папирос.
Крикливая базарная толпа действовала на него умиротворяюще, вчерашние передряги начали казаться не столь серьезными.
В десять открылся киоск горсправки. Воспользоваться его услугами было удобнее всего. Имя и отчество корнета он знает, а возраст назовет приблизительно.
Корнет был чуточку моложе его, стало быть, девяносто второго или девяносто третьего года рождения. Уроженец Смоленска. Из потомственных почетных граждан, сын купца первой гильдии. Правда, об этом говорить не следовало.
Девица в киоске что-то слишком медленно заполняла форменный бланк. Кокетливо улыбалась, дурища, делала глазки, прельстившись, наверно, его заросшей помятой физиономией. В заключение со вздохом сообщила, что телефона у нее пока не установлено и справка будет готова лишь к двенадцати часам, никак не раньше.
Улыбаться в ответ он не стал, только глянул на девицу со значением. Одаривать девиц такими взглядами всегда было его любимым занятием.
Дальнейшая потеря времени на базаре не вызывалась необходимостью. В парикмахерской на улице Карла Маркса он высидел все мыслимые и немыслимые процедуры. Устроился поближе к окну, скосив глаз, наблюдал за улицей. От массажа и горячих компрессов неудержимо клонило в дремоту.
После
парикмахерской долго гулял в безлюдном городском парке. Пробовал даже уснуть, забравшись в беседку над обрывом, но помешал свирепый, пронизывающий ветер.
Барышня из киоска встретила его сухо. Ни слова не сказав, выдала бумажку, из которой явствовало, что искомое лицо в городе Смоленске не числится и, следовательно, не жительствует. Вслед за тем барышня уткнулась в потрепанную книжонку, точно и не было утренних улыбочек.
Ему бы, дубине, оценить все надлежащим образом, сделать выводы. И внезапную сдержанность совслужащей, отнюдь не случайную. И истинное значение выданной ему бумажки. Оценить бы, не лезть на рожон, а бежать что есть духу, благо еще не пойман...
Все последующее было ужасно.
Не поверив официальной справке, он отправился разыскивать корнета. В чужом городе, среди подозрительно настроенных советских граждан. Расспрашивал каких-то женщин в очереди у магазина, ходил из адреса в адрес, все еще надеясь на информацию всеведущего генерала Глазенапа. Громко называл фамилию человека, ставшего у всех жителей города притчей во языцех. Короче говоря, вел себя несмышленышем, собственноручно копал свою могилу.
Старичок этот был, по-видимому, из «лишенцев», что в Советском Союзе означает лишение избирательных прав для определенной категории населения. В перелицованном из чиновничьей шинели потертом пальтишке, в черной широкополой шляпе. Осторожен, пуглив, каждую фразу процеживает сквозь зубы.
Выслушав его, старичок спросил, для какой цели понадобился приезжему товарищу бывший корнет бывшего драгунского полка, делая едва заметное ударение на слове «бывший». И не дождался конца загодя приготовленной версии. Перебил его рассказ звенящим предостерегающим шепотом: «Расстрелян он, царство ему небесное. За шпионаж шлепнули, еще нынешней весной, по приговору Трибунала. И тебя, голубчика, мигом поставят к стенке, ежели сумеют схватить».
Вот так он нарвался на ловушку по собственной непроходимой глупости.
Возвращение в Ленинград напоминало сумасшедшую гонку, какие показывают в кинобоевиках. На грязных платформах с углем, в тамбурах пассажирских поездов, пешедралом вдоль линии. Без сна, без пищи, в состоянии, близком к психическому расстройству, когда опасность многократно преувеличивается. Недаром ведь сказано, что у страха глаза велики.
На берегах Невы по-прежнему лил нескончаемый осенний дождь.
Физические свои возможности он полностью исчерпал. Ему нужна была передышка. Малюсенькая, хотя бы на несколько считанных часов, но передышка, отдых.
Подпоручик, конечно, задрожит, увидев опасного гостя, — своя шкура для него дороже всех сокровищ вселенной. Недоволен будет и генерал, если узнает о грубом нарушении инструкции.
Черт с ними, пусть сердятся, пусть дрожат. Передышка требуется ему, как глоток воздуха. Надо отоспаться в тепле, отмыться, поесть по-человечески, сменить наконец шкуру. И двигать обратно, поскорей обратно, в благополучие, в безопасность.
Сделав еще несколько петель у нужного ему дома, человек в сером дождевике решился наконец войти. Поднялся по лестнице, постоял на площадке, нажал кнопку звонка.
Цепочка замкнулась.
16
Эдуард Петрович Салынь смеялся заразительно весело, совсем по-мальчишески. Откинет назад голову, зажмурит от удовольствия глаза и заливается смехом, повторяя полюбившееся меткое словцо или анекдот.
Правда, случалось это не часто, главным образом в редкие минуты отдыха, на шумных товарищеских застолицах, где сами собой возникали состязания в остроумии и находчивости.
Доклад о дорожных злоключениях человека в сером дождевике не вызвал у Эдуарда Петровича и мимолетной улыбки. Чувствовалось, что начальник КРО размышляет о чем-то более важном и насущном, нежели комические детали путешествия струхнувшего агента.
— Брать придется всех разом, — сказал Эдуард Петрович. — Плотника Федотова можно сегодня, а этих двоих завтра с утра. И непременно в особицу, чтобы не дать им возможности сговориться. Торчать у офицерика он не захочет, постарается улизнуть пораньше. Вот тогда и брать его...
— На улице?
— Ничего не поделаешь, будем брать на улице...
Сергея Цаплина начальник КРО попросил задержаться в кабинете. Глянул на него вроде бы испытующе и объявил, что работой практиканта доволен, что крепко надеется на успех. Еще сказал, что и церковный активист Биткин, и плотник Федотов, имеющий склонность к кутежам в обществе веселой девицы, и бывший подпоручик, окопавшийся на оборонном заводе, кажутся ему второстепенными исполнителями.
Наиболее значительный фигурант во всей этой авантюре беляков — зарубежный гость. Поэтому и ключи к ее загадкам надобно добывать у него, причем на легкие решения не надеяться. Господинчик, по всему видно, стреляный, многократно бывавший в переплетах, а кое-какие оплошности, допущенные им в Москве и Смоленске, лишь результат неблагоприятно сложившихся для него условий игры, осечка нервной системы. Очухается за ночь, соберется с мыслями и затвердеет накрепко. Крутить начнет по-всякому, сбивать с толку.
Все сложилось именно так, как говорил Салынь.
Арестовали этого господинчика близ Охтинского моста, на трамвайной остановке. Серого дождевика и фуражки с зеленым землемерским околышем на нем не было. Не осталось следа и от вчерашней загнанности. Самоуверенный, чистенький, гладко выбрит, даже благоухает одеколончиком. Пальтишко, правда, длинновато, явно с чужого плеча. В ботинках с галошами, в новом костюме, с зонтиком на случай дождливой ленинградской погоды. В общем, выглядит, как обычный служащий какого-нибудь треста, ожидающий своего трамвая, не подкопаешься к его внешнему виду.
За подпоручиком Карташевым поехали другие товарищи, а Сергею Цаплину начальник КРО приказал участвовать в уличной операции. С педагогическими, наверно, целями, потому что арест вооруженного белогвардейца на улице совсем не пустячное предприятие. Чуть ошибись, чуть замешкайся, и запросто могут пострадать ни в чем не повинные прохожие.
Рассчитали эту операцию с математической точностью. Навалились дружно, вытащили браунинг из кармана, быстренько впихнули в подъехавшую машину. Едва успел чертыхнуться да в бессильной ярости скрежетал зубами, пока везли на Гороховую. Личное знакомство с зарубежным гостем Сергей Цаплин решил отсрочить.
При обыске не было найдено никаких документов и это, признаться, обескураживало. Элементарной «липы» и той нет, только оружие и пачка фальшивых червонцев. Ровно пятьсот десятирублевых бумажек серии НН, новенькие, не бывавшие в употреблении. И к браунингу две запасные обоймы с патронами. Прочее все было ничтожными мелочишками личного обихода — серебряное кольцо с затейливой монограммой, расческа, носовой платок, коробок спичек, лезвие безопасной бритвы, начатая коробка папирос «Зефир». Ничего не спрятано и в одежде, осматривали ее тщательно.
До позднего вечера Сергей Цаплин проканителился с бывшим подпоручиком Карташевым.
Этого требовалось еще и успокаивать, настолько выбился из колеи. Повторяет без конца, что ни в чем не виноват, что добросовестно работает в конторе заводоуправления, плачет, сморкается, умоляет отпустить домой к болезненной супруге.
С Федором Игнатьевичем, сослуживцем, будто бы встретился случайно, на невской набережной, а про свидание у заводских ворот умалчивает. О фальшивых червонцах будто бы слыхал разговоры среди обывателей, сам их отродясь не видывал.
Насчет зарубежного визитера Карташев пробовал отрицать все начисто: дескать, не знаю такого, не встречал. Но долго продержаться в этой позиции было затруднительно, и тогда, обливаясь слезами, подпоручик кое-что рассказал.
Действительно, месяца полтора тому назад, в сентябре, к нему на квартиру явился человек, спасший когда-то юного подпоручика от неминуемой гибели. Ни имени, ни фамилии этого человека он, к сожалению своему, не знает.
— Вы что же, намерены сказочки сочинять? — сердито спросил Сергей Цаплин. — Он вас от смерти спас, и вы его не знаете?
— Поверьте мне, гражданин следователь, я говорю правду! В самом деле не знаю фамилии, не успел выяснить...
Ранней весной 1916 года, когда свежеиспеченный молодой офицерик Карташев прибыл на фронт, в драгунском полку формировался партизанский отряд. Из охотников-добровольцев, желающих участвовать в лихих набегах на немецкие тылы, под командованием штабс-ротмистра Петра Глазенапа.
Был Карташев в ту пору юношей пылким, видел себя во сне с Георгиевскими крестами на груди и тотчас изъявил согласие стать охотником.
В первой же ночной вылазке ему не посчастливилось. Отряд наскочил на немецкую засаду, коня под ним убило, а сам он остался лежать в вонючей трясине с перебитыми пулеметной очередью ногами. Беспомощный, истекающий кровью, утративший всякую надежду на спасение. Одним словом, жертва собственного легкомыслия.
Вытащил его из болота какой-то офицер их полка, версты две нес на спине.
Фамилию своего спасителя он узнать не успел, так как был направлен в госпиталь и в драгунский полк больше не попал. Пытался узнавать, много раз писал однополчанам, но толку не было.
Спаситель сам разыскал его спустя двенадцать лет. Пришел к нему однажды вечером, напомнил ту историю, бесцеремонно напросился на ночлег. И вообще был человеком со многими странностями. О себе рассказывал мало, даже фамилию не назвал. Зови, дескать, Сашей, вполне этого достаточно.
Сперва говорил, будто работает на паровой мельнице возле Пскова, а в Ленинград приехал за запасными частями для двигателя, но позже, после основательной выпивки, сознался, что нелегально перешел советскую границу. У него специальные задания из-за кордона, он активный борец против большевистской диктатуры. Осведомлен, к примеру, о службе Карташева на военном заводе и рассчитывает иметь от него некоторую информацию.
Как честный советский гражданин, Карташев, конечно, отказался наотрез. Сказал своему гостю, что благодарен за дружескую боевую выручку, что вечно будет о ней помнить, но в шпионские махинации ввязываться не имеет желания. Что было когда-то, то быльем поросло, и старого назад не воротишь. В России нынче рабоче-крестьянская власть, народу она пришлась по вкусу, и служить ей надо верой и правдой.
В тот вечер они поссорились, сгоряча наговорили друг другу обидных дерзостей. В конце концов было условлено, что Саша воздержится от посещений его квартиры и вообще оставит его в покое.
Уговор был серьезный, поэтому вчерашний поздний визит Саши является нарушением честного офицерского слова. «В последний раз, отныне ты меня не увидишь», — сказал Саша, попросив на прощание выручить одеждой — собственная его одежда пришла в негодность.
Таков вкратце был рассказ Карташева. Разобраться в нем, постепенно отделить правду от лжи, заполнить пропуски и намеренные умолчания предстояло на следующих допросах.
— Занятно у вас получается, подпоручик, — сказал Сергей Цаплин, заключая первый их разговор. — Вы дали приют вооруженному агенту иностранной разведки и хотели бы при этом изобразить себя этаким невинным ягненком. Трудноватая, признаться, задачка, вряд ли вам поверят...
— Но я собирался донести властям, гражданин следователь. Во мне боролись чувства долга и порядочности. Все же он спас мне жизнь, с этим нельзя не считаться, и я никак не мог решить...
— Ну что ж, решайте теперь. Разберитесь в собственных чувствах, трезво оцените свои поступки. Хочу, кстати, предупредить, что вранье сослужит вам плохую службу, когда дойдет дело до суда...
— Я говорил одну лишь правду, гражданин следователь!
— И привирали при этом...
Отправив Карташева в камеру, Сергей Цаплин устроил себе маленькую передышку. Спустился в буфет, выпил горячего чаю, с удовольствием пробежался по безлюдному в поздний час Адмиралтейскому проспекту.
Еще допрашивая подпоручика, он ловил себя на том, что все время думает о предстоящем нелегком разговоре. Как его лучше построить, этот разговор? Предупреждение начальника КРО было не случайным — от первой встречи многое зависит. Надо ошеломить его с самого начала. Пусть не воображает о себе чрезмерно. И иллюзий пусть не строит. Песенка его спета.
Внешность этого субъекта целиком совпадала с приметами, сообщенными в Ориентировке. Среднего росточка, широкоплечий, плотный, волосы русые, уши маленькие, немного приплюснутые, как у боксера. Вот только глаза не просто серые, а какие-то острые, пронзительные, ястребиные.
Держится спокойно, без робости и заискивающих улыбок. Успел, видно, обдумать линию поведения, изготовился.
— Садитесь, Эдуард Алексеевич, — любезно пригласил Сергей Цаплин. — И давайте знакомиться, беседы нас ждут длительные...
В ястребиных глазах не отразилось ровным счетом ничего — ни удивления, ни испуга.
— Я не Эдуард Алексеевич и никогда таковым не был. Меня, по-видимому, принимают здесь за кого-то другого, произошла, по-видимому, ошибка. Этим, надо думать, объясняется и мой арест...
— Вот как! Это становится интригующим. Значит, вы не Дернов, не Эдуард Алексеевич? Кто же вы в таком случае? Быть может, Попов или Георгий Георгиевич Дорн? Кличек и фамилий у вас, кажется, было вполне достаточно...
Немедленно последовал ответный ход, причем с явным желанием перехватить инициативу.
— Во всем цивилизованном мире принято считать, что арестованный не обязан представляться своему следователю. Так же, впрочем, как и доказывать свою невиновность. В ГПУ, разумеется, иные правила... Хватают человека на трамвайной остановке, грубо вталкивают в машину, везут в тюрьму...
— Ого, да вы изволили рассердиться на ГПУ! — Сергей Цаплин не скрывал иронии. — Согласен, обошлись с вами не совсем учтиво. Однако и вы вели себя не лучшим образом. Судите сами, тайком переходите нашу государственную границу, мотаетесь из поезда в поезд, из города в город, да еще с браунингом за пазухой, с фальшивыми советскими червонцами. Вряд ли при таком образе действий можно рассчитывать на любезности со стороны представителей власти...
Большего пока говорить не следовало. Пусть чувствует, что известно о нем многое, что с фокусами номер не пройдет.
— Итак, займемся формальностями. Эдуардом Дерновым вы называться не желаете, документов, удостоверяющих личность, обнаружено не было. Выходит, считать вас лицом безымянным?
— Зачем же? У меня есть и имя, и фамилия.
— Прекрасно! Стало быть, назовите себя, и не будем напрасно терять время.
— Фамилия моя Гринберг, зовут меня Александром Карловичем. Признаю чистосердечно, советскую границу я перешел на свой страх и риск, за что готов нести ответственность. Хотел бы при этом заметить, гражданин следователь, что выбора у меня не было. Либо пойти в обход существующих законов, либо навеки отказаться от возможности увидеть самое дорогое для меня существо. Каюсь, устоять перед искушением не сумел...
История, которую терпеливо выслушал и записал в протокол Сергей Цаплин, имела ярко выраженную романтическую окраску.
С несчастной любовью, с многолетней тягостной разлукой, с письмами, отправленными через третьи руки, и всеми другими признаками жанра. Если бы не знать, кто ее рассказывает, эту историю, невольно поддался бы сочувственному настроению.
В протоколе допроса она заняла несколько страниц, а в кратком изложении выглядела примерно так.
Александр Карлович Гринберг, как и тысячи других бывших русских офицеров, лишенный родной почвы эмигрант. Имел глупость участвовать в битвах гражданской войны на юге России, эвакуировался с разбитым войском барона Врангеля. Досыта хватил нужды и всяческих лишений, как материальных, так и нравственных, голодал, холодал, но в последние годы материальное положение несколько улучшилось.
Жительствует постоянно в городе Данциге, служит в крупной коммерческой фирме, занятой экспортом сельскохозяйственных машин.
Ему уже тридцать восьмой год, молодость давно позади, и до сих пор он одинок. Невеста осталась в России. Лет пять он не имел о ней никаких известий, а затем случайно выяснил, что она в Смоленске, что любит его по-прежнему, что с нетерпением ждет.
Сообщил обо всем этом сослуживец. С помощью сослуживца, кстати, шла и переписка.
Перейдя линию советской границы по тропинке, указанной контрабандистами, он добрался до Пскова без приключений. На псковском вокзале, при покупке билета, ему почудилось, что за ним установлено наблюдение. Этим, собственно, и объясняются некоторые странности его маршрута, на которые изволил намекнуть следователь, сказав, что он мотался с поезда на поезд.
В Смоленске, увы, караулило жестокое разочарование. Невесты своей он не нашел, так как точный адрес был неизвестен.
Вдобавок ему сообщили, что сослуживец, оказывается, успел переехать на жительство в далекую Сибирь. Так что вышла полная неудача: ни единого знакомого во всем городе, даже поговорить не с кем.
С гражданином Карташевым знакомство у него шапочное, случайное. Обратился к нему потому, что не видел иного выхода. Вынужден был просить убежища на ночь, исчерпал все свои физические силы.
Нет, с бывшим генералом Глазенапом не имеет чести быть знакомым. Осведомлен, что живет он в Данциге, читал в газетах об эмигрантских собраниях, на которых Глазенап выступает с речами, а лично встретиться случая не представилось. Политика, сказать по совести, вне сферы его жизненных интересов. И без нее у каждого хватает забот.
Относительно того, что червонцы поддельны, он впервые услышал от следователя. Выходит, его обманули бессовестные рижские спекулянты с черной биржи. Собираясь в свой рискованный вояж, он снял с банковского счета все сбережения. Знающие люди посоветовали обменять их на советские деньги, вот он и послушался, обменял.
Оружие всегда при нем, это у него в крови. В Советском Союзе и тем паче хотелось чувствовать себя независимым от капризов фортуны.
Откровенно говоря, он твердо решил пустить себе пулю в лоб, живым в руки чекистов не даваться. К несчастью, сцапали его с удивительным проворством, пальцем не успел шевельнуть.
Сергей Цаплин слушал молча, не переспрашивая. Записывал все в протокол и отношения своего к наспех сочиненной легенде никак не выражал. Не стал придираться к бросающимся в глаза несуразностям, не ловил и на очевидных противоречиях.
Лишь в конце допроса, дав расписаться под каждой страничкой протокола, заметил как бы к слову:
— А тренировались вы маловато, Александр Карлович...
— О чем вы, гражданин следователь? О какой тренировке?
— Подпись у вас чересчур старательная, — сказал Сергей Цаплин с озабоченным выражением лица. — На ученическое чистописание смахивает. Надо было хорошенько потренироваться... Времени у вас было достаточно, никто вас не подгонял, можно было набить руку...
Ястребиные глаза на какой-то миг дрогнули, что-то в них мелькнуло, смахивающее на растерянность, и это было, пожалуй, самым ощутимым результатом их первой встречи.
17
Сбылось! В Ленинграде как раз все и сбылось, в Ленинграде!
Жалкие обыватели, склонные к мистицизму и суевериям, смешили его, ни в бога, ни в дьявола он сроду не верил, но смутное предчувствие всегда томило душу. Так уж устроен человек, ничего тут не поделаешь. Еще с осени 1922 года, с молодеческой пробы сил, которую затеял он, отправившись в рискованное путешествие по Совдепии, — целых шесть лет томило, не успокаивалось.
Удивительная, просто неслыханная удача сопутствовала ему в той осенней поездке. В Москве жил с месяц, почти легально, в открытую, обнахалившись настолько, что прогуливался под окнами серого дома на Лубянке, на Кавказе побывал, в городах Поволжья. Только на невских берегах чувствовал себя отвратительно. Нервничал без всякой видимой причины, делал непростительные глупейшие ошибки, стремился любой ценой поскорее смотать удочки.
Не зря, видно, толкуют о таинственных, необъяснимых феноменах человеческой психики. Смеяться над ними грешно, их надо учитывать, потому что лбом стенку прошибить нельзя! К нему-то, увы, это не имеет теперь отношения. Ему теперь поздно что-либо учитывать — самое худшее свершилось.
Катастрофа в ночные часы, когда он рыскал по Ленинграду наподобие затравленного, обезумевшего зверя, выглядела бы, наверно, заслуженной расплатой за утрату равновесия. Поделом вору и му́ка — управляй своими нервами, держи себя на боевом взводе, ни в коем случае не раскисай
Однако чекисты предпочли для ареста утро. Будто в издевку оставили ему несколько шансов, дали возможность малость отоспаться у Карташева и привести себя в порядок.
Впрочем, на бесчеловечные издевки они времени тратить не захотят. Товарищи это деловые, строгие рационалисты и прагматики. Им нужна была его явочная квартира, его ленинградские связи, рвать они любят с корнем, подчистую. Теперь-то, конечно, схвачен и подпоручик, отвертеться ему не позволят. Выявили явку и нанесли свой удар.
Первые минуты после катастрофы сравнишь разве что с сокрушительным нокаутом на ринге. Тут и страх, и пронзительная боль, и запоздалая бессильная ярость, всего намешано понемножку, разобраться в своих ощущениях нельзя, а неумолимый строгий рефери отсчитывает секунды, и с последним взмахом его руки тебе окончательная крышка.
Сосредоточиться необыкновенно тяжело, мысли скачут наподобие голодных взбесившихся блох. Много ведь раз думал о возможном провале, загодя планировал всяческие способы и варианты защиты. Обязан, казалось бы, вести себя с должным благоразумием. Не теряться, не впадать в истерику.
И все же срываешься на глупейшие выходки. По-мальчишески дерзишь тюремщикам во время обыска, требуешь для какого-то дьявола предъявления ордера на арест. Будто от паршивой этой бумажки с печатью сделается тебе легче.
В конечном счете все решает одно-единственное обстоятельство: что известно о нем на Гороховой. Если провал случаен, если взяли за нарушение границы, не все потеряно, есть еще надежда.
От червонцев он категорически открестился. За оружие ему, ясное дело, должны припаять лишний годик или два, с этим положено смириться. Причину своего вояжа он придумал достаточно вескую. Теперь надо жать на человеколюбие, на гуманные чувства и злосчастную свою долю, благо корнет, слава всевышнему, расстрелян и проверить им будет затруднительно.
Хуже, если информация у них основательная, если знают о генерале, о мюнхенской типографии и всем прочем. Тогда перспектива попросту говоря безнадежна. Тянуть он будет изо всех сил, поторгуется с костлявой старухой смертью, выгадывая неделю за неделей, а концовка более или менее очевидна: поставят его к стенке, спишут в расход.
Следователь внушил ему смешанное чувство надежды и тревоги. В меру вежлив, не очень-то, видно, искушен в хитростях допроса с ловушками, из молоденьких, из начинающих волкодавов.
С ходу попытался его ошарашить, назвав Эдуардом Алексеевичем Дерновым. Цели своей не достиг, но и не смутился, даже глазом не моргнул. Черт его разберет, блеф это обычный или попытка изловить его на мнимой неудаче, какие бывают и у опытных мастеров.
В Дерновых он когда-то хаживал, было такое, да быльем поросло. Нельзя никак пришить ему и Георгия Георгиевича Дорна, свирепого контрразведчика в штабе Юденича. Наведут соответствующие справки и получат ответ, что означенный Георгий Георгиевич Дорн, бывший штабс-капитан и георгиевский кавалер, нанялся к французам в иностранный легион, усмиряет чернокожих где-то в Марокко.
Любовную его новеллу следователь проглотил без возражений. Записывал все в протокол, изредка переспрашивал, к подробностям был равнодушен. Не спросил даже, как зовут его возлюбленную, хотя должен бы заинтересоваться.
Под занавес ни с того ни с сего намекнул, что ни единому его слову веры нет. Подпись, оказывается, ученическая, недостаточно, мол, тренировались. Вот и пойми его, что он за фрукт, этот следователь. По виду вроде бы неопытный новичок, звезд с неба не хватает, но ежели ставил задачей взвинтить ему нервы, то великолепно в этом преуспел.
Все было плохо, как ни прикидывай.
Сиди в одиночной камере, гадай, старайся додуматься, с какого конца хотят тебя разматывать, и все равно додуматься не сумеешь. Игра-то идет не на равных, игра идет втемную.
А первопричиной катастрофы явилась, конечно, проклятая генеральская самоуверенность. Надо же дойти до такого кретинизма, чтобы отправить его на поиски человека, который расстрелян еще полгода назад! «Езжайте, голубчик, в Смоленск, корнета я лично знаю. Это отличный боевой офицер, очень нам пригодится». Вот и съездил на свою погибель, вот и доверился хваленой генеральской интуиции, которой так любит хвастаться Петр Владимирович.
Глухое раздражение против Глазенапа мешало сосредоточиться. Он гнал его прочь, сознавая, что нет никакой пользы искать виновника провала, и не мог ничего с собой поделать. Воображение невольно рисовало картины безмятежной генеральской жизни в Кобурге, в резиденции императора и императрицы, в полнейшей безопасности.
Устроился небось Петр Владимирович с комфортом, об этом сей гусь никогда не забывает, ни при каких обстоятельствах. С утра у него визиты к влиятельным особам, деловые совещания, встречи, затем программа неофициальная, окутанная, как обычно, таинственной многозначительностью. Вечера, конечно, проводит за ломберным столиком или в постели какой-нибудь модной потаскушки, благо к косоглазой своей баронессе давно успел охладеть.
Узнав о провале в Ленинграде, его превосходительство тяжко вздохнет, сделает скорбное лицо, как бы призывая небо в свидетели великой его печали. И спустя недельку-другую... забудет обо всем, вычеркнет начисто из памяти. Ему не впервой забывать своих соратников в беде. Забывать и даже публично охаивать их имена, обвиняя в трусости, в пренебрежении его советами, чуть ли не в измене. Сам-то трус первостатейный, всем это известно, а выходит всегда сухим из воды.
Раздражение против Глазенапа внезапно выхлестнулось в лютую злобу, стало трудно дышать.
Почему, собственно, должен он гибнуть в застенках Чека, когда другие будут пользоваться всеми благами жизни? Во имя чего, ради каких высоких идеалов? Памятника все равно не поставят, в святые не произведут, даже доброго слова не скажут. Просто вычеркнут из списка живущих — и кончен бал. И больше ничего не будет.
В таком разе и он сумеет хлопнуть дверью на прощание. Эффектно хлопнуть, со звоном. За правду о генерале Глазенапе, за тайну мюнхенской типографии, где фабрикуются советские червонцы, за берлинские адреса и явки чекисты дорого дадут.
И многое другое, крайне интересное для большевистской разведки, способен он рассказать на следствии. Не даром, разумеется, не из любви к диктатуре пролетариата. В обмен на жизнь. Другие условия его не интересуют, только в обмен на жизнь.
Рассказывать он будет постепенно, торопиться его не заставят. Мало ли что, вдруг улыбнется фортуна, и тогда главное он оставит при себе, чтобы иметь право вернуться с гордо поднятой головой. Пусть дадут ему гарантию, вот что важнее всего, твердую, надежную гарантию.
Мальчишка-следователь для решительного объяснения не годится. Когда дойдет дело до сдачи позиций, надо требовать свидания с самим Мессингом. Про него рассказывают, что он соратник и ученик Дзержинского, был когда-то председателем Московской Чека. Тем лучше, значит, умный человек, а с умным человеком скорей найдешь общий язык.
На худой конец он будет вести переговоры с начальником здешней контрразведки. Вопрос поставит на попа, без лишних слов, — вы мне сохраняете жизнь, а я выкладываю немало ценнейших для вас сведений. Выгода при этом обоюдная, никто в накладе не остается, все довольны. Как говорится, баш на баш.
Должны чекисты клюнуть на столь заманчивое предложение, обязательно должны. Неужто они не согласятся?
18
Нет, не согласились. Не пожелали и разговаривать о каких-то полюбовных соглашениях, брезгливо поморщились.
Аресты распространителей фальшивых червонцев в Ленинграде совпали с обнаружением первоисточника этой злонамеренной диверсии, имеющей целью расстройство финансов СССР.
Компетентные наши органы получили достоверную информацию об организаторах и вдохновителях подпольного изготовления советских банковских билетов десятирублевого достоинства. Ими, как и предполагалось с самого начала, были белогвардейцы — злобные враги Советской власти.
Некие Садатарашвили и Карумидзе в преступном сговоре с владельцем мюнхенской типографии фашистом Шнейдером взяли на себя обязанности непосредственных фальшивомонетчиков. Изготовили формы и клише, раздобыли пять тонн бумаги с водяными знаками. Реализацией поддельных денег на советской территории занялись приближенные «императора Кирилла I», среди которых особой активностью выделялся генерал Глазенап.
ГПУ были известны фамилии, клички, адреса явочных квартир и места хранения фальшивок.
В Берлине, на углу Нюрнбергерштрассе и Фюхтерштрассе, в ресторане Петра Стольникова, бывшего кавалергарда, преступники встречались и обсуждали свои грязные делишки. На квартире Льва Трапезникова, жительствующего на Иоахим-Фридрихштрассе, в специально оборудованном тайнике, они хранили пачки с поддельными червонцами.
Бывший сенатор Российской империи Михаил Викторович Арцимович с сыном своим Георгием, бывшим ротмистром лейб-гвардии кирасирского полка, заведовал убежищем для агентуры, следующей в Советский Союз, приспособив под него собственное родовое поместье близ Либавы.
Светлейший князь Анатолий Ливен, председатель «Общества взаимопомощи бывших российских военнослужащих», устроил такое же тайное убежище в Риге, у себя на квартире.
Известно стало чекистам и подлинное имя арестованного в Ленинграде агента генерала Глазенапа. Им оказался бывший штабс-ротмистр царской армии Альберт Христианович Шиллер, он же Серый Волк, он же Эдуард Дернов, он же Николай Попов, он же Александр Гринберг.
Информация, которой располагала советская разведка, была убийственно точной и совершенно неопровержимой.
Финансировал Садатарашвили и Карумидзе, с готовностью ссудив этих негодяев оборотными средствами, известный антисоветчик Генри Детердинг, мультимиллионер, глава нефтяного концерна «Роял Дейч Шелл».
Удалось точно установить, когда именно, через какой английский банк и при чьем посредничестве были перечислены доллары в Цюрих, на безымянный счет преступной шайки.
Явственные следы тянулись от фальшивомонетчиков к сэру Уинстону Черчиллю и другим английским твердолобым, бесспорно замешанным в их антисоветской, преступной авантюре.
Смехотворно выглядела в свете этих фактов всезнающая и вездесущая немецкая полиция, все еще делавшая вид, будто ничегошеньки не знает о преступной авантюре обнаглевшего белогвардейского жулья. На самом-то деле все ей было ведомо, вплоть до количества фальшивок, которые успели напечатать в типографии фашиста Шнейдера. Приказ о бездействии и попустительстве высшие полицейские чины получили от крайне правых элементов, в частности от фашиствующего генерала Гофмана.
Сенсационные разоблачения вызвали замешательство и растерянность не только в Германии. Крыть было нечем, скрипя зубами пришлось принимать административные меры.
Медленно и словно нехотя заработала немецкая полицейская машина. Начались обыски, кое-кого понадобилось арестовать.
Садатарашвили, этот матерый уголовник и неоднократно изобличенный в торговле живым товаром сутенер, поспешил напялить на себя тогу идейного противника Советской власти.
— Мы боролись против коммунизма, — гордо заявил он в полиции. — Если это преступление по немецким законам, судите нас. Фальшивыми червонцами мы хотели вызвать у них инфляцию и недоверие к советским деньгам...
Показания сутенера мгновенно подхватила правая печать. Из арестованных уголовников в срочном порядке делали героев, требуя их освобождения под залог. Буржуазные газеты с сочувствием сообщали своим читателям, что мюнхенский типограф Шнейдер, предоставивший все необходимое для изготовления фальшивых червонцев, заболел нервным расстройством, что здоровье этого всеми уважаемого господина в опасности.
Полицейская машина работала на холостых оборотах. Многие обыски на квартирах белогвардейцев, по странному стечению обстоятельств, оказались безрезультатными. У Льва Трапезникова, на Иоахим-Фридрихштрассе, обнаружили, правда, несколько поддельных десятирублевых билетов, но ограничились лишь изъятием найденного, не тронув хозяина тайника. «Я купил их на черной бирже, очевидно меня обманули ловкие мошенники» — этого примитивного объяснения полицейским хватило за глаза.
Словом, все делалось, чтобы приглушить скандал. Тем не менее прокуратура вынуждена была опубликовать сообщение, что в ближайшее время фальшивомонетчики должны предстать перед судом.
Немалый переполох вызвали советские разоблачения и в городе Данциге.
Президент тамошнего Сената, крайне заинтересованный в получении советских заказов для данцигских судостроительных верфей, потребовал от полицай-президиума немедленного ответа: что за птица этот генерал Глазенап, на какие средства существует и верно ли, будто злоупотреблял гостеприимством города Данцига, впутавшись в преступные сношения с бандой фальшивомонетчиков?
Ответ последовал глухой, уклончивый, по принципу ни два ни полтора.
Об открытиях уволенного на пенсию инспектора криминального бюро в нем, естественно, умалчивалось, поскольку сам Герхард Штраус участия в его составлении принять не мог.
Президент полицай-президиума докладывал господину президенту Сената, что бывший русский генерал-лейтенант Петр Глазенап действительно проживал некоторое время в Данциге. Средствами стеснен не был, жил на широкую ногу, но источники этих средств установить не удалось.
Недавно Петр Глазенап покинул город, уехав на пароходе «Луизитания». В случае его возвращения в Данциг, заверяли президента, будут предприняты надлежащие меры, о результатах коих полицай-президиум своевременно поставит в известность.
Коротенькое сообщение ГПУ об аресте в Ленинграде группы распространителей фальшивых советских денег, схваченных к тому же с вещественными доказательствами вины, прозвучало подобно грому среди ясного неба.
Были, конечно, и в этот раз слезливо-фарисейские публикации в газетах, особенно в белогвардейских: террор Чека, дескать, продолжается, схвачены и заточены в темницу новые безвинные жертвы, которым предъявляются лживые обвинения. Были и опровержения, шитые белыми нитками. Все было, как всегда в подобных ситуациях, в привычном стиле антисоветской пропаганды, и ничего это не меняло, ничего не опровергало, ибо факты вещь упрямая, спорить против них трудно.
Не сочла возможным играть в молчанку даже «собственная его императорского величества канцелярия» в Кобурге. На скорую руку состряпала документик, отрекаясь от всего на свете, в том числе и от генерала Глазенапа, много лет ходившего в ближайших сотрудниках «императора Кирилла I».
«Советская пресса сообщает о раскрытии в Ленинграде группы монархистов, поставивших целью распространение фальшивых червонцев, — говорилось в преамбуле этого документика. — Группа эта якобы находилась в нелегальной связи с заграничной монархической организацией, в частности с генералом Глазенапом, представляющим царя Кирилла».
Вслед за преамбулой выкладывалось наиболее существенное, ради чего, собственно, и был сочинен сей завиральный документ:
«Со своей стороны считаем необходимым уведомить о нижеследующем: 1) Генерал П. В. Глазенап ни «представителем», ни «резидентом» царя Кирилла никогда не состоял и не состоит. Во всей своей деятельности он совершенно независим. 2) Отношение к деятельности генерала П. В. Глазенапа, особо в последнее время, у царя Кирилла определенно отрицательное, так как она не совпадает с направлением легитимного движения и его целями».
Не состоит и не совпадает!
Вот так вот, скромненько и без лишних затей, отмежевались от всего в Кобурге. Между тем выдумка усердных опровергателей без всякого труда разоблачалась самой жизнью. Достаточно было заглянуть для этого в «Нью-Йорк таймс» и другие заокеанские газеты, где подробнейшим образом описывалось времяпрепровождение «известного русского деятеля генерала Глазенапа», прибывшего в Америку со специальной миссией «императора Кирилла I».
Но кому же придет в голову оспаривать пойманных с поличным вралей? У чекистов во всяком случае не было для этого ни свободного времени, ни желания. Забот хватало и без того.
— Ваш подопечный, кажется, собирается устроить маленькую обструкцию, — предупредил начальник КРО, вызвав к себе Сергея Цаплина. — Требования разные начнет выставлять, отказываться от дачи показаний и так далее...
— Какие у него могут быть требования, товарищ начальник? Схватили, так сиди и помалкивай...
— Мало ли какие бывают требования, — сказал Эдуард Петрович. — У такого рода господ весьма преувеличенное мнение о собственной значимости, а у вашего подопечного и тем более — не зря ведь состоит он в доверенных лицах генерала Глазенапа. Решив кое в чем уступить следствию, они обычно набивают себе цену и надуваются как индюки. Вам я советую в пререканья с ним не вступать. Начнет выламываться — отправляйте немедленно в камеру, и кончен разговор. Пусть посидит, пусть хорошенько оценит все и обмозгует. Занимайтесь пока с другими, работы у вас достаточно...
— Можете не сомневаться, товарищ начальник, обязательно отправлю! Сказать по совести, нахальство этого негодяя действует мне на нервы.
— А вот это напрасно, Сергей Павлович, — укоризненно покачал головой начальник КРО. — Поддаваться эмоциям на следственной работе не рекомендуется. Слишком это дорогое удовольствие, да и пагубное иногда. Нервничать при создавшихся условиях положено не вам, пусть нервничает Серый Волк.
19
Из приказа по Управлению связи:
«Строгий выговор, объявленный приказом от 23 октября 1928 года заведующему староладожским почтовым отделением Ф. И. Окуневу, отменить, как наложенный ошибочно.
За добросовестное исполнение служебного долга премировать тов. Окунева Ф. И. в сумме 100 рублей».
20
Один бог знает, до чего же он нервничал!
Угнетала, выматывая силы, томительная тишина одиночки. Жизнь за ее стенами шла обычным своим ходом, что-то в ней происходило, что-то менялось и трансформировалось, а он был наедине со своими мыслями. И сколько ни старался, не мог сообразить, что же известно о нем на Гороховой. Известно, конечно, сомнений в этом не было, но что конкретно?
Мальчишка-следователь на поверку оказался опытным психологом, и первая же его попытка добиваться личного свидания с Мессингом наткнулась на непримиримо жесткий отпор.
— Не имею понятия, как там у вас, — язвительно сказал следователь, особо выделив последнее слово, — а у нас, в ГПУ, каждый выполняет свои обязанности, которые строго регламентируются. Мне, в частности, поручено разбираться с вами...
— Но учтите, гражданин следователь, я решил дать чрезвычайно важные для Чека показания, и я в конце концов требую...
— Чего вы требуете? И по какому праву?
— Мне бы хотелось переговорить лично с Мессингом...
— Нет, вам бы хотелось втянуть нас в длительные переговоры, — уточнил следователь и не счел нужным скрывать снисходительной усмешки. — Выгадать время вам желательно, кое-что разнюхать, если удастся, кое-что разведать. Но это большое заблуждение, Альберт Христианович, уверяю вас. Ни о каком торге речи быть не может. Единственное, что вам осталось, — чистосердечно признаться в совершенных преступлениях, полностью капитулировать перед Советской властью...
Произнеся эту тираду, следователь вызвал конвоира и приказал отвести его обратно в камеру. Не пожелал выслушивать каких-либо объяснений, только саркастически кривил губы, давая понять, что ни в грош не ставит его слова.
Разочарование было оглушительным, потому что все его замыслы мгновенно сорвались. С досады возникла мысль о голодовке в знак протеста, но он ее тотчас отогнал.
Кому и что он докажет голодовкой? Лишь ослабит самого себя, израсходует последнюю энергию, которая еще понадобится в борьбе за жизнь, за спасение.
Знали о нем на Гороховой многое.
Настоящее его имя и то успели разузнать, не говоря уж о конспиративных кличках и псевдонимах. С первого шага по их земле вели за ним наблюдение, не спускали глаз ни днем, ни ночью, а он, тупоголовый болван, вздумал отделаться пошлой любовной новеллой об одиночестве и неразделенных чувствах. Нетрудно вообразить, как потешались они, читая его наивные показания о целях поездки в Смоленск.
Серый Волк — и вдруг пылкий, влюбленный вздыхатель! Есть над чем посмеяться!
Спасение зависело от степени осведомленности чекистов.
Подпоручика Карташева они схватили, но тот лишнего ничего сказать не может, просто нечего ему сказать. Схвачен, по-видимому, и верный генеральский холоп Федотов, что здорово осложняет ситуацию. Единственная надежда на кремневую натуру Федора Игнатьевича. Этот лишнего не наболтает, запираться будет до конца, до последнего издыхания.
Всего знать они просто не в состоянии. Если бы имели информацию, давно бы постарались ликвидировать мюнхенскую затею. Достаточно для этого заявить протест по дипломатическим каналам, и с фальшивками будет кончено. Вмешается полиция, зашумит левая пресса, скандал поневоле заставит сворачивать манатки. Раз этого не случилось до сих пор, раз все тихо и спокойно — стало быть, не успели докопаться до самого главного, Подозревают, конечно, не могут не подозревать, но точной информации у них нет.
Его кто-то выдал с потрохами — это тоже бесспорный факт. Фамилию сообщил, клички и все прочее, вплоть до маршрута путешествия. Одно из двух: либо в друзья к Петру Владимировичу затесался ловкий осведомитель, либо у англичан, в тихом учреждении Реджинальда Стиорса, есть агент-двойник. Одинаково скверно и то и другое — его выдали советским разведчикам.
Напрасно послушал он совета генерала и связался с англичанами. Хваленая их секретная служба слишком часто дает осечки, особенно в единоборстве с русской контрразведкой.
Пошел бы самостоятельно, ни с кем не связываясь, как хаживал в прошлые разы, и все бы обошлось
благополучно. В полном бы порядке вернулся, неизменно удачливым Серым Волком.
Правда, сожаления эти теперь бесполезны. Растравливаешь себя, накручиваешь нервную систему, а пользы никакой. Теперь решающим стало другое. Важно найти способ выкарабкаться целым и невредимым. Способ такой должен быть. Надо его побыстрей обнаружить, по-умному использовать. В этом его спасение, только в этом.
Следователь требует от него капитуляции. А что она даст, кроме неизбежной пули в конце? Лучше уж выслушать приговор с гордо поднятой головой, как подобает настоящему офицеру. Красиво, по крайней мере, благородно.
Нет, умирать он не согласен! К черту красивые позы, к черту благородство!
Чудовищно и противоестественно гибнуть в цветущем возрасте, когда не дожил еще и до сорока лет. Бороться он будет, зубами будет прогрызать дорогу к своему спасению.
От него ждут признаний и раскаянья? Пожалуйста, он начнет играть в безоговорочную капитуляцию. Каяться будет маленькими, строго дозированными порциями, без излишней торопливости, размеренно и строго. Да, да, именно так он и сделает.
Цепочка до Берлина и Мюнхена длинная, звеньев в ней сколько угодно. Явки, фамилии, система связи, складские помещения.
Начнешь рассказывать обо всем понемногу, и они наверняка должны схватить крючок. Затеют обстоятельную проверку его показаний, а это даст выигрыш во времени. Шлепнуть Серого Волка никогда не поздно, прежде они пожелают иметь в своих руках все козыри. И постепенно привыкнут к мысли, что живой он для них интереснее мертвого. С живого хоть шерсти клок, а что возьмешь с покойника...
Скорей бы уж вызывал его молоденький следователь. Личные контакты с ним придется строить на новой основе.
Покорность судьбе, желание быть полезным следствию — вот что нужно. И никакого пижонства. Пусть воображает, что добился цели, что капитуляция Серого Волка состоялась.
Но вызова к следователю все не было и не было.
Прошел день, нескончаемо долгий и тревожный в условиях одиночной камеры, миновали второй и третий.
В назначенный тюремным расписанием час ему приносили еду. Со скрипом открывалась тяжелая форточка в обитой железом двери и снова закрывалась, едва он успеет взять миску с баландой. На допрос его упорно не вызывали.
Дыхание останавливалось от жутких мыслей и предположений. Он отгонял их прочь, а они опять лезли в голову, взвинчивая нервы до предела.
Быть может, его и не собираются допрашивать. Не будет ни суда, ни следствия, просто расстреляют, как белого офицера и иностранного шпиона, схваченного с оружием в руках. Законы у них свои собственные, достаточно суровые. Явятся к нему ночью и коротко скомандуют, чтобы выходил.
— Выходи! — скомандовали ему на пятый день. Не в ночные часы это случилось — сразу после утренней поверки, и все равно он весь затрясся, затрепетал, не в силах совладать с самим собой.
Следователь встретил его любезно, с приветливой улыбкой старого знакомца. Сказал, как бы извиняясь, что был загружен сверх меры весьма срочной работой, хотя и помнил при этом, что обязан побеседовать с Альбертом Христиановичем.
— Надеюсь, вы готовы теперь к откровенному разговору? — поинтересовался следователь и еще разок одарил его белозубой своей мальчишеской улыбкой. — Если готовы, давайте начнем с установления вашей личности. Так полагается по нашим советским законам. Стало быть, вы Альберт Христианович Шиллер, а не Александр Карлович Гринберг, как утверждали на предыдущем допросе?
Было бы тупоумием не подхватить этот легкий, почти светский тон, предложенный ему следователем, и он, конечно, воспользовался благоприятным случаем, начал свою игру в капитуляцию.
Обстоятельства, к сожалению, сложились для него на редкость плохо. Арестован в Ленинграде без документов, с оружием, нелегально перешел советскую границу, к тому же пачка фальшивых червонцев. Хуже, кажется, и быть не может.
Только этим и, право же ничем другим, объясняются неправдивые показания, данные им на предварительном допросе.
Сказалась тут обычная человеческая растерянность, и он умоляет следствие не ставить ему в вину эту глупую, наивную ложь. В дальнейшем он обещает быть вполне искренним.
Да, он действительно Альберт Христианович Шиллер, а не Александр Карлович Гринберг, как утверждал на предыдущем допросе. Родился в 1890 году в Сувалкской губернии, в семье зажиточного крестьянина, владельца паровой мельницы.
Был три года на войне, за храбрость награжден Георгиевскими крестами. Александром Гринбергом его нарекли в «Корпусе офицеров императорской армии и флота». Организация эта монархическая, строится на конспиративных основах, и многие ее члены должны иметь псевдонимы.
С генералом Глазенапом он действительно знаком. Еще с 1915 года, когда вместе служили в 20-м Финляндском драгунском полку. Новая встреча с Петром Владимировичем произошла в 1922 году, в городе Данциге. Он тогда бедствовал, как большинство русских эмигрантов, не имел средств для пропитания, и генерал Глазенап оказал ему товарищескую материальную помощь, будучи весьма состоятельным человеком. С тех пор они вместе. Точнее, не вместе, а довольно часто видятся.
Особой близости между ними, разумеется, нет, да и быть не может. Генерал, как ему положено по чину, витает в высших сферах общества, лично знаком с Черчиллем, Людендорфом, Муссолини и другими государственными деятелями, а он всего-навсего бывший штабс-ротмистр русской армии, нищий эмигрант, рядовой исполнитель приказов вышестоящего начальства. Пешка, так сказать, в крупной игре.
Следует также чистосердечно сознаться, что обнаруженные при нем пятьсот советских червонцев куплены им не на черной бирже. Деньги эти вообще не куплены. Ими снабдил его на дорогу некий господин Арцимович, жительствующий ныне в своем собственном имении, около города Либавы.
В дореволюционной России Арцимович был членом не то Сената, не то Государственного совета, словом, крупной шишкой. Чем он занят в настоящее время и откуда у него фальшивки — сказать трудно.
По слухам, Арцимович связан с Берлином. Вероятно, ГПУ небезынтересно будет узнать, что поддельные червонцы изготавливаются там в значительных количествах. Так, по крайней мере, говорят люди, причем люди осведомленные.
Следователь слушал его не перебивая и не обнаруживая особого интереса к рассказу. Лишь изредка делал какие-то пометки на маленьком клочке бумаги. Лицо у следователя было отсутствующее, наглухо замкнутое, так что никак не разберешь — верит или не верит. Плохо это, очень даже плохо. Брести приходится ощупью, в потемках.
План его исповеди, составленный еще в камере, предусматривал далее рассказ о задании, с которым он пришел в Советский Союз. Задание это — не шпионаж и не подготовка диверсионных актов, упаси господь от таких заданий. Личные мотивы также не играли никакой роли. Историю с неудачной любовью он, извините, выдумал.
Единственная его цель заключалась во встрече с одним из сослуживцев по драгунскому полку. Это бывший корнет, личный друг генерала Глазенапа. Ради встречи с ним он ездил в Смоленск, но вышло там скверно. Информация генерала Глазенапа оказалась устаревшей, корнет этот куда-то выехал. Словом, поездка во всех смыслах была безрезультатной.
— Не выезжал он никуда, расстреляли вашего корнета, — произнес следователь, мгновенно сбросив свою холодную отчужденность. — И вы прекрасно осведомлены об этом, Альберт Христианович, иначе не ударились бы в панику...
От неожиданности этой реплики он утратил дар речи, тупо уставился на следователя, не зная, что сказать, а тот помолчал, иронически усмехнулся:
— Я вот слушаю вас и удивляюсь. Неужто не сообразили еще, что все эти полуправды только вредят вам? Повторяю снова, Альберт Христианович: единственный ваш шанс — капитуляция. Безусловная и безоговорочная капитуляция.
— Гражданин следователь, я рассказываю вам сущую правду, — залепетал он, чувствуя, что задуманная им игра срывается. — Я достаточно все осознал, уверяю вас, я все обдумал...
— Видимо, недостаточно. Вот вы утверждаете, что фальшивые червонцы получены вами от бывшего сенатора Арцимовича, что связан он с Берлином и что, по слухам, именно там они и фабрикуются. Выходит, осведомленность ваша по данному вопросу основана исключительно на слухах?
— Да, я слышал... Не могу вспомнить от кого, но слышал. Кажется, об этом говорил сам Глазенап... Да, да, именно он и говорил!
— Вот оно что! Значит, слышали от Глазенапа, непосредственного своего начальника, а сами никакого отношения к фальшивомонетчикам не имеете?
— Не имею...
— А для чего вы взяли фальшивки у Арцимовича? Шпионских заданий у вас не было, расплачиваться вам было не с кем. Зачем понадобились пять тысяч рублей? Для какой цели?
— Я думал, что дорожные расходы будут более значительными...
— Занятно! Ездите в товарных вагонах, ночуете не в гостиницах, а в стогах с сеном, командировочные экономите... При чем же тут дорожные расходы? Ну, а с гражданином Федотовым вы знакомы? Какого характера было ваше знакомство с бывшим денщиком генерала Глазенапа?
Боже милостивый, лучше бы уж не отпираться, лучше бы самому все признать, заработав хотя бы чистосердечное раскаянье!
Следователь, по-видимому, не очень рассчитывал на его ответ. Молча надавил черную кнопку звонка, затем начал перебирать какие-то папки с бумагами, лежащие перед ним на столе.
Ровно через минуту ввели в следственную камеру бывшего генеральского денщика, эту кремневую, несгибаемую натуру, как он надеялся.
— Знаете этого человека? — спросил следователь у Федотова. — Повторите, пожалуйста, все сказанное вами на предыдущем допросе. Только не растекайтесь по древу, Федор Игнатьевич, прошу вас. Коротко скажите, одну лишь суть...
И Федотов исправно повторил, не оставив камня на камне от его надежд. Закапывал его с наслаждением, с прорвавшейся вдруг злобой холуя, втайне презирающего и ненавидящего своего барина.
Все рассказал мерзавец, ничего не счел нужным скрывать. И про судостроительные премудрости, которым учил его Альберт Христианович, заставляя добывать секретные сведения с верфи, и про толстую пачку червонцев, выданную в награду за ценные верноподданнические услуги «императору Кириллу I».
— Будем считать, таким образом, что с заданием вашим мы кое-что уточнили, — объявил следователь после ухода Федотова. — Впрочем, если желаете, можно устроить очную ставку и с Карташевым, которого вы вовлекли в свои делишки...
— Как вам будет угодно.
— Думаю, что еще одна очная ставка ничего принципиально нового не добавит. Вы занимались в СССР шпионажем, Альберт Христианович, нам это хорошо известно.
Осведомлены мы и про все ваши нелегальные хождения на советскую землю. Однако все это, как вы сами понимаете, имеет сейчас интерес второстепенный. Давайте потолкуем с вами о главном, наиболее существенном и животрепещущем.
— Что вы имеете в виду?
— Не прикидывайтесь простачком, вам это не к лицу, — весело рассмеялся следователь. — О банде фальшивомонетчиков мы будем говорить, о вашем в ней участии, об участии генерала Глазенапа и других лиц из лагеря «кирилловцев».
— Но я ведь все сказал...
— То, что вы сказали, нам известно давно, а мы с вами должны уточнить многие существенные подробности. Кто такой, к примеру, Лев Львович Трапезников и почему на его берлинской квартире устроен тайник? Знакомы ли вы лично с мюнхенским типографом Шнейдером? Какого характера отношения связывают генерала Глазенапа с Уинстоном Черчиллем? Вопросов, как видите, набирается изрядное количество, и давайте поэтому экономить время. Еще я хотел бы предупредить вас, Альберт Христианович. Не вздумайте затевать с нами детскую игру в растягивание резины. Ничего из этого не выйдет. Откровенные чистосердечные признания в ваших собственных интересах...
Капитуляция стала фактом.
Его приперли к стенке, с ним теперь обращались, как со щенком, и пришло время выкладывать все, что знаешь — другого выхода не было, только капитуляция.
21
«Дело контрреволюционной шайки «кирилловцев»
Закончилось следствие по делу контрреволюционной организации агентов Кирилла Романова.
Обвинительное заключение рисует картину деятельности «кирилловцев», направленной к организации шпионажа и к подрыву финансовой мощи СССР посредством распространения фальшивых червонцев.
В поисках средств «кирилловцы» старались поддерживать сношения с крупным заграничным капиталом, особенно английским, всячески расписывая свои силы и возможность контрреволюционного выступления в СССР. Кроме того, «кирилловцы» в Берлине вошли в тесный контакт с фабрикантом фальшивых червонцев Садатарашвили, у которого приобретали партии червонцев для распространения их в СССР.
В сентябре 1928 года Шиллер по поручению Глазенапа отправился в Ленинград. Целью этого визита был сбор сведений об экономическом состоянии СССР, о настроениях разных групп населения, о состоянии Красной Армии и флота.
В Ленинграде Шиллер разыскал своих однополчан, офицеров 20-го драгунского полка, которые порекомендовали ему включить в организацию еще Федотова и Биткина.
В ноябре 1928 года Шиллер вновь появился в Ленинграде, имея при себе крупную партию червонцев. На следующий же день после появления Шиллера в Ленинграде «кирилловцы» были арестованы.
Произведенной экспертизой установлено, что червонцы, отобранные у Шиллера, и червонцы, выпущенные Садатарашвили, изготовлены одной и той же организацией фальшивомонетчиков.
Дело это будет слушать в ближайшие дни выездная сессия военной коллегии Верховного Суда СССР в Ленинграде».
(«Ленинградская правда», 3 января 1930 г.)
«Процесс белогвардейцев в Берлине
Берлин (ТАСС). Сегодня начался процесс группы белогвардейцев и германских фашистов, организовавших фабрикацию фальшивых червонцев. Процесс привлекает огромный интерес всей политической общественности.
Постановлением суда выделяется дело в отношении якобы заболевшего мюнхенского владельца типографии Шнейдера и работающего у него мастера Кипинга.
Первым допрашивается Карумидзе.
Он откровенно рассказывает о подробностях своей антисоветской организации. Он получил якобы письмо из Грузии, в котором ему писали, что без достаточных средств не удается поднять восстание против Советской власти.
Тогда он разработал план массового производства фальшивых червонцев, которыми помимо организации восстания предполагалось наводнить СССР и подорвать этим советскую валюту.
На вопрос председательствующего, кто предоставил обвиняемым денежные средства на организацию подделок, Карумидзе отказался отвечать. Карумидзе подтвердил имеющиеся данные о том, что на его счету в цюрихском банке имелось 15 тыс. долларов, происхождение которых он отказывается указать.
Попытки Карумидзе скрыть источники средств бесцельны, ибо появившиеся в германских газетах сведения с бесспорностью устанавливают, что весь антисоветский план фальшивомонетчиков финансировался нефтяными королями Детердингом и Нобелем. Новое доказательство этого дает опубликованная сегодня в «Монтаг пост» переписка известного фашиста генерала Гофмана с Детердингом.
Допрос Карумидзе прерывается требованием его защитника допустить в качестве переводчика для обвиняемых грузин сотрудника фашистской газеты «Дейтче цейтунг», так как назначенный судом переводчик якобы неправильно переводит показания. Для решения этого вопроса заседание прерывается».
(«Ленинградская правда», 7 января 1930 г.)
22
Все рано или поздно подходит к финалу.
Закончилась и для Сергея Цаплина многомесячная и многотрудная возня с Серым Волком, с пронырливыми его сообщниками из бывших драгун. Неплохо закончилась, если иметь в виду приказ, в котором объявлялось о досрочном переводе из практикантов в штатные работники отдела.
Это означало признание заслуг начинающего чекиста, его умения отстаивать интересы Советской власти. Сдержанный на похвалы Мессинг, выступая с докладом по случаю двенадцатой годовщины Октября, счел возможным одобрительно отозваться о достоинствах молодого пополнения, пришедшего на Гороховую с комсомольскими путевками, упомянул в числе других и его, Сергея Цаплина.
— Только не задирать нос, смотри, — шепнул сидевший рядом с ним Эдуард Петрович Салынь и крепко стиснул ему руку повыше локтя. — Зазнайство до добра не доводит...
Шутил, конечно, начальник КРО, просто был в добром, праздничном настроении. О каком задирании носа может быть разговор, когда ему надо учиться и учиться, постигая сложную азбуку чекистского мастерства. Разве мало допущено им промахов, на которые указывали старшие товарищи? Ломился в открытую дверь, не видел простейших решений, хотя додуматься до них легче легкого. Нет, похвалы эти всего лишь аванс. Под будущую работу.
Немало воды утекло после осенней его командировки в Старую Ладогу, и немало тайн удалось раскрыть за эти месяцы. Тщательно скрываемых тайн, хранимых за семью печатями.
Вдвоем с Филиппом Изотовичем, отсекром сельской партячейки, обнаружили они тогда ниточку поиска. Едва приметную, тоненькую, казалось бы, ничего особенного не сулившую, а привела эта ниточка к открытиям чрезвычайной важности, сенсацию вызвала поистине международную.
Итогом всего стали два судебных процесса — в Ленинграде и в Берлине. Одновременных, одинаково привлекших внимание людей, дополняющих и как бы опровергающих друг друга.
Такова логика классовой борьбы. Сколько ни возмущайся, сколько ни протестуй, ничего тут изменить нельзя.
Дело все в судьях, в диаметральной противоположности их задач. Ленинградские судьи намерены выявить правду до конца, они считают это своим гражданским долгом, а берлинские, напротив, стараются упрятать ее в мутной пене злобной антисоветчины, в хитростях и выкрутасах юриспруденции.
Процесс в Ленинграде начался за день до берлинского. На открытие его Сергей Цаплин попасть не сумел, помешали срочные задания. В зал суда, битком набитый народом, пришел к концу перекрестного допроса Альберта Христиановича Шиллера.
Серый Волк и на судебном заседании остался верным излюбленной своей тактике. Петлял, как умел, всячески увиливал от разящих прямых вопросов прокурора или пытался встать в позу благородного рыцаря монархической идеи, который, дескать, связан офицерской клятвой и выдавать секреты не имеет права. Это уж и вовсе было смешно, потому что через минуту-другую «рыцаря» публично уличали во вранье, в вопиющей непоследовательности.
Очередной такой эпизодик, вызвав веселое оживление всех присутствующих, разыгрался на глазах Сергея Цаплина. Прокурор уточнял характер взаимоотношений между генералом Глазенапом и Уинстоном Черчиллем, несомненно посвященным в тайны шайки фальшивомонетчиков.
— Я просил бы позволить мне воздержаться от ответа на этот вопрос...
— Почему?
— Я не имею возможности касаться этой темы, — привычно заюлил Серый Волк. — Я давал честное слово офицера...
— Опять, значит, клятва? — понимающе усмехнулся прокурор. — Прошу в таком случае огласить собственноручные показания обвиняемого Шиллера, которые им были даны в ходе предварительного следствия. Том второй, страница двести одиннадцатая...
Сергей Цаплин показания эти знал наизусть. Пока председательствующий, надев очки, искал нужную страницу, он с любопытством приглядывался к обитателям скамьи подсудимых.
Жалкое зрелище представляли его старые знакомцы, на разоблачение которых потрачено столько сил и энергии. Даже на людей непохожи, хорьки какие-то злобные. Будут, конечно, лгать, как лжет сейчас Серый Волк, будут изворачиваться и любыми способами преуменьшать свою ответственность, но от возмездия им не уйти, — улики собраны бесспорные.
— Странная, однако, у вас клятва, — насмешливо резюмировал прокурор, когда чтение закончилось. — У следователя вы ее запросто нарушаете, на суде между тем рядитесь в тогу верного офицерскому слову. Когда же вы правдивы, Шиллер?
— Не знаю... Затрудняюсь ответить на этот вопрос...
— В собственноручных показаниях вы писали правду?
— Да, правду.
— А на суде не хотели бы повторять ее во всеуслышание? На суде вам хочется выглядеть верным офицерской клятве?
— Да, это так.
— Стало быть, и капитал желаете приобрести, и невинность соблюсти? Я правильно вас понимаю, Шиллер? Или я ошибаюсь?
Серый Волк отмалчивался, в публике раздавались громкие смешки. Прокурор тоже улыбнулся и заявил, что вопросов к подсудимому пока не имеет.
В перерыве Сергея Цаплина окликнул Филипп Изотович Окунев, называвший его по-прежнему товарищем Морозовым.
За год, минувший после их знакомства, староладожский отсекр совсем не изменился, только повеселее стал, поразговорчивей. С удовольствием сообщил, что злополучный выговор начальство отменило, признав наложенным по ошибке, и даже раскошелилось на денежную премию.
— Знаю, — рассеянно сказал Сергей Цаплин, думая совсем о другом. Сказал, и тут же понял, что вряд ли следовало говорить.
— А откуда ты знаешь, браток? — вцепился в него Филипп Изотович. — Тебе что, по осоавиахимовской линии сообщили?
— Слышал от кого-то из товарищей, теперь уж не припомню...
— Не твоя ли это работка, дорогой товарищ Морозов? То-то я соображаю про себя, с чего бы нашему почтовому начальству быть настолько сознательным...
— При чем тут я, Филипп Изотович? Отменили и правильно сделали, головотяпские приказы надо отменять...
— Ну ни при чем — и ладно, тебе виднее. А как твое мнение насчет жуликов этих? Нашего-то церковного служку видел? Достукался, сукин сын, доловчился. Жалко, дочки здесь нет, полюбовалась бы на него...
Поговорили они минут пять и разошлись. Сергею Цаплину надо было спешить на Гороховую, новые заботы и новые задания торопили его, не оставляя времени на посещение судебных заседаний. Да и нужды не было заново выслушивать вранье изобличенных врагов. Разберутся во всем судьи, воздадут каждому по заслугам: это ведь не Берлин, это Ленинград.
В Берлине было мерзопакостно.
Под флагом беспристрастного суда над фальшивомонетчиками Карумидзе и Садатарашвили разыгрывалась постыдная инсценировка буржуазного классового правосудия, имеющая единственной целью оболгать и ошельмовать страну социализма.
Перед судьями высились внушительные груды вещественных доказательств преступной деятельности обвиняемых.
Сотни килограммов бумаги с водяными знаками, на которой печатались фальшивые десятирублевки, плотные пачки готовой продукции, искусно сработанные типографские формы и клише.
Но разговор шел не об уголовщине, не о нарушении законов Германии. Судейская трибуна использовалась главным образом для разнузданной клеветы на Советскую власть.
Клеветали Карумидзе и Садатарашвили, изображая из себя идейных противников диктатуры пролетариата. Клеветали их адвокаты, дружно подвывала в общем хоре правая фашиствующая пресса.
Отыскался и соответствующий эксперт — финансист из Дармштадта, всерьез утверждавший, что советские червонцы нельзя рассматривать как валюту, поскольку законы СССР запрещают их ввоз и вывоз, а посему, дескать, в действиях обвиняемых не усматривается состава преступления.
Дошло до крайностей. Прокурор как представитель обвинения в основном помалкивал, уткнувшись в свои бумаги, а если и задавал порой вопросы обвиняемым, то весьма осторожные, предупредительные. «Активность» его взбесила антисоветчиков, и в адрес бедного прокурора посыпались десятки анонимных писем, угрожающих физической расправой в случае осуждения обвиняемых.
Авторы анонимок утруждали себя напрасно.
Берлинские судьи оказались на высоте норм буржуазного правосудия и лихо подвели фальшивомонетчиков под амнистию, прекратив уголовное преследование.
Военная коллегия Верховного Суда СССР, как и следовало надеяться, сурово осудила Шиллера, Федотова, Карташева и других распространителей фальшивок. Собравшиеся в зале суда ленинградцы встретили ее приговор одобрительными аплодисментами.
На этом, собственно, и кончается наш рассказ о фальшивых червонцах и о молодом чекисте Сергее Цаплине, блистательно выдержавшем трудный экзамен на зрелость.
Правда, спустя несколько лет Сергею Цаплину довелось повстречаться и побеседовать с Петром Владимировичем Глазенапом, о котором знал он гораздо больше, чем мог думать генерал. Назывался он тогда не Сергеем Цаплиным, и не в родном Ленинграде случилась их нечаянная встреча, но это, пожалуй, тема для другого рассказа, к истории с фальшивыми червонцами отношения не имеющего.

Примечания
1
Ответственный секретарь ячейки. —
Прим. Tiger’а.
(обратно)
Оглавление
А. Сапаров
Фальшивые червонцы
Две повести из хроники чекистских будней
ОПАСНЫЕ КОМЕДИАНТЫ
Убийство на Фонтанке
Встреча в Висбадене
Письмо с ловушкой
Следы ведут в Басков переулок
Николай Третий или Кирилл Первый?
Житие тайного советника
Пропажа секретных документов
Пауки в банке
Сколько веревочка ни вьется...
ФАЛЬШИВЫЕ ЧЕРВОНЦЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
*** Примечания ***