Бьянка Питцорно
У царя Мидаса ослиные уши
с иллюстрациями Квентина Блейка
Перевёл Андрей Манухин
Об этой книге
Прекрасная и недоступная кузина Тильда проводит лето в доме Лáлаги, которой всего одиннадцать лет и которая даже представить себе не может, как опасны могут быть тайны четырнадцатилетних подростков. Лалага пробирается через бесконечную паутину влюблённостей, секретов, обманов и недоразумений, под конец даже поставив под удар дружбу с верной Ирен. Но в один прекрасный день ей предлагают главную роль в некой душераздирающей пьесе...
(обратно)
Об авторе

Бьянка Питцорно родилась в 1942 году в городе Сассари, но живёт и работает в Милане. С 1970 года она опубликовала более сорока книг для детей и подростков, многие из которых имели большой успех и завоевали любовь юных читателей. Сегодня Бьянка Питцорно считается главной итальянской детской писательницей. Её романы переведены на многие языки и изданы во Франции, Германии, Испании, Греции, Польше, Венгрии, Корее, Японии и России. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
Получив в юности диплом археолога, Бьянка Питцорно переехала в Милан, чтобы поступить в Высшую школу коммуникаций, где специализировалась на кино и на телевидении. Она много лет проработала в телерадиокомпании RAI, где занималась программами для детей. За первой книгой, изданной в 1970 году, последовало множество других, почти всегда посвящённых детям. Читателю легко идентифицировать себя с их персонажами, поскольку автор всегда пытается представить историю с этических позиций.
Среди самых известных книг Бьянки Питцорно для детей и подростков: «
Джулия Гав и Феликс Мяу», «
Дом на дереве», «
Удивительное путешествие Полисены Пороселло», «
Послушай моё сердце», «
Диана, Купидон и Командор», «
У царя Мидаса ослиные уши», «
Тайный голос», «
Торнатрас».
(обратно)
Об иллюстраторе

Квентин Блейк родился в Англии (Сидкап, Кент) в 1932 году. Он начал карьеру художника уже в шестнадцать лет, сотрудничая с различными журналами. Получив диплом по английской литературе в Кембридже, он преподавал в Королевском колледже искусств, где с 1978 по 1986 год возглавлял отделение книжной иллюстрации.
Квентин Блейк известен во всём мире своими выдающимися и весьма оригинальными иллюстрациями к книгам Роальда Даля, но он сотрудничал и с рядом других известных авторов, а также рисовал карикатуры и сочинял рассказы для подростков. Квентин Блейк – обладатель множества наград, в том числе престижной премии Ганса Христиана Андерсена 2002 года, одной из самых высоких международных наград, вручаемых иллюстраторам.
(обратно)
У ЦАРЯ МИДАСА ОСЛИНЫЕ УШИ
 Эта история случилась во второй половине пятидесятых годов XX века.
В Италии тогда только-только появились телевизоры – изображение они транслировали исключительно чёрно-белое, причём всего на одном канале и лишь несколько часов в день. Люди слушали радио, но ему, как и телевидению, требовалось электричество. Маленьких транзисторных радиоприёмников ещё не существовало, а батарейки использовались только в карманных фонариках (за что их сами часто называли «батарейками»). Никаких портативных проигрывателей ещё не изобрели: ни «кассетников», ни «вокменов», ни CD-плееров, а проигрыватели для грампластинок («вертушки») были тяжёлыми и громоздкими.
Мобильных телефонов тоже не существовало: что говорить, если даже проводные встречались куда реже, чем сегодня. Немногие семьи могли похвастать домашним телефоном, а в некоторых городах и их не было – только таксофоны. (Возможно, именно поэтому так распространилась мода на переписку, ведь письма-то всегда приходили вовремя: почта в те времена работала идеально.) Короче говоря, вся система связи очень сильно отличалась от сегодняшней, и люди, жившие на небольших островках, отрезанных от «большой земли»[1] Средиземным морем, были заодно полностью отрезаны от мира.
Но многие видели в этом свою прелесть и проводили на подобных островках отпуск просто для того, чтобы на пару недель сменить образ жизни.
Во время отпуска итальянцы тогда не «путешествовали», а «отдыхали», как правило, не слишком отдаляясь при этом от дома. «Кемпинги», «апартаменты» и прочие туристические объекты ещё не вошли в обиход. Что говорить, если «туристами» называли тех, кто отправлялся в многодневную поездку, не собираясь ночевать в одном месте больше двух раз. Остальные же считались «отдыхающими» или, если они ехали к морю, «купальщиками» – даже когда не находились на пляже.
Ещё одна вещь, которая, возможно, удивит вас в этой истории – это имена персонажей (хотя на них тоже повлияло развитие связи и коммуникаций).
Сегодня благодаря средствам массовой информации (радио, телевидению, кино и газетам) во всех регионах Италии имя для ребёнка, как правило, выбирают из нескольких «модных» вариантов, в том числе иностранных (обычно в честь каких-либо знаменитостей из мира развлечений, добившихся в определённый момент успеха и славы).
В пятидесятые же годы возможностей было куда больше: детей называли и «традиционными» семейными именами, передававшимися по наследству от деда к внуку, и именами из святцев, в зависимости от дня рождения, и в честь «святого патрона», покровителя города, которому поклонялись в храмах и святилищах конкретной области. Так что по имени или прозвищу человека легко было узнать, из какой он деревни, города или провинции.
Уменьшительные формы этих имён тоже менялись от региона к региону. Например, имя Форика, которое вы встретите на этих страницах, – уменьшительное. Его используют в некоторых областях Сардинии как женскую форму имени Сальваторе (а произносят взамен Сальваторы или Сальваторики).
Гораздо реже в те времена встречались несуществующие, придуманные имена. Но зато они часто оказывались весьма оригинальными, потому что в этом случае родители вдохновлялись не модными знаменитостями, известными почти каждому, а собственным опытом: встречами с приятными людьми, школьными воспоминаниями, персонажами опер или прочитанных романов. Соответственно, и тёзки таким людям встречались нечасто – ведь даже самый известный роман люди читают в разное время.
(обратно)
Эта история случилась во второй половине пятидесятых годов XX века.
В Италии тогда только-только появились телевизоры – изображение они транслировали исключительно чёрно-белое, причём всего на одном канале и лишь несколько часов в день. Люди слушали радио, но ему, как и телевидению, требовалось электричество. Маленьких транзисторных радиоприёмников ещё не существовало, а батарейки использовались только в карманных фонариках (за что их сами часто называли «батарейками»). Никаких портативных проигрывателей ещё не изобрели: ни «кассетников», ни «вокменов», ни CD-плееров, а проигрыватели для грампластинок («вертушки») были тяжёлыми и громоздкими.
Мобильных телефонов тоже не существовало: что говорить, если даже проводные встречались куда реже, чем сегодня. Немногие семьи могли похвастать домашним телефоном, а в некоторых городах и их не было – только таксофоны. (Возможно, именно поэтому так распространилась мода на переписку, ведь письма-то всегда приходили вовремя: почта в те времена работала идеально.) Короче говоря, вся система связи очень сильно отличалась от сегодняшней, и люди, жившие на небольших островках, отрезанных от «большой земли»[1] Средиземным морем, были заодно полностью отрезаны от мира.
Но многие видели в этом свою прелесть и проводили на подобных островках отпуск просто для того, чтобы на пару недель сменить образ жизни.
Во время отпуска итальянцы тогда не «путешествовали», а «отдыхали», как правило, не слишком отдаляясь при этом от дома. «Кемпинги», «апартаменты» и прочие туристические объекты ещё не вошли в обиход. Что говорить, если «туристами» называли тех, кто отправлялся в многодневную поездку, не собираясь ночевать в одном месте больше двух раз. Остальные же считались «отдыхающими» или, если они ехали к морю, «купальщиками» – даже когда не находились на пляже.
Ещё одна вещь, которая, возможно, удивит вас в этой истории – это имена персонажей (хотя на них тоже повлияло развитие связи и коммуникаций).
Сегодня благодаря средствам массовой информации (радио, телевидению, кино и газетам) во всех регионах Италии имя для ребёнка, как правило, выбирают из нескольких «модных» вариантов, в том числе иностранных (обычно в честь каких-либо знаменитостей из мира развлечений, добившихся в определённый момент успеха и славы).
В пятидесятые же годы возможностей было куда больше: детей называли и «традиционными» семейными именами, передававшимися по наследству от деда к внуку, и именами из святцев, в зависимости от дня рождения, и в честь «святого патрона», покровителя города, которому поклонялись в храмах и святилищах конкретной области. Так что по имени или прозвищу человека легко было узнать, из какой он деревни, города или провинции.
Уменьшительные формы этих имён тоже менялись от региона к региону. Например, имя Форика, которое вы встретите на этих страницах, – уменьшительное. Его используют в некоторых областях Сардинии как женскую форму имени Сальваторе (а произносят взамен Сальваторы или Сальваторики).
Гораздо реже в те времена встречались несуществующие, придуманные имена. Но зато они часто оказывались весьма оригинальными, потому что в этом случае родители вдохновлялись не модными знаменитостями, известными почти каждому, а собственным опытом: встречами с приятными людьми, школьными воспоминаниями, персонажами опер или прочитанных романов. Соответственно, и тёзки таким людям встречались нечасто – ведь даже самый известный роман люди читают в разное время.
(обратно)
Эпилог
(
Да, я знаю, что эпилог обычно идёт в конце истории. Но ЭТО и есть конец моей истории. Или, по крайней мере, её самой важной части.)
– Слушай, ты единственная, кто об этом знает, – сказала старшая кузина (так взрослые называют двоюродную сестру) младшей.
– И ты больше никому не хочешь об этом рассказать?
– Рассказать? Ты что, с ума сошла? Это секрет.
– Но в этот раз ты точно должна поговорить с кем-то из взрослых...
– Нет!
– Хотя бы с папой. Это слишком серьёзно. Ты не можешь решать сама...
– Это ТЫ не можешь решать, рассказывать или нет. Это МОЙ секрет. Если ты кому-нибудь расскажешь, я тебя убью и ты попадёшь в ад. Ты хоть помнишь, что клятву давала? Ты же клялась жизнью близнецов! Хочешь, чтобы с ними случилось что-то ужасное?
– Да ведь это с тобой может случиться что-то ужасное!
– Тьфу! Какая же ты все-таки трусиха! Смотри, если услышу от тебя хоть звук об этой истории, будешь иметь дело со мной.
Младшая сестра вздохнула. Кроме них в маленькой весельной лодке посреди моря никого не было, и никто другой не мог бы услышать рассказ Тильды – так звали старшую сестру, которой исполнилось уже тринадцать с половиной.

Младшую, пока ещё одиннадцатилетнюю, звали Лáлага – имя странное, старинное. Их общий дед откопал его в какой-то книжке своего любимого латинского поэта.
– Знаешь, что оно означает? – спросила её матушка Эфизия в первый школьный день. – «Девушка, которая слишком много говорит, потому что не может держать язык за зубами». Будем надеяться, что ты не такая болтушка, как та, поэтическая Лáлага.
И все одноклассницы расхохотались. Тогда они ещё не слишком хорошо знали друг друга, а потому не подозревали, что обычно из Лáлаги и слова не вытянешь.
Лáлага носила фамилию Пау, а Тильда – Сорренти. Родственные связи между ними проистекали из того факта, что матери их были сёстрами: Франка и Ринучча Марини. Марини – одна из самых больших семей в Лоссае, у них множество тётушек, двоюродных дядюшек, кузин и внучатых племянников, которые привыкли держаться вместе и с воодушевлением лезли в дела друг друга. Пау и Сорренти же, напротив, были исключением и старались держаться обособленно.
Несмотря на имя, Лáлага ничуть не походила на тех сплетниц, которые не упускают случая выболтать все новости разом. Если честно, лучшая подруга, Ирен, порой даже упрекала её за излишнюю сдержанность.
Но уж что Лáлага ненавидела, так это секреты.
Ей никогда не нравилось, что одноклассницы по начальной школе, расположенной на острове Серпентария, вечно ходят парочками и забиваются по углам, чтобы пошептаться. Она считала подобные отношения неискренними, а подруг – не стоящими доверия. Таким лучше не открываться.
Что же до самой Лалаги, то узнав любой, даже самый незначительный секрет, она чувствовала себя не в своей тарелке. Если к ней вдруг приставали с расспросами, она предпочитала ответить: «Не хочу об этом говорить», – чем сделать вид, что не знает.
Но этим летом Тильда заманила её в настоящую паутину секретов, больших и маленьких, глупых и важных. Из этой паутины оказалось непросто выбраться, не проговорившись хоть разок.
– Об этом знаем только мы вдвоём, – повторяла кузина, видя её нерешительность. – Если узнает кто-нибудь ещё, всему конец, – и она напомнила сестре пословицу, так часто звучавшую в доме Марини: «Что знают двое, знает только Бог; что знают трое, знают все вокруг».
Поначалу Лалаге льстило, что она наконец-то удостоилась доверия старшей сестры, которая до этого года всегда её игнорировала, словно бы и вовсе не замечая её существования. Но с середины июля она начала чувствовать себя брадобреем царя Мидаса.
Это была ещё одна история матушки Эфизии, которая учила их литературе и вечно упоминала древних греков с римлянами.
Знаменитый царь Мидас задолго до проклятия, из-за которого превращал в золото всё, к чему прикасался, получил от богов и другой подарочек: у него выросли большие ослиные уши. Конечно, он их стыдился и, чтобы избежать огласки, всегда носил колпак, который прятал под короной. Но всё-таки однажды ему нужно было пойти к цирюльнику, чтобы постричься, а значит, пришлось снять колпак. Поэтому цирюльника заставили поклясться, что он никому не раскроет эту позорную тайну, иначе царь отрубил бы ему голову.
Бедняга цирюльник держался несколько месяцев, но тайна тяготила его всё сильнее. Он ужасно боялся, что случайно проговорится. И вот, чтобы хоть как-то облегчить душу, вышел он в поле, вырыл ямку между бороздами, опустился на колени, приник ртом к земле и громко крикнул, зная, что его никто не слышит: «У царя Мидаса ослиные уши!» А потом пошёл домой, счастливый и довольный.
Но по весне из этой ямки вырос тростник. И когда поднимался ветер, листья и стебли шумели: «У царя Мидаса ослиные уууши! У царя Мидаса ослиные уууши!»
Конечно, Лалага понимала, что последний секрет Тильды – не из тех, что можно безнаказанно раструбить на всех четырёх ветрах. Её приводила в ужас мысль, что о нём станут болтать – тогда вся их семья будет опозорена. Тильду, вероятно, даже не пустят больше в школу: её объявят опасной для одноклассниц и запретят с ней общаться. Может быть, даже она, Лалага, больше не увидит свою двоюродную сестру.
Но делать вид, что ничего не случилось, столь же опасно. Рано или поздно об этом узнают. И, может, будет уже слишком поздно, как с несчастным дядей Марчелло.
Когда они вернулись на берег, Тильда привязала лодку к ржавому железному кольцу и легко запрыгнула на причал, весело щебеча о скором возвращении в Лоссай. А у Лалаги свело живот, как будто кто-то завязал его в узел, и в горле стоял комок.
Она ужасно злилась на кузину. Свалить все проблемы на другую, запрещая той хоть как-то облегчить душу, а потом весело бежать паковать чемоданы – удобно, да? Вот такая она, Тильда: чокнутая, безответственная и эгоистичная. Как будто у Лалаги мало собственных проблем и печалей!
(обратно)
Часть первая
Глава первая
А ведь лето начиналось вполне неплохо.
В последний школьный день Аузилия, старшая служанка в доме Пау, приехала в город с утренним катером, чтобы забрать Лалагу и отвезти её на остров. До сих пор ей не позволяли путешествовать в одиночку: один из дядей обязательно сопровождал девочку в порт и лично вверял капитану. Чудо ещё, что Аузилия не держала её всю дорогу за руку.
Плыть предстояло около двух часов, хотя при сильном волнении дорога могла растянуться и на все три или даже четыре. Не так уж много, но Лалаге каждый раз казалось, что она путешествует в другой мир или, вернее, в другое время. И вовсе не по какой-то там романтической причине: просто, глядя на удаляющиеся огни, она вспоминала, что на Серпентарии ещё нет ни водопровода, ни электричества.
Когда они только собирались переехать на остров (отец работал врачом и получил туда назначение), мать закатывала чудовищные сцены. Лалаге в то время было всего пять, но их она запомнила прекрасно.
До того времени они жили в Таросе, небольшой деревушке посреди пустошей, – козьем пастбище, как всегда говорила тётя Ринучча, – зато с удобствами в виде электричества и водопровода, да и до Лоссая всего полчаса на машине, так что по воскресеньям Пау могли пообедать в городе с бабушкой и дедушкой, пройтись по магазинам, а иногда и в кино, не теряя связи с цивилизацией.
На этом фоне переезд на остров Серпентария напоминал ссылку. Мать Лалаги громко протестовала, ведь там не было даже телефона, только рация на погранзаставе, чтобы связываться с внешним миром в чрезвычайной ситуации. Это же опасно! О чём только думал её муж, принимая на себя такую ответственность? А дети? А школа? Неужели ему хочется, чтобы Лалага и Саверио учились только с детьми этих неграмотных рыбаков, теснились все вместе в одном общем классе: и сопляки из первого, и здоровенные сорванцы из пятого? И как им потом идти в среднюю школу, которой на острове нет?
– Не исключено, что к тому времени мы переедем обратно, – оптимистично отвечал её муж.
Но всё случилось совсем не так.
Они не переехали даже после рождения близнецов и растили двух грудничков, не пренебрегая ни единым правилом гигиены, а ведь проследить, чтобы ребёнок всегда был чист и здоров, если у тебя есть только вода из бака – немалый подвиг.

Впрочем, возражал муж, все рыбацкие семьи делают то же самое, а ведь младенцев на Серпентарии в том году родилось по меньшей мере полдюжины.
– Но мы, Марини, привыкли к другому, – фыркала в ответ мать, теряя терпение, поскольку прислуга, набрав воды, никогда не вытирала дно ведра, и по всему дому, тут и там, виднелись смазанные следы босых ног.
Правда, помимо множества недостатков, остров обладал как минимум одним достоинством: прислуга здесь обходилась дешевле, так что кроме Аузилии, которую они привезли с собой из Тароса, Пау держали кухарку, прачку и двух молоденьких нянь для близнецов, хотя в Лоссае тётя Ринучча за те же деньги едва могла позволить себе кухарку и горничную.
(обратно)
Глава вторая
Годы один за другим уходили в прошлое. Старшая дочь уже заканчивала начальную школу, поэтому прошлым летом всё семейство Марини собралось вместе, чтобы решить, как с ней быть дальше. Лалаге предстояло оставить родителей, братьев и сестру на острове, а самой отправиться в город, в первый класс средней школы.
Доктор Пау надеялся, что кто-то из многочисленных тётушек и дядюшек жены предложит девочке пожить в своём доме, чтобы она могла ходить в ту же школу, что и все её двоюродные братья и сестры. На свою семью он не рассчитывал, потому что его родственники давно состарились и большую часть времени проводили в загородных домах.
К тому времени Лалага уже давно мечтала осуществить своё самое заветное желание: жить в доме Сорренти, делить спальню с Тильдой, вместе с ней идти по утрам в школу, а может быть, даже войти в число её подруг, пусть даже разница в возрасте и делала это маловероятным.
Но тётя Ринучча и знать ничего не хотела.
– Если бы ещё речь шла о мальчике... – возмущалась она. – Но девочка – это слишком большая ответственность. Мне хватает проблем с собственной дочерью: она, видите ли, утверждает, что имеет полное право выходить на улицу одна, когда ей вздумается, и весь день где-то шляться.
Пожилые бабушка и дедушка Марини тоже не были уверены, чтобы готовы коренным образом изменить свои привычки и расписание ради маленькой девочки.
Дядя Даниэле растил пятерых сыновей, младшему всего три года, и никак не мог взвалить на эту святую великомученицу, свою жену, дополнительные заботы, которые только увеличили бы её усталость и рассеянность. Тётя Электра детей не имела и, более того, никогда не хотела. Только представьте, как горячо они с мужем желали после двадцати лет тихого и спокойного брака начать ругаться с сопливой девчонкой, которая даже не приходится им дочерью!
Так что в конце концов мать Лалаги, возмущённая таким эгоизмом и нежеланием прийти на помощь, гордо заявила всем прочим Марини, что её дочь отправится в интернат. В Лоссае как раз был один такой – «Благоговение», прекрасный интернат, которым заправляли французские монахини: там учились только девочки из хороших семей. Немного дороговато, конечно, но чего не сделаешь для любимой дочери...
К родственникам тотчас же вернулись доброта и щедрость, и они стали наперебой приглашать племянницу на воскресные обеды, предлагать сводить её к зубному врачу, в кино или в театр по выходным, – в общем, сделать всё, чтобы девочка ни в коем случае не перестала чувствовать тепло и заботу настоящей семьи.
(обратно)
Глава третья
Мнением самой Лалаги никто не поинтересовался. А ведь для девочки, с пяти лет жившей в атмосфере полной свободы (и даже некоторой дикости, как жаловалась бабушка) на почти необитаемом острове, быть запертой в интернате – это не шуточки.
Интернат, думала тогда Лалага, означает не только то, что ты оставляешь семью и уходишь жить к чужим людям. Это также означает, что ты не можешь одеваться так, как тебе нравится, а всегда носишь нелепую форму. Это означает, что ты ешь в трапезной, старательно поджимая локти и держа голову ровно, а в тарелке не должна оставить ни крошки отвратительной бурды, которой тебя кормят. Спишь ты в одной общей комнате с тридцатью девочками-иностранками, которые храпят или рыдают во сне. Тебе приходится соблюдать правила и жёсткое расписание: время для учёбы, время для игры, в девять гасят свет, в семь встают, всего десять минут, чтобы умыться и одеться. И почти никогда не выходишь из мрачного здания, потому что школа находится здесь же, – лишь раз в неделю, и то если за тобой явится какой-нибудь сердобольный родственник.
Всё это Лалага знала ещё до того, как получила по почте правила «Благоговения». Она читала о таком в романах: например, в «Джанни Урагани», «Маленькой принцессе», сокращённой версии «Джейн Эйр» или других историях о детях-сиротах, которым попадание в интернат не сулило ничего хорошего.
Её подруга Ирен, «девчонка из бара Карлетто», на Серпентарии с самого первого класса сидевшая с Лалагой за одной партой и делившая с ней не только удары учительской линейки, но и купания, прогулки, разведывательные вылазки, кражи арбузов и поиски пиратских сокровищ, узнав об ужасных вещах, что ждали её в городе, решительно заключила: «Я бы там и недели не продержалась».
Лалаге же с относительной лёгкостью удалось продержаться целый учебный год, её это даже забавляло. Она сразу же обзавелась кучей подруг, вместе с которыми вела ежедневную войну против «Правил внутреннего распорядка». Некоторые из этих правил были настолько абсурдны, что, казалось, их придумали намеренно, чтобы бросить вызов интеллекту и хитрости воспитанниц, изобретавших всё новые способы их нарушить, не будучи пойманными.
В письмах, адресованных Ирен, Лалага рассказывала, как девочки прячут сладости под матрасом, как тайком от наставниц смотрят по ночам телесериалы с выключенным звуком в большом зале интерната, как меняются одеждой. Она писала об открытках, самодеятельных постановках, костюмах из тюля, нейлона и сатина, присланных «Сестринским домом» из Нью-Йорка, о шутках и розыгрышах, секретных паролях, о невероятных небылицах, которые они рассказывали простодушным монахиням, чтобы оправдать опоздания... Сама Ирен, оставшись единственной одиннадцатилетней девочкой на острове, уже не ходила в школу, а училась шить у своей тёти Чичиты в Тоннаре. Из всех развлечений у неё была только библиотека дона Джулио, выжившего из ума приходского священника, который целыми днями вымарывал из романов фривольности, поскольку без электричества он даже радио не мог послушать. Ирен помирала со скуки, как, без сомнения, помирала бы и Лалага, если бы ей – вопреки всему – не повезло попасть в интернат.
Эти письма составляли весь смысл жизни Ирен. В ответ она практически ничего не могла рассказать, кроме пары деревенских сплетен и рассуждений о собственном будущем: как она вырастет и станет знаменитой актрисой, вроде Анны-Марии Пьеранджели, которую даже позвали в Голливуд, где та вышла замуж за чувственного певца Вика Дамоне и родила ребёнка, названного Перри («Пьерино», как перевёл это имя журналист «Эпохи», где напечатали эту новость) в честь другого певца, Перри Комо.
Зато в вопросах у Ирен недостатка не было. Во что одеты сестры, когда ложатся спать? А заставляет ли их обет послушания подчиняться беспрекословно, если, например, настоятельница прикажет им съесть дохлую крысу? А признается ли несправедливая пощёчина ребёнку смертным грехом или частью «образовательной миссии»? А о чём были те телесериалы? А почему их запрещали смотреть? А какого цвета глаза у соседки Лалаги по парте? Это матушка Эфизия посадила их рядом или они сами так решили? А тебе, Лалага, нравится эта Марина? Больше, чем я, твоя подруга с самого первого класса?
(обратно)
Глава четвертая
Тильда же, встречаясь с младшей кузиной за воскресным обедом у дедушки и бабушки Марини, никогда не спрашивала про интернат. Сказать по правде, она вообще не задавала Лалаге вопросов. И о себе ничего не рассказывала. В лучшем случае их разговоры за столом ограничивались фразами вроде «Передай мне соль». Не то чтобы Тильда грубила – она просто делала вид, что в упор не замечает сестру, будто та стеклянная.
И так, насколько помнилось Лалаге, было всегда.
В раннем детстве она безоглядно восхищалась и всячески пыталась привлечь внимание Тильды, выдумывая самые невероятные подвиги, чтобы та её заметила. Тильда в глазах Лалаги всегда олицетворяла само совершенство: высокая, очень красивая блондинка с чёрными, словно ночь, глазами и ресницами, ироничным взглядом и ясным, звучным голосом. Она была сильнее и смелее мальчишек-ровесников, умела ездить на велосипеде без рук, дальше всех плевалась и верховодила во всех играх.
Двоюродные братья и сестры одновременно восхищались и боялись её. Она же надменно проходила мимо, не обращая на них никакого внимания, под руку с теми подружками из квартала Капуцинов, что так не нравились тёте Ринучче, потому что они вечно щеголяли драными юбками и грязными коленками. А ещё они говорили разные плохие слова. И, разумеется, именно они научили Тильду плеваться.
Чего бы только Лалага ни отдала, что быть на неё похожей! Она пыталась подражать Тильде во всём: однажды даже два дня капризничала, требуя обрезать волосы и сделать причёску, как у кузины, старалась использовать подхваченные от той фразы, насвистывать и плеваться.
А совсем маленькой она предлагала брату и другим малышам в Таросе: «Давайте играть, как будто я Тильда, а вы – мои двоюродные братья в Лоссае», – но тем игра быстро надоедала.
Самым большим счастьем для неё было получить от тёти Ринуччи платья, которые двумя годами раньше носила Тильда.
– Оно совсем новое, его почти не надевали. Девочка растёт слишком быстро, на неё не напасёшься.
– Разве ты не рада, что она такая высокая? – спрашивала мать Лалаги завистливо и чуть обиженно, потому что её собственная дочь обещала так и остаться миниатюрной.
– Представь себе! Сорная трава всходами крепка. Я уже и сейчас не знаю, как с ней быть, то ли ещё будет через два-три года... – но было видно, что тётя Ринучча гордится своей «сорной травой», хотя, конечно, предпочла бы, чтобы та росла менее упрямой.
Лалага нежилась в платье кузины, словно в горячей ванне зимой, и жар проникал во все поры её очарованной души. Чувствуя, как оно трётся о полы жакета, ощущая жёсткую оборку на икрах, ей нравилось думать, что эта же ткань, сейчас уже пропитанная запахом её тела, когда-то обнимала Тильду. (Тильду, которой никто никогда не перечил, не говоря о том, чтобы отшлёпать или толкнуть!)

Но с тех пор, как Пау переехали на Серпентарию, платья доставались ей редко: матери это не нравилось, потому что напоминало о военном времени. Теперь, слава Богу, магазины снова ломились от одежды, и никто не запрещает зайти в «Челестрони», чтобы купить дочке красивую новую шляпку.
Из-за трёх часов пути на катере по морю встречи в доме тех или иных Марини стали теперь редки. Но даже в таких исключительных случаях Лалага продолжала жадно высматривать и подражать всему, что делала сестра. Возвращаясь домой, она старательно читала те же книги, собирала те же коллекционные карточки, пользовалась такими же заколками для волос, влюблялась в тех же певцов, чьи фото вырезала из старых журналов, но чей соблазнительный голос никак не могла услышать по причине отсутствия радио. Перед каждой встречей она тщательно продумывала три-четыре темы, казавшиеся ей безусловно интересными, чтобы попытаться завязать разговор с кузиной, записывала шутки, похожие на те, над которыми она смеялась. Но Тильда никогда не слушала, лишь изредка снисходительно бросая: «Да-да», – и сразу становилось ясно, что за разговором она не следит.
Мысль о том, что её рассматривают только как двоюродную сестру-глупышку, на долгие годы горькой занозой засела в сердце Лалаги.
(обратно)
Глава пятая
Однажды в конце мая – в одно из тех воскресений, когда все, как обычно, собрались на обед у бабушки с дедушкой, – тётя Ринучча, говоря о чём-то своём, вдруг небрежно бросила Лалаге:
– Ты уже написала матери, что это лето Тильда проведёт с вами?
Но не успела Лалага, недоверчиво покачавшая головой, открыть рот, как кузина вскочила со стула:
– Что ты такое говоришь? – воскликнула она возмущённо. – Я, как обычно, поеду в Плайямар.
В отношении пляжного отдыха жители Лоссая с давних пор делились на две партии: те, кто любил яхты и спартанскую жизнь, перебирались на остров Серпентария, где не было даже гостиницы и приходилось снимать комнаты в рыбацких домиках. Остальные ехали в Плайямар, куда уже дотянулись железная дорога, водопровод и электричество. Там построили набережную с четырьмя кафе-морожеными и ротондой для оркестра, разбили сад с фонтаном и скамейками, а на длинном песчаном пляже установили кабинки для переодевания, зонтики и шезлонги. Пляж назывался Лидо, и чтобы попасть туда, приходилось каждый раз платить за вход или покупать абонемент. В Плайямаре работали два кинотеатра, а в некоторых барах уже поставили телевизоры, потому что отдыхающие даже летом не могли оторваться от популярных передач «Угадай мелодию» и «Вдвое или ничего?».
Серпентария, конечно, ничем подобным похвастать не могла: только скалами, ветром, козами да кактусами-опунциями, жаловалась мать Лалаги мужу.
– Плайямар ещё нужно заслужить!
Марини принадлежали к партии Плайямара. Семья тёти Ринуччи бывала на острове всего пару раз, на экскурсии, в Пасхальный понедельник или чтобы посмотреть маттанцу, забой тунца. Но никто из Сорренти никогда не проводил там больше одной ночи и не рассматривал Серпентарию в качестве места длительного отдыха.
Откуда же это желание отправить Тильду на два месяца к Пау?
– Тебе нужен йод, – сказал дядя Даниэле тоном дружелюбным, но профессиональным, поскольку он работал врачом. – Ты очень бледная, и миндалины были воспалены.
– Когда это? – возмутилась Тильда. – Я прекрасно себя чувствую. А вот у него, – она ткнула пальцем в двоюродного брата, сына дяди Даниэле, – всегда болит горло.
Лалага молчала, боясь какой-нибудь невинной фразой вызвать гнев кузины. Она не могла поверить своему счастью: там, на острове, Тильда волей-неволей с ней подружится – среди горожан, приезжающих на отдых, не было ни одной девушки её возраста. Что касается девочек, постоянно живущих на острове, то к тринадцати-четырнадцати годам каждая из них либо уже работала швеёй, либо нанималась в услужение к отдыхающим. Да и в любом случае родители не отпустили бы их гулять в одиночку. Где это видано, чтобы невежественные деревенские девчонки, с грехом пополам закончившие начальную школу, водили дружбу с городскими?
С Ирен всё обстояло по-другому: Карлетто хоть и не принадлежали к сливкам общества, но все же не были ни фермерами, ни рыбаками.
– Торговцы, мелкие буржуа, – говорила мать Лалаги, которая могла соизволить поприветствовать хозяйку бара, но никогда не пригласила бы её в гости на чай. И ей очень не нравилось, что дружба между двумя девочками продолжались и после окончания начальной школы, пусть даже только потому, что иначе Лалага осталась бы на острове совсем одна.
– Почему бы тебе самой не отправиться на этот козий выгон? – спросила Тильда с вызовом. – Зачем мне туда ехать?
– Ты сама это прекрасно знаешь, синьорина, – прервал её дед, – может, хоть это тебя научит уму-разуму. Учти, решение принимала не только твоя мать – мы все с ней согласны. Так что этим летом о Плайямаре можешь только мечтать.
Тильда, побледнев от гнева, отбросила салфетку, вскочила из-за стола и направилась к двери.
– Вернись на место! – властно приказал ей дед.
– Оставь её в покое! – вмешалась тётя Электра. – Если придавать подобным выходкам слишком много значения, будет только хуже.
– По крайней мере, извинись! – прикрикнула тётя Ринучча, пытаясь показать, что обладает хоть какой-то властью над дочерью.
Тильда показала ей язык и в два прыжка выскочила в коридор.
Но её бунт так и остался всего лишь бравадой. Если уж вся семья, объединившись, решила, что ребёнок поедет к Пау, так оно и будет.
Лалага чувствовала себя виноватой перед сестрой, но ничего не могла поделать: её переполняло ощущение счастья. Беспокоило только одно: казалось, что все, кроме неё, знали причину этой ссылки. Знали, но не говорили. Впрочем, таковы уж Марини: о семейных делах они предпочитают не распространяться. Но разве сама Лалага – не часть семьи?
(обратно)
Глава шестая
В последний школьный день, после заката, сестры-наставницы «Благоговения» организовали праздник в саду для воспитанниц, которым на следующий день предстояло вернуться домой.
С ветвей лавров, пиний и пальм свисали китайские фонарики, в кустах были спрятаны подарки, а на площадке в центре развели костёр, вокруг которого воспитанницы – неслыханное дело – танцевали или просто скакали, испуская дикие крики.
Идея эта пришла в голову матушке Анне-Катерине, заместительнице настоятельницы. Она как раз недавно вернулась из миссионерской поездки в Африку, где научилась очень быстро, один за другим, словно рабочий на конвейере или Чарли Чаплин в «Новых временах», делать уколы, поскольку обнаружилось, что риск заболевания холерой там в несколько раз выше, чем предполагали, и пришлось за один день сделать прививки сотням маленьких негритят.
В Лоссае она действовала столь же быстро, но, по дурной африканской привычке, пользовалась исключительно тупыми иглами, оставляя на ягодицах воспитанниц здоровенные синяки, из-за которых те ещё неделю не могли сидеть, не взвизгивая от боли.
Нельзя сказать, что матушка Анна-Катерина радовалась возвращению в цивилизованный мир. Заболев «тоской по Африке», она всё время рассказывала невероятные истории о своей тамошней жизни: например, как ходила на рынок с большой сумкой, чтобы купить для столовой три килограмма червей.
– Да-да, червей! Там, на пальмовых циновках, их выложены целые груды, разных видов и размеров, и продают их на вес. Это, кстати, вкусная и питательная пища, богатая белком. Что у вас с лицами, откуда такая брезгливость? Вы дурно воспитаны, синьорины! Мы что же, не едим улиток? Так вот, по вкусу те черви напоминают улиток, даже во внешнем виде есть что-то общее – как будто улитки без раковин. А на материке люди из высшего света разве не едят лягушачьи лапки? Я бы скорее предпочла, чтобы с меня заживо содрали кожу! Когда-нибудь я попрошу подать в трапезную блюдо червей, да побольше, и уверена, вы просто пальчики оближете.
Девочки озадаченно переглядывались: правду она говорит или обманывает? Чего ожидает: смеха или покорно опущенной головы? Матушка Анна-Катерина, с её загорелым, будто у каменщика, лицом и громовым голосом, привычно сыплющим как приказами, так и непристойностями, казалась им очень странной.
Весь монастырь – сестры, воспитанницы, прислуга, даже садовник, – слышали, как она спорила с настоятельницей о купальных рубашках.
Эта традиция «Благоговения» поначалу удивляла и смущала Лалагу – как, впрочем, и всех вновь прибывших.
Правила гласили, что в интернате моются раз в неделю по графику, потому что на каждом этаже размещалось всего по пять ванн. Первая странность заключалась в том, что все они стояли вдоль стен одной большой душевой, и в каждой было по два отдельных крана: с горячей и холодной водой. Воспитанницы мылись по пять за один заход под строгим надзором монахини, контролировавшей процесс и следившей, чтобы все нужные места тщательно намыливались.
Но ещё более странным оказалось то, что в ванну девочки залезали не голыми, а в широкой и длинной рубашке из белёного льна. Чтобы надеть её, они вместе все с той же монахиней заходили в некое подобие раздевалки в углу за занавеской, где им каждый раз напоминали, что, пока раздеваешься, голову нужно задирать высоко вверх, потому что смотреть на собственное голое тело, а тем более касаться его руками, даже ради того, чтобы помыться, – тяжелейший смертный грех. Мыло они должны были нанести на льняную ткань, а уж потом намыленной тканью растирать кожу.
– Какая гадость! – прошептала Марина, которая сидела с Лалагой за одной партой. – Это же не гигиенично! Хотела бы я знать, кто надевал эти рубашки до нас. Будем надеяться, их хотя бы прокипятили в прачечной.
Лалаге никак не могла с этим смириться. С одной стороны, слова «смертный грех» звучали угрожающе. С другой, все эти священнодействия казались ей, в лучшем случае, смешными и бесполезными. Она была уверена, что ни одна из воспитанниц дома, летом или во время каникул, не пользовалась купальной рубашкой. И ни одна знакомая ей семья не стала бы терпеть подобное благочестие. Скорее всего, за пределами монастырей таких рубашек вообще не существовало.
И что же, теперь все попадут в ад?

Если да, то она окажется даже глубже остальных, потому что летний душ на Серпентарии представлял собой большой жестяной бак, привязанный верёвкой к ветвям фигового дерева, и она всегда мылась прямо во дворе, на виду у братьев, прислуги, а иногда даже и домовладельца. Голой. И то же самое делали Саверио с близнецами. И никто из взрослых их за это никогда не винил.
Более того, даже сами взрослые в безлунные летние ночи, когда вода теплее всего, приезжали на пляж целыми компаниями. Они, смеясь и крича, заходили в воду сняв купальники, чтобы поплавать в море голышом. И ничего не стеснялись, а наоборот, называли это «здоровым купанием».
Неужели они тоже отправятся в ад? А её отец, который каждый день заставляет своих пациентов раздеться и осматривает их везде, особенно в области живота?
(обратно)
Глава седьмая
В одну из первых ночей в «Благоговении» Лалаге приснился сон. Она плавала в море прямо возле площади перед церковью на Серпентарии, причём в купальной рубашке.
Вдруг ткань стала тяжелеть и тянуть Лалагу ко дну. Она уже ушла под воду с головой, но всё-таки успела посмотреть вниз. И там, внизу, увидела дьявола. В руке он держал похожий на гарпун для подводной охоты трезубец, которым зацепил край её рубашки и тянул, тянул...
Но, к счастью, прежде, чем окончательно утонуть, Лалага проснулась.
В следующее воскресенье, придя к бабушке, она заперлась в ванной и полностью разделась перед зеркалом. Подняла руки, чтобы получше разглядеть подмышки, повернулась боком, положила подбородок на плечо, задрала ногу. Потом села на коврик и внимательно осмотрела пятки. На одном колене виднелась царапина, уже подсохшая, так что она ногтем отковыряла корку и съела её. Кожа под коркой оказалась гладкой и ярко-розовой.
Ничего нового не обнаружилось: это было её, Лалаги, тело. Собственно, это всегда было её тело. И тело это принадлежало только ей одной.
Она вспомнила тот день в Таросе, когда впервые осознала, что такое «внутри» и «снаружи». «Снаружи» был мир – всё то, что хотелось исследовать и изучить. А «внутри» была она сама, её тело, полное скрытых полостей, похожих на сказочные пещеры: пещера лёгких, желудка, живота... И ещё мысли, надёжно спрятанные внутри головы.
А границей между «снаружи» и «внутри» служила её кожа.
Но эта граница не выглядела непреодолимой: в ней имелись отверстия, которые использовались для связи между «внутри» и «снаружи», а заодно позволяли добавлять в организм топливо, сгорающее в двигателе (как в автомобиле). С помощью этих отверстий она, Лалага, функционирует, то есть двигается, дышит, живёт. И узнает разные вещи.
Вот, например, в голове отверстий полно: это уши, через которые проникают звуки, и рот, который эти звуки производит; ноздри, впускающие и выпускающие воздух, глаза, с помощью которых в мозг попадают образы и из которых испускаются взгляды и слёзы.
Через рот входит еда, а иногда и выходит, наполовину переваренная, если случается рвота. Через него также входит и выходит воздух, как через ноздри, потому что в горле есть небольшой автоматический сортировщик, который отправляет его в лёгкие, а пищу с водой – в желудок.
В Таросе, будучи ещё очень маленькой, она любила глубоко вдыхать: тогда её грудь раздувалась, словно воздушный шар. Если упадёшь в воду, объяснил ей отец, даже плыть не надо: тебя спасёт воздух в лёгких. На дно тянет страх, от него мышцы становятся жёсткими и тяжёлыми, как свинец. А кто не боится, тот плавает, как пробка, лишь изредка шевеля пальцами ног.
(обратно)
Глава восьмая
В теле тоже хватало отверстий – настоящих и ложных, вроде пупка, который нужен только для красоты; некоторые – совсем крошечные, почти невидимые, как, например, поры, которыми покрыта вся кожа. Через эти отверстия «внутрь» проникает мир: цвета, холод и тепло, звуки, вкус, ветер, музыка, еда. Наружу выходят голос, слюни, сопли, пот, слезы, кака, пипи, а также кровь из раны, хотя отверстия ран обычно бывают неправильной формы, и их нужно немедленно закрыть гипсом или швом.
В общем, можно ещё долго об этом говорить, но в чём тут грех? Этого Лалага понять не могла. Она знала, что грех – убить кого-то, обидеть, украсть все, что тот имеет, и оставить умирать от голода, солгать в суде, чтобы осудили невиновного. Знала, что грех происходит от несправедливости и ненависти, порождая, в свою очередь, новую несправедливость, боль, голод и смерть.
Но что тут общего с тем, мыла ли ты задницу?
Разумеется, по гигиеническим соображениям намыливаться стоит получше. Этому Лалагу научила Аузилия, женщина невежественная, но очень честная и религиозная. Она любила Лалагу и, конечно, не имела намерений отправлять её в ад.
В тот день в доме бабушки одиннадцатилетняя Лалага, воспитанница интерната «Благоговение», стояла голой перед зеркалом по меньшей мере минут десять, в том числе потому, что было уже тепло. Она вдруг вспомнила, что накануне отъезда мать отвела её в сторону и попросила быть внимательнее, а если начнёт расти грудь или волосы в подмышках, сразу же написать ей, потому что тогда нужно будет объяснить ей кое-что очень важное.
Правда, Лалага уже пару лет назад узнала тот важный факт, что существует менструация. Это слово она впервые услышала, беседуя вместе с Ирен с более старшими деревенскими девочками, а после нашла в медицинских книгах отца, но матери не сказала, потому что о некоторых вещах говорить с ней стеснялась.
Но как осмотреть себя, если в интернате приходится надевать купальную рубашку? Зато теперь, воспользовавшись случаем и зеркалом, она тщательно изучила критические точки – впрочем, так и не увидев ничего нового.
Одевшись, Лалага пошла в кабинет деда, села за стол и написала письмо домой: «
Я не хочу оставаться в интернате, потому что они заставляют меня купаться в рубашке». Отец ответил ей с ближайшей почтой.
Он писал, что, конечно, сестры всё преувеличивают, но намерения у них добрые, и, следовательно, ей нужно как-то приспособиться и подчиниться этому глупому правилу, хотя со смертными грехами и адом оно не имеет ничего общего. Этот довольно странный способ принимать ванну Лалаге придётся воспринять как игру. Кроме того, интернат – единственный шанс для неё
продолжить обучение, и она, поступив туда, взяла на себя обязательства слушаться и соблюдать все необходимые правила. Он согласен, купальная рубашка – глупый пережиток средневековья. Но, в конце концов, это не вредно и не антигигиенично. Нужно лишь проявить немного терпения. С другими людьми вообще стоит быть терпеливым.
Так что Лалага сдалась, а потом привыкла. Теперь она только веселилассь, когда воздух, скопившийся под рубашкой, пузырём надувал плотную ткань, поднимая её над водой, а монахине приходилось подбегать и опускать этот аэростат. Ещё она полюбила плескать водой в подруг, кудахтавших в своих ваннах, словно куры в курятнике.
Но каждое воскресенье в доме у бабушки она принимала ванну как положено. Голой. И об аде старалась не думать.
Так что спор о рубашках её не особенно заботил, несмотря даже на возмущение матушки Анны-Катерины. «Мои африканцы целыми днями ходят по деревне голыми, но более невинных и достойных рая людей я в жизни не видела!» – закончила она, положив разом на лопатки и настоятельницу, и её средневековую концепцию скромности.
Зато Лалагу обрадовало, что матушке Анне-Катерине позволили устроить для воспитанниц праздник на всю ночь в честь окончания учебного года. Разрешили даже пригласить гостей «снаружи», но она не посмела сказать об этом Тильде. Та, конечно, отказалась бы под каким-либо предлогом. Или даже вообще без предлога, что было бы ещё хуже.
Но теперь кузине волей-неволей придётся с ней подружиться. Нужно просто немного потерпеть и дождаться, пока на Серпентарии наступит июль.
По плану Лалага уезжала уже на следующий день вместе с Аузилией, а Тильда, которой ещё предстояли экзамены за третий класс, собиралась присоединиться к ней примерно через полмесяца.
(обратно)
Глава девятая
Мысль о кузине ни на секунду не покидала Лалагу по пути домой.
– Она будет спать со мной, да? – спросила она у матери, пришедшей помочь разобрать вещи.
– Конечно. Другого места у нас нет. Так что постарайся сильно не толкаться.
Впрочем, тут можно было не стараться, потому что кроватью ей служило огромное старомодное двуспальное ложе из чёрного кованого железа, настолько высокое, что самой Лалаге ещё пару лет назад приходилось забираться на него при помощи табуретки.
Когда Пау только прибыли на остров, они сняли дом у сестры приходского священника полностью обставленным, потому что синьора Пау планировала задержаться там не дольше года и не желала иметь дела с суматохой переезда и транспортировкой своей прекрасной мебели на рыбацком траулере (не везти же её в несколько приёмов на катере!). Пришлось оставить всё имущество на складе в Лоссае, где оно и хранилось год за годом, давая всем понять, что Пау на острове только временно, а возвращение на «большую землю» – неизбежно.
Их дом выходил на площадь перед церковью в Портосальво, единственном поселении на острове, – деревушке настолько маленькой, что в ней не было ни совета, ни мэра, только церковь, школа, погранзастава и кабинет врача с амбулаторией.
Поначалу Лалага спала в большой комнате, выходившей во двор, вместе с Саверио и Аузилией. Потом, когда родились близнецы, Саверио переехал в мастерскую, а сама она – во вторую, угловую спальню, выходившую двумя окнами на площадь и одним – в сторону порта. Летними ночами, когда из-за жары приходилось оставлять окна распахнутыми, звуки с площади слышались так чётко и ясно, что казалось, будто спишь под открытым небом, а не в доме, пусть и одноэтажном, за решетчатыми ставнями-персианами.
– Мама, почему Тильда в этом году не едет в Плайямар со всеми остальными? Почему её отправили сюда?
– Что это ещё за «почему»? Разве ты не рада, что кузина составит тебе компанию на целое лето?
– Ну мама! Зачем притворяться, что не понимаешь? Все вокруг знают, а мне нельзя? Расскажи!
– Что ещё за выдумки? Что все знают, а ты нет? Нет здесь никакой тайны. Тильда стала взрослой, она не обязана вечно держаться за материнскую юбку, а я приглашала её к нам уже пару лет назад. Она же моя крестница, я держала её на руках во время крещения, помнишь?
Мама разложила по ящикам комода вещи, которые достала из чемодана, и погрозила Лалаге пальцем.
– Ты же не сплетничала с Аузилией по дороге? Смотри у меня! И сделай одолжение, перестань придумывать тайны, которых не существуют. Будь добра к Тильде и не заставляй меня пожалеть, что я её пригласила.
Катер причалил в десять вечера, когда близнецы уже поели и улеглись в постель. Остальные члены семьи, ожидая Лалагу, ужинать не садились. Сама она тоже клевала носом, но не настолько, чтобы не оценить вкус жареной картошки – особой картошки, которая росла только на огородах Серпентарии и так сильно отличалась от картошки в Лоссае, особенно в интернате. Мать, отец и брат засыпали Лалагу вопросами о школе, родственниках, о телевидении и городской жизни, но она отвечала безучастно. Мысли её уже оторвались от «большой земли» и перенеслись на остров, на начинающееся лето, которое она здесь проведёт.
Её первое лето с Тильдой. Кто знает, обрадуется ли Ирен этой новости – у неё ведь тоже каникулы, в том смысле, что с начала июня она больше не училась портновскому и поварскому искусству у своей тёти Чичиты из Тоннары, приходившейся ей также и крестной: уроки возобновятся только в середине сентября. С другой стороны, Ирен, когда в этом была необходимость, помогала в баре. Жаль, что уже слишком поздно сбегать поздороваться с ней.
Наверное, подумала Лалага, лучше отправиться прямо в постель, чтобы встать завтра пораньше. Всё равно её разбудят моторы рыбацких лодок, тарахтящие в порту прямо под окном.
Закончив ужинать и пожелав всем спокойной ночи, она отправилась в спальню, умылась водой из кувшина и скользнула под простыню. Как же хорошо, когда можешь раскинуть руки и ноги, ни во что не упираясь! Кровати в «Благоговении», со всех сторон занавешенные белым пологом, были короткими и узкими, а заправленные под матрасы одеяла напоминали коконы или корабельные койки. Дома же кровать казалась белым льняным морем, на поверхности которого Лалага расслабленно лежала в позе морской звезды.
Сон поднимался со дна, медленно, словно в тёплую воду, погружая в себя её усталое тело. Последнее, о чём Лалага подумала, прежде чем окончательно заснуть, – что через несколько дней она, вытянув ногу, сможет коснуться ноги сестры.
(обратно)
Глава десятая
Матрас вдруг закачался, как маленькая лодочка, попавшая под волну от большого корабля: вверх, вниз, вверх, вниз.
Лалага покрепче обхватила подушку и со стоном уткнулась в неё лицом. На мгновение она подумала, что всё ещё видит сон, но тут кровать заскрипела, и не успела она открыть глаза, как Тома с хохотом рухнул ей на спину. А вот Пикка смогла сохранить равновесие и продолжала прыгать, повторяя:
– Ла-ла! Ла-ла! Прос-нись, прос-нись!

Последний раз Лалага видела близнецов на Пасху, но с тех пор Пикка и Томá подросли. Она потеряла первый зуб, он недавно побывал у парикмахера, и тот, учитывая предстоящее лето, поработал особенно основательно, оставив только коротенькую чёлку на лбу. Расцеловав «Лалу», близнецы тут же поссорились из-за старшинства и с визгом и хихиканьем начали друг друга душить. Видимо, они уже позавтракали, потому что от них пахло кофе с молоком.
– Не пойти ли вам вон? – возмутилась из-за двери Аузилия. – Дайте сестре поспать. Возвращайтесь во двор и буяньте там хоть до посинения.
Похоже, две девушки, присматривающие за близнецами, ещё не пришли. Значит, ещё совсем рано, потому что Зира и Форика начинали работать в семь.
Когда близнецы ушли, Лалага снова накрылась простыней и попыталась урвать хоть на пару минут больше сна, но поняв, что спать больше не может, вскочила с постели и, как была, босиком, в трусах и майке, прошла на кухню. Тишину нарушало только кипевшее на угольной печи молоко в эмалированной кастрюле. Кипеть ему предстояло долго, особенно в летнее время, иначе никак не избавишься от всевозможных микробов, которых можно заполучить от овец или грязных рук пастуха.
Жители Лоссая пили коровье молоко, купленное в лавке, но на Серпентарии молоко было овечьим. Его по утрам разносил от дома к дому пастух, затемно спускавшийся с пастбища на лошади, а потом возвращавшийся следить за стадом. Этого высокого худого старика звали дядя Пьетро. У него была жена с волосатой бородавкой на щеке, которая жила возле нового маяка, но спал он прямо на пастбище вместе с животными. А когда Лалага и Саверио как-то раз пришли к нему с отцом, чтобы купить свежего сыра, помог им взобраться на лошадь и катал по скалам, придерживая поводья.
Позавтракав, Лалага наскоро оделась, стараясь не шуметь. Родители и Саверио ещё спали. Лугия, кухарка, вышла в магазин за рыбой, взяв с собой близнецов. Аузилия и Баинджа, прачка, складывали простыни во дворе.
– Схожу к Ирен, – вполголоса сообщила Лалага и вышла, притворив за собой дверь.
В отличие от Лоссая здесь, на острове, никто не запирал двери, даже ночью. Можно было на всё лето оставить на набережной шезлонг, и никто бы к нему даже пальцем не притронулся.
По дороге она никого не встретила. Ясное утро пахло свежестью, в море то тут, то там вспыхивали блики. Гром и Молния, охотничьи псы почтальона, лежали на ступеньках, лениво отмахиваясь хвостами от мух. Этих красавцев – рыжего, почти огненного, и белого с коричневыми пятнами, – запрещалось гладить, а если это все-таки случалось, нужно было немедленно вымыть руки и ни в коем случае не тянуть их в рот, чтобы не занести микробов. Доктор Пау так настойчиво напоминал детям об этом правиле, что при виде собак Лалага инстинктивно сунула руки в карманы.
Но вот справа показался бар Карлетто с террасой, прикрытой тростниковым навесом, и увитой виноградом решёткой-перголой. Мать её подруги подняла стулья, перевернув их на оцинкованные столы, и теперь подметает тротуар. Лалага ускорила шаг. Конечно, Ирен уже встала и ждёт её.
(обратно)
Глава одиннадцатая
За прошедший учебный год они написали друг другу десятки писем, пересказывая всё, абсолютно всё: мысли, слова, «
действия и бездействия», как говорилось в катехизисе. Но и теперь, встретившись, две подруги целое утро просидели на крыльце Лопесов, практически опершись лбами и непрерывно болтая, словно пытаясь залатать невидимыми духовными нитями, о которых, может быть, только монахини и знают, прорехи, проделанные зимним отсутствием Лалаги в ткани их дружбы.
Городская девочка научила деревенскую своей любимой игре, о которой узнала в интернате. Она называлась «Вопросы на кресте» и в целом сводилась к тому, чтобы нацарапать палкой на ноге крест (лучше всего на бедре чуть выше колена), а потом вписать в получившиеся клетки инициалы четырёх мужчин, которые тебе больше всего понравятся, – любых знакомых мальчиков, но можно и актёров, певцов, футболистов или велосипедистов, если хочется. Потом нужно посчитаться, используя буквы своего имени: Л-а-л-а-г-а-п-а-у, И-р-е-н-к-а-р-л-е-т-т-о, и жребий решит, кто из четырёх кандидатов будет мужчиной всей твоей жизни.
После этого нужно нарисовать такой же крест на второй ноге и вписать в клетки первые буквы слов «дружба», «страсть», «ненависть» и «равнодушие»: Д, С, Н, Р. Посчитавшись, но используя теперь буквы имени мальчика, можно узнать, что он испытывает к играющей.
Ирен с удивлением обнаружила, что Сандро Таронти страстно её любит, а Лалага узнала о равнодушии Эудженио Соллимы, что, впрочем, ей уже было известно. Обе согласились, что стоит поиграть позже, слегка подзагорев, потому что на бледной коже трудно разобрать буквы.
После обеда, в самую жару, они остались во внутреннем дворе бара, за перголой. Лалага рисовала на плотной бумаге танцовщиц, раскрашивала их и вырезала: Ирен всю зиму собирала фольгу от конфет, чтобы делать из неё нарядные платья и балетные пачки для этих бумажных кукол. Вырезав и одев четверых (двух взрослых и двух детей), они решили послушать пластинки.
Отец Ирен в надежде, что купальщики будут приходить к нему танцевать по вечерам, приобрёл к летнему сезону граммофон с ручкой, старомодное устройство с раструбом-громкоговорителем в форме воронки или, скорее, чашечки цветка. Каждые два-три диска приходилось менять изношенную иглу. Впрочем, без электричества синьор Карлетто всё равно не мог предоставить им ничего лучшего. На большинстве пластинок были записаны песни Клаудио Виллы, толстощёкого, потного и плаксивого певца, которого подруги терпеть не могли. Зато им понравились песни Вика Дамоне, особенно испанские, вроде «Paquito lindo» или «Besame mucho», но больше всего – танго под названием «A media luz», в котором они, к сожалению, не могли до конца разобрать слова. По словам Ирен, в какой-то момент там говорилось что-то про «третью шерсть фарфоровой кошки», но разве такое возможно?
Танго Лалага танцевать умела: её научила в интернате Габриэла Варци из третьего класса. Она знала все шаги, повороты, могла даже запрокинуть голову почти до земли, но у неё никак не получалось передать эти знания Ирен: та всё время хохотала и падала, увлекая за собой «кавалера».
– Никогда тебе не стать актрисой, пока не научишься танцевать как положено, – возмущалась Лалага.
– Это ты виновата, вести правильно не умеешь!
Вести и в самом деле оказалось непросто: за зиму Ирен подросла, обогнав подругу по меньшей мере на пять сантиметров. У неё уже начала расти грудь, бедра и попа округлились, а значит, да, в её жизни скоро появится кое-что новое.
Даже просто подойдя к Лалаге и попытавшись положить ей руку на плечо, Ирен уже не могла сдержать смех: голова подруги едва доставала ей до уха.
В половине шестого они пошли прогуляться на кладбище, чтобы почистить могилы своих любимых покойников от сорняков, а надгробия – от улиток. Покойником Ирен был пограничник Пиладе Санджакомо, который в 1927 году, «
в самом расцвете жизни, пал при исполнении служебного долга». Лалага же выбрала женщину, почти столетнюю Анджелину Таманьи, скончавшуюся в 1892 году после того, как стала для своих детей и внуков «
ярким примером жертвенности и добродетели». Очевидно, их наследники и потомки уже давно не жили на острове, а может, и вовсе забыли про них, потому что заботиться о могилах никто не собирался. Не считая, конечно, двух подруг, которым, на самом деле, именно из-за столь явной заброшенности, репейника и сорняков, покрывавших надписи и кресты, несколько лет назад стало вдруг до того жалко покойников, что они решили «усыновить» Анджелину и Пиладе. Девочки порасспросили соседей, но никто не помнил этих бедняг, никто не знал, кто они, так что подруги вольны были придумать им такие жизни, какие хотели.
Деревянные ворота кладбища завязывались простой верёвкой, так что, несмотря на табличку «
Часы работы: с 8 до 19», неурочный посетитель мог войти даже ночью. И, безусловно, когда Лалага и Ирен подрастут, они так и сделают. В список из тридцати пяти авантюр, приберегаемых на будущее, эта входила безоговорочно.
(обратно)
Глава двенадцатая
В половине седьмого причалил пограничный катер с мешком почты, а без двадцати семь подруги уже влились в небольшую группу ожидающих у дверей почтового отделения. Глупо, конечно, – ни та, ни другая не ждали ни писем, ни открыток. Ирен когда-либо писала только Лалага, а она стояла сейчас рядом. Что касается самой Лалаги, её подруги по интернату тысячу раз обещали ей писать, но для их писем было ещё слишком рано. В конце концов, они же только вчера расстались!
Только бы не пришло письмо от тёти Ринуччи, отменяющее приезд Тильды! Но нет, слишком рано и для него, даже для телеграммы.
Впрочем, доставка почты сама по себе представляла интересное зрелище. Заведующий садился у окошка, а люди подходили по одному и спрашивали:
– Есть ли что-нибудь для меня?
– А для меня?
– Антонио, я уже целую неделю жду денег с материка!
Зира с Форикой и близнецами тоже стояли среди собравшихся. Насколько знала Лалага, девушки никогда в своей жизни не получали писем, но не пропускали ни единого дня. Ожидание других было вознаграждено пакетом, одним заказным и четырьмя простыми письмами, а также пятью открытками.
Саверио получил по подписке последний номер журнала «Малыш», а Франческо Маццони, директор продуктового магазина, – пачку газет и журналов, которые завтра поступят в продажу.
(Среди прочих неудобств острова мать Лалаги не переставала жаловаться на то, что ей всегда приходилось читать вчерашнюю газету.)
В семь алтарник зазвонил в колокол – настало время вечерней молитвы. В будние дни на службу ходили только четыре или пять самых истово верующих старушек. Но приходской священник, дон Джулио, не сдавался и добрую четверть часа простаивал у дверей церкви, недобро поглядывая на отступников, проходивших мимо него в бар, домой или куда там лежал их путь, да ещё и имевших наглость насвистывать.
Подруги вернулись в бар и даже успели поиграть в шахматы, пока Аузилия не позвала Лалагу ужинать.
Все комнаты в доме освещались свечами и масляными лампами, поэтому тени не застывали, как в Лоссае, а срывались в танец при каждом движении пламени.
Пау как раз перешли к фруктам, когда заглянула Ирен:
– Брат сейчас пойдёт на причал ловить осьминогов. Говорит, может взять нас и Саверио с собой.
Если вы не знали, осьминогов привлекают, болтая в воде босыми ногами. Лалага задрожала от страха, смешанного с отвращением, когда, сидя на краю пирса, почувствовала где-то под темной поверхностью воды прикосновение склизкого щупальца. Но Пьерджорджо, брат Ирен, быстро схватил ужасного моллюска голыми руками, пару раз сильно ударил о камни пирса и добил веслом.
– Так мясо будет понежнее.
Любое другое животное подруги обязательно бы попробовали, но осьминог казался им слишком уж отвратительным. У него даже не было морды, способной передать хоть какое-то чувство – совсем как у медуз. А разве кто-то постеснялся бы прихлопнуть на пляже чертову мокрую, жгучую медузу?
В половине одиннадцатого прошли Зира и Форика. Они ночевали не у Пау, как другая прислуга, а в доме дорожного инспектора на окраине.
– Ваша мать сказала, что пора возвращаться. Лалага, ты старшая, подай пример.
– Нуу! Ещё десять минут.
– Никаких «ну». Она сказала «не-мед-лен-но».
И Пау повиновались. Карлетто остались посидеть ещё. Для них осьминоги были не просто игрой: завтра отец подаст их в салатах клиентам бара.
Так закончился первый после окончания учебного года день Лалаги на Серпентарии.
(обратно)
(обратно)
Часть вторая
Глава первая
На предпоследней неделе июня стали прибывать отдыхающие. Катер теперь ходил два раза в сутки, и всего за несколько дней население острова удвоилось.
Приезжие, по большей части из Лоссая, но также из Серраты и других городов «большой земли», размещались у рыбаков Портосальво. Эти семьи годами арендовали одни и те же дома – сами рыбаки на время переселялись в общую подвальную комнату или в «летний дом», у кого он был.
Поскольку все двенадцать километров длины и семь ширины острова Серпентария покрывали холмы, почти каждая семья владела участком земли с садом, виноградником, парой фиговых деревьев, баком для воды, загоном для свиней и небольшим строением из белых туфовых блоков с крышей, покрытой гофрированной жестью, которое помпезно именовалось «домом». Свиньи каждый день требовали еды, а ходить, конечно, приходилось пешком – счастье ещё, недалеко.
Моторизированный транспорт на острове почти не встречался: джип у пограничников, «тысячасотый»
[2] доктора, пара грузовиков и три мопеда – разумеется, не считая моторных лодок, которых насчитывалось больше пятидесяти.
Кроме того, для путешествий вверх-вниз по каменистым тропинкам самых отдалённых уголков, которых не выдержит никакая шина, местные жители держали дюжину осликов и полдесятка лошадей.
По-настоящему уединённых домов по всему острову было, наверное, с десяток, но их купальщики старались обходить стороной из-за трудностей с водоснабжением: шланги от танкера туда, конечно, не дотягивались.
Среди отдыхающих только Лопес дель Рио из Серраты не снимали дома: они давным-давно купили собственный – скорее даже небольшую виллу с выкрашенными в кирпично-красный, словно в античных Помпеях, стенами, колоннами и лодочным причалом. Три их дочери, Аннунциата, Ливия и Франциска, вели себя так, будто владели не только виллой, но и всей деревней, а то и целым островом.
Лалаге они не грубили, потому что она была «докторова дочка», но вот на Ирен смотрели как на прислугу. Честно говоря, так они относились ко всем ребятам с Серпентарии: считали их низшей расой, невежественными дикарями, рабами, которые обязаны ими восхищаться и беспрекословно повиноваться.
Лопесы приезжали на автомобиле, нагруженном чемоданами и баулами. Благодаря своему положению они могли получать разрешение на перевозку машины на катере, и каждая такая погрузка превращалась для островитян в бесплатный спектакль.
– Зачем они это делают? – всякий раз спрашивал доктор Пау, которому частенько приходилось просить у соседей лошадь, чтобы добраться к больному на пастбище: не дороги, а сплошное наказание.
– Хотят, небось, лишний раз потрясти своими миллионами перед нами, бедными работягами, – отвечал Никола Керки, «парень» из магазина, который на самом деле, будучи пятидесяти четырёх лет от роду, давно вышел из возраста парня, но однажды, отправившись на рыбалку с динамитом, сильно повредил ногу, и врачам пришлось ампутировать её ниже колена, так что он больше не мог выходить в море. Никола до смерти ненавидел богатеев-капиталистов, а заодно и священников, потому что был секретарём (а также единственным членом) местного отделения Коммунистической партии. Доктора он с трудом, но терпел, признавая, что это профессия «нужная и для человека полезная».
На самом деле на острове Лопесы автомобилем никогда не пользовались: он стоял себе в задней части двора, докрасна раскаляясь под жарким летним солнцем и собирая пыль. Как-то раз в машине забыли поднять стекло, и туда забралась бездомная кошка, которая даже вывела котят. Их убежище обнаружили лишь в начале сентября, когда горничная перед возвращением в город открыла багажник, чтобы поставить туда чемоданы.
Лопесы всегда приезжали двадцать пятого июня, ни днём раньше или позже. В этот вечер отец Ирен выставлял под тростниковый навес своей террасы ещё восемь столов со стульями в придачу к уже там стоявшим и заказывал своему поставщику на «большой земле» по блоку льда в день, чтобы охлаждать напитки, а Пьерджорджо завешивал весь балкон липучками от комаров.
К тридцатому июня отдыхающие, около сорока более или менее многочисленных семей, были в полном сборе. Приехали даже трое «дикарей», разбивших палатку на Репейном, крошечном островке на выходе из залива: три новых лица, которых раньше никто на Серпентарии не видел. Видимо, слава острова-курорта разнеслась уже не только среди завсегдатаев.

А две подруги, закрывшись у Лалаги в спальне, подсчитывали в тетрадке количество приезжих детей: получилось двенадцать мальчиков и девять девочек, не считая, конечно, малышей из начальной школы и тех, кто уже выбыл из игры, потому что ему исполнилось шестнадцать.
И не считая Тильды, которая тоже пока не появилась.
(обратно)
Глава вторая
С приездом своих подруг, Анны Лопес и Сюзанны Ветторе, синьора Пау тоже открыла отпускной сезон, вдруг превратившись из островитянки в отдыхающую. Её муж и дети, по крайней мере, те трое, что жили на острове, купались уже с середины мая. Но сама она всегда дожидалась июля и лишь тогда доставала из шкафа свой самый элегантный сарафан, купальник, соломенную шляпу и зонтик. Конечно, пляжный сезон в Плайямаре со всеми его развлечениями был бы куда предпочтительнее, но, за неимением лучшего, синьора Пау довольствовалась тем, что имела. В конце концов, летом, после долгой зимней изоляции, казавшейся ей хуже тюрьмы, на Серпентарии появлялась хоть какая-то возможность поучаствовать в общественной жизни.

Анна Лопес дель Рио и Сюзанна Ветторе принадлежали к тому же кругу, что и она сама, а с Сюзанной они и вовсе учились в одном классе.
Три дамы арендовали на лето большую яхту, на которую по утрам грузили детей и нянек, отправляясь на пляж, и которую после обеда использовали для морских прогулок и экскурсий.
Под парусом, если, конечно, позволяла погода, проводили большую часть времени все отдыхающие на Серпентарии: остров славился сильными ветрами, дувшими почти каждый день.
Самые лучшие пляжи располагались далеко от Портосальво, и добираться до них приходилось морем. Внимания заслуживали четыре: один с мельчайшим песком, один с вкраплениями белой гальки, один каменистый и один поросший бурыми водорослями, страшно вонючими, но очень богатыми йодом, полезным для здоровья детей с их нежными миндалинами.
Приезжие обычно распределялись по пляжам равномерно, по шесть-семь зонтиков на каждый, да и те на довольно приличном расстоянии друг от друга. «Моя дочурка Джиролама», как называлась яхта, арендованная матерью Лалаги и её подругами, всегда приставала к пляжу с выбеленной солнцем галькой, который назывался Конским лиманом.
– Какая здесь тишина! Какой покой! Настоящий рай на земле, – блаженно вздыхала Сюзанна Ветторе, раскладывая свой шезлонг в тени.
Франка Марини (в замужестве Пау) тосковала по весёлой толпе на Лидо в Плайямаре и вечному шуму динамиков, разносящих повсюду новые модные песенки, но не смела признаться в этом, потому что Анна Лопес дель Рио как-то презрительно заявила:
– Совершенно плебейское место! Туда ездит только пошлый народец, всякие вшивые нувориши! Я бы там и на пять минут не осталась.
Экипаж «Моей дочурки Джироламы» обычно состоял из девятнадцати человек, в том числе двух пожилых матросов, единственных взрослых мужчин в компании. Инженер Ветторе собирался приехать только в начале августа, а профессор Лопес дель Рио ходить под парусом не любил – предпочитал остаться в деревне, чтобы почитать газету и сыграть в карты с теми, кого мог завлечь. Играл он на деньги и, поговаривали, уже проиграл большую часть семейного состояния.
В конце первого дня Лалага составила на клетчатом листке, выдранном из тетради с гордым названием «Летний дневник», список пассажиров яхты. (Вести дневник предложила матушка Эфизия, но Лалага не была уверена, что по возвращении в школу захочет показать написанное учительнице словесности, как-никак монахине.)
Список получился таким:
Франка Пау
Анна Лопес дель Рио - матери
Сюзанна Ветторе
Лалага Пау
Саверио Пау
Аннунциата Лопес
Франциска Лопес - старшие дети
Ливия Лопес
Андреа Ветторе
Джиджи Ветторе
Томазо Пау
Пиккарда Пау - младшие дети
Шанталь Ветторе
Ирен Карлетто - подруга Лалаги
Зира - няни Пау
Форика
Аннеда - няня Ветторе
дядя Джироламо - матросы
дядя Прото
К этому списку время от времени добавлялись случайные гости, друзья взрослых и детей или малыши из дружественных семей, у чьих матерей внезапно разыгралась мигрень, со своими нянями.
Ирен, как видно из списка, имела статус постоянного гостя: Лалага ещё после первой поездки на Конский лиман, случившейся три года назад, заявила, что либо она будет брать с собой лучшую подругу, либо вообще не поедет на пляж.
– Но зачем тебе нужна подруга? – возмущалась мать. – Есть же Ливия и Франциска Лопес, они более-менее твоего возраста.
– Этого недостаточно, чтобы заслужить мою дружбу. Ты же знаешь, я их не выношу.
– Почему это?
– Они ведут себя слишком высокомерно.
– Ну, ты ведёшь себя не лучше... Только представь, что каждый ребёнок захочет кого-то взять с собой! Так мы даже на катер не влезем.
Этот спор повторялся из года в год, но Лалага никак не желала прислушаться к голосу разума – она бы скорее осталась в Портосальво. Там тоже был небольшой каменистый пляж у нового маяка, куда ходили деревенские мальчишки и где младшие Пау обычно купались до начала сезона, а отец – все жаркие дни, приходя в себя после тяжёлой работы в операционной.
В конце концов синьора Пау сдалась: старшая дочь была её любимицей. К счастью, Саверио и близнецы отлично ладили с детьми Ветторе. А в этом году, с приездом Тильды, может, и сама Лалага не будет настаивать на своей вечной спутнице.
Наконец первого июля пришла телеграмма от тёти Ринуччи: Тильда покончила с экзаменами, перешла в следующий класс и завтра с утренним катером прибудет на Серпентарию.
(обратно)
Глава третья
Тильда приехала одна под присмотром капитана катера, друга отца. С собой она привезла два больших и ужасно тяжёлых чемодана.
– Что у тебя там, камни? – рассмеялся доктор Пау, пришедший встретить её на пирс в сопровождении возбуждённых от любопытства детей.
– Книги, – лаконично ответила племянница.
Но это было не так. Во всяком случае, не совсем так. В комнате, отказавшись от помощи нетерпеливо суетившейся Лалаги, Тильда распаковала багаж и переложила в шкаф и комод огромное количество одежды и обуви – слишком большое для спартанской жизни на Серпентарии, где дети обоих полов ходили в одних только купальниках, футболках и шортах.
Купальников у Тильды оказалось целых четыре: три закрытых и один раздельный, очень смелый. Также наличествовало: три юбки (две плиссированных и одна с жёстким кружевным подъюбником); три длинных платья; большое количество шорт, рубашек и блузок; четыре или пять шерстяных свитеров; длинные брюки (холщовые и вельветовые); ветровка; сандалии, сабо, балетки, туфли на завязках с джутовой подошвой, золотистые кожаные мокасины... Лалага не верила своим глазам: когда и где кузина будет носить всю эту красоту? И что скажут другие отдыхающие? Лопесы, конечно, умрут от зависти.
А ведь месяцем раньше Лалага, рассуждая о вероятности дружбы с Тильдой на Серпентарии, совершенно упустила из виду Аннунциату и Франциску Лопес, пятнадцати и тринадцати лет, – самый подходящий возраст. Правда, сейчас, хорошенько подумав, она уже не боялась соперниц: те всегда отличались злобой, высокомерием и тщеславием, поэтому чужаков в свою компанию никогда не принимали, а Тильда была слишком умна, чтобы увлечься столь легкомысленным обществом. Все знали, что у сестёр Лопес отвратительные оценки в школе, поскольку они думают только об одежде да о мальчиках. На каникулах их ни разу не видели с книгой в руках, а семейство Тильды слыло интеллектуалами.
Вот и сейчас под горой одежды в чемодане обнаружилась добрая дюжина книг – все для взрослых, как заметила Лалага, – хотя этого можно было ожидать: осенью её двоюродная сестра пойдёт в гимназию.
– Ладно, теперь я хочу принять душ, – заявила новоприбывшая, закрыв последний ящик комода. – Я вся липкая. Где у вас ванная?
«Как она может не знать?» – изумилась про себя Лалага. Марини в Лоссае не переставали жалеть «бедную Франку», страдавшую без водопровода. Но Тильда, конечно, всегда витала в облаках и ни разу не соизволила услышать других.

– У нас нет ванной, – начала Лалага смущённым тоном.
– А где же вы моетесь? – воинственно поинтересовалась Тильда. – В раковине на кухне, как нищие строители?
– Ты можешь принять душ во дворе, но постарайся сильно не тратить воду. Танкер придёт только через две недели, а наши баки уже наполовину пусты.
Тильда презрительно расхохоталась:
– Всё лучше и лучше! А туалет-то у вас есть? Или справляете нужду прямо в море?
(обратно)
Глава четвертая
Чувствуя чуть ли не личную ответственность за происходящее, Лалага наскоро объяснила кузине систему обязательного сбережения пресной воды, принятую во всех домах Серпентарии.
В доме было два бака: один, с дождевой водой, которую можно пить, – за дверью в кухне (воду оттуда, как для питья, так и для приготовления пищи, черпали оцинкованными вёдрами); второй, во дворе, каждый месяц зимой и каждые пятнадцать дней летом их наполняли при помощи большого прорезиненного шланга из подходившего к берегу танкера. Этой водой пользовались для мытья, стирки и уборки. При необходимости её тоже можно было пить, но только предварительно вскипятив. (В доме Пау, к возмущению всей прислуги, кипятили и дождевую воду – эта избыточная чистота была обусловлена прихотью хозяина, до смерти боявшегося микробов.) На каждого из членов семьи в день выделялся всего один кувшин, стоявший в спальне, на мраморной полке с широким круглым отверстием для кованого медного таза-умывальника. Чтобы умыться, в таз наливали немного воды, которую после использования спускали через клапан в подставленное ведро.
Когда ведро переполнялось, его относили в туалет – крошечную будочку в глубине двора, потому что в туалете всегда нужен запас воды, чтобы смыть за собой. Использовать для этого чистую воду было бы непростительным расточительством. При необходимости в туалете пользовались и морской водой – её носили вёдрами из бухты ниже бара Карлетто, той самой, где Лугия, кухарка, пристроившись на камушке, обычно чистила рыбу.
Можно было помыться и в море, но только специальным мылом, которое почти не пенилось (его выменивали на американских кораблях). Но кожа после него становилась сухой и раздражённой, как у потерпевших кораблекрушение.
Во всех домах на острове грязную, но не мыльную воду (например, ту, которую использовали для мытья пола или чистки овощей) тоже сохраняли: ей поливали цветы в горшках и грядки во дворе.
– Короче, здесь не тратят впустую ни капли, – насмешливо произнесла Тильда, прослушав объяснение до конца. – А пипи? Их тоже используют каким-нибудь заумным способом?
К счастью, кузина расхохоталась, и Лалага с облегчением поняла, что это шутка.
В итоге Тильда решила помыться из кувшина в спальне. Она сняла платье, оставшись в трусах и бюстгальтере. Тело её ещё не стало по-настоящему женским: бедра, например, выглядели куда уже, чем у той же Аннунциаты Лопес. Да и бюстгальтер оказался поддерживающим, на косточках.
– Чего уставилась? – возмутилась Тильда, поднимая руки, чтобы откинуть волосы и завязать их сзади. В подмышках у неё росло два кустика светлых волос. – Я же сказала: мне ничего не нужно. Почему бы тебе не пойти поиграть с другими малышами?
«Я же не малыш», – хотела ответить Лалага, но не смогла набраться смелости и вышла поджав хвост – униженная и обиженная.
В гостиной Пикка и Тома забросали её вопросами о «новой кузине». Даже Зире и Форике было интересно узнать, что в этих тяжеленых чемоданах. Но Лалага грубо оборвала их:
– Займитесь своими делами! – и пошла в бар, чтобы найти Ирен и разделить с ней разочарование.
(обратно)
Глава пятая
Вторая половина дня прошла без достойных упоминания происшествий, разве что после обеда Тильда не легла, как все, подремать, а вышла из дома с книгой под мышкой:
– Пойду прогуляюсь.
– В такой час у тебя приключится солнечный удар, – сообщила ей тётя безразличным тоном, давая понять, что вмешиваться не собирается.
– Шляпу надену.
Бирюзовая холщовая шляпа очень ей шла. Лалага не осмелилась попроситься в компанию: она не была готова ко второму отказу, поэтому решила вооружиться терпением и подождать, пока Тильда сама не сделает первый шаг. Оставалось надеяться на ночь: Лалага надеялась, что в общей кровати кузина сдастся и поделится с ней своими секретами. И в первую очередь – причиной ссылки на Серпентарию.
Ирен тоже была убеждена в том, что в подобных обстоятельствах дружбы между сёстрами не миновать.
Но в самый судьбоносный момент Тильда, которая после полдника отказалась поплавать вместе с остальными на яхте, а осталась с книгой на крыльце, попросту повернулась спиной к своей соседке по кровати, улеглась на бок и, даже не пожелав ей спокойной ночи, снова принялась читать при свете свечи на прикроватном столике. Читала она серый томик из «Всеобщей библиотеки Риццоли», озаглавленный «Преступление и наказание» – судя по ширине корешка, не меньше четырёхсот страниц. А ведь это был только «первый том»!
Лалага тихонько кашлянула, чтобы привлечь внимание Тильды.
– Слушай, я не понимаю, почему...
– Заткнись, пожалуйста, – холодно ответила та. – Дай мне почитать спокойно. И не ворочайся. Я не привыкла спать с кем-то ещё, так что смотри, если ночью начнёшь ворочаться или храпеть, я дам тебе пинка и сброшу на пол.
Лалага вздохнула и сдвинулась на край матраса, чтобы уж точно не помешать.
На следующий день за завтраком Тильда объявила тёте, что и сегодня не собирается с ними на пляж, а останется читать дома.
– Я могу составить ей компанию, – немедленно предложила Лалага.
– И не мечтай! – холодно ответила синьора Пау. – Я не собираюсь мириться с вашими капризами. Тильда поедет с нами, иначе что это за отдых? Идите переоденьтесь в купальники и не забудьте полотенца.
Когда она говорила в таком тоне, спорить с ней было невозможно, поэтому Тильда молча собрала соломенную пляжную сумку и, присоединившись к компании, начала спускаться к причалу.
Лопесы не удостоили новоприбывшую даже взглядом, она ответила им столь же глубоким безразличием. С Джиджи и Андреа Ветторе, которые поздоровались и попытались, особенно старший, завязать разговор, Тильда перемолвилась парой слов, а после устроилась на носу яхты, где и просидела, не раскрывая рта, всю поездку. Синьора Пау иногда посматривала на неё и поджимала губы.
Добравшись до пляжа, Тильда расстелила своё полотенце как можно дальше от зонтиков, улеглась на живот и раскрыла всё ту же книгу. В одиннадцать она поднялась и пошла купаться: вбежала в воду и без колебаний поплыла, широко загребая и все больше отдаляясь от берега.
– Мама, смотри! Она уже далеко. А если ей станет плохо? А если она утонет? – забеспокоилась Лалага.

– Оставь её в покое. Ты что, не понимаешь: чем больше внимания мы обращаем на твою кузину, тем больше ей потакаем?
Анна Лопес расхохоталась.
– Конечно, в этом возрасте они так высокомерны, – бросила она.
– У Тильды решительный характер, она по натуре бунтарь, – смущённо пояснила синьора Пау. – Сестра просила меня не придираться к ней по мелочам, иначе будет только хуже.
У самого берега трое младших детей под присмотром нянь играли с ведёрками и совочками.

Няня Ветторе носила простой хлопчатобумажный сарафан, а вот Зира с Форикой разоделись в выходные блузки с длинными рукавами, юбки до щиколоток и платки: как и все, кто родился на острове, они никак не могли понять страсть приезжих купальщиков к солнцу и морю.
– Как будто не знают, что в море вода солёная, – говорили они презрительно, когда отдыхающие не могли их услышать.
Саверио и братья Ветторе с дикими воплями прыгали с борта яхты, Лопесы отправились навестить компанию под соседними зонтиками.
Лалага и Ирен плескались на мелководье, прямо у устья солоноватого ручейка, стекавшего с дюн.
– Значит, говоришь, не стоит приставать? – спросила Лалага нерешительно, подразумевая, естественно, «приставать к Тильде».
– Нет, совсем наоборот. Слушай, если ты будешь настаивать, только всё испортишь. Имей терпение: это займёт всего несколько дней. Но ты должна быть готова, когда она к тебе обратится.
– А если нет?
– Да быть такого не может. Это просто вопрос времени.
 (обратно)
(обратно)
Глава шестая
Но время шло, а Тильда, похоже, не страдала ни от скуки, ни от одиночества.
В компании она говорила мало и, когда могла, старалась остаться одна, однако, к большому удивлению Лалаги и Ирен, не казалась грустной и, что ещё более странно, очень заботилась о своём внешнем виде. Она проводила долгие часы перед зеркалом, пробуя новые причёски и меняя их три-четыре раза в день, старательно подбирала аксессуары в цвет одежды. И каждый день после обеда вместо того, чтобы пойти подремать в спальню или хотя бы спрятаться в тень, как это делали Лалага с Ирен, выходила на прогулку под палящим солнцем.
Как и следовало ожидать, и на пляже, и в деревне вокруг неё начали крутиться не только мальчишки-ровесники, но и ребята постарше. Впрочем, Тильда не соизволила обратить на них внимание. А когда Серджо Ладо однажды настоял на том, чтобы сопровождать её во время послеобеденной прогулки, она вообще вела себя так, словно он придурок и отпетый хулиган.
– Не смей больше за мной ходить! Хотя... знаешь, что? Не смей даже заговаривать!
Бедняга Серджо! Вот же досада: до сих пор он считался самым очаровательным и неотразимым сердцеедом, настоящим Порфирио Рубиросой
[3] Серпентарии!
О том, чтобы прогуляться во второй половине дня на яхте с тётей или кем-то из детей, Тильда даже и слышать не хотела.
– Мне хватает двух переходов в день, до вашего Конского лимана и обратно, – заявила она.
Согласно неписаному закону, прогулки под парусом во второй половине дня не считались для отдыхающих обязательными. Кое-кто из них, особенно взрослые, после сиесты предпочитал порыбачить на пристани, другие занимали себя бесконечными карточными играми на террасе бара Карлетто, где благодаря камышовой крыше и заросшей виноградом перголе было прохладно.
Страдавшая морской болезнью Лалага и без того приносила большую жертву в виде ежедневного путешествия из Портосальво до пляжа и обратно. Отчасти это
компенсировалось удовольствием от купания в чистейшем море, но всё-таки жертва есть жертва, поэтому от послеобеденных прогулок на яхте она с самого детства была освобождена. Так что и племяннице синьора Пау не могла запрещать оставаться дома после обеда.
Но Тильда так ни разу и не присоединилась ни к вылазкам двоюродной сестры и её подруги, ни к их играм на улицах Портосальво или во внутреннем дворике бара, и после нескольких дней возбуждения Лалага совсем опустила руки: видимо, надеждам не суждено было сбыться.
– Она не хочет иметь со мной ничего общего, не могу же я её заставлять, – жаловалась она Ирен.
(обратно)
Глава седьмая
Теперь, когда Лалага потеряла всякую надежду привлечь внимание кузины, подруги вернулись к обычной жизни. И, поскольку близилось шестое июля, они решили отпраздновать день рождения Анджелины.
Зира и Форика считали празднование дня рождения давно умершей женщины безумием, а то и святотатством. Но Ирен смотрела на это по-другому:
– День рождения – это же всё равно что именины. Сами знаете, в церкви чуть ли не ежедневно отмечают именины какого-нибудь святого! А ведь святые поголовно покойники.
– Ваша Анджелина – никакая не святая!
– А кто это может знать? На могиле написано: «
ярким примером жертвенности и добродетели». Если уж даже после этого она не попала на небо...
Лалага сильно сомневалась, существует ли рай на самом деле, и эти сомнения были связаны не с тем, заслуживала ли его Анджелина, а с той жизнью или, скорее, существованием, которое влачат мёртвые.
С самого «удочерения» она частенько задавалась вопросом, в курсе ли бедняжка-покойница всего этого внимания: уборки надгробия, свежих цветов, молитв, празднований дней рождения... Знает ли она, что происходит на свете? Существует ли где-то, в какой-нибудь невидимой форме, не имея тела, но обладая сознанием, позволяющим ей видеть и слышать? А то легко сказать: «рай»... Но если тело Анжелины, тлеющее в старой могиле, так до сих пор и не обрело воскрешения (а оно, как известно, произойдёт только после конца света, в день Страшного суда), то ни глаз, ни ушей у неё больше нет. И как же тогда она видит и слышит?
Вот матушка Эфизия в тот день, когда Аврора Леччис плакала по только что умершей бабушке, всё ворчала:
– Ну-ка, прекрати! Она же смотрит на тебя и, конечно, ужасно сердится.
А сидевшая за соседней партой Лалага вдруг подумала: «Если она смотрит, то, значит, видит и меня тоже?» От этой мысли ей стало нехорошо. И потом, когда она думала о мёртвых, ей не давал покоя ещё один вопрос: что же конкретно они ощущали? Могли только видеть и слышать – или чувствовали тепло и холод, вкус и запах? Запах – наверняка, иначе какой смысл приносить на могилу цветы и окуривать её ладаном на похоронах? Но если покойники чувствуют запахи, они должны чувствовать и вонь гниющих цветов, и даже запах своего разлагающегося тела. Ужасное, должно быть, ощущение!
Взрослые, если она их спрашивала, вместо ответа только ругались: «Ты что такое удумала? Вот же извращённый ум у этой девчонки!» Оставалось обсуждать животрепещущую тему с Ирен, а та сразу принималась фонтанировать другими вопросами. Например, когда обе они умрут, что бы она предпочла: чтобы случилась всемирная катастрофа, и мир был уничтожен, – или чтобы он продолжал существовать без них?
Этой дилеммы они пока так и не решили окончательно, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Но одно подруги знали точно: Пиладе и Анджелина наверняка не смогут ничего выбрать, потому что мир уже существует после их смерти и разрешения у них не спрашивает.
(обратно)
Глава восьмая
Так или иначе, чтобы успокоить религиозные терзания нянь, после обеда две подруги открыли праздник торжественным шествием. Стояла жара, солнце палило изо всех сил, потому что была всего половина четвёртого. Но они выбрали именно это время, чтобы не встретить взрослых, которые могли бы посмеяться над ними или отпустить парочку саркастических комментариев.
Однако поскольку вдвоём составить хорошую процессию невозможно, пришлось пригласить близнецов с их нянями и Шанталь: в тот день они как раз собирались провести вместе сиесту и вместе же сбежали через окно. По дороге к процессии пристроились несколько малышей из Портосальво и две собаки, Гром и Молния, но их оставили за воротами кладбища, привязав к дереву.
Ирен несла букет цветов, а Лалага – праздничный торт, приготовленный Лугией в обмен на добрую сотню комплиментов и торжественное обещание перекусить им во время прогулки до Волчьей бухты. По правде говоря, это был пропитанный ликёром «Алкермес» бисквитный пирог, в который Лалага воткнула шестнадцать свечек.
Если быть совсем точным, то Анджелине, доживи она до этого дня, исполнилось бы сто шестьдесят, но все присутствующие удовлетворились и меньшим количеством:
– Будем считать, что каждая свечка идёт за десять.

Ветер на кладбище оказался таким сильным, что пришлось поставить торт на землю у ограды и укрыть его юбками двух нянь, иначе свечи зажечь никому не удавалось.
– Кто задует? – с надеждой спросила Шанталь, уже готовая глубоко вдохнуть: как и все малыши, она с трудом сдерживалась при виде горящих свечей.
– Душа Анджелины, – ответила Ирен намеренно низким голосом, чтобы напугать детей, и вынесла пирог из импровизированного укрытия.
Правда, налетевший ветер не только погасил пламя шестнадцати свечек, как это и было задумано, – он выхватил из рук и сам бисквит, подняв его в воздух и унеся далеко за ограду кладбища. Участники шествия завизжали, а Лагага выскочила за ворота и бросилась догонять пирог.
Но только она углубилась в миртово-фисташковые заросли, как вдруг увидела, что сквозь густую листву движется что-то белое. На мгновение кровь застыла у неё в жилах при мысли, что призрак Анджелины всё-таки явился. Но ещё сильнее она испугалась, узнав кружевную блузку Тильды. Что кузина делает так далеко от дома? Просто гуляет в одиночестве? Тогда зачем прячется? Может, она следила за ними? Шпионила? Все эти мысли пронеслись в голове Лалаги за какие-то доли секунды. Неужели Тильда наблюдала за их шествием? И теперь засмеёт её, а то и вовсе станет презирать, считая соплячкой, играющей с малышами в детские игры?
Она неуверенно остановилась. Тильда тоже остановилась, но, узнав кузину, снова двинулась вперёд.
– Слава богу, это ты. Больше никого не видела? – произнесла она, слегка запыхавшись. Лалага удивлённо покачала головой. Тильда двинулась дальше. – Слушай, пообещай не рассказывать, что меня здесь встретила.
– Зачем это?
– Никому, поняла? Пообещай! А там кто? – подозрительно спросила Тильда, кивнув в сторону ворот кладбища.
– Зира, Форика, Ирен...
– Им тоже не говори.
Лалага не понимала, что происходит. Все знали, что кузина каждый день гуляла за околицей. Почему бы не пройтись и в сторону кладбища? Какая разница, куда ходить?
– Лалага, – умоляющим тоном попросила Тильда. – Сделай это для меня, пожалуйста! Это очень важно. Пусть у нас будет свой маленький секрет.
Она впервые говорила с сестрой так проникновенно, будто полностью ей доверяла.
– Давай, поклянись! – настаивала Тильда. Но её терпение скоро кончилось: – Ладно, чего ты хочешь взамен?
– Да брось! Ничего я не хочу! – возмутилась Лалага. – Мне-то какое дело? Если тебя это так волнует, я никому не скажу.
– Поклянись!
– Ладно, обещаю.
В интернате она узнала, что клясться можно, только если речь идёт о жизни или смерти. Поклявшись, ты призываешь Бога в свидетели, а его не стоит беспокоить по пустякам; об этом даже говорится в заповедях: «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе».
Кузина была удовлетворена – отчасти потому, что очень торопилась исчезнуть. Она довольно улыбнулась и, не произнеся больше ни слова, скрылась в кустах.
А Лалага озадаченно пошла поднимать пирог, в процессе полёта утративший большую часть свечек.
Весь остаток дня она пыталась осмыслить эту странную встречу, но, как ни старалась, разумного объяснения поведению Тильды найти не смогла.
Теперь у них появился общий секрет. Но сможет ли это изменить их отношения?
(обратно)
Глава девятая
Тильда в тот вечер легла спать сразу после ужина. Лалага тоже хотела отправиться вслед за ней, но Ирен попросила зайти помочь в баре, и она не смогла отказаться, не объяснив, в чём дело.
Хранить что-то в тайне от подруги оказалось странно и неуютно. Сколько лет они были знакомы, столько рассказывали друг другу обо всём, что с ними случалось. А уж как она сама бы расстроилась, если бы узнала, что Ирен, постоянно с ней общаясь, что-то скрывает!
Обычно Лалаге нравилось, когда ей поручали помыть стаканы за оцинкованной стойкой бара или когда синьор Карлетто доверял ей поднос, чтобы отнести на тот или иной столик. А вот синьоре Пау казалось несолидным, что дочь доктора работает обычной официанткой. Сперва она даже хотела запретить Лалаге подобные занятия.
– Да кто же воспримет это всерьёз? – заметил её муж. – Она ведь ещё ребёнок. Все понимают, что она просто играет.

Синьора Пау вздохнула: в этой семье никогда не слушают разумных доводов.
– Ладно, Лалага, иди играть в прислугу. Но не вздумай принимать чаевые!
Так что все чаевые уходили Ирен. Правда, тратили их подруги вместе, покупая журналы, переводные картинки или лакричных червяков.
Но в тот вечер Лалага постаралась побыстрее вернуться домой. Он боялась, что если придёт слишком поздно, Тильда уже будет спать. Но когда она вошла в комнату, кузина ещё читала.
– Привет, – начала Лалага.
– Прив, – ответила Тильда, не отрываясь от книги.
– Так что...
– Что? – тон был таким же, как всегда: сухим и враждебным.
– Я про то, что случилось после обеда. Когда мы встретились возле кладбища. И ты заставила меня пообещать...
– А ты пообещала. И всё, хватит об этом.
– Но зачем?
– Спокойной ночи.
Тильда резко захлопнула книгу и задула свечку.
– Эй, ты чего?! – воскликнула Лалага, которая ещё не закончила мыть ноги.
Ни звука в ответ.
Значит, ничего не изменилось. Смирившись, Лалага умылась в темноте, нащупала дверь и пошла на задний двор, чтобы вылить таз на клумбу. (На ночь ноги только споласкивали без мыла, чтобы смыть дорожную пыль, а воду использовали для полива гортензий.)
Вернувшись, она по дыханию кузины поняла, что та не спит. Лалага молча забралась на кровать и скользнула под простыню, стараясь не сдвигаться к центру матраса, но сетка все равно предательски заскрипела.
«Чего ты хочешь взамен?» – спросила Тильда днём, очевидно, приняв её за маленькую шантажистку
«Твоего доверия», – должна была ответить Лалага. Но не ответила, а теперь уже не могла, да и не хотела этого делать. Она не шантажистка, и дружба из жалости ей тоже не нужна: у неё тоже есть гордость.
Она решила, что отныне будет стараться по возможности избегать кузины. И начала прямо на следующий день: села на яхте как можно дальше от Тильды, а на пляже держалась возле зонтика, отказавшись от приглашения Ирен сделать традиционный круг по мелководью, во время которого обычно проверяла многоходовые комбинации по сближению с сестрой.
Лалага даже не пошла играть в волейбол против ребят из-под соседнего зонтика. Ирен не могла понять, что с ней творится.
– Похоже, у Тильды сегодня хорошее настроение! Смотри, если мы упустим мяч, она, скорее всего, нам его подаст. А потом, может, искупается с нами.
– Хватит. Я устала за ней бегать.
Ирен взглянула на подругу неодобрительно: такое непостоянство оказалось для неё сюрпризом. Её жизненный девиз: «С людьми нужно быть терпеливой», – напоминал девиз доктора Пау, но продолжался более оптимистично: «В конце концов побеждает тот, у кого больше терпения».
Лалага же пошла на берег поиграть с близнецами и помочь им построить из песка модель гоночного автомобиля в натуральную величину. Она старалась не смотреть в сторону Тильды, но в какой-то момент та привлекла внимание Ирен:
– Смотри, к ней подходит Аннунциата! Тильда закрывает книгу и приглашает её присесть! Они разговаривают! Лагага! Твоя сестра общается с Аннунциатой!
Впрочем, продлилось это общение недолго. Не прошло и пяти минут, как Тильда снова улеглась на самом солнцепёке и раскрыла книгу, а старшая Лопес с кислой миной вернулась под свой зонтик.
– Слава богу! – вздохнула Ирен.
А Лалага вдруг почувствовала горячее желание открыть ей всю правду.
(обратно)
Глава десятая
Теперь, когда она твёрдо решила держаться подальше от кузины, судьба будто нарочно сводила их вместе.
Около полудня Лалага с Ирен отправились в летний домик Карлетто, чтобы задать корм свинье. Летом её рацион стал куда более изобильным за счёт корок от арбузов и дынь: отец Ирен охлаждал их мякоть во льду и подавал купальщикам. Лалага с грустью поняла, что в ноябре бедную свинку, которая, завидев их, просунула пятачок сквозь решётку ворот и радостно захрюкала, грубо и бесцеремонно зарежут.
– А я вот как подумаю, что через несколько месяцев буду есть все эти огрызки и гнилье в виде окорока, такое отвращение накатывает, – заявила Ирен.
– Зато тогда твой окорок хотя бы станет похож на настоящий, – пошутила Лалага, ткнув пальцем в пухлое бедро подруги, выползшее на всеобщее обозрение из-под задравшихся шорт.
Ирен рассмеялась, нисколько не обидевшись. Конечно, хорошо бы стать стройной и элегантной, как Тильда. Но даже если это не так, она не будет брать пример с болезненно толстой Ливии Лопес, которая продолжает при каждом удобном случае обжираться сладостями и жареной картошкой.
Разумеется, думала Лалага, главный вопрос в том, что если съесть слишком уж много, то не наращиваешь кости и мышцы, а просто нагуливаешь жир. Ведь жир, особенно белое сало, – совсем не то, что красное мясо, они даже не смешиваются, и это очень ясно видно на куске ветчины. Кто же это придумал, что до определённого момента спагетти или арбузные корки превращаются в ярко-красное мясо, в мускулы, перекатывающиеся под кожей, а потом вдруг – в дряблый белый жир? Ведь есть же люди, которые много едят, но не толстеют?
– Это зависит от метаболизма или, иными словами, обмена веществ, – объяснил ей однажды отец. – За один и тот же путь чей-то мотор сжигает больше топлива, а чей-то меньше.
Интересно, у свиньи тоже есть метаболизм? По-моему, это какое-то жульничество: хозяин таскает и таскает ей еду в надежде раскормить побольше, а свинье и горя мало: вечно худющая, будто охотничья собака.
– Лалага, взгляни-ка туда! – закричала вдруг Ирен, взобравшаяся верхом на створку ворот, чтобы покататься на них. – Там твоя сестра!
И действительно, по дорожке, спускавшейся с холма в деревню, между потрескавшихся каменных стен быстро шла Тильда. В лимонно-жёлтом лёгком сарафане, туфлях, белых гольфах и всё с тем же романом под мышкой (на этот раз «том второй») она выглядела безумно привлекательной. Но какой смысл так тщательно наряжаться ради прогулки по холмам и пустошам? Подруг она не замечала – по крайней мере, пока не дошла до самых ворот.
– Привет, Тильда! – воскликнула радостно Ирен. – Что ты здесь делаешь?
Тильда не соизволила ответить, как будто не услышала, но строго поглядела на Лалагу и поднесла палец к губам.
Лалага слегка нахмурилась, показывая, что поняла. И снова молчание! Но почему, черт возьми?
«Если вечером она не объяснит, в чем дело, то, обещала я или нет, всё расскажу маме», – подумала она сердито. Впрочем, Лалага знала, что не сделает этого – на предательство она была не способна.
И потом, даже если она сообщит, что встретила сестру возле кладбища и у летнего домика Карлетто, мать только скажет: «И что? Где-то же должна гулять девушка, которой не нравится лежать после обеда. Мы все прекрасно знаем, что она каждый день любуется солнышком. Главное, чтобы не гуляла без шляпы».
Уж в чём в чём, а в этом Тильду никак не упрекнёшь: никто не видел, чтобы она гуляла с непокрытой головой.
(обратно)
Глава одиннадцатая
Той ночью Лалага вдруг проснулась и пару секунд не могла понять, где находится. Было темно, и ей показалось, что она снова в «Благоговении», в огромной спальне на тридцать кроватей, занавешенных белыми пологами.
«Кто-то болтает, – подумала она, услышав приглушенный голос. – Так они, пожалуй, воспитательницу разбудят».
Но тут же вспомнила, что уже вернулась домой, узнала свою огромную кровать – и голос Тильды.
Погодите, она же спит! А Лалага и не подозревала, что сестра разговаривает во сне.
– Да, – сказала Тильда. – Да, я тоже. Очень. Ну да! Ты прекрасно знаешь, как, – она вздохнула, потом хихикнула.
Что же такое ей снится?
Лалага уже затаила дыхание, чтобы не разбудить сестру, как вдруг осознала, что матрас слишком уж прогнулся в её сторону, а значит, в постели она одна. Да и голос сестры раздавался не сбоку, а дальше, от окна. Там, где сквозь прикрытые ставни протянулась бледная полоска света, виднелась тёмная тень.
Лалага была настолько поражена, что инстинктивно приподнялась на локтях, пытаясь хоть что-то разглядеть, и кровать заскрипела.
– Уходи! – испуганно прошептала Тильда.
На улице послышались быстрые осторожные шаги.
– Кто там? – вполголоса спросила Лалага.
Сестра не двигалась, даже не повернула головы.
– Никого. Спи.
– Я слышала, как ты с кем-то говорила.
– Да отстанешь ты от меня или нет, паршивка? – раздражённо зашипела Тильда. – И днём, и ночью преследуешь! Кто тебя приставил шпионить за мной? Твоя мать? Или моя?
– Я вовсе не шпионю. Ты меня разбудила. Как же мне не услышать?
Тильда с грохотом опустила ставни, которые подняла, чтобы поговорить с таинственным незнакомцем, и, фыркнув, вернулась в кровать, заскрипевшую в темноте под её весом.
– Если я скажу тебе кое-что, поклянись, что никому не расскажешь! – начала она заговорщическим тоном.
– Нет. Хватит с меня твоих секретов. Знаешь, что? Меня это ни капельки не волнует, – ответила Лалага, натягивая на голову подушку. – Дай поспать.
– Пожалуйста. Это очень важно, – голос Тильды стал умоляющим.
– Для тебя – может быть. Но не для меня. Спокойной ночи.
– Слушай, я уверена, что если ты все узнаешь, ты меня поймёшь.
– Нет.
– Лалага, что за ребячество! Ты уже большая девочка. Если мы не можем друг другу доверять...
– Так это ты мне не доверяешь! Иначе зачем столько клясться? Мне можно рассказать всё, что только захочется.
– И ты никому не проболтаешься?
– Конечно, нет.
– Даже Ирен?
– Ирен – не то, что другие. Она моя лучшая подруга. Мы всё друг другу рассказываем.
– Но она же не моя лучшая подруга, а секрет МОЙ, и он должен остаться только между нами. Обещай, что не расскажешь о нём даже Ирен.
– Нет.
– Тогда ты шпионка, сплетница, трещотка проклятая!
И, к удивлению Лалаги, кузина расплакалась.
– Не могу больше! Не могу! – рыдала она.
Лалага протянула руку и погладила её по плечу.
– Ну, хватит, не надо, – почувствовав, что жалеет сестру, она смягчилась. – Ладно, я не скажу даже Ирен. Доверься мне.
– Обещаешь?
– Обещаю. Давай, рассказывай.
(обратно)
Глава двенадцатая
Поминутно всхлипывая и вытирая слезы уголком простыни, Тильда наконец раскрыла тайну своей ссылки: это было, как уже поняла Лалага, наказание и одновременно предосторожность, чтобы не дать ей встречаться с парнем, в которого она влюбилась на рождественских каникулах.
– Но «они» узнали только в мае и пришли в ярость.
– Почему это?
– Говорят, я ещё слишком маленькая.
– Тебе уже почти четырнадцать лет!
– Именно. Но для моей матери, отца, для всех дядюшек и тётушек, дедушки и бабушки, я по-прежнему сопливая малолетка. И он, по их мнению, не лучше.
– А сколько ему?
– Четырнадцать, как и мне. Исполнится перед Рождеством.
– Как его зовут?
– Джорджо.
– Он красивый?
– Замечательный. Похож на Таба Хантера.
Этого актёра Лалага неоднократно видела в кино: симпатичный блондин с доверчивым лицом. Обычно он играл роль младшего брата героя.
– Бабушка говорит, что он, наверное, проходимец, – продолжала Тильда. – Она так думает, хотя ничего о нем не знает. Никто из наших даже не представляет, как он выглядит.
– Он что же, не из твоей школы?
– Нет, из четвертой.
Средняя школа в бедном квартале. Лалага вздохнула. Она начала понимать, что в этой истории проблем не меньше, чем у Монтекки и Капулетти.
– У его отца овощная лавка, – добавила Тильда. – А мать сама надевает фартук и стоит за прилавком.
– Они из бедных?
– Не думаю. У них есть машина, а летом они ездят в Плайямар. Там мы и встретились. Но для Марини этого мало. Тётя Электра говорит, что это презренные, вульгарные люди и что она ни за что бы не пустила мать Джорджо дальше прихожей.
– Прости, но он-то в чём виноват?
– Ни в чём. Но когда они узнали, что мы гуляем вместе, даже побили меня, представляешь? И запретили выходить на улицу одной.
Лалаге стало жаль расчувствовавшуюся сестру, и она, протянув руку, снова погладила ту по плечу.
– Но мы все равно продолжали встречаться. Мне помогали подруги. Чего только мы вместе не напридумывали!
– Так ты с ним встречалась? И не боялась, что кто-нибудь узнает?
– Уже узнали. Папа нашёл письмо, которое я забыла в книге. Он очень кричал, дал мне пощёчину и даже собирался заявиться к отцу Джорджо с угрозами. А дедушка сказал: «Какой позор – якшаться с сыном зеленщика!» Настоящая трагедия.
– А потом?
– Потом бабушка сказала, чтобы он прекратил. Достаточно того, чтобы я стану выходить из дома только в сопровождении горничной, а летом, когда Джорджо уедет с родителями в Плайямар, меня отправят на все каникулы к вам. «С глаз долой – из сердца вон», – вот что сказала эта старая ведьма. По её словам, за несколько месяцев я его забуду.
Услышав это, Лалага тоже рассердилась. И даже обиделась на бабушку.
(обратно)
Глава тринадцатая
Но дальше пошла самая интересная часть рассказа Тильды. Потому что преследуемые влюблённые использовали весь свой арсенал хитростей, а жестокие тюремщики снова и снова оставались в дураках.
Джорджо начал повсюду рассказывать, что поедет не в Плайямар с родителями, а к какому-то дяде на материк. Как и предполагалось, эти слухи дошли до Марини, которые слегка успокоились, но не настолько, чтобы отменить ссылку: по крайней мере, Тильду нужно наказать за непослушание. Они и не подозревали, что парень, уверенный в том, что никто из отдыхающих, а уж, тем более, из Пау, не знает его в лицо, разбил с двумя друзьями лагерь на Серпентарии.
– Видела их палатку на Репейном острове? Это они. Мой – блондин.
– Надо же! А он и правда красавчик.
Кто бы мог подумать? Три «дикаря» с Репейного частенько заходили в бар Карлетто, чтобы наполнить бидоны водой или купить сигарет, и Лалага с Ирен не раз отпускали восторженные замечания по поводу светловолосого парня, так похожего на американского актёра. Двое других выглядели намного старше – лет по восемнадцать-двадцать. Эта троица любила подводную рыбалку, проводя всё время на морском дне, и им частенько удавалось наловить столько рыбы, что съесть её всю они не могли, поэтому сдавали излишки в магазин, так что в деревне их теперь знали.

Вот ахнет Ирен, когда узнает, что красавчик, которому они сделали столько комплиментов, на самом деле влюблён в Тильду! У Лалаги даже мурашки побежали по коже при мысли, как она объявит эту новость подруге, и лишь минут через пять до неё вдруг дошло, что с Ирен на эту тему ей говорить нельзя.
Начав рассказывать, Тильда уже не могла остановиться и вываливала на Лалагу всё новые и новые подробности. Влюблённые встречались каждый день после обеда, но никогда не использовали одно и то же место дважды. Свидания получались очень короткими, Тильда боялась, что их обнаружат. К тому же Джорджо слишком зависел от своих друзей: ему каждый раз приходилось брать с собой Пьетро или Джакомо, чтобы те уводили лодку подальше от места встречи.
Именно поэтому Тильда выходила из дома после обеда, во время сиесты, когда все на острове отдыхали, а Джорджо время от времени появлялся в деревне по ночам, чтобы поговорить с ней через окно.
– Значит, сегодня был не первый раз.
– Нет. Но раньше ты не просыпалась.
Лалага восхищалась смелостью сестры. А если бы о тайных разговорах узнала мать?
– Об этом мы тоже подумали. Джорджо сказал бы, что один из его друзей заболел, и он стучал в окно, чтобы вызвать врача. Пьетро и Джакомо предупреждены, они должны сказать, что ели сырые мидии, и сделать вид, что у них сильно болит живот.
Короче говоря, всё было прекрасно продумано, и единственным препятствием оказалась именно она, любопытная надоеда-сестрица.
– Но теперь-то ты на моей стороне, правда? Теперь ты мне поможешь? Понимаешь, почему это нужно держать в секрете?
(обратно)
(обратно)
Часть третья
Глава первая
На следующий день на пляже случилось несчастье: входя в воду, Тильда наступила на морского дракона. Эти отвратительные рыбины очень любят зарываться в песок у самого берега, оставляя снаружи только три ядовитых шипа на хребте. Всем известно, что боль от шипов морского дракона просто невыносимая – похоже на боль от сильного электрического разряда, но только долгая и непрерывная.
А ведь всего неделю назад по той же причине стало плохо бухгалтеру Маффеттони! Доктору Пау даже пришлось сделать ему укол кордиамина. Бухгалтеру ещё повезло, что всё произошло в деревне. Но бедняжку Тильду ужалили на пляже, где нет ни шприца, ни стимулятора, а до амбулатории плыть целых сорок минут.
Лёжа на песке, окружённая людьми, Тильда кричала и корчилась от боли. Нога между тем уже начала опухать.
– Нужен хотя бы аммиак, – сообщила её тётя, выразительно оглядев подруг. – Ни у кого случайно нет с собой флакона нашатыря?
Нашатыря не нашлось. Тома и Шанталь отправили спросить под соседними зонтиками. Дети пробежали вдоль всего пляжа, но вернулись с пустыми руками. Как непредусмотрительно! Разве можно плыть куда-то с таким количеством детей, не взяв с собой средств первой помощи?
Поняв, что никто и ничто не поможет ей унять боль, Тильда завыла, как койот.
– Если нет аммиака, поможет только протирание мочой, – деловым тоном заявила Сюзанна Ветторе.
– Только нужен мужчина, он сможет направить струю куда надо, – добавила Анна Лопес.
Синьора Пау бросила скептический взгляд на другие зонтики. Она сомневалась, что хоть кто-то из немногих приехавших сегодня на пляж людей, включая присутствующих, готов будет помочиться на ногу его племянницы. Во всяком случае, Зира и Форика, потрясённые самим фактом подобного предположения, уже направились в сторону заросших кустами дюн: присутствовать при таком позоре они не станут даже под страхом смерти. Тильда сдавленно кричала, закусив край полотенца.
– Думаю, это должен быть я, – вызвался Тома, схватившись за резинку плавок.
– Нет, нужен взрослый. У детей ещё не вырабатывается достаточного количества аммиака, – разочаровала его мать.
– Давай, Джиджи, чего ты! – кивнула Сюзанна Ветторе старшему сыну: уж двенадцать-то лет явно лучше, чем пять. Но Джиджи, красный как помидор, убежал в воду. Три сестрицы Лопес захихикали.
Лалага была в ярости: как можно заставлять бедную Тильду так долго страдать из-за какой-то скромности? Она схватила ведёрко Пикки:
– Никто же не говорит, что нужно писать прямо на ногу! Я попрошу синьора Казати, он может наполнить его, прикрывшись халатом.
Но Ирен придумала ещё лучше. Он вошла в воду, добрела до яхты, стоявшей на якоре в нескольких метрах от берега, быстро переговорила с двумя матросами и вернулась с бутылкой из тёмного стекла в руках.
– Вот вам аммиак! Чистейший!
И как же они сразу не подумали! Во время процедуры Тильда только стонала, сжав зубы. Боль стала уже не такой резкой, но нога опухла, а кожа вокруг раны почернела.
– Надо вернуться в деревню, – раздражённо фыркнула Анна Лопес: из-за этой плаксы всей команде «Моей дочурки Джироламы» придётся раньше времени собирать зонтики, шезлонги и полотенца.
– Но я даже не успела искупаться! – возразила Франциска.
– Тем хуже для тебя, – возмущённо сказала Ирен.
– И вообще, ты должна быть рада, что сама не наступила на морского дракона. Ведь это тебя он ждал, зарывшись в песок, – добавила Лалага. – Точно, именно тебя и ждал. А Тильда попалась случайно.
Чтобы добраться до лодки, Сюзанна Ветторе велела Джиджи отнести причитающую Тильду на руках. Всю дорогу до деревни Лалага с Ирен сидели с ней рядом, держа бедняжку за руку и смачивая ей лицо морской водой.
Дома Тильду сразу же уложили в постель. Дядя перевязал ей рану и измерил температуру.
– Лалага, беги в бар и принеси льда.
– Что ещё за глупости! – воскликнула его жена: термометр показывал тридцать восемь. Но вы же знаете врачей: когда речь идёт об их семье, у них вечно какие-то необоснованные страхи.
– Знаю, знаю, что никакой опасности нет, – ответил доктор слегка обиженно. – Но в такую жару ей нужно хоть немного прохлады. А завтра снова будет свежа, как роза.
 (обратно)
(обратно)
Глава вторая
– Лалага, это тебе, – сказала Аузилия, указывая на два конверта на полке серванта. Их доставили с вечерним катером. Теперь, когда все купальщики были в сборе, островитяне не ходили за почтой в порт: почтальон сам объезжал дома с пухлой кожаной сумкой через плечо.
Лалага узнала чёткий почерк Авроры и каракули, которыми всегда обводила марку Марина, добавляя на обратной стороне смешные рисунки, цветочки и надписи вроде «
Беги, почтальон, не споткнись, поскорее обернись».
В любое другое время Лалага бы уже прыгала от радости и нетерпеливо разрывала конверты. Но сейчас она слишком беспокоилась о здоровье сестры, поэтому положила письма в карман, даже не открыв, а в комнату вошла на цыпочках.
– Тебе что-нибудь нужно?
В спальне было темно. Тильда лежала на их общей большой кровати с пакетом льда на лбу. Аузилия заставила её выпить большую чашку тёплого молока «против яда проклятой рыбы» – отчасти ещё и потому, что доктор велел сегодня оставить больную без обеда.
– Ты одна? – тихо спросила Тильда и, услышав утвердительный ответ, приказала: – Тогда закрой дверь.
Разумеется, Лалага уже поняла, в чём проблема. Тут к гадалке не ходи: сегодня, а может быть, и завтра кузина не сможет встретиться с Джорджо.
– А ведь он будет ждать и, если мы не встретимся, может в поисках меня заявиться сюда. Представь, какая будет катастрофа. Ты должна его предупредить.
– Да, я схожу, не беспокойся. Только назови мне точное место и время.
– В четверть четвёртого, в роще неподалёку от Старого маяка. Полянка там одна, не разминётесь. Только пожалуйста проследи, чтобы за тобой никто не увязался.
– Я прослежу, – пообещала Лалага.
Но как же быть с Ирен? В половине третьего подруга, как обычно, зайдёт за ней. И, как обычно, будет ожидать, что Лалага останется с ней до ужина.
– Только мне нужно будет всё рассказать Ирен. Поверь, она умеет хранить тайны, я её знаю. Она никому не расскажет даже под пыткой.
– Нет. Я не хочу, чтобы она знала, и запрещаю раскрывать ей мой секрет. Он мой, Лалага, а не твой. И я хочу, чтобы он остался между нами. Помнишь: «Что знают двое, знает только Бог; что знают трое, знают все вокруг»?
А Ирен, продолжила Тильда, придётся соврать. Например, что Лалага должна остаться дома и помогать больной.
– Она тоже захочет поучаствовать. Ей нравится работа медсестры.
– А ты убедишь её, что я этого не хочу. Потом потихоньку уйдёшь.
– Но чтобы добраться до Старого маяка, нужно пройти мимо бара. Меня заметят...
– А ты что, не можешь сделать крюк? Нет? Короче, разбирайся сама, – нетерпеливо выдохнула Тильда. – Не думаешь же ты, что вы вечно будете вместе! Эта твоя Ирен пусть остаётся в деревне, где ей и место. Просто скажи, чтобы она оставила тебя в покое. Ты хочешь со мной дружить или нет?
Другого выхода не было. Лалага должна была соврать и надеяться, что Ирен не заметит обмана.
(обратно)
Глава третья
Но врать, к всеобщему облегчению, не пришлось. Сразу после обеда зашла Ирен и извиняющимся тоном сообщила, что её срочно требует к себе крестная, тётя из Тоннары.
– Нужно до завтрашнего утра доделать платье для жены прапорщика, она собирается надеть его на свадьбу. Но там много возни с тесьмой, и мы с Марией и Вероникой едем помогать. Дядя Джованни отвезёт нас на лодке. Так что если завтра с утра меня не будет на причале, значит, я заночевала в Тоннаре и с вами на пляж не поеду.
– Думаю, учитывая состояние Тильды, мы тоже не поедем.
– Тогда я вернусь и тебя найду.
Ирен убежала в сторону порта, а потому при всём желании не смогла бы увидеть, как Лалага направляется к Старому маяку.
С трудом приподнявшись на кровати, Тильда написала Джорджо записку.
– Иначе он может подумать, что ты его обманываешь, а на самом деле тётя с дядей всё раскрыли и меня заперли. Я напишу, что тебе можно доверять. Но ты должна пообещать не читать.
Лалаге сразу вспомнилась сказка, в которой гонец привёз приказ, гласивший «
Подателя сего должно немедленно предать смерти», и расхохоталась. Поручение казалось ей очень важным: впервые в жизни она была не просто свидетелем, а непосредственным участником реальной любовной истории.
У дверей дома, ожидая Форику, стояла Зира, держа за руки обоих близнецов: те, всё ещё слишком взволнованные после произошедшего с Тильдой, отказались спать днём, и няни, чтобы не беспокоить взрослых, решили с ними прогуляться.
– Мы идём собирать ежевику в сторону Дьяволовых рогов. Пойдёшь с нами?
– Нет, я лучше поищу какой-нибудь вдохновляющий пейзаж.
Чтобы создать себе алиби на случай встречи с кем-нибудь из знакомых, Лалага решила взять с собой альбом для набросков (тот, что с самой шершавой бумагой), коробку акварели и бутылку воды. Она не первый раз рисовала
на пленэре, как французские импрессионисты. (Лалага знала, что эти художники произвели революцию в живописи именно потому, что писали не в мастерской, а на свежем воздухе. Об этом она прочитала в журнале.)
Джорджо уже ждал на поляне. Естественно, он удивился, увидев младшую сестру вместо старшей, и поначалу встретил её с некоторым недоверием, но, прочитав записку, сразу же улыбнулся, и Лалага была очарована ослепительным блеском его зубов на фоне загорелого лица. Настоящий красавчик! Правда, решила она, больше похож не на Таба Хантера, а на Джеймса Дина в «Бунтаре без причины». Неудивительно, что его встречи с Тильдой вызвали такой гнев всей семьи.

– Я рад, что теперь у нас, по крайней мере, есть союзник в стане врага, – радостно сказал парень. – Как тебя зовут, Филлида
[4]?
– Лалага.
– Звучит странно: будто поэму читаешь. Интересный у тебя, должно быть, дед: Лалага, Матильда... Ну, то есть, Матильда – вроде бы, нормальное имя, но в вашей семье и оно звучит как-то по-особенному. Тильда говорит, у твоей младшей сестры тоже необычное имя.
– Да, Пиккарда. Это такой персонаж в «Божественной комедии». Но мы зовём её Пикка.
– Того не лучше. Давай-ка сократим этот список отрезанных древних голов.
Улыбаясь, он выглядел ещё симпатичнее. Что касается имён, Лалага была с ним полностью согласна. Она предпочла бы зваться Джузеппиной, Лаурой или Луизой – эти имена, по крайней мере, не вызывают такого количества язвительных замечаний.
– Но ведь Тильда – очень красивое имя, – робко возразила она, пытаясь защитить сестру.
– Прекрасное. Вот, гляди, – он вытянул руку и показал татуировку на предплечье: сердце с подписью «Тильда». – Хотя она не настоящая, я сделал её шариковой ручкой.
Жаль. Настоящая татуировка, чтобы до самой смерти, была бы романтичнее.
– Слушай, Гекзаметр
[5], а ты уверена, что с Тильдой ничего серьёзного? Говоришь, завтра она уже будет здорова?
– Может, завтра ещё нет, но послезавтра точно.
– Передай ей, пусть не спешит и не встаёт в постели, пока не почувствует себя хорошо. И ещё скажи, что я сегодня тоже приду к окну. Она сможет встать и подойти?
– Думаю, да.
– Тогда до скорого.
Выходит, Джорджо знал, что она будет присутствовать при их свидании, но это, казалось, его совсем не беспокоило. Лалага довольно хмыкнула и отвернулась.
Теперь она могла спокойно вздохнуть и насладиться ароматом голубых цветов розмарина, согреваемых ярким солнцем. Ей вдруг пришло в голову, что, возможно, в следующем году у неё тоже будет возлюбленный, с которым она станет тайно встречаться. Серпентария летом была идеальным местом для любовных историй.
(обратно)
Глава четвертая
Когда Лалага вернулась домой, мать сказала ей, что Тильда уснула, и она вышла во двор, чтобы наконец прочитать пришедшие утром письма.
Аврора Леччис писала о том, какая у неё храбрая кошка, о нуге, которую она попробовала на деревенском празднике, о сварливой соседке-сплетнице... Неужели она думает, что кому-то интересны подобные глупости?
Письмо Марины Доре оказалось, по крайней мере, забавным. Она в эпическом ключе рассказывала о недавней семейной ссоре. Греков в ней представляли родственники, не возражавшие против того, чтобы её восемнадцатилетняя сестра Виттория приняла участие в конкурсе «Мисс Серрата», для чего требовалось пройти по подиуму не только в вечернем платье, но и в купальнике. В роли троянцев же выступали родственники, которые, напротив, всеми силами противостояли этому мероприятию, считая его позором для семьи и бесчестием, от которого Виттория никогда не сможет отмыться, а главное, не сможет потом найти себе мужа – а всё из-за купальника!
– Но ведь на пляже нас всех видят в купальниках, – заметила Марина.
– Да, но босиком или, в лучшем случае, в шлёпанцах. А для конкурса придётся надеть туфли на каблуке. И никаких летних сандалий – закрытые туфли, как зимой. Голые бедра и закрытые туфли – признак женщины с дурной репутацией.
В общем, заключила Марина, понять, как взрослые определяют, считать ли одежду приличной или нет, невозможно.
Но с учётом того, что происходило с ней самой, даже подобный рассказ не показался Лалаге интересным. Единственное, что стоило бы обсуждать, – это любовные истории, особенно когда влюблённые должны идти наперекор всему, подумала она. Вот она бы могла написать письмо, от которого перехватит дыхание.
Хотя нет, именно написать-то и нельзя, вздохнула Лалага, прервав полет своих мыслей. Нельзя записать даже в «Летнем дневнике», иначе придётся постараться, чтобы он не попался на глаза Ирен.
Тильда проснулась к семи вечера. Лихорадка немного спала, но пострадавшая нога настолько распухла, что в доме не нашлось бы подходящей по размеру обуви – даже у дяди, хотя Тильда вряд ли согласилась бы надеть мужские ботинки.
– Да зачем тебе обувь? Всё равно же на улицу не выходишь, – проворчала синьора Пау, перемеряв на неё столько туфель, ботинок и тапочек, что потерял бы терпение даже принц из «Золушки».
– Сегодня не выхожу. А завтра?
– Завтра, завтра... Завтра будет видно.
Взрослые, выходя из себя, всегда говорили что-то подобное.
Завидев Лалагу, Тильда бросила на неё вопросительный взгляд, но в присутствии всей семьи, оживлённо болтавшей возле постели, у них не было возможности перекинуться хотя бы словом.
Когда же они наконец остались на минутку одни, Лалага едва успела шепнуть: «Миссия выполнена. Сегодня, здесь. Под окном», – как Зира и Форика уже снова стояли у двери, навострив всегда готовые уловить самый тихий шёпот уши.
Ужин подходил к концу, когда раздался стук в дверь – это Ирен раньше ожидаемого вернулась из Тоннары.
– Мы закончили к восьми, и крестный отвёз нас в Портосальво вместе с платьем. Смотрится замечательно, завтра синьора прапорщица будет самой нарядной.
– Раз уж твоя подруга вернулась, – сказал Лалаге отец, – почему бы тебе не сходить с ней в бар и не попросить немного льда для Тильды?
Терраса бара, спрятавшаяся под тростниковым навесом, вся светилась огнями керосиновых ламп. Граммофон на подоконнике гремел американскими дисками, но музыка с трудом пробивалась сквозь шум разговоров. Сегодня были заняты все столики, и Пьерджорджо, старший брат Ирен, деловито переходил от одного к другому с подносом, полным бокалов.
– Смотри! – тихо сказала Ирен, потянув подругу за рукав. – Здесь Лопесы. Странно, что на этот раз они соизволили сесть среди прочих смертных.
Лалага решила не смотреть в их сторону, чтобы не здороваться, но услышав мужской голос, так удивилась, что не могла не обернуться.
Да, вот уж этого она ожидала в последнюю очередь! Эти жеманницы сидели за столиком в компании трёх «дикарей» с Репейного острова: Джакомо, Пьетро и Джорджо, который оживлённо беседовал с Франциской.
(обратно)
Глава пятая
– Судя по всему, принцессы сегодня в ударе, – заметила Ирен.
Лалага прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего и не выдать тайну. Она была вне себя от ярости и дикой ревности за сестру: среди всех девушек на Серпентарии Джорджо и его друзья умудрились выбрать именно этих трёх змеюк!
Должно быть, сестры Лопес сами проявили инициативу: они считали, что их слово – закон для всех, не понимая, что настоящее достоинство присуще тем, кто уважает себя, а не презирает других. Но ведь ребята, думала Лалага, могли, даже обязаны были избегать их, под любым предлогом отказываться от их компании. Особенно Джорджо. Как он может спокойно сидеть здесь, попивая лимонад, когда его любовь прикована к постели?
«Вот сейчас я подойду и скажу ему, что
Тильду нужно везти в больницу на вертолёте, – пустилась фантазировать Лалага. – А ещё лучше, скажу, что она умерла».
Какое же это будет удовольствие – наблюдать, сколь мучительно раскаяние преступника, сколь сильно гложет его чувство вины! А она только поглядит на него без тени сочувствия и рассмеётся! Так тебе и надо, предатель! «Бедняжка Тильда, её сердце будет разбито, когда она узнает. Нет, она не умерла, но, конечно, умрёт, если не от яда морского дракона, то от грусти и печали. Ведь эту боль не вылечишь кордиамином».
– Лалага, что с тобой? – нетерпеливо подёргала её за рукав Ирен. – Что ты застыла, глядя на этих Лопес? Хватит, не будем доставлять им такого удовольствия.
– Нет, постой, я пытаюсь понять, чей это голос.
– Ты что, не узнала? Это ребята из палатки. Когда я за тобой пошла, они сидели одни. А потом, видимо, эти принцессы углядели свободные стулья и прилипли к ним.
– Не верю. Мне кажется, они заранее назначили свидание.
– Вполне возможно. Но нам-то какое дело? Давай, поторопись, твой отец ждёт лёд.
Проходя мимо столика, Лалага всё никак не могла отвести глаз от Джорджо. И тут произошло нечто странное. Тот, будто бы случайно, поймал её взгляд, чуть приподнял брови и сделал знак рукой, как бы говоря: «Увидимся позже!». Значит, болтовня Франциски Лопес не заставила его забыть о своём обещании! Но что это за безрассудный жест на глазах у всех? Лалага настороженно взглянула на Ирен: как ей это объяснить?
К счастью, подруга ничего не заметила.
Возвращаясь домой, Лалага мучилась сомнениями, следует ли ей рассказать об увиденном Тильде. Ох, сейчас она отдала бы все на свете за возможность посоветоваться с Ирен! Ей никогда не приходилось принимать столь важного решения, не поинтересовавшись мнением подруги. В конце концов она решила промолчать и ничего не говорить Тильде – по крайней мере, пока. Но она проследит за Джорджо и, если узнает, что он ведёт двойную игру...
Ну и денёк! Сколько открытий, сколько эмоций! А ведь он ещё не кончился, впереди ночное свидание...
Ложась в постель, Лалага не собиралась спать до прихода Джорджо. Тильда задула свечу, чтобы не вызвать подозрений у дяди. По той же причине сестры молчали, вглядываясь широко раскрытыми глазами в темноту. Сон подкрался внезапно, будто под ногами предательски распахнулся люк, и, проснувшись утром, Лалага поняла, что несмотря на все свои усилия пропустила последнюю главу этой истории.
– Он приходил? – спросила она сестру, немного стыдясь своего предательства: ведь если бы оруженосец Ланселота заснул, пока сам рыцарь бодрствовал, их обоих, по меньшей мере, перестали бы пускать за Круглый стол.
– Да, – лаконично ответила Тильда. Похоже, она, как обычно, не собиралась откровенничать и вдаваться в детали, но, к счастью, не подавала и признаков дурного настроения. Похоже, её беспокоила не желавшая спадать опухоль на ноге, а не подозрения и ревность.
«Ах, если бы только она знала...» – подумала Лалага. И с лёгкой грустью поняла, что теперь ей придётся хранить ещё один секрет.
(обратно)
Глава шестая
Когда Тильда поднялась с кровати и, опираясь на плечо Лалаги, вышла из комнаты, она, казалось, совершенно изменилась – как будто её тело, избавившись от яда морского дракона, заодно освободило душу от другого яда: упорного молчания, презрительного самодовольства и нарочитого одиночества.
– Я же говорила, нужно просто немного терпения, – кивнула Ирен, довольная точностью своего предсказания.
Теперь Тильда вела себя так, как будто их с кузиной всегда связывала дружба, основанная на симпатии, доверии и сочувствии. Она шутила с Лалагой, часто шептала ей что-нибудь на ухо, читала вслух отрывки из своей книги, а на яхте и на пляже старалась устроиться к ней поближе.
– Как спелись эти двое! – раздражённо заметила через несколько дней Анна Лопес, досадуя, что Тильда общается не с двумя её старшими дочерьми, более подходящими ей по возрасту, а с этой соплячкой Лалагой.
– Раз уж ты подружилась с кузиной, может быть, Ирен наконец от тебя отлипнет? – спросила у дочери синьора Пау.
Но Лалага не собиралась бросать подругу. Она была рада изменению поведения Тильды, хотя реакции Ирен побаивалась: та могла решить, что кузина вытеснила её из сердца Лалаги. Кроме того, Тильда обычно проявляла свои чувства только по утрам. После обеда девушка, к величайшему удивлению дяди и тёти, продолжала гулять одна.
Она даже пыталась убедить Лалагу соврать:
– Скажи, что пойдёшь со мной! Тогда они расслабятся и больше не станут мучить меня вопросами.
Разумеется, Тильда не хотела, чтобы кузина шла с ней до самого места встречи, не свечку же ей держать, в самом деле. Деревню они покидали бы вместе, а потом расходились бы поодиночке, каждая в свою сторону.
– И куда мне идти одной? Чем заниматься? Если бы я могла взять с собой Ирен, всё было бы совсем по-другому.
– Нет. Помни, что ты обещала никому не говорить. Никому!
В конце концов они сошлись на другом варианте. Каждый день Тильда сообщала Лалаге, где и когда встречается с Джорджо, а Лалага во время своих вылазок с Ирен старалась не только держаться подальше от этого места, но и уводить с собой других членов семьи. С Саверио никаких проблем не предвиделось: он обожал паруса и рыбалку, поэтому проводил день на яхте с Джиджи и Андреа Ветторе. Зато близнецы, когда отказывались спать после обеда, всегда гуляли с Зирой и Форикой, всякий раз выбирая новый маршрут, и задачей Лалаги было проследить, чтобы этот маршрут не совпадал с Тильдиным.
А поскольку Лалага не могла узнать и, если надо, помешать им, не вызывая подозрений, она просто стала предлагать гулять всем вместе по безопасному маршруту.
– С чего бы у тебя проснулась такая любовь к близнецам? – спрашивала Ирен, которая была совсем не в восторге от перспективы прогулок с нянями, как маленьким.
– Даже и не знаю... Может, потому, что зимой в интернате я так по ним скучала?
Как же стыдилась Лалага своего вранья, пусть даже такого безобидного! Но другого решения она не видела.
(обратно)
Глава седьмая
Как-то на пляже Тильда предложила:
– Давай прогуляемся вдоль берега.
– Пойдём, Ирен! И надень туфли, а то песок ноги обожжёт, – крикнула Лалага, поднимаясь.
– Нет. Без Ирен. Только мы вдвоём. Надо поговорить.
Разочарованная Ирен снова улеглась на полотенце. Теперь она проводила больше времени на берегу с Пиккой, Тома и Шанталь, строя для них замки из песка, чем общаясь с Лалагой. Сестры Лопес тоже это замечали и каждый раз, когда её подруга уходила гулять с кузиной, демонстративно хихикали. В один прекрасный день Ливия даже подсела к Ирен поболтать, попытавшись вовлечь в обсуждение дурацких сплетен о певцах и актёрах с телевидения. Так она надеялась смутить и унизить Ирен, отлично зная, что на острове нет ни одного телевизора: Ирен и видела-то его всего раза два-три, когда ездила навестить родственников на материк.
Но Ливия оказалась ещё более коварной. Постепенно она перевела разговор на печальную судьбу друзей детства, отвергнутых и брошенных в пользу новых приятелей.
К счастью, Ирен быстро поняла, что та хочет поддразнить её, чтобы заставить из ревности сказать что-нибудь гадкое про Лалагу, и не поддалась на провокацию.
– Как жарко! – фыркнула она, вставая и направляясь к берегу. – Сплаваю-ка я до яхты.
Но не спросила: «Пойдёшь со мной?» – и с тех пор каждый раз, разговаривая с одной из Лопес, отвечала односложно, не давая ни малейшего повода к сближению.
Тем временем Тильда привела Лалагу к небольшому овражку в дюнах, полностью заросшему можжевельником. Его согбенные ветви создавали своего рода пещеру, скрытую от посторонних глаз и посторонних ушей. Тильда залезла внутрь и заговорщическим тоном прошептала:
– Как думаешь, твоя мать что-нибудь подозревает?
– С чего бы? Конечно, нет, – удивлённо ответила Лалага.
– Ты в этом абсолютно уверена?
– Ну... Не похоже.
– Но боюсь, что это так.
– С чего ты взяла?
– Вспомни: сколько писем она отправила на этой неделе?
– Четыре.
– А кому они были адресованы?
– Не знаю, я не посмотрела.
– Зато я посмотрела. Два – для моей матери. И на прошлой неделе она написала ей по меньшей мере три.
– Но в этом нет ничего удивительного. Они же сестры. С тех пор, как мы живём в Портосальво, мама всё время пишет родственникам.
– Я знаю. Но «раньше» моя мать получала от твоей не больше двух писем в месяц. А теперь тётя Франка пишет ей почти каждый день. Думаешь, это нормально?
Лалага как-то не задумывалась об этом, но после слов сестры поняла, что такая частая переписка выглядит весьма подозрительно.
– И что же она пишет?
– Нам совершенно необходимо это узнать, – категорически заявила Тильда.
– Но как? Мама пишет письма, запершись в спальне, а когда получает ответ, сразу его прячет. Думаю, она держит их в верхнем ящике комода: он один закрывается ключом.
– Мы могли бы открыть его заколкой...
– Тильда, ты так до сих пор и не поняла, как живёт наш дом? Чтобы открыть ящик, нужно удостовериться, что никто не войдёт. Видела, сколько у нас прислуги? Если Аузилия не соберётся сложить в шкаф глаженое белье, то непременно пройдёт Лугия с кувшином воды для умывальника. Или Форика, которой нужны чистые носки для Пикки и Тома.
– Тогда нужно прочитать те, что пишет твоя мать. К счастью, она разрешает тебе носить письма на почту.
– Но они же в плотных конвертах, на просвет ничего не увидишь. Я уже пыталась, когда речь зашла об интернате.
– Значит, мы его вскроем.
– Ты с ума сошла? Они же заметят!
– А мы вскроем над паром, и потом прекрасно запечатаем обратно.
– Мне это не нравится. Читать чужие письма нехорошо.
– Тьфу ты! Не будь ханжой. Это не так страшно, как шпионить за уже почти взрослыми девушками и отсылать их подальше от возлюбленных. Они первые начали.
 (обратно)
(обратно)
Глава восьмая
Тильде легко говорить, но где можно вскипятить целую кастрюлю воды и довольно долго держать над ней конверт, чтобы никто этого не заметил? Конечно, не на кухне дома Пау, где постоянно ходит прислуга.
Вот Ирен целыми днями сидела дома одна, поскольку её мать работала в баре. Но с Ирен, конечно, эту тайну делить нельзя. Собственно, подругу вообще нужно было держать в стороне под каким-нибудь предлогом, который Лалага ещё не изобрела.
– Ну хватит! Что за сказки ты тут сочиняешь? – возмущалась Тильда. – Неужели трудно просто сказать: «Мы с сестрой идём гулять и не хотим, чтобы посторонние путались под ногами»?
– Скорее, это ты для нас посторонняя. Я никогда ничего подобного не скажу.
В итоге они ушли тайком, как две воровки, задолго до того, как Ирен зашла за Лалагой после сиесты.
Лалага предложила найти какой-нибудь пустынный пляж. Зира с Форикой научили её, как запалить костёр из сушняка, чтобы запечь картошку в песке, и как правильно расставить камни, чтобы на них держалась алюминиевая кастрюля.
– А если кто-нибудь пройдёт мимо? – возражала Тильда. Они не могли рисковать: даже последний дурак догадается, что они делают.
В конце концов кузины спрятались под мостом, протянувшимся через овраг у Сарацинской башни. Землю там покрывали заросли репейника, высохшая трава и сорняки, которые пришлось вырвать, чтобы не запалить всё разом. Лалага стащила в кухне приличную горстку спичек, но они ушли почти все: ветер гасил огонь ещё до того, как загорался сложенный на земле хворост. К счастью, с последней спичкой пламя всё-таки занялось, и маленький костерок начал потрескивать.
Чтобы наполнить кастрюлю, они прихватили с яхты зелёную керамическую флягу с сургучной пробкой, заранее налив в неё пресной воды. Лалага считала, что проще использовать морскую – она же всего в двух шагах, но Тильда объяснила, что солёный пар может разъесть конверт. Вода, однако, даже и не думала закипать. Сестры потели, нервничали и суетились. Когда Тильда, держа конверт двумя пальцами за край, поднесла его к пару, её рука лихорадочно дрожала.
Оставалось медленно досчитать до двадцати пяти. Но на счёте двадцать три конверт вылетел из рук и упал в кастрюлю. Лалага рванулась вперёд и вытащила письмо, пока оно ещё не совсем ушло под воду: к счастью, намок только один угол.
– И что теперь? – спросила она взволнованно.

– Теперь мы всё прочтём, – спокойно сказала кузина, осторожно открывая конверт.
– Но будет видно, что его открывали!
Тильда нетерпеливо отмахнулась и погрузилась в чтение.
Письмо, в некотором смысле, их даже разочаровало. В нем ни слова не говорилось о тайных свиданиях Тильды или её странном поведении – какое облегчение! Они-то ждали, что две родственницы станут обсуждать запретную любовь и необходимость любой ценой предотвратить встречи Тильды с её другом, а мать Лалаги писала тёте Ринучче о каких-то ужасно скучных вещах. Она описывала новый кретоновый пиджак Анны Лопес и сетовала на то, что с приездом купальщиков работы у её мужа прибавилось.
Разумеется, она также жаловалась на прислугу и на то, что не может купить в единственном магазине Портосальво новый купальник, – короче, обычная женская болтовня. О Тильде было всего лишь несколько фраз, совершенно безвредных: «
Твоя дочь наконец-то перестала кривить нос и с восторгом ходит на пляж. Вот увидишь, в сентябре она скажет, что получила море удовольствия. Читает Достоевского – ты ей разрешаешь?»
– Просто удивительно, до чего глупы эти взрослые, – заключила Тильда, заклеивая конверт канцелярским клеем. На углу, который попал в воду, чернила расплылись, и две буквы стали почти совсем нечитаемыми. – Ничего страшного. Почтальон в Плайямаре и так знает, где мы живём.
– Но твоя мать точно заметит, – простонала Лалага. – Она поймёт, что его кто-то открывал.
Тильда расхохоталась, подбежала к берегу и на минутку опустила конверт в море.
– Ты что, с ума сошла? – закричала сестра.
– Дурочка, я же готовлю тебе оправдание. Скажешь матери, что письмо упало в воду и ты не смогла его отправить.
У синьоры Пау не возникло никаких подозрений, но она очень рассердилась.
– Ничего тебе нельзя поручить! А ведь уже большая девочка. Как ты только додумалась пойти рыбачить с пирса с моим письмом в кармане! Сперва дело, это даже близнецы понимают. Придётся теперь писать другое.
– Видишь? Теперь она станет отдавать письма Саверио или кому-то из прислуги. И если там будет что-то о тебе, мы об этом никогда не узнаем. Довольна?
Она злилась на Тильду: Ирен обиделась, что её не подождали, а Лалага не знала, как оправдаться.
Вечером она легла спать, и словом не перекинувшись с кузиной. Напрасно Тильда пыталась рассмешить её, передразнивая тётю, напрасно начинала доверительным тоном рассказывать о Джорджо, как бы обещая новые откровения, – Лалага лишь отодвинулась от неё на самый край матраса, повернулась спиной и сделала вид, что спит. Она была в ярости.

Спала она плохо и недолго, проснувшись уже к рассвету, и всю ночь думала об Ирен: «Что мне ей сказать, чтобы она меня простила? Как оправдаться?»
Тильда советовала:
– Скажи, что мы ушли потому, что она опоздала.
То есть не только соврать, но ещё и обвинить в этом саму Ирен! Похоже, кузина совсем не представляет, что такое дружба. Она привыкла использовать других для своего удобства. И Лалагу она тоже использовала, даже не задумавшись о том, сколько неприятностей принесло её поведение.
Тильда спокойно спала на своей стороне кровати, и, несмотря на сильную неприязнь, которую Лалага к ней чувствовала в этот момент, она не могла ещё раз не отметить, что кузина – настоящая красавица: кожа гладкая, загорелая, без единого прыщика на щеках или на лбу, губы полные, нос прямой и короткий, из-за чего она слегка похожа на львицу, рассыпавшиеся по подушке волосы светлые, как у шведки, запястья и лодыжки тонкие, пальцы рук длинные, ногти ухоженные...
Эх, чего бы только не отдала Лалага, чтобы быть на неё похожей или хотя бы немного вырасти, превратиться из ребёнка в девушку! Печально, когда чувствуешь себя намного более взрослой, чем эта безмозглая эгоистка кузина, а зеркало в шкафу убеждает, что ты все ещё слишком похожа на собственную фотографию, сделанную год назад, в конце пятого класса начальной школы.
Она тихонько поднялась и на цыпочках, не надевая туфли, выскользнула из комнаты. Ей нужно помириться с Ирен. С самого первого класса, когда они только познакомились, их размолвки ни разу не длились больше пяти минут. Но что ей сказать, чем оправдаться?
Ирен проснулась рано: похоже, ей тоже не давали спать мысли о вечерней ссоре. И Лалага в который уже раз убедилась в великодушии подруги, встретившей её без упрёков и вопросов.
– Прости меня за вчерашнее, – сказала она, – я что-то распсиховалась. Хочешь, после пляжа пойдём ловить креветок к Новому маяку?
На пляже Лалага ни на секунду не отходила от Ирен. Она вдруг почувствовала, что ей нужен физический контакт, поэтому всё время держала подругу за руку, обнимала за плечи, растирала спину полотенцем после купания. Ирен радостно отвечала ей тем же.
– Может, хватит уже телячьих нежностей? Как детсадовские, честное слово, – бросила Тильда таким же саркастическим, как в первые дни, тоном.
Но подруги притворились, что не слышат, и под ручку удалились в сторону скал, где и провели все утро, собирая ракушки и морских ежей. Тильда в это время читала под зонтиком. Лишь на яхте она снова улыбнулась сестре, как будто ничего не случилось. Но теперь настала очередь Лалаги проявлять холодность.
(обратно)
(обратно)
Часть четвертая
Глава первая
Когда «Моя дочурка Джиролама» вернулась в порт, выяснилось, что за время её отсутствия пришёл танкер.
Матросы уже растянули толстые шланги из прорезиненного брезента вдоль двух главных улиц деревни и теперь с помощью более тонких шлангов подсоединяли к ним переулки и отдельные дома. Поскольку шланги давным-давно прохудились, из них сразу же потекли тонкие струйки, и вскоре в пыльных уличных выбоинах образовались грязные лужи, куда, едва сойдя на берег, со всех ног бросились Тома, Пикка и Шанталь.
– Только попробуйте явиться домой в грязных сандалиях! – сердито прокричала им вслед Форика.
– Если они испачкают пол, нам влетит от Аузилии, – спохватилась Зира.
Один из матросов, соединявших шланги, рассмеялся и подмигнул ей.
– Какие планы на вечер, красавицы мои? – спросил другой.
– Красавицы, да только не твои, – презрительно ответила Зира, схватила под мышку хохотавшую и болтавшую ногами Пикку, задрала нос и направилась к дому. То же проделала и Форика с Тома.
Саверио нёс зонтик. Остальные взяли по шезлонгу на каждого, не считая Лопесов, которые даже пляжные сумки заставляли носить Аннеду.
Танкер стоял на якоре у самого входа в порт, и шланги приходилось доставлять на берег шлюпками. На причале толпились матросы и любопытные. Даже на церковной площади было слишком оживлённо для столь жаркого часа.
– А ну-ка, не стойте, как зачарованные! – прикрикнула синьора Пау на трёх девочек. – Вы что, водоразбора не видели?
– Я уж точно вижу такое впервые, – возразила Тильда. – В Плайямаре есть акведук, если ты не знаешь.
– Тогда можешь остаться и поглазеть. Остальным пора обедать. Должно быть, Лугия уже накрыла на стол, а твой дядя терпеть не может холодную пасту.
Тильда вызывающе вскинула голову, бросила последний взгляд на танкер и решила всё-таки присоединиться к остальным.
Когда они проходили мимо бара, Лалага прислонила шезлонг к стене, обняла Ирен и крепко-крепко поцеловала её, как после долгой разлуки.
– Увидимся в три, – пообещала она (часы показывали без четверти два). – Я только поем и зайду за тобой.
За столом она и словом не перемолвилась с Тильдой. Но кузина продолжала вести себя с ней мягко, почти снисходительно, как взрослые при виде глупых детских капризов.
Обе одновременно встали из-за стола, наскоро проглотив десерт, пока старшие Пау ещё ждали свой кофе, и одновременно вышли на пыльную, прожаренную солнцем дорогу.
Взрослые считали, что они, как всегда, проведут остаток дня вместе, а не разойдутся в разные стороны, едва скрывшись за углом, где обычно не было ни души и никто не мог их увидеть.
– Не хочешь узнать, где сегодня свидание? – поинтересовалась Тильда.
– Не важно. Мы всё равно до вечера остаёмся в баре у Ирен, – сухо ответила Лалага.
– А близнецы? Что, если няни решат с ними погулять?
– Не волнуйся, пока стоит танкер, никто из них не уйдёт из порта.
– В любом случае свидание будет в старом немецком форте.
– Ну, приятно развлечься.
Это она сказала со зла: интересно, знает ли Тильда, что островитяне частенько использовали форт в качестве туалета, поэтому внутри невыносимо воняло. Вот уж действительно романтическое местечко для свидания с возлюбленным!
(обратно)
Глава вторая
Шланги уже протянули во все дома, оставалось дождаться, пока заполнятся баки. Вода текла медленно, так что операция продолжится и ночью. Стало совсем жарко, матросы вернулись на борт, и после утренней суматохи деревня теперь казалась ещё более пустынной.
Терраса бара пустовала, если не считать Лалаги и Ирен, которые сидели за столиком и читали в каком-то дамском журнале статью о новых достижениях хирургии. Там говорилось, что скоро будут с лёгкостью пересаживать от одного человека другому самые разные органы тела, а не только роговицу, как героический священник дон Ньокки, посвятивший жизнь помощи детям, которые потеряли ногу или руку под бомбёжками во время войны.
Возможность трансплантации очаровала Лалагу, но у неё сразу же возникло множество вопросов. Прежде всего: почему дон Ньокки пожертвовал роговицу, а не руку или ногу, хотя именно их не хватало его подопечным? Затем: что же такое человеческое тело – всего лишь машина, части которой легко заменить, когда они испортятся, или всё-таки каждая часть содержит в себе личность владельца, его чувства и эмоции?
Ей было трудно думать о своём «я», не имея в виду себя целиком. Если ей по очереди пересадят, например, все конечности и органы Ливии Лопес, останется ли она самой собой или станет Ливией? И есть ли части тела, которые управляют всеми остальными и определяют, что ты – это ты, а значит, их нельзя заменить, не став кем-то другим? Может, голова или даже просто один мозг? Правда, многим глупым людям не помешал бы новый мозг – например, Ливии Лопес.
– А если бы можно было пересаживать себе лицо, – спросила Ирен, – на кого бы ты хотела быть похожей? Я – на Одри Хепберн. Хочу такие глаза и волосы, как у неё в «Сабрине».
Сам фильм она, понятно, не видела (откуда же в Портосальво кинотеатр?), только фотографии в «Эпохе». Забавно, что Ирен собиралась стать актрисой, хотя за всю жизнь сходила в кино всего три-четыре раза, а телевизор и вовсе никогда не смотрела.
– Дурочка ты, – отвечала подруга. – Достаточно просто подстричься под неё в парикмахерской. Вот я хотела бы глаза, как у Марчеллы Мариани.
– А я тогда – как у Сорайи
[6].
– Но они у неё такие грустные!
– Это сама она все время грустит, бедняжка, потому что не может подарить шаху наследника. А глаза у неё чудесные.
Поняв, что увязли в споре, они перевернули страницу, попали на колонку советов по нанесению грима или, по-французски,
макияжа, и сразу поняли, что если хочешь глаза, как у Сорайи, не нужно трансплантации – достаточно лишь немного теней для век и чёрного карандаша.
– Мать говорит, если увидит меня накрашенной, отвесит сразу четыре пощёчины, – вздохнула Ирен.
Лалаге мать ничего подобного не говорила. Но все Пау, как и все Марини, понимали, что до восемнадцати лет красятся, да и после ходят сильно накрашенными только вульгарные простолюдины. Они даже обесцвечивают волосы маленьких детей, чтобы сделать их блондинами. Вот Тильда – натуральная блондинка: сейчас, когда она загорела, самые тонкие волоски у неё выглядят совершенно белыми, не то что торчащие тёмные корни у этих пергидрольных убожеств.
И тут, как на помине, вдали показалась Тильда «из плоти и крови». «Похоже, сегодня свидание оказалось короче, чем обычно», – злорадно подумала Лалага, глядя, как она направляется в их сторону.
– Ну и жара! – фыркнула девушка, опускаясь на стул рядом с ними.
– Уже нагулялась? – спросила Ирен: работая в баре, она привыкла проявлять вежливость, да и по природе своей всегда старалась успокаивать начинающийся шторм, что бы по этому поводу ни думала Лалага.
– Да, хватит на сегодня. А вы чем занимаетесь?
Узнав, что они листают журнал, Тильда высказала своё мнение о нескольких фотографиях. Вела она себя вполне дружелюбно и естественно – те, кто не был с ней знаком, наверняка посчитали бы её вполне приятной и компанейской девушкой.
«Наверное, хочет попросить прощения», – подумала Лалага.
– Ирен, а почему бы нам не послушать музыку? Я могу научить вас танцевать, – предложила Тильда. Ирен поставила пластинку, сделав потеши, чтобы не беспокоить соседей, отдыхавших после обеда. Зазвучало аргентинское танго. Тильда встала и обняла её за талию.
– Я поведу, а ты следуй за мной. Следи за ногами. Раз-два, раз-два-три... Нет, не так... Расслабься, ты слишком напряжена.
И у Ирен, которая с Лалагой и трёх шагов не могла сделать, не споткнувшись, вдруг стало получаться – может быть, потому, что Тильда была выше ростом и вела очень уверенно.
Но тут появились три моряка.
(обратно)
Глава третья
Взрослые, но ещё молодые и, как один, красивые, будто актёры: загорелые, элегантные, в безупречно сидящей форме с блестящими пуговицами. По случаю летней жары они надели короткие, по колено, брюки, из-под которых виднелись икры (настолько загорелые, что волос почти не было видно) и белые носки. Один из троих был капитаном танкера. Они зашли в бар, чтобы купить сигарет.
И Лалага, и Ирен, наверное, уже видели их раньше, но по молодости лет не обращали внимания, поскольку не могли оценить мужской шарм. Теперь же, видимо, подруги несколько подросли – иначе объяснить произошедшее будет непросто.
Три офицера не замечали девочек, пока не вошли на террасу и не услышали музыку, а заметив – рассмеялись, но по-доброму, без издёвки. Совсем не так, как Альфредо Понти, который надувал щеки только лишь потому, что ему уже исполнилось шестнадцать. Младший из офицеров, рыжеволосый и похожий на американского актёра Расса Тэмблина, не говоря ни слова, взял Тильду за руку, осторожно оторвал от Ирен и, приобняв за талию, повёл танцевать. Другой, с нашивками лейтенанта, точно так же приобнял Ирен. Она не посмела отказать и только смущённо хихикала.

А Лалага с капитаном смотрели друг на друга, не зная, что им делать. Лалага немного стеснялась своей позы (она сидела, закинув одну ногу на подлокотник барного стула) и своей совершенно детской одежды: полосатой рубашки и красных шорт; волосы с одной стороны лба закреплены заколкой с утёнком Дональдом.
Капитан же, напротив, стоял навытяжку, подавляя её своим ростом. Выглядел он озадаченным, но при этом дружелюбным и весьма энергичным, и напоминал Тайрона Пауэра. А ещё капитана Контериоса из комиксов в журнале «Малыш», который всегда ходил с попугаем на плече и золотым кольцом в ухе, как у пиратов. Когда-то Лалага даже влюбилась в капитана Контериоса, потому что считала, что тот на самом деле существует: она была тогда настолько маленькой, что не отличала рисунки от фотографий.
Кольца в ухе у капитана танкера не было, но он усмехнулся, как Контериос, и посмотрел ей в глаза:
– Как тебя зовут?
– Лалага.
Ну вот, сейчас он, как и все остальные, наморщит нос и переспросит: «Как-как? Что-то я не расслышал. Что это за имя такое?». Но глаза капитана вдруг блеснули, как будто на ум ему пришло что-то приятное.
– А, точно, Кардуччи! – воскликнул он, чуть помедлив, словно припоминая, и начал читать наизусть: – «
Я знаю, Лалага, что скрыто в твоём сердце, и как потери твой туманят взор...»
Лалага покраснела, а капитан продолжал:
– Но ещё до Кардуччи Гораций писал: «
Dulce ridentem Lalagen amabo, dulce loquentem»
[7].
– Это всё дедушка, – сказала Лалага, которая, разумеется, не раз слышала, как дед декламировал эти стихи и всегда добавлял: «Вот почему я выбрал это имя».
– Молодец дедушка. А ты знаешь, что это значит?
– Что она очаровательно смеётся и очаровательно говорит.
– А ты? Ты такая же, все делаешь очаровательно?
Лалага снова покраснела. Ей никогда не хватало смелости произнести одно из этих слов:
amabo, любить.
Она хотела спросить капитана: «А Вас как зовут?», но и на это ей не хватило смелости.
Две другие пары продолжали танцевать: они топали ногами, запрокидывали партнёрш, кружили их, как в каком-то сумасшедшем акробатическом этюде. Тильда и Ирен, найдя со своими кавалерами общий язык, уже хохотали во все горло. Капитан Контериос протянул Лалаге руку и помог подняться:
– Может, мы тоже потанцуем, очаровательная смешинка?
К счастью, в интернате они с Габриэлой в совершенстве изучили все фигуры танго. Из трёх девочек она была лучшей партнёршей, хотя капитан, конечно, не мог этого знать.
Пока они танцевали, Лалага чувствовала тепло его руки на талии, его дыхание на щеке, когда он прижимал её к себе. Сколько у них лет разницы? Конечно, безумно много. Но разве это помешает им пожениться? Капитан на борту своего судна представляет государство, а значит, может зарегистрировать брак.
Только вот как насчёт своего собственного? Или придётся просить лейтенанта, того, что танцевал с Ирен: ведь он, наверное, первый помощник?
К сожалению, пластинка уже почти закончилась. Когда музыка прекратилась, три пары остановились, тяжело дыша – ещё бы, танцевать в такую жару! – и Пьерджорджо, незадолго до этого выглянувший из-за двери и внимательно оглядевший всё происходящее, крикнул:
– Ирен, зайди-ка внутрь!
Видимо, он хотел занять сестру какой-то работой. Ирен пошла за ним во двор, где стояли ящики с пивом.
А на террасе офицеры, смеясь, утирали пот. Младший из них поклонился Тильде и приложил руку к груди:
– Спасибо за танец, синьорина.
– П-пожалуйста, – пробормотала, запинаясь, Тильда.
Лалага не знала, что сказать своему кавалеру, и смущённо опустила глаза. К счастью, капитан лишь ласково потрепал её по щеке, бросил: «Ну, пока», – и, не дожидаясь ответа, вошёл в бар вслед за остальными. А кузины, смеясь, двинулись вниз по ведущей в порт лестнице между двумя рядами пыльных олеандров.
– Как зовут твоего кавалера? – спросила Лалага.
– Ну... Он мне не сказал. Думаешь, меня это заботит? – устало ответила Тильда.
Но потом она слегка оживилась и во всех подробностях рассказала, что в этот день Джорджо смог побыть с ней в форте всего несколько минут, потому что Джакомо, ожидавший его в лодке, хотел вместе с Пьетро попасть на танкер.
– Он знает матроса, который проведёт их на борт, черт бы его побрал! – злилась Тильда. – Чёрт бы побрал весь этот танкер вместе с экипажем! Да-да, и не смотри на меня так. И этих трёх танцоров тоже! Ещё скажи, что тебе есть дело до таких стариков!
(обратно)
Глава четвертая
Через полчаса, когда офицеры уже ушли, кузины вернулись в бар, но не нашли Ирен ни на террасе, ни внутри. Пьерджорджо скучал за стойкой, решая кроссворд.
– Сестра здесь? – спросила Лалага.
– Нет.
– А куда пошла?
– Не знаю, – должно быть, у Пьерджорджо выдался плохой день, потому что обычно он отвечал куда более дружелюбно.
– Она мне ничего не передавала? – настаивала Лалага.
– Нет.
– А когда она вернётся?
– Я уже сказал: не знаю. Слушай, Лалага, у меня нет времени на всяких соплячек. Отвали.
Лалага опешила: брат её подруги никогда не говорил с ней в таком тоне. Конечно, он на семь лет старше, но всегда держался вежливо и добродушно.
– Ладно, пойдём, – сказала Тильда, хотя не была уверена, что «соплячки» относится и к ней. Вот что бывает, когда меняешь круг общения.
Они вернулись домой. На крыльце восседали близнецы в компании Зиры и Форики – они полдничали. Саверио рисовал мелом на тротуаре максимально подробную карту велогонки «Джиро д'Италия», на которой собирался играть с Джиджи и Андреа – велосипедистами им служили крышки от пивных бутылок. Входная дверь была приоткрыта из-за большого шланга, из которого наполняли бак на кухне. На улице две собаки, Гром и Молния, жадно пили воду, тоненькими струйками сочившуюся сквозь прорехи. За поднятыми ставнями в спальне причёсывалась перед зеркалом синьора Пау.
Услышав свою дочь и племянницу, она выглянула в окно.
– Сегодня сядем ужинать раньше, в четверть девятого, – сообщила она. – Потрудитесь явиться вовремя.
– Почему? – поинтересовалась Лалага.
– К половине десятого мы идём танцевать на танкер. Капитан недавно заходил в амбулаторию и пригласил твоего отца.
Лалага почувствовала, что сердце сейчас выскочит из груди.
На какое-то мгновение она подумала, что капитан Контериос хочет взять её в жены. Ведь так это бывает в кино: в разгар праздника он прямо с капитанского мостика торжественно объявит об их помолвке. Но тотчас же обозвала себя полной дурищей: она вспомнила, что экипаж танкера приглашал отдыхающих и сливки общества Портосальво на большой бал каждое лето.
Сама она бала никогда не видела, потому что была ещё слишком маленькой, но вместе с братьями, сестрой и прислугой часто стояла на причале, любуясь огромным судном, полностью залитым светом среди ночной темноты, и слушая приглушенный расстоянием оркестр.
Тильды, однако, ничуть не сомневалась, что приглашение касается и их двоих.
– Что мне надеть? – спросила она деловито. – Нужно что-то поэлегантнее?
Тётя на секунду задумалась.
– Почему бы и нет? На этот раз вы тоже можете пойти, – кивнула она, больше своим мыслям, чем отвечая на вопрос: так племянница меньше будет сожалеть о ротонде в Плайямаре. Что касается Лалаги, в городе ей ни за что не разрешили бы пойти на бал. Но сейчас они у моря, на отдыхе. Даже Анна Лопес берет с собой дочерей, в том числе и младшую.
Тильда потащила Лалагу в спальню, закрыла дверь и прошептала заговорщическим тоном:
– Вот увидишь, там и Джорджо будет. Я же сказала, что Джакомо дружит с одним из матросов. Это похоже на сон! Я буду танцевать в его объятиях при лунном свете, – воскликнула она и закружилась по комнате.
– Но тебя же все увидят! – встревожилась Лалага: после стольких мер предосторожности и тысячи ухищрений совать голову в пасть льва!
– И что? – отрезала Тильда. – Разве мы идём не танцевать? Джорджо здесь никто не знает. Кому придёт в голову, чтобы мы вместе? – она вдруг запнулась и строго посмотрела на сестру. – Если, конечно, ты меня не предала.
– Ты же знаешь, что нет. Но мне это не кажется разумным.
– Потому что ты трусиха. А мне кажется ещё менее разумным не пойти с ним танцевать, когда есть такая возможность. Конечно, я буду танцевать и с другими. Ах, да, смотри, ты тоже должна делать вид, что его не знаешь. Пусть нам его кто-нибудь представит, как будто мы не знакомы.
– Ладно, – сдалась Лалага. Видимо, Тильде нравится играть с огнём. Но она-то не такая! Похоже, на борту придётся держаться от кузины подальше.
К счастью, есть дела и поважнее. Разумеется, она не настолько наивна, чтобы на самом деле ожидать предложения руки и сердца, но без сомнения капитан Контериос пригласит её танцевать, когда обязанности хозяина дома ему это позволят.
Как там он сказал?
Dulceridentem! Она повернулась к зеркалу, широко улыбнулась, налила в стакан воды из кувшина и принялась энергично чистить зубы.
Тильда тем временем опустошала шкаф, яростно раскидывая одежду по кровати и стульям.
– Что же мне надеть? – повторяла она в отчаянии. – Что же мне надеть? И как причесаться? Как лучше – с серёжками или без?
«А мне что надеть, чтобы не выглядеть маленькой девочкой, как сегодня днём?» – подумала Лалага. Но в тот момент она вспомнила про Ирен и бросилась в материнскую спальню.
– Мама! Ведь Ирен сможет пойти с нами?
– Тьфу ты! Вы что, приклеились друг к другу?
– Пожалуйста, мамочка дорогая, я тебя очень прошу...
– Ладно. Раз уж Анна Лопес берет троих, я тоже возьму троих. Но чур не ныть! И почему твоя подруга не идёт со своими родителями?
– Спасибо, мамулечка моя любимая. Я буду тебе благодарна до самой смерти, – театрально воскликнула Лалага.
– Не дури, достаточно просто поблагодарить. Пусть будет готова к четверти десятого.
(обратно)
Глава пятая
За барной стойкой синьора Карлетто расставляла бутылки с ликёрами. Как и Пьерджорджо, она встретила Лалагу, мрачно нахмурившись.
– А где Ирен? – спросила Лалага.
– В своей комнате. Она наказана, а значит, останется там надолго. Так вот!
– Но что она такого натворила?
– Это ж какую наглость надо иметь, чтобы такое спрашивать? Ты прекрасно знаешь, что она натворила. Вы уже достаточно взрослые, чтобы понимать, как должна вести себя приличная девушка.
Лалага никак не могла понять, в чем дело. Что могла сделать Ирен за те полчаса, пока они с Тильдой ходили домой? Зная подругу, она не могла поверить, что та способна на серьёзный проступок. К сожалению, старшие Карлетто иногда были слишком строги к своим детям.
– А её наказание не закончится к девяти? – спросила она на всякий случай. – Мы идём танцевать на танкер.
– Ещё не хватало! Слушай, Лалага, шла бы ты домой, пока у меня не кончилось терпение. А то накажу и тебя, и эту вертихвостку, твою кузину.
Ой! Неужели синьора Карлетто узнала что-то про возлюбленного Тильды и её, Лалаги, обман? И теперь собирается сказать маме? Но ведь несправедливо наказывать за это бедняжку Ирен, которая даже и не знала о существовании Джорджо!
– Слушайте, Ваша дочь тут ни при чём, – начала она.
– Ты что, плохо меня слышала? Убирайся! – завопила синьора Карлетто, швырнув в Лалагу мокрой тряпкой. И сделала это не в шутку, а со злости.
Совсем запутавшись, Лалага выскочила из бара. Но домой не пошла, а юркнула во двор тёти Пеппины Сантагедди (старушка во время церковной службы всегда оставляла дверь открытой): оттуда, взобравшись на умывальник, можно заглянуть в окно комнаты Ирен.
Та лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и тихонько всхлипывала.
– Тсс! Это я! – прошептала Лалага. – Что ты такого натворила?
Ирен поднялась и подошла к окну. Её лицо опухло, по правой щеке катились слезы.
– Что случилось? Что ты сделала? Почему ушла, ничего не сказав?
– Пьерджорджо запер меня, – всхлипнула Ирен. – А ещё он меня ударил. Смотри, – она подняла руку, показывая красную полосу и, ближе к плечу, тёмный синяк, – это он ремнём.
– Но за что? Что ты такого сделала? – настаивала Лалага. Отец никогда не бил её ремнём. Если честно, он вообще делегировал все телесные наказания жене, которая, в самом худшем случае, наносила старшим детям пару ударов щёткой для волос, а малышам – выбивалкой для ковров, но только тогда, когда совсем теряла терпение. Впрочем, Лалага знала, что её семья – счастливое исключение: почти все остальные отцы и старшие братья, в том числе в семействах Марини и Сорренти, колотили своих дочерей и сестёр – как правило, голыми руками, но кое-кто и ремнём по ногам, а то даже и металлической пряжкой. Конечно, не каждый день, а только в самых тяжёлых случаях.
– Так что ты натворила? – ещё раз переспросила она.
– Ничего! – снова расплакалась Ирен. – Пьерджорджо сказал, что мы мерзкие развратницы, раз танцуем с моряками. Да к тому же такой непристойный танец, как танго.
– Вот ещё! Тильду отец учил!
– Пьерджорджо говорит, что мы только задницами трясти горазды. Что если нас кто-то видел, нашей репутации конец. А уж нас, будь уверена, кто-то да видел.
– Наверное. На террасе нас любой прохожий мог увидеть. Но мы же ничего плохого не делали!
– Он говорит, что делали. И мама тоже. А вечером, когда папа вернётся, он ещё добавит.
Лалага терзалась одновременно сожалением, негодованием и удивлением. К ним снова отнеслись, как к маленьким детям! Что же это за репутация такая, если её можно погубить одним невинным танцем? И что сказала бы мама, узнав, как они провели день? Может, она бы тоже рассердилась? Уж наверняка не взяла бы их на праздник. Хорошо бы ей никто не рассказал – хотя бы до завтра.
Она нетерпеливо фыркнула. Хватит уже висеть, цепляясь за виноградную лозу и балансируя на краю умывальника: тёте Пеппина скоро вернётся из церкви и не должна застать её у себя во дворе.
Лалага не могла утешить подругу. Да и потом, что она могла сказать? Только послать ей воздушный поцелуй.
– Я зайду завтра, расскажу тебе о празднике. А если тебя выпустят раньше, приходи ты.
Домой она вернулась расстроенная: без Ирен, ни за что ни про что посаженной под замок, на танкере будет и вполовину не так весело.
(обратно)
Глава шестая
На ясном безлунном небе сияли тысячи звёзд. Запрокинув голову, Лалага отчётливо различила ковш Большой Медведицы и Ориона с его ярким поясом.
Пау плыли на праздник в шлюпке, которая курсировала между причалом и танкером, привозя всё новых приглашённых. Она могла взять на борт пять человек, не считая двух матросов на вёслах – с Ирен экипаж как раз был бы полон.
– А что же это твоя подруга не поехала? – поинтересовалась синьора Пау, не увидев Ирен на причале.
– Не отпустили: говорят, нужно помогать в баре, – соврала Лалага, добавив ещё одну ложь в цепочку, уже и без того настолько длинную, что теперь она с трудом вспомнила бы все её звенья.
Тильде она рассказала правду, но кузина не слишком удивилась методам воспитания Пьерджорджо, хотя и объявила наказание совершенно не заслуженным и преувеличенным.
– Надо же! – презрительно воскликнула она. – Что нам теперь, не танцевать танго? Тоже мне, нашли причину всех грехов!
В итоге в шлюпку с ними попал Серджо
Ладо, вместе с другими гостями ожидавший своей очереди на причале. Этот франт, наверное, думал, что выглядит по последней моде, но его набриолиненный начёс выглядел просто смешно. Всю дорогу он пытался вытянуть из Тильды обещание оставить за ним первый же медленный танец.
Тильда, выглядевшая ещё красивее, чем обычно, надела зелёные брюки-капри и кружевную рубашку того же цвета, что только подчёркивало её светлые волосы. Сложную причёску она заколола более чем двадцатью шпильками и раз пять закрепила лаком,
Лалаге тоже хотелось брюки, но мать заставила её надеть дурацкое голубое платье с оборками, похожее на передник уборщицы, и белые кожаные сандалии: типичный наряд маленькой девочки. Она пыталась сопротивляться, но Аузилия встала на сторону синьоры, насыпав ещё соли на рану.
– Ты прекрасно выглядишь. Настоящая куколка, – а Тильда трусливо сбежала, запершись в туалете, чтобы избежать необходимости защищать кузину.
– Да-да, и выглядишь, как кукла. Ла-ла-гы-гы! – издевался Саверио, возмущённый, что остаётся дома с близнецами.
Лалага скрестила руки на груди, чтобы не дать натянуть на себя это чудовищное платье, и без конца повторяла:
– Я это не надену. Хочу брюки.
Наконец мать, окончательно потеряв терпение, заявила самым суровым и решительным тоном:
– Ладно. Значит, останешься дома, – и Лалаге пришлось смириться.
На пирсе Тильда тихонько шепнула ей на ухо:
– Выглядишь великолепно. Похожа на Анну-Марию Пьеранджели.
Наверное, она просто хотела утешить сестру – хотя могла быть в этом и некоторая доля правды, кто знает.
Вёсла тихо поскрипывали, ритмично погружаясь в тёмную воду. Танкер вдали весь светился. Отражаясь в спокойном море, он напоминал огромное, абсолютно симметричное созвездие. Наконец шлюпка подошла к борту, теперь предстояло подняться по трапу. На высоких каблуках сделать это оказалось нелегко, и синьоре Пау даже потребовалась помощь матросов. На палубе гостей приветствовал помощник капитана, встретивший Тильду как старую подругу:
– Добро пожаловать, мадемуазель!
Лалага бросила настороженный взгляд на родителей, но они, похоже, не нашли в этом ничего странного. Ей лейтенант ничего сказать не успел, потому что Пау сразу слились с толпой на палубе. Оркестр уже начал играть: звучал вальс, пары, сталкиваясь друг с другом, кружились на пространстве не шире тротуара. Лалага ахнула, увидев Джорджо, танцующего с Франциской Лопес, и взволнованно поглядела на Тильду, но та хихикала в ответ на комплименты своего утреннего кавалера, офицера, похожего на Расса Тэмблина. Лалага так и не поняла, видела та своего возлюбленного или нет, и решила, что если кузина способна так играть, то она просто фантастическая актриса.
Потом она заметила капитана, прокладывавшего себе путь среди танцоров с бокалом шампанского в руке, и направилась к нему. Сердце её неистово билось, щеки горели. Она надеялась, что не покраснела или, по крайней мере, что родители этого не заметили. И вот наконец красавец Контериос рядом! Он передал бокал синьоре Пау:
– Добро пожаловать на борт, синьора. Моё почтение, доктор.
– Уже знакомы с малышками, капитан? – поинтересовался доктор Пау. (МАЛЫШКАМИ?!) – Это моя племянница, а это – дочь.
Капитан вытянулся во весь рост, щёлкнул каблуками и протянул Тильде руку.
– Очень приятно, – сказал он формальным тоном, будто видел её впервые.
Теперь настала очередь Лалаги, которая смущённо уставилась в пол, чувствуя, как кровь стучит у неё в ушах. Контериос ласково погладил её по голове, но не сказал ни слова. Потом галантно улыбнулся матери:
– Никогда бы не сказал, что у Вас такая взрослая дочь.
«Узнал ли он меня? Почему не посмотрел мне в глаза? И что значит «взрослая»? – спрашивала себя Лалага. – Достаточно взрослая, чтобы влюбиться, несмотря на белые сандалии модели «Малыш»?
– Могу ли я иметь честь пригласить Вас на танец, синьорина? – Расс Тэмблин поклонился Тильде и увёл её.
– Давай, Лала, не стой тут, прилипнув к матери. Спускайся вниз, там есть и другие ребята, – сказал доктор Пау.
(обратно)
Глава седьмая
Но Лалагу сразу же поймала Ливия Лопес, которая затащила её в тёмный угол под кубриком:
– Видала? У моей сестры Франциски новый ухажёр. Если постараемся, может, даже застанем их целующимися.
Между тем вальс закончился, и они увидели, что Джорджо оставил свою партнёршу, даже не проводив на место, как это должен сделать любой хорошо воспитанный кавалер. Парень подошёл к Тильде, по-прежнему болтавшей с Рассом Тэмблином, и взял её за запястье:
– Следующий танец мой.
– Эй, молодой человек! Умерьте-ка пыл! Только если синьорина согласна, – строго перебил его офицер.
– Да пожалуйста! – ответила Тильда, имитируя снисходительность. И громко добавила, обращаясь к возлюбленному: – Мы, кажется, не знакомы? Или нас уже кто-то представил? Меня зовут Тильда.
Лалага поняла, что она старается быть замеченной всеми присутствующие.
– А я Джорджо. Очень приятно, – сказал парень, слегка смутившись: он явно не умел так же хорошо притворяться. К счастью, тут оркестр заиграл следующую мелодию, и, вдвойне к счастью для двух влюблённых, она оказалась медленной (
slow, как пишут в газетах).
– Похоже, твоя кузина не прочь украсть чужого парня! – возмутилась Ливия.
Слава богу, Франциска уже нашла себе нового кавалера. Среди приглашённых вообще было гораздо больше мужчин, чем женщин, и вскоре Ливию с Лалагой наперебой приглашали танцевать – то ребята постарше, то какие-то моряки, и так до трёх часов ночи.
Всё это время Лалага переживала, что Контериос станет её искать. Но капитан проявлял галантность где-то в другом месте – возможно, обязанности хозяина отнимали у него больше времени, чем хотелось бы. Или, услышав о злоключениях Ирен, он решил не компрометировать Лалагу. А, может, уже просто о ней забыл – кто знает?
Ещё она очень волновалась за Тильду: та отказывала всем подряд, продолжая танцевать с одним только Джорджо, хотя в её положении смена кавалеров выглядела бы куда благоразумнее. Среди наиболее юной части отдыхающих кое-кто уже отпускал по этому поводу злобные шуточки, поскольку трёх «дикарей» с Репейного острова, приехавших на Серпентарию впервые, здесь считали чужаками, а то и захватчиками. Да и о ядовитых язычках сестёр Лопес не стоило забывать.
Но Тильда, несмотря на умоляющие взгляды кузины, без тени смущения продолжала кружиться в объятиях возлюбленного. К счастью, они не танцевали щека к щеке, не слишком прижимались и не часто смотрели друг другу в глаза, зато оживлённо общались, не обращая внимания на грохочущую музыку и шум разговоров. Всякий раз, проходя мимо них, Лалага изо всех сил старалась услышать, о чём они говорят, но ничего не получалось. Ну, зато их не мог бы подслушать и никто другой – по крайней мере, пока синьора Пау что-нибудь не заподозрит и не поинтересуется, что за кавалера выбрала на этот вечер племянница.
(обратно)
Глава восьмая
Но настала пора уходить. Когда доктор Пау, собрав семейство, попытался найти капитана и поблагодарить за вечер, ему сказали, что они с боцманом обсуждают на камбузе подачу коктейлей. Пришлось передать благодарности через помощника, который сперва склонился в поклоне, чтобы поцеловать руку синьоре, а затем попытался проделать то же самое и с Тильдой, но та грубо отдёрнула руку: как ни странно, она выглядела очень взвинченной.
Рано утром танкер отправится в обратный путь, а через две недели, возможно, придёт другой, с другой командой и другим капитаном.

Лалага подумала, что никогда больше не увидит Контериоса, и пришла от этой мысли в отчаяние: она ведь даже не узнала, взаимна ли её любовь.
Никто в мире не знал о них с капитаном, но это лишь делало страдание ещё более горьким. Ах, как жаль, что утром она не успела довериться Ирен! Сейчас бы поплакаться подруге, узнать её мнение... Ах, если бы только Тильда не была настолько поглощена своими собственными проблемами, если бы заметила, что и Лалага уже достаточно взрослая для несчастной любви...
Да, наверное, она сама виновата, что не взяла инициативу на себя и не сказала ему. И теперь ей нестерпимо хотелось кому-то открыться.
Наконец, закрыв за собой дверь спальни, она, преодолевая стыд, спросила кузину в упор:
– Как думаешь, капитан танкера меня любит?
Тильда потрясённо уточнила:
– Какой ещё капитан? Тот, старый? Ты что, рехнулась?
– И вовсе он не старый, а похож на Тайрона Пауэра.
– Подумать только! Знаешь, я слышала, как он говорил твоей матери, пока с ней танцевал: «У вас такая очаровательная девочка, синьора. У меня самого дочь примерно того же возраста», – а потом рассказал ей, что случилось сегодня утром в баре. «Мы, – говорит, – подыграли немного этим танцовщицам», – а твоя мать рассмеялась.
– Но... но он же назвал меня
dulceridentem... – запинаясь, прошептала Лалага, раненая в самое сердце.
– Слушай, забудь ты этого слюнявого старикашку. Знаешь, что? Мужчины – редкостные негодяи.
Тут Тильда в бешенстве начала выдирать шпильки из волос, а потом, к величайшему удивлению Лалага, расплакалась.
Борясь с рыданиями, она рассказала, что провела ужасную ночь, непрерывно переругиваясь с Джорджо. А всё почему: в парне взыграла необоснованная ревность.
– Говорит, я заигрываю со всеми подряд. Только поднявшись на борт, вместо того, чтобы пойти его искать, сразу же начала охмурять этого рыжего офицера.
– А сам он что, разве не танцевал с Франциской, когда мы пришли? – возмущённо заметила Лалага.
– Вот и я то же самое сказала. До чего же он противный! Никогда его не прощу! Ненавижу его! Видеть его не хочу!
– Прости, это Джорджо тебя ревнует или ты его?
– Я бы не ревновала, но я не могу стерпеть, когда он пытается ограничить мою свободу, хотя сам любезничает с этой самонадеянной дурой Франциской, – сказала Тильда, обиженно утерев слезы тыльной стороной ладони и шмыгнув носом.
Лалагу вдруг поразила ужасная мысль: «А если бы она знала о том вечере в баре?» Права ли она, скрывая от кузины предыдущее предательство?
– Знал бы он, что с этим рыжим мы сегодня утром уже танцевали танго, танец греха! – с саркастической усмешкой воскликнула Тильда. Она бросила щётку, которой безуспешно пыталась расчесаться, и с горечью добавила: – Но теперь это уже не имеет никакого значения. Мы расстались.
– Да ладно! – удивилась Лалага. – Завтра же все ему объяснишь, и вы помиритесь.
– Не будет никаких объяснений, – снова зарыдала Тильда. – Завтра Джорджо возвращается в Плайямар.
Они всё равно собирались уехать через неделю, потому что товарищам Джорджо по палатке в августе нужно вернуться в Лоссай: их оставили на осень, и обоим придётся ходить к репетитору, чтобы подготовиться к экзаменам.
Лалага не могла поверить своим ушам: неужели Тильда думала, что их отношения будут длиться всё лето?
– Я была уверена, чтобы найду предлог заставить его остаться без них: он-то в следующий класс уже перешёл. Но Джорджо заявил, что ни дня больше не задержится на этом чёртовом острове! Они уезжают утром, с первым катером, а сейчас собирают вещи.
– Но это невозможно! Вот увидишь, он передумает.
– Нет, если Джорджо что пообещал, то сделает. И потом, я тоже не хочу его больше видеть.
Лалаге казалось, что земля уходит из-под ног, словно в каком-то кошмарном сне. Ощущение неминуемой трагедии раздавило её. Возможно ли, чтобы все несчастья случились в один и тот же день? Сперва Ирен. Потом Контериос, отрёкшийся от неё, как святой Пётр. А теперь и любовь Тильды разрушена – любовь, казавшаяся настолько сильной и прочной. Она тоже расплакалась.
– Прекрати сейчас же! – яростно приказала ей кузина. – Ты-то что ревёшь? Мы не доставим ему такого удовольствия. Пусть катится к чёрту, идиот! Не хочу его больше видеть.
– Девочки! – прошептал доктор Пау, тихонько постучав в дверь. – Хватит болтать, ложитесь.
(обратно)
Глава девятая
Наутро Лалага проснулась в меланхолическом настроении. Правда, она слегка смягчилась, осознав, что у них с Тильдой наконец-то есть что-то общее: обе они разочарованы и брошены.
Но кузина не собиралась ничего с ней делить – особенно главную драматическую роль. Ведь если кто-то и имел основания отчаиваться, то только она, Тильда. Только её сердце могло с полным основанием считаться разбитым. Так что печалиться – её монопольное право.
– Ты-то на что жалуешься? Не смеши!
Тщетно Лалага пыталась отстоять право на несчастье. Тильда, когда хотела, умела находить неоспоримые аргументы, так что Лалага вскоре вернулась к единственной роли, которую та ей оставила: помощницы, доверенного лица и утешительницы.
В тот день на пляж отправились позже обычного. Танкер уже ушёл, и от вчерашнего приключения не осталось никаких следов.
Ирен, разумеется, на причале не появилась, и Лалаге пришлось изобрести ещё один предлог, чтобы оправдать её отсутствие. Ей уже стало казаться, что жизнь покрылась сплошной паутиной лжи, из которой невозможно высвободиться.
Все утро она пыталась взбодрить Тильду, мрачно стоявшую в стороне:
– Вот увидишь, он передумал и решил не уезжать.
– Когда Джорджо что-то говорит, он это делает. Уж я-то его знаю, – скептически отвечала кузина.
После обеда, обнаружив, что Ирен всё ещё в плену и что на данный момент речи об её освобождении и не может быть, они взяли лодку доктора Пау и отправились ловить рыбу к Репейному острову. Тильда надела тётину широкополую соломенную шляпу и тёмные очки.
– Это на всякий случай, чтобы Джорджо не узнал меня, если вдруг не уехал. Не хочу, чтобы он решил, будто я за ним бегаю.
– Но меня-то он узнает.
– И что? Ты разве не можешь порыбачить там, где захочешь?
Подплыв к островку, они обнаружили, что палатки и след простыл.
– Ну, что я тебе говорила? – воскликнула Тильда с горечью.
Лалага уже хотела поворачивать к Портосальво, но кузина настояла на высадке. На месте лагеря ещё виднелись следы пребывания трёх друзей: кусты с обломанными ветками, раковины от мидий и моллюсков, аккуратно сложенные под куст можжевельника вместе с ореховой скорлупой и несколькими пустыми банками из-под сардин в масле... На безопасном расстоянии от иссохших зарослей репейника, который и дал название острову, в небольшой ямке в песке прятался очаг, где приятели готовили еду. Сейчас его покрывал толстый слой пепла.
Тильда с яростью, какой Лалага в ней и предположить не могла, принялась пинать и раскидывать камни, окружавшие очаг.
– И это после всего, что я из-за него пережила! – в бешенстве кричала она. – Я могла бы сейчас быть в Плайямаре, а не на этом чёртовом острове! Ела бы сейчас мороженое на набережной вместе с подругами! Ненавижу! Из-за него я всё лето проведу одна, как шажка подзаборная!
– Но есть же я, – не смогла смолчать Лалага, обиженная за Серпентарию: уже второй раз за день её называют «чёртовым островом», а ведь это совсем не так!
– И что с того? Ты мне не подруга, а всего лишь кузина.
 (обратно)
(обратно)
Глава десятая
На следующий день Ирен выпустили из заточения. Лалага сразу рассказала ей историю о капитане, танцах и предательстве, получив в ответ спокойствие, внимание и сочувствие, которых так и не дождалась от Тильды.
Вот же глупость: Ирен, оказывается, вовсе не была влюблена в лейтенанта, а танго с ним танцевала, только чтобы ему угодить.
– Мне вообще не нравятся такие старики.
Так что её побили и наказали совершенно ни за что.
– В общем, хватит на этот год и мужчин, и влюблённостей! Слишком уж с ними много сложностей, – изрекла, наконец, Лалага с облегчением, пусть даже и смешанным с некоторой толикой сожаления.
Тильда, казалось, немного успокоилась. На пляже с тётей, кузенами, кузинами и семейством Ветторе она вела себе умеренно вежливо, но от сестёр Лопес старалась держать подальше, используя для этого всю свою едкость и весь свой сарказм. После обеда она снова стала в одиночку гулять по пустошам с книгой под мышкой, а закончив «Преступление и наказание», сразу принялась за другую книгу того же автора с непроизносимым именем. (Название «Униженные и оскорблённые», как считала Лалага, обещало ей вместо утешения только дополнительную порцию соли на раны.)
Единственное изменение, показавшееся её тёте подозрительным или, скорее, достойным осуждения, заключалось в том, что Тильда перестала так уж сильно заботиться об элегантности и могла три дня подряд ходить в одной и той же полосатой рубашке и шортах.
Она теперь приходила домой полдничать и после оставалась в компании близнецов, не пытаясь присоединиться к старшим девочкам. Лалага сдалась и больше не ожидала от кузины дружбы. Видимо, разница в возрасте – совершенно непреодолимое препятствие, утешала себя она. К счастью, у неё была Ирен.
Тильда же, выйдя однажды вечером с близнецами и нянями за ежевикой, своей весёлостью, остроумием и дружелюбием совершенно завоевала сердце Зиры. Теперь младшая из нянь ловила каждое её слово, копировала её причёски и даже попросила одолжить какую-нибудь лёгкую книгу, чтобы почитать, когда Пикка и Тома отдыхают после обеда.
Форика, напротив, по-прежнему смотрела на Тильду с подозрением и недоверием. Оставшись наедине с сестрой, она предостерегла её против «этой бесстыжей облизяны». Под «облизяной» она, конечно, имела в виду обезьяну, что ужасно возмутило Зиру, пламенно защищавшую объект своего обожания.
Так прошла ещё неделя. Близился конец июля. У некоторых отдыхающих скоро закончится отпуск, они вернутся на «большую землю», а им на смену придут другие семьи, которые поселятся в тех же домах. Но большинство всё-таки останется на Серпентарии до конца лета.
Однажды вечером, уже устроившись в кровати и погасив свет, Тильда вдруг повернулась к Лалаге и тронула её за плечо:
– Мне нужно тебе кое-что сказать.
– Ну скажи.
– Тебе скоро придёт письмо. От Джорджо.
– Ты с ума сошла?
Тильде пришлось нырнуть под простыню, чтобы подавить смешок.
– Разумеется, оно для меня. Ты должна отдать его мне, не открывая.
– Не понимаю. Почему это я его получу?
– Тьфу ты! Почему бы тебе его не получить? Он же не может написать мне, иначе твоя мать что-нибудь заподозрит. Допустим, она его перехватит, откроет и прочтёт. И всё узнает.
– Что – всё? Вы разве не расстались?
– Расстались. Но теперь снова помирились.
– Как так?
– Я ему написала и извинилась. Сказала, что прощаю его за Франциску. Смотри, Лала, теперь я знаю, что он меня любит, и не собираюсь больше его отталкивать. Мы просто обязаны помириться. Так что позавчера я написала ему письмо, и он, конечно же, ответит в понедельник. Я посоветовала ему указать на конверте твоё имя, а в качестве отправителя Сандру Паскуали – кажется, так зовут ту твою одноклассницу, что по воскресеньям заходит за тобой к бабушке, чтобы вместе сходить в кино?
– Сандра мне никогда не пишет. Она не моя одноклассница и вообще не из интерната.
– Разумеется. Мне просто был нужен кто-то из Лоссая. Если Джорджо подпишется Мариной или Авророй, твоя мать увидит штемпель и поймёт, что что-то не так.
– Но она же заметит, что почерк мужской!
– Я сказала, чтобы адрес написала его сестра.
В общем, Тильда подумала обо всём. Разве что спросила разрешения Лалаги не ДО того, как вовлечь её в этот новый обман, а ПОСЛЕ того, как пути назад у кузины не осталось.
 (обратно)
(обратно)
Глава одиннадцатая
К счастью, письмо от Джорджо пришло вместе с двумя другими, тоже адресованными Лалаге. Одно снова было от Марины, другое – от Джанны Черри, которая в общей спальне «Благоговения» спала рядом с ней. Почтальон приходил, пока все были на пляже, и Аузилия положила их Лалаге на комод.
Лалага обнаружила их первой: Тильда во дворе ещё споласкивала волосы пресной водой из кувшина. Ей даже захотелось вскрыть конверт со штемпелем Лоссая, а потом сказать, что сделала это по ошибке, но она сдержалась, потому что дала обещание. И отчасти потому, что знала: Тильда устроит из этого целую трагедию.
В ожидании кузины Лалага стала читать письма от подруг: как обычно, ничего интересного. Или, может быть, это только так казалось с тех пор, как её саму стали занимать взрослые темы, дававшие острое ощущение риска и опасности.
Тильда, получив конверт, прижала его к груди, а потом поцеловала.
– Выйди, я хочу прочитать его в тишине.
– Но ты мне всё расскажешь.
– Знаешь, ты что-то слишком любопытна! Брысь!
Правда, чуть позже она всё-таки не смогла справиться с чувствами и, отведя Лалагу в сторону, пересказала ей письмо. Джорджо не только принял предложение помириться, но и извинился за свои подозрения. Он торжественно объявил, что ревновал без причины, что Франциска Лопес – наглая идиотка, что ему вообще не нравятся брюнетки, особенно кудрявые... Короче говоря, что единственная женщина в его жизни в прошлом, настоящем и будущем – это Тильда.
– Он хочет, чтобы я ответила как можно быстрее, и обещает писать мне каждый день. Так что будь готова получить много писем от своей подруги «Сандры».
Через три дня и впрямь пришло второе письмо со штемпелем Лоссая. Почтальон принёс его сразу же после обеда, когда Тильды не было дома. Лалага с Ирен сидели на крыльце и вклеивали в альбом новые карточки актёров. Теперь её подруге нравилась американка, светловолосая, слегка слащавая блондинка по имени Дебби Рейнольдс.
– Кто тебе пишет? – спросила Ирен заинтересованно.
– Сандра Паскуали, – смущённо ответила Лалага, торопясь убрать письмо в карман.
– Кто такая Сандра Паскуали? – Ирен не помнила, чтобы её подруга хоть раз говорила о девочке с таким именем. – И почему ты даже не открыла письмо? Не хочешь читать?
– Потом, – сказала Лалага – там наверняка одни глупости. Сандра с нами не учится, она вообще довольно глупая.
Ирен удивлённо посмотрел на неё:
– Если вы не подруги, зачем переписываетесь?
– Не знаю.
– Тогда давай, прочти, и я узнаю.
– Сейчас не хочу.
– Я тебе не верю. Ты покраснела, когда узнала почерк. Лалага, зачем ты мне врёшь? – пылко спросила Ирен. – Я же всегда говорю тебе только правду.
Лалага снова покраснела от стыда и смущения. Но она не могла предать кузину.
– А вдруг Сандра пишет мне что-то, чего ты не должна знать?
– Так прочти, – настаивала Ирен, – а потом решишь, должна я это знать или нет.
Почувствовав, что прижата к стенке, Лалага, вместо того чтобы сердиться на Тильду, которая и поставила её в это безвыходное положение, разозлилась на подругу:
– Послушай, ну, что ты пристала? Ведёшь себя, как сплетница какая-то!
Оскорблённая Ирен вскочила на ноги.
– Я поняла, – сказала она с горечью. – Я заметила это уже некоторое время назад, но не хотела верить. Ты меня больше не любишь. Уехав в Лоссай, ты изменилась. Может, стыдишься меня, потому что я-то учёбу бросила. Наверное, думаешь, что когда я вырасту, стану невежественной швеёй, как тётя Чичита.
– Что ты такое говоришь? Всё совсем не так! – в отчаянии вскрикнула Лалага.
– Тогда почему ты со мной ТАК? Я понимаю, теперь ты мне предпочитаешь эту Сандру, она теперь твоя лучшая подруга. Может, ты даже говоришь ей гадости обо мне.
– Что ты себе напридумывала? Это неправда! Послушай...
– Если тебе нечего скрывать, позволь мне прочесть письмо.
– Не могу!
– Видишь? Вечно ты от меня что-то скрываешь. Хватит с меня твоей лжи и твоих тайн. А ведь когда-то мы всё друг другу рассказывали... Я ухожу.
– Подожди!
– И не ходи за мной. Не хочу с тобой больше разговаривать.
Ирен с печальным видом побрела к бару, и Лалага, прекрасно её зная, поняла, что дело серьёзное. Дружба, продлившаяся пять лет, навсегда закончилась из-за Тильды.
(обратно)
Глава двенадцатая
Теперь у Лалаги не осталось никого, кому она могла бы довериться, поделиться своими мыслями и горестями. Тильда, услышав о ссоре с Ирен, только рассмеялась: «Что за ребячество!» Саверио был мальчиком и потому не мог понять, а Пикка – ещё слишком маленькой. Правда, когда она увидела, что старшая сестра сидит понурив голову на краю тротуара, то подошла, положила грязную ручонку ей на колено и предложила липкую карамельку, которую уже наполовину ссосала.
Лалага чувствовала себя совершенно одинокой, словно сирота из романов для девочек, которые ей давали почитать в интернате.
Однажды днём она даже решила было сходить посидеть на могиле Анджелины и довериться ей, как делали те бедные сиротки, обращаясь к своим покойным матерям, защищавшим их с небес. Но Лалага не знала Анджелину живой и потому на защиту претендовать не могла, а её собственная мать на небеса пока не собиралась и вообще мало напоминала умильных пресвятых мучениц.
Синьора Пау, как и все остальные члены семьи, разумеется, заметила исчезновение Ирен, но ни словом его не прокомментировала. Комментарии, причём самые злобные, отпускали Аннунциата и Франциска Лопес, заявившие, что очень рады больше не тесниться на яхте, раз уж теперь не нужно освобождать место для какой-то там крестьянки. А вот Ливия, напротив, обнаружив свободное место, тут же снова попыталась занять его и объединиться с Лалагой.
В тот день Лалага решила прогуляться вдоль берега, и Ливия снова увязалась за ней. Лалага шла и шла, не собираясь поворачивать назад. Ей хотелось оказаться как можно дальше от Конского лимана, от этих башен, от скал, засиженных чайками, от безмолвных руин. Они уже дошли до небольшой рощицы олеандров и тамарисков, как вдруг Ливия жестом подозвала Лалагу, показав, чтобы та шла на цыпочках и не шуршала сухими листьями, усыпавшими всё вокруг.
Поймав её недоумевающий взгляд, Ливия приложила палец к губам и пригнулась, спрятавшись за большим кустом.
– Тсс! – прошептала она. – Смотри!
В уединённой бухточке загорали шесть человек: кто лёжа, кто сидя, а некоторые и вовсе стоя на берегу. И мужчины, и женщины были голыми, причём без единой белой полоски от купальника на загорелых телах.
– Видала? Вот ведь свиньи! – прошипела Ливия.
А Лалага вдруг с огромным удивлением узнала в этих людях семейство Джербе из Лоссая: их отец держал магазинчик канцтоваров на центральном проспекте. «Очень приличные люди, честные, никогда не обманут», – всегда говорила о них обычно скупая на похвалу бабушка Марини. И вот они здесь, муж, жена, шурин со своей женой, даже двое детей – все голые: ни одежды, ни зонтиков, ни шезлонгов, только лодка с подвесным мотором на якоре у берега.
– А представь, проплывает мимо пограничный патруль и находит их в таком виде... – злобно сверкнула глазами Ливия.
– Пойдём-ка отсюда, – ответила Лалага, покрасневшая до самых ушей. Ей совсем не нравилось шпионить. Из газет она знала, что существуют нудисты, но никогда не думала, что может встретить их даже на Серпентарии. Она была убеждена, что те богаты, молоды, не похожи на других и как один, презирают закон. Может, среди них есть и артисты с красивыми, спортивными торсами. Здесь же она столкнулась с обычной семьёй, какую по воскресеньям вполне можно встретить при полном параде в кафе-мороженом «Венецианка». Впрочем, и Джербе без одежды не напоминали греховодников, а выглядели, скорее, чуточку смешными, особенно мужчины.
Лалага, конечно, знала, на что похож голый мужчина: два младших брата – это вам не шуточки. Кроме того, она видела статуи, картины и иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии». Но увидев всё то же самое вживую, она испытала неловкость.
Хозяин магазинчика канцтоваров ни капельки не напоминал статую: у него было изрядное брюшко и лысина, но при этом невероятно волосатые грудь и живот. Шурин и обе дамы смотрелись несколько лучше, но тоже не казались образцами неземной красоты.
Вели они себя непринуждённо, даже расслабленно, как если бы сидели в чьей-нибудь гостиной полностью одетыми.
Лалага мысленно вернулась к спору монахинь о грехе нескромности и вспомнила, как матушка Анна-Катерина защищала невинность «своих» африканцев. Интересно, можно ли считать нудистов такими же невинными, как это утверждали в одном журнале, или их ждёт адское пламя?
– Слушай, а давай крикнем «БУ!» и убежим, – предложила Ливия. – То-то они перепугаются, эти грязные развратники.
– Сама ты грязная развратница, раз тебе нравится подглядывать!
При мысли, что Ливия втянула её в свои трусливые проделки, Лалаге захотелось плакать от злости. В отчаянии она помчалась в сторону пляжа, а Ливия, спотыкаясь, бежала за ней, жалобно скуля:
– Ты чего? Подожди! Подожди меня!
(обратно)
(обратно)
Часть пятая
Глава первая
Из летнего дневника Лалаги Пау
3 августа
Дорогой дневник, приходится доверяться тебе, потому что с тех пор, как Ирен перестала быть моей подругой, мне больше не с кем поговорить. А дружить с Ливией я совсем не хочу. Она мне не нравится: только и делает, что болтает о разных грязных вещах. Например, хочет рассказать мне, чем занимаются мужчина и женщина, когда хотят сделать ребёнка. Я сказала, что и без неё прекрасно знаю, потому что мне уже рассказали девочки из третьего класса, и с тех пор она всё пристаёт: «Ну, расскажи, что ты слышала, а потом сравним, то ли это самое, что знаю я». Но я не собираюсь говорить с ней об этом.
Дорогой дневник, вот из-за этих слов о Ливии я теперь совершенно уверена, что не покажу тебя матушке Эфизии, когда закончатся каникулы.
С Тильдой я тоже не могу откровенничать. Каждый раз, когда я пытаюсь сказать ей что-то, не касающееся её и Джорджо, она дразнится и говорит, что всё это глупости.
А теперь, когда приехала Наследница, она и вовсе целыми днями с ней, приходя в постель так поздно, что я уже сплю. Не могу понять, чем эта девица ей так нравится, разве что возрастом: они совсем-совсем ровесницы.
Дорогой дневник, ты ведь ещё не знаешь, кто такая Наследница, поэтому я объясню. Это дальняя родственница Звевы, старшей кузины сестёр Лопес, которой уже почти восемнадцать и которая отдыхает только в Плайямаре. Этой зимой Наследница жила у Звевы, потому что родители у неё погибли в автокатастрофе (отсюда и другое дружеское прозвище – Сиротка). Нас тысячу раз предупредили, чтобы мы её не обижали и не упоминали в её присутствии о смерти, похоронах, кладбищах, автокатастрофах и тому подобных вещах.
У меня этой проблемы нет, потому что мы не так уж много разговариваем. А вот Тильда сразу в неё вцепилась и теперь делает вид, что они лучшие подруги с самого детства, какими были мы с Ирен. Только мы принимали во внимание наличие Тильды, а они моё – нет. Пускай и не очень хорошо говорить так о кузине, но я иногда думаю, что Тильда делает это нарочно, чтобы сестры Лопес полопались от ярости.
Ведь Наследница – и в самом деле наследница: когда она вырастет, то станет очень богатой. Раньше она жила в Неаполе, а теперь, как я уже писала, в Серрате с тётей, дядей и двоюродной сестрой, потому что других родственников у неё не осталось. Ливия говорит, Звева безумно ревнует и ведёт себя с ней отвратительно. Она привыкла быть единственным ребёнком в семье и не выносит присутствия посторонних, пусть даже это кузина, дочь сестры её матери. Но, похоже, Наследницу совсем не волнует грубость Звевы. Она блондинка, кудрявая и очень красивая, пусть и не настолько, как Тильда, хотя Анна Лопес вчера сказала маме, что через пару лет у неё отбоя не будет от охотников за приданым.
Бедняжка, со всеми своими деньгами она никогда не сможет быть уверена, действительно ли парень любит её или решил жениться по расчёту. Ужасное, должно быть, ощущение.
Они со Звевой приехали на Серпентарию на пятнадцать дней в гости к родителям Ливии, но Тильда уже пообещала, что их дружба будет длиться вечно, даже если они живут в разных городах, что они будут переписываться, а в следующем году увидятся в Плайямаре. Я слышала, как она говорила это Наследнице на яхте, когда мы плыли на пляж.
Уверена, она уже рассказала ей о Джорджо. А может, даже о том, целовались они или нет. Интересно, способна ли Дария хранить тайны так же крепко, как я.
Ах, да, совсем забыла: Наследницу зовут Дарией.
Дорогой дневник, вчера пришло ещё одно письмо из Лоссая. Почтальон принёс конверт, пока я гуляла с близнецами, и его приняла мама. Я очень боялась, что она скажет: «Что это ещё за Сандра, о которой я никогда не слышала? Прочти-ка, что она тебе пишет». К счастью, ей тоже пришло письмо, и на мой конверт она внимания не обратила. Но что, если спросит в следующий раз? Какое оправдание мне изобрести? Дорогой дневник, как ты считаешь, должна ли я рисковать прослыть лгуньей из-за Тильды? Если в следующий раз мама попросит у меня письмо, я отдам ей его, даже если Тильде потом не поздоровится. Пусть отправляет тайные письма через свою Наследницу!
(обратно)
Глава вторая
Вечером по дороге во двор, куда она шла выплеснуть ведро с грязной водой, Лалага краем уха услышала, как прислуга с воодушевлением обсуждает предстоящий приезд театральной труппы. Они пробудут на Серпентарии весь август, до конца праздника святого покровителя острова, которым закрывается купальный сезон. Репертуар обещали обширнейший.
– Каждые два вечера новый спектакль, – рассказывала Лугия, лучше всех информированная, поскольку актёры собирались поселиться в доме её племянницы. – Всего их десять взрослых и пятеро детей, они сами исполняют все роли.
– Но где? В Портосальво же нет зала, – поинтересовалась Лалага.
Зато в Лоссае их было целых три: «Пуччини», принадлежавший командору Серра из Серраты, где шли только оперы; кинотеатр «Блеск», где не только показывали фильмы, но и проводили театральные вечера, балы-маскарады и конкурсы красоты; и, наконец, клуб железнодорожников, где, в основном, ставили комедии на местном диалекте в исполнении любительских трупп. Не стоит забывать и о приходских спектаклях: в каждой церкви были свои постановки, даже в институте для глухонемых в конце каждого года показывали сценки с участием тех студентов, кто всё-таки научился говорить.
Марини часто бывали в театре. За зиму с бабушкой, дедушкой, тётей и дядей Лалага посетила по меньшей мере десяток спектаклей. Ещё она ходила в театр с матерью – та даже выписывала журнал «Занавес» и во время театрального сезона на пару недель приезжала в Лоссай, оставляя детей на попечение Аузилии. «Как же я тебе завидую!» – писала Ирен, требуя пересказать ей каждую постановку слово в слово. Сама она в театре не бывала, так что весь её опыт в этом вопросе ограничивался письмами подруги и статьями в журналах или газетах.
А на Серпентарии не было даже зала, достаточно большого, чтобы вместить импровизированную сцену и сиденья для зрителей. Где же будет выступать эта новая труппа?
– На площади Пигафетты, под открытым небом, – ответила Зира, прослышавшая об этом от дяди, работавшего сторожем. – Дон Джулио даст им лавки из церкви, а сцену устроят на грузовике – они всегда так делают, потому что выступают по всей стране, а залы есть только в городах.
Труппа называлась «Друзья Фесписа». Лалаге сразу вспомнилась книга «Капитан Фракасс», которую ей зимой давал дедушка Марини. В ней говорилось о благородном, но обнищавшем юном бароне де Сигоньяке, который путешествовал по Франции с труппой бродячих актёров, выдавая себя за одного из них. Она настолько полюбила эту книгу и с таким энтузиазмом о ней рассказывала, что дед предупредил:
– Только не пиши сочинений на темы, которые тебе не по возрасту, иначе монахини меня отругают. Может, стоило подождать, пока тебе не исполнится хотя бы пятнадцать. А то, глядишь, окажется, что в интернате она и вовсе запрещена.
В прошлом дедушке уже попадало, поскольку Тильда с детства читала все самые сложные романы, какие только могла найти в его библиотеке. Лалаге тоже не хотелось отставать, и даже натыкаясь случайно в какой-нибудь книге на незнакомые слова, она делала вид, что всё понимает.
Зира и Форика очень обрадовались приезду театральной труппы. Они надеялись не пропустить ни одного спектакля, тем более по весьма скромной цене: сто лир для взрослых, пятьдесят для детей.
– Интересно, разрешит ли синьора хотя бы разок взять с собой Пикку и Тома? Они, бедняжки, тоже имеют право получить удовольствие.
«Друзья Фесписа» прибыли на катере на следующий день после обеда. На причале, чтобы помочь с выгрузкой, собрались почти все женщины Портосальво (пожилые – в чёрном, помоложе – с детьми на руках, волосы у всех завязаны в узел на затылке и заколоты длинными металлическими шпильками), несколько рыбаков и толпа босоногих местных ребятишек. Отдыхающие были представлены группой нянь со своими подопечными и, конечно, четырьмя детьми доктора в сопровождении Зиры и Форики, внимательно следивших, чтобы близнецы крепко держались за их юбки.
Актёры шли сквозь толпу зевак. К огорчению некоторых женщин, начитавшихся фотороманов и даже несколько раз смотревших телевизор, а потому ожидавших блёсток и страусовых перьев, одевались они скромно и вообще-то выглядели самыми обычными людьми. Лалаге они показались как две капли воды похожими на обитателей старой части Лоссая. В основном это были люди в возрасте, а среди молодых не нашлось ни одного симпатичного мужчины или женщины, способной сравниться красотой с кем-то из киноактрис. Если бы не дон Джулио, вышедший их поприветствовать, никто бы и подумать не мог, что это те самые артисты, которых все так ждали.
Приехали они на большом американском автомобиле, в части размеров вполне способном посоперничать с машиной Лопесов, но изрядно помятом, в сколах и царапинах, а бампер и вовсе был привязан проволокой – настоящая развалюха. Скажем так: этот здоровенный грузовик с заплатанным брезентовым тентом предстал перед островитянами далеко не в лучшем состоянии.
Удовлетворив любопытство, толпа взрослых поредела, но дети, кривляясь, так и следовали за новоприбывшими до хижин, в которых разместились актёры. В этой ватаге были и Лалага с Саверио, которых мать на следующий день сильно ругала за то, что они вели себя хуже уличных мальчишек.
(обратно)
Глава третья
Из летнего дневника Лалаги Пау
4 августа
Дорогой дневник, вчера вечером я видела замечательный спектакль: страшную пьесу под названием «Отрезанная рука». Если честно, я даже скопировала афишу, висевшую на дереве перед церковью:
ОТРЕЗАННАЯ РУКА
мрачная драма
вольная адаптация
романа синьоры
Матильды Серао
действие происходит
в таинственном девятнадцатом веке
декорации и костюмы
идентичны подлинным
Сразу стало понятно, что будет страшно. Зира и Форика крепко держались за руки с самой первой сцены, хотя ещё ничего не происходило. Но потом путешественник, Роберто, нашёл в багажном отсеке поезда сумку, размером с футляр для кларнета, в котором лежала женская рука. Настоящая рука, с кольцами и браслетами, отрезанная по запястье и забальзамированная. (Муляж, конечно, но впечатление производит такое же сильное.)
Путешественник влюбляется в эту руку (такое возможно?) и пускается на поиски женщины, которой она принадлежала. Это красивая еврейская девушка, Рашель, которую похитил и загипнотизировал злобный старик, который хочет на ней жениться. Но она не соглашается, потому что он иноверец. Тогда её насильно подвергают гипнозу. Она уже не может проснуться, а врач говорит старику: «Ей может быть безумно больно…» – и режет руку без наркоза. Бедняжка Рашель просыпается, но теперь ненавидит старика ещё больше. Старик бальзамирует руку, чтобы приделать её обратно, когда Рашель всё-таки согласится выйти за него, но забывает футляр в поезде и выглядит полным дураком. Он начинает искать того, кто забрал руку, потому что ревнует и хочет его убить.
Думаю, в жизни такого ни за что бы не случилось: действие происходит задолго до первых исследований по трансплантации, как же старик хотел прикрепить руку обратно?
Как бы то ни было, путешественник находит Рашель, по-прежнему наполовину загипнотизированную, и похищает её, чтобы освободить. Она же, когда не спит, говорит, что любит его и что не знает, куда ей идти, потому что родители её умерли, а дома нет. Поэтому они отправляются жить на какой-то необитаемый остров в Англии.
В общем, они счастливы и ждут ребёнка. Ты можешь сказать: «Как же она будет укачивать его одной рукой?» Она ведь отрублена и уже снова потерялась. И кто же её нашёл? Конечно, злобный старикашка. Используя забальзамированную руку как своего рода компас, он начинает гипнотизировать бедняжку Рашель на расстоянии, хотя даже не знает, где та находится. Однажды ночью несчастная женщина слышит угрожающий голос. Чтобы избавиться от него, она бросается с высокой скалы и погибает, а её возлюбленный отчаянно рыдает, но уже ничего не может поделать.
КОНЕЦ
Когда занавес опустился, все мы, зрители, плакали. Особенно тётя Пеппина Сантагедди, которой за семьдесят, но она никогда раньше не бывала в театре и не могла убедить себя, что видит лишь игру актёров. Никола Керки, «парень» из магазина, очень злился, как будто эта история случилась взаправду, то и дело повторяя: «Всему виной капитализм! Всему виной американские империалисты!» Я не уверена, что правильно разобрала, но при мне американцев никогда так не называли.
Мы ещё плакали, когда на сцену вышел директор труппы и объявил: «Дамы и господа, а теперь, для поднятия настроения, мы предлагаем вам небольшой комический финал».
Эта часть спектакля длилась совсем недолго, всего минут десять. На сцену вышли два актёра в странной одежде – точнее, в лохмотьях. Их звали Чиччо и Джиджетто. Они стали без всякой причины оскорблять друг друга, пинались, падали, роняли стулья. Чиччо иногда катался по земле, делая вид, что рвёт на себе волосы, и выл, как собака. Джиджетто брызгал ему водой в лицо из резинового цветка в петлице пиджака. Я подумала, что так же глупо ведут себя клоуны вцирке, и это меня опечалило. Но эти двое были очень смешными, и публика хохотала во всё горло, поскольку цирка жители Портосальво тоже никогда не видели. Потом и я немного посмеялась.
В общем, представление прошло чудесно. На лавках дона Джулио не осталось ни единого свободного места. Даже если бы кто-нибудь предложил заплатить золотом за каждый килограмм своего веса, ему бы некуда было пристроиться. Многим вообще пришлось сидеть на стене сада Джузеппе Сасси, что в глубине площади. Явились все жители Портосальво. А вот из отдыхающих не пришёл никто, потому что, по их мнению (которое мне передала мама, так что я не знаю, почему они так думают), «Друзья Фесписа» – просто компания бродяг, нищих и попрошаек, которые даже играть не умеют, а потому ставят одни лишь душераздирающие мелодрамы, подходящие только для людей невежественных. Она не хотела, чтобы я туда шла. К счастью, я настояла, и она всё-таки разрешила. Спектакль мне понравился, хотя он и правда оказался душераздирающим. Но это не недостаток.
 Я очень хотела бы пойти в театр вместе с Ирен. Для неё это было бы впервые. Но оглядев зал, я её не увидела. Кто знает, может, она придёт сегодня вечером. Или, может, её не отпускают: например, если отец считает, что все комедии аморальны и не годятся для серьёзной девушки. На самом деле, я не знаю, откуда в Карлетто проявилась такая строгость. Раньше они не особенно задумывались о моральном облике Ирен.
Тильда, естественно, тоже не пришла. Последние пару дней она стала слишком уж нервной и кидается на всех, как гадюка. Должно быть, Джорджо так ей до сих пор и не написал. Она даже пыталась убедить Зиру не ходить на спектакль, говорила, что не такое уж это и культурное событие. И эта дурочка Зира почти дала себя уговорить. К счастью, вмешалась Форика, которая в конце концов и победила. Наследницы тоже не было – тем хуже для них. Я, если только смогу, сегодня вечером схожу ещё раз (и наплевать, что я уже знаю и эту историю, и чем она заканчивается). А потом завтра, на новый спектакль, и послезавтра, и каждый вечер, пока эта труппа не уедет с Серпентарии.
(обратно)
Я очень хотела бы пойти в театр вместе с Ирен. Для неё это было бы впервые. Но оглядев зал, я её не увидела. Кто знает, может, она придёт сегодня вечером. Или, может, её не отпускают: например, если отец считает, что все комедии аморальны и не годятся для серьёзной девушки. На самом деле, я не знаю, откуда в Карлетто проявилась такая строгость. Раньше они не особенно задумывались о моральном облике Ирен.
Тильда, естественно, тоже не пришла. Последние пару дней она стала слишком уж нервной и кидается на всех, как гадюка. Должно быть, Джорджо так ей до сих пор и не написал. Она даже пыталась убедить Зиру не ходить на спектакль, говорила, что не такое уж это и культурное событие. И эта дурочка Зира почти дала себя уговорить. К счастью, вмешалась Форика, которая в конце концов и победила. Наследницы тоже не было – тем хуже для них. Я, если только смогу, сегодня вечером схожу ещё раз (и наплевать, что я уже знаю и эту историю, и чем она заканчивается). А потом завтра, на новый спектакль, и послезавтра, и каждый вечер, пока эта труппа не уедет с Серпентарии.
(обратно)
Глава четвертая
Из летнего дневника Лалаги Пау
5 августа
«Отрезанная рука» понравилась мне вчера даже больше. Я снова боялась, но по-другому, потому что уже знала сюжет и происходящее на сцене не стало для меня таким страшным сюрпризом, как в первый раз. Зная, что пьеса кончится плохо, я не питала надежды на счастливый финал, но очень жалела бедняжку Рашель.
Я загрустила ещё и потому, что в театре была Ирен. Направляясь к своему месту, я прошла совсем близко от неё, но она сделала вид, что меня не видит. Аузилия заметила это и забросала меня вопросами, ответов на которые я не знаю.
Ещё она очень злилась на Зиру и Форику, потому что вчера утром они решили пересказать ей в подробностях весь сюжет пьесы (возможно, из-за печальной концовки её даже можно назвать трагедией), испортив добрую половину удовольствия. Аузилия сказала, что в следующий раз своими руками отрежет язык тому, кто осмелится открыть рот.
На первом представлении она присутствовать не смогла, потому что накрывала на стол и мыла посуду: служанки договорились, что будут посещать театр по очереди, чтобы на время ужина дома всегда кто-то был, иначе мама вообще запретит им ходить. Аузилии и Баиндже выпал второй вечер, поэтому остальным трём женщинам пришлось помалкивать.
Тильда и на сей раз не захотела прийти, хотя я всеми силами пытался её убедить. Она считает, что эта труппа играет хуже дрессированных собачек, а весь их театр – не более чем цирк-шапито. «Откуда ты знаешь? Взгляни хотя бы разок», – уговаривала я, но она ни в какую: ушла с Наследницей на набережную слушать, как парни играют на гитарах.
Так что никого из отдыхающих в театре опять не было. Но я видела, что многие местные, как и я, пришли второй раз. Теперь, когда я могла не следить за сюжетом, мне удалось получше разглядеть актёров, и я их всех узнала, несмотря на грим, парики и костюмы. Роль Рашель, например, исполняла Жизелла Дередже, жена Сильвано, которая на сцене выглядит гораздо красивее и моложе.
Главного героя играет Дженнаро Дженна, муж Мириам, а ребёнка Рашель – Адель Дженна, которой всего семь лет, но она уже выглядит как настоящая актриса. Злой старик-гипнотизёр – это дед Дередже, а его молодой помощник – вовсе не мужчина, а девушка, Арджентина Дзайас.
Наверное, сейчас, дорогой дневник, мне нужно написать про труппу «Друзья Фесписа». Арджентина мне всё объяснила вчера днём, когда я помогла ей отнести домой тяжёлые сумки (две очень тяжёлые сумки, если быть точной).
Сперва, встретив в магазине, я её не узнала: в повседневной одежде она вовсе не похожа на актрису, а выглядит как любая девушка из Портосальво (только не из отдыхающих, потому что она не загорелая, но ужасно бледная).
Она рассказала, что актёры вообще не должны загорать, потому что грим лучше смотрится на белой коже. А многих других вещей они не могут делать из-за того, что у них очень мало денег. Не думаю, что когда вырасту, стану театральной или даже киноактрисой. Наверное, в Голливуде получше – американцы ведь все богачи. Правда, Никола Керки говорит, что и там люди умирают от голода, просто этого никто не видит из-за пропаганды «холодной войны», объявленной сенатором Маккарти против русских.
Под предлогом помощи с сумками я проводила Арджентину до дома. Семья Дзайас живёт в сарае за домом священника, который они снимают у дона Джулио. Мебели у них нет, только матрасы на полу да стулья, заваленные одеждой.
Мать Арджентины готовила еду на походной печке (моя мама сказала бы, если бы увидела: «Как цыгане»). Тем не менее это очень чистые, образованные и добрые люди. Они предложили мне бисквитного печенья и оранжада. Арджентина сказала: «Жаль, что у тебя не длинные волосы, мать бы их быстро закудрявила». Это делается так: нагревают на свече металлический гребень и пользуются им как щипцами для завивки. Они попросили меня рассказать об этом соседским девушкам: всего десять лир, а кудряшки держатся не меньше недели.
Арджентину тоже нельзя завивать, потому что когда она играет мальчика, нужно очень туго заплетать косу и прятать её под нейлоновый чулок, а кудри так не соберёшь, говорит синьора Дзайас. Мальчиков она играет потому, что в труппе слишком мало молодых актёров-мужчин.
Ей пятнадцать лет, и у неё есть ещё старший брат, Франческо, ему по меньшей мере лет двадцать. В комическом финале он играет роль Чиччо, которого всё время пинают в зад. Это высокий худой молодой человек с каменно серьёзным лицом – и не скажешь, что комик. Например, у Макарио всё видно по лицу, а у него – нет, и это выглядит очень романтично (я сразу подумала о капитане Фракассе). Барон де Сигоньяк тоже был очень худым, потому что в его полузаброшенном замке не хватало еды. А ещё он, несмотря на благородное происхождение, тоже играл роль забияки и вызывал у публики смех, получая побои.
Родители Арджентины и Франческо тоже актёры. Синьор Дзайас заодно главный электрик компании: он отвечает за освещение сцены, гром и молнию, наступление ночи и так далее. Здесь, на острове, где нет электричества, одни керосиновые лампы, всё это, конечно, сделать невозможно. Но сцена, когда Рашель бродит, как сомнамбула, со свечой в руке, а вокруг сплошная темнота, просто великолепна.
 (обратно)
(обратно)
Глава пятая
Потом Арджентина спросила, не хочет ли Лалага познакомиться с другими актёрами и, сделав вид, что хочет одолжить пару простыней, пошла с ней к дому Нины Рендине, где жила остальная часть труппы, состоявшая исключительно из семейства Дередже.
Синьор Дередже, как она объяснила, был директором труппы. Раньше «Друзья Фесписа» состояли только из членов его семьи. Потом, сразу после войны, к Дередже присоединились они, Дзайасы, пришедшие из небольшого цирка, потерпевшего полный финансовый крах. Синьор Дзайас в молодости работал наездником в цирке Буэнос-Айреса, там родился и Франческо. А её саму, хотя она родилась в Италии, назвали Арджентиной, потому что родители испытывали ностальгию по Южной Америке.
– Теперь, когда нас стало пятнадцать, мы можем ставить пьесы с большим количеством персонажей, – говорила она с гордостью.
Семья Дередже состояла из одиннадцати человек, но дома были только дедушка, основатель труппы (мужчина к восьмидесяти, который немедленно сообщил Лалаге, что самое большое его желание – умереть на сцене во время финального монолога), его невестка, жена директора труппы, специализирующаяся на ролях пожилых женщин, и ещё две актрисы с детьми от восьми лет до трёх месяцев, причём бабушка при каждом удобном случае рассказывала, что малышка Чечилия дебютировала и вовсе двух недель от роду в роли «плода греха», оставленного на ступенях монастыря в «Ничьих детях».
– Она плакала, а публика аплодировала: другие-то труппы для этой роли куклу таскают, – добавила она презрительно.
В съёмном доме Дередже обосновались получше, чем Дзайасы в сарае. У каждого из трёх глав семей имелось по спальне, хотя детям все равно приходилось спать в одной постели с родителями. Здесь же жил и дрессированный белый пудель, который прекрасно умел считать в любом порядке, делал сальто, приносил разные вещи и даже притворялся спящим. А у Мириам Дженны на плече всегда сидел приручённый щегол – даже когда она расчёсывала волосы, он лишь чуть отпрыгивал в сторону при каждом взмахе щётки.
Лалага была совершенно очарована этой живописной семейкой, а Дередже, в свою очередь, очень удивились тому, что она дочка доктора.
– Перед отъездом мы устроим особый спектакль для сливок местного общества и отдыхающих, – сообщил ей дедушка Дередже. – Обязательно скажи об этом родителям.
Лалага, конечно, пообещала, но очень сомневалась в том, что её мать придёт. Вернувшись домой, она первым делом набросала в летнем дневнике родословное древо Дередже (изображать Дзайасов было бы слишком просто).
ДЕДУШКА ДЕРЕДЖЕ
79 лет, вдовец
СИНЬОР ДЕРЕДЖЕ
58 лет, директор труппы. Выполняет обязанности режиссёра,
подменяет других актёров, играет роли пожилых мужчин
женат на
СИНЬОРЕ ДЕРЕДЖЕ
55 лет. Играет роли пожилых женщин.
Также шьёт и занимается костюмами.
СИЛЬВАНО ДЕРЕДЖЕ
35 лет. Играет роли молодых главных героев,
а также Джиджетто в комической части,
хотя с таким количеством грима его никто не узнает.
Во всем помогает отцу.
женат на
ЖИЗЕЛЛЕ,
25 лет, самой симпатичной из женщин.
Играет роли молодых главных героинь, влюблённых и т.д.
Раньше не была актрисой. Когда познакомилась с Сильвано,
работала парикмахершей, но с тех пор научилась прекрасно играть.
ПИППО
(5 л.) и ЧЕЧИЛИЯ
(3 м.)
МИРИАМ ДЕРЕДЖЕ
30 лет. Играет роли сестры, горничной, соперницы и т.д.
Переписывает тексты ролей, потому что у неё красивый почерк.
замужем за
ДЖЕННАРО ДЖЕННОЙ
34 года. Играет роли злодеев.
Самый надёжный, выполняет всю тяжёлую работу.
Собирает и разбирает сцену. Играет на скрипке.
ЛАУРО
(8 л.) и АДЕЛЬ
(7 л.)
Я спросила Арджентину, как дети актёров ходят в школу, ведь «Друзья Фесписа» ездят со своими спектаклями из деревни в деревню даже зимой. Она объяснила, что на самом деле в школу они не ходят, но умеют читать и писать, потому что их учат Мириам и старик Дередже. Кроме того, они учатся декламировать, петь, играть на гитаре, скрипке и концертине, фехтовать и делать всяческие прыжки и кульбиты, которые в будущем могут им понадобиться. Адель пока самая смышлёная. Интересно, смогла бы я научить чему-то подобному Пикку и Тома?
Дорогой дневник, видишь, о скольких разных вещах я должна была написать в тебе за последние дни? Надеюсь, мне хватит страниц на все спектакли, которые покажут «Друзья Фесписа», прежде чем вернутся на «большую землю».
К счастью, мне удалось вырвать у мамы разрешение ходить в театр каждый вечер. «Но только если ты будешь сразу же возвращаться домой с Лугией или Аузилией, – сказала она. – Хотя я всё равно не понимаю. Ладно бы приехала труппа Витторио Гассмана или Сальво Рандоне, или они бы ставили Шекспира и Пиранделло. Но если тебе так нравится, иди... Хуже не будет».
Единственное, что меня огорчает: я не могу обсудить все эти новости с Ирен.
Глава шестая
Из летнего дневника Лалаги Пау
6 августа
Вчера в театре я посмотрела ещё одну прекрасную пьесу, комедию, «Два сержанта».
Там есть ужасный момент, когда жена убеждает сержанта, пришедшего домой на побывку (его зовут Ренато), не возвращаться в полк. Она не знает о том, что другой сержант, Эрнесто, поспорил с капитаном: «Я убеждён в надёжности своего друга и готов за него поручиться. Он обязательно вернётся. А если не вернётся, можете меня расстрелять».
Ну, пока жена всеми правдами и неправдами убеждала Ренато, что он не должен возвращаться на фронт, мы, сидя на площади, волновались всё больше. Зира рядом со мной так сильно прикусила край платка, что тот порвался. А вот тётя Пеппина Сантагедди не сдержалась. Она вскочила и начала кричать: «Синьора! Синьора! Прекратите! Пусть идёт!» Кто-то засмеялся, другие зашикали: «Замолчите уже!»
Актёры сделали вид, будто ничего не слышат, и продолжили играть. Но тётя Пеппина не унималась: «Синьора! Вы полная дура! Разве Вы не понимаете, что если не отпустите Ренато, другого сержанта расстреляют?» Пришлось дону Джулио шёпотом объяснить ей, что всё закончится хорошо, только тогда она успокоилась.
А Форика сказала: «Я просто обязана пересказать эту историю Аузилии, даже против её воли, не то завтра она переволнуется и тоже что-нибудь эдакое учудит».
Ирен не приходила. Но днём я видела, как синьора Дзайас завивала ей волосы на террасе бара. Хорошо, что она может себе это позволить, волосы-то длинные, аж до середины спины. С тех пор, как мы поссорились, в бар я больше не хожу, даже за оранжадом. А если мама посылает меня с каким-нибудь поручением, даю Саверио пять лир, и он идёт туда вместо меня.
Тильда, как обычно, весь вечер каталась на лодке с Наследницей, так что и я не знала, чем заняться, и пошла на причал порыбачить с Саверио и его друзьями. Вскоре появился Франческо Дзайас – решил посмотреть, какой сегодня клёв. Деревенские ребята узнали его и зашептались: «Смотри, вон Чиччо!» Но из них всех он был знаком только со мной, поэтому именно у меня и попросил леску взаймы. Я дала, и в придачу немного наживки. Франческо – прекрасный рыбак. Он поймал пять или шесть кефалей и очень этому обрадовался: теперь мать сможет пожарить их на ужин, а значит, не покупать еду в магазине. Актёры ужинают очень поздно, уже после спектакля, объяснил он мне – на полный желудок играть невозможно. Он даже подарил мне одну рыбу (я бросила её к тем, что поймали мы с Саверио) и сказал: «Спасибо, птичка-невеличка». Интересно, почему нельзя просто звать меня по имени? Джорджо, тот вообще обозвал «Гекзаметром», «птичка» всё-таки лучше.
Тильда становится совершенно невыносимой. Вчера она вскрыла письмо, которое написала мне Марина. Даже слепой понял бы, что это писал не Джорджо: на конверте стоял штамп Серраты. Но лишь только она увидела письмо, как тут же подскочила и выхватила у меня конверт. А потом, когда поняла, что обозналась, даже не попросила прощения.
Более того, она продолжала читать, хотя письмо пришло вовсе не ей, а потом стала хихикать над тем, что в нём написано, и сообщила, что обязательно перескажет всё Дарии. Я хотел вырвать у неё конверт, но она подняла его вверх, чтобы я не допрыгнула. От злости я разревелась и сказала: «Слушай, если продолжишь, я напишу тёте Ринучче и всё про тебя расскажу». А она ответила: «Только попробуй, я тебя убью».
Лугия ходила к своей племяннице и познакомилась с синьорой Дередже. Она сказала, что видела приручённого щегла Мириам и пуделя. Синьора показала ей все сценические костюмы, а потом попросила взаймы немного углей для утюга и ещё сахару, чтобы добавить в молоко для малышей. По словам Лугии, эти актёры беднее церковной мыши. Мне кажется, они могли бы продавать билеты хоть несколько дороже.
Я видела, что у папы в амбулатории есть много сухого молока для младенцев. Сегодня вечером спрошу, можно ли отнести его Чечилии.
(обратно)
Глава седьмая
Со временем не только члены семейства Пау, но и прочие жители Портосальво поняли, что Лалага и Ирен поссорились. Все настолько привыкли, что они везде ходят вместе, что когда встречали порознь, страшно удивлялись, будто рыбе, гуляющей по земле, или снегопаду в середине августа.
– Что там у вас случилось? Когда ты уже помиришься с докторовой дочкой? – постоянно спрашивали Ирен завсегдатаи бара.

Синьора Карлетто даже посоветовалась с племянницей, Марией-Вероникой: она боялась, что Лалага устала от Ирен и попросту избавилась от неё, предпочтя компанию городской кузины.
Племянница, однако, заметила, что Тильда в последнее время целыми днями катается на лодке с парнями из числа отдыхающих, а Лалага после обеда бродит по улицам одна, как побитая собака.
– Поговаривают, даже захаживает в дом к Нине Рендине и болтает там с актрисами, что снимают у неё комнаты. И вот что я скажу: о чём только думает её мать, позволяя заводить знакомства с подобными людьми?
Синьора Пау и сама не одобряла новых друзей Лалаги, особенно после того, как встретила их на виа Рома: её дочь, словно куклу, несла на руках Чечилию, а следом Лауро в старой прогулочной коляске допотопной модели, облупившейся и ржавой, вёз Аделину.
– Ты что же теперь, подрабатываешь нянькой у нищих? Вылитый «Красный крест» – не хватает только фартука да шапочки! Только вот нянька из тебя... Мы, между прочим, оплачиваем Зире и Форике не только присмотр за близнецами. Взгляни-ка на это отродье: пелёнки грязные, сама вся в соплях и корках... Сколько её не мыли? Пахнет кислым молоком – она же срыгнула, ты что, не видишь?
Но Лалаге надо было с кем-то общаться, а дети Дередже выглядели предпочтительнее Ливии Лопес, которая на пляже не упускала ни единого повода подразнить её уходом Ирен и прочими «плебейскими знакомствами». Сама Ливия старалась держаться от театра подальше, как и все прочие дети отдыхающих.
Даже Аузилия поначалу поругивала Лалагу за чрезмерную близость с «этим народцем». «Девочка из порядочной семьи»», по её мнению, должна знать себе цену и не допускать фамильярностей с теми, кто ниже по статусу.
А потом Франческо Дзайас спас близнецам жизнь, и с тех пор никто в доме Пау не осмеливался возражать против новых друзей их старшей дочери.
(обратно)
Глава восьмая
Сказать по правде, Пикке и Тома в тот день попросту не повезло. Они пошли на большой пирс поглазеть на рыбаков, но тут внезапно налетел либеччо, юго-западный ветер. У нянь не хватило здравого смысла, чтобы увести близнецов в дом. Они только смеялись, глядя, как дети дразнят набегающие прямо на дощатый настил волны, а те становились всё выше и выше, лишь в самый последний момент рассыпаясь брызгами пены.
Но эта игра не могла продолжаться долго. Очередная волна захлестнула пирс увлекла за собой поскользнувшегося Тома. Пикка, не задумавшись ни на секунду, бросилась в воду, чтобы помочь ему, но сама тут же больно ударилась о камни. Только очень хороший пловец мог теперь спасти близнецов: они то скрывались из виду, то снова появлялись в пенных водоворотах, не в силах добраться до скользких ступенек. От Зиры и Форики, которые, как и большинство островитян, не умели плавать (да и в любом случае ни за что не сняли бы свои пышные юбки), помощи было мало: охваченные паникой, обе няни лишь вопили, как подраненные орлицы.
И тут, будто средневековый рыцарь, храбрый защитник вдов и сирот, появился Франческо Дзайас. Он не стал сразу прыгать в воду, а сперва соскочил в лодку, схватил моток верёвки и обвязался ею, накинув другой конец на ближайший кнехт. Потом осторожно сполз с борта и поплыл в сторону близнецов. Тем временем на причале собрались люди, привлечённые воплями Зиры и Форики. Среди них была и перепуганная Лалага. Ей казалось, что у Тома закрыты глаза – значит, он без сознания и только накатывающие волны по-прежнему удерживают тело на поверхности.
Франческо обернул верёвкой его талию, завязал узел и подтащил мальчика к себе. Сверху сразу же протянулось множество рук, которые перехватили повисшего на них ребёнка. Затем настал черед доблестно сражавшейся с волнами Пикки: она до синяков сбила руки о торчащие валуны.
Когда Франческо, кашляя и прикрываясь превратившейся в лохмотья одеждой, выбрался на пирс, Тома рвало солёной водой (какой-то старый рыбак поддерживал его за плечи), Пикка всхлипывала в объятиях Лалаги, а Зира криками и звонкими пощёчинами пыталась привести в чувство упавшую в обморок Форику.
Потом все двинулись в амбулаторию, где доктор Пау осмотрел близнецов с головы до пят, продезинфицировал царапины Пикки раствором йода и, словно пытаясь справиться с собственным страхом, наорал на всех, включая Лалагу, которая вообще была ни при чём.
Франческо он пожал руку, выдавив:
– Спасибо. Но лучше переоденься, не то схватишь пневмонию.
Вечером на кухне Лугия совещалась с прочей прислугой:
– Как сказать доктору, что одного спасибо тут мало? Парень всю одёжу изодрал, а другой-то у него нет. Сидит сейчас дома в театральном костюме, но не может же он все время так ходить.
– Я поговорю с синьорой, – вызвалась Аузилия. – У нас шкафы ломятся от старых вещей.
И поутру она послала Лалагу к Дзайасам с большим свёртком, в котором лежали три или четыре пары старых брюк доктора, рубашки, свитера, а также платья и жакеты синьоры, которые можно было укоротить и подогнать для Арджентины.
(обратно)
Глава девятая
Из летнего дневника Лалаги Пау
9 августа
Дорогой дневник, близнецам уже лучше. Ребята из Портосальво гурьбой ходят за Франческо Дзайасом, глядя на него с восхищением. Я считаю, что он поступил, как герой, и заслуживает медали.
Писем от Джорджо нет уже неделю. Тильда нервничает всё сильнее. Когда мы возвращаемся с пляжа, она сразу же бросается в комнату: вдруг на комоде её ждёт конверт? Я вижу, что иногда она с трудом сдерживается, чтобы не спросить Аузилию: «Ты уверена, что сегодня не было почты для...», подразумевая «для меня», но не спрашивает, потому что письма адресованы не ей. Вчера к приходу пограничного катера они с Наследницей пошли в порт и ждали у дверей почтового отделения. Я ей сочувствую. Вернее, хотела бы сочувствовать, но слишком уж сержусь.
Заодно я начинаю злиться и на Ирен. Согласна, по всем внешним признакам я сама виновата. Но зачем было ехать на Кабаний пляж с Соланасами? Что с того, что Бруна и Розетта – наши ровесницы? Подругами-то нашими эти две дуры никогда не были. Ненавижу их.
Может, Ирен даже пойдёт с ними на конкурс «Мисс Серпентария». Анджела Соланас уже достаточно взрослая, чтобы участвовать. Мама вчера сказала, что она стала очень хорошенькой и должна быть в числе фаворитов. А Тильда утверждает, что выиграет Звева Лопес дель Рио. Наследница сказала ей, что награда, можно считать, у Звевы в кармане, потому что она знает всех членов жюри, а те обещали помочь.
Утром дон Джулио, как обычно, прочитал проповедь о безнравственности отдыхающих. По его словам, девушки, которые осмеливаются появляться в купальниках с открытыми бёдрами не только на пляже, но и на деревенской площади, отправятся после смерти прямиком в ад. Как и родители, которые разрешают им подобный стыд. Плюс отец Ирен и картограф Вердиро, организаторы конкурса, а также члены жюри. Все – в ад.
Это мне рассказала Баинджа, которая каждый день к половине седьмого ходит к заутрене. Её эти слова поразили – отчасти и потому, что в этот раз дон Джулио описал конкурсы красоты как «выставку-продажу плоти», словно речь шла о лавке мясника.
Но ведь этих мисс никто не покупает! А даже если победительница захочет продать кубок, который дают в награду, не думаю, что она выручит за него серьёзную сумму – он же не из золота.
Не знаю, почему такие проповеди дон Джулио читает только во время заутрени, когда никаких отдыхающих в церкви нет, одни островитяне, то есть до людей, чьи дочери участвуют в конкурсе, его призывы не доходят. Возможно, правила конкурса это запрещают. Или я чего-то не понимаю.
В любом случае всё это неправильно. «Мисс Серпентарию» нужно выбирать не из приезжих девушек, а из тех, кто родился на острове.
Когда буду в зале, нужно присмотреться, а то раньше я не обращала внимания, что носят конкурсантки – сандалии или закрытые туфли, «как блудницы».
Жаль, что в этот день не удастся сходить в театр. Аузилия говорит, хотя оба мероприятия проходят в одно и то же время, никакого соперничества между ними нет и быть не может, потому что спектакль – это для местных, а конкурс красоты – для отдыхающих. Только я одна, как обычно, не знаю, что предпочесть.
К счастью, спектакли в театре идут по два вечера подряд. Значит, пьесу, которую ставят четырнадцатого, я посмотрю только один раз.
(обратно)
Глава десятая
Франческо объяснил Лалаге, что спать актёры ложатся очень поздно, потому что каждый вечер после спектакля им нужно не только снять грим и костюмы, но и убрать декорации, а лавки вернуть в церковь до заутрени.
Только потом можно поужинать, а там то да сё, пятое-десятое, и ложишься уже после двух ночи.
Зато актёры поздно встают. Днём дел у них немного, поскольку все спектакли в репертуаре уже давно и дополнительных репетиций не требуют.
Но, обосновавшись в приморской деревушке, Дередже и Дзайасы даже на пляж не ходили. Они не сидели на террасе бара и вообще никак не смешивались с приезжими купальщиками – в общем, были отдельной группой, чужаками как для островитян, так и для отдыхающих. «Неужели с ними всегда так, куда бы они ни приехали?» – спрашивала себя Лалага. Каково это – постоянно жить кочевой жизнью? К примеру, Арджентина: у неё что же, никогда не было возлюбленного? Или она просто ещё не задерживалась на одном месте достаточно долго, чтобы возможная симпатия переросла в отношения? А Франческо? Молодому человеку его возраста уже пора заиметь подружку. Может, у него, как и у Тильды, где-то есть тайная любовь?
Джорджо всё не писал, и Тильда выглядела совсем потерянной. В конце концов Лалага, пожалев кузину, вышла вместе с ней на улицу и поинтересовалась у почтальона:
– А может такое случиться, чтобы конверт, адресованный мне, потерялся?
– Ни в коем случае, – гордо заявил тот.
Тильда побледнела. В ответ на последнее письмо любимого она написала уже четыре или пять и никак не могла объяснить подобное молчание.
– Может, Джорджо умер, а я об этом никогда не узнаю, – повторяла она трагическим шёпотом, ложась вечером в постель.
– Да что ты! У него же есть сестра, которая пишет адрес на конверте? Если бы что-то случилось, она бы дала тебе знать, – пыталась подбодрить кузину Лалага, забыв о суровом тоне, которого Тильда заслуживала.
Вскоре они уснули.
Бам! Бам! Бам! Было три часа ночи, весь дом давно спал.
Бам! Бам! Бам! Кто-то настойчиво колотил в дверь.
Бам! Бам! Бам!
– Доктор! Доктор! – послышался мужской голос.
– Марио, скорее проснись! – трясла мужа за плечо синьора Пау.
В соседней комнате Лалага, привычная к ночным вызовам, повернулась на другой бок и, не открывая глаз, натянула на голову подушку. Сквозь сон она услышала, как отец поднял ставни и выглянул в окно.
– Что стряслось?
– Доктор, матери плохо. Скорее, доктор, пожалуйста!
– Уже иду. Дайте хотя бы штаны натянуть.
К счастью, Тильда спала крепко и не проснулась. Лалага около минуты прислушивалась к её спокойному дыханию, но ничего подозрительного не услышала, поэтому тоже уснула.
 (обратно)
(обратно)
Глава одиннадцатая
Из летнего дневника Лалаги Пау
11 августа
Дорогой дневник, сегодня за завтраком папа рассказал нам о ночном визите к синьоре Дередже. В столовой были только мы с Аузилией, и он попросил нас не болтать об этом, потому что врач должен соблюдать профессиональную тайну.
Оказывается, синьора Дередже уже собиралась ложиться спать, как вдруг ей стало плохо: глубокий обморок, боялись даже, что она при смерти. Сильвано, её старший сын, бросился к папе. Но тот сразу понял, что дело не в сердечном приступе. «Бедная женщина, – сказал он нам, – думаю, она давно не ела как следует. Это от голода она такая слабая. Сами посмотрите: все в этой семье страдают от недоедания. Удивительно ещё, что детей обошёл стороной рахит, не то щеголять бы им квадратными головами. А так молодцы, даже ноги выглядят прямыми». Ещё папа объяснил мне, что, вероятно, Адель такая бледная не потому, что актриса, а потому, что не ест в достаточном количестве витамины. «И эти блестящие глаза, которые тебе так нравятся, – тоже дурной знак».
Дередже настаивали, чтобы папа взял деньги за визит, но он и слышать ничего не хочет. Чего только не предлагали в благодарность – всё тщетно. Как можно вообще говорить о плате, если актёр из этой труппы спас близнецов, когда их смыло с пирса! Потом они разговорились, и дедушка Дередже сказал, что сейчас настали дурные времена: раньше-то всё шло куда лучше, можно было даже заработать на безбедную жизнь. Но с тех пор, как появилось телевидение, люди уже не так часто ходят в театр, как раньше, особенно в деревнях.
В Портосальво «Друзья Фесписа» надеялись немного поправить свои дела, потому что прослышали, что телевидения здесь нет, и, кроме того, очень рассчитывали на купальщиков: на других курортах театры под открытым небом неизменно пользовались успехом.
Откуда им, бедолагам, было знать, что сюда приезжают только страстные любители прогулок под парусом и что солидные синьоры, вроде моей мамы, считают их не лучше собак, а в театр ходят только на Витторио Гассмана и Сальво Рандоне? Правда, у «Друзей Фесписа» всё равно каждый вечер аншлаг, но только потому, что площадь Пигафетты совсем крохотная и вмещает слишком мало людей. А расходы у труппы большие: например, аренда дома и сарая, где живут Дзайасы, да ещё лавки – я-то думала, дон Джулио отдаёт их бесплатно.
Сейчас, сказал папе старик, у них нет даже денег на обратный билет.
Папа собирается поговорить с доном Джулио и с прапорщиком с погранзаставы, чтобы найти способ помочь им, не оскорбляя, потому что люди они гордые, от работы не отлынивают, а значит, милостыни не примут.
Я всё утро не находила себе места, думая о том, сколько раз мы выкидывали еду. Например, когда в интернате нам давали треску, мы тайком от сестры Летиции прятали её под столом в бумажном пакете из-под хлеба, а после выкидывали в унитаз.
Дорогой дневник, сегодня конкурс красоты. Интересно, кто станет «Мисс Серпентария»?
(обратно)
Глава двенадцатая
Из летнего дневника Лалаги Пау
12 августа
Дорогой дневник, кто бы мог подумать? Наследница уехала, даже не попрощавшись! Они со Звевой вернулись на «большую землю». Тильда с самого утра буквально рвёт на себе волосы.
А виной всему конкурс «Мисс Серпентария». Вчера вечером на террасе бара устроили подиум. Это было очень красиво. Синьор Карлетто развесил на перголе множество китайских фонариков, масляных и керосиновых ламп. Чтобы вместить всех зрителей, пришлось занимать стулья у половины жителей деревни. Не хватало только лавок из церкви, потому что они нужны в театре, да и потом, дон Джулио никогда не дал бы их для столь греховного мероприятия.
Ирен сидела в первом ряду, рядом с Соланасами. Когда я её увидела, слезы так и хлынули у меня из глаз. И вот что странно: когда я думаю, что больше не увижу капитана Контериоса, мне не настолько грустно – кажется, что этой истории на самом деле и не было, как будто я прочитала о ней в книге или посмотрела фильм по телевизору.
Тильда восседала рядом с Наследницей, а бухгалтер Четти, пристроившийся по соседству, все пытался с ними заигрывать: «Вот вы – самые красивые девушки на Серпентарии. Жаль только, что слишком молоды для конкурса, любой бы фору дали». А они, польщённые, гоготали, как две гусыни, словно этот дурак говорил серьёзно. Раньше Тильда такой не была: до знакомства с Наследницей она бы хорошенько отдубасила бухгалтера Четти «Униженными и оскорблёнными» прямо по его дурной голове.
Ну, тем хуже для неё. Она получила что хотела, пусть это будет ей уроком.
Конкурсантки оказались очень симпатичными: все фигуристые, с большой грудью, как у Сильваны Пампанини. Я внимательно смотрела на обувь, но, видимо, мы здесь, на Серпентарии, более респектабельны, чем жители Серраты, потому что ни одна из девушек закрытых туфель не надела. У некоторых были сандалии на каблуке, у некоторых без, типа греческих, а Титти Берчелли, самая высокая, вообще вышла босиком.
Пока граммофон играл «Ты самая красивая», их попросили гулять взад-вперёд по подиуму, а потом жюри присудило титул «Мисс Серпентария» Анджеле Соланас, как и предполагала её мать. Звева Лопес стала «Мисс Элегантность», а Карла Ланци – «Мисс улыбка». Никто не заметил, чтобы Звева злилась, – во всяком случае, она не давала этого понять: наоборот, фотографировалась с лентой «Мисс» через плечо, улыбаясь направо и налево...
Но сегодня утром сестры Лопес появились на пристани без своих кузин.
«Звева и Дария уехали семичасовым катером. Они возвращаются в Серрату», – объявила Франциска с самым невинным видом, а Ливия в это время следила за реакцией Тильды. Та была на высоте: даже глазом не моргнула. В тот момент я ею гордилась.
Но позже, на пляже, мне не понравился её взгляд, и когда она пошла к дюнам, я отправилась за ней. И правильно сделала, потому что она плакала – не знаю, от злости или от грусти. «Могла бы и мне сказать! Могла хотя бы попрощаться!» – повторяла она.
На обратном пути мы услышали от Анны Лопес, что Звева не спала всю ночь – разглагольствовала о том, что члены жюри просто позавидовали её красоте, поэтому нарочно присудили это унизительное второе место. И что она не имеет ни малейшего намерения оставаться здесь ещё на день: ловить насмешливые взгляды других девушек ей будет невыносимо. В общем, вместо того чтобы лечь спать, она начала собираться – решила уехать с первым же катером. И уехала, причём самым наглым образом забрала с собой Наследницу – та, по словам Анны Лопес, совершенно не хотела покидать Серпентарию.
Но ведь по дороге в порт они волей-неволей должны были пройти мимо нашего дома, и она вполне могла хотя бы постучать в окно, попрощаться, пусть даже и в столь ранний час. Так что Тильда имеет все основания обижаться.
А в обед случилась другая странная вещь. К нам в дом пришла делегация актёров труппы «Друзей Фесписа», которые хотели поблагодарить папу за то, что он бесплатно лечил синьору Дередже. Они принесли маме в подарок шерстяную шаль, всю расшитую цветами, золотыми нитями и камнями (не драгоценными, а стеклянными, но очень удачно подобранными).
Вечерняя накидка, сказали они. Вышита вручную Мириам Дередже.
Пациенты не первый раз делают нам такие подарки – папа часто лечит бесплатно. Обычно приносят еду: сыр, ягнятину, омаров, домашнюю выпечку. Но никогда ещё не случалось, чтобы кто-то читал стихи.
Вместе со взрослыми пришла и Адель с букетом роз, вероятно, сорванных во дворе дома, где они живут. (Надеюсь, они спросили разрешения, потому что Нина Рендине очень переживает за свои цветы.) Дедушка взял Аделину под руки, поставил на стул, а она протянула цветы папе и сразу же начала читать стихотворение – будто кто-то на кнопку нажал. Я не помню его целиком, но первые строчки такие:
Верни цветенье розе,
Что миг назад увяла...[8]
Зира и Форика, которые как раз убирали со стола, при виде этой церемонии так и застыли с раскрытыми ртами.
Папа смущался и вс` время повторял: «Не стоило беспокоиться. И потом, как я мог поступить иначе, раз ваш мальчик спас близнецов?»
Когда они ушли, мама сказала, что шаль ей не нравится и что она такое никогда не наденет. Ещё она сказала, что это редкостная гадость: видно же, что не новая, и неизвестно, кто носил е` раньше. Может, даже на сцену надевали. Папа подхватил: «Конечно, шаль обычно не имеет контакта с кожей, однако она может быть не менее опасной. Если поднести край ко рту, можешь вдохнуть каких-нибудь микробов. Лучше выбросим».
И мама, которая обычно смеётся над его боязнью заразиться, на этот раз ничего не сказала. А шаль отдали Аузилии, чтобы та её сожгла. Жаль, она и правда была красивая.
(обратно)
(обратно)
Часть шестая
Глава первая
Теперь, когда Наследница уехала, у Тильды стало больше времени на мучительные размышления о так и не пришедшем письме. А поскольку ей нужно было с кем-то поделиться, она соизволила вернуть Лалаге своё доверие: кузина провела с ней всё утро на пляже, рассказывая о своей жизни в школе, о друзьях, вечеринках, о том, как они однажды ходили в кино и так хохотали, что билетёру пришлось вытолкать их вон. Она говорила о своих любимых книгах и о предвкушении осени, когда пойдёт в гимназию.
– Не могу дождаться уроков греческого! Подумать только, я смогу читать «Илиаду» так, как писал её Гомер!
Лалага слушала с восхищением. Она снова полностью подпала под обаяние кузины. Это были бы лучшие моменты её жизни, если бы не постоянно возникавшие мысли об Ирен, которые придавали этой неожиданной близости некоторый оттенок печали.
Тильда теперь держалась с ней на равных и в отношении более тонких вещей: например, в подробностях объяснила всё о менструации, причём в совершенно иной, куда более полной форме, чем медицинские книги и сплетни подруг по интернату.
– Пока что у тебя её нет. Но не волнуйся, в течение года, до следующего лета, она обязательно придёт: в нашей семье у всех это началось до тринадцати лет.
Кузина сказала, что глупо придумывать для менструации другие названия, вроде «праздников», чтобы мужчины не поняли, о чем речь, поскольку мужчины дураки и всё равно ничего не замечают. Лалага была слегка озадачена лёгкостью, с которой Тильда рассуждала о таких вещах, – в интернате это всегда делали смущённо, скрываясь за обтекаемыми фразами, как будто речь шла о чём-то греховном. Тильда же, напротив, говорила, что бессмысленно стесняться естественных вещей, они ведь происходят со всеми.
– Мы что с тобой, в чём-то виноваты? А раз нет вины, нечего и стыдиться.
В дюнах Тильда огляделась и, поняв, что они совершенно одни, спросила:
– Хочешь, покажу тебе грудь? Я видела: по утрам, когда я умываюсь, ты иногда подсматриваешь.
Лалага покраснела, потому что это было правдой. Ей очень хотелось узнать, на что похожа кузина под своим бюстгальтером, насколько она изменилась с тех пор, как они последний раз вместе плескались в бассейне отеля «Модерн» в Серрате. Тогда они ещё купались в одних плавках, потому что Тильда была такой же, как Лалага сейчас, – плоской, как доска. Но это было много веков назад.
Тильда неторопливо сбросила лямки и потянула вниз красный купальник, стягивая его к талии.
– Смотри, но не трогай, – сказала она и подняла руки, скрестив их за головой, как это делают киноактрисы (пусть и одетые), чтобы на фотографии живот вышел подтянутым. Груди выглядели маленькими мячиками, неестественно белыми на фоне загорелых плеч. Ниже проступали ребра.
Лалага оглядела кузину смущённым взглядом. Она была рада, что Тильда ей доверилась, но не знала, что сказать и что сделать. А ещё она боялась, что кто-нибудь может их застать.
– Не очень-то большая, правда? Надеюсь, к следующему году немного вырастет, – сказала Тильда, непринуждённо надевая купальник и подтягивая лямки. – Но не как у Джины Лоллобриджиды, мне такие большие не нравятся.
В тот вечер, к огромной радости Лалаги, Тильда даже пришла в театр. Давали «Поцелуй покойницы» по роману Каролины Инверницио, который Аузилия читала пару лет назад и потом пересказывала прислуге.
Многие зрители, как и она, были знакомы с сюжетом, но плакали навзрыд над судьбой обманутой и отравленной жены.
– А она-то, идиотка, ещё и мужа простила! – возмущённо шептала Лугия.
Тильда смеялась без остановки. Серьёзно отнестись к подобному спектаклю она не могла:
– Никакая это не драма, а настоящая комедия, – говорила она. – Как тебе может нравиться настолько плохая актёрская игра? Тем более, что зимой ты видела Анну Проклемер. Ты что же, не видишь разницы?
А вот когда начался «комический финал», она вдруг перестала смеяться.
– Мне больно это видеть, – сказала она о Чиччо и Джиджетто. – Подумай только: чтобы заработать себе на хлеб, им приходится получать пинки и оплеухи на глазах у всех.
– Эх, красавица, бывает и хуже, – с готовностью прокомментировал Никола Керки, сидевший сзади. – Подумай-ка лучше о тех, кто спускается в шахту.

Тильда, которая не была с ним знакома, в ужасе отшатнулась:
– Ни за что бы туда не пошла. Лучше уж умереть с голоду.
– Просто промолчи, не связывайся! – прошептала Лалага, потянув её за рукав. Ещё не хватало спорить с «парнем» из магазина: у него были готовы ответы на все вопросы мира, а разглагольствовать он мог бесконечно.
В воскресенье во время полуденной службы, единственной, которую посещали отдыхающие, дон Джулио объявил, что к празднику в честь святого покровителя острова в театре готовится спектакль, в котором могут принимать участие все дети и подростки Портосальво, как местные, так и отдыхающие.
– Это будет очень вдохновляющая,
поучительная и трогательная история. Я призываю родителей разрешить своим детей репетировать, а отдыхающих хотя бы в этот раз почтить театр своим присутствием, не забывая про щедрые пожертвования.
Дело в том, что билеты на этот спектакль будут распространяться не по фиксированной цене, а именно за пожертвования, причём минимальная ставка составит пятьсот лир. Эта сумма станет подарком Серпентарии «Друзьям Фесписа», которые на следующий день вернутся на «большую землю».
Для получения роли, – добавил дон Джулио, – дети и подростки в возрасте до двенадцати лет будут прослушаны синьором Дередже, директором труппы, который и примет решение в соответствии со списком персонажей пьесы.
(обратно)
Глава вторая
Из летнего дневника Лалаги Пау
18 августа, после ужина
Дорогой дневник, я до сих пор не могу в это поверить! Меня выбрали на главную роль! Даже не знаю, как это случилось! Не думаю, что я лучше (хотя в интернате, бывало, играла на сцене) или, тем более, красивее других. Ирен, например, намного симпатичнее и талантливее меня, но у неё всего лишь роль сиротки в последней сцене, где ей и говорить ничего не надо, только хлопать в ладоши и радоваться вместе с ещё по меньшей мере пятнадцатью детьми. Я же появлюсь в первом, втором и четвёртом акте, а потому должна выучить много текста.
Пьеса (не буду говорить «трагедия», потому что всё кончается хорошо, хотя действие довольно драматичное) называется «Право на рождение». Франческо сказал мне, что её написал его отец, вдохновлённый радиопостановкой, которую услышал по кубинскому радио, когда они ещё жили в Америке – там такие вещи обожают. «Друзья Фесписа» всегда ставят её в последний вечер, потому в ней очень много ролей. Большую часть персонажей они играют сами, а на роли сирот приглашают местных детей. Мою роль обычно исполняет настоящая актриса: ещё несколько лет назад это была Арджентина, потом Адель, потому что возраст персонажа не уточнён и может колебаться от пяти до двенадцати лет. Я спросила, почему они так мне доверяют, ведь я, конечно, не смогу сыграть так же хорошо, как они, а Франческо только рассмеялся. «Птичка, – сказал он, – гармония зачастую куда важнее мастерства». Но это он из вежливости. У него самого роль главного героя, молодого врача, который оказывается моим кузеном.
Завтра мы начинаем репетировать. Я должна выучить роль наизусть, так что больше на пляж не поеду. Папа этому не очень рад. Он дал мне разрешение только потому, что я расплакалась, а потом раз тридцать сказал, чтобы я остерегалась микробов, то есть не пила из чужого стакана. Даже в баре у Ирен он требует, чтобы стаканы и чашки из-под кофе мыли горячей водой с мылом. Синьор Карлетто всегда говорит: «Да-да, конечно», но моет холодной. Ещё папа сказал, чтобы я не целовалась и, тем более, не пользовалась помадой, принадлежащей кому-нибудь из актёров. «Не могу этого доказать, – сказал он, – но я не верю, что у бедных людей, живущих подобной кочевой жизнью, голодающих и почти не соблюдающих правил элементарной гигиены, нет никаких заразных болезней». Думаю, он имел в виду туберкулёз, который начинается в лёгких и передаётся со слюной. Это действительно страшная болезнь, от неё человек худеет, кашляет, харкает кровью и в конце концов умирает. Когда-то туберкулёз считался неизлечимым, особенно среди бедняков, женщин с большим декольте и англичан, – те ещё ездили отдыхать на Ривьеру, как в книге «Доктор Антонио» Джованни Руффини, которую меня заставила прочитать матушка Эфизия. Правда, туберкулёз она называла «чахоткой» или «грудной болезнью», уж не знаю почему.
Зато теперь от него излечиваются, потому что один учёный обнаружил под микроскопом бациллу, которая и вызывает эту болезнь. А потом изобрели лекарство, которое с ней борется. Но приходится ехать в санаторий и принимать солнечные ванны в шезлонге, и многие всё равно умирают, как это случилось с бедным дядей Марчелло ещё до моего рождения.
Вот почему папа так боится туберкулёза. Я думаю, что он преувеличивает, но, конечно, буду очень осторожна.
Арджентина сказала, что костюма у них для меня нет, но это ничего не значит, ведь действие происходит в наше время и я могу воспользоваться собственной одеждой – только надеть что-нибудь поэлегантнее, чем обычно, поскольку у меня роль богатой девочки.
Саверио и близнецы играют трёх сирот, поэтому они будут в лохмотьях. Тильду в пьесу не взяли –слишком старая, хотя она говорит, что просто не хочет выглядеть дурой и не взялась бы даже за такую важную роль, как у меня.
Бедняжка Тильда, она совсем переволновалась, ведь Джорджо на её письма так и не ответил. Я спросила, почему бы не написать кому-то из подруг, которые помогали ей этой зимой, и не попросить выяснить, в чем дело, но они, оказывается, все на каникулах.
Вчера в театре видела Ирен. Давали «Графа Монте-Кристо» – прекрасный спектакль. Даже для пуделя синьоры Дередже там нашлась роль.
Ирен, увидев меня, улыбнулась – сама того не желая, просто по привычке. А потом смущённо отвернулась и всё оставшееся время смотрела в другую сторону.
(обратно)
Глава третья
Из летнего дневника Лалаги Пау
19 августа
Арджентина дала мне пьесу. Она похожа на толстый альбом для рисования, только без обложки, а листы сверху донизу заполнены машинописью. На каждой странице сбоку оставлено место для заметок. Мой экземпляр уже почти весь исписан, но мне сказали, что я могу что-нибудь добавить, если захочу, – конечно, при условии, что сделаю это карандашом, а потом всё сотру.
На первой странице указано, что пьесу придумал синьор Дзайас, но его «вдохновляла работа кубинского писателя Феличе Каньетти»: должно быть, это автор радиопостановки, о которой говорил Франческо.
Строки, которые мне нужно выучить наизусть, помечены красным карандашом. Но прежде чем начать зубрить свою роль, я решила прочитать пьесу целиком: по крайней мере, буду знать, что делают другие персонажи и чем всё заканчивается.
Я читала вслух, пока служанки мыли посуду во дворе и чистили овощи к ужину. Это Аузилия попросила. Я предупреждала: «Потом всё увидишь. Будешь знать сюжет – не получишь удовольствия». Но прислуга так любопытна, что совсем не может сдерживаться. Саверио и близнецы тоже пришли послушать, и это правильно: раз у них есть роли, они должны понимать, о чём идёт речь.
Итак, меня зовут Клара Морейра. В первом акте я у себя дома с родителями и дедом, синьором Акапулько Андраде, который серьёзно болен. Семья у нас очень богатая и влиятельная, нам прислуживают горничная и дворецкий, а живём мы на вилле. Я любимица, а также единственная наследница деда, которого очень люблю, поэтому целыми днями просиживаю у его постели, приношу питьё, читаю ему Библию, пою колыбельные.
В какой-то момент он чувствует себя особенно плохо, говорит, что умирает, и велит моей матери скорее послать за её сестрой-монахиней, моей тётей, которая живёт в монастыре.
Через некоторое время приезжает тётя. Дед, уже почти не в состоянии говорить, целует ей руки и шепчет: «Я не мог спокойно закрыть глаза без твоего прощения».
Но как же так? Из разговора мы узнаем, что двадцать пять лет назад его дочь, которая звалась тогда Марианной Андраде, не будучи замужем, ждала ребёнка: «грех молодости». А дедушка, чтобы избежать скандала, как только родилось дитя, даже не узнав, мужеского оно пола или женского, заставил дворецкого убить малыша и бросить крошечное тельце со скалы в море. Сволочи какие, вот что я скажу! И ведь никто в семье не осудил их, никто из посторонних ничего не узнал! Все продолжают жить своей прежней жизнью, как будто ничего не случилось. Дворецкий тоже служит как ни в чём не бывало: ходит себе с подносом аперитивов и объявляет: «Ужин подан».
Лугия очень разозлилась. Зира и Форика, напротив, рыдали, думая о злоключениях Марианны.
Тем временем несчастная мать от горя и отчаяния ушла в монастырь, приняв имя сестры Пентименто, что означает «кающаяся»[9].
И вот теперь, стоя на коленях возле смертного одра, она говорит отцу, что давно простила его и все эти годы молилась за его душу. Тот благодарит её, но в этот момент приходит раскрасневшаяся и запыхавшаяся сестра Марианны, моя мать. Ей сказали, что в соседнем городе есть замечательный врач, который, скорее всего, сможет вылечить болезнь и предотвратить смерть деда. Монахиня просит меня встать рядом с ней на колени, и мы начинаем молиться, а отец и мать приказывают дворецкому готовить машину, чтобы ехать в Сантьяго.
ЗАНАВЕС
(Монахиню играет Мириам Дередже, моих родителей – Жизелла и Сильвано, дворецкого – Дженнаро, старую горничную – синьора Дередже, которой уже настолько лучше, что она готова снова выйти на сцену, Акапулько Андраде – естественно, дедушка Дередже.)
Во втором акте меня нет, но я его всё равно прочитала, потому что прислуга хотела знать продолжение истории. И потом, мне тоже нужно понимать, что происходит с другими персонажами: они же все как один – мои родственники, вдруг я улыбнусь тому, кого ненавижу?
Извини, я уже устала переписывать сюжет, так что продолжу завтра.
У Ирен совсем маленькая роль. Жаль – она так мечтала стать актрисой. В последнее время я часто думаю о ней. Кто знает, представится ли ей ещё одна возможность. Вот бы мы по-прежнему оставались друзьями! Репетировать с ней комедию было бы очень весело. Ирен даже могла бы мне помочь, ведь в начальной школе, когда задавали учить стихи наизусть, мы всегда проверяли друг друга.
Я попросила Тильду меня проверить, но она сперва приуныла, а потом расхохоталась. По её словам, «Право на рождение» – ужасная скука, мелодрама для бедных. Даже мама меня дразнит: говорит, ей казалось, что у меня есть чувство юмора. К счастью, она хотя бы обещала прийти на спектакль. А раз придёт она, будут и другие дамы. Анна Лопес немного обиделась, что Ливии не дали более важную роль: она будет сироткой, как и все остальные.
(обратно)
Глава четвертая
Из летнего дневника Лалаги Пау
20 августа
Ливия Лопес просто завистливая и злобная дура. Сегодня она сказала, что меня выбрали на роль Клары только потому, что хотели расплатиться с моим отцом. И конечно, уже раскаялись: вроде как Арджентина жалуется, что у меня плохая дикция, что я глотаю слова и, вероятно, даже не умею двигаться.
По-моему, она всё это выдумала. Не верится, что Арджентина могла сказать такое.
Я репетирую свою роль с ней и с Франческо, терпеливо повторяю и повторяю текст раз за разом, пока не найду правильной интонации. Но они никогда не ругаются и даже, кажется, довольны моими успехами.
Франческо – тот вообще всегда говорит: «Молодец, Птичка. Отлично получилось. Вот увидишь, в день твоего дебюта Клара будет идеальной».
Ещё он учит меня петь – тихо, но так, что публика всё прекрасно слышала. Это кажется невероятным, но на самом деле возможно. Вот, например, в первом акте Клара поёт деду колыбельную – не может же она делать это громко, как Нилла Пицци?
Сам Франческо поёт очень хорошо. Голос у него низкий и чуть хрипловатый. Ещё он играет на гитаре и концертине. Мне нравится. Франческо умный и много знает, хотя совсем не ходил в школу. С ним можно поговорить обо всём на свете. Я даже рассказала ему о Пиладе и Анджелине, а он не поднял меня на смех и не назвал чокнутой. Сам он тоже много раз задавался вопросом, могут ли покойники видеть и слышать то, что делают живые. Говорит, мы этого никогда не узнаем. И спиритические сеансы тут не помогут – ненужное это дело. Покойники, если они всё-таки могут с нами общаться, должны делать это только тогда, когда сами захотят, а беспокоить их ради собственного удовольствия или спрашивать всякие глупости, вроде выигрышных номеров лотереи, мы не имеем права.
Жаль, что «Друзья Фесписа» так мало зарабатывают и не могут позволить себе хороший дом, красивую одежду и всё остальное, что есть у Витторио Гассмана и Анны Проклемер. Я решила, что, если разбогатею, половину своих доходов отдам Франческо, чтобы он купил, например, фургон со всеми удобствами, как у американцев, – тогда им больше не придётся спать, расстелив матрасы прямо на земляном полу в сарае у какого-нибудь священника.
 Уверена, несмотря на все злопыхательства Ливии, в конце концов Клара будет выглядеть не так уж отвратительно. Интересно, Ирен тоже завидует? Кто знает, что она обо мне сейчас думает… Конечно, ей очень хотелось самой сыграть такую важную роль. Но не моя вина, что синьор Дередже выбрал меня.
Мама говорит, я смогу надеть на сцену её розовое кружевное платье, то, что с блестящим атласным поясом и пышной юбкой. Попрошу Баинджу укоротить его и приталить намёточным швом – это же только на один вечер. И надо будет повязать пару атласных бантов на сандалии.
Возни, конечно, будет немало, но Баинджу эти приготовления даже радуют. Сейчас она пытается найти три старых свитера для Саверио и близнецов. В них понаделают дыр и прорех, потому что одежда у сирот должна быть рваная. Папу это, разумеется, не радует. Он говорит, что, наверное, не стоило разрешать нам участвовать, что всё это слишком рискованно, особенно для меня, ведь у меня важная роль. Ему даже захотелось прочитать пьесу, чтобы понять, правда ли меня никто не будет целовать. «Если кто-то, с кем ты говоришь, закашляется, немедленно отойди в сторону и прикрой рот рукой. Совершенно не обязательно вдыхать брызги их слюны», – повторяет он каждый раз. Просто помешался на этом. Согласна, он врач, но с некоторых пор ему повсюду мерещатся больные и микробы.
Вчера вечером давали «Агасфера». Ирен не приходила.
Джорджо так и не пишет.
Уверена, несмотря на все злопыхательства Ливии, в конце концов Клара будет выглядеть не так уж отвратительно. Интересно, Ирен тоже завидует? Кто знает, что она обо мне сейчас думает… Конечно, ей очень хотелось самой сыграть такую важную роль. Но не моя вина, что синьор Дередже выбрал меня.
Мама говорит, я смогу надеть на сцену её розовое кружевное платье, то, что с блестящим атласным поясом и пышной юбкой. Попрошу Баинджу укоротить его и приталить намёточным швом – это же только на один вечер. И надо будет повязать пару атласных бантов на сандалии.
Возни, конечно, будет немало, но Баинджу эти приготовления даже радуют. Сейчас она пытается найти три старых свитера для Саверио и близнецов. В них понаделают дыр и прорех, потому что одежда у сирот должна быть рваная. Папу это, разумеется, не радует. Он говорит, что, наверное, не стоило разрешать нам участвовать, что всё это слишком рискованно, особенно для меня, ведь у меня важная роль. Ему даже захотелось прочитать пьесу, чтобы понять, правда ли меня никто не будет целовать. «Если кто-то, с кем ты говоришь, закашляется, немедленно отойди в сторону и прикрой рот рукой. Совершенно не обязательно вдыхать брызги их слюны», – повторяет он каждый раз. Просто помешался на этом. Согласна, он врач, но с некоторых пор ему повсюду мерещатся больные и микробы.
Вчера вечером давали «Агасфера». Ирен не приходила.
Джорджо так и не пишет.
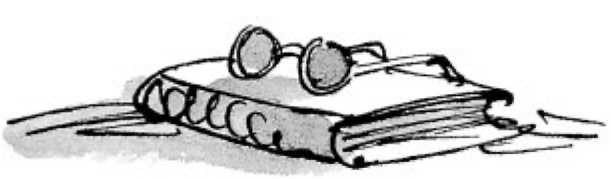 (обратно)
(обратно)
Глава пятая
Из летнего дневника Лалаги Пау
21 августа
После обеда Франческо и Арджентина сыграли для меня второй акт, исполнив вдвоём все роли. Они просто невероятны: если закрыть глаза, кажется, будто персонажей играют разные актёры.
Меня, как я уже писала, в этом акте нет, потому что я осталась на вилле Андраде с умирающим дедушкой и тётей-монашкой, погруженной в молитву.
А на сцене в этот момент сиротский приют, точнее, кабинет врача, который помогает бедным брошенным детям. Роль этого доктора Раймондо играет отец Франческо и Арджентины. Когда открывается занавес, он осматривает мальчика-сироту (Лауро) и вздыхает: «К сожалению, приюту не хватает еды и денег на лекарства». Тут входит молодой врач, только что получивший диплом, но уже очень умелый и довольно известный (Франческо). В пьесе его зовут Альберто Лимонта. Доктор Раймондо удивлён, что Альберто хочет работать вместе с ним в сиротском приюте, где платят очень мало, ведь этот энергичный молодой человек, получивший столько стипендий, мог бы иметь богатую клиентуру и блестящее будущее.
Но Альберто объясняет ему, что сам он из бедняков, родился в лачуге, ещё ребёнком начал работать чистильщиком обуви на улицах Сантьяго, потом просил милостыню, а медициной смог заняться только благодаря огромным жертвам своей матери, Анны-Глории, которая рано осталась вдовой с ним, тогда ещё младенцем, на руках. Анна-Глория тем временем выучилась на медсестру и теперь будет работать с ним в приюте (её роль играет синьора Дзайас).
Потом приходят мои родители, разодетые в меха. Они говорят, что прослышали о славе доктора Лимонта, и просят его осмотреть старого Акапулько Андраде. Альберто отказывается, говорит: «Нет, зовите врача из богатых кварталов».
Моя мать настаивает. Она вглядывается в его лицо и говорит: «У Вас такие добрые глаза. Мне кажется, я знаю Вас всю жизнь».
«Я тоже, синьора. Ваш голос отзывается в самой глубине моей души», – говорит Альберто. Он соглашается ехать, но только если мои родители вместо оплаты сделают пожертвование в приют.
КОНЕЦ ВТОРОГО АКТА
(обратно)
Глава шестая
Я на время прервалась: сюда в ярости влетела Тильда и сразу же напала на меня: «Зира говорит, ты сегодня что-то получила по почте. Почему мне сразу не сказала? Где моё письмо?» А я-то была уверена, что никакого письма для неё нет, поэтому когда нашла на комоде два конверта, подписанные Мариной и Габриэлой, тут же сунула их, даже не открывая, между страницами пьесы: эти две девочки вечно пишут мне всякие глупости. А потом я, честно сказать, и вовсе о них забыла.
Тильда выхватила пьесу у меня из рук и встряхнула её так грубо, что чуть не оторвала несколько страниц. Но она оказалась права: на пол упали не два, а три конверта. Видимо, они слиплись, а я и не заметила.
Похоже, у Тильды есть какое-то шестое чувство: то письмо и правда оказалось от Джорджо. Адресовано оно было, как всегда, мне, а подписано Сандрой. Но почерк на этот раз выглядел другим, мужским. «Это оно! – воскликнула Тильда. – Безмозглая! Ты что же, хочешь, чтобы всё открылось?»
Но она обрадовалась, что Джорджо наконец дал о себе знать, и ушла читать письмо в туалет. Просто закрылась там и долго не выходила.
Я звала её, звала, но она не отвечала. Тогда я приложила ухо к двери и услышала, что она рыдает. «Брось, открой! Ты же не можешь сидеть там весь день, – сказала я. – Открывай, во дворе никого нет». Ясно же, что, когда плачешь, не хочешь, чтобы тебя видели.
Наконец она вышла, но сперва я услышала, как с шумом сливается вода, – будто кто-то повис на цепочке. Но это не потому, что она решила получше смыть за собой, а потому, что отправила письмо Джорджо прямиком в канализацию, предварительно порвав его в мелкие клочки. «Всё кончено. На этот раз всё действительно кончено!» – прошептала она. Потом поднялась наверх и легла в постель, с головой накрывшись пикейным покрывалом, хотя было только семь вечера. Притворяется спящей, но я пишу и слышу её сдержанные рыдания. В любом случае к ужину ей придётся подняться, иначе мама что-то заподозрит.
Надеюсь, вечером, когда я вернусь после спектакля, она расскажет, что было в том проклятом письме.
 (обратно)
(обратно)
Глава седьмая
Из летнего дневника Лалаги Пау
22 августа
Так вот почему Джорджо не писал! Он просто влюбился в другую! Приехал в Плайямар и познакомился там с какой-то Марией Грацией из педучилища. Меняет девушек, как плавки, не иначе: новое лето – новая модель. И при этом ещё разыгрывает из себя мученика: говорит, был поражён внезапной страстью, чувствовал свою вину, но никак не мог набраться мужества и признаться во всём Тильде. Вот почему, по его словам, он ей не писал – боялся причинить боль. А мне лично кажется: не писал потому, что струсил.
В любом случае, когда дождь писем Тильды превратился в ливень, а приятели в Плайямаре подняли Джорджо на смех, он наконец решился всё ей рассказать и прекратить эти отношения.
Тильда говорит, письмо написано очень вежливо: Джорджо берет вину на себя и просит прощения. Он пишет, что год, проведённый с ней, был замечательным, что будет с благодарностью вспоминать это время, но в его сердце теперь другая.
А вот сердце Тильды разбито, это я знаю точно, хотя она изо всех сил пытается сдерживаться. Проснувшись сегодня около трёх, я слышала, как она плачет. Не зная, чем её утешить, я подползла к ней, крепко обняла, и она на мгновение умолкла. Подумать только: ведь раньше мы бы в жизни не обнялись! Но она почти сразу же меня оттолкнула и отвернулась, прошептав: «Оставь меня в покое». Должно быть, потом она снова плакала, потому что с утра глаза у неё были сильно опухшими, и мама даже спросила: «У тебя что, голова болит? Наверное, вчера гуляла после обеда без шляпы». Ах, если бы она знала настоящую причину! Зато потом – о чудо! – она разрешила Тильде не ездить на пляж. «Скажи дяде, пусть даст тебе аспирина, и посиди до обеда в тенёчке. Да и ты, Лалага, если хочешь, можешь остаться в деревне. Составишь компанию кузине».
Естественно, я осталась.
Как только все остальные отправились на пляж, Тильда вытащила из тайника на дне шкафа, под зимним одеялом, пакет с письмами от Джорджо.
«Пойдём-ка сожжём их», – предложила она. Я взяла на кухне несколько спичек, и мы опять пошли под мост у Сарацинской башни. Когда мы проходили мимо бара, Ирен как раз протирала тряпкой столы и смотрела на нас, будто мы не знакомы. Знаю, она меня больше не любит, но каждый раз у меня от горя так сжимает горло, что я не могу сглотнуть.
Забравшись под мост, мы устроили чудесный костёр из писем. Потом Тильда, захватившая с собой ведёрко и совочек близнецов, собрала пепел, чтобы выбросить его в море. «Кончено! Хватит тратить время на мерзавцев! – воскликнула она. – Как думаешь, скоро ли я найду другого?»
Поскольку мне нужно было учить текст третьего акта, мы вернулись домой. Тильда всё утро сидела со мной во дворе и – второе чудо! – вместо того, чтобы подначивать меня или устроиться под фиговым деревом со своими «Униженными и оскорблёнными», открыла пьесу и терпеливо помогала мне репетировать.
(обратно)
Глава восьмая
В третьем акте много поворотов сюжета, хотя я там играю не такую важную роль, как в четвёртом, где главные герои – мы с Франческо.
Действие возвращается на виллу Андраде. Дедушка при смерти. Мы с монахиней молимся в часовне, поэтому с больным осталась старая служанка Лидия. Входят мои родители и Альберто Лимонта, он щупает пульс умирающего и говорит: «Нужно немедленное переливание крови».
«Это невозможно, – отвечает отец. – У моего отца очень редкая группа крови, нам не найти донора». Но тут выясняется, что у Альберто, как ни странно, именно та, нужная группа крови, поэтому он сразу же начинает переливание, и уже через какие-то две минуты старик чувствует себя настолько лучше, что может сам поблагодарить врача. «Вы так молоды, – говорит он, – что можете быть моим сыном или, скорее, внуком. К сожалению, моя единственная наследница – дитя, которое даже не носит фамилию Андраде. Это Клара Морейра, моя чудесная маленькая внучка, свет моих очей. Хочу её с Вами познакомить». Посылают в часовню, и мы с сестрой Пентименто возвращаемся. Я делаю реверанс и говорю: «Спасибо Вам за то, что спасли жизнь моему любимому дедушке». В этом момент голова у меня опущена, и Альберто не видит моего лица.
Но старая служанка Лидия, стоящая рядом, вдруг замечает, что у врача на запястье родинка в форме омара. Она падает на колени и кричит: «Марианна! Господь сотворил чудо и вернул мальчика домой! Это же твой сын!» Сестра Пентименто вглядывается в лицо Альберто, восклицает: «У него глаза Джанлуиджи (человека, который когда-то её соблазнил)», – и выбегает из комнаты.
Альберто говорит: «Простите, я не совсем понимаю. Моя мать работает медсестрой в Сантьяго, её зовут Анна-Глория».
Тогда Лидия объясняет ему, что Анна-Глория Лимонта служила в молодости в доме Андраде. Никто из хозяев её не помнит, потому что они всегда были слишком надменны, чтобы замечать бедную крестьянку-поломойку.
Когда двадцать пять лет назад дворецкий сбросил со скалы то, что считал трупом младенца, две служанки (которые обо всем узнали, потому что подслушивали у двери), спрятались немного ниже по склону и поймали свёрток на лету. Ребёнок, мальчик, не только не умер, но и после небольшого лечения полностью выздоровел. Но они боялись, что если синьор Андраде его обнаружит, то снова попытается убить, на этот раз по-настоящему.
Поэтому две бедные женщины собрали все свои сбережения, чтобы Анна-Глория могла уволиться и бежать в Сантьяго с ребёнком, которого окрестили именем Альберто.
Тут сверху падает своего рода чёрный занавес, который закрывает от зрителей всю сцену вместе с актёрами и создаёт мрачный фон, перед которым проходит, а точнее, медленно пробегает, как это делают актёры, молодая Анна-Глория (т.е. Арджентина), держа на руках завёрнутого в лохмотья младенца (Чечилию). Она показывают дитя публике и говорит: «Сын грешницы в её грехе невиновен, и я позабочусь о нём даже ценой собственной жизни».
Потом чёрный занавес поднимается, и Лидия продолжает свой рассказ.
Она объясняет, что осталась, чтобы не вызывать подозрений у хозяев и ухаживать за бедняжкой Марианной, а следы двух беглецов затерялись.
Надо сказать, что в этой пьесе служанки вообще намного лучше хозяев. Разве смогли бы те, как Анна-Глория, жить в нищенской лачуге и просить милостыню, чтобы маленький Альбертино мог выучиться на врача? А ведь это даже не её ребёнок!
А Марианна – как это она смогла простить отца? Я бы скорее голову ему разбила, чем молилась за него. Даже Тильда считает так же, как я. Видимо, мы не настолько религиозны.
Как бы то ни было, на последних словах Лидии сестра Пентименто приходит в себя, всё понимает и бросается врачу на шею, причитая «Сынок!». Он в ответ вскрикивает: «Мама!» – и крепко-крепко её обнимает. Но стоит ему разжать руки, как она оседает на землю: оказывается, у неё было слабое сердце, и эмоции прикончили несчастную монахиню.
«По крайней мере, умерла счастливой», – проворчала Баинджа, когда я читала пьесу во дворе. «Хорошенькое же счастье, нечего сказать», – скептически заметила Зира. Но этим сцена не заканчивается. Дон Акапулько Андраде мужественно просит прощения у своего внука, которого хотел убить, и заявляет, что сделал это только ради чести семьи. Ещё он предлагает Альберто переехать к нему на виллу, обещает отдать ему половину своего имущества (другая половина принадлежит маленькой Кларе, то есть мне) и восстановить документы, чтобы тот мог зваться Андраде и передать по наследству фамилию своих знатных предков.
Однако Альберто, с презрением взглянув на него, заявляет: «Меня зовут Лимонта, и у этого имени куда больше чести, чем у имени убийцы. Вся моя семья – это мама, Анна-Глория. Мне жаль эту бедную покойницу, но ты – настоящий дьявол. Я сожалею, что своей кровью спас тебе жизнь. Эта кровь невинна, и тебе не оплатить её никакими деньгами. Я бы убил тебя голыми руками, если бы мог, до того я тебя ненавижу. Но я давал клятву Гиппократа: врач не может отнимать жизнь, он может только спасти её. Счастливо оставаться!» – и широкими шагами уходит со сцены.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО АКТА
Роль Альберто просто великолепна, а вот все остальные: я, мои родители, слуги – только и делают, что сидят сложа руки и восклицают: «Ох!» да «Ах!» Когда монахиня падает замертво, мне положено плакать над её мёртвым телом, так что я встаю, обнимаю мать и больше не поворачиваюсь лицом к публике, пока не падает занавес.
(обратно)
Глава девятая
Из летнего дневника Лалаги Пау
23 августа
Сегодня после обеда дня мы репетируем четвёртый акт на сцене в присутствии всех актёров и детей, играющих сирот. Близнецы со своей подругой Шанталь тоже будут. Из массовки они самые младшие: других детей до четырёх лет в спектакль не брали.
Синьора Дередже объяснит им их роли. Все должно пройти быстро, потому что текста у них нет, надо только двигаться и повторять то, что делают Пиппо, Лауро и Адель.
Ливия продолжает болтать те же гадости: что я получила роль по знакомству и что среди отдыхающих есть по меньшей мере шесть-семь девочек, которые сыграли бы лучше меня.
Не могу понять, почему она так завидует. Какое ей дело до театра? Он даже не видела ни одного спектакля. А вот я видела все, и у меня есть доказательства, если я не потеряла билеты.
Вчера давали «Житие Святой Риты Кашийской». Адель была очень хороша в роли ангела, осыпающего голову молящейся святой лепестками роз. Её подвесили над сценой на верёвке. Наверное, висеть так очень неудобно, но она всё равно пела своим тихим нежным голосом и не сделала ни единой ошибки.
Что касается четвёртого акта «Права на рождение», то он разворачивается в спальне сиротского приюта.
Анна-Глория в одиночестве застилает постели. Входим мы с Лидией: нам удалось тайком бежать с виллы Андраде и на поезде добраться до Сантьяго.
Две служанки узнают друг друга и обнимаются; мне Анна-Глория говорит, что я похожа на тётю Марианну в детстве и ещё немного на её Альбертино. Она так и говорит: «Мой Альбертино», – потому что считает его сыном.
Потом Лидия просит подругу о помощи в воплощении нашего плана. Она должна сделать вид, что я тоже сирота, чтобы мы могли встретиться с Альберто – иначе он не станет со мной говорить и я не смогу убедить его простить деда.
Так что меня уводят за кулисы, где снимают дорогое платье и надевают обноски. Анна-Глория даёт мне раскладушку. Когда возвращаются сироты и Пиппо спрашивает: «Это ещё кто?» – она отвечает: «Новенькая. Эту прекрасную леди я встретила на улице. Она умирает с голоду, вот я и привела её сюда».
Тогда все сироты собираются в круг, Лауро приносит тарелку супа, а Адель меня кормит. К счастью, я только делаю вид, что ем, иначе папа потребовал бы продезинфицировать не только ложку, но и суп.
Лидия прячется. Через некоторое время приходит Альберто Лимонта. Анна-Глория рассказывает ему обо мне, он сочувствует и собирается провести медосмотр. Хотя мы и виделись на вилле Андраде, он меня не узнает. Альберто слушает моё дыхание через стетоскоп, заставляет покашлять, сказать «тридцать три», осматривает миндалины и одновременно спрашивает, откуда я родом и почему так голодна. Я выкладываю ему фальшивую историю, которую мы с Лидией тайком от родственников подготовили на вилле Андраде: говорю, что я подкидыш и долгое время жила в монастыре Санта-Клара под опекой очень доброй монахини, которая, к сожалению, неделю как умерла.
«Как звали ту монахиню?» – настороженно спрашивает врач. А я ему: «Сестра Пентименто». Он, естественно, не может не заинтересоваться. Я продолжаю врать (хотя на самом деле в моём рассказе нет ни капли лжи, если не считать слов о подкидыше), что в прошлом сестры Пентименто была тайна, заставлявшая её страдать и целыми днями молиться, и что она простила своих мучителей. Что она подвергала себя суровейшим испытаниям, чтобы искупить грехи, но не свои, а их. И что всегда умоляла нас, подкидышей, простить тех, кто нас бросил, потому что тогда мы сможем обрести место в раю.
Альберто Лимонта очень тронут этими словами, но переспрашивает: «Что же, мы должны прощать даже тех, кто хотел нас убить?» А я в ответ: «Их – особенно. Тогда мы обретём место на небесах». Но он, кажется, ещё не убеждён.
Тут откуда ни возьмись появляются мои родители. Оказывается, они шли по моим следам. Мать, увидев меня среди всех этих оборванцев, плачет. Альберто сердится и кричит: «Пора покончить с вашими привилегиями, богачи-убийцы!» (Интересно, понравится ли этот момент Николе Керки.) Но Консуэло Морейра, моя мать, встаёт перед ним на колени: «Прости нас! Я плачу не по своей дочурке, а по этим несчастным брошенным детям. Мне бы хотелось принять их всех в свой дом, подарить богатую и счастливую жизнь». Альберто не знает, что сказать, но тут появляется дед в инвалидной коляске, которую катит дворецкий. (Вот толпа-то, наверное, будет в этот момент на сцене, ведь на самом-то деле это всего лишь кузов грузовика, постановленного кабиной к стене.)
Дед, роняя слезы, произносит: «Я был не прав, и сознаю, что не прав. Дорогой внук, своим благородством ты заставил меня это понять. Чтобы искупить своё преступление, я собираюсь уйти в монастырь до самой смерти. Дворецкий тоже станет монахом, хотя он всего лишь исполнял мои приказы. А моё состояние, если вы от него отказываетесь, я оставлю этому приюту».
Что на это может сказать Альберто? Моя мать начинает раздавать конфеты детям-сиротам, прыгающим от восторга на кроватях. Отец берет на руки самую маленькую сироту и гладит её по голове. Они забирают всех детей домой. Я нисколько не ревную всех этих новых братьев и сестёр, даже прыгаю на кровати вместе с ними. Думаю, Пикка и Тома получат безумное удовольствие от этой части: нужно только есть конфеты и прыгать на кровати. Арджентина считает, что чем младше дети, играющие сирот, тем больше радуется публика. Она говорит, ребёнок на сцене всегда срывает аплодисменты, даже если просто ковыряет в носу. Меня немного беспокоит, что Зиру и Форику на репетицию не пустят, так что об этих двух вредителях придётся заботиться нам с Саверио. Надеюсь, они нас послушаются.
Анна-Глория говорит: «Прости его, мой Альбертино, прости, послушай маму. Не ради мести я тебя растила, не ради мести дала тебе образование. Месть – это яд, который разрушает душу».
Наконец Альберто сдаётся и протягивает старику руку, а тот целует её и плачет. Потом объятия и всеобщее счастье.
ЗАНАВЕС
Интересно, каково это – находиться на сцене в окружении стольких людей? До сих пор я всегда играла только с одним человеком, Франческо или Арджентиной, которые подавали мне реплики.
И ещё интересно, каково будет играть вместе с Ирен. Сколько раз мы мечтали, как выйдем на сцену вдвоём! Думали, может, это будет на Бродвее или в Голливуде, на худой конец в Риме. Но то, что происходит сейчас, – тоже театр, с настоящей публикой, которая платит за билет. И думать о том, что мы будем так близко, но даже не взглянем друг на друга... Как это грустно!
Надеюсь, в сцене, где я радуюсь вместе с остальными сиротами, мне не придётся обнимать Ливию. Если это случится, клянусь, я её так ущипну, что останется синяк, и посмотрим, хватит ли у неё смелости закричать.
(обратно)
Глава десятая
Из летнего дневника Лалаги Пау
23 августа, семь часов вечера
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ
УРА! Дорогой дневник, приветствую тебя и прощаюсь. Сегодня я пишу на твоих страницах в последний раз: мне это больше не нужно. У меня теперь есть некто, точнее, НЕКТА из плоти и крови, которая меня слушает и понимает. После почти целого месяца вражды, доставившей мне столько страданий, Я ПОМИРИЛАСЬ С ИРЕН, и вместе мы приняли одно решение. Оно странное, даже слегка сумасшедшее. Но больше я ничего не буду писать, потому что о нём никто не должен знать. Теперь у меня есть тайна, которая мне нравится. Тайна моя и Ирен. И Тильда на сей раз не имеет с ней ничего общего. Более того, она не должна ни о чём догадаться. Какое облегчение!
Это случилось в театре, во время репетиции четвёртого акта. Должна признаться, что первый шаг сделала Ирен – я, наверное, никогда не решилась бы взять инициативу на себя. Но помогла судьба в лице синьора Дзайаса. А может (кто знает?), Пиладе и Анджелина, спустившись с небес, заставили нас это сделать. Ну правда, если умершие мамы могут приглядывать за своими детьми-сиротами и защищать их, то почему этого не могут сделать двое «усыновлённых» покойников вроде наших?
 Репетиция только началась. На сцене заправляла кровати синьора Дзайас (Анна-Глория), а остальные стояли за кулисами, ожидая своего выхода. Места за кулисами не так много, так что стоять приходилось очень плотно, чтобы не упасть с грузовика.
Синьора Дередже (Лидия) сказала мне: «Давай, Клара, наш выход», – и взяла меня за руку. В этот момент я почувствовала, как кто-то из сирот за спиной слегка сжал другую мою руку и чей-то голос прошептал: «Удачи, Лалага». Я не поверила своим ушам: это была Ирен. Только я успела ответить ей смущённой улыбкой, как Лидия потащила меня на сцену, на ходу начиная свою реплику: «Доброе утро, Анна-Глория. Я так изменилась, что ты меня не узнаешь?» К счастью, Франческо часто прогонял со мной этот момент, иначе, тронутая жестом Ирен, я бы всё забыла.
Не знаю почему, но сам Франческо сегодня тоже выглядел как-то странно. Щеки у него пылали румянцем, хотя он ещё не гримировался, а руки вспотели. Он часто запинался, словно у него перехватывало дыхание, – должно быть, устал. Ещё и Джиджетто каждый вечер в комическом финале так сильно его пинает... А вчера даже вылил на голову ведро холодной воды.
Когда вошли сироты, я сразу поняла, что Ирен играет лучше всех. Роль без слов, но она с огромным состраданием на меня смотрит (не на меня-Лалагу, а на меня-Клару)! А ещё у неё совершенно естественно получается то, о чём всегда предупреждает Франческо: никогда не поворачиваться спиной к публике. Никогда, даже если говоришь с тем, кто стоит в глубине сцены.
А вот Ливия, напротив, элегантна, как танк. Да и потом, кто сможет всерьёз принять эту жирную тушу за умирающую от голода сироту?
В общем, приближалась последняя сцена, когда все счастливы, а сироты начинают скакать на кроватях. (Пикка и Тома, кстати, были молодцами. Они безропотно повиновались синьоре Дередже, и нам, старшим, ни разу не пришлось вмешиваться и успокаивать их.) «Клара, иди сюда, – приказал режиссёр, синьор Дзайас. – Вставай рядом с этой девочкой и начинайте прыгать. А теперь давайте, обнимитесь!» И что же это за девочка? Ирен! Из семнадцати сирот режиссёр, ничего не зная о нашей истории, выбрал именно её. Как говорится, это судьба.
Поначалу я боялась реакции Ирен и обнимала по-актёрски: показывая движение, но не прижимаясь. А вот она сразу обхватила меня за шею, прижалась щекой (очень горячей), приблизилась губами к моему уху (которое уже просто горело от смущения) и прошептала: «Давай помиримся, Лала. Я так больше не могу». «Я тоже», – ответила я.
С Ирен много слов не нужно. Когда всё закончилось и мы выстроились на краю сцены, чтобы поклониться публике (как на настоящем спектакле, потому что на репетицию публику не пускают), мы с ней стояли рядом, держась за руки.
Потом вместе вышли из театра, взяли папину лодку (поскольку не хотели, чтобы нам помешали) и уплыли на ней подальше – только мы двое посреди тихого, спокойного моря.
О чём мы только не говорили! За всю жизнь мы ни разу не прерывали общение почти на целый месяц – даже зимой, когда я жила в Лоссае, переписывались дважды в неделю.
Она не спрашивала меня о том проклятом письме, которое я не дала ей прочитать, поэтому у меня не было нужды врать. Но ей очень хотелось знать, сохну ли я по-прежнему по капитану. Как же мы хохотали, когда я переспросила: «Кому? Какому капитану?» Удивительно: я уже почти ничего не помню об этой истории, столько всего произошло с тех пор.
Ещё Ирен считает, что театр с его спектаклями, актёрами и пьесами, над которыми, между прочим, работаем и мы, изменил весь наш привычный распорядок.
Я спросила, не жалко ли ей было отдавать главную детскую роль. «Представь себе, я всё равно не смогла бы её сыграть, – отвечала она. – Отец не хотел, чтобы я участвовала даже в массовке, и сдался только потому, что его лично попросил об этом одолжении дон Джулио, заверив, что в пьесе нет ничего аморального». Я очень рада, что она не завидует.
Тут-то мне и пришла в голову та мысль, и я сразу же поделилась ею с Ирен. Она сказала, что это сумасшествие и что она мне ни за что не позволит.
«Но мы же можем попробовать. Что в этом плохого?» – настаивала я, но Ирен всё равно побаивалась. Это я с раннего детства считала, что взрослых нужно просто ставить перед свершившимся фактом, а её воспитали в покорности и послушании. В общем, как бы то ни было, решение принято, и мы провели весь вечер за подготовкой. Времени у нас не так много, придётся поработать.
Так что не сердись, дорогой дневник, но теперь я спрячу тебя в тайник, где Тильда хранила письма от Джорджо, и больше писать не буду.
Меня забавляет мысль, что матушка Эфизия в сентябре попросит тебя прочитать, а мне придётся отказать. Ведь ты, бедняжка, был мне нужен только для того, чтобы поделиться с тобой всеми хитросплетениями лжи.
А если Тильда вдруг тебя найдёт, она всё равно не поймёт, что должно случиться. Пусть знает, что бывает, когда с тобой не делятся секретами! Ведь мы-то с Ирен обе хотели, чтобы она стала нашей третьей подругой, а не яблоком раздора.
Тьфу, Тильда! Если ты это читаешь, тебе должно быть стыдно! Немедленно верни дневник на место!
Твоя кузина Лалага
Репетиция только началась. На сцене заправляла кровати синьора Дзайас (Анна-Глория), а остальные стояли за кулисами, ожидая своего выхода. Места за кулисами не так много, так что стоять приходилось очень плотно, чтобы не упасть с грузовика.
Синьора Дередже (Лидия) сказала мне: «Давай, Клара, наш выход», – и взяла меня за руку. В этот момент я почувствовала, как кто-то из сирот за спиной слегка сжал другую мою руку и чей-то голос прошептал: «Удачи, Лалага». Я не поверила своим ушам: это была Ирен. Только я успела ответить ей смущённой улыбкой, как Лидия потащила меня на сцену, на ходу начиная свою реплику: «Доброе утро, Анна-Глория. Я так изменилась, что ты меня не узнаешь?» К счастью, Франческо часто прогонял со мной этот момент, иначе, тронутая жестом Ирен, я бы всё забыла.
Не знаю почему, но сам Франческо сегодня тоже выглядел как-то странно. Щеки у него пылали румянцем, хотя он ещё не гримировался, а руки вспотели. Он часто запинался, словно у него перехватывало дыхание, – должно быть, устал. Ещё и Джиджетто каждый вечер в комическом финале так сильно его пинает... А вчера даже вылил на голову ведро холодной воды.
Когда вошли сироты, я сразу поняла, что Ирен играет лучше всех. Роль без слов, но она с огромным состраданием на меня смотрит (не на меня-Лалагу, а на меня-Клару)! А ещё у неё совершенно естественно получается то, о чём всегда предупреждает Франческо: никогда не поворачиваться спиной к публике. Никогда, даже если говоришь с тем, кто стоит в глубине сцены.
А вот Ливия, напротив, элегантна, как танк. Да и потом, кто сможет всерьёз принять эту жирную тушу за умирающую от голода сироту?
В общем, приближалась последняя сцена, когда все счастливы, а сироты начинают скакать на кроватях. (Пикка и Тома, кстати, были молодцами. Они безропотно повиновались синьоре Дередже, и нам, старшим, ни разу не пришлось вмешиваться и успокаивать их.) «Клара, иди сюда, – приказал режиссёр, синьор Дзайас. – Вставай рядом с этой девочкой и начинайте прыгать. А теперь давайте, обнимитесь!» И что же это за девочка? Ирен! Из семнадцати сирот режиссёр, ничего не зная о нашей истории, выбрал именно её. Как говорится, это судьба.
Поначалу я боялась реакции Ирен и обнимала по-актёрски: показывая движение, но не прижимаясь. А вот она сразу обхватила меня за шею, прижалась щекой (очень горячей), приблизилась губами к моему уху (которое уже просто горело от смущения) и прошептала: «Давай помиримся, Лала. Я так больше не могу». «Я тоже», – ответила я.
С Ирен много слов не нужно. Когда всё закончилось и мы выстроились на краю сцены, чтобы поклониться публике (как на настоящем спектакле, потому что на репетицию публику не пускают), мы с ней стояли рядом, держась за руки.
Потом вместе вышли из театра, взяли папину лодку (поскольку не хотели, чтобы нам помешали) и уплыли на ней подальше – только мы двое посреди тихого, спокойного моря.
О чём мы только не говорили! За всю жизнь мы ни разу не прерывали общение почти на целый месяц – даже зимой, когда я жила в Лоссае, переписывались дважды в неделю.
Она не спрашивала меня о том проклятом письме, которое я не дала ей прочитать, поэтому у меня не было нужды врать. Но ей очень хотелось знать, сохну ли я по-прежнему по капитану. Как же мы хохотали, когда я переспросила: «Кому? Какому капитану?» Удивительно: я уже почти ничего не помню об этой истории, столько всего произошло с тех пор.
Ещё Ирен считает, что театр с его спектаклями, актёрами и пьесами, над которыми, между прочим, работаем и мы, изменил весь наш привычный распорядок.
Я спросила, не жалко ли ей было отдавать главную детскую роль. «Представь себе, я всё равно не смогла бы её сыграть, – отвечала она. – Отец не хотел, чтобы я участвовала даже в массовке, и сдался только потому, что его лично попросил об этом одолжении дон Джулио, заверив, что в пьесе нет ничего аморального». Я очень рада, что она не завидует.
Тут-то мне и пришла в голову та мысль, и я сразу же поделилась ею с Ирен. Она сказала, что это сумасшествие и что она мне ни за что не позволит.
«Но мы же можем попробовать. Что в этом плохого?» – настаивала я, но Ирен всё равно побаивалась. Это я с раннего детства считала, что взрослых нужно просто ставить перед свершившимся фактом, а её воспитали в покорности и послушании. В общем, как бы то ни было, решение принято, и мы провели весь вечер за подготовкой. Времени у нас не так много, придётся поработать.
Так что не сердись, дорогой дневник, но теперь я спрячу тебя в тайник, где Тильда хранила письма от Джорджо, и больше писать не буду.
Меня забавляет мысль, что матушка Эфизия в сентябре попросит тебя прочитать, а мне придётся отказать. Ведь ты, бедняжка, был мне нужен только для того, чтобы поделиться с тобой всеми хитросплетениями лжи.
А если Тильда вдруг тебя найдёт, она всё равно не поймёт, что должно случиться. Пусть знает, что бывает, когда с тобой не делятся секретами! Ведь мы-то с Ирен обе хотели, чтобы она стала нашей третьей подругой, а не яблоком раздора.
Тьфу, Тильда! Если ты это читаешь, тебе должно быть стыдно! Немедленно верни дневник на место!
Твоя кузина Лалага
она же
Клара Морейра
(обратно)
Глава одиннадцатая
На следующий день Лалага с Ирен отправились на кладбище, чтобы сообщить Анджелине и Пиладе, что помирились, и поблагодарить их. Печально было видеть, как заброшены могилы: они совсем заросли сорняками и диким укропом, причём не только «их» две, но и все остальные.
В августе так бывало всегда: с приездом отдыхающих островитяне бывали слишком заняты, чтобы заботиться о своих покойниках, а кладбищу вполне хватало одного месяца, самого жаркого и засушливого, чтобы принять совсем уж неухоженный вид.
Девочки выдрали сорняки, выбросили засохшие цветы, снова наполнили вазы водой и поставили туда свежие: георгины и фуксии (сорванные во дворе тайком от Аузилии), дикие фиалки и ромашки, собранные по дороге, под тамарисками в Змеиной бухте. Потом они жёсткой щёткой счистили с мрамора сухой мох и отполировали бронзовые таблички.
Наконец, довольные результатом, подруги уселись на могиле Пиладе и, взяв в свидетели обоих покойников, торжественно пообещали больше никогда не ссориться. Покончив с этим, Лалага вытащила из соломенной сумки пьесу и открыла её на первом акте.
– Слушай, – сказала она, начиная читать. Ирен сосредоточенно слушала.
После обеда Лалага собиралась зайти к Дзайасам, потому что Франческо хотел исправить кое-какие мелкие ошибки произношения, всплывшие на репетиции. Она попросила Ирен пойти с ней.
– Тогда ты сможешь помочь мне с подготовкой.
Конечно, Франческо с готовностью согласился. Теперь, после полноценных репетиций, Лалаге трудно было думать о нём как о Франческо, а не как об Альберто Лимонте. Странно, она же видела его во многих других ролях, да к тому же каждый день в нелепой одежде бедняги Чиччо. Может, эта связь возникла из-за того, что в «Праве на рождение» её персонаж и Альберто были родственниками?
Франческо отметил мелом на тротуаре пространство сцены и линии, вдоль которых Клара должна двигаться, не поворачиваясь спиной к публике и не перекрывая
других находящихся на сцене актёров.
– Мне бы хотелось, чтобы ты хотя бы разок порепетировала в платье, которое наденешь на спектакль – в нём ведь все совсем не так, как в шортах или широкой юбке. Тебе придётся решить, куда деть руки, когда они не заняты.
Ирен очень внимательно слушала и делала карандашом заметки на полях пьесы.
– Какая у тебя прекрасная секретарша, – добродушно прищурилась синьора Дзайас. – Хотите пить, девочки? Как насчёт стакана воды?
– Нет, спасибо, – поспешно ответила Ирен.

Прежде чем пойти к Дзайасам, Лалага пересказала ей полученные от отца настоятельные рекомендации, касающиеся гигиены, микробов и опасности заражения.
– Главное – быть осторожными с частичками слюны, – объясняла она.
– Так вот почему в общественных местах всегда стоит знак «Запрещено сплёвывать на пол!» – догадалась Ирен. И вот, значит, почему мать не разрешала ей мыть плевательницы, а делала это сама, изведя не один литр отбеливателя.
Микроб, переносящий туберкулёз, называется «бацилла Коха», потому что его обнаружил профессор Кох – за это ему даже дали Нобелевскую премию. В школе Лалага видела фильм, где микробов при помощи микроскопа увеличивали в несколько тысяч раз. Учительница естествознания рассказывала, что их называют «бациллы», потому что они похожи на палочки. Собственно, на латыни
bacus и означает палку, а
illus – это уменьшительный суффикс. Корь, например, на латыни
morbilli, объясняла она, и происходит от
morbus +
illus, то есть «маленькая болезнь» – и впрямь, болезнь эта не очень серьёзная.
А вот бацилла Коха, втолковывал детям доктор Пау, напротив, очень опасна, потому что поражает не только лёгкие, но и почки, селезёнку, даже кости. Она поглощает тело изнутри (в девятнадцатом веке говорили «болезнь его съедает»). Больной становится всё тоньше, всё слабее, и вскоре уже не в силах сопротивляться. Он может умереть не только потому, что у него всё лёгкие в дырах, отчего кровь течёт изо рта, словно рвота, и её приходится сплёвывать (а кровь эта очень заразна!), но даже и просто от переохлаждения. Вот почему в санаториях (так называют специальные больницы для лечения туберкулёза) пациенты должны много есть, чтобы стать сильнее: чем худее человек, тем меньше он защищён от болезни. (Доктор Пау не одобрял женщин, которые стараются похудеть ради элегантных форм. «Те, кто на это идут, ищут себе неприятностей», – говорил он.)
А вот мать Лалаги однажды прочитала чудесную книгу какого-то немецкого автора, в которой говорилось о санатории в горах (из-за чего и сама книга называлась «Волшебная гора»). Синьора Пау, когда приезжала в Лоссай, обсуждала её с тётей Ринуччей. Там был персонаж, больная туберкулёзом дама, который никогда не закрывала двери, – сестры Марини отзывались о ней с восторгом.
– Мне почти захотелось отправиться на пару месяцев в санаторий, – мечтательно сказала однажды синьора Пау.
– Да ты совсем с ума сошла! – ответил на это её муж.
(обратно)
Глава двенадцатая
Все вокруг уже поняли, что Лалага с Ирен снова подруги не разлей вода, и радовались за них – не считая, разумеется, Ливии Лопес, но та радовалась только чужому горю. Ну, и никто не мог сказать, что думала Тильда.
А Тильда просто скучала, считая дни до конца каникул. С двоюродными братьями и сёстрами, особенно с Лалагой, она вела себя по-доброму, и хотя всё ещё поддразнивала кузинину страсть к театру, но тоже беззлобно. Охотно переложив на Ирен задачу помощи Лалаге в репетициях, она иногда ходила с ними к Дзайасам и слушала уроки Франческо.
Франческо между тем выглядел усталым. Казалось, энергия и энтузиазм первых дней навсегда его покинули.
– Ты уже готова, Птичка, – рассеянно говорил он Лалаге. – Тебе больше нечему учиться.
Но она настаивала на том, чтобы продолжать:
– Боюсь, если я брошу репетиции, то сразу всё забуду.
А он лишь смеялся:
– Ах, если бы все начинающие актёры были похожи на тебя...
Ирен находила его безумно привлекательным:
– Он похож на средневекового рыцаря. Вылитый Мел Феррер.
– Ну нет! Это только потому, что у него впалые щеки. У Мела Феррера глаза светло-голубые, а у него тёмные. Он похож... Знаешь, на кого похож? На того тореадора, что женился на Лючии Бозе.
В спор вмешалась Тильда:
– А по-моему, совсем как Ричард Уидмарк.
– Да он же блондин!
– Да, но у него тоже торчащие скулы, как у Франческо. И лицо очень интересное.
Слава Богу, хотя бы в одном они сошлись: всем троим Франческо казался очень привлекательным.
Как-то ночью Тильда спросила кузину:
– Ты случайно не рассказала Ирен о Джорджо?
– Нет, – ответила Лалага, хотя считала, что теперь, когда эта история закончилась, хранить тайну уже нет необходимости. Но сестра, оказывается, думала по-другому.
– Смотри, никому об этом не рассказывай. Никогда, даже через сто лет.
Лалага в темноте чуть не расхохоталась. Какое сейчас для них с Ирен имела значение эта старая, давно засохшая любовь? Вот если бы кузина знала ИХ секрет! Ну, нет уж, пусть увидит вместе со всеми остальными, то-то она будет потрясена!
И вот наступило двадцать пятое августа, день праздника в честь святого покровителя острова.
С утренним катером прибыли оркестр и тележка продавца нуги, который также торговал конфетами и другими сладостями (подтаявшими на солнце, липкими и облепленными мухами, как презрительно заявляли сестры Лопес). А вот дети из Портосальво, напротив, с ума сходили по этим сладостям, особенно по разложенным рядами сахарным тросточкам, леденцам на палочке, лакричным карамелькам в форме животных и, естественно, обожаемым всеми «червякам».
Адель, Пиппо и Лауро так и вились вокруг этого лотка, но у них и гроша в кармане не завалялось, так что они придумали новый способ: пристраивались к кому-нибудь из «сирот» и пытались выпросить у него кусочек нуги или горсть солёных тыквенных семечек.
– Как им не стыдно? Ведут себя будто нищие какие-нибудь, да ещё и едят всякую гадость, – возмущались сестры Лопес, которые из всех сладостей ели только пасту «Джандуйя»
[10] и шоколадные конфеты «Перуджина».
Но когда на закате посреди площади установили дощатую эстраду и оркестр заиграл самые популярные мелодии этого лета, даже Франциска, Ливия и Аннунциата пустились в пляс.
Танцы продолжались и после ужина – оркестр замолчит только к утру. Синьор Карлетто перенёс столики из бара поближе к эстраде и уже заработал на этом кучу денег. Впервые за год островитяне и отдыхающие праздновали вместе: иногда даже складывались смешанные пары танцоров, каждую из которых встречали бурными аплодисментами.
Перед спектаклем все, кто не занимался сценой, тоже пришли танцевать – даже младшие актёры. Например, огромным успехом пользовалась стройная привлекательная Жизелла, которая могла управиться и со сложными фигурами, и с самым неуклюжим кавалером. А наибольшую популярность у парней завоевали Тильда и Арджентина.
Тильда с приездом оркестра преобразилась. Она тщательно продумала одежду и причёску, а танцевала по недавно введённой французской писательницей Франсуазой Саган, автором «Здравствуй, грусть!», моде – босиком. После обеда она выспалась, чтобы не клевать носом до поздней ночи. Дядя и тётя не возражали, потому что и сами танцевали вместе со своими друзьями-отдыхающими.
А вот Лалаге с Ирен было не до танцев: воспоминания о столь неудачно закончившемся танго отбили у Лалаги всякое желание, а Ирен родители категорически запретили даже думать об этом.
Но ни одну, ни другую это не волновало: на подобные легкомысленности у них не было времени. Время вообще утекало слишком стремительно. Оставалось всего три дня, чтобы довести роль Клары до совершенства.
(обратно)
(обратно)
Часть седьмая
Глава первая
Утром великого дня Лалага проснулась с первыми лучами солнца. Она поднялась и выглянула в окно сквозь ставни. Улица была пустынна, лишь олеандры молча отбрасывали длинные тени.
– Забирайся обратно в постель, поспи ещё немного, – фыркнула Тильда, накрываясь простыней, – иначе к вечеру будешь смертельно усталой. Как, впрочем, и я, хотя я тут вообще ни при чём.
Лалага неохотно вернулась в постель, заскрипевшую под её тяжестью. Комната, тонувшая в тёмно-зелёном сумраке, в пробивавшемся сквозь щели в ставнях свете казалась ещё более похожей на морское дно. Нужно полежать хотя бы до половины восьмого. Лалага снова закрыла глаза и мысленно начала прогонять роль Клары. Интересно, Ирен тоже уже проснулась?
Время тянулось бесконечно. А потом вдруг оказалось, что уже без четверти девять и другая половина кровати пуста.
Она опрометью бросилась в столовую. Мать, Тильда, братья и сестра, закончив завтракать, собирали вещи, чтобы отправиться на пляж.
– Если хочешь, можешь остаться, – предложила мать. – Заодно напоследок спокойно повторишь роль. Проследи, чтобы Аузилия достала то розовое платье – его же ещё надо укоротить. И пусть сразу снимет мерки, чтобы потом не делать двойную работу. С причёской дождись меня: встанешь после сиесты, вымоешь голову, тогда и сделаем тебе завивку.
– Но... разве Саверио и близнецы едут с тобой на пляж?
– Уж будь уверена.
– Но это же невозможно, мама! Какая им сегодня яхта? Нужно репетировать!
– Что за чушь? До девяти вечера, знаешь ли, ещё целый день! Двенадцать часов, минута в минуту. А роль у них не главная, так что начнут готовиться часам к восьми, не раньше. Что им делать в деревне до этого времени?
– Ой, мама, ты ничего не понимаешь! Не в этом же дело! Пока вы доплывёте на пляж и обратно, может случиться всё что угодно. Представь, что налетит ураган! Если вы не вернётесь...
– Вот уж чудесно! Ты что же, хочешь нас всех утопить? Что это ты вбила себе в голову? Сама же понимаешь, что с нами все будет хорошо, но тебя волнует только твой драгоценный спектакль.
Разревевшись, Лалага убежала в туалет и заперлась там. Тильда, мать, Саверио, близнецы, Зира, Форика – все, все смеялись над ней. Ну и пожалуйста! Но сегодня вечером уже она над ними посмеётся!
На то, чтобы успокоиться, ушло добрых полчаса. Лалага сняла с крючка на стене один из аккуратных прямоугольничков разорванной на подтирку газеты и полными слёз глазами пробежала его сверху донизу. Это оказалась колонка объявлений. На другой стороне, в статье, не имевшей ни названия, ни начала, речь шла о русском поэте времён революции. Когда его оставила жена, знаменитая английская танцовщица, он так страдал, что решил покончить с собой, перерезав вены. Но перед смертью написал последнее стихотворение, макая перо в собственную кровь.
Как же это несправедливо, что такая трагичная и такая прекрасная история встретилась ей на клочке газеты для подтирки, в отчаянии подумала Лалага. Несправедливо, что капитан танкера предал и отрёкся от неё. Несправедливо, что Джорджо оставил Тильду ради другой. Несправедливо, что Дзайасы и Дередже так бедны, а у любого американского актёра – и у Витторио Гассмана, кстати, тоже – есть вилла с бассейном. И то, что родители Ирен не могут отправить её учиться в среднюю школу. И то, что ей самой скоро придётся вернуться в интернат. Несправедливо, что в мире так много печали. Она уже собиралась снова расплакаться, но, к счастью, в дверь постучалась Аузилия.
– Ты что там, заснула? Выходи, я подошью тебе подол.
Лалага настояла, что юбка должна быть длинной, сильно ниже колена.
– Но тебе так не идёт! У тебя нет ни одного настолько длинного платья. Это что, какая-то новая мода? – ворчала вынужденная в конце концов подчиниться Аузилия. – Надеюсь, я смогу разобраться, что там за гениальная идея пришла тебе в голову.
Когда она была маленькой, ещё в Таросе, мать не раз говорила им с Саверио:
– Мне бесполезно врать. От мамы никогда ничего не укроется. Мне достаточно разок взглянуть вам в лицо, и сразу все станет понятно. Я же вас насквозь вижу.
Тогда Лалага воспринимала это буквально. Она считала, что мать видит, как её лицо, её кожа и кости становятся прозрачными, открывая работу мозга. Ей очень хотелось знать, на что похожи мысли и как мать сможет отличить вранье от правды. И лишь много лет спустя она с облегчением поняла, что никому, ни единому человеку на всём белом свете, мыслей не прочесть.
Сегодня её снова окрыляла эта уверенность. Ни Аузилия, ни кто-либо другой не сможет понять, зачем ей нужна настолько длинная юбка.
 (обратно)
(обратно)
Глава вторая
Она зашла за Ирен, чтобы отвести её завиваться к Дзайасам.
– Что за глупости! – проворчала синьора Дзайас. – Ведь у тебя сегодня спектакль. Не думаю, что синьор Дзайас обрадуется: завивка – это для богатых, а ты, как мне помнится, сирота.
– Вечером она заплетёт косички, – пообещала Лалага.
Синьора Дзайас всё равно считала, что это бесцельная трата денег. Но десять лир есть десять лир, так что она без дальнейших возражений зажгла свечку и стала нагревать гребень.
Остаток утра подруги провели во дворе Пау, ещё раз прогоняя пьесу. Лалага даже начертила на земле отколотым куском кирпича линии, которые так часто изображал на тротуаре Франческо.
– А она молодец, твоя подруга! – заметила Баинджа, снимавшая белье после просушки и потому присутствовавшая на репетиции. – Знает роль Клары едва ли не лучше тебя.
Баинджа теперь знала наизусть все реплики (как, впрочем, и Аузилия, Лугия, Зира и Форика), но, конечно, не смогла бы сыграть её на сцене.
В тот вечер, поскольку повторов спектакля «Право на рождение» не предполагалось, синьора Пау разрешила пойти в театр сразу всему штату прислуги с условием к завтраку вымыть тарелки после ужина.
Неужели кто-нибудь из них согласился бы пропустить триумф Лалаги? Пятеро служанок так гордились важностью её роли и так часто рассказывали об этом прислуге других семейств, что те уже стали находить это невыносимым.
Двор Пау, со всех сторон окружённый стенами и решёткой, поросшей виноградом, был неплохо защищён от ветра, но около половины второго тот задул так сильно, что Лалаге пришлось спрятать пьесу: она боялась, что ветер может вырвать страницы.
– Пресвятая Дева! А ведь хозяева-то ещё с пляжа не вернулись, – воскликнула Лугия с тревогой. – Сегодня море заставит их изрядно поплясать на волнах.
– Что ты хочешь, это левант!
[11] – раздражённо бросила Аузилия и побежала закрывать хлопающие окна, на всякий случай заодно опуская ставни.
Уже накрыли к обеду, пришёл из амбулатории доктор, Ирен отправилась поесть домой, а мореплаватели так и не вернулись.
Лалага почувствовала под ложечкой мучительный холодок беспокойства. Это она принесла им несчастье, это она накликала ветер, заявив утра: «А что, если налетит ураган?» И если все они теперь мертвы, в этом только её вина.

А вот отец совсем не беспокоился. Единственное, что его заботило, – задержка с обедом, потому что с четырёхчасовым катером он собирался в Серрату.
– Только не сегодня, папа! – вопили близнецы. – Ты же не увидишь, как твои сироты прыгают на кровати!
– Я еду на встречу с префектом, а у него всё расписано на месяц вперёд. Да и потом, я каждое утро могу посмотреть, как вы прыгаете на кровати, и для этого мне не надо даже выходить из дома.
Но Лалага только радовалась отсутствию отца: с ним её вечерние планы могли пойти насмарку.
– По дороге видел, как твои друзья-актёры укрепляют сцену, – сказал доктор Пау дочери, намазывая на хлеб немного пасты из анчоусов. – Непросто им приходилось. Но мне кажется, если ветер продолжит усиливаться, то, несмотря на все их верёвки и тросы, к вечеру всё рухнет.
У Лалаги перехватило дыхание: мысль о том, что спектакль состоится под открытым небом, почему-то не приходила ей в голову. Она выскочила из дома и бросилась на площадь Пигафетты. На сцене возились директор труппы, синьор Дзайас, Сильвано и Дженнаро (Франческо с ними не было). Они напоминали матросов, безуспешно пытающихся управиться с яхтой в проливе Бонифачо, только парусом им служил вздувшийся раскрашенный холст декораций, до звона натянувший верёвки. Занавес трещал по швам и бился о поддерживающие его столбы, деревянный каркас сцены натужно скрипел.
– Ладно, сворачивайте всё, – распорядился наконец обескураженный синьор Дередже. – Будем надеяться, ветер стихнет.
Но Лалага знала, что на Серпентарии левант, раз поднявшись, дует не меньше трёх дней. Она пошла домой, столкнувшись в дверях с родными, возвращавшимися с пляжа. Все они промокли до нитки, их волосы растрепались, а кожа Зиры даже приобрела зеленоватый оттенок: её только что стошнило.
– Это всё ты и твои предчувствия! Будто не знаешь: не зови ветер, накличешь бурю! – обиженно заявила Лалаге Форика.
– Не говори ерунды, – перебила её синьора. – Лучше отведи детей вымыть руки, мы садимся за стол.
К пяти вечера даже «Друзьям Фесписа» пришлось смириться с тем, что ветер сегодня не стихнет. Они отправились посоветоваться с доном Джулио: нужно ли отменять спектакль? Для них это стало бы большим несчастьем и могло обернуться крупными финансовыми потерями. И на следующий день не перенесёшь: это их последний вечер в Портосальво, актёры уплывают с утренним катером. Да и юные участники массовки расстроятся, не говоря уже о докторовой дочке, которая всю душу вложила в свою роль.
– Знаете что? – предложил в конце концов синьор Дзайас. – Давайте сыграем то же самое, но без сцены и занавеса. Я читал в газете, что в современном театре, который ещё называют авангардным, всегда так делают. В начале каждого акта кто-то из актёров выходит вперёд и говорит: «Мы во дворце Генриха Пятого, в тронном зале», – а публика сама додумывает декорации.
– Вот ведь гадость! – подал голос дедушка Дередже.
– Ну, предложите тогда что-то другое!
– А мне кажется, отличная мысль, – одобрил дон Джулио. – В конце концов, главное – это актёры и диалоги.
– Но костюмы мы всё же наденем, – заявила Жизелла Дередже безапелляционным тоном.
– А публика? Придут ли к нам люди в такую погоду? – озабоченно спросил Сильвано.
– Не беспокойтесь! – усмехнулся дон Джулио. – Если их дети на сцене, они не могут не прийти. Может, закутаются в шубы, но придут обязательно.
(обратно)
Глава третья
Такого скопления народа площадь Пигафетты не видела никогда. Люди сидели не только на стене сада Джузеппе Сасси, но и на крышах всех окрестных домов. Некоторые счастливчики, вооружившись биноклями, выглядывали из окон. Все кутались в тёплые куртки и свитера, многие женщины были в платках, туго завязанных под подбородком. Ветер свистел, поднимал клубы пыли, но пропустить спектакль, как и предсказывал дон Джулио, не решился никто.
Пришёл весь остров: местные, отдыхающие, оркестранты, даже пограничники. Если бы в эти два часа кто-нибудь захотел ограбить любой из домов на Серпентарии, он мог бы сделать это без всякого труда.
Но не беспокойся, дорогой читатель: ничего подобного не произошло. Почтеннейшую публику ждал в тот вечер совсем другой сюрприз.
В первом ряду выделялась семью Пау, при поддержке прислуги оккупировавшая целую лавку, – все женщины, кроме Тома. Тильда надела очень элегантную красную куртку с капюшоном. Близнецы из-за тесноты сидели на коленях у Зиры и Форики.
Под вечер синьоре Дередже пришлось выдержать спор с участниками массовки: «сироты» хотели одеться, загримироваться до спектакля вместе с остальными актёрами и уже в таком виде ждать за кулисами.
– Вы хоть понимаете, что будете стоять там почти два часа? Ваш черед придёт только в последнем акте, а пространство за кулисами должно оставаться свободным, чтобы мы могли входить и выходить.
Кроме того, поскольку из-за ветра на сцене так и не смогли натянуть задник и установить декорации, большая часть публики на протяжении всей пьесы наблюдала бы это беспокойное сборище, постоянно отвлекаясь от основного действия.
– Кто мне пообещает, что эти два часа вы будете вести себя тихо и спокойно? Никто! Так что нет, лучше сидите в зале с родителями до самого конца третьего акта: антракта нам вполне хватит на подготовку.
А вот Лалага с аккуратно сложенным кружевным платьем в руках вышла из дома ещё в без четверти восемь. Свежевымытые и тщательно уложенные волосы, к сожалению, совершенно растрепались и теперь реяли над головой, несмотря на целлулоидный ободок, на котором сиротливо приютился искусственный цветочек, словно вытащенный из чьей-то петлицы. Уже на пороге мать подозвала Лалагу к себе:
– Слушай, тебя, конечно, будут гримировать, так что возьми мою помаду. Вот, держи, положи в карман. Только, пожалуйста, пользуйся ей сама, никому не давай, даже если попросят. И смотри не потеряй.
Лалага была безумно ей благодарна. Обычно мать очень ревниво относилась к своей косметике: она пользовалась исключительно дорогими марками, которых на Серпентарии не найдёшь – только у лучших парфюмеров Лоссая.
– А я могу поделиться с Ирен?
– Если хочешь. Но не думаю, что у сирот должны быть накрашены губы или щеки.
Ирен, как верный оруженосец, сопровождала подругу, чтобы помочь ей переодеться. Косички она ещё не заплела, но, чтобы защитить завивку от ветра, повязала голову платком и стала похожа на старушку, идущую на службу в церковь.
Гримёркой им служила кабина грузовика, задрапированная тяжёлыми гобеленовыми шторами.
(обратно)
Глава четвертая
По пьесе к моменту поднятия занавеса Клара Морейра должна была уже стоять на сцене, наливая стакан воды с сиропом старому Акапулько Андраде, который, прикрыв колени одеялом, ласково поглядывал на неё из инвалидной коляски.
Но в ту ночь занавес, обычно разделяющий актёров и зрителей, отсутствовал, и последние уже добрых десять минут созерцали пустую сцену без всяких признаков декораций: только стол, покрытый трепещущей на ветру скатертью, несколько бутылок, с трудом удерживающих её от полёта, да пара плетёных стульев. Публика, занимавшая места на лавках, стала подавать признаки нетерпения.
В пять минут десятого синьор Дередже поднялся по боковой лестнице и вышел к центру сцены, освещённой куда тусклее обычного: видимо, погода оказалась неблагоприятной и для карбидных фонарей. Дженнаро, полускрытый колонной, начал наигрывать на концертине нежную печальную мелодию.
Директор труппы поклонился и громко (чтобы перекрыть вой ветра) извинился перед почтеннейшей публикой за задержку (незначительные технические неполадки) и бедность декораций, а затем объявил, что действие начинается в гостиной виллы дона Акапулько Андраде.
– Представьте себе роскошную мебель, окна с дорогими портьерами и единственную дверь, через которую видно цветущий сад, – произнёс он и удалился за кулисы.
Вошла Лидия, везущая на коляске старика Акапулько, а за ней Клара со стаканом в руке.
Над скамейками пронёсся удивлённый ропот: все знали, что Клару будет играть Лалага, но к подобной причёске готовы не были.
– Она не сказала, что наденет парик, – усмехнулась Тильда.
– Да что же это за напасть? – заволновалась Баинджа. – При таком ветре длинные волосы совсем закроют ей лицо. Даже и не знаю, как она вообще что-то видит: надеюсь, хотя бы не споткнётся и не рухнет со сцены.
– А я надеюсь, что она не нахватается вшей, – пессимистично пробормотала Лугия.
– Когда смотришь снизу, выглядит довольно высокой, – умилилась синьора Пау.
– Вроде юбка была подшита ниже, – растерянно заметила Аузилия. – Как же так вышло, что теперь она до колена?
– Как полнит её это платье! – пренебрежительно бросила Ливия Лопес, сидевшая на две лавки дальше.
– Дедушка, я приготовила тебе лекарство, – сказала девочка на сцене, передавая стакан старику, для чего ей пришлось повернуться лицом к залу. И тут все поняли, что роль Клары играет совсем не Лалага, а Ирен.
 (обратно)
(обратно)
Глава пятая
Порыв ветра, взметнувший кудри Ирен, сделал её похожей на Медузу Горгону. И, что ещё хуже, пока она подносила стакан к губам старика, другой порыв задрал ей юбку, так что та совсем закрыла лицо, заодно подарив публике великолепный вид на пухлые бедра и белые хлопчатобумажные трусики.
Синьор Карлетто, сидевший в четвёртом ряду, побледнев от негодования, стыда и попрания семейной чести, сердито бросил жене:
– Ты знала?
– Кто, я? Да я бы скорее заперла её на складе, чем разрешила так себя позорить.
– Смотрите, она ещё и губы подвела! Может, мне столкнуть её со сцены? – предложил Пьерджорджо.
– Брось, ещё не хватало устраивать скандал. Что сделано, то сделано, – нехотя пробурчал отец.
– Но потом кое-кто за это заплатит, – пообещала мать.
– Клара, Кларочка, ты что, не слышишь? Тебя мама зовёт! Беги скорее в сад, узнай, чего она хочет, – сказала Лидия, обращаясь к своей любимице.
Этой реплики не было в пьесе. Ирен озадаченно взглянула на синьору Дередже, но та положила ей руку на плечо и буквально вытолкала со сцены.
Вошедшие зять старого Андраде и дворецкий произносили свои реплики, старику становилось всё хуже – в общем, актёры продолжали играть, сокращая паузы и пропуская то, что касалось Клары и её матери.
– Что случилось? Где Лалага? – забеспокоилась Тильда, которая знала пьесу и понимала, что происходит что-то странное.
– Отец! Отец! – раздался через несколько минут крик Консуэло Андраде, в замужестве Морейра. Она ворвалась на сцену, волоча за собой малышку Клару, которая за это время успела переодеться: вместо кружевного платья на ней теперь красовались футболка и рыбацкие штаны. Арджентина в кабине грузовика, поставив рекорд скорости, даже заплела ей две тугие косички: они развевались на ветру, но, по крайней мере, больше не закрывали лицо.
Семейство Карлетто немного расслабилось: в такой одежде Ирен вряд ли смогла бы продемонстрировать свои бедра.
– А Лалага? Что случилось с Лалагой? – перешёптывались зрители: кто, как Пау, в тревоге от необъяснимой подмены, кто из чистого любопытства.
Тебе тоже интересно, читатель? Тогда знай, что Лалага в это время лежала в кабине грузовика в шерстяном свитере поверх трусов и майки, а Адель гладила ей лоб своей прохладной ручонкой.
– Я заварила тебе ромашки, – сказала синьора Дзайас, протягивая чашку.
– Нет, спасибо. Если выпью хоть что-то, меня стошнит, – жалобно прошептала Лалага.
– Должно быть, это ветер. Или давление подскочило. Бедняжка, – сочувственно сказала синьора. – И надо же этому было случиться именно сегодня, когда твоего отца нет!
– Не волнуйся. Скоро всё пройдёт, – Лалага с трудом сдерживала смех при мысли, что играет сейчас куда убедительнее, чем на сцене. На самом деле её вовсе не тошнило: она притворялась, чтобы уступить место Ирен.
Подруги дождались самого последнего момента, чтобы режиссёр уже не мог заменить Клару кем-то другим. Было без четырёх минут девять, когда Лалага, согнувшись пополам, простонала:
– Ой, живот! И голова кружится! Боже! Не могу терпеть! Мне плохо, очень, очень плохо! Я даже стоять не могу! Живот! Принесите тазик, меня сейчас вырвет!
– Скорее позови Адель! Скажи, пусть наденет платье с оборками, – взволнованно приказал режиссёр Арджентине. – Будет сегодня не сиротой, а Кларой. И чтоб немедленно шла на сцену! Беги найди её! Где эта презренная нахлебница?
Но Лалага знала, что Адель, чей выход предстоял только в четвёртом акте, пошла в последний раз поглядеть на уже сложенную тележку торговца сладостями: вдруг, пока тот рубил небольшим топориком нугу, остались кусочки, которые нельзя продать, но можно подарить – например, ей.
– Не стоит. Ирен знает роль даже лучше меня, – сказала больная, быстро стаскивая платье через голову и передавая его подруге. – Правда, Арджентина?
– Да, папочка, она и правда очень хороша, – подтвердила девушка. – А публика будет только рада, если мы задействуем девочку из Портосальво.
– Тогда одевайте её побыстрее, и да поможет нам Бог!
А на тот странный факт, что Ирен накрасила губы помадой того же цвета, что и Лалага, никто из актёров внимания не обратил.
 (обратно)
(обратно)
Глава шестая
Спектакль имел огромный успех, даже несмотря на отсутствие декораций, взъерошенные волосы актрис и громкие возгласы актёров, вынужденных перекрикивать порывы ветра. Даже самые придирчивые отдыхающие, вспоминая о нём впоследствии, признавали, что нечасто так веселились.
Люди попроще были тронуты печальной судьбой Альбертино и Марианны, самоотверженностью Анны-Глории. Никола Керки сопровождал каждую реплику старика Андраде словами:
– Стыдись, капиталистическая свинья! – а когда юная Анна-Глория сбежала в ночь, спасая ребёнка, восторженно воскликнул: – Молодец! Вот как поступают истинные дочери народа! – чем рассмешил всех соседей.
Более искушённые зрители, напротив, наслаждались непроизвольными комическими моментами. Так, например, в третьем акте Акапулько Андраде вложил в руку новообретённого внука бумажник, полный банкнот, но разгневанный Альберто швырнул его обратно. Вот только в этот момент поднялся ветер, и бумажник несколько секунд кружился в воздухе, пока, наконец, провожаемый обеспокоенными взглядами актёров, не приземлился прямо в лицо умирающего, который, заорав от боли и неожиданности, схватился за нос.
Или сиротка Пеппинетта Морони: она весь вечер жевала американскую жвачку, но, увидев нахмуренные брови синьора Дзайаса, не нашла ничего лучше, чем вытащить её изо рта и тут же прилепить на спинку его стула.
Или Тома Пау: прыгая на кровати в апофеозе последнего акта, он грохнулся на пол, но тут же поднялся и заявил сидящей в первом ряду Форике:
– Не бойся, ничего мне с этого не сделается.
Или Джиджи Ветторе: он должен был произнести свою единственную за весь спектакль реплику, но успел её забыть и хохотал, как припадочный, хотя сцена в этот момент была печальная и драматичная. А Ливия Лопес и вовсе споткнулась, толкнув Адель, из-за чего та пролила суп прямо на Клару. (К счастью, кружевного платья синьоры Пау Ирен больше не надевала, иначе оно было бы безнадёжно испорчено. Лалага считала, что Ливия сделала это нарочно.)
В антракте между первым и вторым актом Лалага вернулась в зал в своей повседневной одежде и села рядом с Тильдой.
– Мне стало плохо. Даже стошнило, – шепнула она матери (ещё одна ложь: синьоре Дзайас она сказала, что её только мутит.) – Наверное, это от волнения. Сейчас уже лучше.


– Тогда беги играть свою роль. Во втором акте тебя нет, как раз хватит времени переодеться, – спохватилась Тильда, удивлённая, что Лалага сама до этого не додумалась.
– Нет, я не могу! Меня от одной мысли пробивает холодный пот!
– Должно быть, у тебя глоссофобия, – спокойно прокомментировала синьора Пау.
– А это серьёзная болезнь, синьора? – встревожилась Зира.
– Очень серьёзная. Через двадцать минут у тебя изо рта начинает идти пена и ты умираешь, – объяснил Саверио, тихонько посмеиваясь в кулак. – А ещё она очень заразная.
– Пресвятая дева! – простонала Форика.
– Не слушайте вы его, ему бы всё шутки шутить, – вмешалась хозяйка. – Глоссофобия – это эмоциональный блок, который мешает актёрам выходить на сцену.
– Но ведь во время репетиций девочка была так в себе уверена! – недоверчиво возразила Аузилия.
– Бедняжка Лалага, после стольких трудов – такое разочарование! – сочувственно проговорила Баинджа. – Тише, второй акт начинается.
(обратно)
Глава седьмая
В третьем и четвёртом актах Лалага наслаждалась триумфом Ирен. Она ни на минуту не пожалела ни об отказе от роли в пользу подруги, ни о том, что была единственной в Портосальво девочкой младше двенадцати лет, которая в тот вечер не вышла на сцену даже в самой крошечной роли.
Несмотря на все заверения Франческо она понимала, что в её Кларе нет ничего особенного – так, второстепенный персонаж, нужный лишь для обмена репликами с настоящими актёрами. А вот Клара в исполнении Ирен была яркой личностью, персонажем, сравнимым по силе воздействия с лучшими ролями Адели и Арджентины. Ирен инстинктивно понимала, как заставить публику смеяться, вздрагивать и плакать одним движением бровей, жестом, тоном голоса или даже паузой между словами.
Все их с Франческо диалоги обладали собственным внутренним ритмом, с первой же секунды наполнялись эмоциональным накалом. Когда сестра Пентименто упала замертво, Ирен встала над её трупом с таким отчаянием на лице, что люди на лавках переживали за неё больше, чем за оставшегося сиротой Альберто или даже за саму усопшую.
Тильда, как обычно, хихикала, на лице синьоры Пау застыла непроницаемая улыбка сфинкса, но не столь искушённые зрители не скрывали своего энтузиазма по поводу внезапного проявления таланта «девчонки из бара».
Синьор и синьора Карлетто, а заодно и Пьерджорджо, ещё во время первого акта захваченные всеобщей эйфорией, постепенно перестали стыдиться и даже начали подумывать, что, возможно, Ирен не стоит так уж строго наказывать за непослушание.
Когда директор труппы объявил, что настал момент, когда занавес, если бы он был, должен опуститься, потому что наступает время антракта, они больше всех аплодировали и кричали: «Браво, Клара! Молодец!»
После третьего акта Карлетто уже хвастались дочерью больше, чем следует достойным и сдержанным членам общества, а к финалу четвёртого столь надменно оглядывали соседей по лавке, чьи дети всего лишь прыгали на кроватях в числе сирот, что те, видимо, должны были лопнуть от зависти.
А Ирен играла так, как будто усилием воли заставила себя забыть об их присутствии, хотя бы пару часов не думать о реакции родителей и обо всем прочем, что может случиться потом. Потом... потом будет потом, и уж как-нибудь она справится с этой ситуацией.
Но когда, отыграв финал, она вышла вместе с другими актёрами к краю сцены, чтобы в последний раз удостоиться аплодисментов, и увидела сияющее лицо отца, мать, вытирающую слезы умиления, и Пьерджорджо, который хлопал громче всех, то сразу поняла: все грехи прощены. Тогда она поискала в зале Лалагу – та оказалась прямо перед сценой. Поймав взгляд Ирен, она приподнялась на цыпочки, перегнулась через край дощатого настила и погладила подругу по ноге (точнее, по её собственной, Лалагиной, белой кожаной сандалии с девчачьим розовым атласным бантом, пришитым синьорой Пау: Ирен в спешке так и не переобулась).
Актёры всё кланялась и кланялась. С одной стороны руку Ирен держал Альберто, с другой – сестра Пентименто (воскресшая ради своей доли аплодисментов). Рука Франческо почему-то оказалась потной и горячей.
Потом Клара с сиротами спустились со сцены, отправившись искать рассеянных по лавкам родителей, а символический занавес поднялся ещё раз – для комического финала, и все расхохотались, увидев Пикку и Тома. Так и не сняв драных сиротских ночных рубашек, они носились взад и вперёд по сцене за заводным игрушечным автомобильчиком ярко-красного цвета, то и дело натыкаясь на Чиччо и Джиджетто, каждый из которых нёс на плече по лестнице и бил другого по голове всякий раз, как оборачивался.
Зира и Форика сидели с открытыми ртами, разрываясь между смехом, восторгом и яростью.
– А мы-то ни о чём и не подозревали! Вот ведь врунишки! Удивительно, как двое малышей смогли удержать это в секрете.
Даже Лалага потеряла дар речи. Мать же, напротив, только посмеивалась в рукав, потому что ей, единственной в семье, близнецы доверились, получив в ответ разрешение поучаствовать в розыгрыше.
К тому времени, как спектакль закончился, на сей раз уже по-настоящему, самые юные зрители (бывшие сироты, Клара и та же Лалага) настолько устали, что родители сразу же разобрали их по домам, не дав даже пройти за кулисы, чтобы поздравить актёров, как-никак, коллег, пусть даже всего на один вечер.
– Завтра утром можете пойти в порт и помочь им с отъездом, – сказала двум своим сонным сыновьям Сюзанна Ветторе. – Там у вас будет сколько угодно времени на объятия и прощания.
Даже близнецы заснули на руках у своих нянь. Но уже у самого дома Пикка вдруг на мгновение встрепенулась и невнятным голосом сообщила шедшей рядом Лалаге:
– А знаешь, я думала, что Чиччо играет твой друг Франческо. Но это не он.
– Не может быть!
– Это был кто-то другой. Не знаю, кто именно, но мне показалось, что это папа Адели.
– Да брось! Это Франческо, ты просто не узнала его в гриме, – убеждённо сказала старшая сестра.
А уже засыпая, Лалага услышала сквозь завывания ветра рокот винтов пограничного вертолёта.
«Наверное, ловят контрабандистов», – подумала она, но, поскольку такие вещи её не интересовали, только удовлетворённо вздохнула и провалилась в сон.
(обратно)
(обратно)
Часть восьмая
Глава первая
Пробило восемь, но Тильда ещё спала, прикрывшись рукой от пробивающегося сквозь ставни света. Лалага лежала неподвижно, чтобы не разбудить кузину. Она прислушивалась к вою ветра, от которого содрогались все окна в доме, и размышляла.
Думала она об Ирен и о том, что никогда не видела её такой счастливой, как вчера вечером. Возвращая платье и туфли, Ирен не сказала ей ни слова, только крепко обняла. Впрочем, никто и не сомневался, что она простила Лалагу. Их дружба, казалось, вернулась к тому безоблачному времени, когда между ними не случалось недопонимания. Тогда они были вдвоём против целого мира. И против Тильды, которая – вон, взгляните-ка на неё! – спит себе сном младенца, не зная об их тайне.
Лалага думала о будущем – будущем подруги. Может, Ирен действительно попробовать стать актрисой? Но как это сделать, если живёшь на уединённом островке, где нет ни театра, ни кино, ни даже электричества, чтобы смотреть телевизор?
Возможно, если бы она стала хорошей швеёй, то в двадцать один год, став совершеннолетней, смогла бы поехать работать в Лоссай, открыть там модное ателье, заиметь стильную клиентуру и заработать достаточно, чтобы купить абонемент на весь театральный сезон в «Блеске». Будет ходить с Лалагой в гримёрку, брать автографы у актёров или даже окажется в списке дублёрш. А потом, может быть, заезжий американский режиссёр заметит её и возьмёт в Голливуд, как это случилось с Анной-Марией Пьеранджели.
О своём будущем Лалага тоже подумала. Осенью, которая начнётся уже совсем скоро, она вернётся в интернат. Матушка Эфизия попросит посмотреть её летний дневник, а когда она откажется, напишет ей замечание. Но нет, она не может отказаться, не может сказать: «Я вела дневник, но он не для показа». Придётся снова соврать, притвориться лентяйкой и заявить: «Я ничего не написала. Каждый день думала: «Завтра начну», – но всё время откладывала. Просто на Серпентарии никогда не случается ничего интересного...»
А потом, на исповеди, она признается, что врала, врала много, и одна ложь неизбежно тянула за собой другую. Но никому, даже падре Агостино, она не смогла бы рассказать обо всём в деталях: как объяснить то, что случилось этим летом, летом любви, тайны, недомолвок, обмана и предательства? Значит, снова прятаться за расплывчатыми фразами в надежде, что тогда, не вдаваясь в подробности, он просто назначит ей обычную епитимью: «Три pateravegloria
[12] перед статуей Мадонны».
Потому что нельзя же рассказать о том, как эта история начиналась, о любви Тильды и Джорджо, которым она помогла обманывать своих родителей и всю семью. А вдруг дон Агостино шпионит за ними? Он давно приятельствовал с бабушкой и дедушкой Марини, и вполне мог бы предупредить, что обе их внучки – лгуньи, каких свет не видывал, и что за Тильдой нужен глаз да глаз. То-то старики рассердятся!
Но нет, конечно, дон Агостино никому ничего не расскажет: он ведь священник, ему запрещено разглашать тайну исповеди.
Хотя вот дядя Даниэле, будучи врачом, тоже должен хранить свои профессиональные тайны, а ведь он ещё в марте сказал Тильде, причём за столом, перед всеми:
– Лучше бы тебе не общаться больше с этой девчонкой Кадедду, дочерью ювелира.
– Это почему? – насупилась тогда Тильда: она терпеть не могла, когда про подруг говорили гадости.
– Об этом не стоит распространяться, – понизил голос дядя, – но сегодня с утра я видел её флюорографию. Похоже на очаговый туберкулёз правого лёгкого. Дело худо, он вполне может быть заразным, так что лучше вам не встречаться.
Дядя Даниэле, как и папа, буквально помешался на этой теме: с тех пор как несчастный дядя Марчелло скончался от туберкулёза в возрасте всего лишь двадцати лет, семья жила в страхе перед невидимой бациллой Коха.
– Но ведь она учится в моем классе! – возмутилась Тильда. – Как я могу с ней не общаться?
– Придумай какой-нибудь предлог.
– А она сама-то, бедняжка, знает?
– Нет. Её родители попросили сказать, что у неё тяжёлая анемия.
Тильда была в ярости. Она заявила, что если ей не разрешат объяснить Агнессе Кадедду и другим подругам, почему она не может с ней общаться, то будет продолжать вести себя как обычно. А на риск заражения ей плевать.
– Но ты не можешь ей ничего объяснять! – рассердился дядя. – Всем сразу станет понятно, что ты узнала об этом от меня, а я не должен разглашать врачебные тайны.
К счастью, вопрос тогда решился сам собой, потому что Агнесса Кадедду исчезла: в один прекрасный день она просто не пришла в школу. Скорее всего, её отправили в какой-нибудь санаторий в горах. Так что Тильде в любом случае не пришлось решать, раскрывать ли окружающим врачебную тайну.
Лалага размышляла, а ветер всё гремел и гремел ставнями. Должно быть, сегодня на пути к «большой земле» катер изрядно помотает по волнам.
(обратно)
Глава вторая
К десяти, несмотря на шторм, островитяне собрались в порту, чтобы
поприсутствовать при отбытии «Друзей Фесписа», словно именно сегодня те давали свой последний спектакль.
Вечерние кассовые сборы превысили самые смелые ожидания, но с утра все без исключения актёры выглядели мрачными. Пожалуй, подумала Лалага, даже чересчур мрачными, чтобы это можно было списать на печаль от расставания с островом: они ведь привыкли к бродячей жизни и не имели причин привязываться к Серпентарии. И тем не менее актёры были слишком угрюмы, даже если принять во внимание предстоящее плавание: конечно, в шторм катер будет скакать по волнам, словно балерина, но ведь рыбацкие лодки сегодня на рассвете вышли в море, так что больших проблем не предвиделось.
– Наверное, что-то случилось, – заметила Ирен, указывая на группу местных старушек, с сочувственным видом обступивших синьору Дзайас.
– Слыхали про Франческо? – раздался вдруг тихий голос: видимо, кто-то пришёл раньше других и уже успел поговорить с актёрами.
– Слыхали что? – обернулась Лалага, которая как раз пыталась отыскать друга в толпе. Она хотела передать ему подарок, который сделала своими руками: небольшую коробку из-под лекарств, на дно которой наклеила мелкие ракушки, чтобы получился орнамент. «
Это чтобы ты запомнил меня и Ирен, – гласила записка.
– И спасибо тебе за все. Надеюсь, когда-нибудь мы свидимся снова. Твоя подруга Лалага». Но молодого человека не оказалось ни в кабине старого американского грузовичка, ни среди тех, кто грузил багаж, не вошедший в кузов.
– Слыхали о Франческо? – это подошла Адель. Она обняла подруг, но голос, обычно чистый и звонкий, сегодня казался хриплым и холодным.
– Нет. Что с ним? Я нигде не могу его найти.
– Он не с нами, его забрали ночью.
– Кто забрал?
– Пограничники.
Что за чушь! Лалага не верила своим ушам. За что его арестовали? Что он такого сделал?
– Нет, что ты! Ты все так не поняла, – всплеснула руками Адель. – Он заболел, а твоего отца дома не было, пришлось везти Франческо на вертолёте в Лоссай, в больницу.
– Но когда он заболел? – спросила Ирен.
– Смотри-ка, ты тоже ничего не заметила! Ему стало плохо прямо на сцене во время последнего акта, но он сумел дотянуть до конца. А вот к комическому финалу не мог даже встать, отцу пришлось его заменить.
Значит, Пикка была права, подумала Лалага. А она, считавшая себя подругой бедняги Франческо и убеждённая, что узнает его в любом гриме, даже не заметила подмены!
– Но к чему такая спешка? С ним что-то серьёзное? Какой диагноз?
– Не знаю, – вздохнула Адель, пожимая плечами. – Температура была очень высокая. В прошлом году он проболел всю зиму, но потом выздоровел.
С террасы бара донёсся крик синьоры Карлетто, и Ирен пришлось бежать домой. Лалага дошла с ней до лестницы между двумя рядами олеандров и встретила Арджентину – согнувшуюся под грузом сумок и пакетов, бледную, под глазами мешки, растрёпанные сальные волосы наскоро прихвачены резинкой.
– Видала, как оно бывает? – обречённо сказала девушка, борясь с ветром, который раз за разом закручивал юбку вокруг её лодыжек.
– Что бывает?
– Да всё как обычно. Франческо нельзя играть на свежем воздухе, вечером становится слишком сыро. Доктора в Серрате столько раз ему говорили, да что толку? Мы же актёры, а где сейчас найдёшь театр со стенами?
Лалага не знала, что сказать, а расспрашивать не посмела. Что значит «как обычно»? Ей было до боли жалко не только Франческо, но и его сестру, родителей. Она восхищалась их чувством ответственности: чтобы не смущать коллег, Франческо стиснул зубы и с истинным героизмом доиграл спектакль до конца – может, ещё и потому, что не хотел испортить триумф Ирен. Вот он, неписаный закон театра, который всё время приводят в газетах и книгах: «Шоу должно продолжаться несмотря ни на что».
Ей вспомнилось бледное лицо, запавшие глаза, подчёркнутые темным гримом... Теперь она понимала, что эти глаза горели не только от наигранного гнева, обращённого против старика Андраде, но и от настоящей лихорадки, от неподдельного истощения. Это было красивое, благородное лицо, лицо античной статуи, Антиноя, которого мать показывала ей в Риме, в музее Ватикана. Тогда Лалага ещё записала в дневнике путешественника: «
Надо мной все смеются: говорят, что я влюбилась в статую».
А теперь, значит, она понемногу, сама того не осознавая, влюбилась в Франческо? Поэтому, значит, ей так хочется плакать?
– Ты сама-то как? – мягко спросила Арджентина. – Живот прошёл? Жаль, что вчера ты не смогла выйти на сцену.
– Ничего, Ирен отлично меня заменила.
– Да, она молодец, твоя подруга. Слушай, мне уже пора идти, меня ждут. Прощай, Лалага, и спасибо тебе за всё.
Арджентина обняла её и поцеловала в щеку. Лалага сунула свою коробку в пакет:
– Пожалуйста, когда увидишь его, то есть Франческо, можешь пожелать от меня здоровья и всего самого наилучшего? И ещё передать этот подарок? Я сама сделала.
Они отошли в сторону, пропуская толпу людей, высадившихся с прибывшего катера. Лугия с сумкой в руке, плача, обнимала синьору Дередже. При виде Лалаги лица актёров просветлели.
– Эх, если бы твой отец вчера остался здесь, может быть, и Франческо был бы сейчас с нами – вздохнула Жизелла, протягивая ей для поцелуя Чечилию.
А дедушка взял её за обе руки и, заглянув в глаза, шепнул:
– Ты молодец, что вчера вечером почувствовала себя плохо. Жаль, мы сами не поняли, что твоя подруга сыграет лучше тебя.
И вот наконец катер покинул порт. Но люди на причале всё махали руками, пока он, подпрыгивая на пенных гребнях волн, не скрылся за Ржавым мысом.
Ирен так и не вернулась – наверное, задержалась в баре: в ветреные дни многие купальщики, не имея возможности пойти на пляж, отправлялись туда с самого утра, чтобы поиграть в карты, и работы было больше, чем обычно.
Лалага запахнула на груди синюю шерстяную кофту с золотыми матросскими пуговицами. У неё замёрзли ноги. «Наверное, стоило надеть брюки», – подумала она.
(обратно)
Глава третья
Когда Лалага пришла домой, Тильда ещё не встала.
– Голова просто раскалывается, – заныла она, увидев, что кузина входит в комнату. – Не выношу этот чёртов левант. В Плайямаре он не такой сильный. Нет, не открывай ставни, у меня глаза болят.
– Я же говорила тебе вечером, надень что-нибудь на голову, – вмешалась заглянувшая на шум синьора Пау. – Но ты же ничего не хочешь слушать: сидишь в куртке, а капюшон даже и не думаешь накинуть. И не вини во всем Портосальво: в Плайямаре тоже бывает сыро по ночам.
– Вечно вам, женщинам, всё не так, – рассмеялся Саверио. – Вчера плохо было Лалаге, сегодня тебе. Придётся после обеда померить Пикке температуру. Мама, почему бы нам не открыть женскую больницу?
– Не говори ерунды! – воскликнула Лалага. – Мама! Ты знаешь, что случилось вчера вечером? Франческо Дзайаса увезли в Лоссай, в больницу. Пришлось вызывать вертолёт, – добавила она с тревогой.
– Несчастный случай? – поинтересовалась Тильда, приподнимая голову с подушки.
– Нет, он заболел. Я не поняла, какой у него диагноз, но говорят, что это рецидив, что он уже болел зимой. Ой, мама, как ты думаешь, он может умереть?
– Надеюсь, что нет. Не делай из мухи слона. В больнице о нем позаботятся.
– Надо же, а он ведь совсем не выглядел больным, – заметила Тильда.
Обед подали в обычное время. После сиесты синьора Пау с подругами и близнецами, борясь с ветром, отправились в сторону Ласточкиного мыса полюбоваться штормом. С приходом леванта волны, бившиеся там о скалы, достигали невероятной высоты и выглядели очень живописно.
Совершенно вымотанная Тильда осталась дома: из-за разыгравшейся мигрени она даже не могла читать. Пару дней назад она закончила «Униженных и оскорблённых» и начала третий роман того же автора, «Идиот».
«Наверное, каждый раз, взяв книгу в руки, она вспоминает о Джорджо», – злорадно подумала Лалага. И как только кузина умудряется так быстро прочитывать двухтомные романы из почти тысячи страниц?
Она пошла в бар в надежде поговорить с Ирен, но подругу завалили делами, и та, при всем желании, ничем не могла помочь. Окончательно загрустив, Лалага спряталась в подвале под террасой и принялась играть сама с собой в «Вопросы на кресте». Теперь, когда ноги загорели, процарапанные буквы отчётливо выделялись на коже. Первый этап Лалага пропустила: всё равно её интересовал только Франческо.
Она начертила крест, подписала по углам «дружба», «страсть», «ненависть» и «равнодушие», а потом произвела подсчёт. Оказалось, что Франческо испытывал к ней пламенную страсть. Тогда она уткнулась лбом в колени и заплакала.
(обратно)
Глава четвертая
Следующие два дня выдались столь же печальными. Вслед за актёрами уехали оркестр, продавец сладостей и тир. Начали собираться и многие отдыхающие.
Мать велела Лалаге и Саверио заняться каникулярным домашним заданием. Заходил местный школьный учитель: синьор и синьора Пау очень просили его взять близнецов в первый класс, но он опасался, что они слишком недисциплинированные.
Мигрени у Тильды больше не повторялись, и она полностью погрузилась в чтение «Идиота», да так, что всю ночь не могла заставить себя погасить свечу.
На третьи сутки ветер стих. А на четвертые наступил такой приятный сентябрьский день, что «Моя дочурка Джиролама» снова отчалила от пирса и направилась к пляжу, взяв на борт весь свой экипаж.
С первым послеобеденным катером домой вернулся мрачный доктор Пау. Он позвал жену в амбулаторию, и они просидели там добрых полчаса. Потом мать послала Форику поискать Лалагу, которая, как обычно, отправилась на прогулку с Ирен.

Форика нашла их только спустя почти два часа: они забрались аж на самую вершину Пограничной горы, чтобы насобирать кремней.
– Спускайся сейчас же, отец хочет с тобой поговорить, – объявила она.
– Чего ему надо? – спросила Ирен подругу.
– Не имею ни малейшего понятия!
Отец ждал её, сидя за столом.
– Закрой дверь и садись. Ты должна пообещать мне, что скажешь правду, – он не казался сердитым, скорее, печальным. И очень взволнованным.
– Что случилось?
– Помнишь, я не хотел, чтобы ты общалась с этими актёрами? Твоя мать всегда говорит, что я преувеличиваю, но, к сожалению, на сей раз я оказался прав.
– Папа, что случилось? – он не знала, почему, но у неё сразу же вспотели руки, как будто из обеих ладоней забило по крошечному гейзеру.
– Послушай, ты помнишь, я просил тебя не пользоваться их помадой?
– Я и не пользовалась! – она уже почти кричала. – Мама одолжила мне свою!
– Стаканы, столовые приборы... Ты же не ела с ними?
– Нет!
– Не пользовалась их салфетками, полотенцами?
– Нет!
– Теперь эта пьеса. Ты её везде таскала с собой. Наверное, читала даже в постели? Подумай хорошенько.
– Нет.
– И я очень надеюсь, что ты не менялась леденцами и жевательной резинкой с их детьми – я знаю, вы, дети, обожаете эту гадость.
– Я уже не маленькая, папа. Но зачем тебе все это знать?
– Лала, мне очень жаль, но я должен тебе сказать, что тот приятный молодой человек, который спас близнецов, помнишь?
– Что с ним, папа? – от беспокойства у неё пересохло во рту, как будто вместо языка туда вложили лист наждачной бумаги.
– Я должен тебе сказать, что он умер. От туберкулёза. Да, я знаю, это очень печально... Иди к папе.
Он усадил Лалагу на колени, как маленького ребёнка, гладил по голове и рассказывал, что заехал в больницу в Лоссае, чтобы поговорить с коллегой, и вскоре услышал о пациенте, которого привезли на вертолёте с Серпентарии. Думали даже, что это он, доктор Пау, его привёз. Он навестил Франческо в палате – несмотря на высокую температуру, тот был в сознании и сказал:
– Поблагодарите Вашу дочь за подарок и скажите, что он мне очень понравился.
Болезнь протекала очень тяжело, он кашлял, сплёвывал кровь. В лёгких живого места не осталось из-за множества каверн – их обнаружили по рентгеновскому снимку. Но врачи думали, что вытянут его, ведь сейчас, с появлением новых лекарств, всё уже не так плохо, как раньше. Правда, пришлось бы бросить театр и провести несколько лет в санатории.
В общем, надежда оставалась.
Но потом случился ещё один кризис, и у Франческо не выдержало сердце.
– Ему уже ничем нельзя было помочь, Лала. Может, так оно и лучше. Бедный мальчик, при такой ужасной жизни он всё равно не продержался бы дольше пары лет.
Лалага молча шмыгала носом. Ей казалось, что вокруг не настоящая жизнь, а спектакль. Смерть Франческо виделась ей не более реальной, чем Альберто Лимонта, Рашель с отрезанной рукой или Пиладе с Анджелиной, о которых они с Ирен столько говорили, но никогда не знали.
Потом отец усадил её на край кровати, задрал свитер на спине, заставил глубоко вздохнуть, прослушал стетоскопом и простучал позвоночник костяшками пальцев.
– Кажется, порядок. Если ты сказала мне правду, никакой опасности нет. Пойдём-ка домой, нас уже ждут к ужину.
– Я не хочу есть, папочка, лучше сразу пойду в постель.
– Хорошо. Пусть Лугия заварит тебе ромашки. А если не сможешь заснуть, скажи, дам тебе пилюлю от бессонницы, один разок не повредит.
(обратно)
Глава пятая
Но Лалага сразу же провалилась в глубокий сон. Ей снилось, будто она купает младенца – может, Чечилию, а может, и нет. Лалага положила его в детскую ванночку и начала намыливать. Было много пены, даже слишком много пены, хотя мыла у неё в руке уже не осталось. Оказалось, что ребёнок весь сделан из мыла, и вода постепенно его растворяет: вот уже стёрлись черты лица, вот от носа остался только почти незаметный бугорок, вот исчезли уши...
Перепуганная Лалага видела, как младенец становится всё меньше, а потом и вовсе исчезает в мыльной пене. И как ей теперь объясняться с его матерью, когда та придёт за ним? Потом сон поменялся. Было темно, но она знала, что находится внутри пещеры или, скорее, каверны с тёмно-красными стенами. Входа она не видела, а воздух поступал, казалось, отовсюду. Чей-то голос произнёс: «В лёгких обнаружено множество каверн», – и стены вдруг стали со свистом сжиматься, словно она была внутри воздушного шара, в котором проделали дырку.
Потом ей снилось что-то ещё, но с утра она вспомнила только эти два момента.

Лалага не стала рассказывать о них ни Тильде, ни отцу. Ей вообще не хотелось говорить ни с кем, даже с Ирен. Она чувствовала странную растерянность, как будто смерть Франческо так и осталась сном и, не заговаривая о ней с другими, Лалага могла удержаться в этом смутном состоянии нереальности.
Тем не менее, несмотря на её молчание и на то, что родители, никогда не любившие сплетен, тоже ничего ни с кем не обсуждали, к вечеру известие о смерти Франческо Дзайаса разнеслось по всей деревне. Жители Портосальво встретили его с недоверием и тревогой.
– Несчастная мать, – говорили женщины.
– Бедняга Франческо! Такой молодой! – судачили рыбаки.
– С богачом бы такого не случилось, – сердито заявил Никола Керки, швырнув на прилавок коробку химических карандашей, зачем-то понадобившихся учителю в шесть часов вечера, прямо перед закрытием магазина.
– Да бросьте! В девятнадцатом веке богатые мёрли как мухи, – возразил ему учитель. – Заболеть чахоткой даже считалось шиком. Они уезжали лечиться на Французскую Ривьеру и там же умирали. Поезжай-ка в Ниццу да сходи поглядеть на могилы кладбища Симье: какая разница, богатыми или бедными были все эти английские монахини, умиравшие одна за другой в возрасте всего лишь семнадцати лет? Или Роберт Льюис Стивенсон – а ведь его отец был одним из самых богатых людей Шотландии.
– Вы, однако, говорите о том времени, когда наука и прогресс ещё не восторжествовали над невежеством, – упрямо повторял Никола. – А сегодня у нас есть рентген, пенициллин, другие лекарства...
– Когда придёт наше время, все мы отправимся на тот свет, с лекарствами или без них. Закажите лучше поминальную для этого несчастного грешника, – вмешался дон Джулио, которому Никола как раз взвешивал полфунта гвоздей.
– Грешника? О своих грехах лучше пекитесь, падре. Кто, как не Вы, сдал сарай под жильё для этих несчастных? – гнул своё продавец. – Может, если бы парень спал в настоящей постели, он бы не умер.
– Никола Керки, ты что же, думаешь, в России нет туберкулёза? – сухо поинтересовался священник.
В этот момент в магазин вошла Тильда с романом под мышкой. Она услышала только последний вопрос.
– Есть ли в России туберкулёз? – вмешалась она, стремясь показать свои знания по этому вопросу. – При таком-то морозе? Там его сколько хочешь. Почти все русские, по крайней мере, все персонажи Достоевского им болеют – вот, например, Катерина Ивановна, жена Мармеладова, мачеха Сони в «Преступлении и наказании».
Трое мужчин посмотрели на неё так, словно она говорила по-гречески, и Тильда, почувствовав себя бесконечно более образованной и информированной, даже прониклась к ним некоторым презрением. Возможно ли, чтобы школьный учитель не знал «самого великого и самого известного из русских писателей», как было написано в предисловии к этим серым томам? Потом она вдруг поняла, что вмешалась в чужой спор.
– Простите, синьор Керки, можно мне пилочку для ногтей?
– Нет! – прорычал продавец и, поймав её изумлённый взгляд, добавил столь же сердито: – Ещё не завезли.
– Не сердитесь. Никола просто оплакивает смерть Франческо Дзайаса, – саркастически заметил учитель.
– Что? – побледнела Тильда.
– Ты что же, не знала? Тот молодой актёр из труппы «Друзей Фесписа», Чиччо, скончался позавчера от туберкулёза.
(обратно)
Глава шестая
Тильда резко повернулась, не попрощавшись выскочила из магазина и побежала домой.
– Где Лалага?
– Поищи в баре, – ответила Аузилия. – Я слышала, она собиралась помочь Ирен.
Ирен за стойкой бара протирала бокалы. На вопрос Тильды он кивнула в сторону внутреннего двора, где Лалага переставляла ящики с пустыми бутылками из-под газировки и оранжада.
– Пойдём со мной, – выпалила запыхавшаяся кузина.
– Куда?
– Туда, где нас никто не услышит, – она помедлила, потом решительно добавила: – В лодку.
Схватив Лалагу за руку, Тильда потащила её за собой вниз по лестнице, к причалу, втолкнула в лодку, развязала канат, запрыгнула сама и, даже не присев, отчаянно погребла к Репейному острову.
– Могу я хотя бы узнать, что случилось?
– Поклянись никому не рассказывать то, что я тебе сейчас скажу.
– Обещаю, – сказала Лалага без всякого энтузиазма: последнее, чего ей хотелось в этот грустный день, – это услышать ещё один секрет Тильды.
– Поклянись жизнью Пикки и Тома. Чтоб им умереть на месте.
– Должна тебе напомнить, что я умею держать язык за зубами.
– Ах да, и Ирен ты, естественно, тоже ничего не скажешь.
– Тьфу ты! Я у тебя ничего не просила. Я не хочу ничего знать. Если не хочешь, можешь ничего мне не говорить.
– Лалага! – сказала Тильда, немедленно перейдя от угрожающего тона к умоляющему. – Если мне нельзя рассказать об этом тебе, кому ещё я могу рассказать?
– Ладно, клянусь, – фыркнула Лалага.
Кузина перестала грести и посмотрела ей прямо в глаза.
– Мы с ним целовались.
– С кем?
– С Франческо Дзайасом. Мы с ним целовались три раза.
Лалага ахнула, будто мяч, брошенный со всей силы, ударил её прямо в грудь (что с ней и правда случилось однажды, на баскетбольной площадке в «Благоговении», под сенью лавров и пиний).
– Когда? – проговорила она прерывающимся голосом.
Это случилось дней десять назад, когда Лалага с Ирен были слишком поглощены сменой ролей и не осознавали, что Тильда как-то уж слишком часто присутствует на репетициях, а Франческо так и поедает её глазами.
Но сам он никогда не решился бы сделать первый шаг. Парень прекрасно понимал, что у них слишком большая разница и в возрасте и, прежде всего, в социальном положении, а потому знал своё место.
Социальные барьеры начали рушиться, когда приехал оркестр. Если взрослые отдыхающие могли танцевать с островитянами и «Друзьями Фесписа», почему им двоим нельзя? Настал момент, когда Тильда пригласила молодого актёра на танец, а тот, прежде чем принять предложение, смущённо покраснел, как девчонка.
– Вы танцевали танго? – этот танец теперь для Лалаги был неразрывно связан с концепцией запретного плода, иначе говоря, греха.
– Нет, медленный танец. И после отошли от танцпола и спустились к причалу, чтобы поглядеть на звёзды.
Луна отражалась в море, с площади доносилась музыка, где-то в темноте сладко благоухал отцветающий жасмин. Охваченная романтическим настроением Тильда, не слишком раздумывая, тихо взяла Франческо под руку и положила ему голову на плечо, как всегда делала, когда ходила в кино с Джорджо.
Но Франческо было уже не тринадцать с половиной. Очевидно, он истолковал этот жест как приглашение или, по крайней мере, разрешение. Он притянул её голову к себе, она подняла глаза и – не могу поверить, что это происходит со мной! – они поцеловались.
– Он хорошо целуется? – выдохнула Лалага, на мгновение забыв обо всем остальном.
– Да как ты не понимаешь! – дёрнулась Тильда. – Мы целовались, как взрослые, рот в рот, со слюной. Три раза. А теперь он умер от заразной болезни.
Она взглянула на младшую сестру, словно пытаясь найти в ней защиту от собственных страхов. Но взволнованная Лалага едва могла говорить. Она лишь чуть слышно пробормотала:
– Мы прямо сейчас вернёмся домой и всё расскажем папе.

Тильда с горящими глазами вскочила с сиденья:
– Даже и не мечтай. Об этом никто не должен знать.
– Но...
– Что мы им расскажем? Что я целовалась с мужчиной? Ты в своём уме? Я целовалась со взрослым, с актёром. Только не с настоящим американским актёром – я целовалась с бродягой, с нищим. Вспомни, что они устроили из-за Джорджо! А на этот раз будет настоящая трагедия. Нет, они не должны знать, я этого не перенесу.
Тыльной стороной ладони она утирала слезы, катившиеся по щекам. Лалаге стало безумно жалко кузину.
– Ты была сильно влюблена в Франческо? – спросила она. – Мне кажется, я ничего подобного не заметила.
– Не знаю, была ли я влюблена, – сказала Тильда неуверенно. – Если честно, не думаю. Я жалела его. И потом, мне, наверное, захотелось вернуть то, что я чувствовала с Джорджо. Не смотри на меня так! Этого бы не случилось, если бы Джорджо меня не предал. Я люблю его, а не Франческо. И ещё... Можешь сколько угодно говорить, что я бессердечная, но когда на следующий день в театре я увидела, как в комическом финале его с этим красным носом-шариком пинают ногами на виду у всех, как он катается по земле и воет, словно побитая собака, мне стало стыдно за то, что случилось. С другой стороны, после той ночи он тоже не искал со мной встречи.
– Бедняга Франческо! – вздохнула Лалага. Её сердце было переполнено состраданием.
– Веришь ли, мне тоже очень жаль. Думаешь, легко было после того, как его отвезли в больницу, делать вид, что ничего не происходит? – всхлипывала Тильда. – Мне так жаль! Но это не моя вина. Как я, по-твоему, должна была поступить? Обрядиться в чёрное, как вдова?
Лалага протянула ей свой носовой платок.
– И что нам теперь делать?
– Ничего, – ответил кузина решительно.
– Тогда зачем ты мне все это рассказала?
– Потому что ты моя двоюродная сестра, нет? Слушай, ты единственная, кто об этом знает, – настаивала Тильда.
– Но в этот раз ты точно должна поговорить с кем-то из взрослых...
– Нет!
– Хотя бы с папой. Это слишком серьёзно. Ты не можешь решать сама...
– Это ТЫ не можешь решать, рассказывать или нет. Это МОЙ секрет. Если ты кому-нибудь расскажешь, я тебя убью и ты попадёшь в ад. Ты хоть помнишь, что клятву давала? Ты же клялась жизнью близнецов! Хочешь, чтобы с ними случилось что-то ужасное?
– Да ведь это с тобой может случиться что-то ужасное!
– Тьфу! Ты хуже, чем твой отец. И такая же трусиха! Кто сказал, что я обязательно должна заболеть? Смотри, если услышу от тебя хоть звук об этой истории, будешь иметь дело со мной.
Тильда снова взялась за вёсла, и лодка, сделав пол-оборота, двинулась в направлении деревни.
Теперь, когда она открылась Лалаге, казалось, будто все её страдания исчезли, словно переложив груз тайны на плечи других людей, сама она это бремя сбросила.
Лалага же, напротив, чувствовала, что подобная тяжесть может её раздавить. Он понимала, что последний секрет Тильды, в отличие от предыдущих случаев, – не из тех, что можно безнаказанно раструбить на все четыре стороны. Её приводила в ужас мысль, что о нём станут болтать, – тогда вся их семья будет опозорена. Тильду, вероятно, даже не пустят больше в школу, а то и вовсе объявят опасной для одноклассниц и запретят с ней общаться, как это случилось с бедной Агнессой Кадедду. Может быть, даже она, Лалага, больше не увидит двоюродную сестру.
Но делать вид, что ничего не случилось, было столь же опасно. Рано или поздно об этом узнают. И, может, будет уже слишком поздно, как с несчастным дядей Марчелло.
Когда они вернулись на берег, Тильда привязала лодку к ржавому железному кольцу и легко запрыгнула на причал, весело щебеча о скором возвращении в Лоссай. А у Лалаги свело живот, как будто кто-то завязал его в узел, и в горле стоял комок.
Она ужасно злилась на кузину. Свалить все проблемы на другую, запрещая той хоть как-то облегчить душу, а потом весело бежать паковать чемоданы – удобно, да? Вот такая она, Тильда: чокнутая, безответственная и эгоистичная. Как будто у Лалаги мало собственных проблем и печалей!
(обратно)
Глава седьмая
Значит, новая тайна, соединившая Лалагу с Тильдой и отдалившая от Ирен. И эта тайна гораздо серьёзнее и важнее всех тех глупостей насчёт Джорджо и незаконных свиданий.
Эти последние дни в Портосальво Лалага провела в ошеломлении и неопределённости. Впервые в жизни долг заставлял её выбирать между двумя одинаковой важными, но совершенно противоположными вариантами. Как ей быть: предать доверие кузины, чтобы спасти ей жизнь, не считаясь с её собственными желаниями, или оставаться верной данному слову, уважать её желания – и лицом к лицу столкнуться с возможными катастрофическими последствиями?
Иногда по утрам она вставала пораньше, полная решимости поговорить с отцом. Лалага даже уже предвкушала облегчение, ослабление этой невыносимой напряжённости, свалившейся ей на плечи. Потом она видела Тильду, безмятежно спящую рядом – никогда ещё сестра не выглядела такой красивой. А что, если она все-таки не заразилась? Стоит ли поднимать шумиху, которая разрушит всю её жизнь, из-за одного только гипотетического микроба, которого вполне может и не быть?
Лалагу интересовал и другой вопрос: если Тильда заразилась туберкулёзом, сколько пройдёт времени, прежде чем она сама станет заразной? Месяц? Год? Или время вышло и с ней уже сейчас опасно спать в одной кровати, дышать одним и тем же воздухом?
Как ни странно, она боялась не за себя – её беспокоила мысль, что кузина в ближайшие месяцы влюбится в нового парня и, как обычно, не задумываясь, не предупредив его об опасности, станет с ним целоваться, породив бесконечную цепочку заражений.
И что же, ей придётся смотреть на всё это и не вмешиваться? Или в подобном случае нарушение клятвы было бы оправданно? Может, лучше тогда признаться сразу и снять с души этот груз?
Но при всех своих сомнениях в одном она была уверена: стоит ей только кому-нибудь рассказать, как она навсегда потеряет дружбу и доверие кузины. А такая мысль казалась ей невыносимой.
Сама Тильда больше к этой теме не возвращалась. Казалось, сейчас все её мысли были только о скором возвращении в школу, а точнее, о переходе в гимназию. Из внутреннего кармана чемодана, лежавшего на шкафу, она достала учебник греческой грамматики и принялась усердно изучать алфавит нового языка. Множество тетрадных страниц было исписано альфами и бетами. Гаммы и дельты, начерченные палочкой, покрывали песчаный пляж. Она даже нашла где-то осколок кирпича и заполнила весь тротуар странными буквами, складывающимися в «TILDA SVRRHNTI». Дошло до того, что она принялась учить греческому алфавиту Пикку и Тома, которые вскоре уже повторяли нараспев:
Альфа бета гамма дельта
эпсилон дзета эта тета йота
каппа лямбда мю
ню кси омикрон пи!
Тильда больше не упоминала ни о Джорджо, ни о Франческо. А если кузина пыталась завести об этом речь, тут же прерывала её:
– Хватит! Забудь об этом.
Такое умалчивание Лалага ненавидела больше всего на свете: ещё никогда в жизни ей не было так одиноко. Она стала пленницей тайны, которой ни с кем не могла поделиться.
(обратно)
Глава восьмая
Ирен, конечно же, заметила её мучения, но посчитала, что они вызваны мыслями о смерти Франческо Дзайаса. Что говорить, ведь даже она сама, знавшая Франческо гораздо меньше, была потрясена. Ей то и дело приходили на ум реплики Альберто Лимонты, но теперь даже эти самые обычные слова казались предвестниками несчастья, и она непрерывно донимала Лалагу вопросами, не осознавая, что сыплет соль на куда более глубокую и болезненную рану:
– Как ты думаешь, он знал, что так серьёзно болен? Как считаешь, он ждал смерти или она застигла его врасплох, как и всех нас? – точно так же в период «усыновления» Пиладе и Анджелины они много раз спрашивали друг друга:
– Как бы ты хотела умереть: внезапно или имея возможность подготовиться?
У Аузилии и Лугии никаких сомнений по этому поводу не было: сколько Лалага себя помнила, обе служанки каждую первую пятницу месяца ходили исповедаться и причаститься, умоляя («умолять» в их понимании означало «требовать с особой настойчивостью и решимостью») о милости умереть не внезапно, во сне или ещё как-то, а зная о дне смерти заранее, чтобы успеть покаяться и посвятить свою душу Богу.
Доктор Пау же, напротив, говорил о пациентах, скончавшихся внезапно:
– Повезло, даже не успел ничего заметить.
В поддержку Аузилии и Лугии высказывалась и Баинджа: она рассказывала о Святой Урсуле, которая по ночам возглавляет процессию дев с фонарями и стучится в двери истинно верующих, чтобы предупредить их о том, что в течение трёх дней те умрут. И ещё о призрачной лошади, которая три ночи подряд скачет вокруг дома, где живёт обречённый на смерть: сама она незрима, но стук копыт раздаётся так громко, что уснуть невозможно.
– Я вот, если бы услышала стук копыт невидимой призрачной лошади, тут же умерла бы от страха, – шептала Лалага Ирен. Но до сих пор их рассуждения были чисто теоретическими, потому что смерть никогда не забирала никого из их знакомых.
Теперь всё стало иначе. Теперь они постоянно думали, не могли не думать о том, что тело Франческо, которого они всего пару дней назад видели живым, горячих рук которого касались, того самого Франческо, который каждый вечер выходил на сцену в новом облике, выдумывая всё новые трюки, – это тело насильственно отделено от души, заперто в гроб, засыпано землёй и, наверное, уже разлагается, как перезрелый фрукт.
– «Душа Франческо отлетела». Но куда? Неужели на Земле не осталось даже самой маленькой её частицы? – спрашивала подругу Ирен.
Дон Джулио отслужил мессу за упокой души «нашего бедного брата, столь внезапно и столь преждевременно выхваченного из этой юдоли слез». Он высоко оценил великодушие и щедрость Церкви, её способность к изменениям. Вот раньше, например, театральных актёров не хоронили в освящённой земле: их могилы должны были оставаться за оградой кладбища. Теперь, с появлением кино и телевидения, жизнь изменилвсь: кто станет отрицать святость Паблито Кальво, маленького актёра из «Марселино Хлеб-и-вино», или Инес Орсини, которая, даже не будучи профессиональной актрисой, так чудесно сыграла роль Марии Горетти в «Небе над болотами» Аугусто Дженины? И сам он обязательно помолится за душу Франческо Дзайаса на тот случай, если (что весьма вероятно) ей понадобится поддержка, чтобы покинуть чистилище и отправиться в рай.
Ирен предложила Лалаге потратить все чаевые, чтобы зажечь как можно больше свечей перед статуей мёртвого Христа. Каждая свеча избавляла от десяти лет загробных мук, а если Франческо это не понадобится, скидка автоматически перенесётся на какую-нибудь другую случайно выбранную душу.
Но, конечно, свечи ему понадобятся, думала Лалага. Даже если во всем остальном ты святой, нельзя целовать Тильду, зная, что у тебя заразная болезнь.
И теперь подруги стояли под сумрачными сводами опустевшей церкви перед длинным рядом свечей и шёпотом читали поминальную молитву, «
Requiem æternam dona eis Domine»[13].
Но про себя Лалага молилась о другом: «Господи, сделай так, чтобы Тильда не заразилась туберкулёзом. А если бациллы Коха уже начали прогрызать в её лёгких эти убийственные каверны, останови их, заставь их умереть. Если лекарства могут уничтожить микробов, почему Ты не можешь сделать это своей волей? Или Ты хочешь, чтобы я считала Тебя слабее пенициллина? Послушай, Боже, я знаю, что Тильда – великая грешница: она не слушалась старших, она наплела целую гору лжи, целовалась с мужчиной... Но если Ты хочешь, чтобы она заболела в наказание за свои грехи... Какой же пример Ты тогда подашь верующим в Тебя, которых всегда убеждал: «Прощайте, прощайте, прощайте...»? Не могу поверить, что Ты такой мстительный.
Слушай, если Ты и правда хочешь компенсации, можем заключить сделку: я сама заплачу за грехи Тильды. Можешь, к примеру, заставить моё лицо покрываться прыщами каждые выходные. И ещё могу пообещать, что в жизни не съем больше ни ложечки шоколадной пасты «Джандуйя» и ни единой карамельки «Розанна», которые люблю больше всего на свете. Хочешь, буду носить власяницу? Не знаю, как именно она выглядит, но я спрошу у матушки Эфизии. Буду подниматься каждую ночь и молиться, стоя на коленях на полу, даже зимой, хотя по ночам все радиаторы в интернате выключают. Стоп, Боже, а как же я узнаю, согласен Ты или нет? Смотри, мы можем сделать так: я начну и не остановлюсь, пока Тильда будет здорова. Если она не заболеет, это будет означать, что моей жертвы Тебе достаточно, чтобы уравнять счёт. Но разве не лучше простить и забыть всё это раз и навсегда? В конце концов, это Ты изобрёл туберкулёз, а раз Ты его изобрёл, Твой долг заставить его исчезнуть. Разве Тебе мало смерти Франческо?»
Но когда её рассуждения приняли такой оборот, Лалага уже так разозлилась на Бога, что боялась в мыслях нагрешить ещё больше кузины, поэтому поспешила выйти из церкви.
(обратно)
Глава девятая
Седьмого сентября Сорренти вернулись из Плайямара в Лоссай, а уже восьмого Тильда в сопровождении Баинджи, которая поехала в город лечить зуб, села в катер, чтобы воссоединиться с семьёй. Лалага осталась в Портосальво до четырнадцатого, когда снова откроются школы.
За эти мучительные пять дней у Лалаги появился новый страх: а что, если Тильда заболеет, пока её не будет рядом? Ведь если это произойдёт, как же все остальные – родители, бабушка, дедушка, дядя Даниэле – поймут, чем она больна? Сама-то она не скажет, и кузину не смогут вылечить, только потеряют драгоценное время.
Каждое утро Лалага подкарауливала почтальона – но нет, к счастью, конверты с печатью Лоссая в адрес родителей не приходили.
Потом ей стало казаться, что это может произойти зимой. Если Тильда заболеет, но не так сильно, чтобы сразу умереть, её, конечно, пошлют в санаторий, и тогда она, Лалага, попросится сопровождать сестру. А если ей не разрешат из-за риска заражения, она просто сбежит из дома.
Они будут жить вдвоём в безмолвных горах, будут целыми днями разговаривать о жизни и смерти. Может, тогда Тильда наконец подарит ей своё доверие и свою дружбу.
С отъездом почти всех отдыхающих деревня вернулась к тихому и спокойному ритму жизни. Помощь Ирен в баре больше не требовалась, а к обучению на швею она планировала вернуться только в октябре, поэтому смогла уделять подруге гораздо больше времени. Но тайна, хранимая Лалагой, словно возвела между девочками полупрозрачную стену, и они уже не делились друг с другом всем, как когда-то. Ирен не знала, в чем дело, но чувствовала, что мысли подруги уже где-то далеко – может, в Лоссае, в интернате? «А этой зимой Лалага тоже будет писать мне каждую неделю? Или в конце концов забудет меня?» – думала она. Ирен не просила клятв – она знала, что вынужденная клятва только разрушает дружбу, – но ей было грустно. Им обеим было грустно.
Взрослые, как обычно, ничего не понимали. Синьора Пау предложила Сюзанне Ветторе, также оставшейся с детьми до четырнадцатого, отвезти Лалагу в Лоссай, чтобы Аузилии не пришлось ездить туда-обратно, и, смеясь, добавила:
– Погляди только, как она сникла при мысли об интернате – будто побитая собака. Столько развлекалась этим летом, что теперь не может заснуть, как подумает о возвращении в школу.
Ей даже в голову не приходило, что печаль дочери может быть связана со смертью Франческо Дзайаса – Лалага была уверена, что мать давно о ней забыла. Впрочем, в защиту синьоры Пау нужно сказать, что она никогда не знала и, вероятно, даже представить себе не могла глубину чувств дочери к бедному бродячему актёру.

Накануне отъезда Лалага отправилась на кладбище, чтобы попрощаться с Анджелиной. Она пошла, поскольку делала так в прошлом году и сочла эту традицию уместной, но на сей раз почувствовала, что в этих разговорах с умершей женщиной, которой она даже не знала, есть что-то ребяческое.
Чемоданы были уже собраны. Утром четырнадцатого все спустились в порт, чтобы проводить Лалагу и семейство Ветторе.
– Веди себя хорошо. Учись, не ленись, – сказал отец.
– Передай привет дедушке, бабушке, тётям и дядям. Обязательно напиши завтра, как добралась, – велела мать.
Зира и Форика утирали слезы. Ирен выглядела очень серьёзной и внимательно оглядывала всех собравшихся.
На этот раз день выдался тихий и безветренный. Лалага стояла у борта, пока остров не скрылся за горизонтом. Ей до сих пор казалось нереальным, что сегодня она встретится с Авророй, Джанной и Мариной, поужинает вместе с ними и со всеми остальными в большой трапезной пахучим минестроне, а потом ляжет в постель, скрытую под белым пологом. Ещё тепло, и матушка Луиза, скорее всего, оставит окна спальни открытыми, а ночной бриз станет раздувать шторы, как паруса.
Она подумала, что до следующего воскресенья не увидит Тильду, но может попросить матушку-привратницу вечером, до ужина, позвонить дяде: если будут плохие новости, ей, конечно, расскажут.
Смотреть в открытом море было не на что, поэтому Лалага, держась за леер, спустилась на нижнюю палубу и направилась в гальюн. Она взглянула в зеркало над раковиной, и ей вдруг показалось, что оттуда на неё смотрит незнакомка – как будто за лето она стала другим человеком, совершенно не той Лалагой, что в июне, в последний школьный день, пела и плясала вокруг костра в темноте интернатского сада, освещённого только китайскими фонариками.
 (обратно)
(обратно)
Эпилог второй
(На сей раз это и правда конец истории.)
Когда можно сказать, что рассказ окончен? Если в нём говорится о путешествии, конец совпадает с моментом, когда герои после многочисленных приключений прибывают в пункт назначения или возвращаются в исходную точку. Если это детектив, в конце выясняется, кто убийца, и следует его наказание. А вот любовные истории могут закончиться двумя совершенно противоположными способами в зависимости от того, ищут ли главные герои в начале рассказа свою любовь или уже знакомы друг с другом. В первом случае обычно говорят: «и жили они долго и счастливо», во втором – «они разошлись и никогда больше не встречались».
Некоторые утверждают, что история заканчивается тогда же, когда заканчивается конкретный эпизод: ведь потом с её главными героями уже не происходит ничего интересного или, по крайней мере, ничего такого, о чём стоило бы рассказывать. Эту точку зрения, однако, не разделяют те, кто считает, что всё происходящее с людьми достойно рассказа, а если с человеком ничего не происходит, то он просто уже умер.
Лалага Пау и Тильда Сорренти тем летом не умерли. Они выросли, стали взрослыми, общались с другими людьми, испытали много радостей и много горестей. За свою жизнь обе они не раз более или менее серьёзно болели, но, к счастью, выздоравливали. И ни одна из этих болезней не была туберкулёзом.
С большому облегчению Лалаги первой же зимой после приезда Тильды в Портосальво, в феврале, все школы Лоссая получили приказ Министерства здравоохранения отправить своих учеников сдавать пробы на реакцию Манту и флюорографию. Так что скрывать тайну смертельно опасных поцелуев больше не было никакой необходимости.
Тот, кто не хотел проверяться вместе с классом, мог сделать это в частном порядке, при условии, чтобы предоставит секретарю справку от рентгенолога, подтверждающую хорошее состояние здоровья лёгких.
Дядя Даниэле для уверенности лично отвёл детей и племянников в клинику своего однокурсника по университету, доктора Гандурры. Лалага не раз слышала, что там надо раздеваться (не догола, можно оставить трусы), а крестики и медальоны брать в рот. (Девочки с косичками тоже должны взять их концы в рот, потому что, свисая на грудь или на спину, они создают на рентгеновском снимке помехи, которые можно ошибочно принять за затемнения в лёгких.)
– Глубокий вдох... Задержи дыхание! Вот так... – говорил доктор Гандурра. – Теперь повернись правым боком. Вдох! Хорошенько наполни свои лёгкие... Теперь ещё разок... Вот так, хорошо... Задержи дыхание... Щёлк! Теперь левая сторона: глубокий вдох... Задержи дыхание... Всё! Можешь спускаться и одеваться. До свидания, синьорина Пау, и передавай привет отцу.
Потом пришёл черед Тильды. Та тихонько разделась (поскольку она была уже почти взрослой, ей разрешили остаться в комбинации), а волосы заколола двумя шпильками. Казалось, её совершенно не беспокоит результат, которого Лалага, напротив, ждала с
замиранием сердца: как минимум, ей пришлось бы старательно разыгрывать изумление. В любом случае, даже если у Тильды найдут туберкулёз, взрослые всё узнают и примут меры. Оставалось надеяться, что время ещё есть.
Но лёгкие Тильды оказались столь же чистыми и здоровыми, как и у Лалаги. Реакция Манту тоже оказалась отрицательной: страшной бацилле Коха, даже если она и попала в их тела, не удалось пустить корни, она были изгнана с позором (так доблестные защитники осаждённой крепости сбрасывают со стен атакующих).
На пасхальные каникулы Лалага вернулась на Серпентарию и рассказала отцу о результатах проверки.
– Надеюсь, у Министерства здравоохранения хватит ума не делать эту проверку ежегодной, – сказал доктор Пау. – Боюсь, воздействие рентгеновских лучей может оказаться вредным.
– Ты, как обычно, преувеличиваешь. Так мы скоро собственной тени начнём бояться! – ответила ему жена.
А когда Лалага вернулась в Лоссай, она обнаружила, что Тильда сделала короткую стрижку. Но на сей раз она не стала подражать кузине: в тот год в «Благоговении» в моде были хвостики.
(обратно)
(обратно)
Приложение
 (обратно)
(обратно)
Послесловие
Сюжет этой истории родился, когда я гуляла со своей пятнадцатилетней подругой Изадорой. Она с жаром рассказывала мне о трудностях и страхах, с которыми, как и прочие её сверстники, столкнулась, когда обдумывала свой «первый раз», одновременно желанный и пугающий. «У вас всё было иначе, – с жаром доказывала она. – В ваше время никто и не слышал о СПИДе. А для нас думать о любви и сексе значит думать об опасности серьёзно заболеть или даже умереть».
Дальше разговор шёл в том же духе: подростковый возраст для каждого человека – время открытия своего тела, его способности вступать в контакт с другими людьми и доставлять удовольствие, но также и время осознания его хрупкости. Тело это – молодое, красивое, энергичное, сильное: вершина торжества подростка. Его окружают тысячи опасностей, и он не хочет болеть, не хочет умирать.
Эрос и Танатос, древнегреческие Любовь и Смерть, неразделимы в воображении людей начиная с древнейших времён – по крайней мере, в нашей, западной цивилизации.
«Ты должна написать о том, как мы боимся СПИДа, – сказала мне Изадора. – У взрослых не хватает смелости поговорить с нами о таких вещах».
Но я не люблю писать на «актуальные» темы: мне кажется, что литература должна быть интерпретировать, преображать, в более широком и универсальном смысле исследовать реальные факты. И я вспомнила, что хотя в моё время СПИДа не было, поэтому его никто не боялся, зато была другая заразная болезнь, считавшаяся почти неизлечимой – туберкулёз, который мог незаметно проникнуть в самые здоровые тела. Мы боялись любого тесного контакта, боялись даже дышать рядом с «обречённым». Мои отец и дед, рентгенологи, знали многих молодых людей из нашего города, кому судьба отказала в будущем здоровье и любви, хотя врачебная тайна и запрещала им предупреждать об этом нас. Так что я вернулась в пятидесятые, время моего детства, и рассказала о тихой задумчивой девочке Лалаге, о том, как она обнаружила, на что способно её тело и тела других, и о том, какие опасности поджидали её на пути к взрослению.
(обратно)
1
Действие книги происходит на острове Серпентария возле побережья Сардинии («большой земли»), которая, в свою очередь тоже является островом у побережья Италии («материка») (
здесь и далее прим. переводчика).
(обратно)
2
Популярная в 50-е годы итальянская легковая машина Fiat 1100.
(обратно)
3
Латиноамериканский дипломат, автогонщик и игрок в поло, признанный ловелас, был женат 5 раз.
(обратно)
4
Персонаж древнегреческого мифа, упоминается в поэмах Овидия и «Божественной комедии» Данте.
(обратно)
5
Торжественный поэтический размер античной поэзии.
(обратно)
6
Сорайя Исфандияри-Бахтиари – вторая жена последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.
(обратно)
7
«Я буду Лалагу любить за сладкий смех, за говор сладкозвучный» (
перевод с латинского А. Фета).
(обратно)
8
Джузеппе Парини, «Воспитание» (
Оды, 1761).
(обратно)
9
Словом «пентименто» также называют исправления, внесённые художником в уже завершённую картину и способные изменить её смысл.
(обратно)
10
Сейчас выпускается под маркой «Нутелла».
(обратно)
11
Восточный средиземноморский ветер.
(обратно)
12
Основные католические молитвы: «Отче наш» («Pater Noster»), «Радуйся, Мария» («Ave Maria») и «Слава Пресвятой Троице» («Gloria»).
(обратно)
13
«Вечный покой подай ему, Господи» (
лат.)
(обратно)
Оглавление
Бьянка Питцорно
У царя Мидаса ослиные уши
Об этой книге
Об авторе
Об иллюстраторе
У ЦАРЯ МИДАСА ОСЛИНЫЕ УШИ
Эпилог
Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Часть вторая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Часть третья
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Часть четвертая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Часть пятая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Часть шестая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Часть седьмая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Часть восьмая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Эпилог второй
Приложение
Послесловие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
