Всеволод Алексеевич Грехнев
Болдинская лирика А. С. Пушкина
1830 год

Второе издание
 Глава I
Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина
(штрихи к проблеме)
Глава I
Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина
(штрихи к проблеме)
Об одном из истоков пушкинских философско-психологических конфликтов
«Всеобъемлемость чувства» и тупики трагических страстей
Разомкнутость пушкинского лирического мышления

Болдинская осень в биографии Пушкина, три месяца пушкинских трудов, освещенные ослепительно ярким и ровным огнем вдохновенья, властно притягивают к себе мысль и воображение.
Неизбежно встает вопрос о духовных первотолчках, об истоках этого творческого чуда. В самом деле, что возбудило в сознании поэта столь редкостный по красоте взлет творческой фантазии, редкостный даже на фоне пушкинского творчества, универсального по своим художественным устремлениям, готового в любой точке своего развития развернуться во всю ширь самых разнообразных, порою резко контрастных художественных замыслов? Небывалая уплотненность творческих сроков… Наше ощущение временных границ, отделяющих одно пушкинское создание от другого, тускнеет под впечатлением единого, как бы непрерывно длящегося творческого порыва.
Впечатление это, конечно, не более чем иллюзия, но иллюзия, порождаемая реальностью, необычайной интенсивностью творческого труда, торжествующего над временем. В «золотой осени» пушкинского творчества таится еще немало загадок для психологии искусства.
Пушкин ехал в Болдино, оставляя позади тревожные события петербургской и московской жизни: угрожающе обострившиеся после самовольной поездки на Кавказ отношения с Бенкендорфом; журнальные нападки Булгарина, перераставшие в беззастенчивую травлю; беспокойство и неуверенность, вынесенные из последних визитов к Гончаровым; предощущение возможных перемен и болезненной ломки быта, к которым обязывала предстоящая женитьба. К этому следует добавить еще и не покидавшую поэта мысль о возрастной границе, роковой черте 30-летия, которую переступил Пушкин в 1829 году. 1830 и 1831 годы Пушкин переживает как кризисную пору. Насколько неуравновешенным было его состояние духа в 1830 году, позволяет судить хотя бы письмо поэта к Бенкендорфу: «С горестью вижу, что любые мои поступки вызывают подозрение и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но ради бога, благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которое не могу ни предвидеть, ни избежать…»
[1]. Даже сделав скидку на возможный «тактический прием», на желание Пушкина уяснить в предвиденьи женитьбы, насколько действительно неустойчиво его положение с точки зрения официально-правительственных «верхов», — все-таки нельзя не почувствовать в пушкинских строках живое, стихийно прорвавшееся смятение. И конечно, смятение это питалось не только злоключениями личной судьбы, многочисленными заслонами и запретами, непрерывной слежкой, которой в эту пору сопровождается каждый шаг Пушкина. Слишком много трагических и зловещих событий, затрагивающих судьбы России и европейского мира, выпало на 1830 год. В пушкинском жизнеощущении трагизм личной судьбы, без сомненья, сплетался с историческими потрясениями эпохи. «Какой год! Какие события! — писал Пушкин гр. Е. М. Хитрово. — Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Народ подавлен и раздражен. 1830 год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду»
[2].
А между тем пушкинская муза ждала и искала хотя бы кратковременного душевного спокойствия, без которого, по выражению Пушкина, «ничего не произведешь». В болдинской глуши Пушкин обрел желанное уединение. Было ли «душевное спокойствие»? Была, несомненно, величайшая сосредоточенность мысли. Ее уже не отвлекали шумный и суетный круговорот столичного быта, гнет каждодневных столкновений с великосветской или литературною «чернью». Но спокойствия как гармонической ясности духа не было, надо думать, и не могло быть. Вся болдинская лирика Пушкина, его драматургия и даже его проза замешаны на беспокойстве, достигающем порою трагических высот. Душевное спокойствие и гармония — не точка исхода в болдинском творчестве Пушкина, но его цель, обретаемая (именно обретаемая — не обретенная) в творческих муках. Н. Л. Степанов в свое время справедливо предостерегал от вульгарных стандартов в оценке пушкинского жизнелюбия: «Не следует упрощенно подходить к Пушкину, видя в нем лишь выражение безграничного оптимизма. Его оптимизм рождался из преодоления страданий и сомнений, из преодоления разочарования и безнадежности „жизни мышьей беготни“»
[3].
Болдинские произведения Пушкина отмечены жадным порывом к восстановлению духовной гармонии, мощь которого подчеркнута глубиною пушкинского разлада с миром и самим собой. Противоборствующие начала пушкинской мысли выявлены, как никогда, рельефно и остро. В самом бесстрашии ее, в этом стремлении «ощупать возмущенный мрак» (если воспользоваться поэтическим образом Баратынского) заключена уже огромная энергия высвобождения. Но главное в том, что Пушкин болдинской поры весь в поисках такого духовного средоточия и такого художественного синтеза, в котором бы сходились исследуемые поэтом полярные жизнеотношения, не погашая, но взаимовысвечивая друг друга. На той духовной глубине, в которую погружается пушкинский гений, уже нет абсолютных противоположностей психологического либо философского порядка. Нет, стало быть, и почвы для однозначных эстетических или этических оценок. Взору открываются скрытые, порою неожиданные взаимопереливы явлений, потенциальная многомерность характеров даже там, где они, казалось бы, схвачены жесткой оправой монолитной страсти.
В «Маленьких трагедиях», к примеру, Пушкин так организует художественные конфликты, что каждый из характеров, представляющих здесь резко контрастные жизнеощущения, таит в себе проблески духовных ценностей, приглушенные чрезмерным накалом всепоглощающих страстей.
В лирике поэт по-новому оценивает психологический опыт личности, усматривая двойственность, заключенную даже в душевных утратах. Даже в искривлениях страстей, в «безумном веселье» минувших лет ему видится опыт страдания, который в сочетании с неутомимым трудом мысли несет в себе прообраз новой, зрелой стадии духа. И в «жизни мышьей беготне», в бессвязности и кажущейся бессмыслице жизненного потока он стремится нащупать скрытое движение смысла. Авторское представление об идеале духовной свободы личности почти нигде (за исключением, быть может, «Моцарта и Сальери») не персонифицировано. Более того, оно и не конкретизировано до осязаемости однажды и навсегда найденного ориентира, устремляясь к которому можно было бы сформировать образ собственного бытия. Пытаясь синтезировать противоречия, Пушкин в этот период упорно ищет пути к духовной свободе, обретая почву, на которой единственно мыслимы эти пути. Почва эта — полнота и богатство жизнеощущения, готового вместить в себя страдание и счастье мысли, труд и «восторги творческие», мир быта и мир истории — словом, «все впечатленья бытия». Пушкинская художественная мысль всегда, как известно, стремилась к полнокровному богатству жизненных связей. Но в начале 30-х годов
это стремление усилено и напряжено ощущением реальных духовных преград, подстерегающих личность.
Мы попытаемся дальше хотя бы бегло, хотя бы пунктиром наметить одно из возможных художественных средостений, в котором пересекаются вечное и современное в творчестве болдинской поры. В болдинской лирике и драматургии (а отчасти и в прозе, в «Выстреле» уж во всяком случае) Пушкин особенно настойчиво исследует тупики безмерно разросшихся, односторонне направленных страстей. И он делает это, надо думать, побуждаемый ощущением реальной опасности, которая таилась в духовной атмосфере 30-х годов. Пушкина, по-видимому, тревожила угроза духовной схимы, самоизоляция личности, утрачивающей представление о широте, многообразии и динамике бытия. Бегство в себя было естественной самозащитой личности в условиях угасания духовных связей в обществе и всестороннего давления на индивидуальность. Самопознание личности, ее глубочайшая сосредоточенность в себе расценивались человеком 30-х годов как идеологическое убежище и как форма компенсации грубо подавляемых «гражданских инстинктов». Но это убежище легко оборачивалось духовной тюрьмой. Одна из зловещих перспектив русской действительности заключалась в том, что мир личности, противопоставившей безобразию жизни уединенные наслаждения духовного бытия, мог трагически сомкнуться в безысходной рефлексии, отрезав себе путь к реальным ценностям объективно исторического порядка. Субъективизм в литературе и общественной психологии 30-х годов, как известно, вырождался порой в заурядную титаноманию, в закосневшую романтическую позу. Но и там, где он сохранял за собой духовные высоты, реальную, а не имитируемую напряженность мироощущения, он мог существовать как живое явление, а не как застывшая духовная маска лишь за счет неразрешимых противоречий и лишь на трагическом пределе.
В 1831 году (18 сентября) П. Я. Чаадаев пишет Пушкину пространное письмо, где обращает внимание поэта на страшные нравственные потрясения, которые суждено пережить современному человечеству:
«Итак, вот что я скажу Вам. Заметили ли Вы, что в
недрах мира нравственного происходит нечто необыкновенное, нечто подобное тому, что происходит, как говорят, в недрах мира физического. Скажите мне, пожалуйста, как это на Вас действует? С моей точки зрения этот великий переворот вещей в высшей степени поэтичен, вряд ли вы можете оставаться к нему равнодушным, тем более что поэтический эгоизм может найти себе в этом, как мне представляется, обильную пищу:
разве можно оставаться незатронутым в самых сокровенных своих чувствах во время всеобщего столкновения всех элементов человеческой природы… Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир, разве для того, кто не в состоянии предчувствовать новый грядущий на его место мир, это не является ужасным крушением… У меня слезы выступают на глазах,
когда я всматриваюсь в великий распад моего старого общества, это мировое страдание»
[4] (подчеркнуто нами. —
В. Г.). Чаадаев, с его уникально чутким мышлением, умел схватывать духовные процессы истории в их эпохальных очертаниях и у истоков их рождения. В письме к Пушкину он уловил грозные сотрясения исторической почвы, заключавшие в себе опасность для «мира нравственного». Опасность эту не мог не осознавать и Пушкин. Но в отличие от Чаадаева он видел ее и в самом опасении. Это отнюдь не парадокс. Именно в начале 30-х годов Пушкин писал Плетневу: «Не холера опасна,
опасно опасение, моральное состояние, долженствующее овладеть мыслящим существом в нынешних страшных обстоятельствах»
[5] (3 августа 1831 года). Не очевидно ли, что речь здесь идет не только о холерных страхах. «Мыслящее существо», «нынешние страшные обстоятельства» — многозначительный контекст. В этом речевом окружении само упоминание о холере воспринимается как эмблема иного, глобального бедствия, затрагивающего нравственную сферу человека. Не следует забывать о том, что и образ «чумы» в пушкинском «Пире…» — образ символического размаха. Даже слово «чума» Пушкин писал с большой буквы — «Царица грозная Чума».
По Пушкину, опасно не замечать опасности. Но, по Пушкину же, не менее опасно ее преувеличить, спасовать перед потрясениями эпохи, перед «чумным» разгулом зла, уйти в себя, в «Подвалы» души, чтобы насладиться, подобно «скупому рыцарю», иллюзией духовного обладания миром.
Действительность побуждала к такому уединению. Соблазны его, надо полагать, были знакомы и Пушкину. Обобщающее духовные коллизии эпохи болдинское творчество поэта (а лирика, разумеется, прежде всего) окрашено личным опытом, пронизано отзвуками душевной борьбы.
«Престань и ты жизть в погребах, Как крот в ущельях подземельных…» — эти строки державинского послания «К Скопихину» в рукописи были предпосланы «Скупому рыцарю» в качестве эпиграфа. Пушкин затем снял эпиграф. Он сделал это скорее всего из художнических соображений, возложив воплощение поэтической мысли всецело на художественную ткань трагедии. Эпиграф емок по своей адресации. «Ты» эпиграфа обращено к пушкинским современникам. И в то же время, нерасчлененное в своих предметных контактах, лишенное конкретности, это обращение потенциально включает в свой смысловой круг и личность цитирующего автора. Но главное, разумеется, в том, что эпиграф выводит «на поверхность» символико-философский подтекст трагедии, проецируя его на современность. То, что постигается лишь на общем фоне болдинского творчества: психологическая подоснова его конфликтов, духовные тупики, «погреба» отъединенных от мира страстей — здесь отчетливо проступает в поэтическом сцеплении державинских строк с драматической композицией «Скупого рыцаря». Эпиграф намекает и на внутренний пафос болдинской поры — пафос преодоления, стремления к духовной свободе («престань и ты жить в погребах…»).
В «нынешних страшных обстоятельствах» Пушкину виделся особый смысл в том, чтобы наперекор катастрофически взвихренному течению жизни сохранить в душе ту «всеобъемлемость чувства», о которой он писал Е. М. Хитрово: «Как Вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться. Волнение, проявленное Вами по поводу смерти поэта
[6] в то время, когда вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства»
[7] (начало февраля 1831 года). Сохранить ее, глядя в лицо опасности, не бросаясь в иллюзии, не поступаясь трезвым чутьем реальности, — в этом усматривал Пушкин возможную точку опоры для современного человека.
Дерзкий выход навстречу опасности. Вызов, брошенный судьбе. Рискованное (на грани жизни и смерти) испытание судьбы. Мотив этот в разных вариантах проходит через все пушкинское творчество 30-х годов. Он запечатлен в гимне Председателя («Пир во время чумы»), в фаталистическом эксперименте Сильвио (эпизод второй дуэли в «Выстреле»), в отважном своеволии героев «Метели», в грозном жесте Евгения («Медный всадник»), в мифическом единоборстве Наполеона с чумой («Герой»), в самозабвенно-жутком вызове Дон-Гуана.
В этом поединке с неизбежным, в противостоянии силам судьбы пушкинские герои действуют на пределе душевных возможностей, хотя бы на миг предстают в ореоле величия и мощи. В изображении Пушкина эти мгновения как бы равновелики всей жизни человека, а порою «перевешивают» ее. Но это именно мгновения, после них следует либо надлом («Медный всадник»), либо «остановка» души в преддверии кризиса («Пир во время чумы»), либо гибель («Каменный гость»). Абсолютизация же рискованной игры с судьбой, демоническое упоение опасностью как принцип отношения к миру, по Пушкину, чреваты самоослеплением, утратою чувства реальности. Здесь Пушкину виделась крайность. Психологию этой крайности (в ее наиболее привлекательном, если не героическом варианте) в болдинскую пору он воплотил в «Пире во время чумы».
Многогранность жизнеощущения, слитая с самой сущностью пушкинского гения, в лирике и драматургии болдинской поры словно бы становится предметом своеобразной художнической рефлексии. «Резонанс» ее проникает в проблемный слой творчества. Нет ничего неожиданного в том, что именно в начале 30-х годов, когда на европейский мир и Россию обрушилась волна социально-политических потрясений, пушкинская мысль идет вглубь, к напластованиям философских и этических проблем. Эпоха, разворачивающаяся столь бурно и грозно, несла жесточайшие испытания нравственной природе человека, побуждая к поиску непреходящих духовных опор.
В Болдине Пушкин создает знаменитый черновой набросок, в афористически стройной и четкой форме воплотивший пушкинское представление о «животворящих святынях», о том, что в духовном опыте личности способно противостоять ударам судьбы:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как. . . . . . пустыня
И как алтарь без божества.
Первоначальный вариант второй строфы выглядел так.
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
В этом четверостишии пушкинская «формула» «самостоянье человека» поражает объемностью смысла, характерно пушкинским поворотом размышления, который приоткрывается сразу же, как только мы попытаемся соотнести этот образ с лирическим контекстом первой строфы. В самом деле, речь ведь идет о «самостоянье» как о духовно завоеванной суверенности личности, способной опереться на самое себя, на силу своего духа и воли. И вот оказывается, что в этом пушкинском «самостоянье» личность разомкнута в мир настоящего и прошлого национальной истории («Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам»). Больше того, именно разомкнутость ее сознания в область национально-исторического опыта и расценивается как оплот и гарантия ее «самостоянья». В наброске «Два чувства дивно близки нам» пересеклись философский и историко-современный ракурсы изображения. Скрещение их, как правило, возникающее у Пушкина болдинской поры лишь в сложной цепи идеологических опосредований и лишь в ассоциативных глубинах пушкинских композиций, вылилось в прозрачные формы лирической медитации.
«Общее состояние мира», образ которого вырастает на стыках пушкинских конфликтов, отмечено признаками распада, шаткостью нравственной почвы, зловещим напором судьбы, казалось бы, замыкающей жизненные горизонты личности неизбежностью «труда и горя». Перед нами мир, в котором исчезают святыни, а перспектива будущего теряется в непроницаемой дали. Переходная сущность эпохи 30-х годов отсвечивает в этом образе всеобщей кризисной ситуации, заостряющей у Пушкина все противоречия нравственной природы человека. Пушкин исследует, как это состояние мира отражается на человеческих душах, как неотвратимо вкрадывается оно в течение страстей и побуждений личности даже тогда, когда она пытается стихийно размежеваться с реальностью, построив ее иллюзорное подобие на чисто духовных, идеальных основаниях. И эта «защитная реакция» личности, если она сопряжена с «усечением» картины мира, с недоверием к многообразию и динамике бытия, в глазах Пушкина глубоко трагична.
Как убеждает нас художественная логика «Элегии» (этого, быть может, самого емкого и беспощадно трезвого в своей исповедальности лирического шедевра болдинской поры), многогранность жизнеощущения Пушкин вынужден был
отстаивать в 30-е годы, ибо и на нее покушалась действительность «железного века», жестко ограничившая возможности духовной свободы. В постижении смысла эпохи, лицо которой еще не раскрылось вполне, хотя уже явственно проступали ее тревожные приметы, Пушкин опирался на синтетически-универсальный склад своего духовного зрения. Нужно ли говорить, что Пушкин 30-х годов обращается к истории не ради академически-отвлеченных разысканий и даже не ради художественных реконструкций. Он стремился осмыслить духовные процессы 30-х годов на стыках времен, в системе возможных исторических аналогий. Он как бы исходил при этом из допущения, что сущность современной ему эпохи нельзя понять исключительно изнутри, но можно приблизиться к ней из глубины исторического контекста.
Сходным путем шел Пушкин и к сложнейшим конфликтам психологического мира, к анализу трагических искажений его, порожденных резким сломом стабильного чувства жизни, перебоем исторической инерции. Многомерность пушкинского восприятия душевного мира являет собой в «Маленьких трагедиях» не только авторский противовес жизнеощущениям персонажей, замкнувшимся в узких пределах всепоглощающих страстей. Она — инструмент художественного исследования и исходная опора его, ибо за неистовством страсти, деформирующим весь духовный строй личности, Пушкин стремится увидеть живую неисчерпаемость души, богатство ее невоплотившихся возможностей. Освобождающая сила этого пушкинского «зрения», отвергающего иллюзии, вбирающего в себя крайности однолинейного виденья героев, царит в «Маленьких трагедиях». Психология персонажей, запечатленная в действии «Маленьких трагедий», подчинена единству четко и крупно выявленной страсти, которой пушкинские герои предаются безудержно, забывая ради нее весь мир. Впрочем, вернее было бы сказать, что горизонты такой страсти, разросшейся до трагически необъятных пределов, смыкаются для пушкинских персонажей, этих «мономанов страсти», как выразился Д. Д. Благой, с горизонтами всего мира. Такая страсть порою (в «Моцарте и Сальери», в «Пире во время чумы», в «Скупом рыцаре») сливается с идеей, выношенной героем, к тому же с «неподвижной идеей». Идея эта замыкает на себе все духовные помыслы персонажа, его волю, его поступки, словом, весь круг его бытия. В этом смысле герои Пушкина (Сальери, барон Филипп, даже Сильвио из повести «Выстрел») — тоже идеологи, как и герои Достоевского. Правда, им чуждо экспериментирование с идеями. Они почти не знают распада между стихией страстей и мышлением, между мышлением и волей, между действием и самоанализом. И рефлексия как показатель этого распада им почти неведома.
Почти — потому, что как только в герое начинает просыпаться рефлектирующее начало, в этот момент в «Маленьких трагедиях» «опускается занавес». Тяжесть рефлексии и предстоящая пытка бесконечных сомнений, одним лишь штрихом помеченные в финалах «Моцарта и Сальери», «Пира во время чумы», воспринимаются как перспектива трагического возмездия. В этой возможности возмездия нет и тени авторского «суда» над героем (авторская оценка в прозе и в драматургии Пушкина всегда растворена или, точнее, опредмечена в системе композиционных сцеплений). В ней лишь, думается нам, верно угадана объективная логика развития фанатически односторонних страстей.
Особенность пушкинского мышления в болдинскую пору — не просто сопряжение крайностей (жизнеотношений ли героев или лирических эмоций автора), но сопряжение внутренне расщепленных крайностей, включение в контрастную цепь того, что уже не равно себе, разорвано противоречием. Вот почему Пушкин менее всего склонен к простому противопоставлению характеров. Поляризацию характеров как единственную основу драматической интриги Пушкин отвергал, усматривая в ней реликт старой поэтики классицизма. Достаточно вспомнить красноречивую пометку, сделанную поэтом на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова»: «Противоположности характеров вовсе не искусство — но пошлая пружина французских трагедий»
[8]. «Всеобъемлемость чувства» у Пушкина проступает и там, где она стеснена, скована перенапряжением какой-либо страсти. Пушкин схватывает потенциальную многогранность бытия в психологических явлениях, готовых уклониться и уклоняющихся от полноты жизнеощущения.
В характерах «Маленьких трагедий», а отчасти и «Повестей Белкина», в их психологическом рисунке воплощены намеки на неисчерпаемые глубины эмоций, на подспудно текущие душевные струи, на неосознанную персонажами борьбу побуждений. Словом, в них есть психологический избыток, который не поддается окончательному аналитическому охвату. Композиционные звенья характеров сомкнуты так, что остается простор для свободного разбега ассоциаций. Должно быть, поэтому художественный смысл пушкинских образов никогда окончательно не «отвердевает» в нашем восприятии, самообновляясь и перестраиваясь в нем, подобно живому организму, излучая все новую эстетическую энергию.
…Мгновенный жест Сальери, обращенный к Моцарту, только что выпившему яд, этот смятенный вскрик его: «Постой, постой! Ты выпил…» прерывается паузой, внутреннее напряжение которой чувствуешь почти физически. За паузой «буря ощущений», и лишь эхо ее отдается в непроизвольно вырвавшемся крике. Ужас перед совершившимся, перед необратимостью его и, быть может, признание, вот-вот готовое вырваться, и одновременно, по-видимому, страх, рожденный этой мгновенной потерей самообладанья, пугающей близостью саморазоблаченья, и, вероятно, попытка заглушить неосторожно брошенное слово, безумное волевое усилие, глухо отозвавшееся в наигранном спокойствии слова, призванного сгладить подозрительную заминку речи: «Ты выпил…
без меня!» Да к тому же и это «без меня» в контексте трагедии психологически двойственно. Кажется, не один лишь «попятный маневр» скрывается в нем, но и как бы трагическое прозрение Сальери, не вполне осмысленная догадка его, что, убив Моцарта, он, в сущности, «убил» и самого себя. Духовный круг его бытия и в самом деле ведь завершен. Сомнения, зародившиеся в финальном вопросе, предвещают безысходность душевных мук.
Всего лишь одна реплика пушкинского персонажа, психологические же пласты душевных движений, скрытых в ней, поистине необозримы
[9]. Но к тому, что скрывается «за текстом» или, вернее, свернуто в его ассоциативном потенциале, Пушкин все же дает нам путеводную нить, особым образом формируя психологический контекст драматического целого. Психологическое движение пушкинских характеров прерывисто, в нем возникают временами словно бы «провалы» в душевную бездну, экспрессивно заполненные «пустóты». У Пушкина всегда в высшей степени важно не только то, что сказано и как сказано персонажами, но и то, что не сказано ими: или «прочеркнуто» напряженной паузой, или оттеснено умышленным уклоном диалогической темы, или проглядывает в «маскирующем» слове как его контрастный психологический подтекст. Представление о потенциале характера раздвигается и тогда, когда пушкинские персонажи время от времени как бы «проговариваются» в чем-то, что не захвачено цепью драматического действия. Поразительна, например, в своей неожиданности реплика Священника в «Пире…», исчерпавшего уже все доводы и произносящего наконец имя, на которое прежде, в сущности, был наложен запрет: «Матильды чистый дух тебя зовет!» И поразительно действие этой реплики на Вальсингама. Имя, произнесенное Священником, мгновенно сотрясает все душевные силы его. С этого момента все голоса мира как бы уже затихают для Вальсингама и, оглушенный «шумом внутренней тревоги», он вслушивается лишь в собственную думу. Заклятие духом Матильды и беглое воспоминание о ней Вальсингама в ответной реплике, конечно же, не раскрывают нам душевную тайну пушкинского героя. Но во всяком случае они приоткрывают завесу над ней, прикасаясь к таким граням характера, которые еще не проступали ни в диалогах, ни в ситуациях фабулы.
Столь же многозначительно, хотя и столь же скрытно упоминание о «последнем даре» Изоры во втором монологе Сальери — этот жгучий след, прочерченный в памяти героя, которому когда-то были не чужды живые бури живых страстей («Вот яд, последний дар моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою…»).
Так в слове пушкинских персонажей или в их психологических «жестах»-паузах порою всплывают эмоции, оттесненные господствующей душевной стихией. В сущности, они причастны к рождению ее, как причастна, например, рыцарская жажда духовной независимости барона Филиппа («Скупой рыцарь») к рождению той уродливо извращенной, но единственно возможной в обстановке «железного века» форме независимости, которую дает обладание золотом. В трагической гримасе опустошительных страстей, поработивших сознание пушкинских персонажей, смутно и как бы издалека, из некоей предыстории души, оставшейся за порогом фабулы, проглядывают на мгновение незамутненные первообразы чувств, душевные возможности, скованные «неподвижной идеей» или перевоплотившиеся в свою противоположность.
Пушкин размышлял и над чисто психологическими предпосылками таких перевоплощений. Насколько глубоко проникал его взор в диалектику душевного мира, позволяет судить хотя бы бегло брошенный им в «Заметках…» афоризм, возникший в 1830 году, по-видимому в ходе размышлений над «Моцартом и Сальери»: «Зависть — сестра соревнования, следственно, из хорошего роду»
[10]. Высказывание это обладает особой, заостренной до парадокса концентрацией смысла, типичным для Пушкина стремительным разворотом идеи, перешагивающей промежуточные ступени умозаключения. Зависть, конечно, нехороша сама по себе, она лишь «из хорошего роду», она исказившийся результат развития чувства, в истоках которого лежит благое стремление к «соревнованию». Сродни этому пушкинскому афоризму столь же парадоксальное по форме высказывание Альбера в «Скупом рыцаре»: «Геройству что виною было? — скупость», схватывающее, правда, иной вариант психологического «превращения»: контрастный перепад, резкое расхождение мотива («скупость») и действия («геройство»). Там и здесь Пушкин сталкивает полярности душевного мира, подмечая глубинную взаимосвязь того, что может далеко разойтись в противоречивом потоке душевной жизни.
Предпосылки искривления эмоций и перенапряжения страстей заключены, стало быть, в психологической природе личности, во взаимосплетенности чувств, во взаимопревращениях душевных стихий. В реальность же характера и судьбы эти предпосылки перерастают под воздействием «общего состояния мира», как оно воплощено Пушкиным в творчестве болдинской поры.
Пушкинский идеал «полноты и равновесия чувств»
[11], равновесия подвижного, разомкнутого в реальную безграничность и многомерность бытия, в болдинской лирике становится философско-лирическим критерием оценки душевного опыта поэта, его трагически напряженных душевных движений. Лирика Пушкина в этот период столь же универсальна (по темам, лирическим сюжетам, жанровым ориентациям), как и его творчество в целом. Но и здесь проступает (хотя и не так отчетливо, как в драматургии) единство конфликтных основ, определяющих пути подхода к изображаемому. Болдинская лирика сосредоточена на разрушении иллюзий, на снятии трагически неподвижного и потому одностороннего, безысходно окончательного восприятия реальности. Единая композиционная логика проглядывает в большинстве философско-лирических произведений Пушкина этой поры. Заключается она в движении от трагических тупиков мысли, очертившей свои пределы безысходностью последнего слова о жизни, к диалектически многогранному, подвижно-противоречивому образу бытия, исключающему возможность однозначных оценок, завершающего суждения о мире.
Едва ли не все, кто писал о пушкинской лирике 30-х годов, считали необходимым упомянуть о том, что она окрашена ощущением перелома, этапной духовной границы. И разумеется, это справедливо. Но из этого вовсе не следует, что лирика болдинской поры прикована только к минувшему и только в этих пределах воздвигает свой художественный мир. Суть именно в том, что перед нами не столько поэзия воспоминаний, сколько поэзия духовного поиска. Образы прошлого входят скорее в ее тематический сюжетный круг, нежели в ее проблемные сферы. Пушкин озабочен отнюдь не «подведением итогов». Его тревожат коренные вопросы человеческого бытия, вопросы о том, как жить и чем жить, какими «животворящими святынями». Прошлый опыт становится предметом острого внимания постольку, поскольку в нем заключены не одни лишь духовные потери, но и обретения, не в меньшей мере определяющие склад личности, течение судьбы. В «Элегии» эти полюсы минувшего противоречиво совмещены, и в точке их сопряжения взору открывается особая поэтическая даль.
Все временные эпохи человеческого бытия (его прошлое, настоящее и будущее) в болдинской лирике плавки и текучи, разомкнуты одна в другую. Субъективное время, время души в сознании Пушкина не противостоит объективно временному потоку действительности. «Но Вы увянете, — писал Пушкин Каролине Собаньской (2 февраля 1830 года), — эта красота когда-нибудь покатится как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей — а затем исчезнет и никогда, быть может, моя душа, ее ревнивая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности. Но что такое душа. У нее нет ни взгляда, ни мелодии — мелодия быть может…»
[12].
На образах минувшего в «Элегии» и в «Прощании», в «Заклинании» и в «Для берегов отчизны дальной» лежат отсветы душевных гроз. Но как бы ни была притягательна полнота жизни, заключенная в этом отбушевавшем мире, а все-таки в сознании пушкинского лирического «я» реальность не может быть замещена прошедшим. Мощью душевного порыва, волевым напряжением мечты Пушкин стремится уберечь от увядания свежесть и непосредственность пережитого. Но Пушкин же убеждает нас в том, что остановить ход времени даже в субъективном мире памяти и эмоций никому не дано. Лирическая ситуация «Заклинания» в этом смысле символична: тени минувшего не откликаются на зов.
Поток времени в исповедальной лирике Пушкина течет в едином русле конкретной человеческой судьбы, скрепляющей живой связью минувшее, настоящее и будущее личности. Пушкинское же отношение к судьбе в болдинский период двойственно. Судьба для него не только плен прошедших и ожидаемых невзгод, не только мучительные, но неотторжимые пласты духовного опыта, тень которых привходит в переживание настоящего. Судьба — это и мир еще не раскрывшихся жизненных возможностей, которые не дано предугадать, «грядущего волнуемое море». Непредрешенность пушкинского отношения к судьбе, к ее грядущим поворотам рождена пушкинским доверием к неисчерпаемому многообразию бытия, к таинственному ходу случая, который не может быть предвосхищен мыслью. И это не фатализм, а лишь трезвое предощущение границы, за которой кончается сила предвиденья и начинается власть объективной реальности с ее необозримой игрой случайного.
Пушкинская Судьба, стало быть, вовсе не Фатум, но, конечно же, и не производное случайностей. Это сложный сплав прошлого опыта и жизненных возможностей, зависящих от Времени, но и от Человека тоже. И следовательно, это подвижная реальность, незавершенная как сама действительность и как жизнеощущение личности, если оно еще не окостенело. Это реальность, вечно ускользающая от цепких усилий мысли где-то на последней своей закругляющей черте, быть может, именно в точке слияния случайного и необходимого.
Для пушкинского лиризма болдинской поры не существует отвердевших форм жизнеотношения. Лирическая дума о мире здесь точно бы рождается у нас «на глазах». Вся она — в живом процессе становления, в динамике душевной борьбы. Мысль эта движется в таких острых противоречиях, что ей порою уже «тесно» в пределах монологического русла. Она прибегает к диалогическому расщеплению темы, к формам явного и скрытого «двухголосия». В «Герое» диалогические полярности ее персонифицированы, облечены художественной плотью живого «голоса». Диалог здесь получает рельефное композиционное оформление. Он движется от исповедания к полемическому противоборству позиций, каждая из которых воплощает какую-то одну грань авторского сознания, наделенную энергией свободного самодвижения. Целостная же картина этого сознания не восстановима не только на пути смещения ее в какой-либо один поток реплик, в смысловой пласт отдельного лирического персонажа. Она не восстановима и на пути простого суммирования полемизирующих жизненных позиций. Она возникает лишь в динамической цепи пересечения «крайностей», того, что распалось в авторском сознании, но и в размежевании своем уже не равно себе, а движется и живет лишь в противоречиях, в сомнениях и борьбе. Однако не только в «Герое», но и в «Элегии» и в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» порою вспыхивает диалогический «жест». Последовательность стадий в движении лирической мысли здесь такова, что все богатство ее оттенков и широту ее идеологического охвата уже невозможно осознать, двигаясь лишь в обычной для лирики «колее» монологически-однолинейного развертывания темы. В самом деле, отчего возникает вдруг в пушкинской «Элегии» этот неожиданный всплеск жизненной энергии («Но не хочу, о други, умирать…») именно в тот момент, когда мысль поэта словно бы наткнулась на жизненный барьер, предначертав образ грядущего, не оставляющий места для надежды («Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море»). Создается впечатление, что пушкинская мысль далее совершает скачок в другой экспрессивно-смысловой план, смещаясь в иную «систему отсчета» жизненных ценностей. Как бы вступает в права «второй голос» авторского сознания.
Не очевидно ли, что сама по себе мысль о смерти вовсе не вытекает с фатальной неизбежностью из одного лишь предощущения горя и тягот дальнейшего жизненного пути. По крайней мере, в развертывании темы ничто как будто не предваряет ее, она является неожиданно, и неожиданность эту невозможно не заметить. Кажется, именно «второй голос» пушкинской мысли предвосхищает этот логический предел, притаившийся в безысходном прообразе будущей судьбы, предел, доступный лишь охлажденно стороннему духовному зрению, взгляду себя «другого» или «другого» в себе (не здесь ли, кстати, скрывается исток пушкинского обращения «о други», включенного в отвергающий контекст?).
На одно лишь мгновение допустив самую возможность остраненно-бесстрастного, холодно объективного восприятия того, что для поэта исполнено сомнений и страстей, жадного, наперекор рассудку, пристрастия к «привычкам бытия», решительно отвергнув эту возможность, Пушкин точно бы заново, точно бы в новом русле начинает строить картину грядущего, емкую и полнозвучную, включающую в себя боль и счастье бытия в их нераздельном сплетении.
И в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» в единых границах авторского отношения к миру сталкиваются две взаимоотрицающие позиции: отношение к жизни как к бессмысленной «мышьей беготне» и парадоксальное на фоне этого всеобъемлющего символа, навевающего мысль о пороге, последнем пределе познания, жадное искание смысла. Диалогичность пушкинской лирической мысли заключается в том, что в болдинский период в ней спорят безысходно трагическое, окончательное и, стало быть, одномерное виденье мира с непредрешенным, разомкнутым и, стало быть, многомерным художественным представлением о реальности. Побеждает второе, но это уже не победа в сфере идей, это, скорее, победа «живой жизни», навстречу которой Пушкин размыкает свою лирико-философскую мысль. Подобно ей, пушкинская мысль динамична и незавершенна и не пытается покрыть единой поэтической «формулой» то, что по природе своей текуче и сложно и не получило еще завершения в реальности. Прав Е. А. Маймин, усматривающий в пушкинской лирике конца 20–30-х годов проявление той «философской поэзии, которая в художественном смысле потому так особенно действенна, что она — не сама разгадка, но путь к разгадке мировых и человеческих тайн, и оттого она открывает широкую перспективу для свободной мысли»
[13].
Выливаясь в острейшие, драматически насыщенные повороты поэтической темы в финалах, пушкинская мысль в болдинской лирике (да и в драматургии тоже) почти не стремится к замыкающему образу, который нес бы в себе однолинейное и четкое решение конфликта. Пушкинская «Элегия» завершается предположительным «может быть», исполненным надежды и одновременно тревоги:
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
В «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» обращенные к жизни лирические вопросы, нагнетаемые к финалу, не получают разрешения. «Герой» завершается репликой Друга: «Утешься…», открывающей поэтическую строку и… обрывающей ее. Далее следует многоточие. Оно намекает как бы на инерцию мысли, продолжающей свою работу, переплескивающей за границу стиха. Даже пушкинский «Труд», отступая от канонов жанра, замыкается поэтическими вопросами, каждый из которых имеет равное отношение к истине в том смысле, что одинаково не исчерпывает ее:
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
Красноречивым многоточием, особенно веским, потому что следует оно после стихового повтора, как бы возвращающего нас к истокам лирической ситуации, завершаются «Бесы». Емкая смысловая пауза (лакуна) предшествует последней строке «Для берегов отчизны дальной», акцентируя в замыкающей метафоре, быть может, не столько ее смысл, сколько силу заключенной в ней трагической эмоции.
В болдинской лирике поэтика незавершенности обретает особое значение. Меньше всего она возбуждает мысль о намеренной фрагментарности, либо психологически обыгранной недосказанности, равно как и об «отсутствии слова», эмоции, смысл которых восстанавливается контекстом
[14]. Пушкинская мысль здесь потому так часто незавершена, что она в этот период принципиально незавершима. Она живет трагическими противоречиями, лишь нащупывая путь к их разрешению — перспективу исторически текучей реальности. На этом пути духовные конфликты не могут быть устранены простым отсекающим актом мысли, но могут быть лишь диалектически сняты в противоречиво подвижном и всеобъемлющем, адекватном самой действительности художественном миросознании. Это направление пушкинской мысли, устремленной к идеалу духовной свободы и одновременно к правде истории, проступает на общем фоне болдинской лирики как поэтическая «равнодействующая» конфликтных сил, сталкивающихся в конкретных произведениях.
Болдинская лирика, лирика исповедальная и аналитическая, в
целом не создает впечатления уединенно рефлектирующей мысли. Она «населена» лирическими «персонажами». Поэтические композиции Пушкина 30-го года разомкнуты не только в неисчерпаемость духовного поиска, «неготовой», формирующейся идеи. Разомкнуты они и в сторону «чужого» сознания, «чужой» судьбы, связанной порою драматическими отношениями с судьбою лирического «я» («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…», «Герой»).
Лирический персонаж по-разному входит в композицию поэтического произведения. Иногда как исторически конкретная личность (Наполеон, Ломоносов — в первоначальном варианте «Отрока»). Образ ее даже в том случае, если он только «помечен» беглыми штрихами, восполняется читательским восприятием, включаясь в ассоциативную цепь, порождаемую пушкинским же творчеством. Порою этот образ безымянен, но «биографичен». Он предполагает существование конкретного (иногда не установленного с неоспоримой точностью) прототипа, втянутого самой жизнью в круг пушкинской судьбы. В восприятии такого «персонажа» важно, конечно, не столько его отождествление с чьей-то личностью, сколько само ощущение его реальности, его сопричастности пушкинскому бытию. Не более. Такой «персонаж» (в стихотворениях «Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…», «Ответ анониму») входит в текст либо только как адресат речи, либо как участник драматической ситуации, воплощенной средствами лирики. В последнем случае он порою наделен у Пушкина «правом голоса» («Для берегов отчизны дальной…», «Герой»), выступает носителем «своего» слова в диалогически построенной ситуации или в системе сквозного лирического диалога («Герой»).
Все это важно: ведь, в конечном счете, это драматизирует лирический образ. Драматизация пушкинских композиций в болдинский период обогащала возможности лирики. В этом явлении отразились общелитературные процессы, набирающие силу в русской поэзии 30-х годов. В искусстве раннего романтизма лирика была своеобразным агрессором, проникавшим в родовые владения эпоса и драмы, но ревностно оберегавшим неприкосновенность собственной художественной «территории». В 30–40-е годы лирика уже не претендует более на положение гегемона и не настаивает на абсолютной незыблемости своих родовых границ. Но утратив господствующее положение в системе литературных родов, поступаясь время от времени чистотой родового принципа, втягивая в свою родовую сферу элементы драмы и эпоса, она обретает возможность более разнообразных и гибких контактов с подвижным миром современности. Лирика расширяет область взаимодействий со смежными родами творчества не только в реалистической системе Пушкина 30-х годов, но и в поэзии поздних романтиков (Баратынского, Лермонтова, Тютчева).
Драматизация пушкинского лирического стиха возникает на стыке этих общелитературных процессов с индивидуальными художественными устремлениями поэта: Пушкин в болдинскую пору тяготеет к композициям, способным воплотить напряженно-конфликтный, «кризисный» характер мысли.
Лирика болдинской осени пронизана отблесками «чужой» судьбы. Включение лирического персонажа в ткань произведения, ориентация поэтического высказывания на адресата — все это явления обычные для зрелого пушкинского лирического стиля, хотя, к сожалению, до сих пор не исследованные в той мере, в какой они того заслуживают. Необычно, может быть, лишь их сгущение на хронологически кратком этапе болдинской лирики, озабоченной поисками «святынь», которые могли бы упрочить «
самостоянье» человека в мире, раздираемом противоречиями. Не примечателен ли уже самый факт, что в поле зрения пушкинской мысли в эту пору находится не только уединенное человеческое «я», но и человеческие отношения, ввергнутые временем в стремнину катастрофических перемен? Трагизм этих отношений — отнюдь не трагизм романтически фатальной разобщенности душ (конфликтный вариант, характерный для Баратынского, отчасти для Тютчева). У Пушкина он объективен по своим истокам: время перекраивает человеческие судьбы, опрокидывает иллюзии, посягая и на самую долговечность человеческих чувств. И если есть нечто в болдинской лирике, что разрежает атмосферу трагической безысходности, не подвергая при этом сомнению исторически необратимый ход вещей, — так это, конечно, напряженное пушкинское внимание к человеку, не только субъекту,
но и объекту пушкинских лирических медитаций, и тот этический пафос ответственности, в свете которого переживается «чужая» судьба. А путь к человеку, осмысление собственной судьбы в неразрывной связи с другими человеческими судьбами («Ответ анониму», «прощальный» цикл) и есть в конечном счете путь к широте и многообразию жизненных связей.
Мы прибегали к понятию «аналитическая» лирика, говоря о поэзии болдинской поры. Между тем понятие это далеко не самоочевидно в отношении к пушкинской лирической поэзии и требует уточнений. Пушкинская лирика аналитична, но совсем не в том смысле, в каком аналитична, допустим, поэзия Баратынского. Подобно тому, как нет единой эстетической меры психологизма (он качественно различен в художественных мирах Достоевского и Толстого, Гончарова и Тургенева), нет и универсальных критериев аналитичности, равнозначных для разных систем лирического мышления.
В лирике Баратынского очевидна установка на поэтический анализ, на расщепление эмоций, на выявление их полярностей. На постоянном противопоставлении движений души, ее «исходных», универсально всеобщих побуждений и сил (таких, как «страсть» и «рассудок», «волненье» и жажда покоя, «очарованье», расторгающее душевный сон, и мертвящая сила привычки) строятся лирические композиции Баратынского. Их динамика — динамика поэтической мысли, сосредоточенно и неуклонно анатомирующей душевный мир, жаждущей выявить заложенные в нем возможности противоречий. Характерные для Баратынского заостренно контрастные сопряжения слова, вереница «двойников», сопутствующая каждой душевной стихии, парадоксальность эпитета («Афродита
гробовая», «
бесчарная Цирцея» и т. п.), наконец, «жесткость» композиционных сцеплений, опирающихся на движение эмоционально насыщенной мысли, а не на стихийное течение чувства, — все это четко выявляет аналитический строй художественного целого.
Пушкинская аналитичность дает о себе знать лишь как следствие особой глубины и объемности лирического образа, заключенной в нем «бездны пространства». Даже там, где у Пушкина отсутствует образ
размышления, воплощенный средствами медитативной лирики, а композиция строится с опорой на предметно очерченную ситуацию, все же и там в смысловой перспективе образа, в психологической бездонности пушкинского слова свернута огромная аналитическая работа художественной мысли. У Пушкина, как известно, одно слово порой или одна поэтическая «формула» неожиданно новым светом озаряют смысл всего художественного построения, вскрывая такие оттенки чувства, такие противоречия душевной жизни, которые доступны лишь взору, умудренному «в науке выпытывания», как выражался Гоголь. Но и в «размышляющей» лирике Пушкина аналитическое начало проступает как бы вторым планом. Не уяснив этого, мы не поймем особенностей развертывания лирико-философской мысли в таких произведениях, как знаменитая болдинская «Элегия» Пушкина. В «Элегии» совершается глубинная переоценка жизненных ценностей, органичность которой приглушена остротою композиционного сдвига, выпадающего на начало второй части произведения («Но не хочу, о други, умирать!»). Ускользнут от нас тончайшие аналитические ходы пушкинской мысли, ускользнет вместе с ними и своеобразная, не избегающая диссонансов и смещений темы органика ее художественного движения.
Пушкин, как правило, не обнажает «механизм» лирического анализа, хотя, разумеется, он всегда стремится воплотить динамику поэтических размышлений, дорожит этой динамикой. Пушкин хвалил «Фракийские элегии» В. Теплякова, в частности, за то, что в них «есть гармония,
лирическое движение, истина чувств»
[15].
Аналитичность пушкинской мысли напоминает о себе своеобразным «эхом» снятого в образе творческого процесса, отзвуком разветвленной и сложной системы ассоциативных движений, преодолевших поистине необозримое жизненное «пространство» во имя открытия новых связей бытия. Мы говорим не о вариантах слова или строки (запечатленные в них сдвиги смысла нетрудно восстановить по черновикам), а о том ощущении «корневой системы» образа, потока переплавленных в нем ассоциаций, которое навевает пушкинский контекст. Все это — за гранью непосредственно воплощенного в слове, и все это тем не менее — в пределах образа, входит в его художественный потенциал. Потенциальный пласт пушкинских образов, этот «подводный» массив поэтического «айсберга», сказывается на построении пушкинских лирических ситуаций. В предметном слое стиха перед нами порой (в таких, например, произведениях, как «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Все кончено. Меж нами связи нет…», «Желание славы», «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла…», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…» и т. д.) лишь «обрывки» человеческих отношений, преломленных лирическим переживанием поэта, частично и неполно вошедших в лирический сюжет. В целостной же композиции пушкинского стиха они обретают полнозвучный резонанс, смысловую многоплановость, позволяющую судить и о том, что не сказано в слове, но сказано в интонации, в музыке стиха, даже в пропусках и умолчаниях. Пушкинский образ что-то всегда «прочеркивает» в лирической ситуации. Но одновременно он экспрессивно обогащает и как бы «надстраивает» ее образный смысл.
Болдинская лирика Пушкина, несмотря на проступающее в ней единство поэтических углов зрения, в целом не может рассматриваться как явление цикличности. И дело не только в разноликости ее предметного мира, в многообразии тем и лирических сюжетов. То и другое свойственно, допустим, «Сумеркам» Баратынского, но в единой цикличности «Сумерек» невозможно усомниться. В них достаточно отчетливо выявлены общие конфликтные узлы, символико-метафорические «гнезда», подчиненные, в конечном счете, глобальному образу «сумерек» цивилизации, «зимы дряхлеющего мира». Основная коллизия этого цикла переключается в разные предметно-тематические «регистры». И тем не менее в «Сумерках» явственно просматривается единое русло поступательно развертывающейся лирико-философской мысли, имеющей свою экспозицию (послание П. А. Вяземскому), свои драматические вершины («Последний поэт», «Недоносок») и, наконец, свой финал («Осень», «Рифма»), где в структуре широчайшего по обобщению символа сливаются воедино конфликтные линии цикла. Вот этой-то поступательности в движении художественной мысли, поступательности, которая бы прочно скрепляла ее этапные звенья, и нет в болдинской лирике Пушкина. Но если эта лирика в целом не воспринимается как цикл, то в пределах ее нетрудно заметить художественные единства, близкие к цикличности, объединенные жанровой близостью или близостью конфликтно-композиционных принципов. Близость эта порою настолько существенна, что у нас есть основания хотя бы условно выделить в болдинской лирике малые циклические единства.
 Глава II
Философская лирика болдинской осени
Глава II
Философская лирика болдинской осени
«Бесы»
«Элегия»
«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»
«Герой»

«Бесы» открывают болдинскую лирико-философскую «сюиту» картиною трагического смятения мысли, символическим образом мира, словно бы сошедшего с привычной жизненной «колеи». В символике «Бесов» прихотливо сливается осязаемо конкретное, национально-бытовое, несущее в себе давно знакомые черты (ямщик с его колоритною речью, русская безбрежная равнина, утонувшая в кипящем вихре метели), с незнакомым, призрачно-жутким и, однако ж, необыкновенно многозначительным в своей нереальности. В «Бесах» одинаково важно и то, что приковывает восприятие к привычным очертаниям русского мира, и то, что колеблет и размывает их. Символика «Бесов» совмещает в себе редкостную ширь философского мышления с заостренно-условным, фантастическим разворотом сюжета, с поразительно рельефными штрихами национального пейзажа и быта, на которые опирается сюжет.
В этом художественном сплаве запечатлелся неповторимо пушкинский «рисунок» лирико-философской мысли. Как бы широко ни раздвигались ее горизонты, на какие бы высоты духа ни взлетала она в поисках ответа на вечные вопросы бытия, она втягивает в свою орбиту и «ближний» мир вседневной, бытовой, порою прозаической реальности. Вообще бытовое в пушкинской лирике бок о бок соседствует с духовным, не отделено от него неприступной стеной. Ярчайшее подтверждение тому — гениальная «Осень» (1833), вобравшая в себя художественные тенденции, которые складываются в лирике Пушкина начала 30-х годов. Развитие поэтической темы в этом произведении начинается с дробной детализации в изображении русской природы и национального быта и завершается мудрым прозрением в загадочные истоки творчества, символически обобщенным образом корабля, овеществляющим стихию вдохновения. Впрочем, можно ли сказать «начинается» — «завершается», если эти понятия неизбежно предполагают ощущение границы? В том ведь и дело, что в пушкинской «Осени» эти границы между сферою быта и миром вдохновения сняты. Поэзия органически рождается из действительности, охваченной
во всем ее объеме, — такова «логика» «Осени».
И поэтому нет ничего удивительного в том, что сложная философская символика «Бесов» опирается на пронизанный национально-бытовыми атрибутами, пластически-живописный образ дорожных скитаний. Лирическая ситуация «Бесов» вбирает в свою художественную ткань образные мотивы, которые обретут устойчивость в поэзии болдинской поры. Прежде всего — это символика пути. Обладая постоянством символико-метафорических применений, этот образ, переходя из одного произведения в другое, меняет диапазон обобщения. В «Бесах» он символизирует духовное бездорожье современной Пушкину России. В «Элегии» и в «Ответе анониму» в нем отчетливо проступает биографическая основа — здесь перед нами метафора жизненной судьбы поэта:
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
(«Элегия»)
О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье
Приветствует мое к блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко руку жмет,
Указывает путь и посох подает…
(«Ответ анониму»)
Из опорного образа, цементирующего лирическую композицию (в «Бесах»), он свертывается в метафорическую деталь (в «Элегии», «Ответе анониму»). Но в том и в другом случаях, насыщенный огромной
лирической тревогой, он сохраняет единство эмоционального звучания.
Со стихотворением «Бесы» в болдинское творчество Пушкина входит ночной мир. Пушкинская «ночь» — разумеется, не просто фон, хотя бы и не безразличный к воплощению существа художественной мысли. Ночь символизирует состояние русского мира, сбившегося с пути («Бесы»), и состояние души, охваченной трагическими страстями. Экспрессивно-смысловая «тень» этого образа, конечно же, не заслоняет бессмертное «солнце ума» в пушкинском мироощущении. Но и не учитывать ее нельзя. Тернистый путь познания, тупики человеческой страсти — проблемы, к которым упорно возвращается пушкинская мысль болдинской поры, находят в символике ночи образную опору. Ночь как воплощение неуловимой и бессвязной жизненной стихии, всего, что еще не охвачено сознанием и требует разгадки — в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы». Ночь — спутница романтической тайны, время, когда оживают в душе призраки прошлого — в стихотворении «Заклинание». Наконец, «ночь» средневекового подвала, знаменующая собой тесный мир уединившейся в себя, бесплодной и болезненной страсти, охватившей все помыслы барона, — в «Скупом рыцаре». Все эти облики пушкинской ночи — облики многомерного и подвижного в своем содержании символа, воплощающего трагические стихии мира и человеческого духа. Перед нами пример того, как обновляется в зрелой поэзии Пушкина традиционно-романтическая образность. Ночной мир романтиков порою являет собой метафору принципиальной непрочности, неокончательности материального бытия. У Гофмана и Новалиса ночь обнажает иррациональные бездны, притаившиеся за иллюзорными покровами дня. Никаких прорывов в запредельное, которые бы ставили под сомнение объективную реальность всего сущего, мы, естественно, не найдем в «ночной» лирике Пушкина.
Фольклоризация ночной символики в «Бесах», подключение бытовых реалий в картину ночного мира в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» — это и есть тот неожиданный и свежий ракурс, в котором перестраиваются пути художественных ассоциаций. Тонкие, исполненные художественного такта и меры уклоны лирической ситуации «Бесов» в фольклорную стихию и столь же тонкие смещения авторского слова в просторечие несут в себе особый смысл. Этими вехами национального быта и мышления ненавязчиво, но ощутимо помечена сфера символических «излучений» образа (русский мир). Символ пушкинских «Бесов», как и всякий художественный символ, свободен от каких бы то ни было рационалистически заданных аналогий и предельно широк в охвате реальности. Ему противопоказаны
конкретные биографические или историко-политические «применения». Широк, но не космически безграничен. Речь все-таки идет у Пушкина не о судьбах человеческой истории вообще (поворот мысли, характерный для романтиков, для Баратынского периода «Сумерек» с его вселенским символом «зимы дряхлеющего мира»), но о судьбах именно русского мира и пушкинского поколения. За эту черту уже рискованно переступать в конкретизации «смысла» «Бесов».
Усилиями таких пушкинистов, как Б. П. Городецкий и в особенности Д. Д. Благой, давно уже опровергнуто представление о «Бесах» как о непритязательной, хотя бы и классически совершенной вариации на чисто фольклорные темы. Сопоставляя окончательный текст с черновыми набросками Пушкина, Д. Д. Благой убедительно раскрыл направление художественной мысли Пушкина, приглушавшего в ходе работы над текстом детали, слишком явно перекликающиеся с мотивами народных поверий и сказок
[16].
Пушкин уходил от слишком очевидных фольклорных конкретизаций. Возможно, не столько потому, что ему нужно было разделить «уровни» жизнеощущения (чисто фольклорное восприятие реальности у ямщика и сложное, обогащенное современным виденьем мира — у путника), сколько потому, что излишняя локализация фольклорных мотивов могла заслонить тот второй, символически широкий план изображения, которым, без сомнения, дорожил Пушкин. Фольклорные мотивы в «Бесах», по-видимому, нужны были поэту лишь постольку, поскольку они создавали общий колорит русского мира.
В болдинскую пору, как, впрочем, и прежде, Пушкин пользуется «языками» культурно-исторических эпох и коллективных форм миросознания как художественным материалом для выражения духовной позиции, не совпадающей с тем мировосприятием, на которое настроены эти «языки». Как бы ни была ощутима дистанция, разделяющая конфликтные сферы «Бесов» и «Заклинания» или «Для берегов отчизны дальной…», — там и здесь проступает один и тот же принцип: отчужденные поэтические «языки», «языки» традиции используются для воплощения резко нетрадиционных, подчас даже антитрадиционных художественных конфликтов. Мы говорим здесь о «языках», подразумевая не только область поэтического слова. Имеются в виду поэтические системы, уже изжитые в ходе развития современного Пушкину художественного мышления или отодвинутые бурным ростом пушкинского гения. Этим понятием охвачены, следовательно, и сложившиеся в допушкинской поэзии речевые системы и жанрово-композиционные типы, сформированные традицией.
Известно, что Белинский рассматривал «Бесы» как балладу. Это была ошибка. Но когда мы зададимся вопросом, почему она возникла, станет ясно, что у нее были свои основания, что она, по крайней мере, не случайна. Приметы балладной стилистики действительно содержатся в пушкинском произведении, но содержатся в эстетически переосмысленном качестве. Балладное начало в «Бесах» подчинено воплощению иной, не балладной концепции мира. Воспользовавшись материалом жанровой стилистики, Пушкин создает произведение, выпадающее из сферы действия жанровых законов. Эффект новизны здесь тем более разителен, что пушкинские «Бесы», казалось бы, начинаются совершенно в духе романтической баллады. Народный склад речи, особенно ощутимый в начале произведения, побуждает вспомнить простонародную балладу Катенина, способы развертывания сюжета — балладную поэтику Жуковского. Но, перекраивая жанровую традицию, Пушкин не просто насыщает новым художественным смыслом традиционную «материю» жанра и не просто вводит элементы балладной поэтики в нетронутом виде, чтобы ближе к финалу «Бесов», отбросив старые жанровые вериги, вырваться на простор самобытного развития лирической темы. Пушкин дает своеобразный субстрат балладной поэтики в области сюжета, в частности. Черты этой поэтики словно бы подвергнуты аналитическому отбору. Пушкинское стремление к концентрации традиционных жанровых структур, к прояснению композиционных пропорций, к устранению побочных сюжетных мотивов сказывалось и раньше, когда поэт имел дело с большими формами романтического эпоса (южные поэмы Пушкина). Скажутся эти способы обращения с традицией и в стихотворении «Заклинание». Строя лирический сюжет в «Бесах», Пушкин виртуозно использует разработанную в балладах Жуковского поэтику таинственного, перевоплощая ее именно в том направлении, о котором говорилось выше.
Жуковский обладал редким умением напрягать балладный сюжет, искусно распределяя в нем спады и нарастания экспрессии. Он ослаблял временами туго натянутую струну действия, чтобы затем в нужный момент поразить воображение неожиданностью пугающей детали. Нужды нет, что Жуковский имел дело чаще всего с «запрограммированными» сюжетами переводимых им поэтических текстов. Достаточно сопоставить, к примеру, «Людмилу» Жуковского с «Леонорой» Бюргера, чтобы понять, как далеко ушел Жуковский не столько, пожалуй, в заострении сюжетной динамики (в этом смысле катенинский перевод куда динамичнее), сколько в нагнетании таинственной атмосферы вокруг балладного события. Лиризация баллады, предпринятая Жуковским, давала простор для особой формы воздействия на читательское восприятие, воздействия средствами авторского «голоса». Живой трепет этого «голоса», переходящего от идиллической умиротворенности к смятению, его повышенная эмоциональность, его предостерегающие вторжения в эпическое течение событий (сакраментальное «чу!» Жуковского стало у «арзамасцев» притчей во языцех) — все это и создавало особую тональность повествования, пронизанную роковыми предчувствиями, ожиданием ужасного. В поэтике романтической тайны было, правда, одно противоречие, ослабляющее силу художественного воздействия. Жуковский умел создавать музыку тайны, предощущение ужасного, но в изображении романтических ужасов он впадал в своего рода олеографичность. Давно известно, что ужасное производит впечатление лишь тогда, когда оно не вполне определенно, когда размыты его очертания и когда воображение может заполнить недостающие детали рисунка. Между тем призраки Жуковского склонны к материализациям, особенно в финалах. Финал «Людмилы» в этом смысле особенно красноречив: пляска мертвецов на кладбище, хор призраков, назидательно возглашающих авторскую сентенцию, таили в себе неожиданный комизм.
Унаследованная от сентиментализма изысканность и шаблонность пейзажных деталей (все эти «ручейки» и «зефиры») также ослабляли впечатление. Поэтической рафинированностью отмечен и склад речи в балладах Жуковского, вызвавший, как известно, нарекания Грибоедова и Пушкина, предпочитавших колоритно простонародную речевую манеру катенинских баллад. Расхождения стиля и предмета повествования у Жуковского были порою настолько ощутимы, что, казалось, его призраки вот-вот заговорят на жеманном языке светских дам и кавалеров, начитавшихся сентиментальной лирики и прозы Карамзина.
К 30-м годам баллада Жуковского уже отступала в прошлое, хотя поэт все еще продолжал (и небезуспешно) писать в этом жанре. Но в художественном мышлении эпохи еще не окончательно изгладился отпечаток, наложенный ранней русской балладой на поэтическую структуру жанра. Размыкая замкнутые в прошлом жанровые контексты, отказываясь от жанровых ограничений, поэзия пушкинской поры, естественно, не отбрасывала те элементы жанровой поэтики, которые несли в себе не исчерпанные традицией эстетические возможности. Напрягая в «Бесах» поэтический сюжет не столько за счет динамики событий (хотя и за счет этого тоже), сколько за счет настроения, в которое погружено событие, умело нагнетая это настроение от строки к строке, обостряя его с помощью экспрессивно насыщенного диалога, Пушкин подхватывает именно те стороны балладной поэтики Жуковского, которые обогатили историю этого жанра.
С первых же строк пушкинского стихотворения мы погружаемся в стихию тоски и тревоги, жутких предчувствий. В композиции «Бесов» есть образ, который определяет собой не только опорные детали предметного плана, но до известной степени и характер ритма. Это образ «кружения», снежного вихря, бесконечного «бесовского» круговорота метели: «В поле бес нас водит, видно, И кружит по сторонам», «Сил нам нет кружиться доле», «Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре». Настойчивое повторение этого образа, конечно же, не случайно. В нем заключена
внутренняя тема произведения. Он соотнесен с мыслью о мире, сбившемся с пути. В этом образе берет истоки глубоко своеобразная «круговая» музыка стиха, напоминающая форму рондо (музыкального, а не стихотворного). Впечатление кругового движения создается многообразными повторами внутри строки и в пределах лирической композиции в целом. Повтор в образной системе «Бесов» подчеркнуто универсален. Он охватывает все ее уровни, все ступени поэтического целого: и интонацию, и поэтический синтаксис, и слово, и строфику. Уже первая строка стихотворения дает своего рода «формулу» ритмического соотношения стиховых величин, которая будет повторяться в дальнейшем, обрастая различными вариациями, пробивая себе дорогу через множество отступлений и уклонов.
«Мчатся тучи, вьются тучи…»
Художественное целое строки здесь дробится на два интонационно-синтаксических единства. Дробление усилено внутренней рифмой, паузой и повтором слова. В пределах одной только строки перед нами явление тройного параллелизма: интонационно-синтаксического, словесного и эвфонического. Многократным эхом будет отдаваться эта ритмически многострунная, гибкая, насыщенная повторами структура строки в композиционной раме пушкинских восьмистиший. Хотя и с отступлениями от идеальной схемы, этот ритмический лейтмотив пройдет через все стихотворение, подобно многократно варьируемой музыкальной теме:
«Мутно небо, ночь мутна…»
«Сбились мы, что делать нам…»
«Вьюга злится, вьюга плачет…»
«Сколько их, куда их гонят…»
Мы привели лишь те варианты, в которых интонационно-синтаксический параллелизм внутри строки подкреплен повторами слова. Но повторы слова и сами по себе, даже не поддержанные в строке аналогиями синтаксического порядка, играют существенную роль в ритмической полифонии «Бесов»:
«Еду, еду в чистом поле…»
«Страшно, страшно поневоле…»
«Посмотри: вон, вон играет…»
Ритмика пушкинской строфы насыщена повторами не только «по горизонтали» (в пределах строки), но и «по вертикали» (от строки к строке):
Посмотри: вон, вон играет.
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой.
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.
Спаянная перекличками слова пушкинская строфа цементируется еще и параллелизмом интонации, вырастающим на сходстве синтаксического строения фразы, на повторяющихся соотношениях ритмических и синтаксических единств:
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.
Наконец, в поэтической композиции «Бесов» отчетливо проступает повтор крупного ритмико-интонационного единства. Первые четыре строки, которыми открывается произведение, дважды возникают в ходе дальнейшего развития темы, причем возникают на композиционных вершинах.
Ошибочны, конечно, всякие рассуждения об изобразительности ритма, неуместны прямые проекции ритмической структуры в содержательный план. Но в системе опосредований, на путях взаимодействия с поэтическим словом и принципами развертывания темы ритм (именно ритм, не размер) все же соотносим с
выразительной стихией поэтической мысли. В ритмике «Бесов» своеобразно резонирует внутренняя тема произведения и тот строй лирических эмоций, который с нею нераздельно слит.
Создавая ощущение вихревого движения, возвращая наше восприятие к устойчивой мелодической доминанте, ритмика «Бесов» далека от монотонии. Здесь, как в музыке, варьирование темы не только возвращает нас к исходному созвучию, но и ведет дальше.
Лирическая эмоция «Бесов» обозначена кратко и определенно уже в первой строфе: «Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин». Необычно весомо и многозначительно звучит здесь этот эпитет — «
неведомые равнины». В символическом контексте «Бесов» он обретает особый, далеко идущий поэтический смысл. Деталь эта поражает уже своей масштабностью, охватом пространства. Вообще поэтическое пространство «Бесов» лишено каких бы то ни было намеков на локализацию («чистое поле», «неведомые равнины», «беспредельная вышина»). Ничто не препятствует здесь широте символических ассоциаций. Образ «неведомых равнин» заключает в себе характерную для символа игру смысловых оттенков — переходы значений одновременно и в конкретный, и в предельно широкий план. «Равнины» — «неведомые», ибо все смешалось, перепуталось в круговороте реальной метели, все стало неузнаваемым и неразличимым, «все исчезло», как скажет Пушкин в «Капитанской дочке». «Равнины» — «неведомые», ибо перед лицом мысли, обнаружившей тупики, хаос и бессмыслицу, царящие в действительности, мир обернулся незнакомой, пугающей стороной. Некогда твердые очертания вещей и явлений теперь словно бы размыты, и утрачено ощущение реальных границ, устойчивых ориентиров. Во всяком случае и такое истолкование возможно в символически многозначном контексте этого стихотворения.
Пушкинская лирическая эмоция «Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин» как бы разольется по всей образной ткани произведения. Уже в первой строфе она отсвечивает в деталях бегло очерченного пейзажа:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Пейзаж подчеркнуто экспрессивен. Но экспрессия не заслоняет вещественный облик мира, как это бывает в лирических пейзажах Жуковского. Напротив, экспрессия пушкинского слова как раз и вырастает на предельно конкретном виденье реальности. Четыре пушкинские строки, насквозь пропитанные ощущением тревоги, являются в то же время удивительно точным и емким изображением метели. Они не уступают по изобразительной силе знаменитому пушкинскому описанию метели в «Капитанской дочке»: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло».
Но изобразительный потенциал пушкинского зачина — величина переменная. Повторяясь в композиции «Бесов», зачин накопляет в себе лирически экспрессивную энергию. Предметные связи слова в нем начинают тускнеть, хотя не угасают окончательно.
Начиная со второй строфы развертывается диалог путника с ямщиком, неизмеримо усиливающий, нагнетающий от строки к строке ощущение тоски и страха. Возглас путника «Эй, пошел, ямщик!..», в сущности, эмоциональный жест, в котором выплеснулась уже накопившаяся тревога. Этим возгласом как бы завершается эмоциональная тема первого восьмистишия («Страшно, страшно поневоле…»). Стянутые в контексте одной строки возглас путника и начало реплики ямщика («Нет мочи…») звучат в единой тональности. Речь ямщика во второй строфе построена на отрывистой фразе, в ритмике которой пульсируют смятение и испуг. Границы интонационно-синтаксических единств в четырех случаях здесь совпадают с границами ритмического целого строки:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно…
Следующая строка («Сбились мы. Что делать нам!»), разорванная паузой и вздыбленная восклицанием, звучит как непроизвольно вырвавшийся крик о помощи.
В третьей строфе меняется ориентация «чужой речи»: теперь слово лирического персонажа всецело обращено к объекту, хотя бы и фантастическому. Но экспрессивное напряжение речи не снимается, не ослабевает ни на миг. Ведь теперь реплика ямщика вся пронизана речевой жестикуляцией:
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.
Слово здесь заключает в себе совершенно особый эмоциональный эффект. Это речь человека, точно бы зачарованного жуткими проделками беса: ужас и почти болезненное любопытство сочетаются в ней. Возникающий в этом речевом окружении стиховой повтор («мчатся тучи, вьются тучи» и т. д.) вбирает в себя эмоциональную энергию контекста и излучает эту энергию с удвоенной силой. Лирическое напряжение достигает апогея. Стих приближается к экспрессивной вершине.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… «Что там в поле?»
Предпоследняя строка восьмистишия рассечена глубокой паузой, графически подчеркнутой многоточием. Пауза эта создает эмоциональный фон, на котором вопрос путника «Что там в поле?» раскрывает всю глубину заключенной в нем душевной «дрожи».
В следующей строфе «Бесов» возникает образ, поражающий своей неожиданной неопределенностью:
Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят.
О ком идет речь? Кто «
он» — волк? бес? В черновом варианте образ не заключал в себе ничего таинственного. «Вот уж
волк далече скачет» — так было поначалу у Пушкина. В окончательном автографе упоминание о волке снято. Мотивы, по которым это было сделано, нетрудно восстановить, опираясь на художественную логику контекста. Деталь, о которой идет речь, в ее первоначальном виде («волк») могла преждевременно разрядить напряжение лирического сюжета. Всем ходом предшествующих событий, их неуклонным движением к драматической вершине, последовательным нарастанием лирической тревоги мы подготовлены именно к появлению
необычного. Между тем первоначальный образ своим очевидным правдоподобием разрушал фантастический колорит картины, а следовательно, и неизбежно сбивал эмоциональный накал стиха. И Пушкин предпринимает поэтический ход, отмеченный изощренной остротою поэтического чутья. Он вводит образ нарочито неопределенный по своим смысловым сцеплениям с контекстом, образ, колеблющийся между реальным («волк») и фантастическим («бес»).
В изображении фантастического самый отказ от называния ужасного, использование разнообразных словесных замещений, поэтических «табу» всегда увеличивает силу впечатления. В «Бесах» Пушкин использовал, на первый взгляд, ту же форму «замещения», что и Жуковский в «Балладе, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». В балладе Жуковского есть такие строки:
И
он[17] предстал, весь в пламени, очам,
Свирепый, мрачный, разъяренный,
И вкруг него огромный божий храм
Казался печью раскаленной…
Но у Жуковского — именно поэтическое «табу», речевое замещение, соотнесенное с одним и вполне определенным (пусть фантастическим) объектом. Что «он» — это дьявол, самым недвусмысленным образом расшифровывается контекстом. Совсем иное у Пушкина. Поэтический образ «Бесов» вообще живет неоднозначностью ассоциаций, колебаниями смысла. И эта особенность его заострена именно там, где Пушкину нужно было добиться особого накала экспрессии, сгустить ощущение ужаса, чтобы вслед за этим перейти к изображению фантастической пляски бесов.
В «Бесах» Пушкин, как уже говорилось, отнюдь не пренебрегал балладными приемами организации сюжета, призванными усилить его динамику, окутать событие захватывающей атмосферою тайны, рокового и ужасного. Но поэтика русской баллады, разработанная в первую очередь Жуковским, очищается у Пушкина от всего архаического, застывшего, обретая удивительную лаконичность и естественность художественного воплощения. На малом
[18] композиционном пространстве пушкинских «Бесов» обновляются прежде всего формы балладного диалога. Диалог в балладе одновременно и реакция героев на событие и повествование о нем. Причем иногда за пределами диалога иной «информации» о событии вообще не дано. Так обстоит дело и у Пушкина (в первой части «Бесов») с той лишь существенной оговоркой, что у Пушкина эти функции балладного диалога гармонически уравновешены. У Жуковского повествовательное начало порою обессмысливает диалог. В «Людмиле», например, реплики героев втягивают в свою ткань даже пейзажное описание. Происходит своеобразный перелив повествования в диалог, объяснимый только воздействием жанровой архаики. Ведь баллада когда-то (немецкая, в первую очередь) была жанром диалогическим. Даже в балладе Гердера и Гете (к примеру, в «Рыцаре Олафе» Гердера и в гетевском «Лесном царе») все еще дает о себе знать старая фольклорная традиция, сообразно с которой сюжет строится с опорою на сквозной диалог. У Жуковского реплики героев берут на себя функции повествования даже там, где это угрожает очевидными алогизмами. Жених в «Людмиле» начинает свою реплику сообщением о том, что он мертвец. К тому же герой говорит о себе в третьем лице, как сказал бы о нем автор:
«Светит месяц, дол сребрится,
Мертвый с девицею мчится;
Путь их к келье гробовой.
Сладко ль, девица, со мной?»
А между тем Людмила продолжает, по воле автора, пребывать в полном неведенье, «делая вид», будто смысл сказанного до нее не доходит. Диалог утрачивает всякие, даже чисто условные мотивировки. Впрочем, Жуковский и не стремился к ним. В алогичности его диалога проглядывает омертвевший лик жанровой традиции, смысл которой выветрило время. Но для Жуковского, чем дальше от «смысла» мир балладной тайны, тем лучше. В нем «большие чудеса, очень мало складу», как шутливо выразился Жуковский. Такова его жанровая установка.
Пушкинская реплика ямщика в «Бесах» тоже несет в себе «сообщение» о событии (жуткие проделки беса), о котором поначалу нет упоминаний за чертой диалога. Но интонированное на простонародный лад, это «сообщение» обладает поразительной естественностью живого слова. Диалог пушкинских «Бесов», скрещивая в себе жанровый опыт Жуковского и Катенина, еще в большей степени оглядывается на живую (не фольклорную только) стихию народной речи. С другой стороны, Пушкин «сжимает» структуру балладного диалога, не позволяя ему разрастаться за счет обильных повторений зачина, за счет вариаций на одну и ту же тему, которые могли нарушить (и нарушали у Жуковского) естественное течение речи. Развернутый повтор выносится за пределы диалога, превращаясь в средство воплощения авторской эмоции.
Но здесь мы подходим к той художественной границе, за которой исчерпывает свои возможности «язык» баллады, подхваченный авторским замыслом, подчиненный ему, и вступает в действие лирический принцип этого замысла, весьма далекого от жанровых установок баллады.
Пушкин, как известно, не сразу нашел удовлетворявший его вариант зачина. Поначалу он выглядел так:
«Путник едет в чистом поле…»
«Путник? едет в темном поле…»
«Путник едет в белом поле…»
«В связи с необходимостью реалистически обосновать диалог путника с ямщиком, — пишет Б. Городецкий, — в перебеленной рукописи появляется сначала:
„Едем, едем в чистом поле…“
И наконец, окончательное:
„Еду, еду в чистом поле…“»
[19]
Вряд ли это объяснение убедительно. Естественно допустить, что Пушкин нашел бы способ «реалистически обосновать диалог» и в том случае, если бы его произведение начиналось в манере безличного, объективно авторского повествования, именно так, как оно начиналось в первоначальном варианте. Думается, что пушкинские поиски зачина — прежде всего поиски речевой установки, соприродной характеру замысла. От выбора этой установки зависело, в конечном счете, решение
жанровой проблемы. Вопрос, по-видимому, заключался в том, быть пушкинскому произведению балладой или лирическим стихотворением. Первые наброски зачина явно склонялись в сторону балладного варианта. Ведь, по существу, строчка «
путник едет в чистом поле» самым недвусмысленным образом отрицала за
«путником» право быть речевым субъектом всего художественного построения и носителем лирической эмоции. Одной лишь строкой, но строкой, сообщавшей эпический настрой всей композиции, образ путника был вписан во всеобъемлющую раму объективно авторского повествования. Между автором и персонажем была учреждена эпическая дистанция. Лирическому «я» не оставалось места в таком развороте художественного замысла. Но окончательный текст пушкинских «Бесов» позволяет судить о том, что как раз именно лирической, отчетливо оценочной формой воплощения поэтической мысли Пушкин дорожил более всего. Эта форма несла в себе современный (а не фольклорно-балладный) уровень мышления. Благодаря этой форме условно-фантастическая ситуация «Бесов» обретала далеко идущий художественный смысл. Балладный сюжет смотрит, как правило, вспять: в прошлое, а не в настоящее, в мир легенды, а не в мир современности. Пушкинский лирический сюжет в «Бесах», сколь бы условен он ни был, живет за счет символических ассоциаций с современным состоянием русского мира.
История возникновения замысла «Бесов» неясна. Здесь можно лишь строить предположения, опираясь на давно замеченную исследователями особенность пушкинской психологии творчества, у истоков которого очень часто стоит конкретное событие или, точнее, конкретный повод (личностно-биографический, литературный, историко-политический). Есть некоторые основания допустить, что и первоначальному замыслу «Бесов» предшествовали импульсы литературно-биографического порядка.
В 1828 году (февраль — март) Баратынский посылает Пушкину письмо, в котором, в частности, сообщает о том, что «Василий Львович пишет романтическую поэму. Спроси о ней у Вяземского. Это совершенно балладическое произведение. Василий Львович представляется мне Парнасским Громобоем, отдавшим душу романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу Жуковского?»
[20].
Речь здесь идет о Василии Львовиче Пушкине, над старческими литературными потугами которого, равно как и над архаичностью художественных симпатий, едко иронизировали его бывшие соратники по «Арзамасу». Письмо любопытно во многих отношениях. Им открывается новый этап в истории литературного и дружеского общения двух великих поэтов. В пушкинской переписке конца 20-х — начала 30-х годов имя Баратынского, упоминания о встречах с ним будут мелькать все чаще и чаще. Письмо позволяет судить и о том, насколько отодвинулась в прошлое в сознании Баратынского и Пушкина к 1828 году
романтическая практика баллады. Тон суждений о балладе в письме, которое, по-видимому, было продиктовано желанием Баратынского восстановить прерванные отношения и переписку с Пушкиным, мог опираться лишь на полную уверенность в сходстве литературных оценок. И, наконец, Баратынский расценивает иронически балладную традицию романтизма в целом, но, обращаясь к Пушкину с призывом написать пародию, он имеет в виду, судя по всему, конкретное произведение Жуковского — «Двенадцать спящих дев». Предположение это подкрепляется контекстом письма, насмешливым сравнением Василия Львовича Пушкина с Громобоем и упоминанием о романтическом бесе. Пародия на «Двенадцать спящих дев» не была написана ни Пушкиным
[21], ни Баратынским. Но кстати упомянутый образ «романтического беса», видимо, пустил корни в художественном мышлении Баратынского. Он перевоплотился в прихотливый, не лишенный грациозного лукавства и одновременно серьезных и глубоких символико-философских ассоциаций образ «бесенка». Стихотворение «Бесенок» было написано Баратынским в ноябре 1828 года.
На связь этого произведения с процитированным отрывком из письма к Пушкину намекает и ироническое отталкивание от романтической «демонологии» в начале стихотворения, и образ Громобоя (героя поэмы-баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев»):
Слыхал я, добрые друзья.
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали.
Им подражаю в этом я,
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым Сатаной,
Кому душою преклонился
За деньги старый Громобой.
Узнайте: ласковый бесенок
Меня, младенца, навещал
И колыбель мою качал
Под шепот легких побасенок.
Развертываясь в композиции стиха, образ бесенка обрастает фольклорными реалиями:
Сгрустнется мне в моей конурке,
Махну рукой по старине,
На сером волке, сивке-бурке.
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Здесь уместно напомнить (пока не делая никаких выводов) о тех фольклорно-сказочных мотивах, которыми сопровождаются образы пушкинских бесов в черновом варианте:
Что за звуки!.. аль бесенок
В люльке охает больной,
Или плачется козленок
У котлов перед сестрой…
Но самое примечательное в стихотворении Баратынского, пожалуй, то, что образ, движущийся поначалу в русле полемико-литературных, а затем фольклорных ассоциаций, вдруг резко укрупняет содержательный масштаб обобщения, получая «выход» в современность. Противоречия ее воплощены Баратынским с поистине философским размахом и редкой поэтической энергией:
Когда в задумчивом совете
С самим собой из-за угла
Гляжу на свет и вижу в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон, —
Я слабым сердцем возмущен, —
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он…
«Бесенок» Баратынского символизирует собой
спасительный дух поэзии:
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель,
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.
Нужно ли говорить, что символическое содержание этого образа у Баратынского совсем иное, не то, которое несут в себе пушкинские «бесы». Но, однако же, нельзя не заметить, что последовательность композиционных этапов, которые проходит у Баратынского образ «бесенка» (из поэтического мира баллады он смещается в мир фольклорной традиции, обретая затем контакт с философски осмысленной современностью), аналогична той последовательности стадий в становлении пушкинского замысла, которая запечатлена в рукописных автографах «Бесов». «Бесенок» Баратынского появился в «Северных цветах» на 1829 год (цензурное разрешение — 27 декабря 1828 г.). Следовательно, есть основание допустить, что Пушкин мог прочесть это стихотворение, не говоря уже о том, что он мог о нем узнать из уст самого Баратынского, с которым встречался во время приездов в Москву, например в январе 1829 года («Баратынский у меня», — писал Пушкин в записке Вяземскому 5–7 января 1829 г.). 1829 годом датируется, как известно, и первый набросок «Бесов».
Сопоставляем эти даты совсем не для того, чтобы установить здесь факт «влияния». Важно лишь иметь в виду, что
лирически воплощенный образ «беса», возникший поначалу в полемическом контакте с балладной традицией и переосмысленный затем в контакте с современной действительностью, уже был введен в литературный кругозор современности. В «Бесах» Пушкин нашел свой, неповторимый поворот поэтической темы. К тому же он, как уже говорилось, не просто отодвинул в сторону художественный опыт романтической баллады, но и воспользовался его ценными «накоплениями», вплетая их в новый контекст. Баратынский создает свою композицию, пользуясь испытанными средствами медитативной лирики. Пушкин идет в «Бесах» нехоженой тропой. Взрывая жанровые устои романтической баллады изнутри, он включает лирического субъекта в балладную ситуацию и наполняет эту ситуацию символическим смыслом, обращенным к современности. А главное, образы «бесов» обретают у Пушкина иную лирико-эмоциональную окраску, иной художественный прицел. Содержание, заключенное в них, многомерно и не поддается узкологическим конкретизациям, сколь бы ни были они соблазнительны.
Вот почему не может быть и речи о зависимости поэтической
структуры «Бесов» от каких бы то ни было литературных «первоисточников». Речь может идти лишь о зависимости первоначального, самого общего и, надо думать, весьма смутного замысла
от литературных первотолчков, сомкнувшихся с впечатлениями от действительности и пробудивших работу пушкинского воображения. К литературным
возбудителям пушкинского замысла исследователи обоснованно относят образ «сбившейся с пути России» из чаадаевского письма к Пушкину (Д. Д. Благой, Б. Городецкий) и впечатления от дантовского «Ада», перечитанного поэтом незадолго до написания «Бесов» (Д. Д. Благой). В этот ряд имеет смысл подключить и лирико-философский опыт Баратынского с его «Бесенком». Замысел «Бесов», судя по всему, возникает на
скрещении различных литературных импульсов, подхваченных и «переплавленных» пушкинскою думою о современности.
Мы отошли от пушкинского текста, чтобы показать, как складывался замысел и как в нем балладный вариант был оттеснен субъективно-лирическим. Вернемся теперь к произведению. В той точке лирического сюжета, где эмоциональное напряжение стиха достигает вершины, возникает причудливая, набросанная размытыми, ускользающе-неопределенными штрихами фантастическая картина бесовского вихря:
…Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Изображение бесовского «роя» подчеркнуто нематериально. В сущности, перед нами лишь образ движения. Здесь нет ни одной устойчивой и вещественной детали. Все расплывается и ускользает. «Бесы» пушкинские не только «безобрáзны», они безóбразны. Сравнение с листьями не возбуждает предметных ассоциаций. Оно передает лишь признак движения, его вихревой характер. Не бесы «будто листья», а «
закружились… будто листья».
Но призрачность этого образа, мерцающего в тусклом, тревожном и зыбком свете луны-«невидимки», его подчеркнутая нематериальность не дают оснований расценивать его лишь с точки зрения чисто психологических мотивировок (а это порою делается в литературе): только как иллюзию путника, только как феномен его воображения, подстегнутого тревогой и простодушно-суеверным ужасом ямщика. Пушкинский текст, может быть, и допускает возможность такого истолкования, но ведь важно, что он «не настаивает» на ней, оберегая условность изображения. Лирический субъект Пушкина в «Бесах» — не романтический «духовидец», конечно. Однако же пушкинское стихотворение и не психологический этюд о капризах воображения. Нелепо было бы усматривать в «Бесах» романтическую фантасмагорию, намекающую на существование «миров иных». Но и рационалистический изыск, жаждущий обнаружить трезво-психологические пружины пушкинской фантастики, привел бы лишь к обеднению поэтического содержания «Бесов»: широта его
органически не отделима от условности изображения. Именно на условности фантастики и крепится здесь многозначность лирической ситуации. Стоит лишь истолковать эту фантастику в узко-психологическом смысле — и пушкинские «Бесы» обернутся поэтической «Шалостью». Содержание их сместится в первоначальный подзаголовок, который Пушкин ввел, надо думать, оглядываясь на цензуру.
Ближе к финалу «Бесов» в композиции стиха все чаще появляется лирическое «я». И лирические вопросы предпоследней строфы
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
и последние строки пушкинского стихотворения
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
выводят лирическую эмоцию на первый план. Расплавленная в экспрессии диалога, в движении лирического сюжета, она теперь обретает открытый, исповедально-оценочный характер.
Эмоциональная стихия «Бесов» двойственна: она сочетает в себе страх и тоску. Совмещение подобных эмоций в едином лирическом мироотношении уже встречалось у Пушкина. К 1829 году (год рождения первых пометок замысла «Бесов») относится незаконченный черновой набросок, в котором пушкинские впечатления от теснин и ущелий Кавказа выливаются в многозначительные символико-метафорические ассоциации:
Страшно и скучно.
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Солнце не светит,
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Солнцу обидно.
Путник не встретит
Окроме тьмы…
Лирическое переживание мира здесь шире, сложней, драматичней тех конкретно-путевых впечатлений, от которых оно отталкивается. И в контексте этого переживания предметно-изобразительные детали обретают глубокий смысловой резонанс. От восприятия кавказского пейзажа они ведут к восприятию
мира[22]. Необыкновенно весомо поэтическое сравнение второй строфы («Небо чуть видно, Как из тюрьмы»). Упоминание о тучах и ночлеге неизбежно надстраивается в нашем восприятии, взаимодействуя с теми символическими «приращениями смысла», которыми сопровождается образ пути в пушкинском творчестве («дорога» жизни и жизненный «ночлег» в «Телеге жизни», образный строй стихотворения «Дорожные жалобы» и т. д.). Набросок «Страшно и скучно», весьма далекий от «Бесов» по теме и композиции, все же перекликается с ними. Перекликается не только многозначительной двойственностью лирической эмоции (страх и тоска), но и отдельными деталями изобразительного плана («путь», «путник» в черновом варианте «Бесов», «тучи», «снег», «тьма»), а главное, смысловой объемностью образа, наделенного символической перспективой. Все это, по-видимому, следствие стихийного пересечения замыслов, различных, и в то же время смыкающихся в единстве трагически напряженного виденья мира.
Эмоциональная тема «Бесов» динамична. Тревога и смятение сгущаются по мере развертывания лирического сюжета. Но в тот момент, когда ужасное из тревожных предчувствий становится фантастической реальностью, ощущение страха точно бы слабеет, зато неизмеримо обостряется ощущение тоски, захлестывающей душу. Чувство это усиливается к финалу и на тоскливой, щемящей ноте обрывается трагическая симфония «Бесов». «Бесы» начинаются лирически. В лирическом ключе они и замыкаются. Последнее слово, на котором обрывается движение темы, — личное местоимение («Надрывая сердце
мне»), напоминание о лирическом субъекте. В заключительной строфе возникает исходный повтор («Мчатся тучи, вьются тучи» и т. д.), которым открывается произведение. Финал «Бесов» отсылает к началу. Но это не возвращение вспять, призванное гармонически уравновесить художественное целое и замкнуть мысль на итоговой черте. Конфликтного исхода лирическая ситуация «Бесов» не имеет. Поэтическая идея произведения уходит в бесконечность духовного движения, подобно тому, как в бесконечность ночного неба уходят призрачные образы бесовского «роя». Поэтическое пространство «Бесов» к финалу необозримо раздвигается. В пятой строфе «духи собралися Средь белеющих равнин», в последнем восьмистишье они мчатся «рой за роем В беспредельной вышине». Всплеск неизбывной тоски в стихотворении, сюжет которого держится на непрерывном нарастании беспокойства и страха, порожден, по-видимому, безысходным зрелищем неисчерпаемости зла. Бесы у Пушкина «
бесконечны». Это пространственная деталь их образа. Но в символическом контексте и пространство не может быть осмыслено иначе, нежели символически. Пушкинские «бесы» — не только носители, но и невольники зла. Они сами ввергнуты в роковой круговорот. И над ними тяготеет некая внешняя сила. Так символическими средствами Пушкин воплощает своеобразную иерархию зла, символически опредмечивая многоликость враждебных стихий, опутавших личность и сбивающих с пути современную Россию.
* * *
Сразу же вслед за «Бесами» (написанными 7 сентября 1830 года) Пушкин создает «Элегию» (8 сентября). Здесь ощутимо меняется направление пушкинской лирико-философской мысли. В «Бесах» эта мысль устремлена к «общему состоянию мира», если воспользоваться термином Гегеля. В предметно-проблемной сфере «Бесов» мир личности присутствует лишь потенциально, как мыслимый элемент символически воссозданного целого («русский мир», сбившийся с пути). Ведь лирическое «я» «Бесов» условно уже постольку, поскольку оно включено в условно-фантастическую ситуацию. Это ставит его в особое отношение к авторскому образу. Тождественный автору на оценочно-эмоциональном и идеологическом уровне, лирический субъект «Бесов» расходится с авторским образом на уровне сюжета, обретая здесь известную автономию, приметы лирического персонажа.
В «Элегии» лирическое «я» выступает в чистом виде, всецело совпадая с авторским образом. Совпадение это подчеркнуто биографическими реалиями. Личность в «Элегии» становится одновременно и субъектом и объектом лирической оценки, поэтического анализа. Пушкин исследует свой собственный, глубоко индивидуальный душевный опыт. Но исследует его под таким углом зрения, который продиктован жгучей потребностью в духовных опорах. Здесь-то как раз индивидуально-биографический аспект пушкинских размышлений смыкается с осмыслением судеб современной личности и ценностей, на которые она может опереться. Поэтическая биография «прорастает» в эпоху. Так подхватывается в «Элегии» проблематика «Бесов» и получает дальнейшее развитие. Духовные блуждания по российскому «бездорожью», тоскливое созерцание бесовского вихря переливаются в сосредоточенный поиск пути. В структуре «Элегии» вновь возникает этот образ («Мой путь уныл»), «Бесы» — «трагедия». «Элегия» — попытка преодолеть трагическую безысходность.
В «Бесах» лирическое «я» заявляет о своем отношении к миру прежде всего через эмоцию, идеологическая глубина которой угадывается в контексте символической ситуации. «Элегия» построена на поэтическом
размышлении. Ее интонационно-мелодический строй отмечен большой уравновешенностью и сдержанностью в воплощении эмоций. Но гармонического спокойствия, которое порой усматривают в «Элегии», здесь нет и следа. Экспрессивная стихия «Элегии» нигде не прорывается в бурных всплесках эмоционально-лирической энергии, но она заявляет о себе в острых, порою неожиданных поворотах напряженно пульсирующей мысли.
Чтобы постичь эту сдержанную страстность и тревогу пушкинского лирического размышления, нужно прежде всего осознать, что «Элегия» — не переплавленное в поэтический образ исповедание некоей застывшей истины, раз и навсегда сложившегося представления об идеале. Словом, перед нами не манифестация философского символа веры, но лирически запечатленный
процесс его постижения.
Внутренняя тема этого произведения, сущность которой заключается в сопряжении жизненных контрастов, в снятии однозначных оценок, развертывается на большой поэтической глубине. «Элегия» лишний раз демонстрирует иллюзорность пушкинской простоты, давая понять, какой сложный сплав художественных ассоциаций несет в себе пушкинское слово, погруженное в предельно емкий стиховой контекст.
«Элегия» начинается с переоценки прошлого:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
На первый взгляд, пушкинское отношение к минувшему исключает двойственность. И эпитет «безумных», и сравнение «как смутное похмелье», столь дерзкое в своей обнаженной прозаичности, несут в себе вполне определенную оценочную реакцию: память о прошлом рождает лишь боль и ощущение невосполнимой утраты, последствия прошлого тяжким грузом падают на сердце. Следующие строки как будто ничего не прибавляют к этому впечатлению. Ведь здесь по аналогии развертывается образ из того же ассоциативного ряда, который организует контекст первых строк: «похмелье» — «вино».
Но такое истолкование окажется ложным, как только мы попытаемся осмыслить поэтический эффект пушкинского противительного «но», открывающего третью строку. В беловом автографе эта строка начиналась с соединительного «и». Малость, казалось бы. Но эта малость существенно меняет экспрессивно-смысловую ориентацию образа, оценочные акценты слова. Замена союза, вне всякого сомнения, была продиктована концепцией всего произведения, тем последним усилием творческой мысли, когда она выверяет целесообразность деталей в контексте только что законченного целого. Нельзя, конечно, сказать, что и в первоначальном варианте этих строк совершенно отсутствовал всякий оттенок оценочного контраста. Но то был лишь намек и опирался он лишь на широкий контекст пушкинского творчества: «вино» в поэзии Пушкина чаще всего рождало высокие поэтические ассоциации, а «печаль минувших дней» уже в «Воспоминании» (1828) расценивалась неоднозначно («Но строк печальных не смываю»). Намек этот в первоначальном варианте приглушало соединительное «и», побуждавшее расценивать детали третьей и четвертой строк в свете той оценки, которой сопровождается образ минувшего в начале произведения. Окончательное пушкинское «но» все расставило на свои места. Теперь оба синтаксических периода, уравновешенные ритмически (1–2), оказались противопоставлены друг другу в оценочно-экспрессивном отношении. Противопоставление это запечатлено отнюдь не в логико-синтаксическом строении фразы. С логической точки зрения, что здесь противопоставляется и чему? «Но… печаль… сильней»? Сравнительная степень («сильней») повисает в воздухе, как только мы попытаемся найти для нее опору в логической структуре первых двух строк. Она не соотносима с этой структурой. И поэтому зона противопоставления проходит не здесь. Формальная логика явно оттесняется «логикой» поэтически-экспрессивной. Оценочный контраст заключен в обостренном с помощью противительного союза столкновении речевых элементов: «похмелье» — «вино». Не случайно они сближены и подчеркнуты ритмически: один из них завершает стиховую фразу, другой открывает ее. Так, в образе минувшего, в его смысловой глубине впервые открывается противоречие, дальний «прицел» которого нам еще не вполне ясен — он раскроется в ходе дальнейшего движения поэтической темы. Пока лишь одно очевидно: прошлое для Пушкина — не досадный прочерк в истории становления души. Оно томит и мучает памятью о «безумных днях», но оно оставило драгоценный опыт страдания, неизгладимый след печали, по Пушкину, неразлучной спутницы мысли.
От минувшего пушкинская мысль переносится в будущее:
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Поначалу пушкинское предначертание будущего не оставляет места для надежды. Мысль о будущем отливается в форму поэтических констатаций, лишенных всякой предположительности и колебаний. Возглашается истина, которая, казалось бы, не может быть пересмотрена, и дается оценка, исключающая всякую двусмысленность. Разрыв ритмико-интонационного единства 5-й строки, вторжение паузы экспрессивно напрягают стих на пограничной черте, в точке завершения крупного композиционного целого.
Пушкинская дума о грядущем высказана с такой категоричностью, что поэтическая мысль «Элегии» уже не может двигаться дальше в том же русле. Поэтому следующая строка «Но не хочу, о други, умирать» переключает ее в новое образное измерение, в котором представление о будущем утрачивает первоначальную категоричность. Плоскостное виденье мира сменяется объемным, и неожиданно перевоплощаются, обретая диалектическую многомерность, жизненные стихии («труд» и «горе»), которым сопутствовала однозначная оценка. Вновь возникает противительный поворот речи, то самое «но…», которое послужило в третьей строке сигналом противоречия, обогатившего образ минувшего. Присмотримся же внимательно к тончайшим сдвигам пушкинской мысли.
Вторая часть «Элегии» открывается восклицанием, исполненным такой неистребимой жажды бытия, вспыхивающей при мысли о смерти, что, кажется, одним уже этим напором жизнелюбия могут быть отброшены все противоречия. На подобном порыве жизнелюбия пресекалась, например, державинская дума о смерти, и трагические вопросы, поставленные в его философской оде («На смерть кн. Мещерского», «Водопад»), не получали разрешения. Ощущение тупика, обессмысливающего человеческое существование, преодолевалось Державиным не силою поэтической «контридеи», но одним лишь напоминанием о непритязательно-естественных радостях бытия, эфемерность которых была, в сущности, продемонстрирована всем предыдущим ходом поэтической мысли. Однако такой способ разрешения (а точнее, устранения) противоречий, удовлетворявший Державина, не приемлем для Пушкина.
Дума о смерти в «Элегии» лишь обостряет пушкинское виденье мира. Мысль поэта, наткнувшись на «роковой предел», взмывает на такую философскую высоту, с которой «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Не забвение на «пиру жизни» стремится противопоставить Пушкин надвигающейся угрозе исчезновения. Он ищет опоры, заложенные в высших потребностях человеческого духа. Дело совсем не в том, что пушкинская мысль со стоической готовностью приемлет невзгоды и треволнения бытия. Суть в том, что в пушкинском жизнеощущении границы тьмы и света, горя и счастья, жизненных утрат и обретений не прочерчены раз и навсегда. Каждая стихия жизни готова обернуться своей противоположностью. Так возникает бессмертный пушкинский афоризм «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Он уже сам по себе являет образец таких мирообъемлющих поэтических истин, которые как бы равновелики гениальному произведению, могут веками держаться собственной, автономной силой заключенного в них философско-поэтического прозрения. Но, конечно, как бы ни был значителен философский «заряд» этого образа, а все-таки подлинная глубина заключенных в нем ассоциаций раскрывается лишь в контексте. В композиции «Элегии» пушкинская «формула» «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» отчетливо взаимодействует с теми поэтическими пророчествами, которыми завершается первая часть стихотворения: «Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море». «Труд» и «горе» — «мыслить и страдать» — как будто родственные стихии… Но тогда отчего же им сопутствует столь явно контрастная поэтическая оценка? Отчего то, что поначалу рождало лишь уныние, если не отчаянье, перевоплощается затем в источник жгучей потребности бытия?
Истина, заключенная в первоначальном пушкинском пророчестве, — истина фатально-безличная, точно бы навязанная человеку извне, неотвратимым ходом событий. «Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море» — здесь звучит как бы голос самой судьбы. Между тем во второй части «Элегии» поэт буквально с первых же слов заявляет о своем «хотении»: «Но
не хочу, о други, умирать. Я жить
хочу…» Пафос второй части — пафос жизненной активности, личной воли, не сникающей даже при мысли о неотвратимости конца. В композиции первой части «Элегии» лирический субъект нигде не выступает прямым носителем действия. Он лишь носитель состояния, лицо страдательное. Потому-то здесь и отсутствует «я», а есть лишь «мне», «мой», «мне». Иной «рисунок» слова во второй части. Лирический субъект теперь несет в себе ярко выраженное начало волеизъявления: впервые появляется «я», множатся от строки к строке личные формы глагола. Они стягиваются к началу и к концу поэтической строки, обретая здесь особую смысловую подчеркнутость:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Не случайно, конечно, и появление архаизма «ведаю» в этом стиховом контексте, насыщенном особой волевой энергией. «Ведать» — не то же самое, что «знать», «надеяться», «предполагать». «
Ведать» — значит обладать особой, волшебной силой предвиденья, чудесным даром разгадывать хитросплетения судьбы. Внутренняя форма этого слова таит в себе оттенок духовной активности. Он выявлен и усилен стиховым окружением.
Торжество воли и мысли, мощный порыв духовной энергии, запечатленный в словесно-интонационной системе второй части, — это и есть та «высота», с которой теперь обозревается «грядущего волнуемое море». «Труд и горе» теперь высветлены мыслью. Безликая, тяготеющая над человеком извне жизненная стихия прошла сквозь «фильтр» индивидуально душевного опыта. И в
неизбежном открылись поэту непредвиденные глубины, а
необходимое обернулось возможностями свободы. Однозначная «схема» будущего, предначертанная судьбой, рухнула. На восхождении лирической мысли все в более широкие сферы обозрения бытия, на восхождении, каждая ступень которого предполагает как бы переключение противоречий в новый «виток» диалектической спирали, держится композиционная логика «Элегии». На каждом таком «витке» все глубже внедряется пушкинская мысль в существо жизненных противоречий и в то же время все теснее сближает она полярные жизненные начала. К поэтическому анализу Пушкин прибегает ради синтеза, к которому упорно устремляется его мысль.
Аналитико-синтетический склад мысли в «Элегии» отражается в системе словесных сцеплений. Речевая система «Элегии» насквозь контрастна. Противостояния слова особенно обильны во второй части. Здесь каждая поэтическая строка в экспрессивно-смысловом отношении противопоставлена соседствующей. Контрастные переклички слова или словосочетания возникают в сильной стиховой позиции, в конце строки («наслажденье» — «треволненье», «гармонией упьюсь» — «слезами обольюсь», «закат печальный» — «улыбкою прощальной»). В этих условиях момент контраста ритмически форсирован, но одновременно укреплена и внутренняя связь, смысловая соотнесенность противопоставленных элементов речевой композиции. В ритмической структуре «Элегии» контрастные ряды слова сдвинуты так, чтобы их столкновение внезапно открывало взору внутренние сцепления вещей там, где, на первый взгляд, видится лишь несходство жизненных явлений. С другой стороны, Пушкин сближает контрастные ряды слова, а следовательно, и охваченные словом полюсы действительности, сохраняя при этом ощущение остроты, конфликтности подобных сближений.
Стремясь к синтезу, пушкинская мысль не приглушает противоречий. Такое умиротворение, в котором были бы стерты контрасты, сглажена острота горя, но поэтому и острота счастья сглажена тоже, утрачено ощущение захватывающего разнообразия бытия, — такое вымученное умиротворение Пушкина, естественно, не прельщает. Море «грядущего» в его «Элегии» — «волнуемое море». Счастье мышления, нераздельно слитое с глубиной страдания, упоение гармонией, полнота которого тем ощутимей, что посещает оно средь «горестей забот и треволненья»; «прощальная улыбка» любви, блеск которой особенно неотразим в последних лучах жизненного «заката» — каждая стихия жизни у Пушкина точно бы нуждается в своей противоположности, чтобы сохранить свою притягательную власть над душой.
В аналитико-синтетической поэтике «Элегии» четко проступают глубоко неповторимые принципы пушкинских этико-эстетических оценок. Чтобы уяснить их, прибегнем к сравнению.
В элегиях Баратынского контрастные духовные начала (скажем, «страсть» и «рассудок») тоже расщеплены, внутренне неоднородны и ни одно из них не расценивается поэтом однозначно. Но в итоге такого расщепления душевных стихий Баратынский обнаруживает их полное, фатально непоправимое расхождение с идеалом. Ведь идеал в представлении Баратынского романтически абсолютен, а духовные сущности, попавшие под аналитический скальпель его художественной мысли, обнаруживают в себе пугающую двойственность. К тому же аналитик Баратынский, как правило, останавливается на пороге синтеза, не пытаясь переступить этот порог. Его останавливает на этой черте, разумеется, вовсе не ограниченность его мышления, а просто склад его поэтического дарования.
Пушкинские же оценки предполагают своего рода взаимное «высвечивание» духовных полярностей, в итоге которого каждое противоборствующее начало, раскрываясь в своей двойственности, выявляет и глубоко скрытые в нем проблески (но, конечно, не более, чем проблески и возможности) идеала. Процесс постижения идеала для Пушкина немыслим вне восстановления подлинной глубины и противоречивости, скрытой в явлениях душевной жизни. И следовательно, это бесконечный процесс. Вот почему понятие осуществленной «
гармонии» у Пушкина применимо лишь к искусству и, быть может, лишь к бесконечно отдаленной цели человеческого совершенствования, но никак не к эмпирической, текучей реальности. Не случайно слово это возникает в поэзии Пушкина в окружении атрибутов творчества. В размежевании искусства
как гармонически организованной реальности и насквозь противоречивого потока жизни сказывается величайшая реалистическая трезвость пушкинского мышления. Подобное размежевание ничуть не ущемляет права действительности, ибо в нем отсутствует однозначно-ценностный критерий: реальность не отвергается во имя идеалов искусства, как нечто низменное, искусство не возносится над реальностью и не подменяет ее. Пушкин не разрывает и не абсолютизирует эти меры. Он только признает за ними действительно присущую им автономию, предостерегающую от их отождествления.
Пушкин прекрасно понимал, что подмена действительности творческой мечтой, подмена, претворенная в принцип жизнеощущения и жизнестроительства, чревата трагедиями. Самоослепление художника, возомнившего, что искусством и только искусством могут быть исчерпаны связи человека с миром, воплощено в Сальери. Беда Сальери совсем не в том, что ремесло поставил он «подножием искусству» и алгеброй «поверил гармонию». Напрасно этим признаниям придают смысл, всецело компрометирующий Пушкинского героя. Ведь ясно из контекста его монолога, что здесь речь идет лишь о «первых шагах» композитора, об азбуке творчества, постигнув которую Сальери «вкусил восторг и слезы вдохновенья» и высокие муки недовольства собой, кстати обличающие в нем недюжинного художника. Беда Сальери — в преизбытке жреческой страсти, очертившей свой мир единым и замкнутым кругом «музыки», в том, что, отвергнув жизнь, бурлящую за порогом искусства, усмотрев в ней одну лишь «несносную рану», Сальери отсек у творчества питающие его артерии и сам воздвигнул тот роковой предел, выше которого ему не дано подняться. По типу своего жизнеощущения (а не по складу эстетических пристрастий, ссылка на которые не может служить решающим аргументом в оценке психологической сущности художественного характера) Сальери вовсе не классик, как полагали Б. Я. Бухштаб и Г. А. Гуковский, а скорее уж романтик. В нем воплощена романтическая, по существу, перенапряженность художнического сознания и готовность броситься в искусство как в спасение от преследований грубой и прозаической действительности — черты, соприродные психологии романтизма, по крайней мере тех его ответвлений (Жуковский, русские любомудры), с которыми резко разошелся художественный путь Пушкина в конце 20-х годов.
Во втором монологе Сальери есть слова, которые, перекликаясь с авторской исповедью «Элегии», отчетливо раскрывают зону недоступности, отделяющую духовную позицию персонажа от пушкинского виденья мира. И там и здесь размышления о духовных опорах, скрашивающих человеческое существование, имеют одну и ту же точку исхода — мысль о смерти. «Жажда смерти» мучает Сальери и только надежда на «незапные дары» жизни способна удержать его от самоуничтожения:
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое — и наслажуся им…
И для Пушкина дары творчества, его восторги и муки — один из величайших соблазнов жизни. Но если для Сальери — это единственная нить, связующая его аскетическое сознание с «привычками бытия», то для Пушкина это лишь звено в цепи ценностей, соединяющей мир творчества со стихиями жизни. А замыкает эту цепь в «Элегии» «прощальная» улыбка любви — символ полноты и богатства «живой жизни», в самих противоречиях которой скрыт источник жизнестойкости человеческого духа. С другой стороны, перекличка упомянутых строк из монолога Сальери с пушкинской «Элегией» лишний раз убеждает нас в том, что даже в сумрачном образе этого трагического персонажа заключены крупицы пушкинского духовного опыта начала 30-х годов, только крупицы эти, естественно, переплавлены в объективной целостности созданного характера.
В болдинской лирике Пушкина нет произведения, в котором бы воплотилось «последнее», завершающее слово авторских размышлений о жизни. И «Элегия» в этом смысле — не исключение. Она неповторима по лаконичности поэтической структуры, столь всеобъемлюще охватывающей противоречия человеческого бытия. Она неповторима и по диалектической прозорливости мышления, которое пробивается к духовным ценностям через реальные сложности жизни, не отсекая эти сложности во имя идеальной, но безжизненной схемы. И однако ж впечатления окончательно сложившейся и устойчивой (устойчивой хотя бы к конкретному, болдинскому циклу духовного развития поэта) картины мира она не дает.
Уже у романтиков лирическая поэзия все очевиднее становится выразительницей индивидуально-неповторимого, личностного сознания и ее образный мир все шире вбирает в себя энергию текучего и противоречивого душевного мгновения. Оно исключает незыблемую и жестко закрепленную точку зрения на мир. Отдельное лирическое переживание как фрагмент душевной жизни поэта отныне лишь относительно и неполно может претендовать на воплощение «отстоявшейся» целостности лирического жизнеотношения. И все-таки даже в истории романтической поэзии можно встретить произведения, в которых частный момент духа осмысляется в свете некоего жизненного итога, в свете «замыкающей» истины. Конечно, она может быть скорректирована (иногда опровергнута) в процессе развития мироощущения поэта, относительность ее может быть выявлена общим контекстом творчества. Так это и случилось, например, с демоническим циклом Пушкина 23-го года, со стихотворением «Три ключа». Но как бы то ни было, всегда важно учитывать
эту установку лирического слова: какова степень его притязаний на воплощение «завершающей» истины. Поэтическая идея «Трех ключей», например, выражена Пушкиным как незыблемая и абсолютная трагическая «формула» человеческой жизни. Не случайно из композиции этого произведения исключено едва ли не все, что напоминало бы о присутствии лирического субъекта. Слово о мире звучит здесь как слово извечной правды, правды «родового», сверхиндивидуального порядка. Можно бы обратиться за примерами и к тютчевской лирике. Тютчевское «мы», которым порою «замещается» в его лирических композициях «я» конкретного носителя высказывания, вовсе не является приметой так называемой «хоровой лирики». Оно сигнал особой установки на предельную широту обобщения, оно устремлено к тому, чтобы подчеркнуть всечеловеческий характер воплощенных поэтом законов духовного бытия. Поэт сам устанавливает эстетический масштаб, в свете которого мы должны воспринимать его поэтическую «карту вселенной», не выходя за пределы избранной им меры охвата реальности.
Что же касается пушкинской «Элегии», то она вовсе не претендует на универсальность и окончательность высказывания, хотя в ней и воплощена глубокая и объективная правда о мире и человеке, о вековечных (а не только исторически преходящих) противоречиях жизни. В «Элегии» поэтическое размышление о мире нераздельно слито с мыслью поэта о себе, о трагических случайностях своей судьбы, о грозном и волнуемом море грядущего, которое не измерить никакими предначертаниями. И в финале «Элегии» поэт как бы оставляет за собой право надежды и право сомнения. Финал побуждает вспомнить пушкинское высказывание о счастье, промелькнувшее в письме к Осиповой (ноябрь 1830 года). «Но счастье… это великое
быть может, как говорил Рабле о рае или о вечности. В вопросе счастья я атеист: я не верю в него и лишь в обществе старых друзей становлюсь немного скептиком»
[23]. Последний штрих «Элегии», гениальное пушкинское «может быть», органично замыкая образ противоречивого многообразия жизни, одновременно раздвигает лирическую перспективу, предвещая возможность дальнейших духовных коллизий.
* * *
Лирика болдинской поры (как, впрочем, и драматургия, и проза) с особенной очевидностью убеждает в том, насколько плоско и вульгарно представление о гармоническом Пушкине, за которое так долго цеплялась старая либеральная пушкинистика. Об этой давно отброшенной современным пушкиноведением легенде можно бы и не вспоминать, если бы отзвуки старого, но стойкого стереотипа изредка не давали о себе знать то напоминаниями о пушкинском оптимизме, то стремлением приглушить драматические конфликты пушкинского мышления конца 20–30-х годов.
В болдинский период лирико-философская мысль Пушкина движется от противоречия к противоречию. Прощупывая их в разных направлениях, она может вернуться к истокам проблемы (конфликта) и в том случае, когда она, казалось бы, только что наметила русло, в котором противоречия могут быть сняты на уровне синтеза. И в этих перепадах пушкинской мысли сказывается своеобразная «логика», «логика» душевной
борьбы.
В «Элегии» Пушкин не сомневается в смысле человеческого существования. Между тем именно в сомнении берет исток поэтическая символика «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» (октябрь 1830). «Стихи…» открываются образом ночного мира:
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
С редкой поэтической смелостью и одновременно с высоким художническим тактом Пушкин вплетает в структуру философского символа бытовую деталь. Она входит в пушкинский стих не только для того, чтобы укрепить предметные «корни» образа, без которых невозможна никакая символика. Деталь эта несет в себе лирическую оценку, от верного понимания которой не в последней степени зависит понимание существа пушкинской поэтической идеи. Об этом еще пойдет речь впереди. Теперь же необходимо лишь заметить, что Пушкин останавливается именно у той тонкой эстетической грани, за которой философская символика может сместиться в «быт», а условно-лирическая ситуация в биографический план. Д. Д. Благой писал о «прозаическом ключе», в котором начинается это стихотворение. Наблюдение справедливое, если только его не преувеличивать. Не следует забывать, что если в пушкинских «Стихах…» нет библейского «бледного коня» (он остался в черновом автографе), то в них нет и «ночной жизни старого, давно нежилого помещичьего дома», как нет и «будничного образа старухи-крестьянки, сидящей за прялкой»
[24], а есть все-таки Парка — богиня судьбы, образ аллегорический, хотя бы и дерзко обытовленный.
Символика пушкинской ночи наращивается исподволь. Образ первых четырех строк поначалу воспринимается как поэтический набросок фона, остро схваченный ракурс быта, закрепивший мгновенное впечатление, не больше. И только неожиданно возникающее упоминание о Парке резко укрупняет смысловой объем образа. Рождается «отраженная» ассоциативная волна, которая в движении своем захватывает предшествующие детали, побуждая осмыслить их «заново». Лирический образ начальных строк вдруг поворачивается к нам своим вторым, символическим слоем, в контексте которого каждая бытовая деталь оказывается уже не внешним атрибутом ночного
фона, а многозначительною приметою
мира. Символическое звучание обретает не только «однозвучный» ход часов, образ, символика которого подкреплена традицией («Глагол времен, металла звон» у Державина), но и пушкинская строка «Всюду мрак и сон докучный». Соотнесенность этих образов, обусловленная «теснотой стихового ряда» (термин Ю. Н. Тынянова), возбуждает в точках их взаимодействия новое смысловое «поле». Возникает картина всеобщей дремоты, спячки сознания, погруженного в хаотический поток жизни, трагически дремлющего перед лицом времени. Пушкинская ночь в «Стихах…» — особое состояние мира, когда стихия жизни как бы легко «обтекает» расплавленные мраком границы вещей, раскрываясь в своих первородных, бессознательно-импульсивных («спящей ночи
трепетанье») и хаотических («жизни мышья беготня») движениях. Этим ночной мир Пушкина близок тютчевской ночи. Но у Тютчева ночной хаос — первооснова бытия, его метафизический исток, оценка которого с позиций «смысла» — нелепа. Пушкинская же ночь в первых строках выглядит воплощением жизненных начал,
еще не охваченных сознанием и воплощением сознания,
пока что безвольно растворившегося в потоке жизни. «Ночные думы» Тютчева вырастают на жадном стремлении прикоснуться к «темному корню» бытия, ощутить на себе жуткое и неотразимо влекущее дыхание «хаоса». У Тютчева это стремление фатально заложено в человеческом духе. Оно иррационально и не поддается ограничениям воли. Ведь тютчевский «хаос» не только изнанка мира, его темный лик, но и изнанка человеческой души, ее «наследье родовое».
Пушкинская мысль заинтересована, как мы увидим дальше, именно
поиском смысла, который мог бы упрочить положение личности в текучем и неустойчивом мире.
Пафос напряженной активности духа, жаждущего противопоставить «слепому» потоку бытия волевое усилие зоркой мысли, чтобы пробиться сквозь заслоны судьбы, сквозь «сон докучный», властвующий вокруг над умами, к трезвому и всеобъемлющему взгляду на жизнь, в свете которого случайное и хаотическое, весь этот «темный язык» бытия раскрылись бы в своем сокровенном значении, — таков пафос пушкинского лиризма не только в «Стихах…», но и в болдинской лирике в целом.
Вообще личностное начало в поэзии Пушкина выражено ярко и сильно. И невозможно согласиться с М. О. Гершензоном, утверждавшим в свое время, что «личности Пушкин не знает и не видит ее самозаконной воли»
[25]. Все дело в том, как понимать эту «самозаконную волю». Гершензон понимал ее всецело субъективистски. Нужно ли говорить, что такое понимание расходится с логикой пушкинского творчества 30-х годов. Личность у Пушкина не противостоит миру в горделивой позе романтического сверхзнания. Мера личностного самосознания у Пушкину и есть, в конечном счете, мера проникновения в объективный смысл тех отношений, которые связывают человека и человечество, человека и историю. Там, где у Пушкина частное человеческое существование, духовный мир личности и большой мир истории предстают как разобщенные реальности (в «Медном всаднике», например), там эта ситуация разрыва и распада воплощается как трагедия. Но пушкинскому изображению этой трагедии чужд романтический универсализм: не символы чисто духовных сущностей сталкиваются в ней, а объективные силы истории, в которую она и уходит своими корнями.
В болдинской лирике все, что связано с глубинными устремлениями личности, пытающейся уяснить возможности своего «самостоянья» в мире, необыкновенно накалено, насыщено страстью и тревогой. Человек здесь поставлен перед лицом судьбы — не только возможностей ее, но ее ограничений и преград. Образ судьбы, возникающий на общем фоне болдинской лирики, не утрачивает своей драматичности оттого, что судьба перестала быть в художественном сознании Пушкина романтической мистификацией внешних и чуждых сил, фатально тяготеющих над человеком. Сумрачный этот образ вырастает на конкретном материале пушкинского духовного пути, преломляющего в себе духовно-исторический путь пушкинской России. В нем слиты раздумья о непоправимости прошлого с его болью и утратами, жизненной бурей, разметавшей друзей, мысль о скоротечности бытия и неизбежности жизненного «ночлега». Все это — судьба, и грозные виденья ее со всех сторон обступают человеческую мысль. «Ночь» в болдинском творчестве Пушкина, в сущности, тоже один из обликов судьбы.
Мужество пушкинской лирико-философской мысли, ее личностный пафос тем ощутимей, что она пробивает себе дорогу среди непреложного и неустранимого, среди безотрадных реальностей истории, сохраняя в себе всю остроту виденья этих реальностей. Кажется даже, чем беспросветней сгущалась мгла вокруг, тем тревожнее разворачивались в начале 30-х годов обстоятельства русской действительности, тем ярче разгоралась пушкинская мысль, тем шире раздвигались ее горизонты. В этом тоже заключалась своеобразная, чисто пушкинская реакция на мир, проистекающая от гордого непокорства духа. Устремляясь к философским обобщениям, мысль Пушкина никогда не покидала исторической почвы, предчувствия, что смысл современной эпохи может быть постигнут лишь в глобальных сопряжениях прошлого и настоящего («Медный всадник», «Капитанская дочка», исторические штудии поэта), а разгадка современной личности немыслима без уяснения диалектики вечного и преходящего в сознании человека (болдинская лирика и драматургия). Все эти сферы изображения тесно соприкасаются в контексте пушкинской мысли.
В «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» Пушкин не останавливается перед тем, чтобы произнести самое безысходное слово о жизни. Но именно в той точке своего движения, где мысль поэта готова в хаосе и потемках духа усмотреть всеобщий закон бытия, она начинает упорный, настойчивый поиск смысла. Очевидна, таким образом, близость конфликтно-композиционной основы «Стихов…» к тем принципам воплощения конфликта, которыми определяется динамика образа в «Элегии». И там и здесь движение лирического образа предполагает ломку однозначно-узкой схемы жизненных противоречий и следующее затем погружение лирической мысли в глубины, в противоречивую сложность мира и души.
В композиции «Стихов…» есть своего рода нервный центр, конфликтное ядро, разительно четко обнажающее суть противоречия. На срединной границе стихотворения сталкиваются поэтические строки
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
смысловые и оценочные акценты которых резко противостоят друг другу. Здесь дана «поэтическая формула» конфликта. И что же? «Формула» эта отмечена, казалось бы, странной «непоследовательностью» мысли, если расценивать ее с точки зрения чисто смысловых и только смысловых отношений. Может ли тревожить явление, нелепость и бессмыслица, ничтожество и пустота которого только что выявлены. Но в этой-то «непоследовательности», а точнее было бы сказать оксюморности лирической эмоции, и заключается вся суть пушкинского образа, воздвигнутого на взрывчатой логике чувства, пронизанного страстной живой мыслью, которой чужда боязнь противоречий. Этот парадоксальный поворот темы выдает присутствие
стихийного порыва мысли, которую не может погасить даже истина о мире как о суете сует, «мышьей беготне».
Оттолкнувшись от конфликтного «ядра», попытаемся теперь восстановить органику воплощения конфликта. Пушкинская «жизни мышья беготня» — образ, увенчивающий в композиции «Стихов…» определенный этап, достаточно целостное звено в движении темы. В пределах этого этапа развертывание авторской лирической эмоции идет по восходящей. Нагнетаются отталкивающие приметы хаотического, не освещенного смыслом ночного бытия, символизирующего собой всю сферу человеческого существования. Бытовые детали нимало не «утепляют» картины, если помнить, что они важны не сами по себе, а лишь в контексте символической ситуации. Отталкивающий лик мира, в котором исчезло дыхание смысла и высшей разумной цели, раскрывается постепенно. Сначала рождается чувство унылого, усыпляющего мысль однообразия и скуки: «Всюду мрак и сон докучный…» Затем возникает ощущение звука: «Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня…» Но и звук не расторгает гнетущего однообразия мира, а лишь усиливает его. Вместе с тем его монотонность несет в себе зловещий оттенок: «
однозвучный» ход часов, словно бы голос вечности, едва слышный, ибо он сливается с усыпляющей мелодией ночи. Далее следует образ поразительной художественной мощи: «Парки бабье лепетанье». Вряд ли необходимо здесь указывать на дерзкое нарушение традиции, на остроту ассоциативных сближений, на которых держится этот образ. Все это слишком очевидно. Важно другое — тот неповторимый, трудно поддающийся объяснению художественный эффект, который возникает от взаимодействия этого образа с контекстом. Голос Парки приглушен, он тоже сливается с музыкальным «фоном» ночи — это всего лишь «
бабье лепетанье», кажется, и древняя богиня судьбы усыплена созерцанием скучного жизненного потока и нехотя, как бы сквозь сон, повинуясь всевластному автоматизму бытия, обрывает нити человеческих судеб. Трагический колорит этого образа, бесконечно усиливающий черты жизненной бессмыслицы в общей картине ночного мира, держится именно на этом «лепетанье», на приглушенности звука.
Каждая символическая деталь в картине целого у Пушкина подчинена единству тона, смыслового и музыкального. Но в пределах этого изобразительного единства идет нагнетание авторской лирической экспрессии от строки к строке, от штриха к штриху. И в этой экспрессии все явственней проступает субъективно-лирическая оценка. От эпитета «докучный» к детали «бабье лепетанье» оценочные акценты экспрессии становятся все отчетливей и все очевиднее раскрывается ее суть: отталкивание, неприятие, отвращение, усталость и
скука, объемлющая все эти эмоции, скрадывающая их определенность и остроту. И вот, наконец, на вершине этого художественного построения, там, где замыкается его первое композиционное звено, является образ, сосредоточивший в себе итог всего предшествующего развития художественной мысли — «жизни мышья беготня…». Он нимало не выпадает из общей картины, напротив, рождается из нее. Он ассоциативно «подсказан» той цепью изобразительных деталей, которые вырастали на символическом переосмыслении бытовых реалий. Но он исчерпывающе раскрывает символику пушкинского быта в «Стихах…», а главное, пушкинская мысль поднимается здесь до максимального обобщения. К тому же он вносит в изображение ночного мира новый оттенок. Монотонный поток жизни теперь завихряется хаотически бессмысленным, лихорадочно суетливым движением. Это движение как бы пародия на жизненный порыв. Мертвенное по сути своей, оно лишь усиливает ощущение тоскливого однообразия бытия, призрачности людских целей, сопоставленных с вечностью.
Итак, произнесена метафора, являющая собой поэтическую формулировку жизненного закона и одновременно экспрессивный сгусток авторского отношения к миру. Пушкинский стих, как бы споткнувшись о некую внутреннюю преграду, делает паузу, выявленную графически (многоточие). И далее возникает строка, неожиданно открывающая новый поворот художественной мысли: «Что тревожишь ты меня?» С этого момента лирические вопросы следуют один за другим. Вопросительная интонация становится цементирующим началом в развертывании образа. Она несет в себе максимум смысла уже потому, что выявляет огромное лирическое напряжение, запечатленное в слове.
В пушкинских вопросах бьется пульс жадной, настойчиво взыскующей мысли:
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я
В тебе ищу…
Мысль расплеснулась в этих вопросах неудержимо, именно как «
стихия», сама природа которой исключает представление о пределе. Потому-то она и опрокидывает тот барьер завершающего знания о мире, к которому она только что пришла. В стихийности ее порыва заключено неясное, но глубокое предчувствие того, что жизнь может оказаться таинственней, богаче и шире любых универсалий, хотя бы они и были пропитаны эмоциональной правдой и искренностью личного трагического опыта. Не итог философско-лирического размышления здесь важен. Его нет. Или, точнее, он снят, опровергнут, отброшен стремительным напором мысли, для которой очевидное вновь оборачивается тайной. Важен акцент на стихийной динамике духа, на вечно неутоленной потребности познания, которую лишь подхлестывает прообраз «последней» трагической правды о мире. Пушкин, в «Стихах…», в сущности, допускает представление о пределе познания только для того, чтобы тотчас же против него взбунтоваться.
Трагический сумрак сгущается над пушкинской мыслью в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы». Но в сумраке, по ходу развития поэтической темы, начинает брезжить свет. И свет этот излучает не спасительная контридея, способная противостоять представлению о жизни, как о бессмысленной «мышьей беготне», а сама лучезарная стихия пушкинской мысли, отважное кипение ума, не подавленного силою трагических впечатлений.
* * *
Поиск истины продолжается в пушкинском «Герое» (ноябрь 1830 года). Здесь резко перестраивается ракурс лирико-философской мысли. Теперь она втягивает в свою орбиту материал истории, одну из самых ярких, величественных и грозных ее страниц, связанную с судьбой Наполеона. Но не философия истории занимает Пушкина в «Герое» и не историческое содержание личности Наполеона служит здесь предметом размышления.
Человеческая сущность этой личности, противоречия ее духовной природы — вот что выдвигается на первый план. Было бы нелепо усматривать в этом симптом равнодушия к истории. Важно только понять, что исторический материал в «Герое» существен лишь постольку, поскольку он сопричастен пушкинской мысли о современном человеке. Исторические вехи судьбы Наполеона, величавая панорама его взлетов и падений — все это входит в пушкинский стих. Однако входит не как самоценный объект изображения, пределами которого исчерпано движение авторской мысли, а скорее как фон, призванный оттенить главное:
человеческое в гении, вечное в человеке, то, что не зависит от перепадов славы, от чередования удач и поражений. Вот почему библейский вопрос «Что есть истина?», вынесенный в эпиграф, для Пушкина не вопрос конкретно-исторического, локально-исторического порядка, но и не вопрос абстрактно-метафизический. Точка приложения его не перипетии наполеоновской судьбы, а сфера, непреходящих ценностей, насущно необходимых современному сознанию, в интересах которого и предприняты поиски ответа.
Первое, что приковывает к себе внимание в «Герое», — диалогическая форма композиции. Ее, разумеется, замечали исследователи, но не пытались принять за исходную опору анализа. Между тем форма эта в высшей степени небезразлична для того типа художественной идеи, которая воплощена в «Герое». Можно сказать больше: только в «открытой», полемически насыщенной структуре лирического диалога и могла быть воплощена пушкинская мысль, расщепленная, разорванная такими противоречиями, которые на сей раз требовали персонификации полемизирующих внутри авторского сознания «голосов»
[26].
К развернутым диалогическим композициям в лирике 20-х годов не однажды прибегали романтики. Но то был, как правило, диалог с жестко закрепленной авторской точкой зрения на мир, диалог полемический скорее по форме, нежели по сути. Мера виденья автора здесь, как правило, совпадала с позицией какого-то одного из полемизирующих «персонажей». Таков диалог-элегия Д. Веневитинова «Поэт и друг» (1826–1827). Поэт и только Поэт в этом диалоге — лирический рупор автора, рупор его представлений о роли творца и судьбах творчества. В пламенной исповеди Поэта рассыпаны характерные для лирики Веневитинова пророчества близкой гибели («Душа сказала мне давно: Ты в мире молнией промчишься») и шеллингианские размышления о провиденциальном назначении искусства, об искусстве как форме непосредственно интуитивного проникновения в «тайнопись» природы:
Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил!..
И, наконец, в довершение всего проскальзывает излюбленное представление Веневитинова о поэте-философе, в котором
…ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крылиях мечты.
Реплики же Друга, в сущности, лишь провоцируют Поэта на исповедь. Духовная позиция, заключенная в них, лишена самостоятельно-лирического значения в том смысле, что она не воспринимается как символ противоречия, закравшегося в сознание автора и расколовшего его. Меньше всего она результат авторских сомнений и поисков. В репликах Друга запечатлены следы бездумно-эпикурейского восприятия жизни, которое всегда было глубоко чуждо Веневитинову:
Нет! дважды жизнь нас не лелеет.
Я то люблю, что сердце греет,
Что я своим могу назвать,
Что наслажденье в полной чаше
Нам предлагает каждый день…
Полемические аргументы Друга не принимаются в расчет, ведь в них слышен голос непосвященного в «святые таинства искусства». А с непосвященными романтическое мышление никогда не стремилось установить диалогический контакт. Поэтому не случайно в заключительном четверостишье, выделенном графически, возникает в первый и последний раз монологически-авторское слово, в котором точка зрения автора подчеркнуто совпадает с духовной позицией поэта:
Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил.
Как знал он жизнь, как мало жил!
Совпадение полное: в авторском контексте подхватывается афоризм, прозвучавший в реплике Поэта («Как знал он жизнь, как мало жил»). Закрывая эту реплику, он закрывает и авторскую речь. Самооценка поэта сливается с оценкой автора. Диалог завершается монологически.
В стихотворении Баратынского «Отрывок» (1831) подобное завершение отсутствует. Но и здесь авторская позиция четко закреплена. Диалог нужен, в сущности, лишь для того, чтобы на контрастном фоне жизнеощущения, воплощенного в репликах «героини», оттенить безусловную истинность элегической исповеди «героя», которая и есть исповедь автора.
В диалогических композициях Веневитинова и Баратынского сопоставлены две позиции. Одна из них органически не приемлема для автора, находится «по ту сторону» его духовных исканий (у Веневитинова) или являет собой объект отрицания в данном лирическом контексте (у Баратынского, которому в общем-то была отнюдь не чужда жажда веры, абсолютизируемая его «героиней»).
Полноценно полемического столкновения здесь нет и не может быть. Такое столкновение в лирике возможно лишь тогда, когда в противопоставлении диалогических реплик воплощено противопоставление одинаково весомых стихий
единого лирического сознания. Ведь в лирике невозможно абсолютное овеществление «персонажей» — носителей диалогического слова и полемической идеи, невозможна эпическая или драматическая полнота их объективации. И та «персонификация» голосов в «Герое», о которой мы упоминали, конечно же, персонификация относительная и условная. В лирике возможна лишь
тенденция к такой объективации, в условиях которой авторская мысль, временно и частично растворяясь в чужой или, точнее, отчужденной диалогической позиции, рано или поздно возвращается «на круги своя». Это означает, что каждый из полемизирующих голосов диалога наделен правом представлять авторскую позицию. И стало быть, эта позиция не закреплена жестко за какой-либо одной из полемизирующих сторон. Она постоянно смещается, «скользит» из одного ряда реплик в другой, контрастный ряд. Она представлена на каждом полюсе диалога, в каждой из его речевых цепей. И в то же время ее нет там, ибо каждая цепь высказываний вправе претендовать лишь на какую-то долю истины, лишь на какую-то грань авторского сознания. А это возможно лишь в том случае, когда авторское сознание внутренне раздвоено, когда оно ищет выход из тупика противоречий и не находит его. И вот в лирическом диалоге поэт устраивает «очную ставку» противоборствующим стихиям своей собственной мысли. Он персонифицирует полярности этой мысли не из простой прихоти воображения. Ему важно уяснить, куда ведет каждая из идей-антагонистов. К такому диалогу редко прибегает лирика. Гениальные стихотворения в этом роде единичны. На одном уровне с пушкинским «Героем» оказываются, пожалуй, лишь «Два голоса» Тютчева. Лирика здесь вступает в пограничную область «межродовых взаимосвязей».
Она «заимствует» у драмы и, пожалуй, в особенности у романного мышления, если вслед за Б. Грифцовым считать принципом этого мышления закон «контроверзы»
[27]. «Герой» открывается размышлением Друга о прихотях славы, о переменчивых пристрастиях толпы, в суетной погоне за новизной, низвергающей старые кумиры:
Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает,
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?
Субъективно-авторская тональность этого размышления станет вполне очевидной, если вспомнить, с каким упорством в конце 20-х — начале 30-х годов Пушкин стремился осмыслить природу славы. Истинная и мнимая слава, вечное и мимолетное в ней — эти проблемы занимают поэта и в поэме «Полтава», и в ряде стихотворений начала 30-х годов («Что в имени тебе моем…», «Поэту»). Мысль о превратностях славы и горечь, рожденная этой мыслью, навеяны обстоятельствами пушкинской поэтической судьбы. 30-е годы, как известно, отмечены некоторым спадом интереса к пушкинской поэзии, попытками противопоставить ей новые поэтические веянья, возложить на нее ответственность за эпигонскую девальвацию стиха.
Все это, по-видимому, тревожило Пушкина, подстегивало и обостряло его интерес к вечным началам, скрытым в человеческой деятельности и определяющим ее непреходящий смысл.
Итак, в первой же реплике Друга проступает авторский взгляд на вещи. Это важно. Пушкин дает понять, что позиция Друга не есть совершенно отчужденная позиция. Она включена в кругозор авторского сознания, охвачена им, наделена правом его «полномочного представительства». Реплика завершается вопросом, острота которого усилена предпосланным ему рассуждением о капризах славы. Вопрос этот (исходный пункт пушкинского диалога) падает уже словно бы на подготовленную душевную почву, затрагивая в представлениях Поэта давнее и выношенное пристрастие:
Поэт
Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.
Первый ответ и… первое противоречие. Но пока что это еще не «контроверза» остро столкнувшихся полярностей авторского мышления, а противоречие, заключенное в самой природе объекта — личности Наполеона. Наполеон — «пришлец», но пред ним «склонилися цари». А главное, он — «ратник,
вольностью венчанный». Уже одно это сочетание взаимоисключающих атрибутов «вольности» и «венца» отмечено поразительной емкостью заключенного в нем исторически-объективного смысла. Пушкин варьирует здесь поэтическую характеристику, найденную им значительно раньше в стихотворении 1824 года «Недвижный страж дремал…»:
Сей всадник, перед кем склонилися цари;
Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.
Вариация старого образа в «Герое», подхватывая узловое противоречие исторической миссии Наполеона («мятежной вольности наследник и убийца»), стремится к метафорическому сгущению мысли. Ее смысловые звенья, не расчлененные теперь столь явно, образуют прочное метафорическое стяжение. Именно поэтому пушкинская метафора порождает тонкую игру смыслов — верный признак содержательного полнозвучия и насыщенности метафорического образа. «Вольностью венчанный» — это выражение включает оба полюса старой поэтической «формулы» (Наполеон как «наследник» вольности и ее «убийца»). Но первое значение возникает на смысловой поверхности метафоры, второе рождается в ее образной глубине: «венчанный» — атрибут триумфатора (в Древнем Риме увенчивали победителя, героя), но «венчанный» — и знак самовластья. И вот это последнее значение в столкновении с понятием «вольности» порождает внутреннее противоречие, оксюморность образа, которая и ведет нас к реальным контрастам наполеоновской судьбы. Противоречия эти накаляют пушкинский лирический диалог. Поиск истины осложняется. Следующая реплика Друга, точно бы оттолкнувшись от слов Поэта, сгущает резко контрастные грани исторического пути Наполеона. Лишенная сколько-нибудь явных сигналов полемичности, реплика, однако, несет в себе тайный полемический умысел. Контрасты наполеоновской судьбы, нагнетаемые вопросами Друга, показывают, что сложность заключена отнюдь не в самом выборе (героя, любимца славы). Сложность начинается за порогом выбора. И она состоит в том, чтобы отделить истинное в герое от ложного, вечное от преходящего.
Именно с этого момента ориентиром диалога и становится вопрос, вынесенный в эпиграф: «Что есть истина?» Вопросы Друга построены как цепь альтернатив. Но их скрытый полемический умысел в том и состоит, что, в сущности, они исключают выбор какой-либо отдельной альтернативы, ибо они демонстрируют сложность и противоречивость единого целого. Это целое — исторически неделимые в своих контрастах судьба и личность Наполеона. За подобным поворотом диалогической темы (напомним еще раз) — динамика пушкинского мышления, особенно настойчиво отвергающего в болдинский период «одноцветное», однозначное, иллюзорное восприятие мира и идущего к истине трудным путем, через противоречия и борьбу.
Вопросы Друга — не только побуждение к полемике, вызов на исповедь, обращенный к поэту. Дело еще и в том, что, вопрошая, они утверждают. Только это утверждение не логического, а поэтического порядка. Утверждается исторический ракурс в осмыслении наполеоновской судьбы, ее драматических перепадов. Создается образ этой судьбы, целенаправленно сгущающий ее контрасты. Наполеон — герой, но и тиран, и это грани одной личности:
Когда ж твой ум он поражает
Своею чудною звездой?
Тогда ль, как с Альпов он взирает
На дно Италии святой;
Тогда ли, как хватает знамя
Иль жезл диктаторский…
Наполеон владыка судьбы и одновременно баловень удачи. Он управляет течением событий:
…тогда ль,
Как водит и кругом и вдаль
Войны стремительное пламя…
Но и река истории стремительно подхватывает его:
И пролетает ряд побед
Над ним одна другой вослед…
Наполеон — дерзновение воли и гения, бросающих вызов вечности.
Тогда ль, как рать героя плещет
Перед громадой пирамид…
Но он только человек и его личная воля и разум имеют предел. Знамение этого предела — Москва, образ которой исполнен у Пушкина загадочной, затаившейся мощи:
Иль как Москва пустынно блещет,
Его приемля, — и молчит?
Следующая далее реплика Поэта начинается резким отрицанием
Нет, не у счастия на лоне
Его я вижу, не в бою,
Не зятем кесаря на троне…
решительно отвергающим цепь альтернатив, выдвинутых вопросами Друга. В композиции диалога происходит перелом. Репликою Поэта снято историческое содержание личности и судьбы Наполеона. Отрицанием охвачен даже последний, самый романтический и притягательный для Пушкина эпизод наполеоновской биографии. Наполеон — изгнанник, отвергнутый историей, томящийся в бездействии — эта последняя глава великой наполеоновской эпопеи давно владела воображением поэта. В стихотворении «К морю» именно финал наполеоновской истории исполнен в глазах поэта особого трагического величия:
Одна скала, гробница славы,
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы,
Там угасал Наполеон,
Там он почил среди мучений…
Понятно, почему Пушкина так волновала трагедия Наполеона — она воспринималась поэтом как искупление, в горниле которого очищалось пламя ложных страстей и в гении открывалось человеческое. Но теперь в «Герое» даже этот трагический эпизод наполеоновской судьбы отвергнут, хотя он и получает в композиционной раме стиха просторный разворот, хотя образ угасающего Наполеона воссоздан с гениальной емкостью:
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим.
Плащом закрывшись боевым.
В построении стиха здесь уже от строки к строке укрупняются очертания объекта. Перестраивая рылеевский образ, отмеченный в свое время как крупная поэтическая находка при чтении «Войнаровского» («Мазепа горько улыбнулся; Прилег, безмолвный, на траву И в плащ широкий завернуся»), Пушкин заостряет контраст неподвижности и сжигающей душу Наполеона потребности действия. «Боевой плащ» вождя, томимого пыткой покоя, — деталь, поражающая своей трагической глубиной.
Отвергая исторически эпохальные, но противоречивые, отмеченные прихотливым переплетением добра и зла, а главное, неустойчивые, втянутые в сокрушительный бег времени проявления наполеоновской славы, пушкинский Поэт подводит черту под этой цепью полемических отрицаний («Не та картина предо мною…»), чтобы сместить ракурс изображения. До сих пор в изображении наполеоновской судьбы преобладал панорамный аспект, теперь вводится крупный план. Исторически противоречивое содержание личности героя уступает место глубоко затаенным в ней идеальным человеческим возможностям. Для того чтобы раскрыть их, нужны крупные черты. Развертывается сюжетная ситуация, в которой герой воспринят с ближней дистанции. Поток времени остановлен, из него выхвачено отдельное мгновение и воссоздано так, что здесь каждая деталь предельно насыщена смыслом. Герой сталкивается с грозной, всесокрушающей стихией, с разгулом чумы, над которой не властны ни воля, ни человеческий гений. История уступает место мифу. А миф этот как бы создан для того, чтобы испытать высшие человеческие возможности в герое:
Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней… он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость…
Герой представлен в единоборстве со слепою, зловещею силой. Привыкший побеждать, здесь он бессилен. Но и в бессилии этом торжествует не вождь и не гений — человек. Однако человеческое в Наполеоне представлено в сумрачном, почти демоническом величии. Бросивший вызов неодолимому, он стоит как бы на роковой черте, готовый сорваться в пропасть, дерзко заглядывая в лицо самой смерти.
Здесь мы подходим к одному из важнейших моментов поэтической концепции «Героя». Выбор события, в котором проверяется весь человек, сила его духа, в высшей степени знаменателен для пушкинского мышления 30-х годов. Разгул чумы в «Герое», как и в «Пире во время чумы», — своего рода экспериментальная ситуация, позволяющая воплотить трагический поединок человека с неустранимым злом, испытать стойкость человеческого духа в самых губительных для него условиях. Ситуация эта глубоко символична. «Чума» у Пушкина не только мор, угроза реального уничтожения, нарушающая привычный ход жизни и, следовательно, создающая почву для трагических конфликтов. «Чума» — эмблема духовного распада, «сумрачный недуг», в котором гибнет ум. Недуг этот порожден именно неустранимостью зла, убивающей волю. Слишком социологизировать этот символ не стоит. Но психологическое содержание эпохи, по-видимому, воплотилось в нем. Так или иначе в этом образе отразилось такое состояние мира и людских душ, которое отнимает надежды, искажает страсти, поднимает со дна души иррациональные стихии, ослепляя ум громадою зла. И в этой-то символической по резонансу художественной ситуации испытывается величие Наполеона. Пушкинский Поэт заключает свою реплику манифестаций, произнесенной с жаром и внушительностью клятвы, страстного и неколебимого убеждения:
…Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой…
В клятве Поэта есть строки, которые, как нам кажется, проливают свет и на художественную природу конфликта в «Пире во время чумы», на существо авторской позиции в отношении к героям-антагонистам.
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор…
В этих строках словно бы лирически перевоплотились две эмоциональные темы «Пира…», два его идеологических полюса: полюс Вальсингама и полюс Священника. Они сближены в «Герое», помещены в одну идеологическую плоскость, схвачены связующей основой единого мироощущения. Это позволяет предположить, что антагонисты «Пира…» в равной мере носители авторского сознания, объемлющего крайности, субъективные истины героев в диалектической целостности такого художественного мироотношения, которое избегает прямолинейных pro или contra в оценке конфликтующих позиций, усматривая в них равновеликое смешение ущербности и силы. Вальсингаму с его дерзким вызовом, провозглашенным над разверзающейся бездной, не хватает просветляющего начала той самозабвенной и зоркой человечности, которая, постигая всеобщность горя, видит за судьбами мира судьбу людей. Священнику не достает могучей личностной энергии, той силы духовного порыва, который звучит в гимне Вальсингама. Гуманность Священника близорука, а жертвенность его слишком фаталистична. Распавшиеся, эти духовные позиции несут на себе клеймо «сумрачного недуга». Воссоединенные, они могли бы противостоять разгулу зла. Конфликт «Пира…» — открытый конфликт. У него нет завершения, которое было бы равнозначно торжеству какого-либо одного из враждующих жизнеощущений. Не случайно трагедия обрывается на неустойчивом моменте, на образе размышления, воплощенном в авторской ремарке: «Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». В «Пире во время чумы» Священник в дерзости Вальсингама усматривает вызов «небесам». Символика «неба» как символика высшего суда и высшей правды возникает и в «Герое». Но здесь «другом неба» объявлен тот, кто в стычке с неотвратимым злом сочетает в себе могущество воли, свет разума с деятельной человечностью.
Однако та жизненная позиция, которая могла бы стать итоговым синтезом, примиряющим в себе конфликтующие позиции «Пира…», в «Герое» вовсе не является замыкающим звеном диалога. Миф о единоборстве Наполеона с чумой лишь драматическая вершина, поднявшись на которую мысль поэта видит перед собой вместо завершающей истины новое противоречие. Реплика Друга разрушает обаяние легенды:
Друг
Мечты поэта,
Историк строгий гонит вас!
Увы! его раздался глас, —
И где ж очарованье света?
Горизонты истины отодвигаются вдаль. Здесь пора сказать и о втором стержневом образе стихотворения, образе самой истины. Суть в том, что произведения Пушкина — не только диалог о герое, но и
диалог об истине. На это не обращали внимания, но ведь от этого зависит понимание сложности и богатства пушкинской мысли. В евангельском эпиграфе к «Герою» берет исток второй смысловой пласт пушкинского диалога, пересекающийся с тематическим руслом полемики, осложняющей ее течение. Глубинный этот пласт «выходит на поверхность» в финале, нераздельно сплетается с самой сердцевиной диалогической проблемы. Оттого так напряженно и трудно бьется пушкинская мысль в «Герое», восходя от противоречия к противоречию, что самое представление об истине в глазах Пушкина утратило однозначно-универсальный характер. Но в мечтах пушкинского Поэта, знаменующих собой одну из противоборствующих сторон авторского сознания, наделенную в диалоге правом автономного развития, не утрачена еще жажда всеисчерпывающей и вечной истины, жажда, не поддающаяся диктату рассудка. Пушкинский эпиграф побуждает вспомнить о евангельском мифе. Есть особый смысл уже и в том, что эпиграф почерпнут из евангельской легенды, в которой так же, как и в мифе о Наполеоне, испытывается весь человек. В этом эпизоде Нового завета искусству издавна чудились, особая психологическая глубина и широта общечеловеческого содержания, приглушенные, «свернутые» в нерасчлененно символических формах народной религиозной фантазии. Вопрос Понтия Пилата, обращенный к истерзанному Христу, которому предстоит взойти на Голгофу, вдвойне уязвим. Это вопрос догматика и схоласта. Он таит в себе дурную абстрактность и к тому же он совершенно излишен. Ведь суть евангельского мифа в том и состоит, что перед римским прокуратором сама истина, оживотворенная в судьбе «сына человеческого».
И для пушкинского Поэта истина сопряжена со стихийно-нерасчлененной целостностью человеческого деяния, подсказанного естественными побуждениями. Такую истину не в силах сокрушить безысходность обстоятельств, ибо она покоится не на рефлексии, не на обескровленной догматике долга, а на глубинных и неустранимых движениях человеческой природы. Это зерно истины не «снимается», не опровергается в пушкинском диалоге. Другое дело, что этим зерном для Пушкина не исчерпана вся многомерность проблемы. В пушкинском образе истины есть диалектически подвижные грани, выявляющие себя лишь в столкновении с другим полюсом сознания.
Последней репликой Поэта диалогическая тема смещена в предельно широкий философский план:
Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет,
Тьмы низких истин мне дороже.
Нас возвышающий обман…
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
По печальному недоразумению строки эти, как известно, получили в критике Добролюбова узкологизирующее, однобокое, а потому и превратное истолкование. Пушкина потом долго оправдывали, некстати ссылаясь на противоречия его мировоззрения. А между тем, как справедливо заметил Д. Д. Благой, в адвокатах Пушкин нуждается менее всего. Никакой
абсолютизации «возвышающего обмана» в «Герое» нет и тени. Она начинает чудиться лишь тогда, когда пресекают течение поэтического диалога на «злополучной» реплике Поэта, отторгая ее от общего полемического контекста, отождествляя с «последним» словом автора
[28]. Да к тому же еще и в самой реплике совершают отсечение смысловых связей, упрощая и сглаживая противоречивый смысл целого. Но разве не очевидно, что «отрицание» истины в реплике Поэта предстает в цепи ограничений: отрицается не столько истина вообще, сколько возможность ее дурных, субъективных применений. И разве не очевидно, что сущность провозглашенного поэтом вывода, так возмутившего радикальную критику, заключается не в предпочтении истине обмана, но лишь в предпочтении «возвышающего обмана» «низким истинам». Причем смысл этого эпитета («низких») у Пушкина строго локален, уточнен контекстом предшествующих строк. «Низкая» истина — не просто жестокая, трезвая правда, пугающая человеческую мысль, разрушающая ее спокойствие и самоудовлетворенность. Нет, это истина, ставшая добычей «толпы» (в ее пушкинском понимании), оружием ее самозащиты. Это, наконец, истина, унижающая человека. Именно такой смысл поддержан контрастирующим эпитетом: «низких» — «возвышающий». Пушкинская антитеза поражает объемностью смысла, богатством контрастных граней. В самом деле, противопоставление проходит сразу по нескольким «уровням»: сталкиваются «истины» и «обман»; противостоят «возвышающий обман» и «низкие истины»; наконец, каждое отдельное звено антитезы таит в себе смысловую неожиданность, создающую впечатление контраста: «низкие» — «истины», «возвышающий» — «обман». Но смысловой стержень антитезы проходит, конечно же, в зоне эпитета, уточняющего пределы сопоставления. Только в этих границах и обретает свой смысл поэтизация «возвышающего обмана». Раздвинуть их или разорвать цепь антитезы, абсолютизировав какое-то отдельное звено — значит исказить поэтическую идею целого. Важно понять и другое: в манифестации Поэта «логика» нераздельно сплавлена с порывом страсти, готовой довести до рискованного предела утверждение той веры, которой действительность только что нанесла неизгладимое оскорбление.
Последней репликою поэта подхватывается «спущенная» на время нить исходной темы:
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
Мысль поэта возвращается к истокам полемики, к ее основному объекту. Прошедшая через искус сомнения, столкнувшаяся с противоречиями между абсолютным и относительным в самом понимании истины, мысль Поэта завершается итоговым кредо, в котором резко заострены и одновременно диалектически сняты полемические крайности проблемы. «Герой» и «тиран» — эти понятия в контексте лирического диалога (но, разумеется, только в этом контексте) не разделены непроходимой пропастью. От геройства до тирании, предупреждает Пушкин, один шаг, если забыты побуждения сердца, символизирующего правду и человечность. Здесь снова просвечивает волновавшая Пушкина в 30-е годы мысль о психологических метаморфозах страстей. Сильные, до предела накаленные человеческие побуждения, поглощающие собой весь духовный мир личности, устремленные в стесняющее русло единственной страсти, могут прихотливо, порою неуследимо для личности сместиться от полюса добра к полюсу зла. «Всеобъемлемость чувств» и зоркая стража сердца (как бы добавляет Пушкин в «Герое») — таковы преграды на пути стихийной «игры страстей», позволяющие различить то, что находится «по ту сторону» добра.
Мы попытались представить тот идеологический предел, к которому направлена мысль пушкинского Поэта. Представление об этом пределе навевается композиционной динамикой диалога. В заключительной реплике Поэта резонируют пушкинские раздумья о вечном и преходящем в судьбе гения, о диалектике истинного и ложного, добра и зла, и, следовательно, здесь воплощена существенная грань авторской концепции человека. И однако же то, что является итогом для пушкинского Поэта, вовсе не является итогом для Пушкина. Ведь его художественное сознание вбирает в себя и диалогическую позицию Друга. Причем вбирает ее как равноправную полемическую позицию. Ведь диалог продолжается. Звучит реплика Друга: «Утешься…» Странная это реплика. В ней как будто явное нежелание возражать, стремление сбить накал полемики, достигнувший наивысшей точки, готовность пощадить чужие иллюзии, наконец. И все-таки нельзя не заметить, что в ней заключено сомнение, смягченное готовностью оставить спор. «Утешься…» — одно слово только и произнесено, но этим словом истина, провозглашенная Поэтом, зачислена в разряд утешений.
Здесь необходимо сделать отступление. Истолкование последней реплики диалога может показаться непривычным. Дело в том, что адрес этой реплики принято увязывать с событием, которое остается за порогом стиха и намек на которое угадывается в нарочито условной авторской датировке произведения («29 сентября 1830, Москва»). Речь идет об эффектной миротворческой миссии Николая I, посетившего холерную Москву, о поступке, который в глазах иных современников был под стать мифическому подвигу Наполеона, якобы посетившего чумной госпиталь в Яффе. Вовсе не собираясь оспаривать бесспорное существование внешнего, конкретно-исторического адреса, заключенного в намекающей датировке «Героя», мы должны все же заметить, что в истолковании пушкинского произведения ему придают неоправданно большое значение. Порою все рассуждения о «Герое» вращаются вокруг этой темы или невольно сбиваются на нее. Не нужно бы забывать, что пушкинский «Герой», как всякое гениальное произведение, живет внутренними художественными законами, самодвижением поэтической идеи, а не «поводом к написанию». Слов нет, в случае с «Героем» и повод существен. Но существен скорее для характеристики политического мировоззрения поэта в 30-е годы, той сферы представлений, которая в «Герое» остается все-таки за границей стиха. Концепция пушкинского «Героя» не только неизмеримо богаче события, которое, по-видимому, послужило одним из импульсов, вызвавших ее к жизни. Она обладает эстетической автономией в отношении к нему. Поразительная глубина философского мышления, запечатленная в «Герое», не нуждается в проекциях на реальную историческую ситуацию (приезд Николая в холерную Москву). Оттолкнувшись от нее в истоках (или в последующей авторской ретроспекции?) замысла, Пушкин слишком далеко ушел от нее в воплощении художественной идеи. Но если это так, то это означает, что в восприятии и истолковании любой детали пушкинского текста (исключая, конечно, авторскую датировку) нет нужды искать внешний адрес. Но зато есть необходимость разобраться в ее внутренних сцеплениях с развертыванием диалогической темы. В контексте диалога реплика Друга «Утешься» — лишь реакция на собеседника и, как уже было сказано, это реакция приглушенно выраженного сомнения. Но что подвергнуто здесь сомнению? Существо идеала, провозглашенного в декларации Поэта? Едва ли. Сомнением охвачена скорее всего лишь возможность его опоры на действительность. А действительность в представлении Пушкина всегда полна неожиданностей, способна разрушить любые, самые стройные и гибкие построения человеческой мысли. Спор пушкинских героев обрывается на полуфразе. Он внутренне не завершен.
Противоречие между «низкими истинами» и «возвышающим обманом» в последней реплике Друга, в контексте ее сцеплений с репликою Поэта как бы оживает вновь. Оживает на новом уровне, на уровне взаимоотношений истин мышления и истин действительности. И Пушкин лишь дает понять, что противоречие это не может быть разрешено в сфере «чистой мысли». «Последнее слово» отодвигается, как бы смещаясь за пределы диалога в перспективу самой действительности.
 Глава III
«Анфологические эпиграммы»
Глава III
«Анфологические эпиграммы»
«Царскосельская статуя»
«Рифма»
«Отрок»
«Труд»
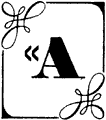
«Антологическая пьеса» — едва ли не самый устойчивый жанр в поэзии 1-й половины XIX столетия. Он сохранял стабильность своих границ и в ту пору, когда рушились жанровые принципы мышления в лирике. Вероятно, это объясняется тем, что перестройки его всегда сопряжены с риском утратить колорит античного жизнеощущения, к воссозданию которого стремилась антологическая лирика. Случаи таких деформаций, в итоге которых из художественной структуры жанра исчезал оживлявший ее дух «прекрасных соразмерностей», бывали в истории поэзии. Чтобы ощутить тот внутренний предел пластичности жанра, переступать который не удавалось без ущерба для стилевой целостности антологической пьесы, достаточно вспомнить поэзию Н. Ф. Щербины. В творчестве этого поэта (весьма даровитого в своем роде) антологическая лирика часто смещалась в стилизацию.
Внешние атрибуты античности подменяли внутреннюю духовную целостность изображаемого мира. Избыточность этих атрибутов, их мозаическая пестрота придавали стилизациям Щербины утрированный характер. Ведь полноценная художественная стилизация (имеющая, кстати, все права на существование) не стремится к нагнетанию чисто внешних примет воссоздаваемого явления. Она озабочена воспроизведением лишь немногих, но существенных признаков, близких к содержательной сердцевине стиля. Индивидуальность его и узнается благодаря смысловому сгущению некоторых, но характерных примет. Однако даже такая стилизация небезопасна для антологического жанра, поскольку и в ней все-таки «мертвеют» черты некогда живого художественного целого, застывает его внутренняя динамика. И даже если стилизация не ставит перед собой разоблачительных намерений, все равно она эквилибрирует на очень шаткой грани между воспроизведением и насмешкой. «Антологические пьесы» Щербины были таковы, что они облегчали задачу многочисленным пародистам 60-х годов. Такое воспроизведение античности, к которому порою прибегал Щербина, уже само по себе было близко к невольному самопародированию. Авторский образ Щербины, характер его жизнеощущения плохо уживались с эстетическими установками жанра. Сознание Щербины было расколото диссонансами эпохи. Он бросался в античность, как в спасительную гавань, от общественных потрясений эпохи, от собственного скепсиса и раздвоенности. Но как раз эта-то обостренная жажда абсолютного покоя и абсолютной гармонии, связанные с нею экзальтация и напряженность, по-видимому, мешали поэту осмыслить античность как самобытный и целостный духовный мир, который можно постичь лишь путем художественного вживания, немыслимого вне установки на объективность. И получалось в итоге, что как бы ни оберегал Щербина неприкосновенность своей античной идиллии, ее принципиальную непричастность хаосу современности (так он воспринимал ее), а все-таки беспокойный дух этой современности, ее дисгармоничность, глубоко проникшие в сознание поэта, привносились им и в антологическую лирику, разрушая здесь внутреннюю меру изображаемого. Кроме того, здесь сама демонстративность попытки противопоставить антологический жанр литературной и внелитературной современности сообщали художественным установкам жанра чуждую им цель. Ведь жанр этот стремился постичь античный мир не по контрасту с современной эпохой, а изнутри, из глубины его собственного историко-культурного контекста.
Мы позволили себе заглянуть в другую литературную эпоху (50–60-е годы) лишь затем, чтобы показать, какие рифы подстерегают антологическую лирику там, где она вольно или невольно сближается с современностью, поступаясь при этом внутренней замкнутостью художественного объекта. Замкнутость объекта в антологическом жанре (хотя и не абсолютная, как нас убеждают в этом пушкинские «антологические эпиграммы») — явление, резко выделяющее его в ряду многих других жанровых типов, мобильность и пластичность которых как раз определяется возможностями их сближения с динамикой современного поэту сознания. Этим объясняется и прочная власть традиции, закрепленная поэтикой «антологической пьесы».
Пушкину болдинской поры нужна была огромная дисциплина художественной мысли, чтобы сохранить эстетическую целостность этого жанра: она могла быть легко утрачена под напором драматических коллизий, разрывающих пушкинское сознание начала 30-х годов. Поражает уже само обращение Пушкина к жанру, казалось бы, столь далекому от всего, что тревожит поэта в эту пору. Пушкин создает в Болдине пять антологических пьес («Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд», «На перевод Илиады»). Это необычно уже потому, что это много для позднего Пушкина, а тем более для нескольких месяцев его поэтических трудов. Нужно вспомнить, что с 1821 года, особенно плодоносного в области антологической лирики, Пушкин на протяжении девяти лет создает всего лишь четыре завершенных антологических пьесы («Сафо», «Кто на снегах возрастил…», «Подражания» Анакреону и А. Шенье)
[29]. Впечатление такое, будто в болдинскую осень вдруг ожил, воскрес из полузабвения жанр, долгое время пребывавший на периферии пушкинского творчества, да к тому же жанр, по своим художественным установкам явно контрастирующий с основными конфликтными направлениями пушкинской мысли. Чем объяснить это? Видимо, лишь той внутренней потребностью в гармонии, в душевном равновесии, которая напоминала о себе тем острее, чем глубже был духовный разлад и ощущение катастрофичности бытия в пушкинском миропонимании начала 30-х годов. Но Пушкин не возлагал на антологический жанр никаких идеологических иллюзий. Он не искал в античности утопию «золотого века», как это было свойственно Гнедичу и отчасти Дельвигу. Пушкин отчетливо разделял эти сферы: мир античности и современную действительность. Но именно потому, что он разделял их, сознавая необратимость исторического процесса и своеобразие внутренних законов, по которым живет каждый из этих миров, — именно поэтому в болдинской лирике миры эти соприкоснулись в единственно возможной зоне сближения — на стыках вечных проблем.
В 1821 году одна за другой появляются на свет блистательные антологические пьесы Пушкина, которые позднее в сборнике 1826 года были объединены под общей рубрикой «Подражания древним». В этих произведениях складываются основы пушкинского восприятия античности и пушкинская концепция антологического жанра. Не только упоение жизнью «эта роскошь, эта нега, эта прелесть»
[30], которую находил Пушкин в греческой поэзии (и в удачных, на его взгляд, «подражаниях» Дельвига), — не только это привлекает Пушкина в жанровых возможностях антологической пьесы.
Первые ростки движения эмоций, их тонкие гармонические переходы в тех особых духовных формах, которые не терпят дисгармонии и хаоса, в которых печаль пронизана внутренним светом и ни одна эмоция не вырастает до диссонирующего предела, — здесь находил Пушкин почву, на которой можно было бы развернуться психологическим устремлениям его лирики. К тому же здесь велика была власть жанровых ограничений. А то, что ограничивало художественную мысль, в глазах Пушкина было не только преградой, но и стимулом творчества. В стесняющих пределах блеск, сила и дерзость художественной фантазии, по Пушкину, особенно неотразимы. Не исключено, что уже и тогда (в 1821 году) в жанровых барьерах антологической пьесы (барьерах не только формальных, но и содержательных) Пушкину, быть может, интуитивно виделся противовес необузданному беззаконию романтической субъективности
[31]. Кстати, именно в этом свете значение античного искусства для художественной практики раннего романтизма расценивалось крупнейшими реформаторами романтической эстетики братьями Фр. и Авг. Шлегелями.
Уже и тогда, в антологических опытах 1821 года, Пушкин обходит стороной вакхическое начало античности, столь привлекавшее Батюшкова. «Дионисийская», оргиастическая стихия античного жизнеощущения, особенно широко расплеснувшаяся в эпоху эллинизма, судя по всему, мало занимает Пушкина начала 20-х годов. Точно так же и внешняя, экзотически-декоративная сторона античности, усердно имитируемая антологической лирикой эпигонов (к примеру, В. Панаев с его идиллиями), никогда не привлекала Пушкина сама по себе.
Пушкин ищет и находит свою область лирических эмоций, в которых вполне самобытно преломлялся бы общечеловеческий опыт античного мироощущения. Образы чувства в антологических пьесах Пушкина 1821 года отмечены особой неповторимой прелестью. Это прелесть
душевной грации, мыслимой лишь на фоне сдержанности в проявлениях чувства, сдержанности, берущей исток в природной, а не благоприобретенной способности души. Контрасты между естественной сдержанностью в проявлениях чувства и пожаром его, разгорающимся в душевной глубине, моменты, когда оно безотчетно и непроизвольно проступает наружу, этот след «улыбки нежной» в пушкинской «Дионее» или столь же непроизвольная, рожденная свободной прихотью души гордость «девы» («Дева») и ее равнодушие, за которым лишь угадывается внутреннее беспокойство, ревнивое внимание к «неосторожному другу», — уже в этих образах чувства проступает характерно пушкинский акцент на подвижности эмоций, а главное, на естественности их проявлений. Пушкин отнюдь не стремился в антологических пьесах к изображению только умиротворенных душевных движений, которые бы могли служить символами прямолинейно и узко истолкованной античной гармонии. Нет, мир античной души для него живой мир. В нем возможна и психологическая нерасчлененность душевных проявлений, и контрасты переживаний, и стихийная игра чувств, когда одна эмоция безотчетно замещает собой другую. Все эти оттенки душевной жизни именно как возможности неразвернуто и скрытно проступают в «Деве», в «Дионее», в «Редеет облаков летучая гряда». Но везде мера и гармония в антологических пьесах Пушкина «
не допускают ничего напряженного в чувствах», как он сам выразился по поводу «Идиллий» Дельвига
[32]. В «Дионее» «взор потупленный», который «желанием горит», уравновешен долгой «улыбкой нежной», увенчивающей изображение страсти. Образы эти подчеркнуто соотнесены, ибо в последней строке ритмическое течение стиха, только что уклонившееся в сторону в строчке «И долго после, Дионея…», вновь возвращается в прежнее ритмическое русло. Вклинившаяся в это русло усеченная строка лишь оттеняет ритмическое «равновесие» упомянутых образов, сосредоточивая одновременно всю силу смыслового ударения на слове «долго», на длительности «улыбки нежной». Эта «улыбка нежная» у Пушкина и есть великое чудо жизни. Поэт воплощает и восторг перед красотой, но это не бурное вакхическое чувство, а восторг только что просыпающейся души, разбуженной музою («Муза»), и трепет перед зрелищем красоты, которая входит в жизнь, подобно великой и божественной тайне («Нереида»). Вообще мир души в антологических пьесах Пушкина изображен как только что просыпающийся мир, исполненный утренней свежести, еще не осознавший себя, не вкусивший рефлексии, свободно, естественно и бессознательно владеющий своими духовными силами.
Пушкин, таким образом, не разрушая целостности жанрового объекта, ищет и находит в общечеловеческой сокровищнице античного опыта то, что близко психологическому строю его ранней романтической лирики. Ведь целостность антологического жанра выверяется в поэзии не мерой его реального соответствия исторически конкретным жанровым модификациям античной лирики, и не точностью культурно-психологических реконструкций (они вообще относительны в лирике), а лишь эстетической
установкой на объективность в отношении к жанровому объекту и воздержанием от его нарочитых модернизаций. Пушкинские «Подражания древним» никоим образом не следует понимать буквально и узко: только, допустим, как подражания формам и мироощущению ранней античной лирики, которая «еще не знает движения чувств»
[33]. Пушкин стремится воссоздать античный склад жизнеощущения как духовное целое, исторически недифференцированное и как
мир возможностей. Было бы странно ожидать от поэта исторически выверенных представлений о фазах и этапах античной культуры, о динамике ее литературных родов и жанров. В осмыслении античного культурно-исторического комплекса Пушкин, естественно, не мог обогнать свою современность. Важно уже и то, что он стремился постичь античность как неповторимо самобытный мир, а не как источник аллюзий или утопических построений, сконструированных по контрасту с современной действительностью.
Уже говорилось, что художественные искания ранней романтической лирики Пушкина и его эстетическая избирательность в отношении к жанровым возможностям антологической пьесы идут в параллельных направлениях. Как ощутимо могут сближаться эти направления, показывает пушкинский шедевр «Редеет облаков летучая гряда…», включенный в цикл «Подражания древним». Мир романтической мечты здесь нераздельно слит с реальностью антологической ситуации. Эта ситуация отодвинута в прошлое, но оттого, что она проступает сквозь дымку воспоминания, очертания ее не утрачивают рельефности и глубины. Очарование минувшего здесь воплощено не в зыбкой приглушенности красок, размытых временем, не в мерцающей призрачности лиц и событий, смутной, неопределенной музыке воспоминания, навеять которую стремилась элегия Жуковского. Пушкинский образ минувшего пластичен. Прозрачны его пропорции и ощущается как бы самый воздух пространства:
Я помню твой восход, знакомое светило.
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны…
И в то же время вещественно-осязаемый, объемный, пронизанный игрой света и тени мир прошлого погружен в элегический поток воспоминания. Облако светлой печали как бы пролетает над ним. Долгий, гармоничный звук, напоминающий эхо в горах, остается от этой картины:
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.
Не «назвала», а «называла». Протяженность звука. Многократность его, навечно удержанная памятью.
Эмоциональный строй ранней антологической лирики Пушкина далек от единообразия, и печаль здесь отнюдь не господствующее чувство. Между тем в первой же антологической миниатюре болдинской поры «Царскосельская статуя» выхвачено из потока жизни и остановлено силою искусства не мгновение счастья, упоения полнотой бытия, а
мгновение печали. В «Отроке» раздается клич судьбы («Отрок, оставь рыбака…»), возникает образ грядущего, быть может, исполненного широты и величия, но и «
иных забот». В стихотворении «Труд» «вожделенный миг» завершения труда затуманивается «
непонятною грустью» и тревогой. Только «Рифма» с ее закругленно мифологическим сюжетом несколько выпадает из общей тональности. Впрочем, и здесь сквозь оболочку мифа, его непосредственную символичность проступает серьезная и глубокая дума о поэзии как наследнице «бессонной» чуткости духа и «памяти строгой», дочери Эхо и восприемнице Мнемозины.
Заметно изменяется и структура антологической пьесы. Пушкин тяготеет теперь к минимальным композициям, к эстетически концентрированной форме. В «Подражаниях древним» и в лирике 1828, 1829 годов были представлены разные жанровые ответвления антологической пьесы. Антологическая миниатюра уже и тогда преобладала. Но ее господство не было столь подавляющим. Рядом с нею уживались и композиционно развернутые структуры («Редеет облаков летучая гряда», «Земля и море», «Приметы»). В болдинскую пору именно миниатюра, по своей лаконичности близкая порой к формам надписи, изречения («Царскосельская статуя» — 4 строки, «Отрок» — 4, «На перевод Илиады» — 2), является единственной композиционной формой антологических произведений. Пушкин даже счел необходимым уточнить их жанровое наименование. Должно быть, имея в виду их малое композиционное пространство и особую сгущенность их поэтического смысла, он именует их в публикации 1832 года «анфологическими эпиграммами».
На минимальном пространстве антологических миниатюр болдинской поры открывается необозримая поэтическая ширь. Дело не только в том, что на лирическом мгновении, изображенном в «анфологических эпиграммах», лежит отблеск целого, некоей духовной вселенной, знак причастия тайне античного бытия. В антологических пьесах 30-го года лирическая ситуация обретает особую смысловую емкость еще и потому, что воплощенный в них миг жизни обращен к античности в той мере, в какой он обращен к вечному в человеческом духе. А через посредство вечного он ведет к пушкинскому жизнеощущению болдинской поры, в котором вечное уходит своими корнями в духовные конфликты пушкинской современности.
Печаль и вечность — здесь, в этом эмоционально-смысловом «поле», сходятся ориентации пушкинских лирико-философских раздумий и его «опытов в антологическом роде», как бы далеко ни расходились они по предмету изображения. Антологические пьесы болдинского периода подобно мифическому Янусу смотрят в прошлое и в настоящее, в мир античности и в мир современности, сохраняя при этом неделимость жанрового объекта. Вечное в роли посредника между этими мирами и позволяет Пушкину сберечь тот дух «прекрасных соразмерностей», пластику и грацию, гармоническое равновесие мысли, эмоции и предметной сферы произведения, поступившись которыми, антологическая пьеса отказалась бы от своей жанровой природы.
В первом же стихотворении антологического цикла, в «Царскосельской статуе», вечное — не только угол зрения на античность, оно входит и в тематический круг этой миниатюры. «Царскосельская статуя» — произведение редкого художественного совершенства, единственное в своем роде в русской поэзии вообще. В 1836 году Пушкин напишет еще две антологических пьесы, навеянные скульптурными сюжетами: «На статую играющего в свайку» и «На статую играющего в бабки». Они прекрасны: отточенное совершенство формы, сдержанная динамичность образа, пластическая рельефность каждой детали. Но философской объемности изображения, многоаспектности художественного виденья, которыми отмечена «Царскосельская статуя», в них нет. «Царскосельская статуя» — произведение об античности и о «вечной струе» бытия, о мудрой печали человеческой, склонившейся над потоком жизни, и о могучей силе искусства, способной удерживать и заковывать в вечно живые формы творчества быстротечный миг. И вся эта «бездна пространства» сосредоточена в четырех строках пушкинского текста:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Стихотворение было написано под впечатлением от знаменитой скульптуры Соколова. Она уже сама по себе принадлежит такому уровню совершенства, с которым трудно соперничать. И гениальность пушкинской миниатюры тем поразительней, что ее поэтический образ, на первый взгляд, верный словесный «слепок» царскосельской статуи, не содержит в себе ничего, что не было бы заключено в соколовском сюжете. Кажется, Пушкин лишь к тому и стремился, чтобы поэтически описать статую. Но так только кажется. Пушкинский образ подчеркнуто пластичен, его ракурсы всесторонне охватывают детали скульптурного объекта. Но это иная пластика, пластика поэтического слова, в изобразительной конкретности которого проступает лирическая экспрессия.
Она дает о себе знать не только восторженным восклицанием «Чудо!», но и интонационно-смысловыми акцентами слова, его перекличками и сближениями, которые ведут нас к существу авторской мысли, нигде не «сформулированной» явно, слившейся с предметной тканью образа. «Чудо!» — в этом возгласе восторга своеобразный ключ к образной системе «Царскосельской статуи». Здесь действительно воплощено чудо преображения мимолетного и непритязательного мгновения бытия в вечно живой, исполненной мудрости феномен искусства. Впечатление этого чуда навевается «магией» пушкинского слова. Пушкин настойчиво возвращается в этой миниатюре к одним и тем же речевым элементам. В последних двух строках повторяются и варьируются «дева», «урна», «вода», «печально», «сидит», «разбитой» («разбила»). И это в условиях минимального речевого контекста, в пределах всего лишь четырех поэтических строк. Кажется, Пушкин совершенно не озабочен тем, что это настойчивое возвращение к слову может создать впечатление избыточного повтора. Кажется, он даже сознательно стремится к этому. Да, ему нужно это единообразие слова, этот настойчиво повторяющийся речевой ряд, чтобы на его устойчивом фоне крупнее и неожиданнее блеснули новые грани речевого целого, новые сопряжения слова и смысла. А кроме того, ему нужно повторение слова, ибо нужна единая мелодическая тональность, эта музыка печали, которой пронизано стихотворение. Наконец, речь идет о «чуде», о волшебстве искусства, а настойчивое повторение слова несет в себе эффект магического.
Поэтические детали образа повторяются в двух последних строках, но смысловая функция их перестроена, они принадлежат уже другому миру. Это мир вечности и искусства:
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
В словесной цепи возникают новые звенья, стягивающие к себе экспрессивно-смысловые акценты фразы. В третьей строке было: «дева печально сидит». В последней — это речевое единство раздвинуто вторжением новых речевых элементов. В них-то как раз и заключен источник новой интонационно-смысловой энергии:
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Не очевидно ли, что здесь основная сила интонационного удара падает именно на варианты повторяющегося слова:
Все так похоже, и все, однако же, разительно перевоплотилось. Нет «праздного черепка», этой случайной и прозаической детали жизненного мгновения. Есть разбитая урна. И «не сякнет вода». И не вода уже это, а «вечная струя». Как над неуничтожимой рекой бытия склонилась над нею «дева». Печаль жизненного мгновения, мимолетное, легкое чувство, не оставляющее следов в душе, перевоплотилось в «вечную печаль», во всеобъемлющую идеологически насыщенную эмоцию. Совершилось чудо одухотворения. Жизненный миг преобразился, наполнился смыслом и, одухотворенный, перестал быть мгновением, сделался причастным вечности. Огромной мыслью о жизни и чуде искусства веет от последних пушкинских строк.
Вместе с тем «Царскосельская статуя» воспринимается как поэтически-лаконичный символ античности, неувядаемой жизнеспособности ее искусства. Легко предвидеть вопрос, вправе ли мы вообще говорить об античности в «Царскосельской статуе»: ведь «прототип» пушкинского образа, скульптура Соколова, изображает всего лишь Пьеретту, персонаж лафонтеновской басни? Вправе. И не только потому, что «Царскосельская статуя» включена Пушкиным в «Анфологические эпиграммы». Сохраняя близкое сходство с «прототипом» в предметном слое произведения, пушкинский образ неизмеримо далеко ушел от него в воплощении художественной мысли. В этой сфере мы вправе судить о нем лишь по законам жанра. И здесь уже нет «
царскосельской статуи», а есть иной,
жанровый объект. Его античный колорит подкреплен не только принадлежностью стихотворения циклу «анфологических эпиграмм». Он подкреплен жанровыми установками слова и метрической структурой стиха (гекзаметр). Да и в чисто предметной детализации пушкинского образа есть один существенный штрих, оттеняющий различие скульптурного и поэтического объектов, расхождение «прототипа» и образа. В скульптурном изображении Соколова Пьеретта склонилась над разбитым
кувшином. У Пушкина вместо кувшина — «
урна». Принадлежность этой детали античному кругу поэтических ассоциаций не вызывает ни малейшего сомнения. Да и «вечная струя» жизни — символ, насыщенный античными философскими ассоциациями. Образ потока, реки бытия, знаменующей вечное обновление и одновременное вечное постоянство неиссякающей жизненной стихии, — к этому символу не однажды прибегали античные философы, начиная с Гераклитта. Античный колорит его стерся со временем от многократных прикосновений. Но сила великого искусства, между прочим, заключается и в том, что оно оберегает «вечные образы» от возможного овеществления, очищая время от времени их «магический кристалл», так чтобы сверкали все его грани и чтобы в глубине этого свечения открылся взору тот первоначальный мудрый свет, которым он был наделен у истоков своих.
Есть нечто от неповторимого своеобразия античных скульптурных форм в пушкинской «Царскосельской статуе». Это нечто сказывается в характерном соотношении статики и динамики образа. Античная скульптура классического периода статична, но это статика такого равновесия сил, когда покоящийся объект как бы потенциально динамичен, несет в себе след завершившегося движения или его перспективу. Классическим воплощением таких соотношений покоя и динамики является, например, «Дорифор» Скопаса. Пушкинская «дева» в «Царскосельской статуе» — воплощенное, скульптурно законченное мгновение. Но у этого мгновения есть своя предыстория, ретроспектива движения. Она — в первой строке пушкинской миниатюры: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила». Эта ретроспектива свернута, стянута к настоящему, к результату движения: «Дева печально сидит, праздный держа черепок». Все, что могло бы фиксировать момент перехода, связи между прошедшим мгновением и настоящим, — все это исключено из поля зрения именно потому, что акцент падает на тот миг неподвижности, который протекает в настоящем. Скульптура Соколова намекает на движение единственным способом, заключенным в возможностях данного скульптурного сюжета, — посредством побочных, сопутствующих аксессуаров: разбитый кувшин, черепок. Между тем поза Пьеретты абсолютно статична. Пушкин же связывает динамические аспекты изображения с образом персонажа. И это естественно, это вытекает из природы словесного творчества: слово не знает ограничений в воссоздании динамики бытия. Однако важнее другое: Пушкин находит ту гармоническую меру в сочетании статики и динамики образа, когда мгновение покоя осмыслено как результат движения, когда в самом покое заключена его динамическая предыстория.
Вечное в «анфологических эпиграммах» Пушкина связано прежде всего с мыслью об искусстве, о чуде творчества, побеждающем время. В «Рифме» эта мысль, не воплощенная открыто, в движении лирической темы, опредмечена самой структурой мифа.
Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.
Перед нами миф «о происхождении вещей», о рождении поэзии, мифическая родословная которой уже сама по себе является залогом ее принадлежности к сущностным, первородным началам бытия. Пушкинский миф, подобно античному мифу, идеально закруглен, замкнут прочной оправой единого мифического события. Пушкинский миф о поэзии как бы покоится в себе: смысл его всецело опредмечен и не побуждает к переходам в иной, символический или метафорический план. Мы чувствуем всю глубину, скрытую в пушкинских определениях Рифмы — «матери чуткой подобна, послушна памяти строгой», но эти определения вовсе не метафоричны. Они изначально заложены в самой сущности мифических стихий, участвующих в пушкинском сюжете. Чуткость не отделима от мифической природы Эхо. «Строгая память» и есть родовая черта Мнемозины. Пушкин так организует мифологическую структуру сюжета, что она неизбежно своей внутренней логикой ведет к мысли о поэзии, наследнице духовной чуткости и «памяти строгой».
Пушкинская «Рифма» отнюдь не вторична по происхождению. Комментируя стихотворение «Рифма, звучная подруга…» (1828), Б. Томашевский писал: «На подобную же тему Пушкин в 1830 году напишет стихотворение „Рифма“. По-видимому, мысль переделать стихотворение в гекзаметры возникла еще в 1828 году»
[34]. Суждение, по меньшей мере, странное. Разве все дело заключалось лишь в том, чтобы перекроить метрику «Рифмы, звучной подруги…» на гекзаметрический лад? Это совершенно разные произведения, несмотря на то что в стихотворении 28-го года содержится прообраз мифологического сюжета будущей «Рифмы». Прообраз пока что слишком отдаленный и смутный, чтобы хоть в малой степени претендовать на ту содержательную полноту мифа, которая запечатлена в «Рифме». Зато различия слишком очевидны и разительны. Нимфа Эхо совершенно отсутствует в сюжете 28-го года, в ее роли выступает Мнемозина. По контрасту с «Рифмой» можно судить о том, насколько скрадывает смысловые возможности мифа такой поворот сюжета. Побочные перипетии мифа здесь явно теснят его узловую ситуацию и образ, которые будут выдвинуты в стихотворении 30-го года на первый план. Словесная ткань мифа вполне традиционна: тщетно мы искали бы детали, хотя бы отдаленно напоминающие психологически насыщенный, прозаически дерзкий образ пушкинской «Рифмы»: «Меж говорливых наяд, мучась, она родила…» Но главное в том, что поэтический миф о рифме 1828 года лишен самостоятельного значения: он вклинивается в композицию стихотворения лишь на правах своеобразной мифологической иллюстрации. Она нужна была Пушкину, по-видимому, для того, чтобы подключить лирическую тему в историко-культурный, ценностный ряд и одновременно замкнуть цепь ее развития на «закругляющем» живописно-пластическом звене. Само возвращение поэта к мифологическому эпизоду «Рифмы, звучной подруги…», эта черновая и незаконченная строка «Грустен бродил Аполлон, с Олимпа…» свидетельствует о том, что Пушкин усматривал возможность отторжения мифологического мотива, его самостоятельной разработки. Что же касается «Рифмы», то мифологический эпизод 28-го года, оттеняя ее художественное совершенство и самобытность, убеждает в том, что Пушкин в болдинскую пору создает не вариант старой темы, а совершенно новое произведение. Причем именно
создает, а не переделывает. Пушкинский миф 28-го года — не более, чем миф о божественном происхождении рифмы. Болдинская «анфологическая эпиграмма» — произведение о «родословной»
поэзии, мифическая ее генеалогия воссоздана столь искусно, что вскрывает именно те «наследственные», природные свойства поэзии, которые Пушкин ценил более всего: «строгую память» и духовную чуткость. Пушкинский поэтический миф 1830 года отличается редкой гармонической соразмерностью деталей. Ни одно из звеньев мифологического сюжета не получает преобладания в единой событийной цепи. Следствием этого является динамичность целого и удивительная прочность композиционных сцеплений. «Рифма» Пушкина — поэтический монолит. Этим она близка структуре античного мифа, в котором все звенья события строго взаимообусловлены, образуя как бы художественный круг. В нем нет разрывов, в нем каждое событие включено в единство иного, более обширного порядка, в разветвленную иерархию богов и героев с их судьбами, замыкающимися на едином центре, в мифологическом космосе божественного Олимпа, и поэтому каждое малое мифологическое целое может служить полновесным символом мира.
«Рифма» — единственное произведение в цикле «анфологических эпиграмм», в котором античное представлено в полнокровной предметности мифа. В других стихотворениях
предметная сфера античности дает о себе знать беглой деталью («Царскосельская статуя»), или выбором поэтических ассоциаций («Труд»), или отсутствует вовсе («Отрок»). Но
жанровый объект антологической пьесы вовсе не сводится к какой-то сумме внешних примет античного мира. Объект этот предполагает лишь точку зрения на реальность, соотнесенную с духовным комплексом античности, проступающую в «образе слова», в ритмико-композиционной системе стиха. В «Отроке» нет ничего, что намекало бы на античный декорум. Скорее наоборот, здесь приметы явного расхождения с ним: упоминание о «студеном море», например. И все-таки принадлежность «Отрока» циклу «анфологических эпиграмм» мотивирована не одним лишь «античным» размером стиха. Принято рассматривать «Отрок» как произведение о судьбе Ломоносова. Конечно, вариант ломоносовской судьбы возникает в ассоциативной сфере стиха. Но ведь важно понять и то, почему Пушкин воздержался здесь от исторически точных реалий, почему, например, он не перенес в окончательный текст тот вариант последней строки, который был в автографе: «Будешь ловитель умов, будешь подвижник Петру». Только ли намерением устранить анахронизм (совмещение в одном временном плане имени Петра и судьбы Ломоносова) было продиктовано это движение пушкинской мысли? Думается, что причина сложнее. Ведь в конце концов судьба «отрока», напоминающая судьбу Ломоносова, и в том и в другом варианте оставалась безымянной и как раз безымянностью-то своей проецировалась на множество судеб столь же «безродных» сподвижников Петра. Совмещенные в одном контексте имя Петра и судьба «отрока» переключали замысел произведения в русло совершенно конкретной, национально-исторической проблемы. Все, что связано с участью русского просвещения, с возможностями его воздействия на весь уклад русской жизни всегда остро волновало Пушкина. В последекабрьскую эпоху особенно. Именно в 1830 году в Болдине было написано знаменитое «Опровержение на критики», в котором прозвучали слова своеобразного просветительского манифеста: «Таким образом, дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые
выстрелы и все невзгоды, все опасения»
[35]. Гордые эти слова, без сомнения, перекликаются с замыслом «Отрока». Но в таком случае, почему же Пушкин пожертвовал национально-историческим разворотом замысла, с которым были связаны столь дорогие его сердцу верования? Дело в том, что он совсем не жертвовал им. Он лишь отодвинул его в ассоциативный план произведения, укрепив целостность жанрового объекта, освободив антологическую пьесу от прямолинейных и явных применений к русской истории, нимало не поступаясь при этом существом замысла. Освобожденный от «русизмов», которые ставили под угрозу жанровое ядро произведения, «Отрок» сохранил ту
всеобщность содержания, без которой не было бы антологической пьесы. В центр поэтической структуры выдвинулся образ судьбы. В этом вечном образе, вполне соприродном характеру жанра, обрели гармоническое равновесие и актуальный (антологический) слой содержания и его потенциальный (национально-русский) пласт. Судьба, в сущности, главный «персонаж» произведения. Оно и написано-то как бы «от имени» судьбы. «Отрок» открывается безлично-объективным, бесстрастно-эпическим повествованием о настоящем:
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал…
Но уже во второй строке сразу же вслед за гекзаметрической цезурой раздается чей-то властный, торжественно-величавый зов, как бы «глас свыше»:
Это и есть голос судьбы, указующий будущее:
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
Течение настоящего мгновенно пресечено. Резкий перелом события напоминает явление, именуемое в античной поэтике драмы перипетией. Прикосновение судьбы преображает черты обыденной реальности. Поэтическая речь обретает иную экспрессивную окраску; возникают архаические эквиваленты слова: вместо «мальчика» — «отрок», вместо «невода» — «мрежи». Происходит нечто подобное тому чудесному перевоплощению, которое изображено в «Царскосельской статуе». Сходен и источник этого перевоплощения. Там мгновенно, здесь обыденное преображаются, соприкоснувшись с
вечным началом (там чудо искусства, здесь зов судьбы). В ассоциативном «слое» «Отрока» образ судьбы символизирует необоримость тех «набегов просвещения», того завоевательного шествия разума, в котором Пушкин видел живое, плодотворное и многообещающее начало русской жизни.
Пушкинский «Труд» заметно раздвигает возможности антологической пьесы. Стихотворение это необычно уже своей открытой лирической субъективностью, резко выделяющей его на общем фоне «анфологических эпиграмм». Созданию его предшествовал вполне конкретный биографический повод — завершение работы над «Евгением Онегиным».
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный.
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи.
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
Лирическая эмоция стихотворения носит глубоко личный характер. И в то же время в ней воплощено широкое философское содержание. Оно в смутном, вылившемся в «непонятную грусть» ощущении противоречия между безотносительной, сущностной ценностью труда как овеществления духовных сил человека и его узкоутилитарным «определением» в действительности. Контраст между вечным и временным, проступающий в композиционной системе «Царскосельской статуи» и «Отрока», запечатлен и в «Труде». На одном речевом полюсе — «подвиг», труд как «друг Авроры златой» и «пенатов святых», на другом — «плата», «поденщик ненужный», «работа». Поэтическими сигналами античности здесь как раз и помечена одухотворенная и одухотворяющая стихия труда, его вечное содержание. Этой безотносительной и абсолютной ценности труда, с которым сжилась душа человека, в котором она вылилась вдохновенно-свободным проявленьем, противостоит система отношений действительности: для нее нет духовных ценностей, есть «плата», нет творца, есть «поденщик».
Что у Пушкина этот конфликт не случаен, что он подсказан современностью, в этом убеждает (если не ходить далеко за примерами) в 30-м же году написанное стихотворение «Мы рождены, мой брат названый…». Здесь та же цепь антологических ассоциаций сопутствует изображению свободно-вдохновенного творчества и здесь так же, как и в «Труде», ей противостоит иной словесный ряд, смысловым центром которого является понятие «торга». Только противопоставление еще резче, еще конфликтнее:
Явилися мы рано оба
На ипподром, а не на торг
. . . . . . . . . . .
и дальше:
Но ты, сын Феба беззаботный,
Своих возвышенных затей
Не предавал рукой расчетной
Оценке хитрых торгашей.
В «Труде» этот конфликт не «сформулирован» столь явно. Он опосредован загадочностью, психологической нерасчлененностью эмоции, недоуменно-вопросительными пушкинскими «или..?» — «или?». Пушкинская «непонятная грусть» питается не только ощущением раздвоенности труда, утилитарной профанации его в условиях «железного века». Это сложная, психологическая многоликая эмоция. В ее оксюморности сталкиваются торжество, рожденное завершением труда, торжество «вожделенного мига». с чувством опустошенности, с печалью утраты «молчаливого друга ночи», к которому прикипела душа, черпавшая в нем успокоение и творческую радость. Все это слилось в одном ощущении и в смутной полноте его трудно найти истоки. Потому-то и «непонятна» эта грусть. Конфликты, скрытые в этом переживании, тревожат, но тревожат «тайно». Они еще как бы не всплыли в светлое поле сознания. Их внутреннюю драматичность скрадывает и пересиливает грусть. Вот почему гармонически уравновешенное, сдержанное в воплощении чувства, это произведение не выпадает из той общей эмоциональной тональности, которая характерна для «анфологических эпиграмм».
 Глава IV
Прощальный цикл
Глава IV
Прощальный цикл
Из истории элегического жанра
«Заклинание»
Слово и образ общения в лирике Пушкина
«Прощание»
«Чужая речь» в лирике
«Для берегов отчизны дальной…»
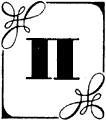
Произведения прощального цикла («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…») иногда именуют элегиями. И казалось бы, для этого есть основания. Сигналы элегического стиля (да и приметы элегической мелодики) действительно встречаются здесь. Сто
ит ли за ними живое жанровое содержание, или они нужны поэту лишь как «подсобный» материал для такой художественной постройки, «архитектура» которой решительно расходится с конструктивными принципами жанра? Это вопросы не абстрактно-теоретического порядка. От ответа на них зависит понимание существа и самобытности пушкинской лирической мысли. У Пушкина 30-х годов особое отношение к жанровой традиции в лирике. Чтобы яснее раскрылась его суть, необходимо хотя бы мельком оглянуться на судьбу этого жанра, как она складывалась в предшествующее десятилетие.
20-е годы XIX столетия в истории русской поэзии — эпоха, отмеченная интенсивной перестройкой изобразительной системы лирического стиха. Постепенно распадаются те монолитные в прошлом жанровые образования в лирике, устойчивость которых была подкреплена единством жанровой темы, способов ее композиционного развертывания, стилистическим единообразием слова. Строгая и стройная определенность таких жанровых организмов могла покоиться лишь на рационалистически твердых и непротиворечивых представлениях о душевной жизни личности. Сентиментальная лирика не смогла расшатать эти представления. Она только сместила элегическую тему в область новых эмоциональных шаблонов. Она скорее
декларировала индивидуальность переживания, не в силах воплотить ее в неповторимо конкретной динамике чувства, в «сиюминутной» непосредственности его движений.
В художественном восприятии личности акцент на чувствительности лишь внешним образом посягал на рационалистические представления о человеке. «Чувство» сентименталистов, в сущности, столь же рационально, как и «разум» классицистов. В нем нет ничего от подлинной полноты его и противоречивости. Оно вполне выразимо для сентименталистов, прозрачно и постигаемо до последних своих глубин. Поэзия сентиментализма больше рассуждает о переживании, рассматривая его как внешнюю по отношению к лирическому «я» стихию (отсюда излюбленный прием персонификаций), нежели претворяет его в структурный принцип, во внутреннюю форму произведения. Эмоции сентименталиста переходят в слезливость именно потому, что они предмет любования и самосозерцания, которые всегда предполагают существование психологической дистанции, охлаждающей чувство. «Формула» сентиментального лиризма такова: я чувствую,
что я чувствую (а не просто: я чувствую). Поэтому в лирических композициях сентименталистов нет и следа того ощущения непредвиденности в движении эмоций, которое есть в романтической лирике. Напротив, здесь все рассчитано на ровное движение лирического переживания, на прекрасную и несколько холодную гармонию стиля. Диссонансы, неровности, перебои ритма, переносы, призванные усилить экспрессивное напряжение стиха, умолчания и эллипсис, речевой жест и непосредственность лирической адресации — все то, что у романтиков создает впечатление переживания,
как бы рождающегося по мере движения стиха, все это еще не освоено сентиментальной лирикой. Острые и неожиданные метафорические смещения смысла редки. Экспрессивная окраска слова устойчива и опирается на единство эмоционального тона. Двуплановое по семантике слово мыслимо только в аллегорическом, но не в символическом варианте. К тому же аллегория сентименталистов предельно прозрачна, ибо шаблонна, переходит из рук в руки, от одного поэта к другому. Эти общие принципы сентиментального стиля отражаются и на элегической поэтике. Элегия сентиментализма — унылая лирическая медитация, рефлектирующая по поводу чувства. Она варьирует крайне узкий круг устойчивых тем, персонифицируя эмоции, время от времени включая в свои композиции лирический пейзаж, построенный на стандартной обойме деталей.
Конечно, поэзия сентименталистов нарушила ценностную ориентацию жанров, закрепленную старой жанровой системой. С периферии ее на первый план выдвинулась элегия и послание. Элегия сделалась главенствующим жанром, а ее поэтика обрела способность проникать в другие жанровые владения. Несмотря на то что ко времени лицейского Пушкина «„естественная поза“ карамзинистов уже была близка к тому, чтобы обнаружилась условность ее»
[36], для элегического жанра еще не наступила пора заката. Жуковский предельно субъективировал элегию, обогатил ее полнотою и сложностью психологического содержания, мелодически оснастил ее ритмико-интонационную систему. Элегия перестроилась. Но то была перестройка в пределах жанра, выявившая его новые возможности, а значит, и упрочившая на определенный срок его жизнеспособность. Жанровая сфера ранней романтической элегии — по-прежнему область душевных стихий, претендующих на универсальность. Ведь лирическое переживание Жуковского стремилось утвердить себя в качестве некоей идеальной
нормы душевного бытия. За точку отсчета ценностей Жуковский берет мир неповторимо индивидуальной души. Но душа эта в его изображении оказывается равновеликой любому сознанию, устремленному к идеалу. Лирическое переживание Жуковского как бы заинтересовано поисками элементарных основ, заключенных в душе каждого человека. Создается своего рода эталон душевной жизни, способный противостоять дурной и прозаической реальности
[37]. Элегия сохраняет устойчивость своих жанровых границ до тех пор, пока она настаивает на принципиальной всеобщности воплощаемых эмоций, пока она возводит в абсолют либо гармоническую полноту душевного бытия (вариант Жуковского), либо его внутреннюю разорванность и противоречивость (вариант философских элегий Баратынского). На какой бы почве ни вырастала эта элегическая универсализация чувства — и в том, и в другом случае в структуре лирического образа
общее господствует над индивидуальным, устойчивое над мгновенным, рефлективное над непосредственным.
Жанровые устои элегии начинают рушиться тогда, когда поэзия устанавливает художественный контакт с исторически конкретной, неповторимо-индивидуальной, подвижной и противоречивой сферой
современного сознания. В лирике 20-х годов она становится «призмой», по-новому преломляющей круг элегических эмоций. Неделимое и монолитное в душевном мире, с точки зрения прежней элегии, теперь оказывается дробным, исполненным оттенков и градаций, бесконечно богатым. Достаточно вспомнить, к примеру, какой многогранной и обогащенной предстает в лирике Пушкина и Баратынского начала 20-х годов старая вполне традиционная элегическая эмоция «разочарования». Эта эмоция переключается на разные пласты душевного опыта: из философской она смещается в историко-социальную сферу, из социальной — в интимно-психологическую («демонический цикл» Пушкина 1823 года). В итоге романтическое разочарование предстает как всеобъемлющая реакция на мир. Но ее всеобъемлемость уже иного, не отвлеченно-универсального свойства, запрограммированного жанровым каноном. За нею чувствуются конкретно-исторические истоки, уровень мышления современной личности, отважившейся на радикальную переоценку ценностей. К тому же пушкинское разочарование начала 20-х годов внутренне активно, связано с поисками веры. В нем отразился сложный духовный процесс, исходный пункт которого — крушение прежних устоев жизнеощущения, конечная цель — обретение новой веры, учитывающей всю глубину жизненных противоречий.
Старая элегическая тема стояла как бы за порогом конкретного произведения. Застывшая, неподвижно универсальная, она не могла сообщить произведению тот неповторимый ракурс, который бы схватывал летучую и прихотливую стихию душевного мгновения, живое течение его, исполненное перепадов и противоречий. Такую тему можно было варьировать на разные лады, добиваясь своеобразия лишь за счет нового сцепления деталей, не посягая на перестройку жанрового целого. Только в романтической лирике 20-х годов, в поэзии Пушкина и в психологической лирике Баратынского, тема «врастает» в композиционную ткань стиха и существо ее раскрывается лишь в конкретном художественном контексте. Но это значит, что она утрачивает жанровый характер. Это значит, она всякий раз рождается заново. Формируя художественное целое, она и сама формируется в нем. Догматически жесткие связи между темой, способами ее композиционного развертывания и стилистическим ее воплощением в романтической лирике 20-х годов уже разорваны. Все эти элементы лирической структуры приходят в движение, а характер их сцепления определяется теперь лишь «логикой» становления конкретной художественной идеи. В романтической лирике тему уже невозможно слить с объектом изображения. К тому же и сам этот объект уже не заимствуется художником из традиционного арсенала «прекрасных предметов», а открывается всякий раз в потоке действительности, в движениях человеческой души. Воплощенный в произведении, он несет в себе неустранимый отпечаток субъективно-лирического жизнеощущения поэта, его художественной индивидуальности и всего богатства тех поэтических «превращений», которые происходят с ним в композиции произведения. В пушкинской лирике 20-х годов рождение темы (именно рождение, а не «выбор») зависит от того поэтического прообраза идеи, который, смутно проступая сквозь грани «магического кристалла», стоит в преддверии творческого свершения. Таким образом, процессы дробления и индивидуализации коснулись и лирической темы
[38].
В лирике 20-х годов (в пушкинской лирике прежде всего) уже не существует монолитной жанровой темы и нормативно-рецептурного отношения к ней. Вряд ли нам раскроется даже
тематическое своеобразие такого, к примеру, произведения Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823), если мы прикрепим к нему один из традиционных тематических «ярлыков» элегии. Весь строй лирического переживания здесь настолько сложен и противоречив, настолько неоднозначен, что покрыть это боренье чувств какой-либо плоской формулой из тематического реестра старой элегии решительно нет возможности. Вместо привычной элегической определенности в изображении эмоций здесь почти демонстративная неопределенность, за которой скрывается совершенно новое понимание душевной жизни. Сложными и нередко скрытными, проступающими лишь в образной перспективе стиха столкновениями чувств отмечен строй переживания и в других произведениях Пушкина 20-х годов. В «Желании славы», например, движение поэтической темы как будто предполагает легко обозримую смену (только смену) эмоций («И ныне желаю славы я…»), закрепленную, казалось бы, и композиционным контрастом временных форм изображения. На самом же деле за внешним смещением темы, «скользящей» из одного временного плана в другой, скрыт все тот же психологический исток, все то же постоянство страсти, не выгоревшей даже в горниле жесточайших душевных потрясений, слившейся с болью неотразимой обиды, с потребностью отмщения, своеобразного отмщения славой. Эта многогранность противоречивой, но единой лирической эмоции у Пушкина резко противостоит психологической одноплановости элегического мышления. Для обозначения такой эмоции понятие внешней, однолинейно определенной темы, в которое вполне укладывался круг переживаний старой элегии, оказывается несоизмеримо узким и поэтому ненужным. Оно уже ни на шаг не приближает нас к существу лирического конфликта.
Принципиально новое пушкинское понимание человеческой психологии, осознание
противоречивого единства душевной жизни, стихийной целостности ее сложных, порою мимолетных, порою неосознанных проявлений — вот источник тех художественных сдвигов, которые ведут к отказу от жанровых установок в лирике. Конечно, этот исторический процесс ничего общего не имеет с молниеносной художественной реформой. Границы его достаточно протяженны. В пушкинской лирике они означены вехами целого десятилетия. В цепи художественных компонентов: тема, композиция, слово, между которыми жанровое мышление учредило четкую и устойчивую для каждого жанра взаимосвязь, — в этой цепи разные звенья с различной степенью пластичности высвобождались из-под диктата жанровых ограничений в лирике 20-х годов. Наиболее подвижными оказались тема и способы ее композиционного воплощения, наиболее стойким — поэтический «словарь» русской элегии.
Открыв новый предмет изображения, противоречивую сложность и динамику современного сознания, лирика 20-х годов должна была найти и новые формы его композиционного воплощения. Развитие лирики зрелого романтизма отмечено становлением таких форм, которые призваны воплотить современное состояние мира и души в единстве лирического мгновения. Лирика Пушкина в эту пору отмечена влечением к сюжетности. Вбирая в себя мир события, лирический образ, конечно же, не претендует на изображение его полноты и объемности, его протяженности в пространстве и во времени. Лирика довольствуется малою клеткой события, пределами ситуации. «Вообще говоря, — писал Гегель, — ситуация, в которой изображает себя поэт, не обязательно должна ограничиваться только внутренним миром как таковым — она может явиться и как конкретная, а тем самым и внешняя целостность, когда поэт показывает себя как в субъективном, так и в реальном своем бытии»
[39]. Но рефлектирующая лирика классицизма и сентиментализма менее всего была склонна к
подобной сюжетности. Она охотнее прибегала к изображению фона, атрибутов внешней обстановки, нередко шаблонных, увязанных с изображением души слишком внешним и условным способом: осенний пейзаж — меланхолия лирического героя, картина кладбища — размышления о смерти и т. п. Между тем в «сюжетной» лирике романтиков внешняя и внутренняя ситуация органично слиты. И это всякий раз неповторимое слияние. Ведь в композицию произведения входит жизненная мимолетность, «случай», высекающий искру мгновенного и острого соприкасания фактов внешнего опыта с интимным движением души. Лирическое переживание теперь получает выход не только во внешний мир, но и в потенциальную полноту сюжета. В произведении порою расставлены вехи, отсылающие воображение к психологически сложному и разветвленному процессу душевной жизни, из которого выхвачен лирическим переживанием и отграничен композиционно лишь один, но целостный эпизод. Эти новые принципы построения образа дают о себе знать, например, в таких произведениях Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Все кончено: меж нами связи нет…», «Ненастный день потух…», «Желание славы», «Я помню чудное мгновенье…», «В крови горит огонь желанья…», «Под небом голубым страны своей родной…», «Зимняя дорога», «Сожженное письмо», «Воспоминание» и так далее, и в стихотворениях Баратынского «Разуверение», «К…о», «Размолвка», «Уверение», «Ожидание».
Построение образа на основе лирической ситуации концентрировало композицию, укрепляя интерес к малым формам в лирике, демонстрируя их возможности.
Жанровые опоры постепенно исчерпывают себя в лирике 20-х годов. Но еще долго не исчезнет в художественном мышлении последующих десятилетий «память» о лирических жанрах. Отмирая как принцип построения лирического целого, жанровая традиция обретет как бы новую форму существования, превратившись в своеобразную границу отсчета художественных смещений, поэтических открытий, устремленных за пределы возможностей жанра. И долго еще элементы разомкнутых и «рассыпанных» жанровых стилей будут втягиваться динамикой новых, уже внежанровых замыслов в лирике, подчиняясь их преобразующей энергии. При этом элементы старого стиля далеко не всегда «поглощаются» и нейтрализуются новым художественным контекстом. Соприкасаясь с новыми принципами мышления, они порой раскрывают в себе такие возможности, которые не могли быть выявлены на соприродной им стилевой почве. Для этого им не хватало именно полярной стилевой среды.
Так преображаются, например, в стихотворениях «Прощание» и «Для берегов отчизны дальной…» старые элегические формулы оттого, что на них падает сразу как бы двойной свет:
изнутри вызвавшей их к жизни жанровой традиции, и
извне, из глубины того лирического контекста, в котором они возникают. Так преображаются в «прощальной» лирике и знакомые элегические ситуации оттого, что они вдвинуты в перспективу по-новому осмысленного лирического сюжета. Новая психологическая глубина открывается там, где элегические мотивы переключаются в иное эмоциональное измерение, в котором мир прошлого встает как мир, исполненный душевных потрясений, трагических страстей, острейших противоречий. Ведь прошлое предстает в произведениях прощального цикла не только как свершившееся, отошедшее в небытие и потому смягченное элегической музыкой прощанья, но и как совершающееся, вновь оживающее перед духовным взором поэта, воскрешенное во всей его мучительной реальности. И этот аспект изображения (прошлое как совершающееся) уже не подвластен элегической поэтике, рассматривавшей минувшее только в ретроспективе.
Но ведь оттого, что и на лирические ситуации «прощального» цикла брошен все тот же двойной свет, оттого, что, например, в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» умиротворяющая элегическая мелодия вплетается в драматически напряженное изображение страстей, как бы легкой, полупрозрачной дымкой отделяя прошлое от настоящего, — от этого лирическая композиция Пушкина получает особую многомерность. Элегическая мелодика в этом произведении стремится заковать в гармонически уравновешенные формы душевную стихию, отмеченную трагической дисгармонией. Но «центростремительная», гармонизирующая тенденция не получает преобладания в лирических композициях прощального цикла. Сталкиваясь с совершенно противоположным осмыслением душевного бытия, столь далеким от жанрового кругозора элегии, элегический стиль утрачивает здесь свои жанровые установки. Поэтика пушкинского «Заклинания» убеждает в этом с особенной очевидностью.
«Заклинание» — произведение, отмеченное редкостной густотой элегических формул. Здесь как будто бы оживают на короткий срок и схемы лирических ситуаций (клятва верности умершей возлюбленной, мольба о запредельном свидании), застывшие в результате многочисленных повторений, стандартизованные традицией. Это тем более неожиданно, что в поздней пушкинской лирике уже завершается глубинная перестройка элегического жанра. Даже внешне, с точки зрения выбора жизненных сфер, он утрачивает традиционно четкую определенность своих границ. Пушкин в ту пору уже прощается с элегией. Неуклонно нарастающий в лирике 20-х годов процесс размывания жанровых барьеров, сближения замкнутых жанровых контекстов приводит в 30-е годы к созданию произведений («Осень», «Вновь я посетил…» и др.), образная система которых не может быть осмыслена путем соотнесения ее с эталонами конкретного лирического жанра.
И вот, прощаясь с элегией, Пушкин неожиданно изобильно воскрешает ее традиционный «реквизит». Конечно, поэт и прежде подключал элегическую стилистику, исподволь «снимая» ее, нейтрализуя ее внеиндивидуальный эффект действием принципиально новых способов построения лирической мысли. И, например, в стихотворении «Под небом голубым страны своей родной» (1826), близком к «Заклинанию» характером душевного конфликта, по верному наблюдению Лидии Гинзбург, «смысловое соотношение условно-поэтических формул перестроено изнутри неким психологическим противоречием»
[40]. Однако эта перестройка носила еще отпечаток художественного поиска. Условность элегической ситуации была сломана резко. Несвойственные данному жанру сочетания слов, обусловленные новизной психологической коллизии, слишком очевидно разрежали действие привычных элегических сигналов. Да и сигналы эти были расставлены в композиции стиха более скупо, чем в позднем «Заклинании».
Первое впечатление все же таково, что пушкинская элегия 1830 года воскрешает успешно изживаемые поэтом жанровые принципы стиля. Что ж, быть может, в поэтическом мышлении Пушкина тлел потаенный уголек рокового воспоминания, замкнувшего в себе отзвуки давней, трагически оборвавшейся страсти? И это воспоминание, вспыхивая время от времени, фатально тянуло за собой цепь привычных элегических ассоциаций? Или причина лишь в том, что путь новатора не укладывается в соблазнительные представления о прямолинейно-поступательной и неуклонной эволюции, не знающей срывов, попятных движений, переходов в другое русло, наконец, перерывов постепенности? Все это, возможно, и объясняло бы интересующий нас факт, если бы в «Заклинании» действительно имела место простая реставрация старых форм мышления.
Но в том-то и дело, что Пушкин здесь ни на йоту не отступает от найденных им способов воплощения эмоции, от предпринятого уже ранее пересмотра самой природы элегического переживания. И в том факте, что поэт обильно, быть может, обильнее, чем прежде, вводит в одно из своих поздних произведений реалии старой элегии, сказался не плен традиции, а, скорее, симптом окрепшей поэтической свободы в обращении с нею. Ведь структура элегии перестроена основательно и теперь ее новизне не угрожают даже скопления старых атрибутов: возросло сознание художественной власти над ними.
Поэтическая стихия старой элегии в «Заклинании» предстает, по существу, как стихия отчужденная.
О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь… но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!
Здесь необычная на фоне зрелой пушкинской лирики «теснота» традиционных деталей, порою буквально «нанизываемых» друг на друга. Это впечатление усиливается к тому же эффектом интонационного нагнетания — ведь каждая строфа складывается как серия параллельно построенных ритмико-синтаксических единств. В пределах такого единства элегическая «формула» нередко занимает вершинное положение, возникая в конце строки, фиксируя на себе внимание перекличкой рифмы.
…И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы…
В подобной же стиховой позиции находятся «дальная звезда», «ужасное виденье», «тайны гроба». Однако же что представляют собой эти «формулы» пушкинского «Заклинания»? Перед нами ведь не просто общие места элегического стиля, универсальные обороты, уместные везде, где эмоция настраивалась на элегический лад. «Пламенная душа», «томительная тоска», «сладкая память» из стихотворения «Под небом голубым страны своей родной…», например, — это всеобщие в пределах жанра, очень широкие по сфере использования обозначения чувств, которые могут встретиться в любом элегическом контексте. Между тем «камни гробовые», «лунные лучи», «тихие могилы», «ужасное виденье», «тайны гроба» — указатели элегической традиции, ведущие нас к конкретному ответвлению романтической элегии. Именно скоплением своим они побуждают вспомнить элегию и целиком элегическую по стилистике балладу Жуковского.
Эти детали отнюдь не являются «цитатными» вкраплениями чужой поэтической системы, хотя, конечно, и «гробовые камни», и «тихие могилы», и «тайны гроба» в иных вариациях не однажды мелькали в поэзии Жуковского. Пушкин воссоздает в «Заклинании» как бы поэтический аналог ночного мира Жуковского, аналог, возводимый к «первоисточнику» лишь всей своей целостностью, а вовсе не структурными звеньями.
Впечатление конкретного адресата, спрятавшегося за элегической декорацией «Заклинания», создается и с помощью более конкретных намеков, навеваемых цепочкой сравнений во второй строфе:
…Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье…
Звезда, таящая в себе тень умершей возлюбленной, несущая весть о ее приближении, — образ достаточно прихотливый, чтобы ошибиться в указании на литературный импульс сравнения. За этой деталью в элегической традиции стоит причудливый образ из стихотворения Жуковского «Узник» (1819):
…Но тихо в сумраке ночей
Он бродит
И с неба темного очей
Не сводит:
Звезда знакомая там есть;
Она к нему приносит весть…
О милом весть и в мир иной,
Призванье…
И делит с тайной он звездой
Страданье;
Ее краса оживлена:
Ему в ней светится она…
«Как легкий звук», как «дуновенье» является унылой Минване весть об умершем Арминии («Эолова арфа», 1814):
…Сидела уныло
Минвана у древа… душой вдалеке…
И тихо все было…
Вдруг… к пламенной что-то коснулось щеке;
И что-то шатнуло
Без ветра листы;
И что-то прильнуло
К струнам, невидимо слетев с высоты…
И вдруг… из молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звон;
И тише дыханья
Играющей в листьях прохлады был он.
В ней сердце смутилось:
То друга привет!
Свершилось, свершилось!..
Земля опустела, и милого нет…
Но эти сигналы чужого и чуждого элегического мира в пушкинском «Заклинании» предстают в совершенно неожиданном ракурсе, дерзко нарушающем традицию. Что означает этот своеобразный повтор первой строфы «О, если правда…», являющий собой композиционную раму, в которую вписаны Пушкиным атрибуты старой элегии? С точки зрения элегического мышления того же Жуковского, например, повтор этот неуместен. Причем неуместен, конечно, не в логическом своем аспекте. Такового в отношении к упомянутым элегическим «реалиям» не существовало в поэтическом мышлении Жуковского. Его загробный мир (даже в мировоззренческом плане) скорее образ, чем понятие, категория эстетическая, а не религиозная. Оценка «запредельного» мира с позиций истины тем более немыслима для Пушкина с его атеистическим мышлением, воспитанным на традициях французского просветительства.
Речь, стало быть, идет не о логике, а о художественной системе. Именно художественная система старой элегии в «Заклинании» ущемляется сомнением, подвергаясь действию невольной иронии. Не следует понимать это прямолинейно. Ирония здесь всего лишь «побочный», сопутствующий эффект. Ведь стихотворение Пушкина насквозь драматично: речь идет в нем о слишком серьезной для поэта внутренней коллизии чувства. В таком контексте всякий явный иронический выпад, да еще со слишком внешней литературной адресацией, выглядел бы лишним, распыляя сосредоточенную силу элегической эмоции. Пушкинская ирония, в сущности, непреднамеренна. Поэт как бы вскользь, мимоходом, но, однако, весьма болезненно задел старую элегию, задел уже хотя бы тем, что, определив ее шаблоны, он собрал их на тесном композиционном пространстве двух первых строф. Фиксированная очевидность шаблона лишь подтверждает, что отношение Пушкина к нему вольное — возникает ощущение поэтической дистанции.
…Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..
То, что в старой элегии было темой (
тайны гроба),
либо мотивом (
дальная звезда), либо необходимым аксессуаром элегического фона (
тихие могилы, камни гробовые), — у Пушкина стало отчужденным материалом, которому он смело навязывает свою художническую волю и «остраняя» который он рельефней и резче проводит свою поэтическую мысль.
А мысль эта окрашена горячей страстью, жарким нетерпением. Каждая строфа «Заклинания» живет особой динамикой медленно раскручивающейся пружины, которая лишь к концу своего развертывания накопляет энергию удара. Так, впечатление нарастающего напряжения, передаваемое замедленным движением параллельно построенных периодов в первой строфе, разрешается призывным восклицанием последних строк. Ритмическая энергия здесь резко возрастает. Четырехстопный ямб, приторможенный пиррихиями, стянутыми к предпоследней стопе, в финале строфы возвращается к своей идеальной норме, к четко выдержанной схеме размера. Интонация резкого восклицания, ускоренное обилием словоразделов ритмическое движение последних строк взрывают окаменевшую неподвижность элегических «формул». В пронизанный фаталистическим смирением мир традиции, точно порыв ветра, врывается дыхание живой страсти. Пушкинское заклинание звучит словно настойчивый и нетерпеливый стук в запретную дверь, перед которой лирический герой Жуковского как бы тихо склонялся в покорном ожидании.
И по мере того как нарастает от строфы к строфе это внутреннее напряжение страсти, ритмическое дыхание стиха становится все более неровным. Пиррихии, обладающие в первой строфе выдержанной устойчивостью стиховой позиции, в дальнейшем начинают все чаще перемещаться внутри строки. Уже во второй строфе смещение пиррихия ритмически выделяет необычный на фоне традиционных атрибутов поворот лирической мысли:
…Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой…
В четырех строках здесь развернута психологическая ситуация, отмеченная резкой индивидуальностью изображения. Неожиданный и тонкий ракурс сравнения («
как зимний день»), запечатленный с безбоязненной дерзостью драматизм земной горестной муки — эти штрихи складываются в образ, который своей неповторимостью и развернутостью отчетливо противостоит следующей за ним веренице традиционных сравнений. Он нейтрализует их действие, сильно ослабленное уже одной беглостью их перечисления и кощунственным пушкинским «
Мне все равно…». Это «Мне все равно…» с непредумышленной иронией, адресованной традиции, сродни зачину первой строфы.
Лирическое беспокойство, растущее по мере развития поэтической мысли, в последней строфе «Заклинания» достигает апогея. Ритмическое движение стиха теперь затруднено неожиданными интонационными поворотами, перемещениями пиррихиев, все более стягиваемых к началу строки, частыми переносами, почти отсутствовавшими прежде. Ничто уже не напоминает о той закругленно-плавной, медлительной, замкнутой четким единообразием ритмического рисунка, гармонически-уравновешенной мелодии, которая господствовала в первом шестистишье начальной строфы. Ритмические изменения сопутствуют в третьей строфе мощному сдвигу лирической мысли, которая до сих пор исподволь прокладывала себе дорогу через нагромождения элегических «формул». «Остраняя» традиционный материал и утверждая право земной горячей страсти и земной жестокой боли там, где были узаконены лишь элегические жалобы да робкая покорность судьбе, мысль эта, теперь уже не таясь, покончив счеты со старым элегическим «опытом» (от него остались лишь «тайны гроба»), заявляет наконец о своей индивидуальности, окончательно раскрываясь в своем существе.
С точки зрения композиционных принципов Пушкина характерно, что это происходит именно в финале. В пушкинских лирических финалах наблюдается не только своеобразная вспышка лиризма, его высвобождение из-под напластований изобразительной стихии. В них, как это уже было показано во 2-й главе, лирическая мысль нередко утверждается в своей диалектической полноте. Здесь она поднимается на огромную высоту, вбирая в себя полярные стихии духа, сливая их в новый синтез, отмеченный мудрой зрелостью и широтой жизнеощущения. Итак, не просто смена душевных состояний, при которой одно опровергается другим, но именно синтез. Глубина и сила скорбной пушкинской рефлексии слишком велики и органичны, чтобы какой-либо мгновенный порыв жизнелюбия был в состоянии перечеркнуть их. И в финалах пушкинских стихотворений печаль рефлексии не «отменяется», а входит в новое состояние души, просветляясь от соприкосновения с ним. В этом смысле «формула» пушкинской «Элегии» «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» глубоко типологична.
У Пушкина есть и другой тип лирического финала, который строится на многозначительности сдержанного намека. Иногда ему сопутствует разрыв лирической композиции, драматический обрыв мысли, открывающий возможную перспективу лирического движения. В условиях такого финала лирическое переживание оказывается в какой-то мере завуалированным. Дело в том, что оно с самого начала заведомо скрывает в себе как некий подтекст то контрастное состояние души, присутствие которого раскрывается в намеке. И когда мы, например, в произведении «Ненастный день потух» (1824) сталкиваемся с заключительным пушкинским «Но если…», столь чреватым возможными душевными катастрофами, мы понимаем, что это «если» уже давно таилось «за кулисами» лирического переживания. Невысказанное, оно скрывалось за настойчивым нагнетанием атрибутов воображаемого одиночества далекой возлюбленной, точно поэт гипнотической силой самовнушения стремился утвердиться в желаемом, приглушая внутреннюю тревогу.
…Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна… ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . . . . . . . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен;
. . . . . . . . .
Но если…
В подобных случаях лирический финал Пушкина бросает неожиданно новый свет на предшествующее движение лирической мысли, выявляя ее психологический подтекст, окутывая ее полнотою эмоциональных оттенков и в то же время приоткрывая возможность грядущих душевных коллизий.
С аналогичным построением лирической ситуации мы сталкиваемся и в «Заклинании», несмотря на то что лирическая композиция здесь замкнута, а движение мысли не завершается явным обрывом.
Вернемся теперь к третьей строфе, в которой воплотилось предельное беспокойство лирической мысли, материализованное в ритмических затруднениях стиха. Подготовленная напряжением ритма, здесь появляется психологическая деталь, сосредоточившая в себе силу стихийно прорвавшегося намека:
…Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь… но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!
Эта деталь появляется как бы случайно, будучи включенной в перечисление мотивов, отвергаемых поэтом. Но она завершает собой развернутую цепь отрицаний. На ней на какое-то мгновение задерживается лирическая мысль. Следует многозначительная пауза, подчеркнутая многоточием, и ритмическое движение стиха точно
натыкается на внутреннюю преграду. Дальнейший ход мысли стремится сгладить впечатление проскользнувшего намека, заглушить его лихорадочно напряженной клятвой любви. Но, предназначенные затушевать тревожный и многозначительный уже по стиховой позиции мотив сомнения, последние строки, в сущности, лишь отчетливей раскрывают его истинный смысл. Теперь ясно, что сомнение посягает на неувядаемость чувства. Ведь отвергнутый мотив продолжает жить и в самой клятве. Как семантически контрастный подтекст он прячется в интонационных акцентах стиховой фразы:
…Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!
Сомнение, отвергнутое ранее как повод к заклинанию, по существу, утверждается в этой роли. И хотя Пушкин говорит «Не для того…», мы теперь понимаем, что именно «для того». Для того, чтобы заглушить в себе яд сомнения, удержать неудержимое — трагический в своих последствиях бег времени, — для этого лирический субъект сосредоточивает в заклинании всю энергию душевного порыва, для этого он вызывает к жизни мучительный образ последнего смертного томления возлюбленной: пусть видения памяти обострят ощущение внутренней вины.
Так вскрывается в финале «потаенный» план лирического переживания, его сокровенный психологический импульс. Теперь все встает на свои места, и долгое, почти робкое, как бы кружное, движение мысли, нарастание ее тревоги получает мотивировку в самой трагичности ее истоков, в смятении перед их точным названием. А главное — лирическая ситуация стихотворения, построенная на обращении к «объекту», смещается во внутренний план, где заклятие оборачивается самовнушением, попыткой переломить равнодушие, подхлестнуть угасающее чувство, стремлением «будить мечту сердечной силой», как выразился Пушкин в стихотворении «Прощание», имея в виду тот же душевный конфликт.
В средневековом индийском эстетическом трактате «Дхваньялока», написанном Анандавардханой (IX в.)
[41], есть характеристика особого типа поэтической образности («дхвани»), предполагающего несовпадение (или неполное совпадение) смысла и внешней структуры выражения. Анализируя одну из разновидностей «дхвани» («дхвани смысла»), Анандавардхана фиксирует случай, когда скрытый смысл поэтического образа соседствует со структурно выраженным, подчиняя его себе. Мы позволили себе этот экскурс не для того, чтобы хоть на мгновение допустить возможность сознательного или неосознанного применения Пушкиным образной структуры, берущей истоки в старой индийской поэзии. Образ пушкинского «Заклинания» включает в себя структурно запечатленный (пусть маскируемый) намек на второй смысловой план лирического переживания, и это свидетельствует об отсутствии полного совпадения с упомянутым типом поэтической образности. Индийская теория «дхвани» в интересующем нас плане примечательна тем, что она демонстрирует принципиальную возможность несовпадения в поэзии психологического импульса и запечатленной картины переживания, возможность контрастной связи между ними. И пушкинский пример показывает, что картина душевной борьбы, воплощенная в лирических формах нового времени, не обязательно выливается в зрелище открытого поединка страстей. Она может скрывать в себе завуалированные следы подавляемой, но не подавленной душевной стихии.
Вернемся, однако, к литературной традиции, на которую указывают рассыпанные в «Заклинании» элегические сигналы. Ни способ воплощения лирического переживания, ни душевная коллизия, питающая его, не имеют с этой традицией ничего общего.
В старой элегии Жуковского человеческое чувство неувядаемо именно потому, что она, в сущности, не знает иного времени, нежели время лирического «я», утверждающего автономность и незыблемость своего душевного бытия. В этой художественной картине мира и сама смерть не в состоянии прервать бесконечно льющуюся музыку души. Не случайно лирического героя Жуковского интересуют только два временных измерения мира — минувшее и будущее. Настоящее при этом выпадает из живой связи времен, поскольку в нем-то как раз ощутимей всего пульсирует реальное время, напоминающее о себе ударами судьбы, тусклыми заботами дня; ведь «довлеет дневи злоба его». Между тем «минувшее» потому является для Жуковского областью идеала, что оно сохраняет красоту, очищая ее от налета повседневности, противостоя разрушительному потоку времени. Там (в воспоминании) все вечно и нетленно, там иллюзия полной свободы, безграничной независимости духа, здесь (в реальности) все преходяще, подвластно неизбежному разрушению, фатальному и тесному потоку бытия. «Воспоминание», «минувшее», «былое» — поэтическая утопия Жуковского, над которой не властны законы времени и пространства. С другой стороны, в «воспоминании» подтверждается могущество свободной воли субъекта, творящего свой мир, противопоставляющего себя в этом акте законам реальности.
У позднего Пушкина в душевной жизни личности и в объективном мире действительности господствует единый закон реального времени. В 1830 году пушкинская лирика буквально погружена в поток времени, биение которого исследуется в различных сферах; и на философских высотах, где мотив времени вплетается в раздумья о смерти и о смысле человеческого существования («Элегия», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»), и в размышлениях о грядущей участи поэта, где настойчиво повторяется печальная нота забвения («Что в имени тебе моем…»), и в драматических коллизиях чувства, где время оказывается повинным в увядании любви («Прощание», «Заклинание»). Пушкинская любовная лирика 1830 года, расставаясь с романтической иллюзией вечной любви, фиксирует опустошающий бег времени с мужественной бескомпромиссностью:
…Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас…
Эти строки из пушкинского «Прощания» в открыто медитативной форме воплощают тему, которая в «Заклинании» уйдет в подтекст. Здесь дана и «формула обоснования» («Бегут меняясь наши лета, Меняя все, меняя нас»), мотивирующая угасание чувства. В «Заклинании» Пушкин не вспомнит о ней, ибо возможность объективной мотивировки сомнения будет отсечена острым ощущением трагической вины. Ведь ракурс темы изменится (хотя существо ее останется тем же): лирическая ситуация будет предполагать реальную (а не метафорическую, как в «Прощании») смерть возлюбленной.
Тесная внутренняя связь этих стихотворений Пушкина, близких и по времени написания, очевидна. Это связь такого рода, при которой одно лирическое высказывание дополняется другим, договаривается недоговоренное, уточняются акценты. И в «Прощании» новая трактовка лирического конфликта связана с переосмыслением жанровой стилистики, на этот раз энергично оттесняемой индивидуальными ассоциациями поэтического слова. Так, проскользнувший во второй строфе привычно элегический оборот «могильным сумраком одета», подключенный к иному психологическому контексту, обнаруживает неожиданное смещение смысла. Метафора семантически «удваивается». По традиции обращенная к реальности, она теперь целиком погружена в психологический план, живописуя умирание любви. Над старым, привычным метафорическим смыслом надстраивается непривычный, неповторимый, навеянный образными связями нового контекста. Между тем и старый смысл еще откликается в пушкинском образе, и за счет этого возникает тонкая перекличка ассоциаций, смысловое эхо, рождающее ощущение глубины.
Говоря о сигналах жанрового стиля в пушкинской лирике 30-х годов, важно учитывать не только их внутреннюю перестройку, но и их стиховое окружение, художественный фон, на котором они выступают.
Искусство поздней пушкинской лирики — искусство редко, но крупно брошенного словесного мазка, яркой психологической детали. Эта деталь дана порой мимолетно и не вырастает в развернутый образ. Но иногда в ней заключен образный заряд такой поэтической силы и так неповторимо богатство вскрываемых ею психологических глубин, что она «заражает» собой стиховое окружение, либо подчиняет его себе и становится лейтмотивом всей строфы (стихотворения). И когда рядом с такой заостренно индивидуальной деталью оказываются элегические сигналы, создаваемое ими впечатление условности тускнеет уже от одного соседства с нею.
Вспомним первую строфу «Прощания»:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
«Будить мечту сердечной силой» — образ этот мелькнул бегло в ряду знакомых элегических примет. Но эмоция, скрытая в нем, слишком необычна, и поэтому деталь, ничем не выделенная внешне, даже, напротив, точно бы приглушенная традиционным соседством, становится «камертоном» строфы. Что это именно так, подтверждается второй строфой, в которой подхватывается образ оскудевающей мечты, вычленяя новые повороты мысли. Да ведь уже и в первой строфе ключевая деталь бросает свой отсвет на традиционную образность, и в ней начинают пробиваться ростки нового смысла. Нега — «робкая и унылая» уже не потому только, что такою ей надлежит быть по предписаниям элегического канона, но и потому, что ее коснулась покаянная робость чувства, не выдержавшего бремени протекших лет.
Поэтика традиционной элегии была замкнуто-монологической. Разумеется, элегия окончательно не порывала всякую связь с внешней реальностью. Но она отталкивалась от нее, чтобы тотчас же уйти в себя, в мир субъективной исповеди, в котором детали предметного фона или смутные отголоски события оборачивались лишь экспрессивными знаками настроения. Здесь господствовала единая и неделимая норма исповедующего сознания. Сюда не допускалось чужое «я» на каких-либо иных правах, кроме как на правах безликого объекта любовных признаний, романтического томления или условного пиетета. Тем более не допускалось сюда «чужое слово». И естественно, не только слово, отмеченное индивидуально речевой непосредственностью и несущее в себе всю полноту «другого» духовного мира. Ведь ясно, что для воплощения такого слова лирическая поэзия обладает весьма скромными возможностями. Но и чужое слово, отфильтрованное речевыми установками жанра, живущее отраженным свечением в неизбежно сглаживающих формах косвенной и несобственно-прямой речи, — и такое слово, как правило, не проникало в элегию традиционного типа. Из современников Пушкина только Баратынский в элегическом жанре открывает доступ если не «чужой речи», то во всяком случае, обращенному слову, за которым порой входит в произведение образ чужой души с иной жизненной позицией, принципиально не совпадающей с жизнеощущением лирического «я» («Разуверение», «Признание»). Элегическая коллизия обновляется и драматизируется: конфликт внутри сознания осложняется конфликтом сознаний. Но духовные миры в элегиях Баратынского лишь сополагаются, а не проникают друг друга: между ними роковая преграда разобщенности
[42]. В сущности, слово обращения в элегиях Баратынского лишь резче оттеняет трагический разрыв духовных связей, который воспринимается поэтом как «общее состояние мира». Вот почему элегическая медитация Баратынского порою начинается с обращения к возлюбленной, с диалогической установки («Размолвка», «Разуверение», «Признание», «Оправдание», «Уверение»), но тотчас же переливается во внутренний монолог, в анализ своего чувства, в котором изредка вспыхивает «фигура обращения», вытягивая за собой тонкую, постоянно рвущуюся цепь намеков на чужой душевный мир.
В зрелой лирике Пушкина появляется мир другой человеческой судьбы, не поглощаемый целиком субъективной рефлексией, не растворенный в ней. Эта тенденция берет истоки уже в поэзии 20-х годов («Простишь ли мне ревнивые мечты…», «Ненастный день потух…», «Под небом голубым страны своей родной…»), укрепляясь в любовной лирике позднего периода («Когда в объятия мои…», «Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…», «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…»).
Своеобразие пушкинской любовной лирики вовсе не в том, что она обильно насыщена конкретными деталями, складывающимися в отчетливый и развернутый образ возлюбленной. Чаще всего этот образ все же невосстановим во всей своей полноте, и эта недоговоренность рождает ощущение чарующей тайны. Очертания образа словно размыты далью времени. Иногда он завуалирован загадочностью душевных движений («Простишь ли мне ревнивые мечты…»). Но и в том и в другом случаях в структуру пушкинской элегии вписывается и реальная ситуация, в которой участвует чужое «я», правда, недостаточно индивидуализированное («Простишь ли мне ревнивые мечты…» в этом смысле редкое исключение), и даже «чужая речь», хотя и лишенная примет неповторимо-личностного склада («Для берегов отчизны дальной…»). Нетрадиционность любовной лирики Пушкина в том, что лирический образ ее субъекта раскрывается именно
в отношении к другому «я», и это отношение не фикция, не повод к самоанализу (как у Баратынского), а сама суть пушкинского лиризма.
Интонация обращения не затухает в пушкинской лирике, она пронизывает ее насквозь — другая судьба исполнена для поэта жгучего интереса. Обращенность стихового слова, его ориентация «во вне», к конкретному или условному адресату — явление настолько важное для понимания своеобразия пушкинского стиля и особенностей пушкинского мышления в болдинский период, что мы позволим себе остановиться на нем подробнее.
Адресованное слово стиха часто, устанавливая доверительно-интимный контакт с «собеседником», удесятеряет тем самым силу своего воздействия на читателя. В самом деле, такое слово укрепляет драгоценную в искусстве иллюзию как бы «на глазах» творимой и, следовательно, предельно искренней поэтической речи. Вместе с ним в композицию стиха входит и образ адресата. Он скрытно присутствует на втором плане изображения как образ мыслимого единомышленника (либо мыслимого оппонента) даже тогда, когда он не развернут композиционно, а только назван поэтом или только угадывается в контексте высказывания. В мир адресованной поэтической речи теснее втягивается читательское воображение. Обращенное слово не только (а порой и не столько) изображает, оно внушает, форсируя заключенную в слове и в интонации волевую энергию, оживляя в преображенном виде древнюю семантику заклинания. Недоговаривая или вскользь упоминая о том, что должно быть известно адресату, такое слово раздвигает смысловые границы образа.
Лирическое обращение, появляясь в стиховой речи, отражается и на ее интонационном строении. Следом за ним в стих нового времени нередко вторгается речевой жест, интонации живой, временами неровной, оглядывающейся на разговорную стихию поэтической речи.
Эти новые интонационные возможности обращенного слова в стихотворных посланиях пушкинской поры еще скованы сознательной литературной установкой на благозвучие, на легкую и изящную гармонию слога. Стиховая речь течет здесь как непринужденный, но однако же рафинированный, эстетически отточенный и тем самым сглаженный «разговор», в котором гибкость интонации не разрушает ее подчеркнуто мелодической основы. Послание пушкинской поры словно бы любуется только что открытой стихией легкого, мелодически организованного слова, освободившегося от бесконечных инверсировок, от режущих слух усечений, от тяжеловесной поступи затрудненной одической речи. Слово послания, если можно так выразиться, сознательно «болтливо». Оно избыточно нагнетает ассоциации, множит литературные и мифологические имена, не останавливаясь порой даже перед угрозой композиционной аморфности (для послания эта угроза и не столь уж существенна: здесь, как в письме, можно все дальше отодвигать точку).
Мы не случайно начали разговор об адресованном слове с литературных судеб жанра, энергично насаждаемого поэзией предромантизма. В старой оде ломоносовского типа установки обращенной речи формализованы. Даже адресуясь к конкретному лицу (монарх, вельможа), современнику поэта, одическое слово апеллирует лишь к идеальному и абстрактному образу, созидаемому как «звено» политической и философской программы автора. Обращение и в этом случае накладывает отпечаток на воплощение лирической мысли. Но лишь как ораторский жест, стандартизированная фигура риторически построенной речи, элемент ее внешней организации. В державинской оде поэтическая адресация обретает новые оттенки. Объект обращения еще во многом сохраняет налет абстрактной идеализации. Но в противоречие с традицией образ адресата порой осложняется у Державина приметами индивидуально-личностного склада. Характерное державинское колебание между человеческим и нормативно-государственным в облике монарха соответствующим образом настраивает и речь. Сокращается дистанция между словом и адресатом. Лукавое державинское слово в таких одах, как «Фелице», «Видение мурзы», прикрываясь комплиментами как щитом, может позволить себе тонкую фамильярную игру на человеческом в облике государыни. Слово здесь, естественно, еще очень далеко от того, чтобы реагировать на «чужое слово». Но оно так или иначе пытается реагировать на чужое сознание, то подстраиваясь к нему, то проецируя в него желаемое отношение к реальности и всегда сохраняя за собой возможность укрытия в традиционном пиетете. Возникает, наконец, нечто совершенно немыслимое в условиях старой оды — сопоставление поэта и его адресата как личностей (ода «Фелице»).
В посланиях карамзинистов и раннего Пушкина пока что очень ощутима условность в изображении адресата — следствие еще не изжитых поэзией нормативных представлений. Но существенно изменился самый характер нормативного. Личное, интимное, частное бытие здесь преподносится как норма, и условность вырастает именно на этой почве. Послание спешно формирует художественную психологию, этику и эстетику литературной группы, не позволяя себе углубляться в только что открытый мир индивидуального. Это естественно в тех условиях, когда литературная школа ощущает себя не то чтобы периферийным, но, во всяком случае, явлением неканонизированным, складывающимся, вынужденным отстаивать свое художественное бытие. Послание
в этих условиях — и форма художественной пропаганды новых эстетических ценностей, и форма литературного общения. Общения единомышленников. Это обстоятельство решающее. Оно-то и предопределяет так называемую «домашнюю семантику» слова в послании
[43]. Обращенное слово послания называет и эстетизирует явления, хорошо знакомые адресату. Именно поэтому оно может ограничиться намеком, «полусловом» или, называя вещи, смещать их в сторону условных мифологических схем, приучая и читателя за условностями слова ощущать новые связи явлений.
«В дружеском послании, — пишет Л. Я. Гинзбург, — условное и отвлеченное борется с эмпирическим и стремится его поглотить»
[44]. Мысль эта справедлива постольку, поскольку она фиксирует противоречивость образной системы раннего русского послания арзамасской поры. Важно только иметь в виду, что условное и эмпирическое в жанре послания проступают не как «чистые» стихии, чуждые соприкасаний и стремящиеся лишь оттеснить друг друга. Ранние послания арзамасцев почти не знали чистой эмпирики, быта, не тронутого поэтической стилизацией. Это, конечно, не значит, что бытовая «живопись» послания непременно очищалась с тем, чтобы быть возведенной в «перл создания». Но это означает, во всяком случае, что прозаические стороны быта были отфильтрованы эстетической нормой, стянуты к немногочисленным жизненным сферам, отобранным поэзией: «пиры», «хижина поэта» и т. д. В раннем послании эмпирическое как бы на глазах прорастает условностью. Индивидуальное в человеке и окружающем его быте очень скоро становится общей литературной темой, не успевая превратиться в принцип личностного жизнеощущения художника. Стилизацией быта, а следовательно, и литературно-бытовых форм общения, в раннем послании объясняется и своеобразие его адресованного слова. Между субъектом речи и адресатом здесь еще стоит посредник: эстетическая призма условности, отшлифованная литературной школой. К живому облику адресата она примеряет литературный образ, одну из литературных схем («эпикуреец», «поэт-отшельник», «философ» и т. д.), выработанных новой поэтической практикой. Накладывается эта схема, однако же, так, чтобы сквозь нее, хотя бы изредка, просматривались отдельные приметы реальной личности.
Когда Пушкин в «Послании к Галичу» (1815) называет своего лицейского наставника «ленивцем» и «любовником наслажденья», то в этой характеристике, конечно, отсвечивает пресловутый культ лени, спутницы вдохновения, — одно из нормативных представлений, воздвигнутых арзамасским содружеством. Но условно литературный образ в контексте послания перекликается с реальными чертами адресата, хотя, бы и предельно обобщенными, сознательно вычлененными из живого многообразия личности. Как бы там ни было, условная схема («ленивец», «философ») избрана здесь не произвольно. Она подстраивается к личности, в известной мере вырастая на ее реальном материале. В композиции этого послания слово обретает двоякую направленность. Оно играет литературными «масками», «перебирая» их, примеривая то одну, то другую к личности адресата («театрал», «мудрец», «низкопоклонствующий поэт»). Увлеченное этой игрой пушкинское слово как бы забывает о личности адресата и возвращается к ней лишь в обращении:
…Нет, добрый Галич мой!
Поклону ты не сроден…
Начиная с этого момента, равнение на адресата «отрезвляет» полет воображения, направляя его по тропе, на которой встречаются фантазия и реальность. «Поклону ты не сроден», — пишет Пушкин, и этим возвращением к адресату отринута прихотливая вереница условных масок, каждая из которых в композиции послания развертывалась ситуативно, вырастая в маленькую жанровую сценку. Но только что отвергнувшее подчеркнуто условный разворот темы, вернувшееся к реальной личности, слово Пушкина вновь начинает ретушировать ее черты.
…Друг мудрости прямой
Правдив и благороден;
Он любит тишину… и т. д.
Интонация непосредственного и интимного обращения затухает в строке. Обрывается жест, притаившийся в слове. Фамильярное «ты», устранявшее речевую дистанцию, переплавлено в обобщенное и уже отчужденное «он». Условный образ «друга мудрости» начинает «раздваиваться». Он еще не порывает контактов с личностью адресата (как не порывает с нею до конца и следующая далее цепочка поэтических образов). Но он уже вновь устремлен к знакомым поэтическим схемам, только на сей раз эти схемы соизмерены с реальным миром лирического «персонажа», подсказаны им.
Исследователи уже подмечали приметы нарастающей индивидуализации образа адресата в послелицейской лирике Пушкина. Не нужно лишь забывать, что построение неподвижного и замкнутого в себе лирического персонажа отнюдь не является целью послания, даже если этот образ развернут в композиции стиха. Независимо от того, очерчен ли он пунктирно, проступает ли он отдельными, бегло намеченными штрихами, или он представлен в многообразии бытовых и характерологических деталей, — образ адресата у Пушкина оказывается втянутым в стихию общения, художественную иллюзию которого и стремится создать обращенное слово. Чаще всего сигналы этого общения подспудно и скрытно дают о себе знать в потоке монологической авторской речи. Но и тогда зрелой лирике Пушкина оказываются соприродными те признаки, которыми характеризует Н. Л. Степанов дружеское письмо начала XIX века: «Ориентация на разговорный диалог, который предполагает реплицирование собеседника, приводит к своего рода одностороннему диалогу, где как бы дается одна его сторона, принадлежащая одному (а не обоим) из собеседников (в данном случае автору письма), так как фактического реплицирования ответов собеседника нет»
[45]. Движение к индивидуализации лирического образа и поэтической речи в лирике Пушкина послелицейской поры расковывало возможности обращенного слова. Правда, ему еще долго будут сопутствовать отголоски условности, и зрелый Пушкин не откажется совсем от привычки рядить своих адресатов в знакомый лицейский маскарад (особенно в произведениях, посвященных лицейским годовщинам). И дело не только в том, что тут сказывалась инерция жанровой стилистики. Но и в том, по-видимому, что Пушкин стремился воскресить в поэзии 20-х годов отшумевший лицейский мир, мир гармонического содружества, духовного братства, сохранив в неприкосновенности самый образ этого мира, или, по крайней мере, его отдельные приметы, как они сложились в лицейской лирике. Содержательные ориентации старых «масок» менялись: теперь за ними стояла своеобразная «эстетика напоминания». Важно, однако, что схематизация индивидуального исчерпала себя в зрелой лирике Пушкина как принцип стиля. Условно-литературные ассоциации еще могли сопутствовать образу адресата, как сопутствует, к примеру, литературный грим образу Д. В. Давыдова («Денису Давыдову» — 1821 год). Но сквозь застывшие очертания «маски» теперь отчетливей проступает «лицо». Упомянутое стихотворение, без сомнения, «цитирует». Но «цитирует» оно не мифологические штампы лицейских времен, а конкретные приметы того лирического героя, образ которого сформирован неповторимой поэзией Д. Давыдова.
Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.
По мере того как крепла индивидуальность пушкинского художественного мышления, в лирике открывалась возможность, так сказать, прямого, не опосредованного образом условного типажа, обращения к адресату. Композиция поэтической речи перестраивалась. Слово в лирике Пушкина 20-х годов обретает непосредственную связь с реальной ситуацией общения, образными преломлениями которой живет пушкинская адресованная речь. В ранних посланиях Пушкина точка зрения адресата органично и непротиворечиво вплеталась в единую раму авторского лирического сознания. Ведь обращение к адресату как стилизованной личности и призвано было продемонстрировать гармоническую общность жизнеощущения, под знаком которого складывалась поэзия лицейского братства и «арзамасского» содружества. Между тем позиция автора в лирике 20–30-х годов осложнена ощущением разноликости людских судеб, неизбежности и порою неуследимости перемен, совершающихся в чужом сознании и чужой жизни.
…Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?..
(«19 октября»)
Зрелость пушкинского художественного мышления 20–30-х годов проявляется, в частности, и в том, что, осознав индивидуальную неповторимость чужих духовных миров, их автономность и сложность («Простишь ли мне ревнивые мечты…», «Коварность», «Желание славы» и т. д.), Пушкин избежал соблазна индивидуалистической рефлексии, воздвигающей барьеры на пути к постижению другого человеческого «я».
Интонация обращения и слово обращения в пушкинской лирике — нечто большее, чем просто деталь в ряду других «слагаемых» поэтического целого. И то и другое нерасторжимо сливается с природой пушкинского лирического голоса, врастает в его неповторимый «тембр». Не будет преувеличением сказать, что едва ли не вся зрелая пушкинская лирика пронизана интонацией обращения. Едва ли не вся она несет в себе этот неповторимый пушкинский жест «во вне», рассчитанный на живое соучастие в поэтической речи, оттеняющий ее обнаженную искренность. Здесь истоки своеобразной разомкнутости пушкинского лирического образа. Здесь его выходы в неисчерпаемость того реального мгновения, из которого он вырастает, не обрывая с ним своих «кровных» связей. Обращенное слово Пушкина — посредник между лирическим переживанием и реальной ситуацией, которую далеко не всегда исчерпывает пушкинский стих, на которую он нередко предпочитает намекать, окидывая ее точно бы краем глаза, оставляя простор для ассоциаций. Так воспроизведенная и так воспринятая лирическая ситуация получает многомерность и глубину, то уходя корнями в пушкинский биографический опыт, то удаляясь от него.
Степень конкретности в адресации такого слова не столь уж существенна по сравнению с тем настраивающим воздействием, которое оно оказывает на интонацию стиха и его образную структуру в целом. Дело даже не в том, назван пушкинский адресат или нет, хотя мы допускаем, что указание на конкретного адресата позволяет опереться в восприятии стиха на контекст пушкинского творчества и пушкинской биографии одновременно. И эта опора раздвигает изобразительные возможности отдельного произведения. Но у Пушкина немало стихотворений, обращенных к безымянному адресату. К тому же адресат этот далеко не всегда получает место развернутого образа в построении стиха, оставаясь как бы за его порогом, не обрастая характерологическими приметами (например, в гениальных пушкинских миниатюрах «Все в жертву памяти твоей…», «Я вас любил…»). Но было бы упущением не учитывать в этом случае роль обращенного слова. Порою именно в безымянных адресациях Пушкина яснее проступают поэтически трансформированные сигналы общения, приметы речевой ситуативности. Достаточно сравнить здесь пушкинскую миниатюру «Все кончено, меж нами связи нет…» (1824) и стихотворение «Кн. М. А. Голицыной» (1823). Первая из них всецело построена как ответ на «чужое слово», втянутое в монолог лирического субъекта.
Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.
Лирический образ целиком порожден здесь своеобразным реплицированием чужого слова. Недаром оно подхватывается авторской речью в драматически-решительном утверждении зачина, рождая скорбное эхо, которое отдается в каждой строке, продолжая жить и в суровой окончательности самозапретов («Обманывать себя не стану вновь, Тебя тоской преследовать не буду» и т. д.). Обращенное слово здесь «срослось» с лирической ситуацией, неотделимо от нее. Оно, если можно так выразиться, еще от нее не отошло на охлаждающую поэтическую дистанцию и потому все пронизано трепетом неостывшей боли.
Совсем иное — в стихотворении «Кн. М. А. Голициной». Формально обращенная к адресату, поэтическая речь здесь подчинена центростремительным силам. Она созидает образ воспоминанья («Давно о ней воспоминанье Ношу в сердечной глубине»), замкнутый в пределах монологической исповеди. «Она» — лишь объект памяти, а не субъект общения. И стихотворение это — картина душевных итогов, но не образ мгновения, воплощенного в его «сиюминутном» протекании. Настоящее время лирического высказывания живет в этом случае только преломлениями прошлого. Этот временной барьер между субъектом высказывания и адресатом формализует установку на обращение, притаившуюся в названии, не позволяя ей развернуться в поэтическом слове. Образ М. А. Голициной предстает отчужденным, изъятым из художественной ситуации общения.
Обращенное слово Пушкина не только строит образ особой аудитории единомышленников (в лицейских посланиях, в поздних стихотворениях, обращенных к друзьям). В широких философских измерениях пушкинской художественной мысли оно предполагает сообщаемость духовных миров как принцип человеческого бытия. У Пушкина оказываются проницаемыми сознания разных уровней: слово Пушкина адресуется, преисполненное уверенности в возможностях понимания, не только к собратьям «по музам и мечтам», но и, например, к непосредственной, нетронутой рефлексией, не осложненной печатью самосознания женской душе, и здесь отыскивая тропу к духовному в человеке. Редкостная общительность пушкинской музы утверждает мудрое и трезвое родство душ, лишенное романтической установки на избранничество, на фатальную предназначенность сердец. Создается впечатление, что лирическое переживание Пушкина только и может раскрыться в этом живом и разомкнутом слове обращения, что ему органически необходим этот эффект присутствия другого «я», на которого ориентируется лирическое высказывание.
В болдинской лирике адресация слова обретает особое значение. Она размыкает трагическое уединение мысли. Она воздвигает мост над пропастью, разделяющей прошлое и настоящее. Уже в самом обращении к адресату, реальному или условному, заключена своеобразная
энергия преодоления трагического разлада с миром и того разобщения с ним, которое порождается исповедальной сосредоточенностью сознания.
Далеко не случайно, что именно на переломе лирического размышления в болдинской «Элегии», именно там, где вспыхивает волевое усилие мысли, превозмогающей жизненный мрак, возникает и обращение к адресату, хотя бы и условному: «Но не хочу, о други, умирать».
«Прощальные» стихотворения Пушкина — не только утверждение разлуки с прошлым, но и подтверждение живой связи с ним. Только этим и можно объяснить то изумительное «ясновиденье» поэта, которое, прикасаясь к минувшему, оживляет его опаляющие душу подробности. Вопрос лишь в том, как выражается эта связь и в чем ее смысл. Обращение к умершей возлюбленной в «Заклинании» и в «Для берегов отчизны дальной…» создает особый трагический контраст мертвого и живого, живой мучительной памяти и безжизненности «возлюбленной тени», человеческой судьбы, похищенной смертью. Но к мертвому здесь обращаются как к живому. Над всевластием смерти торжествует память и воскрешающая сила искусства. Пушкин, как уже говорилось, не питает никаких иллюзий насчет романтической вечной любви. Но его прощальная лирика убеждает в том, что если нельзя вернуть минувшее и сохранить навсегда первозданную силу чувства, то нельзя и вычеркнуть его из «книги бытия», даже на переломе судьбы, ибо оно стало звеном в ее нерасчленимой цепи. «Но строк печальных не смываю» — эти слова пушкинского «Воспоминания» можно было бы поставить эпиграфом к «прощальной» лирике болдинской поры.
Среди стихотворений «прощального цикла» пушкинское «Прощание» — единственное произведение, обращенное к живой женщине. Не так давно Г. П. Макогоненко пытался пересмотреть это традиционное представление, выдвинув гипотезу о том, что все три стихотворения («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…») объединяются одним образом умершей возлюбленной поэта
[46]. Гипотеза эта не убеждает. Она расходится с
художественной логикой пушкинского текста. Единственное, в сущности, на что она могла бы опереться, — пушкинский образ:
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета.
Но для этого пришлось бы выхватить его из контекста и истолковать в прямолинейно-реальном значении. Что это метафора, обращенная в психологический план, подтверждается контекстом предшествующих строк:
Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас.
Разве не достаточно очевидно, что речь здесь идет о
психологических переменах, об охлаждении страсти, уже хотя бы потому, что в применении к мертвому (а ведь слово «нас» включает в свой смысловой круг и адресата стихотворения) всякая мысль о переменах звучала бы как комический абсурд. Но дело не только в этом. Динамика поэтическоой темы и характер адресации убеждают в том, что «Прощание» обращено не к «возлюбленной
тени», а к живой, реально существующей женщине. Чтобы это стало очевидным, не нужно даже гадать, посвящено пушкинское стихотворение Елизавете Воронцовой или нет, нужно лишь присмотреться к существу воплощенной в нем поэтической мысли. Для понимания ее глубины совершенно не важно, к какому конкретному лицу обращено стихотворение (и тут мы вполне согласны с Г. П. Макогоненко), но зато чрезвычайно важно, что обращено оно к живому человеку, когда-то горячо любимому.
«В последний раз» и «заточенье» — слова, обрамляющие композицию «Прощания», усиливают лирическую музыку скорби, которой пронизано все стихотворение. Теперь представим хотя бы на мгновение, хотя бы отчетливо сознавая всю шаткость подобных допущений, — представим, что тема этого произведения развертывается в чисто биографическом плане. Как быть нам в этом случае с трагической пушкинской скорбью, обращенной к минувшему, с ее истоками и мотивами? В преддверии будущей женитьбы, в преддверии счастья, а не «заточения», на пороге событий, ход которых Пушкин подстегивал нетерпеливо и страстно, созданы произведения, в которых последнее прощанье с прежней любовью не сродни ли какому-то странному самозапрету, насилию над душой: «Как друг, обнявший молча друга пред заточением его…» «А с ними поцелуй свиданья… Но жду его; он за тобой…». Подобные вопросы заключают в себе слишком очевидную нелепость. А ведь вопросы эти встают неизбежно, стоит лишь вступить на путь узко биографического истолкования шедевров «прощальной» лирики Пушкина. И в этом случае уж, конечно, никакие ссылки на «всеобъемлемость» чувства не избавят от неловкости. В упомянутой уже работе, в целом серьезной и основательной, Г. П. Макогоненко остро и убедительно полемизирует с биографизмом в истолковании пушкинской любовной лирики. Но соблазн биографизма, по-видимому, все еще не изжит, если его убежденный противник позволяет себе суждения вроде следующих. «Но Пушкин еще не утратил веры в возможное счастье,
старался верить в него, потому что хотел его,
потому что желал любить свою избранницу»
[47]. Вот ведь, оказывается, как обстояло дело: Пушкин не просто
любил Н. Н. Гончарову, а только «
желал любить», только «
старался» верить в счастье. Для чего же понадобились столь рискованные предположения? Единственно для того, чтобы косвенным образом подкрепить весьма романтическую, но шаткую версию о
неколебимом постоянстве пушкинской любви к той загадочной, рано умершей возлюбленной поэта, имя которой тщетно пытались установить многие пушкинисты. «Много лет он был верен памяти любимой, а теперь наступила горькая минута прощанья навсегда. И не потому, что
перестал любить. Только со смертью его исчезнет любовь и память о ней»
[48]. Последние утверждения, и в особенности их далеко не предположительный тон, настолько ответственны, что, казалось бы, должны появляться лишь во всеоружии фактов.
Пушкинский трагизм в произведениях «прощального цикла» вырастает вовсе не на интимно-биографической почве. Все интимное, все биографическое переключено здесь в иные, общечеловеческие и философские сферы. Не нужно, конечно, усматривать в подобном перевоплощении рационально холодный акт мысли. Но не нужно и видеть в нем только привычный шаг художественного мышления, определяемый понятием «обобщение». Все горестное, трудное и прекрасное, что было в пушкинской судьбе, вся старая боль и душевные муки оживают в прощальной лирике. Но на них брошен особый свет, они предстают в таком художественном развороте, в котором события личной судьбы расцениваются с позиций общечеловеческого закона. Время, его неумолимая власть над миром эмоций — вот угол зрения, который отсеивает в событиях прошлого все, что несет на себе печать частной, узкобиографической драмы. Здесь источник пушкинского трагизма и здесь же, в границах этой темы, пути его преодоления.
В «Прощании» над пепелищем разрушенных временем связей утверждается мир новых отношений, мудрых, естественных и человечных. В первоначальный вариант второй строфы Пушкин внес характерное изменение.
Было:
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя поэт угас.
Стало:
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Вряд ли эта замена объяснима простой стилистической правкой, стремлением избавиться от повторения одного и того же слова в контексте одной строфы. Повтор в этом случае вовсе не кажется избыточным. И уж, разумеется, дело не просто в оттенках экспрессии, не просто в том, что слово «друг» звучит теплее и интимнее. Это слово подготавливает новый поворот поэтической темы, воплощенный в последней строфе. В финальном пятистишье перестраивается смысл поэтической адресации. К женщине, когда-то пылко любимой, теперь обращаются как к другу. В контексте этой строфы слова «друг», «подруга» становятся ключевыми словами, а семантика «дружбы» — мерою тех новых отношений, которые утверждаются взамен утраченных, пусть в предвиденье окончательной разлуки. В образе адресата открываются новые черты. Неустранимый закон времени коснулся и ее судьбы, и ее душа приобщена тому суровому и мужественному знанию мира, которое открылось поэту. Недаром образ «дальной подруги» окружен в последней строфе ассоциациями, исполненными самых дорогих для Пушкина воспоминаний:
Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.
Лирический «собеседник» в поэзии Пушкина наделяется иногда «своим» словом, становится речевым субъектом. Возникает явление «чужой речи». Нужно лишь сразу же оговориться, что вслед за такими исследователями, как В. Н. Волошинов, М. М. Бахтин, С. Г. Бочаров, Б. А. Успенский
title="">[49], мы понимаем это явление широко. Оно охватывает все многообразие модификаций, «какие мы встречаем в языке для передачи чужих высказываний и для включения этих высказываний именно как чужих в связный монологический контекст»
[50].
Если в эпосе соотношения авторского слова и «чужой речи» предполагают многообразную и гибкую систему взаимовлияний, то в лирическом творчестве связи эти носят по преимуществу однонаправленный характер: воздействию и обработке чаще всего подвергается «чужое слово». В лирической речи безраздельно господствует точка зрения лирического субъекта, господствует и тогда, когда она опосредована внеиндивидуальными установками жанра и жанровых стилей. Допуская в тексте образные вкрапления «чужого слова», она всегда интенсивно преломляет, трансформирует его, и степень такой трансформации, по сравнению с эпосом, очень значительна.
В пушкинской лирике явление «чужой речи» эпизодично. Пушкин гораздо чаще прибегает к формам скрытых «скольжений», тонких ориентаций авторского слова в план чужого сознания, отсвечивающего в авторской речи приглушенным свечением
[51]. Но даже единичные проявления поэтических новшеств в творчестве великих художников могут оказаться многозначительными, если расценивать их с точки зрения историко-литературной перспективы. В стихотворениях «Герой», «Для берегов отчизны дальной…» (1830), «В мои осенние досуги…» (1835) пушкинская лирика только начинает осваивать многоголосие действительности, как бы реализуя художественный опыт «Евгения Онегина». Способы воплощения «чужого слова» в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» побуждают вспомнить именно поэтику пушкинского романа. Там и здесь «чужое» сознание воплощено не в индивидуальном слове, распахнутом в безграничную и гибкую речевую стихию действительности, но скорее обозначено речевыми приметами литературных стилей
[52]. Там и здесь, не претендуя на отчетливо выраженную индивидуализацию, «чужая речь», однако, претендует на характеристику персонажа. Ведь в «чужом сознании» выдвигаются на первый план широчайшие напластования духовного опыта, оформленные речевыми сигналами поэтической традиции. К тому же пушкинский роман — роман лирический, роман, постоянно преломляющий «чужое слово» сквозь призму субъективно построенной авторской речи. Этим мотивируется принципиальная возможность освоения его художественных уроков пушкинской лирикой 30-х годов. Едва намечающаяся в лирике Пушкина тенденция к речевому многоголосию будет подхвачена поэзией Лермонтова и Тютчева (произведения «денисьевского цикла») и, наконец, в лирическом творчестве Некрасова, станет явлением узаконенным, вырастет в принцип стиля
[53]. «Чужое слово», отчетливо отграниченное в потоке авторского лирического монолога, оформленное в конструкциях прямой речи, возникает в элегии «Для берегов отчизны дальной…»
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья…
Но жду его; он за тобой…
Слово это является в отчетливо поэтизированной и традиционно сглаженной форме. Развертывается цепь «прекрасных формул», следующих одна за другой: «день свиданья», «под небом вечно голубым», «в тени олив», «любви лобзанья».
Инверсировка поэтических словосочетаний («под небом вечно голубым», «любви лобзанья»), закрепленная рифмой, еще более оттеняет условно-поэтизированный склад «чужой речи». В ней тщательно «вытравлена» стихия индивидуального. Не потому ли Пушкин очищает «чужое слово» от каких бы то ни было индивидуализирующих примет живой речи, от деталей, ведущих к личностному жизнеощущению, что он заботится о слитности и однородности стихового контекста, соблюдая здесь присущий ему речевой такт, опасаясь стилистической дисгармоничности? Но ведь лирический контекст позднего Пушкина успешно демонстрирует принцип эстетической меры в сложных условиях речевой полифонии. Ведь не остановится же Пушкин перед употреблением просторечного слова и живой разговорной интонации в композиционных пределах «высокой» философской лирики, как показывает пример со стихотворением «Пора, мой друг, пора…». Напротив, использовав здесь и то и другое, Пушкин достигает огромного художественного совершенства в воплощении философской мысли. Дело, следовательно, не в ограничениях, диктуемых принципом контекстуального единства.
Конечно, элегические формулы «Для берегов отчизны дальной…» дают о себе знать не только в «чужой», но и в авторской речи.
Однако в авторском речевом слое они рассредоточены, а их внеиндивидуальный эффект ослаблен в контексте новыми связями слова, психологизирующими лирическую ситуацию, создающими ее драматический накал:
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
К тому же такие обороты, как «край мрачного изгнанья», «край иной», «край чужой» уже не принадлежат всецело речевой сфере лирического героя. В них преломляется субъективный план «героини», ее оценка, ее слово. А между тем в «чужой речи» элегические штампы сгущаются. Слово лирического «персонажа» держится на них, как на опорных понятиях. На стилевом фоне авторской речи, по контрасту с ее только что отмеченными психологическими деталями, «чужое слово» выглядит особенно условным и обезличенным. Оно живет лишь отвлеченными поэтическими ассоциациями. И объяснение этому, по-видимому, может быть лишь одно: условность и обезличенность, поэтизированность и бесплотность «чужой речи» здесь художественно мотивированы. Именно в этих-то качествах слова и выявляет себя чужая точка зрения на мир.
Упустив это из виду, мы не поняли бы глубинной психологической коллизии, питающей движение лирической мысли. Одно из трагичнейших пушкинских стихотворений обернулось бы в этом случае непритязательным лирическим этюдом. И был бы перед нами еще один (пусть очень удачный) элегический вариант традиционной темы о смерти возлюбленной и еще одна модификация столь полюбившегося романтикам образа Гётевой Миньон. Впрочем, ассоциации с поэтической традицией отнюдь не отвергаются пушкинским текстом. Элегический мир романтизма с его знакомыми атрибутами действительно вовлечен в стихотворение словом героини и роковыми перипетиями ее драмы. Но язык романтизма перестал быть основным строительным материалом авторской речи. Теперь он лишь знак чужого сознания и носитель чужой точки зрения в авторском контексте. Элегическое слово осталось словом
изображающим лишь постольку, поскольку оно превратилось в
изображаемое слово.
Погруженное в поэтическую стихию романтизма слово здесь втянуто в неповторимый лирический конфликт, вырастающий из столкновения двух полярных жизнеощущений. Сознание героини, как оно проступает в речи, отмечено бесплотностью и иллюзорностью. Оно уже как бы не от мира сего, и, не претендуя на парадоксальность, можно сказать, что в контексте пушкинского произведения «чужое слово» предрекает трагический исход.
Поток авторской речи, омывающий это слово, подхватывает его конструктивные элементы и переоформляет их сообразно своей точке зрения на мир. Абстрактные атрибуты романтической мечты, подменяющей мир идеальными схемами традиционной поэзии:
…Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим…
в авторском контексте третьей строфы обретают впечатляющую конкретность остро подмеченных деталей, увиденных точно бы впервые:
…Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном…
Слово, разорвавшее в «чужой речи» связи с предметной реальностью, теперь восстанавливает их. Лишенное движения, воплощающее застывший эталон прекрасного, изъятый из потока времени («под небом
вечно голубым»), слово героини, трансформируясь в авторском контексте, получает динамический разворот («Неба своды
сияют в блеске голубом», «Тень олив
легла на воды»). В этой перестройке «чужого слова» отчетливей, чем где бы то ни было,
проглядывает точка зрения лирического субъекта. Его сознание, не отягощенное «неподвижной идеей», плен которой тяготеет над героиней, все распахнуто навстречу живым бурям бытия и потрясениям человеческой страсти, равно как открыто оно навстречу земной, реальной, а не иллюзорно-мечтательной красоте.
Не случайно же именно образу лирического субъекта сопутствует в первой строфе система психологизирующих деталей, развертываемых в потрясающую по драматизму лирической ситуацию, в которой роль героини пассивна и лишь на долю лирического героя выпадают все муки прощанья.
В контрастном сопоставлении речевых планов (план авторской речи и план «чужого слова»), ритмически акцентированном подхватами и перестройкой «чужого слова» в авторском контексте, —
в этом-то сопоставлении, по существу, и таится конфликтный нерв всего художественного целого. В контрастах слова —
контраст жизнеощущений, источник той внутренней коллизии, в свете которой получают нетрадиционный смысл традиционные атрибуты элегической образности.
Воссоздавая стихию элегического романтизма, но ощущая ее как стихию условную, превращая то, что было слито в ней с живым содержанием, в материал для воплощения принципиально иного содержания, пушкинское слово в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» совершает свободные скольжения от традиционных сигналов элегического стиля к психологически насыщенному конкретному слову. Используя язык элегического романтизма для построения «чужого слова» и объективируя «чужим словом» художественно чуждое ему в 30-е годы романтическое мировосприятие, Пушкин раздвигает изобразительные границы поэтической речи. Традиционное слово со стертой экспрессией, подвергшееся нивелировке смысла и потому
исчерпавшее себя как средство лирического самовыражения, для Пушкина может стать
средством обозначения, символом
иной точки зрения, иного «голоса», которому теперь открыт доступ в композицию лирического высказывания. Уже говорилось, что «чужое слово» у Пушкина характерологично, но не индивидуализировано. Остается лишь добавить, что в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» оно тем и характерологично, что не индивидуализировано.
Ведь оно характеризует принадлежность его носителя к родовому, к общей стихии романтического мировоззрения.
 Глава V
«Ювеналов бич»
Глава V
«Ювеналов бич»
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин…»)
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый…»

Конкретно-социальные противоречия эпохи в болдинской лирике чаще всего располагаются за гранью стиха, угадываются на стыках философско-лирических конфликтов как некая исходная «инстанция», определяющая общее направление пушкинских поэтических раздумий, их экспрессивную тональность. Но есть произведения, в которых социальные коллизии времени воплощены остро и открыто, входят в тематические и композиционные сферы стиха. Возникают образы пушкинских врагов. В круг этих образов входит и конкретная личность Булгарина, и «толпа» как враждебное социально-этическое целое («Ответ анониму»), и, наконец, враждебная Пушкину «идея», принцип подхода к действительности («Румяный критик мой…»). В зависимости от объекта изображения экспрессивный строй стиха предполагает или беспощадное сатирическое изобличение или драматически насыщенную жесткую и тоскливую иронию.
В болдинскую осень 1830 года Пушкин создает вторую эпиграмму на Булгарина, столь же гневную и хлесткую, как и первая, но несколько необычную по композиции. Пушкинская эпиграмма, как и всякая эпиграмма, обычно накапливает силу сатирического удара к финалу.
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!
Это пушкинское стихотворение 1825 года раскрывает не только поэтику эпиграммы, но и процесс ее создания. «Ее с конца я завострю» — такова первая и главная забота художественной мысли, которая, создавая композицию, ищет прежде всего завершающий и заостряющий поворот темы, от остроты и силы которого зависит успех всего художественного целого. Композиция эпиграммы и есть туго натянутая «тетива», энергия которой устремляется к финалу. Построение эпиграммы неуклонно ведет восприятие к завершающей остроте, разящий эффект которой должен быть подготовлен как неожиданность. «Подготовлен» и «неожиданность» — взаимоисключающие понятия, но на преодолении этого взаимоотрицания и строится композиционная «логика» эпиграммы. Острый, неожиданный и дерзкий скачок мысли в финале подготовлен в том смысле, что проложены пути к восприятию неожиданности, создан смысловой фон, на котором должен взорваться заряд заключительной сатирической острóты. Оттого, насколько эффектно будет «обставлен» этот «взрыв», зависит мощь сатирического выпада и, конечно же, художественная сила воздействия, блеск и остроумие эпиграммы.
Финалы пушкинских эпиграмм всегда блистательно неожиданны. Но при этом они различно построены. Иногда эта неожиданность находчивой перелицовки понятий или острой комической катахрезы:
Как брань тебе не надоела?
Расчет мой короток с тобой:
Ну, так! я празден, я без дела.
А ты бездельник деловой.
Или неожиданность остроумного и ядовитого противопоставления. Этот тип финала запечатлен во многих пушкинских эпиграммах: «Хаврониос! ругатель закоснелый» («
Затейник зол, с улыбкой скажет глупость.
Невежда глуп, зевая, скажет ум»); «Лечись — иль быть тебе Панглосом…» («И то-то, братец, будешь с носом, Когда без носа будешь ты»); «Недавно я стихами как-то свистнул…» («Он по когтям узнал меня в минуту, Я по ушам узнал его как раз»); «Там, где древний Кочерговский…» («Под холодный Вестник свой Прыскал мертвою водою, Прыскал ижицу живой») «Надеясь на мое презренье…» («Лакей, сиди себе в передней, А будет с барином расчет») и т. д. Иногда пушкинская эпиграмма как бы целиком свертывается в отточенное и немногословное противопоставление, превращаясь в язвительный эпиграмматический афоризм:
Лищинский околел — отечеству беда!
Князь Сергий жив еще — утешьтесь, господа!
Вся соль этой эпиграммы держится на мнимом противопоставлении, которое предполагает лишь ироническую подмену эмоций (Лищинский околел — утешьтесь, господа! Князь Сергий жив еще — отечеству беда!). Порою эпиграмматический финал подготовлен комической игрой слова. Композиция в этом случае как бы зондирует возможности такой игры, чтобы в заключение неожиданно сместить направление комических ассоциаций:
— Фу! надоел Курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет. — Да… плюнуть на него.
Комически обыгранный словесный ряд, который «подсказан» исходным словом, и комический финал, построенный на резком ассоциативном смещении смысла, можно встретить и в эпиграмме «Наш друг
Фита, Кутейкин в эполетах…».
Конечно, этими примерами не исчерпано многообразие пушкинских эпиграмматических концовок. Но и этого достаточно, чтобы судить о том, что пушкинская эпиграмма чаще всего всей своей композицией неуклонно стремится к сатирически взрывчатому финалу, оттачивает его, заботясь о его разящей неожиданности.
Тем более необычна на этом фоне композиция болдинской эпиграммы на Булгарина:
Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.
Совершенно ясно, что основное усилие сатирического выпада здесь сосредоточено вовсе не на финальной строке. Она, разумеется, неожиданна. Но эта неожиданность совершенно иного порядка, неожиданность лукавой иронии, обращенной к читателю, комического притворства, смещающего акцент с главного на второстепенное и делающего вид, что это второстепенное-то и есть главное. Поэтика эпиграммы как бы перелицована. Что побудило Пушкина к такому построению? Вполне вероятно, что поэт уходил от привычного, чтобы освежить пути восприятия и тем самым усилить сатирический эффект. Но даже допуская это, важно иметь в виду, что у Пушкина был и конкретный повод для подобной «перелицовки». Ведь поэтика эпиграммы перестроена здесь с оглядкой на конкретную композиционную структуру, структуру ранее написанной Пушкиным эпиграммы «Не то беда, что ты поляк…» (1830):
Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
Эта эпиграмма была в 1830 году хитроумно искажена Булгариным. Он напечатал ее в «Сыне отечества» с таким сопровождением: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение, от искажений при переписке, печатаем оное». Следовал текст эпиграммы с изуродованной последней строкой, которая, теперь звучала так: «Беда, что ты Фаддей Булгарин» (было: «Беда, что ты Видок Фиглярин»). Всего лишь два слова Булгарин переделал в пушкинском тексте, но это были слова, сосредоточившие в себе весь сатирический яд и гнев изобличения. Стоило лишь обезвредить их, как вся эпиграмма утрачивала смысл, превращаясь в невинную шутку. Булгарин ловко сыграл именно на своеобразии эпиграмматического финала: он сломал острие эпиграммы. Цель, конечно, была достигнута лишь наполовину: эпиграмма была обезврежена только для широкой публики, а не для тех, кто с нею имел дело в списках. К тому же явно беззубый финал булгаринской переделки не мог не настораживать: слишком уж очевидно расходился он с поэтикой эпиграммы, с тем ожиданием заключительного выпада, с которым свыклось читательское восприятие.
Во второй болдинской эпиграмме на Булгарина Пушкин как бы скорректировал композицию, застраховав произведение от возможности новых искажений. Теперь сатирические акценты были расставлены так, что немыслимо было отсечь упоминание о Видоке, издевательскую игру созвучиями булгаринской фамилии («Фиглярин», «Флюгарин»), не разрушив всей композиционной постройки. Вся соль первой эпиграммы была в упоминании французского сыщика Видока, которое сопровождалось прозрачными намеками на «звукоряд» булгаринской фамилии — «Видок Фиглярин». Во второй эпиграмме этот издевательский «звукоряд», варьируясь, повторяется дважды, и обе его вариации одинаково красноречивы.
Пушкин позаботился о том, чтобы разоблачительный смысл сопоставления (Видок — Булгарин) был вполне очевиден для читателя. В апрельском номере «Литературной газеты» (6 апреля 1830 года) он напечатал свою заметку «О записках Видока», в которой материал биографии французского сыщика преподносился так, чтобы прозрачно намекнуть на прошлое Булгарина, оборотня и перебежчика, и его настоящее — осведомителя от литературы, добровольной полицейской ищейки, лицедея и фигляра, сочетающего сочинение нравоописательных романов с доносами в 3-е отделение. Заметка «О записках Видока», первая и вторая эпиграммы на Булгарина создавали единый сатирический контекст, в котором каждое звено призвано было восстановить всю цепь разоблачений, напомнить о ней. Можно было вытравить сатирический смысл одного из пушкинских выпадов, обезвредить всю эту серию сатирических ударов было немыслимо. Вторую эпиграмму на Булгарина Пушкину удалось напечатать без подписи в альманахе «Денница» за 1831 год.
Напоминающий эффект этой эпиграммы, ее родство с предыдущей создается уже очевидной однотипностью в построении стиховой фразы: «Не то беда… беда, что…» Вторая строка как бы свертывает в себе тот разворот художественных образов, который в первой эпиграмме был призван подчеркнуть безродность Булгарина. «Не русский барин» — не просто напоминание о польском происхождении Булгарина, которое само по себе не заключает ничего предосудительного: ведь «Костюшко лях, Мицкевич лях». Речь идет именно о
духовной безродности врага. А это уже серьезно, это означает, что Булгарину отказано в праве судить о судьбах русской нации и русской литературы.
Вторая пушкинская эпиграмма при всем своем явном и сознательно подчеркнутом сходстве с первой — отнюдь не вариация ее. Пушкин не только сгустил краски, чтобы усилить мощь сатирического изображения. Он привнес в сатирический портрет врага новые штрихи. Третья строка эпиграммы — «Что на Парнасе ты цыган» намекает на литературные кражи Булгарина, не стеснявшегося издавать под своей подписью чужие сочинения. Пушкин был убежден, что Булгарин, сочиняя свой роман «Дмитрий Самозванец», позволил себе беззастенчивые заимствования из «Бориса Годунова», к тому времени еще не напечатанного и известного лишь в литературных кругах. Обвинение это разделялось и другими литераторами, близкими к Пушкину, так что в конце концов Булгарин вынужден был прибегнуть к публичному объяснению. Нужно ли говорить, что эпиграмма на Булгарина — акт гражданского мужества поэта. Публично высечь доносчика, заклеймив его убийственным прозвищем Видока, означало так или иначе пролить свет и на «деятельность» третьего отделения «его императорского величества тайной канцелярии». За спиной Булгарина стояла грозная и зловещая сила, бесцеремонно вмешивавшаяся в дела литературы. И вот теперь сношения с этой силой публично расценились как верх человеческого падения и позора.
Враги поэта в болдинской лирике многолики. И обличение их, как уже говорилось, выливается в разные формы. В «Ответе анониму» Пушкин великолепно «раскрыл» потребительскую психологию «толпы», глубоко равнодушной к личности поэта, безучастно взирающей на его беды и муки.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, —
«Тем лучше, — говорят любители искусств, —
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно…
. . . . . . . . . . . . . .
В гневе поэта здесь слышится «сердечный тяжкий стон», в суровой иронии — глубокая тоска.
Враждебные силы, окружающие поэта, образуют в болдинской лирике своеобразную систему образных сфер, последовательность которых (не хронологическая, а эстетическая) предполагает укрупнение художественного объекта, возрастающий размах обобщения: от конкретной личности российского Видока к обобщенному образу «света» — «толпы» и, наконец, к полемически заостренному изображению уродства и скудости русской действительности в целом («Румяный критик мой…»). Гениальный пушкинский шедевр «Румяный критик мой…» — крупнейшая веха в становлении реалистического стиля в лирике. Действительность в этом стихотворении полемически депоэтизирована: с нее сознательно сняты наслоения поэтической лжи. Далеко не случайно в структуру этого произведения введена идеологическая и художественная позиция («румяный критик» с его отношением к поэзии и реальности), разошедшаяся с истиной действительности. Позиция эта опровергнута не с помощью полемических аргументов, а одним лишь указанием на жестокую правду реальности. Прием знакомый. К нему не однажды обращалась просветительская проза путешествий: не только Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», но и С. К. фон Ферельцт с его «Путешествием критики». Просветительская и антикрепостническая литературная традиция прибегала в подобных случаях к помощи экспрессивно-сгущенного жизненного материала. Иллюзорность и слепота поэзии и вообще «тьма предрассуждений» опровергались описанием произвола и ужасов крепостного права. Сохраняя пафос острейшей социальной критики, Пушкин дает
обыденно-повседневный «разрез» действительности. В «Румяном критике» даже смерть ребенка и деловитая поспешность похорон — не отступление от нормы, а сама норма. Этому бытовому и страшному в своей обыденности течению жизни соответствует и относительно уравновешенное течение стиховой речи. Речь эта, разумеется, очень далека от спокойствия, но горечь и тоска и трагическая ирония ее ушли вглубь. Они обузданы установкой на трезвую остроту виденья действительности, ее реальных очертаний и пропорций. Время от времени авторская эмоция дает о себе знать в поворотах поэтической интонации, в печальной ироничности пушкинских вопросов: «Где нивы светлые? где темные леса? Где речка?..», или в щемящей грусти лирического повтора:
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца…
Экспрессия пушкинского стиха проступает в
предметной динамике образа. Пушкин изображает природу и русскую деревню, скованными мертвящим дыханием осени. Жизнь словно бы на последней грани, на последнем усилии:
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
От последних, на глазах угасающих признаков жизни к нарастающим приметам омертвения — таково направление, в котором движется пушкинский образ и такова основа, на которой крепится его экспрессия. Что это действительно так, что семантика вымирания, надвигающейся смерти организует систему образных связей в композиции «Румяного критика» подтверждается характерным поворотом пушкинской мысли. Вслед за изображением полуобнаженного дерева, готового стряхнуть листву под первым же дуновением ветра, возникает многозначительная деталь — «И только. На дворе живой собаки нет». Деталью этой сказано больше, чем сказано (так часто бывает у Пушкина). За нею угадывается опустошение, произведенное голодом. Но дальше следует как будто разрыв единой образной цепи. Кажется, поэт готов внести уточнение, новый штрих в картину, чтобы скрасить гнетущее впечатление безжизненности и запустения напоминанием о жизни:
Вот правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Однако на самом деле образы
живого появляются лишь затем, чтобы еще раз напомнить об умирании:
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.
Прозаически деловитое, обыденно-спокойное стремление мужика поскорее схоронить умершего ребенка раскрывает глубокую трагедию народной жизни, в которой смерть стала привычным явлением, вызвавшим к жизни жестокую, но безысходно-трезвую поговорку: «одним ртом меньше». На этой бытовой сценке, предугадывающей поэтику Некрасова и Достоевского, отнюдь не замыкается вереница пушкинских образов, настроенных на единый экспрессивно-смысловой лад. О дуновении смерти, которым насыщен как бы самый воздух действительности, Пушкин напомнит еще раз на композиционной вершине стиха:
— Постой, — а карантин!
Ведь в нашей стороне индийская зараза.
Образ «индийской заразы» композиционно подготовлен: зловещая тень холеры как бы порождена самой действительностью. В стихотворении «Румяный критик мой» избран бытовой ракурс в изображении реальности, однако Пушкин здесь отнюдь не бытописатель. Быт у него оборачивается трагедией народного бытия.
Мы выделили предметный слой изображения в «Румяном критике». Но как бы он ни был важен сам по себе, он заключен у Пушкина в лирико-диалогическую оправу. Поэтическое содержание «Румяного критика» богаче, чем это принято думать. Оно не исчерпывается только изображением вымирающей русской деревни, хотя, конечно, и одного этого изображения было бы довольно, чтобы пушкинское стихотворение оставило неизгладимый след в истории русской лирики. Пушкин в этом произведении не только «снимает покровы» с реальности, он расторгает завесу умышленной мировоззренческой слепоты, убаюкивающей совесть,
он выражает, наконец, свое лирическое отношение к действительности в целом, а не к одним лишь социальным бедствиям русской деревни. «Проклятая хандра» — так именуется в «Румяном критике» лирическая эмоция поэта, эмоция, вобравшая в себя гнетущие и безысходно мрачные впечатления от русской жизни.
«Русская хандра», которой отдала дань поэзия, начиная с Батюшкова, всегда была идеологически насыщенной формой жизнеощущения. У русских поэтов первых десятилетий XIX века эта эмоция впитывала в себя сложный сплав настроений, порожденных сжигающей душу медленной пыткой беспокойства, усилиями умов, работающих вхолостую, без ощущения ясной цели. Безликая, бесформенная тоска, в которой перегорела острота гнетущих жизненных впечатлений, тоска, в глубине которой скрыто устойчивое, постоянное чувство неблагополучия жизни — вот что такое «хандра», о которой нередко упоминали поэты пушкинской поры. У Пушкина в «Румяном критике» эта эмоция обрела жесткую и бескомпромиссную зоркость социального зрения. В контексте диалога ей противостоит уже не предрассудок, не заблуждение (объекты просветительной проповеди), а сознательное самоослепление «румяного критика», род духовного заслона, который невозможно пробить даже силою вопиющих фактов. Ведь для «румяного критика» жуткая картина русской деревни — не более, чем «блажь», вызывающая лишь досаду и желание поскорее отмахнуться («…Нельзя ли блажь оставить! И песенкою нас веселой позабавить?»). Вот почему тон поэта в диалоге с «критиком» — насквозь иронический. Просветительским иллюзиям здесь нет места, хотя Пушкин и прибегает к «снятию покровов», верному средству просветительской традиции.
Лирико-сатирический диалог Пушкина смело вступает в художественную область, где господствует иной, драматический принцип построения. Столкновение реплик в «Румяном критике» наделено особою взрывчатой силой, той импульсивностью и психологической достоверностью реакций на собеседника, которые доступны лишь драматической речи. Слово фиксирует перепады настроений, возникающие в ходе диалога («Что ж ты нахмурился?..», «…Что, брат? уж не трунишь?..»), порою вбирает в себя отзвуки действия, следы как бы прочеркнутого движения персонажа («Куда же ты?..» «Постой, а карантин!»). Сближая лирический образ с художественным опытом эпоса и драмы, «Румяный критик» предугадывает дальнейшие пути русской лирической поэзии.
 Вместо заключения
Вместо заключения
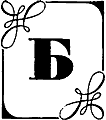
Болдинская лирика в цепи пушкинского творчества отмечена единством такого этапа пушкинской судьбы, в кратковременности которого спрессована огромная энергия накопившихся замыслов, впечатлений прежнего опыта и только рождающихся устремлений в новые дали искусства. Пушкин здесь на переломе бытия (личного и художественного), и поэтическая мысль его одновременно распахнута и в прошлое и в грядущее. Художественно закрепляя сложившиеся пласты размышлений, она порывается расторгнуть завесу времени, предугадать возможные контуры дальнейшего пути. Нам не дано проникнуть в индивидуально-психологические истоки пушкинского творчества этой поры. Мы судим о них лишь по результатам, а такие суждения неизбежно предположительны. Они неизбежно опускают неповторимый сплав личного и внеличного, который несло в себе пушкинское сознание, прежде чем оно перешагнуло в область творчества. Сплав этот не восстановим в подлинной сложности и полноте своей. Он останется тайною пушкинского бытия и никогда не раскроется окончательно навстречу каким бы то ни было реконструкциям, на какую бы объективность они ни посягали. Ясно только одно: необычайная сосредоточенность в кратковременном акте болдинского творчества всех усилий пушкинской мысли, чувства и воли, сосредоточенность к которой, по всей вероятности, подталкивала сама жизнь. Тот выпадающий на начало 30-х годов разворот пушкинской судьбы и тот общий фон жизни, тревожный и напряженный, неустойчивость которого, по-видимому перекликалась в сознании Пушкина с неустойчивостью его собственного бытия, с ощущением биографического перепутья. В вечной правоте труда «молчаливого спутника ночи», правоте, не зависящей ни от каких перепадов жизни, Пушкину виделись, быть может, не только опоры, но и возможности схватки с судьбой, «упоение в бою», к которому, вероятно примешивалось, если не ощущение «края бездны», то чувство особой остроты бытия («Царица грозная Чума» напоминала о себе близостью карантинных кордонов)… Но и эти предположения уже на грани риска, тем более что и они, конечно же, ни в малой мере не в силах приблизиться к последней психологической загадке болдинского творчества по той простой причине, что это, наконец, загадка пушкинского гения. Поэтому, не гоняясь за неуловимым, оглянемся еще раз на основные направления пушкинской лирической мысли, как они воплощены в реальности болдинского творчества.
В разнообразии жизненных сфер, которые вовлечены в кругозор болдинской лирики, проступает знакомая нам уникальная пластичность пушкинского мышления. И в этом нет ничего необычного, ничего, что придавало бы особое лицо поэзии болдинской осени. Необычное в том, что эти свойства пушкинского гения торжествуют в условиях драматической духовной и жизненной ситуации, которая, казалось бы, могла склонить фантазию поэта скорее к всеподавляющему господству субъективного тона и субъективных форм воплощения мысли. И если здесь все-таки торжествует пушкинский «протеизм», то это побуждает предположить, что самое стремление поэта направить полет воображения к жизненным сферам, порою весьма далеким от непосредственных раздражителей эпохи, овладеть их неподатливо-инородной стихией, — это стремление, вероятно, и было для Пушкина болдинской поры одним из способов преодолеть диссонансы собственного сознания, восстановить творчески плодоносное равновесие души. Эта мощь и зоркость объективно-художнического зрения тем поразительнее, что она сказывается даже в субъективно-исповедальной лирике. Не только «Герой», но и «Элегия» и «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» при всей их открытой, ничем не стесненной исповедальности заключают в себе как бы легкую тень объективно всеобъемлющего авторского взгляда. Она отражается в пушкинской способности подняться над острейшими конфликтами собственного душевного момента, расщепить противоборствующие начала сознания, увидеть в них одновременно и ценности и утраты. Здесь истоки своеобразной диалогичности исповедальной лирики Пушкина. Но все это лишь одна грань пушкинского лирического мышления — полюс его объективности и пластичности.
Сложность пушкинского лиризма этой поры вряд ли раскроется нам, если мы не почувствуем, как в самых, казалось бы, объективных (по предметным сферам и кругу конфликтов) его воплощениях, сквозь барьеры жанра (антологическая пьеса), нацеленного на максимально возможное для лирики самоустранение лирического субъекта, все-таки звучит в глубине все та же печально-суровая и сдержанно-страстная нота, которая сообщает болдинским стихотворениям единство господствующего эмоционального тона. А в ассоциативных сферах конфликтов, которые плоть от плоти изображаемого мира, отделенного от пушкинской действительности толщей веков, едва осязаемо, но все-таки ощутимо напоминают о себе «нервные центры» и «болевые точки» авторских духовных исканий начала 30-х годов. Это побуждает еще раз задуматься над природою пушкинского «протеизма». Как бы ни был огромен дар перевоплощения пушкинской мысли и умения пользоваться языками прошлых культурных эпох, он все-таки не сводится к пассивному растворению в самодовлеющей целостности изображаемых культур и национальных характеров. И субъективно авторское начало даже здесь дает о себе знать не только в неизгладимом отпечатке пушкинского стиля и всего, что исходит от родовых примет индивидуальности поэта. Оно напоминает о себе едва заметной примесью пушкинского психологического опыта, вполне конкретного, идущего от переживания современности. Было бы вульгарным во всем видеть одну лишь проекцию этих настроений или все привязывать к злобе дня. Но и не замечать эти отголоски пушкинской судьбы было бы слишком расточительно. В философской лирике своей Пушкин предстает как целостная личность, во всем многообразии биографического и исторического опыта, а не только как носитель исключительно философского взгляда на мир. Пушкин не закрепляет за поэзией мысли какую-либо «устойчивую» сферу действительности (мир природы, например), как это было свойственно лирике любомудров или Тютчева. Пушкинская философская мысль свободно внедряется в различные напластования бытия, и ее широкий и вольный поток захватывает в свое русло и область быта и область истории. Но, быть может, важнее всего осознать, как прочно сплетается эта мысль с отражениями пушкинского жизненного пути, даже там, где она восходит к широчайшим общечеловеческим обобщениям. Здесь нет и следа той эстетической резеркции биографического опыта, которая отличает философскую лирику любомудров, Баратынского или Тютчева, еще не переступившего порог «денисьевской драмы». Но здесь, естественно, нет и тени биографического эмпиризма. Лирико-философская мысль Пушкина преломляет в себе не случайности его биографии, а лишь те вехи ее, в которых отстоялся опыт поколения или отразились вечные противоречия человеческой души. Но преломляя и отбирая биографический материал, она оставляет нам драгоценное ощущение всей конкретности пушкинской судьбы, и именно в этом своем качестве пушкинская поэзия мысли уникальна. В болдинской философской лирике воплощен формировательный процесс авторской мысли о мире, неожиданно возникающие импульсы и толчки ассоциаций, сдвиги настроений, словом вся непосредственность и живая энергия размышления. Воплощена в ней и вечно убегающая вдаль перспектива истины, образ которой переливается у Пушкина неисчерпаемым богатством граней, диалектическими схождениями крайностей. Дальнозоркость и мужество пушкинской мысли в болдинский период заключаются в том, что, ощущая острейшую потребность в «животворящих святынях», она отвергает все узкое и иллюзорное, все, что готово обернуться догмой и схемой, с их соблазнительной, но и безжизненной стройностью, доверяясь лишь ходу самой жизни, «грядущего волнуемому морю». В пушкинской «поэзии мысли» подспудно бьется неуничтожимый пульс истории, даже там, где историческая реальность не входит в предметный план изображения. Он резонирует в динамических разворотах образа судьбы, в смелых сопряжениях ее временных этапов (прошлого и грядущего) и, наконец, в готовности на самой последней черте разомкнуть художественную картину размышления в непредсказуемый поток действительности.
Стремление Пушкина овладеть противоречиями собственного сознания и подняться на крыльях бесстрашной мысли над превратностями судьбы определяет характерное для болдинской лирики сочетание прозрачной гармонии стиха, пронизанного таинственным светом бездомных глубин, с небывалой энергией переживания, самая сдержанность которой лишь оттеняет внутренний накал пушкинской мысли, силу ее «сокрытого жара». Но эта основная тональность лиризма не исключает ни всплесков трагических страстей («Бесы», «Заклинание»), ни потаенных движений темы и слова («Заклинание»), ни экспрессивных «перебоев» в динамике ритма и интонации.
В начале 30-х годов лирика Пушкина окончательно расстается с жанровыми формами мышления. Но она продолжает пользоваться жанровыми стилями как арсеналом изобразительных средств. Пушкинская свобода в обращении с ними — предпосылка того свободного мышления изобразительными знаками и символами традиции, которое возможно лишь на почве разомкнутых жанровых контекстов и уже за чертою жанрового мышления. Материал жанровых стилей, слитый с внутренней формой лирического стиха в пору жизнеспособности жанровых законов, на новом этапе, когда распалось структурное единство жанров, но когда еще свежа эстетическая память о них, смещается прежде всего в предметный слой произведения, в его изобразительную сферу. В этом убеждают пушкинские формы вовлечения жанрового слова и жанровых мотивов в композицию «Заклинания», «Прощания», «Для берегов отчизны дальной…».
В условиях
живой памяти о жанрах художественное соприкасание с их традицией тем острее, чем индивидуальнее втягивающий ее лирический контекст. В таких условиях жанровое слово у Пушкина становится «двухголосым»: в нем пересекается старый экспрессивный потенциал и новые наслоения образного смысла, идущие из глубины окружающей его образной среды. Так обретают неожиданную полноту и объемность поэтического значения старые элегические «формулы» в лирике болдинской поры.
По логике темы, сосредоточенной на переломном этапе творчества Пушкина, в анализе его стиля мы пытались особенно оттенить все, что связано с отходом от традиции, с поэтической дерзостью пушкинской мысли. Но нужно ли говорить, что Пушкину ничто так не было чуждо, как эстетический нигилизм, пренебрежение традицией. В самом отталкивании от нее он никогда не стремился сделать последний шаг, за которым начинается полный разрыв с художественным опытом прошлого. Поэтому важно осознать не только смысл пушкинской перестройки жанрового материала, важно понять и мотивы его обильного подключения в поэтическую ткань болдинских стихотворений. Нимало не ослабляя впечатления резкой индивидуальности лирических конфликтов «прощального» цикла, их новой внежанровой природы, элегическое слово создает здесь неповторимый колорит минувшего. Старые ассоциации, притаившиеся в нем, приглушенные в новом контексте, но не оттесненные в нем до конца, «работают», если можно так выразиться, на лирическую экспрессию воспоминания. Образ минувшего с его романтическими бурями предстает в соприродном ему стилевом преломлении. Другое дело, что ни экспрессией минувшего, ни его элегическим колоритом ни в малой степени не исчерпывается в «прощальном» цикле вся полнота пушкинской мысли, и уже тем более истоки ее напряжения. Они, эти истоки (как мы пытались показать), — в столкновении романтически максимальных притязаний на вечную неувядаемость любви с трезвым и ясным, хотя и причиняющим жгучую боль, ощущением охлаждающей реки времени. А этот поворот конфликта, психологическая глубина его воплощения и сложное сплетение эмоций в единстве лирического переживания, существование в нем подводного течения, не сразу прорывающегося в слово, и самый «рисунок слова», раскованно скользящего то в биографическую конкретность, то в быт, то в стихию чужой речи, нацеленного на диалогический контакт с «собеседником», — все это неизмеримо далеко от жанровых принципов элегии.
В то же время картина болдинской лирики высвечивает неравномерность жанровых процессов в поэзии Пушкина. Отказ от жанрового мышления в лирике не исключает стабилизации отдельных жанров, обладавших нерушимой определенностью предметной сферы, ограниченных в своих контактах с миром современного сознания. Такова пушкинская «анфологическая эпиграмма», таков и вообще антологический жанр, удержавшийся в потоке русской лирики послепушкинской поры, перешагнувший за порог середины века (антологии А. Майкова, Н. Щербины, А. Фета).
Болдинская лирика Пушкина, как уже говорилось, устремлена в даль его собственного поэтического развития в 30-е годы. Здесь рождаются темы и первые наброски образов, которым будет суждена дальнейшая жизнь. Образ творческого упоения гармонией в сочетании с «прощальною улыбкою» любви («Элегия») как будто уже предугадывает картину идеального бытия поэта в обители «трудов и чистых нег», запечатленную в стихотворении 1834 года «Пора, мой друг, пора». От «анфологических эпиграмм» Пушкина тянется нить к его более поздним «подражаниям древним». Библейские ассоциации, время от времени возникающие в болдинской лирике, на последнем этапе пушкинского творчества развернутся в лирических композициях 1836 года («Мирская власть», «Подражание итальянскому». «Отцы пустынники и жены непорочны») с их сумрачным, тревожным лиризмом и смелыми выходами в современность («Мирская власть»). Но, пожалуй, особенно гулким и многозначительным эхом отзовется в поздней лирике Пушкина мечта о бегстве от людей, воплощенная в стихотворении «Когда порой воспоминанье». Здесь исход целой вереницы пушкинских образов, странников, беглецов, гонимых («Гонимый роком самовластья», «Не дай мне бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора», «Странник», «Напрасно я бегу к сионским высотам»), которая внятно и тревожно перекликается с ходом пушкинской судьбы в 30-е годы. Во всяком случае здесь звенит какая-то очень личная и очень важная струна позднего пушкинского жизнеощущения. Недаром же Гоголь писал о пушкинском «Страннике» как о произведении, в котором «звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния». Раскрыть образную ткань и резонанс этих стихотворений еще предстоит пушкинистике.
Оглавление
Глава I Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина … 3
Глава II Философская лирика болдинской осени … 21
Глава III «Анфологические эпиграммы» … 83
Глава IV Прощальный цикл … 101
Глава V «Ювеналов бич» … 142
Вместо заключения … 152
Примечания
1
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 16-ти т. М., Изд-во АН СССР, 1941, т. 14, с. 73.
(обратно)
2
Там же, с. 134.
(обратно)
3
Степанов Н. Л. Лирика Пушкина. М., Советский писатель, 1959, с. 386.
(обратно)
4
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1941, т. 14, с. 226.
(обратно)
5
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1941. т. 14, с. 206.
(обратно)
6
Речь идет о смерти Дельвига.
(обратно)
7
Пушкин А. С. Указ. собр. соч., т. 14, с. 149. «Всеобъемлемость» — перевод с французского пушкинского — universalité.
(обратно)
8
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 553.
(обратно)
9
Затаенные ходы и тончайшая психологическая игра мгновенно рождающихся, не проясненных, подчас подсознательных эмоции, остро пересекающихся с сюжетными ситуациями и питающих психологическую многослойность пушкинских диалогов, — эти полутона пушкинской психологической живописи были тонко подмечены нашими крупнейшими пушкинистами — Б. В. Томашевским, Д. Д. Благим, С. М. Бонди.
(обратно)
10
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 515.
(обратно)
11
Черновой текст отрывка «Идиллии Дельвига…» —
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т., т. 7, с. 621.
(обратно)
12
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1941, т. 14, с. 64.
(обратно)
13
Пушкин. Исследования и материалы. Л., Наука, 1969, т. 6, с. 110.
(обратно)
14
Хотя, конечно, и это явление дает о себе знать, как мы сможем убедиться в этом на примере пушкинского «Заклинания» (см. четвертую главу).
(обратно)
15
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 422 (подчеркнуто нами. —
В. Г.).
(обратно)
16
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., Советский писатель, 1967, с. 476.
(обратно)
17
Выделено Жуковским.
(обратно)
18
Малом сравнительно с просторными формами традиционной баллады.
(обратно)
19
Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1962, с. 379.
(обратно)
20
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1941, т. 14, с. 6.
(обратно)
21
Легкие и шутливые пародийные уколы по адресу этой поэмы-баллады Жуковского, как известно, уже были предприняты Пушкиным давно, в поэме «Руслан и Людмила».
(обратно)
22
С иносказательными проекциями кавказской темы мы сталкиваемся и в ранее набросанном варианте окончания к стихотворению «Кавказ» (1829). Следом за строками опубликованного автографа
Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной…
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.
в черновиках было набросано продолжение, оставшееся под спудом из-за отсутствия всякой надежды на возможность опубликования:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует.
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.
(обратно)
23
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1941, т. 14, с. 123.
(обратно)
24
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., Советский писатель, 1967, с. 490.
(обратно)
25
Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1919, с. 47.
(обратно)
26
Интересные, хотя и очень беглые суждения на эту тему высказаны В. Д. Сквозниковым. — См.:
Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. М., Художественная литература, 1975, с. 21–22.
(обратно)
27
Грифцов Б. Теория романа. М., 1927.
(обратно)
28
О неправомерности такой наивно расчленяющей «операции» анализа очень верно писал В. Д. Сквозников. — См.:
Сквозников В. Д. Лирика Пушкина. М., Художественная литература, 1975, с. 21–22.
(обратно)
29
Незавершенные начинания в этом жанре мы не упоминаем здесь. Они, впрочем, не противоречат общей картине: их очень немного.
(обратно)
30
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 63.
(обратно)
31
Мы можем допустить это предположение, опираясь на бурные темпы пушкинского художественного развития.
(обратно)
32
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 621.
(обратно)
33
Фрейденберг О. Происхождение греческой лирики. — Вопросы литературы, 1973, № 11, с. 113.
(обратно)
34
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1963, т. 3, с. 490.
(обратно)
35
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., Наука, 1964, т. 7, с. 198.
(обратно)
36
Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., Прибой, 1929, с. 232.
(обратно)
37
Об этом подробнее — в моей статье «Слово и большой лирический контекст в поэзии пушкинской поры (Жуковский, Тютчев)». —
А. С. Пушкин. Статьи и материалы. Горький, 1971, с. 3–25.
(обратно)
38
Об этих художественных процессах в лирике 20-х годов см. также:
Гинзбург Л. О лирике. М.—Л., Советский писатель, 1964, с. 45–47.
(обратно)
39
Гегель. Эстетика. М., Искусство, 1971, т. 3, с. 501.
(обратно)
40
Гинзбург Л. О лирике. М.—Л., Советский писатель, 1964, с. 214.
(обратно)
41
Анандавардхана. Дхваньялока. — В кн.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962, т. 1, с. 399–402.
(обратно)
42
Об этом подробней см.:
Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. (Глава о Баратынском).
(обратно)
43
См.:
Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., Прибой, 1929, с. 239.
(обратно)
44
Гинзбург Л. Я. Пушкин и реалистический метод в лирике. — Русская литература, 1962, № 1, с. 29.
(обратно)
45
Степанов Л. Н. Поэты и прозаики. М., Художественная литература, 1966, с. 82.
(обратно)
46
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., Художественная литература, 1974, с. 32–48.
(обратно)
47
Макогоненко Г. П. Указ. работа, с. 32.
(обратно)
48
Там же, с. 39. (Здесь и выше выделено мною. —
В. Г.).
(обратно)
49
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., Прибой, 1929;
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963;
Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель»). — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., Наука, 1969;
Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., Искусство, 1970.
(обратно)
50
Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., Прибой, 1929, с. 129.
(обратно)
51
См. об этом:
Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 51–52.
(обратно)
52
Об образах языков см.:
Бахтин М. М. Слово в романе. — Вопросы литературы, 1965, № 8, с. 85–88.
(обратно)
53
См.:
Корман Б. О. Лирика Н. А. Некрасова. Воронеж, Изд-во Воронежского университета, 1964.
(обратно)
Оглавление
Глава I
Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина
(штрихи к проблеме)
Глава II
Философская лирика болдинской осени
Глава III
«Анфологические эпиграммы»
Глава IV
Прощальный цикл
Глава V
«Ювеналов бич»
Вместо заключения
*** Примечания ***


 Глава I
Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина
(штрихи к проблеме)
Глава I
Вечное и современное в болдинском творчестве Пушкина
(штрихи к проблеме)
 Болдинская осень в биографии Пушкина, три месяца пушкинских трудов, освещенные ослепительно ярким и ровным огнем вдохновенья, властно притягивают к себе мысль и воображение.
Неизбежно встает вопрос о духовных первотолчках, об истоках этого творческого чуда. В самом деле, что возбудило в сознании поэта столь редкостный по красоте взлет творческой фантазии, редкостный даже на фоне пушкинского творчества, универсального по своим художественным устремлениям, готового в любой точке своего развития развернуться во всю ширь самых разнообразных, порою резко контрастных художественных замыслов? Небывалая уплотненность творческих сроков… Наше ощущение временных границ, отделяющих одно пушкинское создание от другого, тускнеет под впечатлением единого, как бы непрерывно длящегося творческого порыва.
Впечатление это, конечно, не более чем иллюзия, но иллюзия, порождаемая реальностью, необычайной интенсивностью творческого труда, торжествующего над временем. В «золотой осени» пушкинского творчества таится еще немало загадок для психологии искусства.
Пушкин ехал в Болдино, оставляя позади тревожные события петербургской и московской жизни: угрожающе обострившиеся после самовольной поездки на Кавказ отношения с Бенкендорфом; журнальные нападки Булгарина, перераставшие в беззастенчивую травлю; беспокойство и неуверенность, вынесенные из последних визитов к Гончаровым; предощущение возможных перемен и болезненной ломки быта, к которым обязывала предстоящая женитьба. К этому следует добавить еще и не покидавшую поэта мысль о возрастной границе, роковой черте 30-летия, которую переступил Пушкин в 1829 году. 1830 и 1831 годы Пушкин переживает как кризисную пору. Насколько неуравновешенным было его состояние духа в 1830 году, позволяет судить хотя бы письмо поэта к Бенкендорфу: «С горестью вижу, что любые мои поступки вызывают подозрение и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но ради бога, благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которое не могу ни предвидеть, ни избежать…»[1]. Даже сделав скидку на возможный «тактический прием», на желание Пушкина уяснить в предвиденьи женитьбы, насколько действительно неустойчиво его положение с точки зрения официально-правительственных «верхов», — все-таки нельзя не почувствовать в пушкинских строках живое, стихийно прорвавшееся смятение. И конечно, смятение это питалось не только злоключениями личной судьбы, многочисленными заслонами и запретами, непрерывной слежкой, которой в эту пору сопровождается каждый шаг Пушкина. Слишком много трагических и зловещих событий, затрагивающих судьбы России и европейского мира, выпало на 1830 год. В пушкинском жизнеощущении трагизм личной судьбы, без сомненья, сплетался с историческими потрясениями эпохи. «Какой год! Какие события! — писал Пушкин гр. Е. М. Хитрово. — Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Народ подавлен и раздражен. 1830 год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду»[2].
А между тем пушкинская муза ждала и искала хотя бы кратковременного душевного спокойствия, без которого, по выражению Пушкина, «ничего не произведешь». В болдинской глуши Пушкин обрел желанное уединение. Было ли «душевное спокойствие»? Была, несомненно, величайшая сосредоточенность мысли. Ее уже не отвлекали шумный и суетный круговорот столичного быта, гнет каждодневных столкновений с великосветской или литературною «чернью». Но спокойствия как гармонической ясности духа не было, надо думать, и не могло быть. Вся болдинская лирика Пушкина, его драматургия и даже его проза замешаны на беспокойстве, достигающем порою трагических высот. Душевное спокойствие и гармония — не точка исхода в болдинском творчестве Пушкина, но его цель, обретаемая (именно обретаемая — не обретенная) в творческих муках. Н. Л. Степанов в свое время справедливо предостерегал от вульгарных стандартов в оценке пушкинского жизнелюбия: «Не следует упрощенно подходить к Пушкину, видя в нем лишь выражение безграничного оптимизма. Его оптимизм рождался из преодоления страданий и сомнений, из преодоления разочарования и безнадежности „жизни мышьей беготни“»[3].
Болдинские произведения Пушкина отмечены жадным порывом к восстановлению духовной гармонии, мощь которого подчеркнута глубиною пушкинского разлада с миром и самим собой. Противоборствующие начала пушкинской мысли выявлены, как никогда, рельефно и остро. В самом бесстрашии ее, в этом стремлении «ощупать возмущенный мрак» (если воспользоваться поэтическим образом Баратынского) заключена уже огромная энергия высвобождения. Но главное в том, что Пушкин болдинской поры весь в поисках такого духовного средоточия и такого художественного синтеза, в котором бы сходились исследуемые поэтом полярные жизнеотношения, не погашая, но взаимовысвечивая друг друга. На той духовной глубине, в которую погружается пушкинский гений, уже нет абсолютных противоположностей психологического либо философского порядка. Нет, стало быть, и почвы для однозначных эстетических или этических оценок. Взору открываются скрытые, порою неожиданные взаимопереливы явлений, потенциальная многомерность характеров даже там, где они, казалось бы, схвачены жесткой оправой монолитной страсти.
В «Маленьких трагедиях», к примеру, Пушкин так организует художественные конфликты, что каждый из характеров, представляющих здесь резко контрастные жизнеощущения, таит в себе проблески духовных ценностей, приглушенные чрезмерным накалом всепоглощающих страстей.
В лирике поэт по-новому оценивает психологический опыт личности, усматривая двойственность, заключенную даже в душевных утратах. Даже в искривлениях страстей, в «безумном веселье» минувших лет ему видится опыт страдания, который в сочетании с неутомимым трудом мысли несет в себе прообраз новой, зрелой стадии духа. И в «жизни мышьей беготне», в бессвязности и кажущейся бессмыслице жизненного потока он стремится нащупать скрытое движение смысла. Авторское представление об идеале духовной свободы личности почти нигде (за исключением, быть может, «Моцарта и Сальери») не персонифицировано. Более того, оно и не конкретизировано до осязаемости однажды и навсегда найденного ориентира, устремляясь к которому можно было бы сформировать образ собственного бытия. Пытаясь синтезировать противоречия, Пушкин в этот период упорно ищет пути к духовной свободе, обретая почву, на которой единственно мыслимы эти пути. Почва эта — полнота и богатство жизнеощущения, готового вместить в себя страдание и счастье мысли, труд и «восторги творческие», мир быта и мир истории — словом, «все впечатленья бытия». Пушкинская художественная мысль всегда, как известно, стремилась к полнокровному богатству жизненных связей. Но в начале 30-х годов это стремление усилено и напряжено ощущением реальных духовных преград, подстерегающих личность.
Мы попытаемся дальше хотя бы бегло, хотя бы пунктиром наметить одно из возможных художественных средостений, в котором пересекаются вечное и современное в творчестве болдинской поры. В болдинской лирике и драматургии (а отчасти и в прозе, в «Выстреле» уж во всяком случае) Пушкин особенно настойчиво исследует тупики безмерно разросшихся, односторонне направленных страстей. И он делает это, надо думать, побуждаемый ощущением реальной опасности, которая таилась в духовной атмосфере 30-х годов. Пушкина, по-видимому, тревожила угроза духовной схимы, самоизоляция личности, утрачивающей представление о широте, многообразии и динамике бытия. Бегство в себя было естественной самозащитой личности в условиях угасания духовных связей в обществе и всестороннего давления на индивидуальность. Самопознание личности, ее глубочайшая сосредоточенность в себе расценивались человеком 30-х годов как идеологическое убежище и как форма компенсации грубо подавляемых «гражданских инстинктов». Но это убежище легко оборачивалось духовной тюрьмой. Одна из зловещих перспектив русской действительности заключалась в том, что мир личности, противопоставившей безобразию жизни уединенные наслаждения духовного бытия, мог трагически сомкнуться в безысходной рефлексии, отрезав себе путь к реальным ценностям объективно исторического порядка. Субъективизм в литературе и общественной психологии 30-х годов, как известно, вырождался порой в заурядную титаноманию, в закосневшую романтическую позу. Но и там, где он сохранял за собой духовные высоты, реальную, а не имитируемую напряженность мироощущения, он мог существовать как живое явление, а не как застывшая духовная маска лишь за счет неразрешимых противоречий и лишь на трагическом пределе.
В 1831 году (18 сентября) П. Я. Чаадаев пишет Пушкину пространное письмо, где обращает внимание поэта на страшные нравственные потрясения, которые суждено пережить современному человечеству:
«Итак, вот что я скажу Вам. Заметили ли Вы, что в недрах мира нравственного происходит нечто необыкновенное, нечто подобное тому, что происходит, как говорят, в недрах мира физического. Скажите мне, пожалуйста, как это на Вас действует? С моей точки зрения этот великий переворот вещей в высшей степени поэтичен, вряд ли вы можете оставаться к нему равнодушным, тем более что поэтический эгоизм может найти себе в этом, как мне представляется, обильную пищу: разве можно оставаться незатронутым в самых сокровенных своих чувствах во время всеобщего столкновения всех элементов человеческой природы… Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир, разве для того, кто не в состоянии предчувствовать новый грядущий на его место мир, это не является ужасным крушением… У меня слезы выступают на глазах, когда я всматриваюсь в великий распад моего старого общества, это мировое страдание»[4] (подчеркнуто нами. — В. Г.). Чаадаев, с его уникально чутким мышлением, умел схватывать духовные процессы истории в их эпохальных очертаниях и у истоков их рождения. В письме к Пушкину он уловил грозные сотрясения исторической почвы, заключавшие в себе опасность для «мира нравственного». Опасность эту не мог не осознавать и Пушкин. Но в отличие от Чаадаева он видел ее и в самом опасении. Это отнюдь не парадокс. Именно в начале 30-х годов Пушкин писал Плетневу: «Не холера опасна, опасно опасение, моральное состояние, долженствующее овладеть мыслящим существом в нынешних страшных обстоятельствах»[5] (3 августа 1831 года). Не очевидно ли, что речь здесь идет не только о холерных страхах. «Мыслящее существо», «нынешние страшные обстоятельства» — многозначительный контекст. В этом речевом окружении само упоминание о холере воспринимается как эмблема иного, глобального бедствия, затрагивающего нравственную сферу человека. Не следует забывать о том, что и образ «чумы» в пушкинском «Пире…» — образ символического размаха. Даже слово «чума» Пушкин писал с большой буквы — «Царица грозная Чума».
По Пушкину, опасно не замечать опасности. Но, по Пушкину же, не менее опасно ее преувеличить, спасовать перед потрясениями эпохи, перед «чумным» разгулом зла, уйти в себя, в «Подвалы» души, чтобы насладиться, подобно «скупому рыцарю», иллюзией духовного обладания миром.
Действительность побуждала к такому уединению. Соблазны его, надо полагать, были знакомы и Пушкину. Обобщающее духовные коллизии эпохи болдинское творчество поэта (а лирика, разумеется, прежде всего) окрашено личным опытом, пронизано отзвуками душевной борьбы.
«Престань и ты жизть в погребах, Как крот в ущельях подземельных…» — эти строки державинского послания «К Скопихину» в рукописи были предпосланы «Скупому рыцарю» в качестве эпиграфа. Пушкин затем снял эпиграф. Он сделал это скорее всего из художнических соображений, возложив воплощение поэтической мысли всецело на художественную ткань трагедии. Эпиграф емок по своей адресации. «Ты» эпиграфа обращено к пушкинским современникам. И в то же время, нерасчлененное в своих предметных контактах, лишенное конкретности, это обращение потенциально включает в свой смысловой круг и личность цитирующего автора. Но главное, разумеется, в том, что эпиграф выводит «на поверхность» символико-философский подтекст трагедии, проецируя его на современность. То, что постигается лишь на общем фоне болдинского творчества: психологическая подоснова его конфликтов, духовные тупики, «погреба» отъединенных от мира страстей — здесь отчетливо проступает в поэтическом сцеплении державинских строк с драматической композицией «Скупого рыцаря». Эпиграф намекает и на внутренний пафос болдинской поры — пафос преодоления, стремления к духовной свободе («престань и ты жить в погребах…»).
В «нынешних страшных обстоятельствах» Пушкину виделся особый смысл в том, чтобы наперекор катастрофически взвихренному течению жизни сохранить в душе ту «всеобъемлемость чувства», о которой он писал Е. М. Хитрово: «Как Вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться. Волнение, проявленное Вами по поводу смерти поэта[6] в то время, когда вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства»[7] (начало февраля 1831 года). Сохранить ее, глядя в лицо опасности, не бросаясь в иллюзии, не поступаясь трезвым чутьем реальности, — в этом усматривал Пушкин возможную точку опоры для современного человека.
Дерзкий выход навстречу опасности. Вызов, брошенный судьбе. Рискованное (на грани жизни и смерти) испытание судьбы. Мотив этот в разных вариантах проходит через все пушкинское творчество 30-х годов. Он запечатлен в гимне Председателя («Пир во время чумы»), в фаталистическом эксперименте Сильвио (эпизод второй дуэли в «Выстреле»), в отважном своеволии героев «Метели», в грозном жесте Евгения («Медный всадник»), в мифическом единоборстве Наполеона с чумой («Герой»), в самозабвенно-жутком вызове Дон-Гуана.
В этом поединке с неизбежным, в противостоянии силам судьбы пушкинские герои действуют на пределе душевных возможностей, хотя бы на миг предстают в ореоле величия и мощи. В изображении Пушкина эти мгновения как бы равновелики всей жизни человека, а порою «перевешивают» ее. Но это именно мгновения, после них следует либо надлом («Медный всадник»), либо «остановка» души в преддверии кризиса («Пир во время чумы»), либо гибель («Каменный гость»). Абсолютизация же рискованной игры с судьбой, демоническое упоение опасностью как принцип отношения к миру, по Пушкину, чреваты самоослеплением, утратою чувства реальности. Здесь Пушкину виделась крайность. Психологию этой крайности (в ее наиболее привлекательном, если не героическом варианте) в болдинскую пору он воплотил в «Пире во время чумы».
Многогранность жизнеощущения, слитая с самой сущностью пушкинского гения, в лирике и драматургии болдинской поры словно бы становится предметом своеобразной художнической рефлексии. «Резонанс» ее проникает в проблемный слой творчества. Нет ничего неожиданного в том, что именно в начале 30-х годов, когда на европейский мир и Россию обрушилась волна социально-политических потрясений, пушкинская мысль идет вглубь, к напластованиям философских и этических проблем. Эпоха, разворачивающаяся столь бурно и грозно, несла жесточайшие испытания нравственной природе человека, побуждая к поиску непреходящих духовных опор.
В Болдине Пушкин создает знаменитый черновой набросок, в афористически стройной и четкой форме воплотивший пушкинское представление о «животворящих святынях», о том, что в духовном опыте личности способно противостоять ударам судьбы:
Болдинская осень в биографии Пушкина, три месяца пушкинских трудов, освещенные ослепительно ярким и ровным огнем вдохновенья, властно притягивают к себе мысль и воображение.
Неизбежно встает вопрос о духовных первотолчках, об истоках этого творческого чуда. В самом деле, что возбудило в сознании поэта столь редкостный по красоте взлет творческой фантазии, редкостный даже на фоне пушкинского творчества, универсального по своим художественным устремлениям, готового в любой точке своего развития развернуться во всю ширь самых разнообразных, порою резко контрастных художественных замыслов? Небывалая уплотненность творческих сроков… Наше ощущение временных границ, отделяющих одно пушкинское создание от другого, тускнеет под впечатлением единого, как бы непрерывно длящегося творческого порыва.
Впечатление это, конечно, не более чем иллюзия, но иллюзия, порождаемая реальностью, необычайной интенсивностью творческого труда, торжествующего над временем. В «золотой осени» пушкинского творчества таится еще немало загадок для психологии искусства.
Пушкин ехал в Болдино, оставляя позади тревожные события петербургской и московской жизни: угрожающе обострившиеся после самовольной поездки на Кавказ отношения с Бенкендорфом; журнальные нападки Булгарина, перераставшие в беззастенчивую травлю; беспокойство и неуверенность, вынесенные из последних визитов к Гончаровым; предощущение возможных перемен и болезненной ломки быта, к которым обязывала предстоящая женитьба. К этому следует добавить еще и не покидавшую поэта мысль о возрастной границе, роковой черте 30-летия, которую переступил Пушкин в 1829 году. 1830 и 1831 годы Пушкин переживает как кризисную пору. Насколько неуравновешенным было его состояние духа в 1830 году, позволяет судить хотя бы письмо поэта к Бенкендорфу: «С горестью вижу, что любые мои поступки вызывают подозрение и недоброжелательство. Простите, генерал, вольность моих сетований, но ради бога, благоволите хоть на минуту войти в мое положение и оценить, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которое не могу ни предвидеть, ни избежать…»[1]. Даже сделав скидку на возможный «тактический прием», на желание Пушкина уяснить в предвиденьи женитьбы, насколько действительно неустойчиво его положение с точки зрения официально-правительственных «верхов», — все-таки нельзя не почувствовать в пушкинских строках живое, стихийно прорвавшееся смятение. И конечно, смятение это питалось не только злоключениями личной судьбы, многочисленными заслонами и запретами, непрерывной слежкой, которой в эту пору сопровождается каждый шаг Пушкина. Слишком много трагических и зловещих событий, затрагивающих судьбы России и европейского мира, выпало на 1830 год. В пушкинском жизнеощущении трагизм личной судьбы, без сомненья, сплетался с историческими потрясениями эпохи. «Какой год! Какие события! — писал Пушкин гр. Е. М. Хитрово. — Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Народ подавлен и раздражен. 1830 год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду»[2].
А между тем пушкинская муза ждала и искала хотя бы кратковременного душевного спокойствия, без которого, по выражению Пушкина, «ничего не произведешь». В болдинской глуши Пушкин обрел желанное уединение. Было ли «душевное спокойствие»? Была, несомненно, величайшая сосредоточенность мысли. Ее уже не отвлекали шумный и суетный круговорот столичного быта, гнет каждодневных столкновений с великосветской или литературною «чернью». Но спокойствия как гармонической ясности духа не было, надо думать, и не могло быть. Вся болдинская лирика Пушкина, его драматургия и даже его проза замешаны на беспокойстве, достигающем порою трагических высот. Душевное спокойствие и гармония — не точка исхода в болдинском творчестве Пушкина, но его цель, обретаемая (именно обретаемая — не обретенная) в творческих муках. Н. Л. Степанов в свое время справедливо предостерегал от вульгарных стандартов в оценке пушкинского жизнелюбия: «Не следует упрощенно подходить к Пушкину, видя в нем лишь выражение безграничного оптимизма. Его оптимизм рождался из преодоления страданий и сомнений, из преодоления разочарования и безнадежности „жизни мышьей беготни“»[3].
Болдинские произведения Пушкина отмечены жадным порывом к восстановлению духовной гармонии, мощь которого подчеркнута глубиною пушкинского разлада с миром и самим собой. Противоборствующие начала пушкинской мысли выявлены, как никогда, рельефно и остро. В самом бесстрашии ее, в этом стремлении «ощупать возмущенный мрак» (если воспользоваться поэтическим образом Баратынского) заключена уже огромная энергия высвобождения. Но главное в том, что Пушкин болдинской поры весь в поисках такого духовного средоточия и такого художественного синтеза, в котором бы сходились исследуемые поэтом полярные жизнеотношения, не погашая, но взаимовысвечивая друг друга. На той духовной глубине, в которую погружается пушкинский гений, уже нет абсолютных противоположностей психологического либо философского порядка. Нет, стало быть, и почвы для однозначных эстетических или этических оценок. Взору открываются скрытые, порою неожиданные взаимопереливы явлений, потенциальная многомерность характеров даже там, где они, казалось бы, схвачены жесткой оправой монолитной страсти.
В «Маленьких трагедиях», к примеру, Пушкин так организует художественные конфликты, что каждый из характеров, представляющих здесь резко контрастные жизнеощущения, таит в себе проблески духовных ценностей, приглушенные чрезмерным накалом всепоглощающих страстей.
В лирике поэт по-новому оценивает психологический опыт личности, усматривая двойственность, заключенную даже в душевных утратах. Даже в искривлениях страстей, в «безумном веселье» минувших лет ему видится опыт страдания, который в сочетании с неутомимым трудом мысли несет в себе прообраз новой, зрелой стадии духа. И в «жизни мышьей беготне», в бессвязности и кажущейся бессмыслице жизненного потока он стремится нащупать скрытое движение смысла. Авторское представление об идеале духовной свободы личности почти нигде (за исключением, быть может, «Моцарта и Сальери») не персонифицировано. Более того, оно и не конкретизировано до осязаемости однажды и навсегда найденного ориентира, устремляясь к которому можно было бы сформировать образ собственного бытия. Пытаясь синтезировать противоречия, Пушкин в этот период упорно ищет пути к духовной свободе, обретая почву, на которой единственно мыслимы эти пути. Почва эта — полнота и богатство жизнеощущения, готового вместить в себя страдание и счастье мысли, труд и «восторги творческие», мир быта и мир истории — словом, «все впечатленья бытия». Пушкинская художественная мысль всегда, как известно, стремилась к полнокровному богатству жизненных связей. Но в начале 30-х годов это стремление усилено и напряжено ощущением реальных духовных преград, подстерегающих личность.
Мы попытаемся дальше хотя бы бегло, хотя бы пунктиром наметить одно из возможных художественных средостений, в котором пересекаются вечное и современное в творчестве болдинской поры. В болдинской лирике и драматургии (а отчасти и в прозе, в «Выстреле» уж во всяком случае) Пушкин особенно настойчиво исследует тупики безмерно разросшихся, односторонне направленных страстей. И он делает это, надо думать, побуждаемый ощущением реальной опасности, которая таилась в духовной атмосфере 30-х годов. Пушкина, по-видимому, тревожила угроза духовной схимы, самоизоляция личности, утрачивающей представление о широте, многообразии и динамике бытия. Бегство в себя было естественной самозащитой личности в условиях угасания духовных связей в обществе и всестороннего давления на индивидуальность. Самопознание личности, ее глубочайшая сосредоточенность в себе расценивались человеком 30-х годов как идеологическое убежище и как форма компенсации грубо подавляемых «гражданских инстинктов». Но это убежище легко оборачивалось духовной тюрьмой. Одна из зловещих перспектив русской действительности заключалась в том, что мир личности, противопоставившей безобразию жизни уединенные наслаждения духовного бытия, мог трагически сомкнуться в безысходной рефлексии, отрезав себе путь к реальным ценностям объективно исторического порядка. Субъективизм в литературе и общественной психологии 30-х годов, как известно, вырождался порой в заурядную титаноманию, в закосневшую романтическую позу. Но и там, где он сохранял за собой духовные высоты, реальную, а не имитируемую напряженность мироощущения, он мог существовать как живое явление, а не как застывшая духовная маска лишь за счет неразрешимых противоречий и лишь на трагическом пределе.
В 1831 году (18 сентября) П. Я. Чаадаев пишет Пушкину пространное письмо, где обращает внимание поэта на страшные нравственные потрясения, которые суждено пережить современному человечеству:
«Итак, вот что я скажу Вам. Заметили ли Вы, что в недрах мира нравственного происходит нечто необыкновенное, нечто подобное тому, что происходит, как говорят, в недрах мира физического. Скажите мне, пожалуйста, как это на Вас действует? С моей точки зрения этот великий переворот вещей в высшей степени поэтичен, вряд ли вы можете оставаться к нему равнодушным, тем более что поэтический эгоизм может найти себе в этом, как мне представляется, обильную пищу: разве можно оставаться незатронутым в самых сокровенных своих чувствах во время всеобщего столкновения всех элементов человеческой природы… Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир, разве для того, кто не в состоянии предчувствовать новый грядущий на его место мир, это не является ужасным крушением… У меня слезы выступают на глазах, когда я всматриваюсь в великий распад моего старого общества, это мировое страдание»[4] (подчеркнуто нами. — В. Г.). Чаадаев, с его уникально чутким мышлением, умел схватывать духовные процессы истории в их эпохальных очертаниях и у истоков их рождения. В письме к Пушкину он уловил грозные сотрясения исторической почвы, заключавшие в себе опасность для «мира нравственного». Опасность эту не мог не осознавать и Пушкин. Но в отличие от Чаадаева он видел ее и в самом опасении. Это отнюдь не парадокс. Именно в начале 30-х годов Пушкин писал Плетневу: «Не холера опасна, опасно опасение, моральное состояние, долженствующее овладеть мыслящим существом в нынешних страшных обстоятельствах»[5] (3 августа 1831 года). Не очевидно ли, что речь здесь идет не только о холерных страхах. «Мыслящее существо», «нынешние страшные обстоятельства» — многозначительный контекст. В этом речевом окружении само упоминание о холере воспринимается как эмблема иного, глобального бедствия, затрагивающего нравственную сферу человека. Не следует забывать о том, что и образ «чумы» в пушкинском «Пире…» — образ символического размаха. Даже слово «чума» Пушкин писал с большой буквы — «Царица грозная Чума».
По Пушкину, опасно не замечать опасности. Но, по Пушкину же, не менее опасно ее преувеличить, спасовать перед потрясениями эпохи, перед «чумным» разгулом зла, уйти в себя, в «Подвалы» души, чтобы насладиться, подобно «скупому рыцарю», иллюзией духовного обладания миром.
Действительность побуждала к такому уединению. Соблазны его, надо полагать, были знакомы и Пушкину. Обобщающее духовные коллизии эпохи болдинское творчество поэта (а лирика, разумеется, прежде всего) окрашено личным опытом, пронизано отзвуками душевной борьбы.
«Престань и ты жизть в погребах, Как крот в ущельях подземельных…» — эти строки державинского послания «К Скопихину» в рукописи были предпосланы «Скупому рыцарю» в качестве эпиграфа. Пушкин затем снял эпиграф. Он сделал это скорее всего из художнических соображений, возложив воплощение поэтической мысли всецело на художественную ткань трагедии. Эпиграф емок по своей адресации. «Ты» эпиграфа обращено к пушкинским современникам. И в то же время, нерасчлененное в своих предметных контактах, лишенное конкретности, это обращение потенциально включает в свой смысловой круг и личность цитирующего автора. Но главное, разумеется, в том, что эпиграф выводит «на поверхность» символико-философский подтекст трагедии, проецируя его на современность. То, что постигается лишь на общем фоне болдинского творчества: психологическая подоснова его конфликтов, духовные тупики, «погреба» отъединенных от мира страстей — здесь отчетливо проступает в поэтическом сцеплении державинских строк с драматической композицией «Скупого рыцаря». Эпиграф намекает и на внутренний пафос болдинской поры — пафос преодоления, стремления к духовной свободе («престань и ты жить в погребах…»).
В «нынешних страшных обстоятельствах» Пушкину виделся особый смысл в том, чтобы наперекор катастрофически взвихренному течению жизни сохранить в душе ту «всеобъемлемость чувства», о которой он писал Е. М. Хитрово: «Как Вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться. Волнение, проявленное Вами по поводу смерти поэта[6] в то время, когда вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства»[7] (начало февраля 1831 года). Сохранить ее, глядя в лицо опасности, не бросаясь в иллюзии, не поступаясь трезвым чутьем реальности, — в этом усматривал Пушкин возможную точку опоры для современного человека.
Дерзкий выход навстречу опасности. Вызов, брошенный судьбе. Рискованное (на грани жизни и смерти) испытание судьбы. Мотив этот в разных вариантах проходит через все пушкинское творчество 30-х годов. Он запечатлен в гимне Председателя («Пир во время чумы»), в фаталистическом эксперименте Сильвио (эпизод второй дуэли в «Выстреле»), в отважном своеволии героев «Метели», в грозном жесте Евгения («Медный всадник»), в мифическом единоборстве Наполеона с чумой («Герой»), в самозабвенно-жутком вызове Дон-Гуана.
В этом поединке с неизбежным, в противостоянии силам судьбы пушкинские герои действуют на пределе душевных возможностей, хотя бы на миг предстают в ореоле величия и мощи. В изображении Пушкина эти мгновения как бы равновелики всей жизни человека, а порою «перевешивают» ее. Но это именно мгновения, после них следует либо надлом («Медный всадник»), либо «остановка» души в преддверии кризиса («Пир во время чумы»), либо гибель («Каменный гость»). Абсолютизация же рискованной игры с судьбой, демоническое упоение опасностью как принцип отношения к миру, по Пушкину, чреваты самоослеплением, утратою чувства реальности. Здесь Пушкину виделась крайность. Психологию этой крайности (в ее наиболее привлекательном, если не героическом варианте) в болдинскую пору он воплотил в «Пире во время чумы».
Многогранность жизнеощущения, слитая с самой сущностью пушкинского гения, в лирике и драматургии болдинской поры словно бы становится предметом своеобразной художнической рефлексии. «Резонанс» ее проникает в проблемный слой творчества. Нет ничего неожиданного в том, что именно в начале 30-х годов, когда на европейский мир и Россию обрушилась волна социально-политических потрясений, пушкинская мысль идет вглубь, к напластованиям философских и этических проблем. Эпоха, разворачивающаяся столь бурно и грозно, несла жесточайшие испытания нравственной природе человека, побуждая к поиску непреходящих духовных опор.
В Болдине Пушкин создает знаменитый черновой набросок, в афористически стройной и четкой форме воплотивший пушкинское представление о «животворящих святынях», о том, что в духовном опыте личности способно противостоять ударам судьбы:
 Глава II
Философская лирика болдинской осени
Глава II
Философская лирика болдинской осени
 «Бесы» открывают болдинскую лирико-философскую «сюиту» картиною трагического смятения мысли, символическим образом мира, словно бы сошедшего с привычной жизненной «колеи». В символике «Бесов» прихотливо сливается осязаемо конкретное, национально-бытовое, несущее в себе давно знакомые черты (ямщик с его колоритною речью, русская безбрежная равнина, утонувшая в кипящем вихре метели), с незнакомым, призрачно-жутким и, однако ж, необыкновенно многозначительным в своей нереальности. В «Бесах» одинаково важно и то, что приковывает восприятие к привычным очертаниям русского мира, и то, что колеблет и размывает их. Символика «Бесов» совмещает в себе редкостную ширь философского мышления с заостренно-условным, фантастическим разворотом сюжета, с поразительно рельефными штрихами национального пейзажа и быта, на которые опирается сюжет.
В этом художественном сплаве запечатлелся неповторимо пушкинский «рисунок» лирико-философской мысли. Как бы широко ни раздвигались ее горизонты, на какие бы высоты духа ни взлетала она в поисках ответа на вечные вопросы бытия, она втягивает в свою орбиту и «ближний» мир вседневной, бытовой, порою прозаической реальности. Вообще бытовое в пушкинской лирике бок о бок соседствует с духовным, не отделено от него неприступной стеной. Ярчайшее подтверждение тому — гениальная «Осень» (1833), вобравшая в себя художественные тенденции, которые складываются в лирике Пушкина начала 30-х годов. Развитие поэтической темы в этом произведении начинается с дробной детализации в изображении русской природы и национального быта и завершается мудрым прозрением в загадочные истоки творчества, символически обобщенным образом корабля, овеществляющим стихию вдохновения. Впрочем, можно ли сказать «начинается» — «завершается», если эти понятия неизбежно предполагают ощущение границы? В том ведь и дело, что в пушкинской «Осени» эти границы между сферою быта и миром вдохновения сняты. Поэзия органически рождается из действительности, охваченной во всем ее объеме, — такова «логика» «Осени».
И поэтому нет ничего удивительного в том, что сложная философская символика «Бесов» опирается на пронизанный национально-бытовыми атрибутами, пластически-живописный образ дорожных скитаний. Лирическая ситуация «Бесов» вбирает в свою художественную ткань образные мотивы, которые обретут устойчивость в поэзии болдинской поры. Прежде всего — это символика пути. Обладая постоянством символико-метафорических применений, этот образ, переходя из одного произведения в другое, меняет диапазон обобщения. В «Бесах» он символизирует духовное бездорожье современной Пушкину России. В «Элегии» и в «Ответе анониму» в нем отчетливо проступает биографическая основа — здесь перед нами метафора жизненной судьбы поэта:
«Бесы» открывают болдинскую лирико-философскую «сюиту» картиною трагического смятения мысли, символическим образом мира, словно бы сошедшего с привычной жизненной «колеи». В символике «Бесов» прихотливо сливается осязаемо конкретное, национально-бытовое, несущее в себе давно знакомые черты (ямщик с его колоритною речью, русская безбрежная равнина, утонувшая в кипящем вихре метели), с незнакомым, призрачно-жутким и, однако ж, необыкновенно многозначительным в своей нереальности. В «Бесах» одинаково важно и то, что приковывает восприятие к привычным очертаниям русского мира, и то, что колеблет и размывает их. Символика «Бесов» совмещает в себе редкостную ширь философского мышления с заостренно-условным, фантастическим разворотом сюжета, с поразительно рельефными штрихами национального пейзажа и быта, на которые опирается сюжет.
В этом художественном сплаве запечатлелся неповторимо пушкинский «рисунок» лирико-философской мысли. Как бы широко ни раздвигались ее горизонты, на какие бы высоты духа ни взлетала она в поисках ответа на вечные вопросы бытия, она втягивает в свою орбиту и «ближний» мир вседневной, бытовой, порою прозаической реальности. Вообще бытовое в пушкинской лирике бок о бок соседствует с духовным, не отделено от него неприступной стеной. Ярчайшее подтверждение тому — гениальная «Осень» (1833), вобравшая в себя художественные тенденции, которые складываются в лирике Пушкина начала 30-х годов. Развитие поэтической темы в этом произведении начинается с дробной детализации в изображении русской природы и национального быта и завершается мудрым прозрением в загадочные истоки творчества, символически обобщенным образом корабля, овеществляющим стихию вдохновения. Впрочем, можно ли сказать «начинается» — «завершается», если эти понятия неизбежно предполагают ощущение границы? В том ведь и дело, что в пушкинской «Осени» эти границы между сферою быта и миром вдохновения сняты. Поэзия органически рождается из действительности, охваченной во всем ее объеме, — такова «логика» «Осени».
И поэтому нет ничего удивительного в том, что сложная философская символика «Бесов» опирается на пронизанный национально-бытовыми атрибутами, пластически-живописный образ дорожных скитаний. Лирическая ситуация «Бесов» вбирает в свою художественную ткань образные мотивы, которые обретут устойчивость в поэзии болдинской поры. Прежде всего — это символика пути. Обладая постоянством символико-метафорических применений, этот образ, переходя из одного произведения в другое, меняет диапазон обобщения. В «Бесах» он символизирует духовное бездорожье современной Пушкину России. В «Элегии» и в «Ответе анониму» в нем отчетливо проступает биографическая основа — здесь перед нами метафора жизненной судьбы поэта:
 Глава III
«Анфологические эпиграммы»
Глава III
«Анфологические эпиграммы»
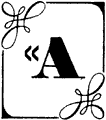 «Антологическая пьеса» — едва ли не самый устойчивый жанр в поэзии 1-й половины XIX столетия. Он сохранял стабильность своих границ и в ту пору, когда рушились жанровые принципы мышления в лирике. Вероятно, это объясняется тем, что перестройки его всегда сопряжены с риском утратить колорит античного жизнеощущения, к воссозданию которого стремилась антологическая лирика. Случаи таких деформаций, в итоге которых из художественной структуры жанра исчезал оживлявший ее дух «прекрасных соразмерностей», бывали в истории поэзии. Чтобы ощутить тот внутренний предел пластичности жанра, переступать который не удавалось без ущерба для стилевой целостности антологической пьесы, достаточно вспомнить поэзию Н. Ф. Щербины. В творчестве этого поэта (весьма даровитого в своем роде) антологическая лирика часто смещалась в стилизацию.
Внешние атрибуты античности подменяли внутреннюю духовную целостность изображаемого мира. Избыточность этих атрибутов, их мозаическая пестрота придавали стилизациям Щербины утрированный характер. Ведь полноценная художественная стилизация (имеющая, кстати, все права на существование) не стремится к нагнетанию чисто внешних примет воссоздаваемого явления. Она озабочена воспроизведением лишь немногих, но существенных признаков, близких к содержательной сердцевине стиля. Индивидуальность его и узнается благодаря смысловому сгущению некоторых, но характерных примет. Однако даже такая стилизация небезопасна для антологического жанра, поскольку и в ней все-таки «мертвеют» черты некогда живого художественного целого, застывает его внутренняя динамика. И даже если стилизация не ставит перед собой разоблачительных намерений, все равно она эквилибрирует на очень шаткой грани между воспроизведением и насмешкой. «Антологические пьесы» Щербины были таковы, что они облегчали задачу многочисленным пародистам 60-х годов. Такое воспроизведение античности, к которому порою прибегал Щербина, уже само по себе было близко к невольному самопародированию. Авторский образ Щербины, характер его жизнеощущения плохо уживались с эстетическими установками жанра. Сознание Щербины было расколото диссонансами эпохи. Он бросался в античность, как в спасительную гавань, от общественных потрясений эпохи, от собственного скепсиса и раздвоенности. Но как раз эта-то обостренная жажда абсолютного покоя и абсолютной гармонии, связанные с нею экзальтация и напряженность, по-видимому, мешали поэту осмыслить античность как самобытный и целостный духовный мир, который можно постичь лишь путем художественного вживания, немыслимого вне установки на объективность. И получалось в итоге, что как бы ни оберегал Щербина неприкосновенность своей античной идиллии, ее принципиальную непричастность хаосу современности (так он воспринимал ее), а все-таки беспокойный дух этой современности, ее дисгармоничность, глубоко проникшие в сознание поэта, привносились им и в антологическую лирику, разрушая здесь внутреннюю меру изображаемого. Кроме того, здесь сама демонстративность попытки противопоставить антологический жанр литературной и внелитературной современности сообщали художественным установкам жанра чуждую им цель. Ведь жанр этот стремился постичь античный мир не по контрасту с современной эпохой, а изнутри, из глубины его собственного историко-культурного контекста.
Мы позволили себе заглянуть в другую литературную эпоху (50–60-е годы) лишь затем, чтобы показать, какие рифы подстерегают антологическую лирику там, где она вольно или невольно сближается с современностью, поступаясь при этом внутренней замкнутостью художественного объекта. Замкнутость объекта в антологическом жанре (хотя и не абсолютная, как нас убеждают в этом пушкинские «антологические эпиграммы») — явление, резко выделяющее его в ряду многих других жанровых типов, мобильность и пластичность которых как раз определяется возможностями их сближения с динамикой современного поэту сознания. Этим объясняется и прочная власть традиции, закрепленная поэтикой «антологической пьесы».
Пушкину болдинской поры нужна была огромная дисциплина художественной мысли, чтобы сохранить эстетическую целостность этого жанра: она могла быть легко утрачена под напором драматических коллизий, разрывающих пушкинское сознание начала 30-х годов. Поражает уже само обращение Пушкина к жанру, казалось бы, столь далекому от всего, что тревожит поэта в эту пору. Пушкин создает в Болдине пять антологических пьес («Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд», «На перевод Илиады»). Это необычно уже потому, что это много для позднего Пушкина, а тем более для нескольких месяцев его поэтических трудов. Нужно вспомнить, что с 1821 года, особенно плодоносного в области антологической лирики, Пушкин на протяжении девяти лет создает всего лишь четыре завершенных антологических пьесы («Сафо», «Кто на снегах возрастил…», «Подражания» Анакреону и А. Шенье)[29]. Впечатление такое, будто в болдинскую осень вдруг ожил, воскрес из полузабвения жанр, долгое время пребывавший на периферии пушкинского творчества, да к тому же жанр, по своим художественным установкам явно контрастирующий с основными конфликтными направлениями пушкинской мысли. Чем объяснить это? Видимо, лишь той внутренней потребностью в гармонии, в душевном равновесии, которая напоминала о себе тем острее, чем глубже был духовный разлад и ощущение катастрофичности бытия в пушкинском миропонимании начала 30-х годов. Но Пушкин не возлагал на антологический жанр никаких идеологических иллюзий. Он не искал в античности утопию «золотого века», как это было свойственно Гнедичу и отчасти Дельвигу. Пушкин отчетливо разделял эти сферы: мир античности и современную действительность. Но именно потому, что он разделял их, сознавая необратимость исторического процесса и своеобразие внутренних законов, по которым живет каждый из этих миров, — именно поэтому в болдинской лирике миры эти соприкоснулись в единственно возможной зоне сближения — на стыках вечных проблем.
В 1821 году одна за другой появляются на свет блистательные антологические пьесы Пушкина, которые позднее в сборнике 1826 года были объединены под общей рубрикой «Подражания древним». В этих произведениях складываются основы пушкинского восприятия античности и пушкинская концепция антологического жанра. Не только упоение жизнью «эта роскошь, эта нега, эта прелесть»[30], которую находил Пушкин в греческой поэзии (и в удачных, на его взгляд, «подражаниях» Дельвига), — не только это привлекает Пушкина в жанровых возможностях антологической пьесы. Первые ростки движения эмоций, их тонкие гармонические переходы в тех особых духовных формах, которые не терпят дисгармонии и хаоса, в которых печаль пронизана внутренним светом и ни одна эмоция не вырастает до диссонирующего предела, — здесь находил Пушкин почву, на которой можно было бы развернуться психологическим устремлениям его лирики. К тому же здесь велика была власть жанровых ограничений. А то, что ограничивало художественную мысль, в глазах Пушкина было не только преградой, но и стимулом творчества. В стесняющих пределах блеск, сила и дерзость художественной фантазии, по Пушкину, особенно неотразимы. Не исключено, что уже и тогда (в 1821 году) в жанровых барьерах антологической пьесы (барьерах не только формальных, но и содержательных) Пушкину, быть может, интуитивно виделся противовес необузданному беззаконию романтической субъективности[31]. Кстати, именно в этом свете значение античного искусства для художественной практики раннего романтизма расценивалось крупнейшими реформаторами романтической эстетики братьями Фр. и Авг. Шлегелями.
Уже и тогда, в антологических опытах 1821 года, Пушкин обходит стороной вакхическое начало античности, столь привлекавшее Батюшкова. «Дионисийская», оргиастическая стихия античного жизнеощущения, особенно широко расплеснувшаяся в эпоху эллинизма, судя по всему, мало занимает Пушкина начала 20-х годов. Точно так же и внешняя, экзотически-декоративная сторона античности, усердно имитируемая антологической лирикой эпигонов (к примеру, В. Панаев с его идиллиями), никогда не привлекала Пушкина сама по себе.
Пушкин ищет и находит свою область лирических эмоций, в которых вполне самобытно преломлялся бы общечеловеческий опыт античного мироощущения. Образы чувства в антологических пьесах Пушкина 1821 года отмечены особой неповторимой прелестью. Это прелесть душевной грации, мыслимой лишь на фоне сдержанности в проявлениях чувства, сдержанности, берущей исток в природной, а не благоприобретенной способности души. Контрасты между естественной сдержанностью в проявлениях чувства и пожаром его, разгорающимся в душевной глубине, моменты, когда оно безотчетно и непроизвольно проступает наружу, этот след «улыбки нежной» в пушкинской «Дионее» или столь же непроизвольная, рожденная свободной прихотью души гордость «девы» («Дева») и ее равнодушие, за которым лишь угадывается внутреннее беспокойство, ревнивое внимание к «неосторожному другу», — уже в этих образах чувства проступает характерно пушкинский акцент на подвижности эмоций, а главное, на естественности их проявлений. Пушкин отнюдь не стремился в антологических пьесах к изображению только умиротворенных душевных движений, которые бы могли служить символами прямолинейно и узко истолкованной античной гармонии. Нет, мир античной души для него живой мир. В нем возможна и психологическая нерасчлененность душевных проявлений, и контрасты переживаний, и стихийная игра чувств, когда одна эмоция безотчетно замещает собой другую. Все эти оттенки душевной жизни именно как возможности неразвернуто и скрытно проступают в «Деве», в «Дионее», в «Редеет облаков летучая гряда». Но везде мера и гармония в антологических пьесах Пушкина «не допускают ничего напряженного в чувствах», как он сам выразился по поводу «Идиллий» Дельвига[32]. В «Дионее» «взор потупленный», который «желанием горит», уравновешен долгой «улыбкой нежной», увенчивающей изображение страсти. Образы эти подчеркнуто соотнесены, ибо в последней строке ритмическое течение стиха, только что уклонившееся в сторону в строчке «И долго после, Дионея…», вновь возвращается в прежнее ритмическое русло. Вклинившаяся в это русло усеченная строка лишь оттеняет ритмическое «равновесие» упомянутых образов, сосредоточивая одновременно всю силу смыслового ударения на слове «долго», на длительности «улыбки нежной». Эта «улыбка нежная» у Пушкина и есть великое чудо жизни. Поэт воплощает и восторг перед красотой, но это не бурное вакхическое чувство, а восторг только что просыпающейся души, разбуженной музою («Муза»), и трепет перед зрелищем красоты, которая входит в жизнь, подобно великой и божественной тайне («Нереида»). Вообще мир души в антологических пьесах Пушкина изображен как только что просыпающийся мир, исполненный утренней свежести, еще не осознавший себя, не вкусивший рефлексии, свободно, естественно и бессознательно владеющий своими духовными силами.
Пушкин, таким образом, не разрушая целостности жанрового объекта, ищет и находит в общечеловеческой сокровищнице античного опыта то, что близко психологическому строю его ранней романтической лирики. Ведь целостность антологического жанра выверяется в поэзии не мерой его реального соответствия исторически конкретным жанровым модификациям античной лирики, и не точностью культурно-психологических реконструкций (они вообще относительны в лирике), а лишь эстетической установкой на объективность в отношении к жанровому объекту и воздержанием от его нарочитых модернизаций. Пушкинские «Подражания древним» никоим образом не следует понимать буквально и узко: только, допустим, как подражания формам и мироощущению ранней античной лирики, которая «еще не знает движения чувств»[33]. Пушкин стремится воссоздать античный склад жизнеощущения как духовное целое, исторически недифференцированное и как мир возможностей. Было бы странно ожидать от поэта исторически выверенных представлений о фазах и этапах античной культуры, о динамике ее литературных родов и жанров. В осмыслении античного культурно-исторического комплекса Пушкин, естественно, не мог обогнать свою современность. Важно уже и то, что он стремился постичь античность как неповторимо самобытный мир, а не как источник аллюзий или утопических построений, сконструированных по контрасту с современной действительностью.
Уже говорилось, что художественные искания ранней романтической лирики Пушкина и его эстетическая избирательность в отношении к жанровым возможностям антологической пьесы идут в параллельных направлениях. Как ощутимо могут сближаться эти направления, показывает пушкинский шедевр «Редеет облаков летучая гряда…», включенный в цикл «Подражания древним». Мир романтической мечты здесь нераздельно слит с реальностью антологической ситуации. Эта ситуация отодвинута в прошлое, но оттого, что она проступает сквозь дымку воспоминания, очертания ее не утрачивают рельефности и глубины. Очарование минувшего здесь воплощено не в зыбкой приглушенности красок, размытых временем, не в мерцающей призрачности лиц и событий, смутной, неопределенной музыке воспоминания, навеять которую стремилась элегия Жуковского. Пушкинский образ минувшего пластичен. Прозрачны его пропорции и ощущается как бы самый воздух пространства:
«Антологическая пьеса» — едва ли не самый устойчивый жанр в поэзии 1-й половины XIX столетия. Он сохранял стабильность своих границ и в ту пору, когда рушились жанровые принципы мышления в лирике. Вероятно, это объясняется тем, что перестройки его всегда сопряжены с риском утратить колорит античного жизнеощущения, к воссозданию которого стремилась антологическая лирика. Случаи таких деформаций, в итоге которых из художественной структуры жанра исчезал оживлявший ее дух «прекрасных соразмерностей», бывали в истории поэзии. Чтобы ощутить тот внутренний предел пластичности жанра, переступать который не удавалось без ущерба для стилевой целостности антологической пьесы, достаточно вспомнить поэзию Н. Ф. Щербины. В творчестве этого поэта (весьма даровитого в своем роде) антологическая лирика часто смещалась в стилизацию.
Внешние атрибуты античности подменяли внутреннюю духовную целостность изображаемого мира. Избыточность этих атрибутов, их мозаическая пестрота придавали стилизациям Щербины утрированный характер. Ведь полноценная художественная стилизация (имеющая, кстати, все права на существование) не стремится к нагнетанию чисто внешних примет воссоздаваемого явления. Она озабочена воспроизведением лишь немногих, но существенных признаков, близких к содержательной сердцевине стиля. Индивидуальность его и узнается благодаря смысловому сгущению некоторых, но характерных примет. Однако даже такая стилизация небезопасна для антологического жанра, поскольку и в ней все-таки «мертвеют» черты некогда живого художественного целого, застывает его внутренняя динамика. И даже если стилизация не ставит перед собой разоблачительных намерений, все равно она эквилибрирует на очень шаткой грани между воспроизведением и насмешкой. «Антологические пьесы» Щербины были таковы, что они облегчали задачу многочисленным пародистам 60-х годов. Такое воспроизведение античности, к которому порою прибегал Щербина, уже само по себе было близко к невольному самопародированию. Авторский образ Щербины, характер его жизнеощущения плохо уживались с эстетическими установками жанра. Сознание Щербины было расколото диссонансами эпохи. Он бросался в античность, как в спасительную гавань, от общественных потрясений эпохи, от собственного скепсиса и раздвоенности. Но как раз эта-то обостренная жажда абсолютного покоя и абсолютной гармонии, связанные с нею экзальтация и напряженность, по-видимому, мешали поэту осмыслить античность как самобытный и целостный духовный мир, который можно постичь лишь путем художественного вживания, немыслимого вне установки на объективность. И получалось в итоге, что как бы ни оберегал Щербина неприкосновенность своей античной идиллии, ее принципиальную непричастность хаосу современности (так он воспринимал ее), а все-таки беспокойный дух этой современности, ее дисгармоничность, глубоко проникшие в сознание поэта, привносились им и в антологическую лирику, разрушая здесь внутреннюю меру изображаемого. Кроме того, здесь сама демонстративность попытки противопоставить антологический жанр литературной и внелитературной современности сообщали художественным установкам жанра чуждую им цель. Ведь жанр этот стремился постичь античный мир не по контрасту с современной эпохой, а изнутри, из глубины его собственного историко-культурного контекста.
Мы позволили себе заглянуть в другую литературную эпоху (50–60-е годы) лишь затем, чтобы показать, какие рифы подстерегают антологическую лирику там, где она вольно или невольно сближается с современностью, поступаясь при этом внутренней замкнутостью художественного объекта. Замкнутость объекта в антологическом жанре (хотя и не абсолютная, как нас убеждают в этом пушкинские «антологические эпиграммы») — явление, резко выделяющее его в ряду многих других жанровых типов, мобильность и пластичность которых как раз определяется возможностями их сближения с динамикой современного поэту сознания. Этим объясняется и прочная власть традиции, закрепленная поэтикой «антологической пьесы».
Пушкину болдинской поры нужна была огромная дисциплина художественной мысли, чтобы сохранить эстетическую целостность этого жанра: она могла быть легко утрачена под напором драматических коллизий, разрывающих пушкинское сознание начала 30-х годов. Поражает уже само обращение Пушкина к жанру, казалось бы, столь далекому от всего, что тревожит поэта в эту пору. Пушкин создает в Болдине пять антологических пьес («Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд», «На перевод Илиады»). Это необычно уже потому, что это много для позднего Пушкина, а тем более для нескольких месяцев его поэтических трудов. Нужно вспомнить, что с 1821 года, особенно плодоносного в области антологической лирики, Пушкин на протяжении девяти лет создает всего лишь четыре завершенных антологических пьесы («Сафо», «Кто на снегах возрастил…», «Подражания» Анакреону и А. Шенье)[29]. Впечатление такое, будто в болдинскую осень вдруг ожил, воскрес из полузабвения жанр, долгое время пребывавший на периферии пушкинского творчества, да к тому же жанр, по своим художественным установкам явно контрастирующий с основными конфликтными направлениями пушкинской мысли. Чем объяснить это? Видимо, лишь той внутренней потребностью в гармонии, в душевном равновесии, которая напоминала о себе тем острее, чем глубже был духовный разлад и ощущение катастрофичности бытия в пушкинском миропонимании начала 30-х годов. Но Пушкин не возлагал на антологический жанр никаких идеологических иллюзий. Он не искал в античности утопию «золотого века», как это было свойственно Гнедичу и отчасти Дельвигу. Пушкин отчетливо разделял эти сферы: мир античности и современную действительность. Но именно потому, что он разделял их, сознавая необратимость исторического процесса и своеобразие внутренних законов, по которым живет каждый из этих миров, — именно поэтому в болдинской лирике миры эти соприкоснулись в единственно возможной зоне сближения — на стыках вечных проблем.
В 1821 году одна за другой появляются на свет блистательные антологические пьесы Пушкина, которые позднее в сборнике 1826 года были объединены под общей рубрикой «Подражания древним». В этих произведениях складываются основы пушкинского восприятия античности и пушкинская концепция антологического жанра. Не только упоение жизнью «эта роскошь, эта нега, эта прелесть»[30], которую находил Пушкин в греческой поэзии (и в удачных, на его взгляд, «подражаниях» Дельвига), — не только это привлекает Пушкина в жанровых возможностях антологической пьесы. Первые ростки движения эмоций, их тонкие гармонические переходы в тех особых духовных формах, которые не терпят дисгармонии и хаоса, в которых печаль пронизана внутренним светом и ни одна эмоция не вырастает до диссонирующего предела, — здесь находил Пушкин почву, на которой можно было бы развернуться психологическим устремлениям его лирики. К тому же здесь велика была власть жанровых ограничений. А то, что ограничивало художественную мысль, в глазах Пушкина было не только преградой, но и стимулом творчества. В стесняющих пределах блеск, сила и дерзость художественной фантазии, по Пушкину, особенно неотразимы. Не исключено, что уже и тогда (в 1821 году) в жанровых барьерах антологической пьесы (барьерах не только формальных, но и содержательных) Пушкину, быть может, интуитивно виделся противовес необузданному беззаконию романтической субъективности[31]. Кстати, именно в этом свете значение античного искусства для художественной практики раннего романтизма расценивалось крупнейшими реформаторами романтической эстетики братьями Фр. и Авг. Шлегелями.
Уже и тогда, в антологических опытах 1821 года, Пушкин обходит стороной вакхическое начало античности, столь привлекавшее Батюшкова. «Дионисийская», оргиастическая стихия античного жизнеощущения, особенно широко расплеснувшаяся в эпоху эллинизма, судя по всему, мало занимает Пушкина начала 20-х годов. Точно так же и внешняя, экзотически-декоративная сторона античности, усердно имитируемая антологической лирикой эпигонов (к примеру, В. Панаев с его идиллиями), никогда не привлекала Пушкина сама по себе.
Пушкин ищет и находит свою область лирических эмоций, в которых вполне самобытно преломлялся бы общечеловеческий опыт античного мироощущения. Образы чувства в антологических пьесах Пушкина 1821 года отмечены особой неповторимой прелестью. Это прелесть душевной грации, мыслимой лишь на фоне сдержанности в проявлениях чувства, сдержанности, берущей исток в природной, а не благоприобретенной способности души. Контрасты между естественной сдержанностью в проявлениях чувства и пожаром его, разгорающимся в душевной глубине, моменты, когда оно безотчетно и непроизвольно проступает наружу, этот след «улыбки нежной» в пушкинской «Дионее» или столь же непроизвольная, рожденная свободной прихотью души гордость «девы» («Дева») и ее равнодушие, за которым лишь угадывается внутреннее беспокойство, ревнивое внимание к «неосторожному другу», — уже в этих образах чувства проступает характерно пушкинский акцент на подвижности эмоций, а главное, на естественности их проявлений. Пушкин отнюдь не стремился в антологических пьесах к изображению только умиротворенных душевных движений, которые бы могли служить символами прямолинейно и узко истолкованной античной гармонии. Нет, мир античной души для него живой мир. В нем возможна и психологическая нерасчлененность душевных проявлений, и контрасты переживаний, и стихийная игра чувств, когда одна эмоция безотчетно замещает собой другую. Все эти оттенки душевной жизни именно как возможности неразвернуто и скрытно проступают в «Деве», в «Дионее», в «Редеет облаков летучая гряда». Но везде мера и гармония в антологических пьесах Пушкина «не допускают ничего напряженного в чувствах», как он сам выразился по поводу «Идиллий» Дельвига[32]. В «Дионее» «взор потупленный», который «желанием горит», уравновешен долгой «улыбкой нежной», увенчивающей изображение страсти. Образы эти подчеркнуто соотнесены, ибо в последней строке ритмическое течение стиха, только что уклонившееся в сторону в строчке «И долго после, Дионея…», вновь возвращается в прежнее ритмическое русло. Вклинившаяся в это русло усеченная строка лишь оттеняет ритмическое «равновесие» упомянутых образов, сосредоточивая одновременно всю силу смыслового ударения на слове «долго», на длительности «улыбки нежной». Эта «улыбка нежная» у Пушкина и есть великое чудо жизни. Поэт воплощает и восторг перед красотой, но это не бурное вакхическое чувство, а восторг только что просыпающейся души, разбуженной музою («Муза»), и трепет перед зрелищем красоты, которая входит в жизнь, подобно великой и божественной тайне («Нереида»). Вообще мир души в антологических пьесах Пушкина изображен как только что просыпающийся мир, исполненный утренней свежести, еще не осознавший себя, не вкусивший рефлексии, свободно, естественно и бессознательно владеющий своими духовными силами.
Пушкин, таким образом, не разрушая целостности жанрового объекта, ищет и находит в общечеловеческой сокровищнице античного опыта то, что близко психологическому строю его ранней романтической лирики. Ведь целостность антологического жанра выверяется в поэзии не мерой его реального соответствия исторически конкретным жанровым модификациям античной лирики, и не точностью культурно-психологических реконструкций (они вообще относительны в лирике), а лишь эстетической установкой на объективность в отношении к жанровому объекту и воздержанием от его нарочитых модернизаций. Пушкинские «Подражания древним» никоим образом не следует понимать буквально и узко: только, допустим, как подражания формам и мироощущению ранней античной лирики, которая «еще не знает движения чувств»[33]. Пушкин стремится воссоздать античный склад жизнеощущения как духовное целое, исторически недифференцированное и как мир возможностей. Было бы странно ожидать от поэта исторически выверенных представлений о фазах и этапах античной культуры, о динамике ее литературных родов и жанров. В осмыслении античного культурно-исторического комплекса Пушкин, естественно, не мог обогнать свою современность. Важно уже и то, что он стремился постичь античность как неповторимо самобытный мир, а не как источник аллюзий или утопических построений, сконструированных по контрасту с современной действительностью.
Уже говорилось, что художественные искания ранней романтической лирики Пушкина и его эстетическая избирательность в отношении к жанровым возможностям антологической пьесы идут в параллельных направлениях. Как ощутимо могут сближаться эти направления, показывает пушкинский шедевр «Редеет облаков летучая гряда…», включенный в цикл «Подражания древним». Мир романтической мечты здесь нераздельно слит с реальностью антологической ситуации. Эта ситуация отодвинута в прошлое, но оттого, что она проступает сквозь дымку воспоминания, очертания ее не утрачивают рельефности и глубины. Очарование минувшего здесь воплощено не в зыбкой приглушенности красок, размытых временем, не в мерцающей призрачности лиц и событий, смутной, неопределенной музыке воспоминания, навеять которую стремилась элегия Жуковского. Пушкинский образ минувшего пластичен. Прозрачны его пропорции и ощущается как бы самый воздух пространства:
 Глава IV
Прощальный цикл
Глава IV
Прощальный цикл
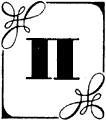 Произведения прощального цикла («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…») иногда именуют элегиями. И казалось бы, для этого есть основания. Сигналы элегического стиля (да и приметы элегической мелодики) действительно встречаются здесь. Стоит ли за ними живое жанровое содержание, или они нужны поэту лишь как «подсобный» материал для такой художественной постройки, «архитектура» которой решительно расходится с конструктивными принципами жанра? Это вопросы не абстрактно-теоретического порядка. От ответа на них зависит понимание существа и самобытности пушкинской лирической мысли. У Пушкина 30-х годов особое отношение к жанровой традиции в лирике. Чтобы яснее раскрылась его суть, необходимо хотя бы мельком оглянуться на судьбу этого жанра, как она складывалась в предшествующее десятилетие.
20-е годы XIX столетия в истории русской поэзии — эпоха, отмеченная интенсивной перестройкой изобразительной системы лирического стиха. Постепенно распадаются те монолитные в прошлом жанровые образования в лирике, устойчивость которых была подкреплена единством жанровой темы, способов ее композиционного развертывания, стилистическим единообразием слова. Строгая и стройная определенность таких жанровых организмов могла покоиться лишь на рационалистически твердых и непротиворечивых представлениях о душевной жизни личности. Сентиментальная лирика не смогла расшатать эти представления. Она только сместила элегическую тему в область новых эмоциональных шаблонов. Она скорее декларировала индивидуальность переживания, не в силах воплотить ее в неповторимо конкретной динамике чувства, в «сиюминутной» непосредственности его движений.
В художественном восприятии личности акцент на чувствительности лишь внешним образом посягал на рационалистические представления о человеке. «Чувство» сентименталистов, в сущности, столь же рационально, как и «разум» классицистов. В нем нет ничего от подлинной полноты его и противоречивости. Оно вполне выразимо для сентименталистов, прозрачно и постигаемо до последних своих глубин. Поэзия сентиментализма больше рассуждает о переживании, рассматривая его как внешнюю по отношению к лирическому «я» стихию (отсюда излюбленный прием персонификаций), нежели претворяет его в структурный принцип, во внутреннюю форму произведения. Эмоции сентименталиста переходят в слезливость именно потому, что они предмет любования и самосозерцания, которые всегда предполагают существование психологической дистанции, охлаждающей чувство. «Формула» сентиментального лиризма такова: я чувствую, что я чувствую (а не просто: я чувствую). Поэтому в лирических композициях сентименталистов нет и следа того ощущения непредвиденности в движении эмоций, которое есть в романтической лирике. Напротив, здесь все рассчитано на ровное движение лирического переживания, на прекрасную и несколько холодную гармонию стиля. Диссонансы, неровности, перебои ритма, переносы, призванные усилить экспрессивное напряжение стиха, умолчания и эллипсис, речевой жест и непосредственность лирической адресации — все то, что у романтиков создает впечатление переживания, как бы рождающегося по мере движения стиха, все это еще не освоено сентиментальной лирикой. Острые и неожиданные метафорические смещения смысла редки. Экспрессивная окраска слова устойчива и опирается на единство эмоционального тона. Двуплановое по семантике слово мыслимо только в аллегорическом, но не в символическом варианте. К тому же аллегория сентименталистов предельно прозрачна, ибо шаблонна, переходит из рук в руки, от одного поэта к другому. Эти общие принципы сентиментального стиля отражаются и на элегической поэтике. Элегия сентиментализма — унылая лирическая медитация, рефлектирующая по поводу чувства. Она варьирует крайне узкий круг устойчивых тем, персонифицируя эмоции, время от времени включая в свои композиции лирический пейзаж, построенный на стандартной обойме деталей.
Конечно, поэзия сентименталистов нарушила ценностную ориентацию жанров, закрепленную старой жанровой системой. С периферии ее на первый план выдвинулась элегия и послание. Элегия сделалась главенствующим жанром, а ее поэтика обрела способность проникать в другие жанровые владения. Несмотря на то что ко времени лицейского Пушкина «„естественная поза“ карамзинистов уже была близка к тому, чтобы обнаружилась условность ее»[36], для элегического жанра еще не наступила пора заката. Жуковский предельно субъективировал элегию, обогатил ее полнотою и сложностью психологического содержания, мелодически оснастил ее ритмико-интонационную систему. Элегия перестроилась. Но то была перестройка в пределах жанра, выявившая его новые возможности, а значит, и упрочившая на определенный срок его жизнеспособность. Жанровая сфера ранней романтической элегии — по-прежнему область душевных стихий, претендующих на универсальность. Ведь лирическое переживание Жуковского стремилось утвердить себя в качестве некоей идеальной нормы душевного бытия. За точку отсчета ценностей Жуковский берет мир неповторимо индивидуальной души. Но душа эта в его изображении оказывается равновеликой любому сознанию, устремленному к идеалу. Лирическое переживание Жуковского как бы заинтересовано поисками элементарных основ, заключенных в душе каждого человека. Создается своего рода эталон душевной жизни, способный противостоять дурной и прозаической реальности[37]. Элегия сохраняет устойчивость своих жанровых границ до тех пор, пока она настаивает на принципиальной всеобщности воплощаемых эмоций, пока она возводит в абсолют либо гармоническую полноту душевного бытия (вариант Жуковского), либо его внутреннюю разорванность и противоречивость (вариант философских элегий Баратынского). На какой бы почве ни вырастала эта элегическая универсализация чувства — и в том, и в другом случае в структуре лирического образа общее господствует над индивидуальным, устойчивое над мгновенным, рефлективное над непосредственным.
Жанровые устои элегии начинают рушиться тогда, когда поэзия устанавливает художественный контакт с исторически конкретной, неповторимо-индивидуальной, подвижной и противоречивой сферой современного сознания. В лирике 20-х годов она становится «призмой», по-новому преломляющей круг элегических эмоций. Неделимое и монолитное в душевном мире, с точки зрения прежней элегии, теперь оказывается дробным, исполненным оттенков и градаций, бесконечно богатым. Достаточно вспомнить, к примеру, какой многогранной и обогащенной предстает в лирике Пушкина и Баратынского начала 20-х годов старая вполне традиционная элегическая эмоция «разочарования». Эта эмоция переключается на разные пласты душевного опыта: из философской она смещается в историко-социальную сферу, из социальной — в интимно-психологическую («демонический цикл» Пушкина 1823 года). В итоге романтическое разочарование предстает как всеобъемлющая реакция на мир. Но ее всеобъемлемость уже иного, не отвлеченно-универсального свойства, запрограммированного жанровым каноном. За нею чувствуются конкретно-исторические истоки, уровень мышления современной личности, отважившейся на радикальную переоценку ценностей. К тому же пушкинское разочарование начала 20-х годов внутренне активно, связано с поисками веры. В нем отразился сложный духовный процесс, исходный пункт которого — крушение прежних устоев жизнеощущения, конечная цель — обретение новой веры, учитывающей всю глубину жизненных противоречий.
Старая элегическая тема стояла как бы за порогом конкретного произведения. Застывшая, неподвижно универсальная, она не могла сообщить произведению тот неповторимый ракурс, который бы схватывал летучую и прихотливую стихию душевного мгновения, живое течение его, исполненное перепадов и противоречий. Такую тему можно было варьировать на разные лады, добиваясь своеобразия лишь за счет нового сцепления деталей, не посягая на перестройку жанрового целого. Только в романтической лирике 20-х годов, в поэзии Пушкина и в психологической лирике Баратынского, тема «врастает» в композиционную ткань стиха и существо ее раскрывается лишь в конкретном художественном контексте. Но это значит, что она утрачивает жанровый характер. Это значит, она всякий раз рождается заново. Формируя художественное целое, она и сама формируется в нем. Догматически жесткие связи между темой, способами ее композиционного развертывания и стилистическим ее воплощением в романтической лирике 20-х годов уже разорваны. Все эти элементы лирической структуры приходят в движение, а характер их сцепления определяется теперь лишь «логикой» становления конкретной художественной идеи. В романтической лирике тему уже невозможно слить с объектом изображения. К тому же и сам этот объект уже не заимствуется художником из традиционного арсенала «прекрасных предметов», а открывается всякий раз в потоке действительности, в движениях человеческой души. Воплощенный в произведении, он несет в себе неустранимый отпечаток субъективно-лирического жизнеощущения поэта, его художественной индивидуальности и всего богатства тех поэтических «превращений», которые происходят с ним в композиции произведения. В пушкинской лирике 20-х годов рождение темы (именно рождение, а не «выбор») зависит от того поэтического прообраза идеи, который, смутно проступая сквозь грани «магического кристалла», стоит в преддверии творческого свершения. Таким образом, процессы дробления и индивидуализации коснулись и лирической темы[38].
В лирике 20-х годов (в пушкинской лирике прежде всего) уже не существует монолитной жанровой темы и нормативно-рецептурного отношения к ней. Вряд ли нам раскроется даже тематическое своеобразие такого, к примеру, произведения Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823), если мы прикрепим к нему один из традиционных тематических «ярлыков» элегии. Весь строй лирического переживания здесь настолько сложен и противоречив, настолько неоднозначен, что покрыть это боренье чувств какой-либо плоской формулой из тематического реестра старой элегии решительно нет возможности. Вместо привычной элегической определенности в изображении эмоций здесь почти демонстративная неопределенность, за которой скрывается совершенно новое понимание душевной жизни. Сложными и нередко скрытными, проступающими лишь в образной перспективе стиха столкновениями чувств отмечен строй переживания и в других произведениях Пушкина 20-х годов. В «Желании славы», например, движение поэтической темы как будто предполагает легко обозримую смену (только смену) эмоций («И ныне желаю славы я…»), закрепленную, казалось бы, и композиционным контрастом временных форм изображения. На самом же деле за внешним смещением темы, «скользящей» из одного временного плана в другой, скрыт все тот же психологический исток, все то же постоянство страсти, не выгоревшей даже в горниле жесточайших душевных потрясений, слившейся с болью неотразимой обиды, с потребностью отмщения, своеобразного отмщения славой. Эта многогранность противоречивой, но единой лирической эмоции у Пушкина резко противостоит психологической одноплановости элегического мышления. Для обозначения такой эмоции понятие внешней, однолинейно определенной темы, в которое вполне укладывался круг переживаний старой элегии, оказывается несоизмеримо узким и поэтому ненужным. Оно уже ни на шаг не приближает нас к существу лирического конфликта.
Принципиально новое пушкинское понимание человеческой психологии, осознание противоречивого единства душевной жизни, стихийной целостности ее сложных, порою мимолетных, порою неосознанных проявлений — вот источник тех художественных сдвигов, которые ведут к отказу от жанровых установок в лирике. Конечно, этот исторический процесс ничего общего не имеет с молниеносной художественной реформой. Границы его достаточно протяженны. В пушкинской лирике они означены вехами целого десятилетия. В цепи художественных компонентов: тема, композиция, слово, между которыми жанровое мышление учредило четкую и устойчивую для каждого жанра взаимосвязь, — в этой цепи разные звенья с различной степенью пластичности высвобождались из-под диктата жанровых ограничений в лирике 20-х годов. Наиболее подвижными оказались тема и способы ее композиционного воплощения, наиболее стойким — поэтический «словарь» русской элегии.
Открыв новый предмет изображения, противоречивую сложность и динамику современного сознания, лирика 20-х годов должна была найти и новые формы его композиционного воплощения. Развитие лирики зрелого романтизма отмечено становлением таких форм, которые призваны воплотить современное состояние мира и души в единстве лирического мгновения. Лирика Пушкина в эту пору отмечена влечением к сюжетности. Вбирая в себя мир события, лирический образ, конечно же, не претендует на изображение его полноты и объемности, его протяженности в пространстве и во времени. Лирика довольствуется малою клеткой события, пределами ситуации. «Вообще говоря, — писал Гегель, — ситуация, в которой изображает себя поэт, не обязательно должна ограничиваться только внутренним миром как таковым — она может явиться и как конкретная, а тем самым и внешняя целостность, когда поэт показывает себя как в субъективном, так и в реальном своем бытии»[39]. Но рефлектирующая лирика классицизма и сентиментализма менее всего была склонна к подобной сюжетности. Она охотнее прибегала к изображению фона, атрибутов внешней обстановки, нередко шаблонных, увязанных с изображением души слишком внешним и условным способом: осенний пейзаж — меланхолия лирического героя, картина кладбища — размышления о смерти и т. п. Между тем в «сюжетной» лирике романтиков внешняя и внутренняя ситуация органично слиты. И это всякий раз неповторимое слияние. Ведь в композицию произведения входит жизненная мимолетность, «случай», высекающий искру мгновенного и острого соприкасания фактов внешнего опыта с интимным движением души. Лирическое переживание теперь получает выход не только во внешний мир, но и в потенциальную полноту сюжета. В произведении порою расставлены вехи, отсылающие воображение к психологически сложному и разветвленному процессу душевной жизни, из которого выхвачен лирическим переживанием и отграничен композиционно лишь один, но целостный эпизод. Эти новые принципы построения образа дают о себе знать, например, в таких произведениях Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Все кончено: меж нами связи нет…», «Ненастный день потух…», «Желание славы», «Я помню чудное мгновенье…», «В крови горит огонь желанья…», «Под небом голубым страны своей родной…», «Зимняя дорога», «Сожженное письмо», «Воспоминание» и так далее, и в стихотворениях Баратынского «Разуверение», «К…о», «Размолвка», «Уверение», «Ожидание».
Построение образа на основе лирической ситуации концентрировало композицию, укрепляя интерес к малым формам в лирике, демонстрируя их возможности.
Жанровые опоры постепенно исчерпывают себя в лирике 20-х годов. Но еще долго не исчезнет в художественном мышлении последующих десятилетий «память» о лирических жанрах. Отмирая как принцип построения лирического целого, жанровая традиция обретет как бы новую форму существования, превратившись в своеобразную границу отсчета художественных смещений, поэтических открытий, устремленных за пределы возможностей жанра. И долго еще элементы разомкнутых и «рассыпанных» жанровых стилей будут втягиваться динамикой новых, уже внежанровых замыслов в лирике, подчиняясь их преобразующей энергии. При этом элементы старого стиля далеко не всегда «поглощаются» и нейтрализуются новым художественным контекстом. Соприкасаясь с новыми принципами мышления, они порой раскрывают в себе такие возможности, которые не могли быть выявлены на соприродной им стилевой почве. Для этого им не хватало именно полярной стилевой среды.
Так преображаются, например, в стихотворениях «Прощание» и «Для берегов отчизны дальной…» старые элегические формулы оттого, что на них падает сразу как бы двойной свет: изнутри вызвавшей их к жизни жанровой традиции, и извне, из глубины того лирического контекста, в котором они возникают. Так преображаются в «прощальной» лирике и знакомые элегические ситуации оттого, что они вдвинуты в перспективу по-новому осмысленного лирического сюжета. Новая психологическая глубина открывается там, где элегические мотивы переключаются в иное эмоциональное измерение, в котором мир прошлого встает как мир, исполненный душевных потрясений, трагических страстей, острейших противоречий. Ведь прошлое предстает в произведениях прощального цикла не только как свершившееся, отошедшее в небытие и потому смягченное элегической музыкой прощанья, но и как совершающееся, вновь оживающее перед духовным взором поэта, воскрешенное во всей его мучительной реальности. И этот аспект изображения (прошлое как совершающееся) уже не подвластен элегической поэтике, рассматривавшей минувшее только в ретроспективе.
Но ведь оттого, что и на лирические ситуации «прощального» цикла брошен все тот же двойной свет, оттого, что, например, в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» умиротворяющая элегическая мелодия вплетается в драматически напряженное изображение страстей, как бы легкой, полупрозрачной дымкой отделяя прошлое от настоящего, — от этого лирическая композиция Пушкина получает особую многомерность. Элегическая мелодика в этом произведении стремится заковать в гармонически уравновешенные формы душевную стихию, отмеченную трагической дисгармонией. Но «центростремительная», гармонизирующая тенденция не получает преобладания в лирических композициях прощального цикла. Сталкиваясь с совершенно противоположным осмыслением душевного бытия, столь далеким от жанрового кругозора элегии, элегический стиль утрачивает здесь свои жанровые установки. Поэтика пушкинского «Заклинания» убеждает в этом с особенной очевидностью.
«Заклинание» — произведение, отмеченное редкостной густотой элегических формул. Здесь как будто бы оживают на короткий срок и схемы лирических ситуаций (клятва верности умершей возлюбленной, мольба о запредельном свидании), застывшие в результате многочисленных повторений, стандартизованные традицией. Это тем более неожиданно, что в поздней пушкинской лирике уже завершается глубинная перестройка элегического жанра. Даже внешне, с точки зрения выбора жизненных сфер, он утрачивает традиционно четкую определенность своих границ. Пушкин в ту пору уже прощается с элегией. Неуклонно нарастающий в лирике 20-х годов процесс размывания жанровых барьеров, сближения замкнутых жанровых контекстов приводит в 30-е годы к созданию произведений («Осень», «Вновь я посетил…» и др.), образная система которых не может быть осмыслена путем соотнесения ее с эталонами конкретного лирического жанра.
И вот, прощаясь с элегией, Пушкин неожиданно изобильно воскрешает ее традиционный «реквизит». Конечно, поэт и прежде подключал элегическую стилистику, исподволь «снимая» ее, нейтрализуя ее внеиндивидуальный эффект действием принципиально новых способов построения лирической мысли. И, например, в стихотворении «Под небом голубым страны своей родной» (1826), близком к «Заклинанию» характером душевного конфликта, по верному наблюдению Лидии Гинзбург, «смысловое соотношение условно-поэтических формул перестроено изнутри неким психологическим противоречием»[40]. Однако эта перестройка носила еще отпечаток художественного поиска. Условность элегической ситуации была сломана резко. Несвойственные данному жанру сочетания слов, обусловленные новизной психологической коллизии, слишком очевидно разрежали действие привычных элегических сигналов. Да и сигналы эти были расставлены в композиции стиха более скупо, чем в позднем «Заклинании».
Первое впечатление все же таково, что пушкинская элегия 1830 года воскрешает успешно изживаемые поэтом жанровые принципы стиля. Что ж, быть может, в поэтическом мышлении Пушкина тлел потаенный уголек рокового воспоминания, замкнувшего в себе отзвуки давней, трагически оборвавшейся страсти? И это воспоминание, вспыхивая время от времени, фатально тянуло за собой цепь привычных элегических ассоциаций? Или причина лишь в том, что путь новатора не укладывается в соблазнительные представления о прямолинейно-поступательной и неуклонной эволюции, не знающей срывов, попятных движений, переходов в другое русло, наконец, перерывов постепенности? Все это, возможно, и объясняло бы интересующий нас факт, если бы в «Заклинании» действительно имела место простая реставрация старых форм мышления.
Но в том-то и дело, что Пушкин здесь ни на йоту не отступает от найденных им способов воплощения эмоции, от предпринятого уже ранее пересмотра самой природы элегического переживания. И в том факте, что поэт обильно, быть может, обильнее, чем прежде, вводит в одно из своих поздних произведений реалии старой элегии, сказался не плен традиции, а, скорее, симптом окрепшей поэтической свободы в обращении с нею. Ведь структура элегии перестроена основательно и теперь ее новизне не угрожают даже скопления старых атрибутов: возросло сознание художественной власти над ними.
Поэтическая стихия старой элегии в «Заклинании» предстает, по существу, как стихия отчужденная.
Произведения прощального цикла («Прощание», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальной…») иногда именуют элегиями. И казалось бы, для этого есть основания. Сигналы элегического стиля (да и приметы элегической мелодики) действительно встречаются здесь. Стоит ли за ними живое жанровое содержание, или они нужны поэту лишь как «подсобный» материал для такой художественной постройки, «архитектура» которой решительно расходится с конструктивными принципами жанра? Это вопросы не абстрактно-теоретического порядка. От ответа на них зависит понимание существа и самобытности пушкинской лирической мысли. У Пушкина 30-х годов особое отношение к жанровой традиции в лирике. Чтобы яснее раскрылась его суть, необходимо хотя бы мельком оглянуться на судьбу этого жанра, как она складывалась в предшествующее десятилетие.
20-е годы XIX столетия в истории русской поэзии — эпоха, отмеченная интенсивной перестройкой изобразительной системы лирического стиха. Постепенно распадаются те монолитные в прошлом жанровые образования в лирике, устойчивость которых была подкреплена единством жанровой темы, способов ее композиционного развертывания, стилистическим единообразием слова. Строгая и стройная определенность таких жанровых организмов могла покоиться лишь на рационалистически твердых и непротиворечивых представлениях о душевной жизни личности. Сентиментальная лирика не смогла расшатать эти представления. Она только сместила элегическую тему в область новых эмоциональных шаблонов. Она скорее декларировала индивидуальность переживания, не в силах воплотить ее в неповторимо конкретной динамике чувства, в «сиюминутной» непосредственности его движений.
В художественном восприятии личности акцент на чувствительности лишь внешним образом посягал на рационалистические представления о человеке. «Чувство» сентименталистов, в сущности, столь же рационально, как и «разум» классицистов. В нем нет ничего от подлинной полноты его и противоречивости. Оно вполне выразимо для сентименталистов, прозрачно и постигаемо до последних своих глубин. Поэзия сентиментализма больше рассуждает о переживании, рассматривая его как внешнюю по отношению к лирическому «я» стихию (отсюда излюбленный прием персонификаций), нежели претворяет его в структурный принцип, во внутреннюю форму произведения. Эмоции сентименталиста переходят в слезливость именно потому, что они предмет любования и самосозерцания, которые всегда предполагают существование психологической дистанции, охлаждающей чувство. «Формула» сентиментального лиризма такова: я чувствую, что я чувствую (а не просто: я чувствую). Поэтому в лирических композициях сентименталистов нет и следа того ощущения непредвиденности в движении эмоций, которое есть в романтической лирике. Напротив, здесь все рассчитано на ровное движение лирического переживания, на прекрасную и несколько холодную гармонию стиля. Диссонансы, неровности, перебои ритма, переносы, призванные усилить экспрессивное напряжение стиха, умолчания и эллипсис, речевой жест и непосредственность лирической адресации — все то, что у романтиков создает впечатление переживания, как бы рождающегося по мере движения стиха, все это еще не освоено сентиментальной лирикой. Острые и неожиданные метафорические смещения смысла редки. Экспрессивная окраска слова устойчива и опирается на единство эмоционального тона. Двуплановое по семантике слово мыслимо только в аллегорическом, но не в символическом варианте. К тому же аллегория сентименталистов предельно прозрачна, ибо шаблонна, переходит из рук в руки, от одного поэта к другому. Эти общие принципы сентиментального стиля отражаются и на элегической поэтике. Элегия сентиментализма — унылая лирическая медитация, рефлектирующая по поводу чувства. Она варьирует крайне узкий круг устойчивых тем, персонифицируя эмоции, время от времени включая в свои композиции лирический пейзаж, построенный на стандартной обойме деталей.
Конечно, поэзия сентименталистов нарушила ценностную ориентацию жанров, закрепленную старой жанровой системой. С периферии ее на первый план выдвинулась элегия и послание. Элегия сделалась главенствующим жанром, а ее поэтика обрела способность проникать в другие жанровые владения. Несмотря на то что ко времени лицейского Пушкина «„естественная поза“ карамзинистов уже была близка к тому, чтобы обнаружилась условность ее»[36], для элегического жанра еще не наступила пора заката. Жуковский предельно субъективировал элегию, обогатил ее полнотою и сложностью психологического содержания, мелодически оснастил ее ритмико-интонационную систему. Элегия перестроилась. Но то была перестройка в пределах жанра, выявившая его новые возможности, а значит, и упрочившая на определенный срок его жизнеспособность. Жанровая сфера ранней романтической элегии — по-прежнему область душевных стихий, претендующих на универсальность. Ведь лирическое переживание Жуковского стремилось утвердить себя в качестве некоей идеальной нормы душевного бытия. За точку отсчета ценностей Жуковский берет мир неповторимо индивидуальной души. Но душа эта в его изображении оказывается равновеликой любому сознанию, устремленному к идеалу. Лирическое переживание Жуковского как бы заинтересовано поисками элементарных основ, заключенных в душе каждого человека. Создается своего рода эталон душевной жизни, способный противостоять дурной и прозаической реальности[37]. Элегия сохраняет устойчивость своих жанровых границ до тех пор, пока она настаивает на принципиальной всеобщности воплощаемых эмоций, пока она возводит в абсолют либо гармоническую полноту душевного бытия (вариант Жуковского), либо его внутреннюю разорванность и противоречивость (вариант философских элегий Баратынского). На какой бы почве ни вырастала эта элегическая универсализация чувства — и в том, и в другом случае в структуре лирического образа общее господствует над индивидуальным, устойчивое над мгновенным, рефлективное над непосредственным.
Жанровые устои элегии начинают рушиться тогда, когда поэзия устанавливает художественный контакт с исторически конкретной, неповторимо-индивидуальной, подвижной и противоречивой сферой современного сознания. В лирике 20-х годов она становится «призмой», по-новому преломляющей круг элегических эмоций. Неделимое и монолитное в душевном мире, с точки зрения прежней элегии, теперь оказывается дробным, исполненным оттенков и градаций, бесконечно богатым. Достаточно вспомнить, к примеру, какой многогранной и обогащенной предстает в лирике Пушкина и Баратынского начала 20-х годов старая вполне традиционная элегическая эмоция «разочарования». Эта эмоция переключается на разные пласты душевного опыта: из философской она смещается в историко-социальную сферу, из социальной — в интимно-психологическую («демонический цикл» Пушкина 1823 года). В итоге романтическое разочарование предстает как всеобъемлющая реакция на мир. Но ее всеобъемлемость уже иного, не отвлеченно-универсального свойства, запрограммированного жанровым каноном. За нею чувствуются конкретно-исторические истоки, уровень мышления современной личности, отважившейся на радикальную переоценку ценностей. К тому же пушкинское разочарование начала 20-х годов внутренне активно, связано с поисками веры. В нем отразился сложный духовный процесс, исходный пункт которого — крушение прежних устоев жизнеощущения, конечная цель — обретение новой веры, учитывающей всю глубину жизненных противоречий.
Старая элегическая тема стояла как бы за порогом конкретного произведения. Застывшая, неподвижно универсальная, она не могла сообщить произведению тот неповторимый ракурс, который бы схватывал летучую и прихотливую стихию душевного мгновения, живое течение его, исполненное перепадов и противоречий. Такую тему можно было варьировать на разные лады, добиваясь своеобразия лишь за счет нового сцепления деталей, не посягая на перестройку жанрового целого. Только в романтической лирике 20-х годов, в поэзии Пушкина и в психологической лирике Баратынского, тема «врастает» в композиционную ткань стиха и существо ее раскрывается лишь в конкретном художественном контексте. Но это значит, что она утрачивает жанровый характер. Это значит, она всякий раз рождается заново. Формируя художественное целое, она и сама формируется в нем. Догматически жесткие связи между темой, способами ее композиционного развертывания и стилистическим ее воплощением в романтической лирике 20-х годов уже разорваны. Все эти элементы лирической структуры приходят в движение, а характер их сцепления определяется теперь лишь «логикой» становления конкретной художественной идеи. В романтической лирике тему уже невозможно слить с объектом изображения. К тому же и сам этот объект уже не заимствуется художником из традиционного арсенала «прекрасных предметов», а открывается всякий раз в потоке действительности, в движениях человеческой души. Воплощенный в произведении, он несет в себе неустранимый отпечаток субъективно-лирического жизнеощущения поэта, его художественной индивидуальности и всего богатства тех поэтических «превращений», которые происходят с ним в композиции произведения. В пушкинской лирике 20-х годов рождение темы (именно рождение, а не «выбор») зависит от того поэтического прообраза идеи, который, смутно проступая сквозь грани «магического кристалла», стоит в преддверии творческого свершения. Таким образом, процессы дробления и индивидуализации коснулись и лирической темы[38].
В лирике 20-х годов (в пушкинской лирике прежде всего) уже не существует монолитной жанровой темы и нормативно-рецептурного отношения к ней. Вряд ли нам раскроется даже тематическое своеобразие такого, к примеру, произведения Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты» (1823), если мы прикрепим к нему один из традиционных тематических «ярлыков» элегии. Весь строй лирического переживания здесь настолько сложен и противоречив, настолько неоднозначен, что покрыть это боренье чувств какой-либо плоской формулой из тематического реестра старой элегии решительно нет возможности. Вместо привычной элегической определенности в изображении эмоций здесь почти демонстративная неопределенность, за которой скрывается совершенно новое понимание душевной жизни. Сложными и нередко скрытными, проступающими лишь в образной перспективе стиха столкновениями чувств отмечен строй переживания и в других произведениях Пушкина 20-х годов. В «Желании славы», например, движение поэтической темы как будто предполагает легко обозримую смену (только смену) эмоций («И ныне желаю славы я…»), закрепленную, казалось бы, и композиционным контрастом временных форм изображения. На самом же деле за внешним смещением темы, «скользящей» из одного временного плана в другой, скрыт все тот же психологический исток, все то же постоянство страсти, не выгоревшей даже в горниле жесточайших душевных потрясений, слившейся с болью неотразимой обиды, с потребностью отмщения, своеобразного отмщения славой. Эта многогранность противоречивой, но единой лирической эмоции у Пушкина резко противостоит психологической одноплановости элегического мышления. Для обозначения такой эмоции понятие внешней, однолинейно определенной темы, в которое вполне укладывался круг переживаний старой элегии, оказывается несоизмеримо узким и поэтому ненужным. Оно уже ни на шаг не приближает нас к существу лирического конфликта.
Принципиально новое пушкинское понимание человеческой психологии, осознание противоречивого единства душевной жизни, стихийной целостности ее сложных, порою мимолетных, порою неосознанных проявлений — вот источник тех художественных сдвигов, которые ведут к отказу от жанровых установок в лирике. Конечно, этот исторический процесс ничего общего не имеет с молниеносной художественной реформой. Границы его достаточно протяженны. В пушкинской лирике они означены вехами целого десятилетия. В цепи художественных компонентов: тема, композиция, слово, между которыми жанровое мышление учредило четкую и устойчивую для каждого жанра взаимосвязь, — в этой цепи разные звенья с различной степенью пластичности высвобождались из-под диктата жанровых ограничений в лирике 20-х годов. Наиболее подвижными оказались тема и способы ее композиционного воплощения, наиболее стойким — поэтический «словарь» русской элегии.
Открыв новый предмет изображения, противоречивую сложность и динамику современного сознания, лирика 20-х годов должна была найти и новые формы его композиционного воплощения. Развитие лирики зрелого романтизма отмечено становлением таких форм, которые призваны воплотить современное состояние мира и души в единстве лирического мгновения. Лирика Пушкина в эту пору отмечена влечением к сюжетности. Вбирая в себя мир события, лирический образ, конечно же, не претендует на изображение его полноты и объемности, его протяженности в пространстве и во времени. Лирика довольствуется малою клеткой события, пределами ситуации. «Вообще говоря, — писал Гегель, — ситуация, в которой изображает себя поэт, не обязательно должна ограничиваться только внутренним миром как таковым — она может явиться и как конкретная, а тем самым и внешняя целостность, когда поэт показывает себя как в субъективном, так и в реальном своем бытии»[39]. Но рефлектирующая лирика классицизма и сентиментализма менее всего была склонна к подобной сюжетности. Она охотнее прибегала к изображению фона, атрибутов внешней обстановки, нередко шаблонных, увязанных с изображением души слишком внешним и условным способом: осенний пейзаж — меланхолия лирического героя, картина кладбища — размышления о смерти и т. п. Между тем в «сюжетной» лирике романтиков внешняя и внутренняя ситуация органично слиты. И это всякий раз неповторимое слияние. Ведь в композицию произведения входит жизненная мимолетность, «случай», высекающий искру мгновенного и острого соприкасания фактов внешнего опыта с интимным движением души. Лирическое переживание теперь получает выход не только во внешний мир, но и в потенциальную полноту сюжета. В произведении порою расставлены вехи, отсылающие воображение к психологически сложному и разветвленному процессу душевной жизни, из которого выхвачен лирическим переживанием и отграничен композиционно лишь один, но целостный эпизод. Эти новые принципы построения образа дают о себе знать, например, в таких произведениях Пушкина, как «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Все кончено: меж нами связи нет…», «Ненастный день потух…», «Желание славы», «Я помню чудное мгновенье…», «В крови горит огонь желанья…», «Под небом голубым страны своей родной…», «Зимняя дорога», «Сожженное письмо», «Воспоминание» и так далее, и в стихотворениях Баратынского «Разуверение», «К…о», «Размолвка», «Уверение», «Ожидание».
Построение образа на основе лирической ситуации концентрировало композицию, укрепляя интерес к малым формам в лирике, демонстрируя их возможности.
Жанровые опоры постепенно исчерпывают себя в лирике 20-х годов. Но еще долго не исчезнет в художественном мышлении последующих десятилетий «память» о лирических жанрах. Отмирая как принцип построения лирического целого, жанровая традиция обретет как бы новую форму существования, превратившись в своеобразную границу отсчета художественных смещений, поэтических открытий, устремленных за пределы возможностей жанра. И долго еще элементы разомкнутых и «рассыпанных» жанровых стилей будут втягиваться динамикой новых, уже внежанровых замыслов в лирике, подчиняясь их преобразующей энергии. При этом элементы старого стиля далеко не всегда «поглощаются» и нейтрализуются новым художественным контекстом. Соприкасаясь с новыми принципами мышления, они порой раскрывают в себе такие возможности, которые не могли быть выявлены на соприродной им стилевой почве. Для этого им не хватало именно полярной стилевой среды.
Так преображаются, например, в стихотворениях «Прощание» и «Для берегов отчизны дальной…» старые элегические формулы оттого, что на них падает сразу как бы двойной свет: изнутри вызвавшей их к жизни жанровой традиции, и извне, из глубины того лирического контекста, в котором они возникают. Так преображаются в «прощальной» лирике и знакомые элегические ситуации оттого, что они вдвинуты в перспективу по-новому осмысленного лирического сюжета. Новая психологическая глубина открывается там, где элегические мотивы переключаются в иное эмоциональное измерение, в котором мир прошлого встает как мир, исполненный душевных потрясений, трагических страстей, острейших противоречий. Ведь прошлое предстает в произведениях прощального цикла не только как свершившееся, отошедшее в небытие и потому смягченное элегической музыкой прощанья, но и как совершающееся, вновь оживающее перед духовным взором поэта, воскрешенное во всей его мучительной реальности. И этот аспект изображения (прошлое как совершающееся) уже не подвластен элегической поэтике, рассматривавшей минувшее только в ретроспективе.
Но ведь оттого, что и на лирические ситуации «прощального» цикла брошен все тот же двойной свет, оттого, что, например, в стихотворении «Для берегов отчизны дальной…» умиротворяющая элегическая мелодия вплетается в драматически напряженное изображение страстей, как бы легкой, полупрозрачной дымкой отделяя прошлое от настоящего, — от этого лирическая композиция Пушкина получает особую многомерность. Элегическая мелодика в этом произведении стремится заковать в гармонически уравновешенные формы душевную стихию, отмеченную трагической дисгармонией. Но «центростремительная», гармонизирующая тенденция не получает преобладания в лирических композициях прощального цикла. Сталкиваясь с совершенно противоположным осмыслением душевного бытия, столь далеким от жанрового кругозора элегии, элегический стиль утрачивает здесь свои жанровые установки. Поэтика пушкинского «Заклинания» убеждает в этом с особенной очевидностью.
«Заклинание» — произведение, отмеченное редкостной густотой элегических формул. Здесь как будто бы оживают на короткий срок и схемы лирических ситуаций (клятва верности умершей возлюбленной, мольба о запредельном свидании), застывшие в результате многочисленных повторений, стандартизованные традицией. Это тем более неожиданно, что в поздней пушкинской лирике уже завершается глубинная перестройка элегического жанра. Даже внешне, с точки зрения выбора жизненных сфер, он утрачивает традиционно четкую определенность своих границ. Пушкин в ту пору уже прощается с элегией. Неуклонно нарастающий в лирике 20-х годов процесс размывания жанровых барьеров, сближения замкнутых жанровых контекстов приводит в 30-е годы к созданию произведений («Осень», «Вновь я посетил…» и др.), образная система которых не может быть осмыслена путем соотнесения ее с эталонами конкретного лирического жанра.
И вот, прощаясь с элегией, Пушкин неожиданно изобильно воскрешает ее традиционный «реквизит». Конечно, поэт и прежде подключал элегическую стилистику, исподволь «снимая» ее, нейтрализуя ее внеиндивидуальный эффект действием принципиально новых способов построения лирической мысли. И, например, в стихотворении «Под небом голубым страны своей родной» (1826), близком к «Заклинанию» характером душевного конфликта, по верному наблюдению Лидии Гинзбург, «смысловое соотношение условно-поэтических формул перестроено изнутри неким психологическим противоречием»[40]. Однако эта перестройка носила еще отпечаток художественного поиска. Условность элегической ситуации была сломана резко. Несвойственные данному жанру сочетания слов, обусловленные новизной психологической коллизии, слишком очевидно разрежали действие привычных элегических сигналов. Да и сигналы эти были расставлены в композиции стиха более скупо, чем в позднем «Заклинании».
Первое впечатление все же таково, что пушкинская элегия 1830 года воскрешает успешно изживаемые поэтом жанровые принципы стиля. Что ж, быть может, в поэтическом мышлении Пушкина тлел потаенный уголек рокового воспоминания, замкнувшего в себе отзвуки давней, трагически оборвавшейся страсти? И это воспоминание, вспыхивая время от времени, фатально тянуло за собой цепь привычных элегических ассоциаций? Или причина лишь в том, что путь новатора не укладывается в соблазнительные представления о прямолинейно-поступательной и неуклонной эволюции, не знающей срывов, попятных движений, переходов в другое русло, наконец, перерывов постепенности? Все это, возможно, и объясняло бы интересующий нас факт, если бы в «Заклинании» действительно имела место простая реставрация старых форм мышления.
Но в том-то и дело, что Пушкин здесь ни на йоту не отступает от найденных им способов воплощения эмоции, от предпринятого уже ранее пересмотра самой природы элегического переживания. И в том факте, что поэт обильно, быть может, обильнее, чем прежде, вводит в одно из своих поздних произведений реалии старой элегии, сказался не плен традиции, а, скорее, симптом окрепшей поэтической свободы в обращении с нею. Ведь структура элегии перестроена основательно и теперь ее новизне не угрожают даже скопления старых атрибутов: возросло сознание художественной власти над ними.
Поэтическая стихия старой элегии в «Заклинании» предстает, по существу, как стихия отчужденная.
 Глава V
«Ювеналов бич»
Глава V
«Ювеналов бич»
 Конкретно-социальные противоречия эпохи в болдинской лирике чаще всего располагаются за гранью стиха, угадываются на стыках философско-лирических конфликтов как некая исходная «инстанция», определяющая общее направление пушкинских поэтических раздумий, их экспрессивную тональность. Но есть произведения, в которых социальные коллизии времени воплощены остро и открыто, входят в тематические и композиционные сферы стиха. Возникают образы пушкинских врагов. В круг этих образов входит и конкретная личность Булгарина, и «толпа» как враждебное социально-этическое целое («Ответ анониму»), и, наконец, враждебная Пушкину «идея», принцип подхода к действительности («Румяный критик мой…»). В зависимости от объекта изображения экспрессивный строй стиха предполагает или беспощадное сатирическое изобличение или драматически насыщенную жесткую и тоскливую иронию.
В болдинскую осень 1830 года Пушкин создает вторую эпиграмму на Булгарина, столь же гневную и хлесткую, как и первая, но несколько необычную по композиции. Пушкинская эпиграмма, как и всякая эпиграмма, обычно накапливает силу сатирического удара к финалу.
Конкретно-социальные противоречия эпохи в болдинской лирике чаще всего располагаются за гранью стиха, угадываются на стыках философско-лирических конфликтов как некая исходная «инстанция», определяющая общее направление пушкинских поэтических раздумий, их экспрессивную тональность. Но есть произведения, в которых социальные коллизии времени воплощены остро и открыто, входят в тематические и композиционные сферы стиха. Возникают образы пушкинских врагов. В круг этих образов входит и конкретная личность Булгарина, и «толпа» как враждебное социально-этическое целое («Ответ анониму»), и, наконец, враждебная Пушкину «идея», принцип подхода к действительности («Румяный критик мой…»). В зависимости от объекта изображения экспрессивный строй стиха предполагает или беспощадное сатирическое изобличение или драматически насыщенную жесткую и тоскливую иронию.
В болдинскую осень 1830 года Пушкин создает вторую эпиграмму на Булгарина, столь же гневную и хлесткую, как и первая, но несколько необычную по композиции. Пушкинская эпиграмма, как и всякая эпиграмма, обычно накапливает силу сатирического удара к финалу.
 Вместо заключения
Вместо заключения
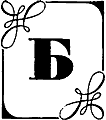 Болдинская лирика в цепи пушкинского творчества отмечена единством такого этапа пушкинской судьбы, в кратковременности которого спрессована огромная энергия накопившихся замыслов, впечатлений прежнего опыта и только рождающихся устремлений в новые дали искусства. Пушкин здесь на переломе бытия (личного и художественного), и поэтическая мысль его одновременно распахнута и в прошлое и в грядущее. Художественно закрепляя сложившиеся пласты размышлений, она порывается расторгнуть завесу времени, предугадать возможные контуры дальнейшего пути. Нам не дано проникнуть в индивидуально-психологические истоки пушкинского творчества этой поры. Мы судим о них лишь по результатам, а такие суждения неизбежно предположительны. Они неизбежно опускают неповторимый сплав личного и внеличного, который несло в себе пушкинское сознание, прежде чем оно перешагнуло в область творчества. Сплав этот не восстановим в подлинной сложности и полноте своей. Он останется тайною пушкинского бытия и никогда не раскроется окончательно навстречу каким бы то ни было реконструкциям, на какую бы объективность они ни посягали. Ясно только одно: необычайная сосредоточенность в кратковременном акте болдинского творчества всех усилий пушкинской мысли, чувства и воли, сосредоточенность к которой, по всей вероятности, подталкивала сама жизнь. Тот выпадающий на начало 30-х годов разворот пушкинской судьбы и тот общий фон жизни, тревожный и напряженный, неустойчивость которого, по-видимому перекликалась в сознании Пушкина с неустойчивостью его собственного бытия, с ощущением биографического перепутья. В вечной правоте труда «молчаливого спутника ночи», правоте, не зависящей ни от каких перепадов жизни, Пушкину виделись, быть может, не только опоры, но и возможности схватки с судьбой, «упоение в бою», к которому, вероятно примешивалось, если не ощущение «края бездны», то чувство особой остроты бытия («Царица грозная Чума» напоминала о себе близостью карантинных кордонов)… Но и эти предположения уже на грани риска, тем более что и они, конечно же, ни в малой мере не в силах приблизиться к последней психологической загадке болдинского творчества по той простой причине, что это, наконец, загадка пушкинского гения. Поэтому, не гоняясь за неуловимым, оглянемся еще раз на основные направления пушкинской лирической мысли, как они воплощены в реальности болдинского творчества.
В разнообразии жизненных сфер, которые вовлечены в кругозор болдинской лирики, проступает знакомая нам уникальная пластичность пушкинского мышления. И в этом нет ничего необычного, ничего, что придавало бы особое лицо поэзии болдинской осени. Необычное в том, что эти свойства пушкинского гения торжествуют в условиях драматической духовной и жизненной ситуации, которая, казалось бы, могла склонить фантазию поэта скорее к всеподавляющему господству субъективного тона и субъективных форм воплощения мысли. И если здесь все-таки торжествует пушкинский «протеизм», то это побуждает предположить, что самое стремление поэта направить полет воображения к жизненным сферам, порою весьма далеким от непосредственных раздражителей эпохи, овладеть их неподатливо-инородной стихией, — это стремление, вероятно, и было для Пушкина болдинской поры одним из способов преодолеть диссонансы собственного сознания, восстановить творчески плодоносное равновесие души. Эта мощь и зоркость объективно-художнического зрения тем поразительнее, что она сказывается даже в субъективно-исповедальной лирике. Не только «Герой», но и «Элегия» и «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» при всей их открытой, ничем не стесненной исповедальности заключают в себе как бы легкую тень объективно всеобъемлющего авторского взгляда. Она отражается в пушкинской способности подняться над острейшими конфликтами собственного душевного момента, расщепить противоборствующие начала сознания, увидеть в них одновременно и ценности и утраты. Здесь истоки своеобразной диалогичности исповедальной лирики Пушкина. Но все это лишь одна грань пушкинского лирического мышления — полюс его объективности и пластичности.
Сложность пушкинского лиризма этой поры вряд ли раскроется нам, если мы не почувствуем, как в самых, казалось бы, объективных (по предметным сферам и кругу конфликтов) его воплощениях, сквозь барьеры жанра (антологическая пьеса), нацеленного на максимально возможное для лирики самоустранение лирического субъекта, все-таки звучит в глубине все та же печально-суровая и сдержанно-страстная нота, которая сообщает болдинским стихотворениям единство господствующего эмоционального тона. А в ассоциативных сферах конфликтов, которые плоть от плоти изображаемого мира, отделенного от пушкинской действительности толщей веков, едва осязаемо, но все-таки ощутимо напоминают о себе «нервные центры» и «болевые точки» авторских духовных исканий начала 30-х годов. Это побуждает еще раз задуматься над природою пушкинского «протеизма». Как бы ни был огромен дар перевоплощения пушкинской мысли и умения пользоваться языками прошлых культурных эпох, он все-таки не сводится к пассивному растворению в самодовлеющей целостности изображаемых культур и национальных характеров. И субъективно авторское начало даже здесь дает о себе знать не только в неизгладимом отпечатке пушкинского стиля и всего, что исходит от родовых примет индивидуальности поэта. Оно напоминает о себе едва заметной примесью пушкинского психологического опыта, вполне конкретного, идущего от переживания современности. Было бы вульгарным во всем видеть одну лишь проекцию этих настроений или все привязывать к злобе дня. Но и не замечать эти отголоски пушкинской судьбы было бы слишком расточительно. В философской лирике своей Пушкин предстает как целостная личность, во всем многообразии биографического и исторического опыта, а не только как носитель исключительно философского взгляда на мир. Пушкин не закрепляет за поэзией мысли какую-либо «устойчивую» сферу действительности (мир природы, например), как это было свойственно лирике любомудров или Тютчева. Пушкинская философская мысль свободно внедряется в различные напластования бытия, и ее широкий и вольный поток захватывает в свое русло и область быта и область истории. Но, быть может, важнее всего осознать, как прочно сплетается эта мысль с отражениями пушкинского жизненного пути, даже там, где она восходит к широчайшим общечеловеческим обобщениям. Здесь нет и следа той эстетической резеркции биографического опыта, которая отличает философскую лирику любомудров, Баратынского или Тютчева, еще не переступившего порог «денисьевской драмы». Но здесь, естественно, нет и тени биографического эмпиризма. Лирико-философская мысль Пушкина преломляет в себе не случайности его биографии, а лишь те вехи ее, в которых отстоялся опыт поколения или отразились вечные противоречия человеческой души. Но преломляя и отбирая биографический материал, она оставляет нам драгоценное ощущение всей конкретности пушкинской судьбы, и именно в этом своем качестве пушкинская поэзия мысли уникальна. В болдинской философской лирике воплощен формировательный процесс авторской мысли о мире, неожиданно возникающие импульсы и толчки ассоциаций, сдвиги настроений, словом вся непосредственность и живая энергия размышления. Воплощена в ней и вечно убегающая вдаль перспектива истины, образ которой переливается у Пушкина неисчерпаемым богатством граней, диалектическими схождениями крайностей. Дальнозоркость и мужество пушкинской мысли в болдинский период заключаются в том, что, ощущая острейшую потребность в «животворящих святынях», она отвергает все узкое и иллюзорное, все, что готово обернуться догмой и схемой, с их соблазнительной, но и безжизненной стройностью, доверяясь лишь ходу самой жизни, «грядущего волнуемому морю». В пушкинской «поэзии мысли» подспудно бьется неуничтожимый пульс истории, даже там, где историческая реальность не входит в предметный план изображения. Он резонирует в динамических разворотах образа судьбы, в смелых сопряжениях ее временных этапов (прошлого и грядущего) и, наконец, в готовности на самой последней черте разомкнуть художественную картину размышления в непредсказуемый поток действительности.
Стремление Пушкина овладеть противоречиями собственного сознания и подняться на крыльях бесстрашной мысли над превратностями судьбы определяет характерное для болдинской лирики сочетание прозрачной гармонии стиха, пронизанного таинственным светом бездомных глубин, с небывалой энергией переживания, самая сдержанность которой лишь оттеняет внутренний накал пушкинской мысли, силу ее «сокрытого жара». Но эта основная тональность лиризма не исключает ни всплесков трагических страстей («Бесы», «Заклинание»), ни потаенных движений темы и слова («Заклинание»), ни экспрессивных «перебоев» в динамике ритма и интонации.
В начале 30-х годов лирика Пушкина окончательно расстается с жанровыми формами мышления. Но она продолжает пользоваться жанровыми стилями как арсеналом изобразительных средств. Пушкинская свобода в обращении с ними — предпосылка того свободного мышления изобразительными знаками и символами традиции, которое возможно лишь на почве разомкнутых жанровых контекстов и уже за чертою жанрового мышления. Материал жанровых стилей, слитый с внутренней формой лирического стиха в пору жизнеспособности жанровых законов, на новом этапе, когда распалось структурное единство жанров, но когда еще свежа эстетическая память о них, смещается прежде всего в предметный слой произведения, в его изобразительную сферу. В этом убеждают пушкинские формы вовлечения жанрового слова и жанровых мотивов в композицию «Заклинания», «Прощания», «Для берегов отчизны дальной…».
В условияхживой памяти о жанрах художественное соприкасание с их традицией тем острее, чем индивидуальнее втягивающий ее лирический контекст. В таких условиях жанровое слово у Пушкина становится «двухголосым»: в нем пересекается старый экспрессивный потенциал и новые наслоения образного смысла, идущие из глубины окружающей его образной среды. Так обретают неожиданную полноту и объемность поэтического значения старые элегические «формулы» в лирике болдинской поры.
По логике темы, сосредоточенной на переломном этапе творчества Пушкина, в анализе его стиля мы пытались особенно оттенить все, что связано с отходом от традиции, с поэтической дерзостью пушкинской мысли. Но нужно ли говорить, что Пушкину ничто так не было чуждо, как эстетический нигилизм, пренебрежение традицией. В самом отталкивании от нее он никогда не стремился сделать последний шаг, за которым начинается полный разрыв с художественным опытом прошлого. Поэтому важно осознать не только смысл пушкинской перестройки жанрового материала, важно понять и мотивы его обильного подключения в поэтическую ткань болдинских стихотворений. Нимало не ослабляя впечатления резкой индивидуальности лирических конфликтов «прощального» цикла, их новой внежанровой природы, элегическое слово создает здесь неповторимый колорит минувшего. Старые ассоциации, притаившиеся в нем, приглушенные в новом контексте, но не оттесненные в нем до конца, «работают», если можно так выразиться, на лирическую экспрессию воспоминания. Образ минувшего с его романтическими бурями предстает в соприродном ему стилевом преломлении. Другое дело, что ни экспрессией минувшего, ни его элегическим колоритом ни в малой степени не исчерпывается в «прощальном» цикле вся полнота пушкинской мысли, и уже тем более истоки ее напряжения. Они, эти истоки (как мы пытались показать), — в столкновении романтически максимальных притязаний на вечную неувядаемость любви с трезвым и ясным, хотя и причиняющим жгучую боль, ощущением охлаждающей реки времени. А этот поворот конфликта, психологическая глубина его воплощения и сложное сплетение эмоций в единстве лирического переживания, существование в нем подводного течения, не сразу прорывающегося в слово, и самый «рисунок слова», раскованно скользящего то в биографическую конкретность, то в быт, то в стихию чужой речи, нацеленного на диалогический контакт с «собеседником», — все это неизмеримо далеко от жанровых принципов элегии.
В то же время картина болдинской лирики высвечивает неравномерность жанровых процессов в поэзии Пушкина. Отказ от жанрового мышления в лирике не исключает стабилизации отдельных жанров, обладавших нерушимой определенностью предметной сферы, ограниченных в своих контактах с миром современного сознания. Такова пушкинская «анфологическая эпиграмма», таков и вообще антологический жанр, удержавшийся в потоке русской лирики послепушкинской поры, перешагнувший за порог середины века (антологии А. Майкова, Н. Щербины, А. Фета).
Болдинская лирика Пушкина, как уже говорилось, устремлена в даль его собственного поэтического развития в 30-е годы. Здесь рождаются темы и первые наброски образов, которым будет суждена дальнейшая жизнь. Образ творческого упоения гармонией в сочетании с «прощальною улыбкою» любви («Элегия») как будто уже предугадывает картину идеального бытия поэта в обители «трудов и чистых нег», запечатленную в стихотворении 1834 года «Пора, мой друг, пора». От «анфологических эпиграмм» Пушкина тянется нить к его более поздним «подражаниям древним». Библейские ассоциации, время от времени возникающие в болдинской лирике, на последнем этапе пушкинского творчества развернутся в лирических композициях 1836 года («Мирская власть», «Подражание итальянскому». «Отцы пустынники и жены непорочны») с их сумрачным, тревожным лиризмом и смелыми выходами в современность («Мирская власть»). Но, пожалуй, особенно гулким и многозначительным эхом отзовется в поздней лирике Пушкина мечта о бегстве от людей, воплощенная в стихотворении «Когда порой воспоминанье». Здесь исход целой вереницы пушкинских образов, странников, беглецов, гонимых («Гонимый роком самовластья», «Не дай мне бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора», «Странник», «Напрасно я бегу к сионским высотам»), которая внятно и тревожно перекликается с ходом пушкинской судьбы в 30-е годы. Во всяком случае здесь звенит какая-то очень личная и очень важная струна позднего пушкинского жизнеощущения. Недаром же Гоголь писал о пушкинском «Страннике» как о произведении, в котором «звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния». Раскрыть образную ткань и резонанс этих стихотворений еще предстоит пушкинистике.
Болдинская лирика в цепи пушкинского творчества отмечена единством такого этапа пушкинской судьбы, в кратковременности которого спрессована огромная энергия накопившихся замыслов, впечатлений прежнего опыта и только рождающихся устремлений в новые дали искусства. Пушкин здесь на переломе бытия (личного и художественного), и поэтическая мысль его одновременно распахнута и в прошлое и в грядущее. Художественно закрепляя сложившиеся пласты размышлений, она порывается расторгнуть завесу времени, предугадать возможные контуры дальнейшего пути. Нам не дано проникнуть в индивидуально-психологические истоки пушкинского творчества этой поры. Мы судим о них лишь по результатам, а такие суждения неизбежно предположительны. Они неизбежно опускают неповторимый сплав личного и внеличного, который несло в себе пушкинское сознание, прежде чем оно перешагнуло в область творчества. Сплав этот не восстановим в подлинной сложности и полноте своей. Он останется тайною пушкинского бытия и никогда не раскроется окончательно навстречу каким бы то ни было реконструкциям, на какую бы объективность они ни посягали. Ясно только одно: необычайная сосредоточенность в кратковременном акте болдинского творчества всех усилий пушкинской мысли, чувства и воли, сосредоточенность к которой, по всей вероятности, подталкивала сама жизнь. Тот выпадающий на начало 30-х годов разворот пушкинской судьбы и тот общий фон жизни, тревожный и напряженный, неустойчивость которого, по-видимому перекликалась в сознании Пушкина с неустойчивостью его собственного бытия, с ощущением биографического перепутья. В вечной правоте труда «молчаливого спутника ночи», правоте, не зависящей ни от каких перепадов жизни, Пушкину виделись, быть может, не только опоры, но и возможности схватки с судьбой, «упоение в бою», к которому, вероятно примешивалось, если не ощущение «края бездны», то чувство особой остроты бытия («Царица грозная Чума» напоминала о себе близостью карантинных кордонов)… Но и эти предположения уже на грани риска, тем более что и они, конечно же, ни в малой мере не в силах приблизиться к последней психологической загадке болдинского творчества по той простой причине, что это, наконец, загадка пушкинского гения. Поэтому, не гоняясь за неуловимым, оглянемся еще раз на основные направления пушкинской лирической мысли, как они воплощены в реальности болдинского творчества.
В разнообразии жизненных сфер, которые вовлечены в кругозор болдинской лирики, проступает знакомая нам уникальная пластичность пушкинского мышления. И в этом нет ничего необычного, ничего, что придавало бы особое лицо поэзии болдинской осени. Необычное в том, что эти свойства пушкинского гения торжествуют в условиях драматической духовной и жизненной ситуации, которая, казалось бы, могла склонить фантазию поэта скорее к всеподавляющему господству субъективного тона и субъективных форм воплощения мысли. И если здесь все-таки торжествует пушкинский «протеизм», то это побуждает предположить, что самое стремление поэта направить полет воображения к жизненным сферам, порою весьма далеким от непосредственных раздражителей эпохи, овладеть их неподатливо-инородной стихией, — это стремление, вероятно, и было для Пушкина болдинской поры одним из способов преодолеть диссонансы собственного сознания, восстановить творчески плодоносное равновесие души. Эта мощь и зоркость объективно-художнического зрения тем поразительнее, что она сказывается даже в субъективно-исповедальной лирике. Не только «Герой», но и «Элегия» и «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» при всей их открытой, ничем не стесненной исповедальности заключают в себе как бы легкую тень объективно всеобъемлющего авторского взгляда. Она отражается в пушкинской способности подняться над острейшими конфликтами собственного душевного момента, расщепить противоборствующие начала сознания, увидеть в них одновременно и ценности и утраты. Здесь истоки своеобразной диалогичности исповедальной лирики Пушкина. Но все это лишь одна грань пушкинского лирического мышления — полюс его объективности и пластичности.
Сложность пушкинского лиризма этой поры вряд ли раскроется нам, если мы не почувствуем, как в самых, казалось бы, объективных (по предметным сферам и кругу конфликтов) его воплощениях, сквозь барьеры жанра (антологическая пьеса), нацеленного на максимально возможное для лирики самоустранение лирического субъекта, все-таки звучит в глубине все та же печально-суровая и сдержанно-страстная нота, которая сообщает болдинским стихотворениям единство господствующего эмоционального тона. А в ассоциативных сферах конфликтов, которые плоть от плоти изображаемого мира, отделенного от пушкинской действительности толщей веков, едва осязаемо, но все-таки ощутимо напоминают о себе «нервные центры» и «болевые точки» авторских духовных исканий начала 30-х годов. Это побуждает еще раз задуматься над природою пушкинского «протеизма». Как бы ни был огромен дар перевоплощения пушкинской мысли и умения пользоваться языками прошлых культурных эпох, он все-таки не сводится к пассивному растворению в самодовлеющей целостности изображаемых культур и национальных характеров. И субъективно авторское начало даже здесь дает о себе знать не только в неизгладимом отпечатке пушкинского стиля и всего, что исходит от родовых примет индивидуальности поэта. Оно напоминает о себе едва заметной примесью пушкинского психологического опыта, вполне конкретного, идущего от переживания современности. Было бы вульгарным во всем видеть одну лишь проекцию этих настроений или все привязывать к злобе дня. Но и не замечать эти отголоски пушкинской судьбы было бы слишком расточительно. В философской лирике своей Пушкин предстает как целостная личность, во всем многообразии биографического и исторического опыта, а не только как носитель исключительно философского взгляда на мир. Пушкин не закрепляет за поэзией мысли какую-либо «устойчивую» сферу действительности (мир природы, например), как это было свойственно лирике любомудров или Тютчева. Пушкинская философская мысль свободно внедряется в различные напластования бытия, и ее широкий и вольный поток захватывает в свое русло и область быта и область истории. Но, быть может, важнее всего осознать, как прочно сплетается эта мысль с отражениями пушкинского жизненного пути, даже там, где она восходит к широчайшим общечеловеческим обобщениям. Здесь нет и следа той эстетической резеркции биографического опыта, которая отличает философскую лирику любомудров, Баратынского или Тютчева, еще не переступившего порог «денисьевской драмы». Но здесь, естественно, нет и тени биографического эмпиризма. Лирико-философская мысль Пушкина преломляет в себе не случайности его биографии, а лишь те вехи ее, в которых отстоялся опыт поколения или отразились вечные противоречия человеческой души. Но преломляя и отбирая биографический материал, она оставляет нам драгоценное ощущение всей конкретности пушкинской судьбы, и именно в этом своем качестве пушкинская поэзия мысли уникальна. В болдинской философской лирике воплощен формировательный процесс авторской мысли о мире, неожиданно возникающие импульсы и толчки ассоциаций, сдвиги настроений, словом вся непосредственность и живая энергия размышления. Воплощена в ней и вечно убегающая вдаль перспектива истины, образ которой переливается у Пушкина неисчерпаемым богатством граней, диалектическими схождениями крайностей. Дальнозоркость и мужество пушкинской мысли в болдинский период заключаются в том, что, ощущая острейшую потребность в «животворящих святынях», она отвергает все узкое и иллюзорное, все, что готово обернуться догмой и схемой, с их соблазнительной, но и безжизненной стройностью, доверяясь лишь ходу самой жизни, «грядущего волнуемому морю». В пушкинской «поэзии мысли» подспудно бьется неуничтожимый пульс истории, даже там, где историческая реальность не входит в предметный план изображения. Он резонирует в динамических разворотах образа судьбы, в смелых сопряжениях ее временных этапов (прошлого и грядущего) и, наконец, в готовности на самой последней черте разомкнуть художественную картину размышления в непредсказуемый поток действительности.
Стремление Пушкина овладеть противоречиями собственного сознания и подняться на крыльях бесстрашной мысли над превратностями судьбы определяет характерное для болдинской лирики сочетание прозрачной гармонии стиха, пронизанного таинственным светом бездомных глубин, с небывалой энергией переживания, самая сдержанность которой лишь оттеняет внутренний накал пушкинской мысли, силу ее «сокрытого жара». Но эта основная тональность лиризма не исключает ни всплесков трагических страстей («Бесы», «Заклинание»), ни потаенных движений темы и слова («Заклинание»), ни экспрессивных «перебоев» в динамике ритма и интонации.
В начале 30-х годов лирика Пушкина окончательно расстается с жанровыми формами мышления. Но она продолжает пользоваться жанровыми стилями как арсеналом изобразительных средств. Пушкинская свобода в обращении с ними — предпосылка того свободного мышления изобразительными знаками и символами традиции, которое возможно лишь на почве разомкнутых жанровых контекстов и уже за чертою жанрового мышления. Материал жанровых стилей, слитый с внутренней формой лирического стиха в пору жизнеспособности жанровых законов, на новом этапе, когда распалось структурное единство жанров, но когда еще свежа эстетическая память о них, смещается прежде всего в предметный слой произведения, в его изобразительную сферу. В этом убеждают пушкинские формы вовлечения жанрового слова и жанровых мотивов в композицию «Заклинания», «Прощания», «Для берегов отчизны дальной…».
В условияхживой памяти о жанрах художественное соприкасание с их традицией тем острее, чем индивидуальнее втягивающий ее лирический контекст. В таких условиях жанровое слово у Пушкина становится «двухголосым»: в нем пересекается старый экспрессивный потенциал и новые наслоения образного смысла, идущие из глубины окружающей его образной среды. Так обретают неожиданную полноту и объемность поэтического значения старые элегические «формулы» в лирике болдинской поры.
По логике темы, сосредоточенной на переломном этапе творчества Пушкина, в анализе его стиля мы пытались особенно оттенить все, что связано с отходом от традиции, с поэтической дерзостью пушкинской мысли. Но нужно ли говорить, что Пушкину ничто так не было чуждо, как эстетический нигилизм, пренебрежение традицией. В самом отталкивании от нее он никогда не стремился сделать последний шаг, за которым начинается полный разрыв с художественным опытом прошлого. Поэтому важно осознать не только смысл пушкинской перестройки жанрового материала, важно понять и мотивы его обильного подключения в поэтическую ткань болдинских стихотворений. Нимало не ослабляя впечатления резкой индивидуальности лирических конфликтов «прощального» цикла, их новой внежанровой природы, элегическое слово создает здесь неповторимый колорит минувшего. Старые ассоциации, притаившиеся в нем, приглушенные в новом контексте, но не оттесненные в нем до конца, «работают», если можно так выразиться, на лирическую экспрессию воспоминания. Образ минувшего с его романтическими бурями предстает в соприродном ему стилевом преломлении. Другое дело, что ни экспрессией минувшего, ни его элегическим колоритом ни в малой степени не исчерпывается в «прощальном» цикле вся полнота пушкинской мысли, и уже тем более истоки ее напряжения. Они, эти истоки (как мы пытались показать), — в столкновении романтически максимальных притязаний на вечную неувядаемость любви с трезвым и ясным, хотя и причиняющим жгучую боль, ощущением охлаждающей реки времени. А этот поворот конфликта, психологическая глубина его воплощения и сложное сплетение эмоций в единстве лирического переживания, существование в нем подводного течения, не сразу прорывающегося в слово, и самый «рисунок слова», раскованно скользящего то в биографическую конкретность, то в быт, то в стихию чужой речи, нацеленного на диалогический контакт с «собеседником», — все это неизмеримо далеко от жанровых принципов элегии.
В то же время картина болдинской лирики высвечивает неравномерность жанровых процессов в поэзии Пушкина. Отказ от жанрового мышления в лирике не исключает стабилизации отдельных жанров, обладавших нерушимой определенностью предметной сферы, ограниченных в своих контактах с миром современного сознания. Такова пушкинская «анфологическая эпиграмма», таков и вообще антологический жанр, удержавшийся в потоке русской лирики послепушкинской поры, перешагнувший за порог середины века (антологии А. Майкова, Н. Щербины, А. Фета).
Болдинская лирика Пушкина, как уже говорилось, устремлена в даль его собственного поэтического развития в 30-е годы. Здесь рождаются темы и первые наброски образов, которым будет суждена дальнейшая жизнь. Образ творческого упоения гармонией в сочетании с «прощальною улыбкою» любви («Элегия») как будто уже предугадывает картину идеального бытия поэта в обители «трудов и чистых нег», запечатленную в стихотворении 1834 года «Пора, мой друг, пора». От «анфологических эпиграмм» Пушкина тянется нить к его более поздним «подражаниям древним». Библейские ассоциации, время от времени возникающие в болдинской лирике, на последнем этапе пушкинского творчества развернутся в лирических композициях 1836 года («Мирская власть», «Подражание итальянскому». «Отцы пустынники и жены непорочны») с их сумрачным, тревожным лиризмом и смелыми выходами в современность («Мирская власть»). Но, пожалуй, особенно гулким и многозначительным эхом отзовется в поздней лирике Пушкина мечта о бегстве от людей, воплощенная в стихотворении «Когда порой воспоминанье». Здесь исход целой вереницы пушкинских образов, странников, беглецов, гонимых («Гонимый роком самовластья», «Не дай мне бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора», «Странник», «Напрасно я бегу к сионским высотам»), которая внятно и тревожно перекликается с ходом пушкинской судьбы в 30-е годы. Во всяком случае здесь звенит какая-то очень личная и очень важная струна позднего пушкинского жизнеощущения. Недаром же Гоголь писал о пушкинском «Страннике» как о произведении, в котором «звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния». Раскрыть образную ткань и резонанс этих стихотворений еще предстоит пушкинистике.