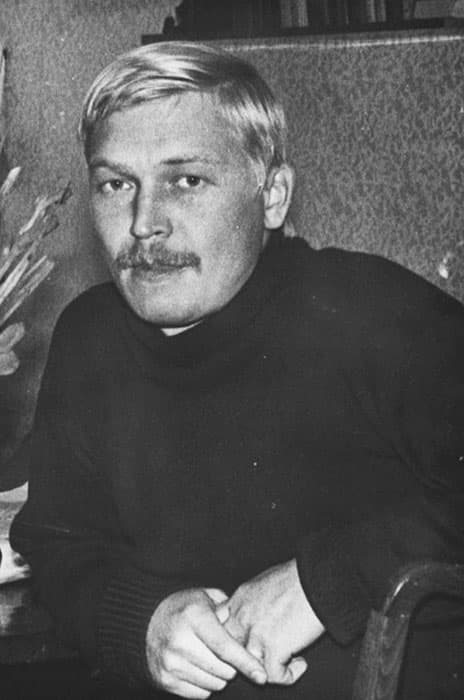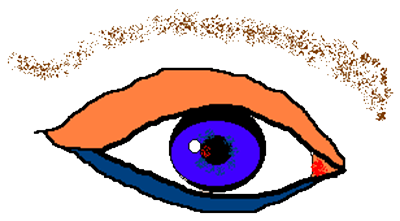Валерий Беденко
ХИМЕРА
Проза. Лирика. Песни
Я от рожденья графоман,
Я — граф Омана — что же лучше?!
И слава голову не кружит,
Как бедной девушке роман.
Валерий!
По твоему желанию посвящаю данную книгу всем непризнанным поэтам, которые мечтали, но не смогли издать свои труды.
Пусть наш мир станет хоть чуть-чуть лучше!
Твой друг и составитель-редактор
А. Соколов
ПРОЗА
Верх любви
Как-то выпивали с мужиками у реки и расхвастались о женах.
Один сказал: «Жаловаться грех, ничего попалась. И готовит хорошо, и дети ухоженные. Да и собой ничего».
Другой говорит: «И у меня что надо, двужильная, спинища как у лошади. К тому же родителей моих уважает, меня также».
А третий махнул рукой, мол, все это чепуха. «Вот я вчера проснулся, душу твою етить, всего трясет, как трясогузку, башка трещит, сдохнуть в самую пору, — сказал он это, подумал и с просветлевшим праздничным лицом продолжил, — А она, баба моя, входит в комнату и из-за спины водяры стакан в нос: „На, гад, заглонись!“» И он обвел нас торжествующим взглядом, мол, что, выкусили.
И хотя все знали, что никакая она ему не жена, а сожительница, торгашка из какой-то палатки, мы молча согласились. Что да, конечно, нам такого ждать не дождаться. И кто не успел похвастаться, и не стал этого делать.
Потому что поняли, что есть верх любви.
Диагноз
Однажды мой дядя заболел. Румянец пропал с его миловидного лица. В глазах неведомо откуда появилась тоска. Гордо расправленные плечи пригнуло к земле, и походка стала шаркающей. Собственно, и так можно было жить: многие живут без румянца, без орлиного разлета плечей, без огня во взгляде, без уверенной поступи. И ничего себе живут, но дядя не хотел без этого жить. К тому же он был очень молод, и любовь едва прикоснулась к нему.
И чтобы узнать свой приговор, он пошел к доктору. Доктор был плешивый старичок, с седой бородкой клинышком и длинными, веревкой скрученными, пониклыми усами. Еще из тех, старых докторов, которые любят поговорить с пациентом. Он поговорил с дядей, глаза посмотрел, язык, в трубочку послушал. Подумал, подумал и сказал, что, очевидно, это результат затворнической жизни, кабинетной работы. Свежий воздух, физический труд, простая пища — вот, собственно, и все лекарство. Это было в тридцать седьмом году.
Вскоре дядю забрали, прямо из купейного вагона, в котором дядя собирался ехать в Китай. Там его ожидала дипломатическая работа. Но так и не дождалась.
В пятьдесят третьем он появился на пороге нашего дома, полностью излеченный от кабинетной болезни. Диета, физические нагрузки и свежий воздух пошли ему на пользу.
Кетчуп
Собака эта мне была знакома. Я встречал ее почти всякий раз, когда шел на работу или возвращался домой. Пути-дороги проходили через парк. Пересекаешь главную аллею парка, прозванную с незапамятных времен «Зеленой дорожкой», тут же и напарываешься на стаю собак.
Обитали они при местном кафе, если можно так назвать распивочную, которой владел армянин, беженец, как они все, кавказцы, любят себя называть. Кое-что из объедков собакам доставалось. Но по мере того, как стая разрасталась, этого им стало не хватать. И они очень быстро научились выпрашивать подаяние у идущих на работу. И знали в лицо наиболее щедрых. Есть добрые люди, чего там говорить. Иной сам не доест, а собачкам принесет. Иногда поглядишь, чем их там потчуют, честно, завидки берут: вкусности необыкновенные.
Так вот, собака эта ничем из стаи не выделялась, единственно если только малым ростом да неказистостью. Шкуркой владела светло-рыжей, с разбросанными кое-где белыми пятнами. И какая-то она застенчивая была: доставались ей последние крохи. Правда, последнее время поведение ее несколько изменилось. Стала выхватывать у добровольных кормильцев еду прямо из рук. Но за это и получала от вожака не раз трепку. Причина ее внезапной перемены скоро обозначилась большим животом и укрупнившимися сосцами, черными и тугими, как у козы. Живот вырос слишком большим, почти по земле не волочился. И скоро появилась уже поджарой, без брюха, но соски стали еще туже и крупней. Через положенное время нарисовалась у дорожки со своим выводком. Щенята были крупные, пять мышастой масти и один рыжий, в мамашу, мельче остальных собратьев. Вывела их напоказ она неспроста. Логика собачья сродни человечьей: вот, мол, люди добрые, какие у меня славные ребята. Помогите, кто чем может, а то и погибнем с голоду. Тактика проверенная, только вряд ли спонсоров прибавилось. Времена пришли жестокие: всех не пережалеешь. И приходилось ей с утра до вечера рыскать по парку, заглядывая во все урны, выискивая на полянках остатки еды от чьих-то пьяных застолий. Тут уж было не до выбора: что нашел, то и ешь. Желающих и без тебя полно.
Однажды наблюдал, как она опорожняла урну возле кафе. Достала какие-то жирные бумажки, вылизала их, потом подумала и каждую обсосала. На очереди была пластмассовая тарелочка, состоящая из нескольких секций, с такими перегородками, чтобы не мешать мясо с гарниром в кучу-мала. Вылизала она почти всю тарелку до блеска, но в одной из секций оставалось еще немного темно-красного, как загустевшая кровь, кетчупа. Наверняка острого, для собак не очень-то приятного. Она призадумалась, на меня, возможного конкурента, мельком поглядела, и, морщась, почти как люди от лимона, вылизала дочиста.
Щенок был крупный, чуть поменьше матери, в серенькой шкурке, очень похожий на плюшевого мишку. Она несла его, ухватив за холку, и лапки его едва не волочились по земле. Сначала подумалось, что она просто переносила его в новое логово. Но слишком уж безвольно болтались его ножки и тонкий хвостик. И понял я, что мертвый он. Мать несла свое дитя по тропинке, оглядываясь и приискивая место. Пересекла «Зеленую дорожку» и направилась к большой липе. Положила на землю скорбную ношу и осмотрелась. На какое-то мгновение глаза наши встретились, и меня как укололо, тоска разлилась по сердцу.
И принялась она копать под липой ямку, и лапами, и носом. Опустила своего ребенка и стала закапывать. Воронье, штук пять-шесть следили за ней давно, еще с тех пор, как она только появилась. Одни сидели на нижних ветках деревьев, другие мелкими шажками постепенно сжимали круг около места погребения. Когда собака закончила с могилкой, она внимательно огляделась, оценила ситуацию и снова выкопала трупик. Взяла его за холку и пошла искать более надежное место. Вороны же, кто короткими перелетами, кто вприпрыжку, как-то боком, последовали за ней. Чем все закончилось, я не знаю. Не было больше сил на это смотреть. И понял я из увиденного одно: никому ребенок, кроме матери родной, не нужен, ни живой, ни мертвый.
Воронью если только.
Надежда
Всю почти жизнь просил Господа Бога дать здоровье и долгих лет жизни моим родителям и родственникам. И еще последние годы молю о спасении России. Наверное, не заслужили ни Россия, ни мои родственники такой милости. Хотя, кто знает…
Пути господни неисповедимы. Себя всегда считал последним грешником, недостойным спасения и помощи. Однако, ведь чего греха таить, всего этого просил для себя. Значит, все же во глубине души таил надежду, что и не такой уж я законченный негодяй, и есть еще шанс. И верил, что Господь оберегает и нашу семью, и нашу страну. Пусть и грешны мы безмерно.
Полубредовые мысли
Откуда берутся нехорошие старухи? Они берутся из состарившихся дрянных женщин.
* * *
Если ты в душе — мышь, то всю жизнь боишься попасть в мышеловку. И не замечаешь, что жизнь твоя и была мышеловкой.
* * *
Когда начинаешь сомневаться в истинах — или сокрушай их, или ступай в монахи.
* * *
Дуб живет очень долго, но мы не завидуем, думая, что он слишком статичен. А это не так: он движется, несется во времени.
* * *
Посмотри в зеркало — и улыбнись. Посмотри в свою душу — и заплачь.
* * *
Познай себя, говорили древние, — и познаешь мир. Большинство же из нас живет не познавая ни того, ни другого.
* * *
Человек — самое несчастное существо на свете, так как знает наверняка, что родился и живет лишь для того, чтобы умереть.
* * *
Когда человек лезет в петлю, это не значит, что он сошел с ума. Быть может, он это делает оттого, что вдруг обрел его.
* * *
Человек долга — счастливый человек, так как уверен, что творит во благо. Жаль только, что не всегда он ведает, что творит.
* * *
Самые опасные люди — это советчики. Себе они, чаще всего, уже насоветовали несчастную жизнь. Того же и тебе желают. Берегись их.
* * *
Все наши советчики оказались антисоветчиками. Спасибо им. Страны не стало.
* * *
Жизнь — это кривое зеркало. Но кривое зеркало — это не жизнь.
* * *
Выдавливать из себя раба нужно, но как бы не передавить, превратившись из раба в господина рабов.
* * *
США сейчас похожи на ковбойский фильм, где в главной роли президент, а народ — всего лишь массовка.
* * *
Человеческая цивилизация — это болезненная плесень на теле Земли, плесень, которая сгубит Землю. Или, скорей всего, Земля сама избавится от плесени.
* * *
Глаза святых смотрят нам в душу, они взывают к нам: «Образумьтесь!». Но мы не всегда слышим их, а чаще снисходительно усмехаемся.
* * *
Что Бог не дал, то и не отнимет. В отличие от нас.
* * *
Деньги не пахнут, но деньги — это власть. Отчего же власть порой смердит?
* * *
Российская элита в последнее время усиленно выискивает свои аристократические корни. И в кого ни ткни, если и не князь, то уж потомственный дворянин точно. Воссоздали снова «Дворянское собрание», как при царе батюшке, гуляют там, балы дают и грассируют, то есть букву рэ на французский манер произносят. А если честно сказать, эту букву они так и не научились произносить за всю их жизнь, с самого их счастливого пионерского детства и по их демократические седые годы. Сионистские корни мешают.
Яхточка
У метро «Ленинские горы», на набережной Москва-реки, кто-то пустил в воду самодельную маленькую яхточку. Взял кусочек дерева, отход какой-то стройматериала, воткнул ветку, к ветке приладил три паруса, основной и два малых, из прозрачной полиэтиленовой пленки, вставил в корму руль, и опустил в реку. При минимуме усилий получилась красивая, на удивление маневренная яхточка. На ярком солнце паруса горели золотом и серебром, изредка налетавший боковой ветерок пытался зарулить яхточку к гранитному берегу. Но она покачнувшись носом, как уточка, выравнивала курс и плыла себе по течению реки на неизменном удалении от берега.
Люди, прогуливающиеся по набережной, млели от этого нежданно нагрянувшего тепла, от яркого, веселого солнца. Заметив яхточку, многие радовались как дети, невоспитанно тыкали пальцами в ее сторону и кричали: «Во! Гля, во!». Улыбались они как дети, просто и хорошо.
За яхточкой по набережной шла женщина, плотно сбитая, лет пятидесяти, одетая модно, дорого и безвкусно. На руках ее было множество колец и перстней, в ушах тоже было много золота, и рот ее, когда улыбался, полыхал желто-красным драгоценным заревом. Почему-то подумалось, что она работает в торговле или в каком-нибудь социальном фонде и не чиста на руку. Хотя кто его знает. Она шла по набережной за корабликом, потом спустилась по каменной лестнице к причалу и сопровождала суденышко совсем рядом. Подумалось, как дама с собачкой. Проходя мимо лавки, где грелись на солнце двое мужчин, один — рабочий в строительной робе, другой, представительный, с дипломатом между ног и шляпой на коленях, — она повернулась к ним озарив их огнем улыбки, воскликнула: «Вы поглядите, какая чудесная яхточка!» Мужчины согласно закивали в ответ и заулыбались.
Яхточка проплыла причал и устремилась к железнодорожному мосту. Женщина, уже поднявшись по другой лестнице, шла по набережной следом. За изгибом реки яхточка скрылась от моих глаз, но женщина, все уменьшаясь и уменьшаясь в размере, долго еще была мне видна. Потом и ее не стало видно. Я пошел домой, чему-то улыбаясь, на душе было грустно и одновременно хорошо. А было это так давно, как будто не было и вовсе.
ЛИРИКА
Achtung
Когда мы были молодыми,
все было ясно и прекрасно,
и шли вперед на зов вождей.
И зла не видели мы в дыме
труб заводских,
вдыхая страстно,
и в лоб не шло
о радиоактивности дождей.
Когда мы были молодыми,
не знали мы, что жизнь
несчастна
не только там, где правит
империалистический злодей.
Но и в отеческом Надыме
любить, смеяться, плакать, жить
Амбрэ
Цветок осыпался последний,
последний лист кружась упал,
кабан под дубом все вскопал, —
и день склонился на колени.
Ночь непроглядна и длинна,
и через кислые дороги
прохожий еле тащит ноги —
устал от грязи и вина.
Его влечет дым над трубой,
а там не лучше: грязь да пьянка,
да бесшабашная тальянка,
да глупый русский мордобой.
Уныла осень в октябре —
все врут поэты про красоты.
А что и ждать от них, босоты?
Им и в блевотине амбрэ.
И городская жизнь — тоска.
И здесь все та же грязь да пьянка,
да коммуналок перебранка,
да прядь седая у виска.
Скорей бы матушка зима
прикрыла наше неприглядство.
На фоне снега даже пьянство
неплохо выглядит весьма.
Арбат
Удивленными глазами
на меня Арбат глядит.
«Я Арбат, а кто вы сами?» —
тихо будто говорит.
«Я влюблен, поэт немного, —
отвечаю, поклонясь, —
привела к вам путь-дорога,
дорогой Арбат, мой князь.
Я влюблен в твою неброскость,
в седину твоих домов,
в выпуклость углов и плоскость
пятачков глухих дворов.
Эти две твои церковки
я не зря боготворю:
луковки их, как головки
детские, глядят в зарю.
Лишь сейчас, к сорокалетью,
мне времен понятна связь:
мы все — выросшие дети.
Даже ты, Арбат мой, князь».
Бахрома
Солнце ласковое, как в Крыму,
март непогодой не матерится,
сладко зевает, как после сна.
Что опускаешь ресниц бахрому?
милая, хватит сердиться —
в сердце стучится весна.
Блесна
Чирикают птицы, встречая весну,
И щука с улыбкой глядит на блесну,
И вождь наш с ухмылкой глядит на людей,
И всем всё понятно: он вор и злодей.
А мне не понятно: как вор и злодей
Вождём стал для нас, для российских людей?
Ведь головы наши с мозгами, не репы,
И на хуй нужны нам какие-то скрепы,
Которые крепче железных оков,
Сулят на Руси миллионы голгоф.
Чирикают птицы, встречая весну,
Не щука, а мы заглотили блесну.
Бля
Зима была и не зима, а смех или усмешка.
Вот и сейчас я вижу за окном: в широкой луже
купается рой звезд и месяц-рогоносец.
Гляжу в бинокль: а где ж лежит его одежка?
Стянул бы не крестясь, моей навряд ли хуже,
бля буду, не себе — отцу, протер костюм
орденоносец.
Но нет, был месяц тот хитер, или научен.
В век воровской разденут и святого,
и с неба стянут звезды, что бывало
не раз, не два. Кто этому обучен,
тяп — и на грудь. И пять не много,
да две на маршальских плечах,
да под кадык одну, чтоб не икала.
Ох, несть на небе звезд, да люди ненасытны:
и беспредельному подставят ножку,
и божий клад растащут по пригоршне.
На что я прост, а наблюдаю скрытно,
где месяц заховал свою одежку.
Да попусту, раздели, видно, на таможне.
Буратино
Как люблю красивых я —
женщин, реку, лес.
Ах, я бес!
Страшные, родимые,
от вас я, поэтесс,
в петлю лез.
Томные, строптивые,
из кривых зеркал.
Я не вам кивал.
Страшные — счастливые,
и наоборот.
А я урод?
Красивая, игривая
судьба, да не моя.
Вообще ничья.
Судьба моя бескрылая —
черепашка, брось, не мучь.
Отдай ключ!
Очаг и суп холстинные
проткну я носом сквозь.
Дверь там небось.
Валет
Кто-то пьет, а кто-то нет,
кто-то даже курит.
Чей-то маленький валет
чью-то даму дурит.
Где-то ты в своей глуши
пишешь левой ножкой
о нетленности души,
сидя за окрошкой.
Где-то я совсем пропал,
и не понарошку, —
головой седой припал
к чьей-то левой ножке.
Весть

Глухая ночь, и Рождество
вот-вот мы встретим, люди.
Родится наше божество,
и мы чуть лучше будем.
Хотя б на час, хотя б на миг
Христа представим ясный лик.
А это значит: в сердце есть
от Бога благостная весть.
Восток
Какая сушь, какая глушь,
какая россыпь дынь и груш,
какая армия ослов,
не говорящих глупых слов.
Какая жертвенность очей
жен и наложниц басмачей.
Какие звезды, бей их в прах,
и в небесах, и на коврах,
и на макушках синагог,
где иудейский правит Бог.
Восток! Его нам не понять,
не покорить и не унять.
Он как бы из других миров,
вневременных сухих костров,
других одежд, других надежд,
других мыслителей, невежд,
других чертогов в небесах,
других тиранов при усах.
Других понятий о добре
и слов, рожденных на заре,
и слов, прощальных с этим днем,
и слов, которыми клянем
несправедливость бытия,
и слов о пользе бития.
Время
Поэт исписался, и лето ушло,
и осень прошла по аллее,
и солнце холодное робко взошло,
природу немного жалея.
Красивы осины в багряном огне,
и клены красивы в багрянце,
и свет абажура алеет в окне, —
но зори уж не возгорятся.
И не пробежать босиком по росе
к речушке в молочном тумане,
где так хорошо на песчаной косе,
где сам себе чуточку странен.
И луг не найти в сумасшедших цветах,
как будто и не был он вовсе;
найдешь по весне или в сказочных снах,
где в небе нас ветрами носит.
Поэт исписался, и лето ушло,
согнувшись, как будто болея,
зачем-то вздыхая, как я, тяжело,
что жизнь коротка, как аллея.
Всё не так
Мы жили, мы страдали,
Глушили самогон,
Смялись и плясали,
Глядели из икон.
С врагами насмерть бились,
Питались кое-как,
С вождями распростились,
Всё делали не так.
За что напасть такая
Довлеет над страной?
Нас снова понукая
В Рай гонят, в упокой.
А Солнце в небе светит
И реки воды льют,
И Ангел шельму метит,
Куранты бьют и бьют…
Всё движется к развязке,
Такой, что дрожь берёт.
Как в самой страшной сказке
Умрёт всё, что живёт.
«Гафт не говно…»
* * *
Гафт не говно
и Гафт не гад,
но все равно
дерьмом богат.
Всех подъелдыкнет,
всех подъест,
но, слава Господи,
не съест.
Гомик
Голубой снежок искрится,
небо снега голубее,
мальчик к мальчику ластится.
Кто из них двоих глупее?
Кто глупей меня на свете?
Даже в зеркале мордаха
выглядит в приличном свете,
не глупа, едрена птаха.
У меня спроси совета —
я скажу: «Катись ты, милый!»
В строках Ветхого завета
сказано все Высшей силой.
В строках Нового завета
на любой вопрос — загадка.
Если дама неодета,
значит ли, что это гадко?
Если Родина стремится
осчастливить нас с тобою,
я обязан ли гордиться
тем, что подлежу убою?
Если плачет потаскуха
у московских трех вокзалов,
надо ли кричать ей: «Шлюха!»
из вокзальных грязных залов?
Если небо голубое,
голубой снежок искрится,
значит ли, что в каждом бое
гомик маленький гнездится?
Мальчик к мальчику ластится,
что с того, что голубые.
Все им Господом простится,
как и наши мысли злые.
Графенок
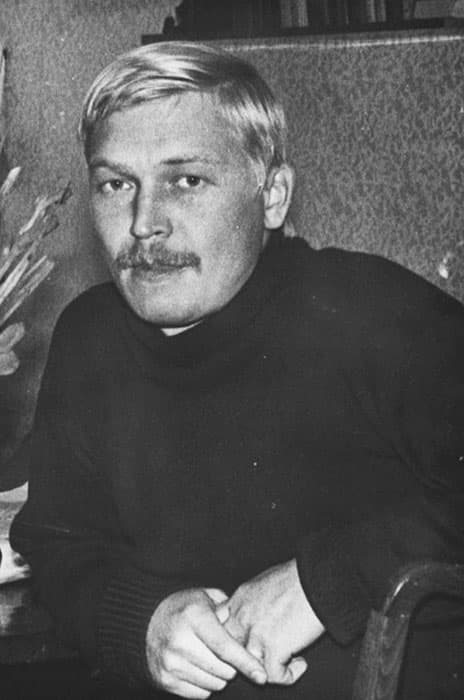
Я от рожденья графоман.
Я — граф Омана. Что же лучше?!
И слава голову не кружит,
Как бедной девушке роман.
Гулена
Жизнь идет куда попало,
словно пьяный мужичок,
так же, бедная, устало
курит чей-то там бычок.
Так же плечи опустила,
отдыхает у столба,
так же в лужу угодила,
так же ей мила гульба.
Так же лается с женою
из-за подлого рубля
и дерется со шпаною,
просто так, забавы для.
Так же, так же, ненароком,
ни с того и ни с сего,
наградят приличным сроком
и загонят далеко.
Так же ей не удалося
ничего осуществить:
люд российский удивить
и добро ему привить.
Жизнь моя, пойди умойся.
Протрезвись, взгляни яснее:
не научишь дураков —
надают лишь тумаков
по бокам и тонкой шее.
По бокам, бокам, бокам
и тонкой шее,
по бокам, бокам, бокам
и тонкой шее.
Гундосы
Я ли не любитель прозы,
не поэзии собрат?
Над иной страницей слезы
проливал крупней, чем град.
Или млел от умиленья,
съев слащавый сантимент,
сам плету стихотворенья
из красивых длинных лент.
Но обидно, что листая
современных мастеров,
будто сам себя пытаю —
жаль убитых вечеров.
Ни души, ни вдохновенья —
блеск и треск гремучих фраз.
За подобные творенья
высечь бы, да и не раз.
От врунов, глупцов, гундосов
тошно. Но им всем назло,
Есть Домбровский, Лихоносов,
Бондарев и Доризо.
Дорога в рай
Дни Рождества встречаю я
в тоске, как, в общем, и Россия.
Страна моя, печалия,
к нам не пришел наш Бог мессия.
В стенанье мечутся умы,
и чувства рвутся, как одежды,
цель, коммунизм, отвергли мы
и смотрим в завтра без надежды.
Мы наспех церкви золотим,
кресты на шеи понавесив,
и в яму все равно летим,
как крылья лозунги развесив.
Березы, звезды, мавзолей, —
все эти символы пустые
пожухли средь пустых полей.
Неуж вконец мы проклятые?
У нас своя дорога в Рай:
через убийства и мученья,
через чернобыльский сарай,
через иудины ученья,
через расстрелянных отцов,
через растерзанных пророков.
И вот пришли в конце концов —
и отшатнулися, потрогав.
Шестая часть планеты всей
стоит, растерянно взирая.
Подайте, люди, хлеба ей —
спасибо скажет, умирая.
Дурдом
На улице снег, одновременно дождь,
С трибуны приветливо машет нам вождь.
Мы все завопили зачем-то «Ур-ра!»
Дурдом всенародный — лечиться пора.
Еще разок
А ну, попробуем еще,
Последний раз, быть может,
Как бьется сердце под плащом,
Когда день славно прожит.
А ну, в последний, может, раз
Перо достанем с полки,
Напишем пару чудных фраз,
Как ночи нынче долги,
Как хорошо страдать любя
И быть любимым тоже,
Прощать за многое тебя
И быть с собою строже.
О том, как горько уходить
Из молодости к взрослым.
Как сложно в пару фраз вместить
Все, попрощавшись с прошлым.
Жажда
Пейте кровь из горла жертвы,
это полезно для вашего здоровья.
Смотрите, как она бледнеет,
зато на ваших щеках зажигается
румянец.
Все тело наливается силой,
и вы уверенно идете к звезде,
что призывно мерцает на горизонте.
Она так прекрасна, как девушка
с нежной шеей,
чья кровь так вкусна.
Засранец
Звоню на мир я, как звонарь,
Вдруг мир меня и впрямь услышит,
Пусть мыслящая, все же тварь,
Что ползает, летает, дышит.
Не царь природы я — прислуга!
На трон уселся самозванцем.
И обозвав меня засранцем,
Природа выдерет за ухо.
Замарашка

Ты некрасивая, почти что замарашка,
И как подросток угловата и худа.
Так отчего ж не сплю, вздыхая тяжко?
Любимая, полюбишь ли когда?
Ну кто тебя любить ещё так будет?
Стихи, улыбку, сердце, — на!
О счастье! Счастье! Вижу: любит
Неопытная, ранняя Весна.
Здесь
До чего бедна природа
поздней осенью у нас:
как неумная острота —
рот кривит и щурит глаз.
В поле — грязь, в лесу — сироты:
липы, клены и ольхи,
кучи, где живут народы
муравьев, как смерть глухи.
Мало птиц, и так тоскливо
ветер ноет меж ветвей,
небо, не скажу, игриво,
смотрит из-под туч-бровей.
Отчего же так щемяще
любишь это все вокруг,
и не ищешь край, что слаще?
Не ответить сразу, вдруг.
Просто вот люблю, и все тут,
и без этого не жить.
Здесь умру, здесь похоронят,
здесь дела мои вершить.
Здесь встречать мороз и лето,
здесь растить моих детей,
ждать мечты моей рассвета,
птичек ждать, весны гостей.
Казак

И снова слякоть на дворе,
покрытом черным небом,
без звезд, луны и фонарей,
как в прошлом грустном
январе,
с ноздрястым грязным снегом,
в котором спал хмельной Андрей.
Все то ж, но на снегу другой
сопит, раскинув руки,
как во степи казак лихой.
Андрей же, друг мой дорогой,
повесился со скуки.
А был он парень неплохой.
Клобук
Я любил, да отгорел,
трезвый стал и умный,
не боюсь Амура стрел —
я б пошел в игумны.
Долгий подрясник
да черный клобук —
я вам не проказник,
я бабушкин внук.
Лбом об пол, да крест сложу,
да сотворю молитву.
Вере исто послужу,
да кадыком — на бритву.
Ты ж посмейся: «Ха-ха-ха,
так ему и надо!»
Коли зачат от греха,
бояться ль мне греха-то?
Острый, как правда,
и длинный, как ложь,
сунет мне завтра
кто-нибудь нож.
А и ладно, ну и что ж,
не из худших случай,
и такой исход хорош.
А ты себя помучай.
Князь
Однажды в прах оборотясь,
А по дождю в простую грязь,
Он под ботинок стлался мне.
А был всесильный князь.
Козлодрание
Не надо лишних слов,
и взор топить не надо —
здесь, в городе козлов,
мы все из зоосада.
У нас, как у людей,
любовь и гнева грозди,
и нас любой халдей
на мясо сдаст и кости.
У нас, как у людей,
и дьяволы и боги.
О, Бог, мной завладей,
введи в свои дороги,
без тупиков, углов,
введи в людские веси,
где Ваня Богослов
меня на крест повесит.
Колыбельная
Расти, мой сыночек, родная колбаска,
не плачь по-пустому, не стоит, сынок.
Не слушай учителку, глупую дуру —
не в двойках ведь дело, послушай ты мать.
А вырасти просто хорошим мужчиной,
как наш Хам Нахалыч, спикёр думсовета,
он тоже ведь пары за партой хватал,
а, глянь-ка, какой человечище вышел.
Машина и дача, жена драм-актриса,
а евро и зелени больше, чем звезд.
Расти, мой сыночек, ушами не хлопай,
примеров достаточно, только гляди.
Твой батька, он тоже не в вузах учился,
простой работяга. Учись у него.
Он скромно Росгазом заведует, что ж…
зато мы в достатке, как пальмочки в кадке.
А мамка твоя? Гордись ей, сынок.
В кредитном отделе, как пчелочка в улье,
нектар собирает: рублишко к рублю.
Расти, мой сыночек, родная колбаска,
расти, подрастай до водительских прав.
И верь, вот те крест, что родителей ласка
подарит в положенный день самолет.
Колыма

Не зарекайся, меньше кайся,
дыши свободно и легко,
не плачь и чаще улыбайся
своим и тем, кто далеко.
Вертлявость, хитрость,
суетливость
даны нам Господом
в немилость.
Свобода совести, ума —
в итоге та же Колыма.
Любой отъявленный мерзавец
когда-то мать держал за палец,
был без ножа и без погон,
как херувимчик из икон.
Но, возмужав, забыл лишь малость,
что в сердце Бог — не чья-то
шалость.
Что сердце — пламенный мотор, —
имеет робот или вор.
Нам сказано: работай в поте,
не забывай, что ты из плоти,
но не забудь, что и душа —
не песня барда-алкаша.
Не вша, не ржа, не фиг в кармане,
не кинодива на экране.
А просто маленький цветок
из сада, где гуляет Бог.
Космонавты
По Луне ходили,
Думали о Боге.
Очень удивили
Лунные дороги.
Кто по ним шагает,
Ездит или скачет?
Кто в пещерах лунных
О землянах плачет?
Видно, знают что-то,
Что для нас закрыто.
Знают от кого-то,
Имя чьё сокрыто.
Круги
У солнца сизый голубок
круги накручивает лихо,
как я портянку под сапог,
как цены жадная портниха.
За кругом круг, за кругом круг,
какая ж цель в его полете?
Морозный воздух так упруг,
как мох на клюквенном болоте.
Ему круги свои летать,
на горизонте ждать подругу.
Мне — ручкой белый лист марать,
слова накручивать по кругу.
Порывы сердца и ума,
души малейшее движенье,
и мыслей тайных закрома —
все сжечь в пылу стихосложенья.
Вкруг солнца мне уж не летать,
ну, вкруг луны — иное дело,
и то кой-как: одрябло тело,
не та душа, не та уж стать.
Кураж
Звезды высыпались в реку,
месяц, их пастух, — туда ж.
Звонко крикнув «ку-ка-реку!»,
сиганул и я — кураж.
Так все жизнь передурачил,
для чего, не знаю сам,
может, цель не обозначил,
как сосед, начдэза зам.
Может, просто бестолковый,
как и весь двадцатый век —
светится, но как целковый,
как от водки человек.
Выкупать бы в звездной речке
всех и вся под звук рожка,
чтобы все мы, человечки,
выросли из полвершка.
Чтобы радовались только
свету истин и добра,
да тому, как светит зорька,
тьме назло, свежа, бодра.
Звезды высыпались в реку,
месяц, их пастух, — туда ж.
Звонко крикнув «ку-ка-реку!»,
сиганул и я — кураж.
Лачок
Отлюбил и жизнь, и женщин,
вижу трезво, без прикрас:
в Афродите столько трещин,
и в себе нашел не раз.
В голубом и чистом небе
вижу тучку на краю.
О ржаном подовом хлебе
беспрестанно говорю.
Лишь грущу дождем осенним,
да весной блесну зрачком,
да в субботу, как Есенин,
крою водочку лачком.
Да по тропке шел да шел бы,
ни к кому не заходя,
до тех пор, пока мне по лбу
шлепнет грешное дитя.
Жизнь еще течет как будто,
вроде, что-то говорю,
но что вечер мне, что утро —
проглядел свою зарю.
Грустно это мне до боли:
жить без сказочных прикрас.
Сам в грехах, но вас отмолим.
«Господи, прости всех нас».
Лихач
Осторожно, осторожно,
Не крути баранку так:
Так в кювет попасть возможно
Или в рай заехать можно,
Если вдруг взорвется бак.
«Жигули» иль «Запорожец»,
Или «Волга» иль «Москвич»,
Холостяк иль многоженец,
Из Ухты или из Бронниц, —
Для ГАИ ты просто бич.
Ты лихач, лихой мальчишка,
Друг аварий и «чп»,
Скорость — вот твоя страстишка, —
Анатолий ты иль Мишка,
По шоссе иль по тропе.
Семафор мигает красным,
А тебе-то наплевать,
И последствиям ужасным
Днем, безоблачно прекрасным,
Обязательно бывать.
Или сам кого задавишь,
Иль тебя в гармонь сомнут,
Малых деточек оставишь,
Жизнь вдове своей отравишь,
А тебя в печи сожгут.
Осторожно, осторожно,
Не крути баранку так:
Так в кювет попасть возможно
Или в рай заехать можно,
Если вдруг взорвется бак.
Лучший нумер
Просто жил и просто умер —
за могилой длинный нумер
закрепил могил директор,
в прошлом вузовский проректор.
И вдова, слегка всплакнувши
об ушедшем рано муже,
очень скоро позабыла,
что вообще его любила.
И сменив платок на шляпку,
детям новенького папку
привела. И дети рады,
что в карманах шоколады
папа новенький им носит
и за двойки не гундосит.
Все довольны, все прекрасно,
и соседям даже ясно,
что откинул лучший нумер
их сосед, что взял и умер.
Людоед
За горами, за лесами,
Там, где мы не знаем сами,
Жил какой-то людоед,
То ли баба, то ли дед.
То ли был он бородатый,
То ли лысый, то ль усатый,
То ли двоечников ел,
То ли всех уже поел.
То ли не было, то ль было,
То ли сплыло, то ль не сплыло:
Мимо троечник бежал
И отчаянно визжал.
Он бежал от людоеда,
То ли бабы, то ли деда.
Убежал, хоть и устал,
И четверочником стал.
Мальчик
Надоели пиво-раки,
Разговоры подшофе,
Поцелуи, слезы, драки,
Конвоиры в галифе.
Да и ты мне надоела,
Что кривить: «Поди ты вон!»
Всю судьбу мою проела,
До сих пор в ушах трезвон.
Кто я, что я, почему я?
Все забыл в тумане лет.
В звонком крике поцелуя —
Мальчик, юноша, поэт.
Межцарствие
И не зима, и не весна —
межцарствие природы.
Вдали белеется спина
и легкий шаг кого-то.
И ветер в небе, свеж и юн,
у тучи рвет волосья,
и я тарелки в доме бью,
на счастье, не со злости.
А за окном товарняки:
«цок-цок», как будто кони.
Сугробов ходят желваки,
и кто-то в дверь мне звонит.
Здесь протереть, а там убрать —
порядок. Можно открывать.
Может быть

Не плачь, моя хорошая,
и слез не проливай —
пусть жизнь и нехорошая,
ты не переживай.
В муку все перемелется,
беда и не беда,
сто раз все перемелется,
и нет сойдет на да.
И тот родной и искренний,
который обманул,
поймет, что шанс единственный,
как масть, не дотянул.
С другим любимымвстретишься,
а может быть, и нет,
и может быть, доверишься,
а может быть, и нет.
Не плачь, моя хорошая,
и слез не проливай —
пусть жизнь и нехорошая,
ты не переживай.
Молодец
Мо́лодец я или молоде́ц —
Не на ту дороженьку вступил.
Вот тут мне и конец.
Но не гоже поворачивать коня назад,
Ну а вдруг несбыточное сбудется —
Вдруг дам судьбине в зад?
Кто там лыбится за черною горой,
Ножик точит: вот сейчас, сейчас
Окопытится еще один герой.
Водит глазом конь, по-зверьи ржет.
Ну-ка сунемся к судьбе,
Авось, и не сожрет.
Ах, не на ту дороженьку
зачем-то я вступил,
все ж не каялся, назад не отступил.
Мыслитель
Полмира мыслью полонив
и к небу взор направив,
слезу на камень уронив, —
пропал меж звездных зарев.
Настоящий мужчина
На выход первого тома Доризо
Увы, не спец на лести дифирамбы,
Люблю — люблю, а нет, так, значит, нет,
Мне пусть разгений, пусть распушкин сам бы
На ушко полюбить вас дал совет.
Не от гордыни, затаенной злобы
Иль от чего еще там я такой.
И все ж понравилось, как ты в буфете слопал
Бутылку водки с жадностью мужской.
«Вот это хватка!» — сразу я подумал, —
И хоть бы что, ни слез и ни слюней.
И в тот же вечер том твой первый схрумал,
Я был нетрезв, а стал еще пьяней.
Невмочь
Вот это я, вот это ты,
вот это первые цветы,
вот это город без людей,
где тихий пруд без лебедей.
Куда не ходят поезда,
чей герб — полынная звезда,
где нам с тобою не любить
и не мечтать, не есть, не пить.
Где верить нужно, но невмочь,
где солнце есть, но вечно ночь,
где только в мыслях я и ты,
где не сбываются мечты.
И где небесный наш отец
терновый приобрел венец.
Некто
Дни наши сочтены не нами
и не Госпланом учтены.
Какой нас смерч или цунами
подхватит в край, где вечны сны?
Какой нас поезд переедет,
какой Чернобыль омертвит?
И кто в психушку тихо съедет
с диагнозом «космополит»?
Какой нас Гдлян за руку схватит,
какой нас Хват раскровенит,
и кто нас в гроб законопатит,
христианин или суннит?
Через сто лет или сегодня
последний вздох, как поцелуй,
исполним? Знает преисподня
и некто в городе Вилюй.
Обида

Чашка в трещинках с чаем остывшим,
чуть надкусанный бутерброд
милым, злое наговорившим
на меня и на мой народ.
Милый, это не так уж мило,
я люблю твой озлобленный рот,
но обида ножом пронзила
сердце мне — мой народ не урод.
Милый, все я тебе прощала,
но такое, прости, не могу:
я любви, что так много вмещала,
выйти вон за порог помогу.
Овца и Волк
Ради красного словца
В волчью пасть вошла овца.
Что б вы там не говорили,
В волчьей пасти вы не были.
И не вам судить овцу.
Да и волку не к лицу
Счет вести своим победам,
Сытным хвастаясь обедом.
Обрывки
Дым из трубы, как конский хвост,
или, верней, как грива,
метет по небу мусор звезд.
И мне в окошко через мост
замел луны обрывок.
Еще обрывки: сердца, слез,
любви, улыбок, жизни.
Весь я обрывками оброс,
как тот оборванный барбос,
что над помойкой виснет.
Обрывки дней из царства грез,
обрывки грез из буден.
И день грядущий, как вопрос,
обрывком дымчатым возрос,
совсем как на этюде.
Дым из трубы, как песий хвост,
виляет без отрыва,
то вбок, то вниз, то встанет в рост.
Как жизнь: то вкось, то в криво.
Дым из трубы, из тела дух,
из сердца кровь фонтаном,
из ангела лебяжий пух.
И нам с тобой одно из двух:
быть или не быть бараном.
Дым из трубы, труби трубой,
но не отбой, но не отбой,
труби борьбу, труби борьбу
за человеческую судьбу.
Околесица
Веет ветер, дождик льет,
человек чего-то пьет.
И хотя всю жизнь постится,
не обучен помолиться.
Что ни слово, грязный мат,
в храме божьем чей-то склад.
И в кремлевские палаты
входят грозные Пилаты.
Где Иуды? Тут как тут:
нам не можно без Иуд.
Наша околесица:
всех продать, повеситься.
Оконце
Среди зимы вдруг выдалось оконце:
Ни облаков, ни сумрачных теней,
На синем небе праздничное солнце,
Снег голубой, и блеск твоих очей.
Рука в руке, и сердце бьется гулко,
Глаза в глаза, но мыслей не прочесть.
По старым улицам ненужная прогулка,
Как запоздавшая о чьей-то смерти весть.
Но все равно, день выдался чудесный,
И пахнет свежестиранным бельем,
И встречный взгляд девчонки неизвестной,
И синих окон нежный окоем.
Душа парит и тянет тело к небу,
От суеты, ненужных передряг,
От песен и стихов мещанству на потребу,
От идиотов, хамов и нерях.
И от тебя, попутчица-знакомка,
От карих глаз, арканящих меня.
Нет, от аркана дышится неловко,
Он давит грудь, полоня и губя.
Сгубить меня — не сложная затея,
Я, что ни день, и так себя гублю,
Не сплю ночами, мыслями потея.
Пусть грош цена мне, вас я не люблю.
Отмена
Выпил я в день отмены закона
«О борьбе с пьянством» и заулыбался,
ибо водка не показалась мне слаще
подпольного презренного самогона,
которым я назло закону опивался,
на мир этот странный глаза тараща.
Молоток бьет по гвоздю азартно,
упиваясь своей властью, глупышка,
не замечая, что и гвоздь бьет его снизу.
Били и меня в лоб неоднократно
и все надеялись, что скоро мне крышка.
Но жив я, а вот их кулаки снесли на экспертизу.
Корявый мой стих расковырял в небе дырку,
чтобы я поглядел, куда там наш пастырь смотался,
позабыв на стуле пиджак свой звездный.
Но не нашел его там, как ни зыркал —
не зря он в отсутствии души распинался
в день Пасхи, отменяя его, бровастый и грозный.
Выпил я в день отмены закона
«О борьбе с пьянством» и не зашатался,
не заматерился, лишь сердце заплакало щемяще,
лишь стихи свои прочитал всей Земле с балкона.
Всем людям, тем, кто до черты исстрадался,
гордому барсу подстреленному и ласточке
устало летящей.
Отченашек
Раскудрявилось небо облаками
белокурыми, цвета моих волос,
да и в луже, под штиблет каблуками,
из облачка белый барашек возрос.
«Бе-е-э» — и пошел скакать по лужайке.
Стой, куда ты? Впрочем, что я, пастух?
Я поэт сероглазый в выцветшей майке,
голосистый и задиристый, как петух.
И бестолково-веселый, как этот барашек,
и так же блею, радуясь всем и вся,
но и в печали бываю, как писатель Отченашек,
о боли пишу, но сдерживаясь, не голося.
Раскудрявилось небо облаками,
белокурыми, цвета моих волос,
но Солнце, расталкивая их кулаками,
к Земле протискивается и целует взасос.
Парадокс
Жил человек
И помер как скотина.
Потому что жил
Как человек.
Пестрая река
Земля из белой стала сизой,
и грязь, и лужи, и сквозняк.
В двору церковном сушит ризы
и греет кости попадья.
И небо много голубее,
и по асфальту: «цок-цок-цок»,
и я тебе, как прежде, верю,
а прикоснусь — по телу ток.
Стихи читаю где попало
Петрарки, Пушкина, свои,
мне переходов стало мало —
и я дарю ГАИ рубли.
А на Калининском проспекте
струится пестрая река,
и на Филях в ленивом беге
раздула синие бока.
И я люблю весь мир до страсти,
готов измять, исцеловать,
и говорю прохожим: «Здрасте!»,
а им не лень мне отвечать.
Платочек
Распростилась Машенька с платочком,
в васильках, с серебряной каймой,
плачет, всхлипывает жалким голосочком:
«Отыщись, дружок, платочек мой».
Что ж, платок не много денег стоит,
и не в этом дело, вовсе даже нет —
кто другой головку так покроет,
голубям, как он, помашет вслед?
Да и Машу люди по платочку
узнают еще издалека,
по платку и мама василечком
кличет дочку — только нет платка.
Отыщись, платочек васильковый,
покажись с каемкой уголок,
ты ей дорог, ей не нужен новый,
завяжись в красивый узелок.
«Муж плохой жене хорошей…»
* * *
Муж плохой жене хорошей
Гвоздануть решил по роже.
Как рука-то поднялась?
Поднялась, не отнялась.
Выбил он жене два зуба,
Хорошо, не дала дуба.
Хорошо, да не совсем:
В назидание нам всем
Шел открытый суд в эфире.
Погодка
Вот так погодка этой зимой:
вся Москва ходит без подштанников,
и жены «бобров» никак не напялят
шиншиловые шубы,
и я, посвистывая, ношу полупердончик мой,
и скворчит разменщиками квартир
переулок Банников,
и друзья Леонида Ильича на солнце
весело скалят зубы.
Страна идет вперед, как великий хромой,
мешают идти ей гири застойные,
да еще мы орем ей в ухо, неинтеллигентны
и грубы:
«Это дом мой!» «Нет, это дом мой!»
Когда же мы станем спокойные и достойные,
как наших предков отшелестевшие судьбы?
Ох, эта погодка этой зимой!
Отпал сам собой разговор про валенки,
все больше про колбасу, которую кошки не кушают,
да про спид, что передается через половой разбой,
да про то, сколько денег у Брежневой Галеньки,
да про то, прослушивают у нас телефоны
или не прослушивают.
И с уст не сходит незабвенный рябой,
даже с уст его преданных бывших охранников
и штатных палачей, настрелявших себе
персональные пенсии.
Им все мерещится: вдруг воскреснет? кинет их в бой! —
вот они перехватают всех нас, охальников!
Зима. Да не ваша. Хотя есть и другие версии.
Поднос
Цветы на «жостовском» подносе:
ромашки, маки, георгин.
И это на таком морозе,
что трескаются сапоги.
Цветы не очень-то похожи
на настоящие цветы,
но все ж тычинки в темном ложе
нежны, изящны, как персты.
И как куделька у горошка
завился лихо стебелек,
и приоткрыт бутончик-крошка.
Мал, а внимание привлек.
Поднос — железная вещица,
подставка для еды, питья.
Но это если изощриться —
без яств с цветами счастлив я.
Помню

Я пью и ем, дышу и плачу,
и получаю передачу.
Тень в зарешеченном окне, —
знать, кто-то помнит обо мне.
Я помню всех, с кем пересекся,
кого любил, на ком осекся.
кого я в губы целовал —
судьбу мою обворовал.
И все они — мои предтечи:
и крест, улегшийся на плечи,
и тень, мелькнувшая в окне,
и свет, зажегшийся во мне.
Все хорошо. Судьбе — навстречу!
За всех пред Господом отвечу.
Поручик
У поручика Тенгинского полка,
дуэлянта, острослова и рубаки,
черный взгляд туманится слегка,
губы шепчут: «подлые собаки».
Как людей за все не презирать,
так жадны, завистливы и слепы,
лишь бы сподличать, кого-то
оболгать,
просто так, душонке на потребу.
Перед кем здесь душу изливать,
сердцем высветив углы непониманья,
чьи уста блаженно целовать,
где искать участья и вниманья?
С кем взлететь на крыльях над
Землей,
облететь и снизиться устало?
Давит свет стянувшейся петлей,
чтоб поручика совсем не стало.
И с тоски злословит, как и все,
и целует руки нелюбимым,
провожая по небесной бирюзе
тучки, те, что с Родины гонимы.
И летя, подстреленный, с горы,
отражая солнце эполетом,
думал: «спи, Россия, до поры…»
Тут душа простилася с поэтом.
Полетела в рай иль, может, в ад:
где укажет место суд ей божий.
И звезда скатилась на закат.
«Кто-то умер», — крест кладя
сказал прохожий.
Ты не первый, даже не второй,
и, конечно, будешь не последний.
Что тогда, что нынешней порой
убивают пулей или сплетней.
У поручика Тенгинского полка
на могиле камень обелиска.
И, как раньше, гонят на века
тучки с Родины, обидами затискав.
Послание из дурдома
На улице снег, одновременно дождь,
С трибуны кивает нам пламенный вождь.
Мы все завопили зачем-то: «Ур-ра!!!» —
Дурдом всенародный. Лечиться пора.
А мы не хотим, проживём в дураках —
Ногами в говне, головой в облаках.
Посуда
Глаза в глаза, весне навстречу
иду, разлуку одолев.
За то, что сделано отвечу:
за строки вещие, за блеф.
Грехи утаивать не буду:
да, этой осенью любил,
и бил на счастие посуду,
и сердце девичье разбил.
Ошибок сделано немало:
и смех угодливый, и ложь,
и бес тщеславия двуглавый
в меня не раз вселялся тож.
Душа черт чем переболела,
и все ж я жив, здоров, с тобой.
Ты мне простила все, сомлела,
пьешь взгляд мой серо-голубой.
Про любовь
В грудях зарылся хуем,
И хуй затрепетал,
Подумал: «Ох, и вдуем!»,
И тут же колом встал.
Подумала пизденка:
«Ох, всласть я наебусь!».
А секель пискнул тонко:
«Я с хуем обоймусь!».
Тут жопа протрубила:
«Ко мне, дружок, ко мне!
Я многих полюбила,
Иди ж и ты ко мне».
Хуй пер упорно к цели,
И с марша сходу — в рот!
«Нахал, да как вы смели
Ебать наоборот!»
То взвизгнула пизденка,
Ероша маховик.
А хуй ответил звонко:
«Я с детства так привык».
В пизде селедкой пахнет,
А в заднице говном,
И лишь дурак не трахнет
Рот, пахнущий вином.
Просо
Морозы встали в ноябре,
и снег рассыпался горохом,
и в головной моей коре
Зима вздохнула тихим «охом».
Труба, что видится в окно,
вдруг задымила папиросой,
на белом фоне, как в кино,
людей просыпанное просо.
Немного жаль ушедших дней,
в несуществующую рощу,
где юность листьев зеленей,
где в смехе нос зачем-то морщу.
Всему приходит свой черед:
теперь вот снег облапил крыши
и в плен Москву мою берет,
и чуб мой, неприлично рыжий.
Пуп
До чего же интересное созданье
этот цвет природы — человек.
Он кому-то создан в назиданье,
а кому — Бог просто не изрек.
Человек ломает или строит,
мир вещей во благо создает,
и чего природе это стоит,
он, пожалуй, не осознает.
Пуп земли — наверно, это сказка,
залихватская, как черта свистопляска.
Дурачины
Ах ты, умная, ах, хорошая,
Рукодельница — не люблю!
А стервозная укокошила,
С ней денечки свои сгублю.
Нам чем стервозней, тем дороже —
Кто нас создал таких мужчин?
Научимся ль любить хороших?
Кто нас научит, дурачин?
Сестренка
Сестра моя в Париже,
давно уже мадам.
А я, кой-как подстрижен,
здесь, безо всяких дам.
Здесь Таньки, Маньки, Ленки,
других и нет имен,
здесь не глаза, а зенки
с Октябрьских злых времен.
И если кто и в шляпе,
то это просто так,
быть может, и в Госснабе,
а все равно — дурак.
Все умные в психушке,
или забиты в гроб,
иль утонули в кружке
с вином паршивых проб.
Сестра моя в Париже,
прелестная мадам.
А здесь была бы рыжей
бабищей, всем на срам.
Привет тебе, сестренка!
твой непутевый брат,
как вырос из ребенка,
все понял, и не рад.
Ни стройкам молодежи,
ни пламенным вождям,
ни сапогам из кожи,
ни толстым попадьям.
А рад, что ты в Париже,
сквозь европейский гам,
как в детстве, с дома крыши
рукою машешь нам.
Скамеечка
Стоит скамеечка у речки —
Одна доска и два столба.
На ней так часто человечки
Сидят по три, по шесть, по два.
Но по ночам она скучает
И курит брошенный бычок,
Лишь раз в неделю навещает
Ночной плюгавый лешачок.
Тут сразу много разговоров —
И та, и этот холосты.
Конечно, и не без раздоров,
Не без угроз: «ну, ты!», «ну, ты!»
А поутру друзья до гроба —
И разбежались по кустам.
И до чего ж довольны оба,
Я на словах не передам.
Стоит скамеечка у речки —
Одна доска и два столба.
На ней так часто человечки
Сидят по три, по шесть, по два.
Старче

Сочетание слов красивых,
что ласкают так нежно слух,
успокаивают ревнивых,
укрепляют наш бренный дух.
Что слова, если взгляд незрячий
проникает в тайник души,
где зашлось все от тихого плача.
Как не плакать мне, подскажи,
чародей из ушедших столетий,
седовласый мудрец Гомер.
Почему весь народ мой в клети,
без надежды и высших вер?
Почему у детей и взрослых
вороватый, трусливый взгляд,
почему в анкетах опросных
нас допрашивают всех подряд?
Почему мы плюемся в небо
и на землю плюем кривясь,
и ломоть освященного хлеба
в рот запихиваем не крестясь?
Почему и святое слово
мы обсмеиваем, скаля рты,
и клеймим, как врага, сурово
тех, кто носит за нас кресты.
Не ответишь, смолчишь незряче,
лишь вздохнешь с сожалением «э-эх…».
И за это спасибо, старче.
Э-э-эх!
Стеклотара
Глаза мои не синие давно,
а серые, с налетом скучной пыли,
и зрак на солнце отражает свечку.
И загорается на красное вино,
что в честь вождей в кругу семейном
пили,
выбрасывая стеклотару в речку.
Все дно реки из битого стекла,
вброд босиком слабо пройти и йогу.
Моя Любовь в ней ногу рассекла,
и вся в крови так и явилась Богу.
Судьбина
Погрустнел я, призадумался,
нахмурился:
жизнь идет не так, совсем не так.
Где же и когда я обмишурился,
где копейку принял за пятак?
Где мечту о чистой, нежной девочке
променял на пьяный поцелуй,
где я песню птицы пеночки
осмеял за кем-то как холуй?
Отчего живу с какой-то женщиной
и детей к чему-то наплодил,
ах, зачем судьбиною помечен я,
чем ее, когда я прогневил?
Отчего как пес, побитый палкою,
обхожу людскую коловерть,
отчего тайком ночами плакаю,
будто в головах уселась смерть?
Не найти ответов, не отыщется:
до конца не жить мне, а влачить
тело бренное. С кого за это
взыщется?
На кого мне ножик наточить?!
Такое дело
Неужели ночь прошла впустую,
никаких мне тайн не принесла,
и еще одну свечу задую, —
сколько их с рождения числа…
Как же ветер воет за окошком,
и черно, как будто жизни нет,
будто и не бродит по дорожкам
дождь, бубня любимый мой
сонет.
Где вы все, любимые когда-то?
Я вас помню, с вами говорю
в сновидениях на каменистом
плато,
где встречаю вечности зарю.
Ночь темна, ее такое дело:
прятать свет и купола церквей,
негритянское свое тугое тело.
Что глядишь так на меня
из под бровей?
Да, люблю тебя, хотя и опасаюсь:
черный взгляд твой слишком
роковой.
Не к добру так часто обнимаюсь
я с тобой под ветра злобный вой.
Тетери
Льёт дождик из корыта
На маковки церквей,
И батюшка сердито
Глядит из под бровей.
И говорит: «Валерий,
Раб божий, не греши,
Что русские — тетери,
Ты больше не пиши».
И я не стал тетерить
Свой собственный народ.
Осталось только верить.
И верю кой уж год.
Тишина
Мрак густой в коридоре и за окном,
Ни луны, ни месяца, ни даже звездочки.
Ладно, утеха мне даже в одном:
В тишине, вливающейся из открытой форточки.
Тихо, из крана капель: «кап-кап-кап»,
Да поскрипывает, знай себе, перышко.
Мысль моя, как старинный пикап,
С визгом катит на счастье или на горюшко.
По неезжей дороге, лесом да полем все,
По ухабам, извилинам, кусты по бокам.
И мы с ней то милуемся, а то и ссоримся,
И едем, хоть и медленно, назло всем врагам.
Что куда? Ах, простите, не в этом дело,
Едем к Макару, что пасет телят,
А может, к теще, если бражка поспела, —
Чай, дети по лавкам еще не сидят.
А может, едем на великую стройку,
Без всяких яких, — согласна она.
Что нам нужно? В общежитии койку
Да еще одно: чтоб процветала страна.
Чтоб наши дети, которых и нет пока,
Не говорили нам, мол, родите назад.
Не смейтесь — из сегодняшнего выходят века.
А это неплохо, я этому рад.
Написал, размечтался … а что?
О коньяке что ль, да об икорке?
Есть костюм у меня, есть пальто,
Есть ботиночки — не опорки.
Если все о потребном, то жуть
Заарканит в полон до кладбища.
Канареечная, животная муть —
Ненасытная, скажу, сволочища.
Все ей мало, хоть рупь, хоть мильон,
Загребастая и тупорылая.
С ней и сам превратишься в бекон,
Нет, не чайка она белокрылая.
Что ж, от мыслей скорей бы к делам,
Чтобы жизнь — и сплошных новостроек,
Чтобы щедр был, честен и стоек.
К черту мелочность, корысть и хлам!
Толпа
Голова моя пустая,
пуст тюремный небосвод,
где-то звездочка златая
входит в звездный хоровод.
Где-то льются снопы света,
где-то люди пьют вино,
где-то чья-то эполета
сочно шлепнулась в говно.
Голова моя пустая,
как полночный небосвод,
и Земли одна шестая
благим голосом ревет.
Пусть ревет, а я не слышу,
на дворе моем темно.
Кто-то прыгнул через крышу,
хорошо, что не в окно.
Выйди вон, тоска глухая,
пустота из головы.
Ночь темна, а все ж лихая…
Я не сплю, а спите ль вы?
Ты не спишь, азербайджанец,
армянина взяв в прицел.
Что ж ты делаешь, засранец!
Шел бы спать, пока сам цел.
И абхаз с грузином тоже,
не в пример нам, молодцы,
душу вынули из кожи,
кровь сосут через сосцы.
Ночь темна в Стране Советов,
звезды все на пиджаках,
президенты из валетов —
мы с тобою в дураках.
Мы с тобой толпа тупая:
Азер, Саша и Вано.
И под гимны засыпая,
видим в золоте Говно.
Тоска
Не потому ли я тоскую,
что не нашел себе друзей,
или любовь, хотя б какую,
или врагов, борзых борзей.
Не потому ли я тоскую,
что сны реальней будних дней,
где жизнь все вижу воровскую
в стране, беднейшего бедней.
Не потому ли я тоскую,
что в поле праздная пора,
и чью-то женщину нагую
в бордель уводят со двора.
Не потому ли я тоскую,
что все вокруг кричат «ура!»,
увидев морду «дорогую», —
гибрид осла и осетра.
Не потому ли я тоскую,
что ненавижу всех вождей:
усатых, лысых, — всех бракую.
От их устали мы идей.
А вообще-то, я тоскую,
что жаль мне Родину мою,
судьбу избравшую такую,
где честным — ад, и рай жулью.
Россия, бедная сторонка,
за что веками под ярмом,
когда ж ты засмеешься звонко
и заживешь своим умом?
Точка
Путного в жизни я сделал чуть-чуть,
меньше, быть может, чем точка,
меньше, чем племя по имени Чудь,
чье местожительство — кочка.
Травка

Милый мальчик сел на травку,
сел бы лучше он на лавку,
сел бы лучше на крыльцо,
сохранив свое лицо.
Сел бы лучше на колеса:
есть вопрос — и нет вопроса.
Сел бы папе на хребет,
жалко только, папы нет.
Папа там, и мама там,
где душа их весит грамм.
Никому пацан не нужен,
оттого травой он вскружен,
оттого-то подлый план
составляет парню план.
Возлюби, Мари, Хуана,
пропади, марихуана,
пропади навек, тлетвор,
демократик — рашен вор.
Вот такая вышла лажа:
в наркоманах милый Саша.
На беду свою он русский,
кругозор к тому же узкий,
на беду душа как поле,
на беду хотел он воли,
на беду и получил —
чурок пару замочил.
Что имели где-то лавку,
на двоих пьянчужку Клавку,
дом разрушенный в чечне,
чувства добрые ко мне.
Подымайся, Саша, с травки —
ждут уж нары, типа лавки.
Три шестерки
Бог простил меня за это,
Бог простил меня за то.
Мимо ехала карета,
зацепив за хляст пальто.
Вот тогда, попав в ступицы,
волочась по мостовой,
возмечтал родиться птицей
с длинношеей головой.
И лететь на юг вне стаи,
мимо сел и городов,
где родятся колонтаи,
дрянь людская всех родов.
Мимо холдингов и шопов,
мимо красных фонарей,
мимо всех мастей холопов,
от рабочих до царей.
Бог простил меня за это,
Бог простил меня за то.
Все равно, осталась мета:
три шестерки на пальто.
Трудно
Как трудно сильным быть:
не гнуться на ветру
и в море грозном плыть
навстречу волнам,
беде в глаза смотреть —
и песню петь задорно,
и заслонить от ворога сестру.
Как трудно боль под сердцем превозмочь,
и мыслей черных разгоняя стаю
в беду попавшему обидчику помочь,
и не всплакнуть, отчизну покидая.
И трудно разлюбившую забыть,
и как с другим ласкается представить.
И сердцу нелегко вот так остыть —
и душу трепетную не оплавить.
Как трудно. Все же надо сил найти,
чтоб с головою поднятой идти.
Уголки
Летят над городом вороны —
до горизонта все черно,
и ветер рвет деревьев кроны,
и будто все осквернено.
Как будто все осатанело,
и балом правит сатана.
Вот так Орда на Русь летела —
и Русь была покорена.
Но все проходит, пролетает —
в грязи лежит ордынский князь.
А русский сокол ввысь взлетает,
летит стрелой, в века вонзясь.
И так с душой бывает часто:
как будто туча воронья
покроет черным помысл ясный —
и нет темней на свете дня.
Страшны душевные оковы,
смешно и глупо: раб себе.
Но вот однажды ты раскован,
навстречу тянешься судьбе.
И не таясь себе подобных,
душой раскрытый нараспах,
не ищешь уголков укромных —
весь тут, в улыбках и стихах.
Улыбка
Херсонская помещица
в морской лагуне плещется.
И светит нероссийское
в зените солнце римское.
И чайки в небе носятся,
и в память что-то просится.
На желтой фотографии
дома как эпитафии,
и пальмы нереальные,
как урны погребальные,
и солнце, пляж — сусальные,
и платья дам как бальные.
Но юная помещица
в морской лагуне плещется
и в знак своей сердечности
улыбку шлет из вечности.
Умиление
День прошел, печаль какая…
Сколько будет этих дней,
распрекрасных, как ушедший?
Встретил нынче старика я,
что кормил из рук-корней
голубей и птах поменьше.
На мозолистые руки,
что крошили мелко хлеб,
поглядел я с умиленьем.
Нет, не знали они скуки,
милые, труда подруги,
брат им молот или серп.
И кивнул с благоговеньем.
Дворник, что с метлой слонялся,
как со свадьбы шедший сват,
выцыганил сигаретку.
Видя, как я умилялся,
прошептал мне: «Это ж Хват.
Ох, был следователь крепкий».
На мозолистые руки
вперил я осевший взгляд.
Серп и молот им не братья,
это лапы старой суки,
жравшей соколов, орлят —
вот она порода гадья.
Нет, не каждой старикашке
уваженье и почет,
кой-кого бы надо вздернуть.
Ах, мы добрые букашки,
кровь отцов нас не печет —
кто б смог дурь нашу одернуть.
День прошел, печаль какая…
Сколько будет этих дней,
распозорных, как ушедший,
что ушел, бельмом моргая,
меж расхристанных парней,
в глубь лубянковских коттеджей.
Химера
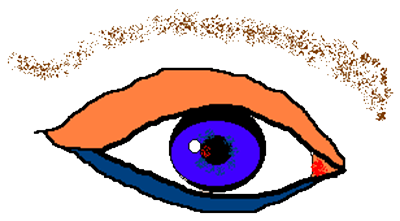
Ты синеокий, и я синеокий,
Я недалекий, и ты недалекий.
Веришь зачем-то, что всеми любим,
Не оттого ли зовут тебя Пим.
Ну а меня почему-то Валера.
Все имена наши, в общем, химера,
Как и мечты о взаимной любви,
Кстати, пример: Храм Христа на крови.
Вот из-за гор, из-за дальнего леса
Едут вожди к нам, посланники беса.
Мы их все любим. С какого рожна?
Наша любовь им совсем не нужна.
Мы им нужны для питания кровью,
Кровь нашу высосут бесы с любовью,
Губы утрут и в помин наших душ
Спляшут «семь сорок», бойчее «Ля Руж».
Ты синеокий, и я синеокий,
Что за народ мы такой недалекий?
Верим в любовь и в нерусских вождей,
И в благодать от кровавых дождей.
Впору понять: из-за гор, из-за леса
Нечего ждать никого, кроме беса.
Хобби
Кто марки собирает,
кто этикетки вин,
кто в спортлото играет,
кто копит гуталин.
Кто ноготь на мизинце
растит, холит весь век,
кто дал зарок не бриться, —
таков есть человек.
От всяких чепуховин
нет радости конца —
мир ценностей условен
от клетки до дворца.
Бог души собирает
хорошие, черт — дрянь.
Зачем? Никто не знает,
как где Тьмутаракань.
Христя
Я встал сегодня в пять часов,
но солнца не увидел,
лишь тучи шли из-за лесов —
я их возненавидел.
Их молчаливые ряды
в шинелях серо-грязных
шли градом бить поля, сады,
нас, с хмарью не согласных.
Они шли землю бросить в дрожь,
сорвать с деревьев листья,
нас не ценя и в медный грош:
меня, тебя и Христю.
Ту Христю, что взрастила сад
на месте пепелища,
что здесь оставил пришлый гад
в коротких голенищах.
Как мне любить нахмур небес
и окрики природы?
Когда-то в душу мне пролез
один «отец народа».
Он тоже хмурился в усы,
как эти злые тучи,
и за коляску колбасы
нас от души помучил.
А мы кричали все «ура!»,
пока не протрезвели.
Социализм из топора
сварили и поели.
Когда повешенный кричит:
«Да здравствует свобода!» —
палач с ухмылкою молчит,
«отец и вождь народа».
Короче, хмурые вожди
нам счастья не прибавят.
И коммунизма, друг, не жди,
когда тираны правят.
Вот почему нахмур небес
в меня протест вселяет,
мы жизни кончили ликбез —
пусть это всякий знает,
кто думает, что мы рабы
с глазницами пустыми.
Нет! В памяти отцов гробы
и лагеря колымьи.
Четыре строчки
Вот нашел он бабок пачку,
сел с какой-то бабой в тачку,
ехал, выпал, в гроб упал —
дядя добрый закопал.
На могиле знак Сиона,
христианская икона,
из Корана пара слов
про обрезанных козлов.
Про меня четыре строчки
(в этом месте вставлю точки).
Я не против, что он жил,
что он голову сложил.
Против я, что жить нам плохо,
что Россия неумеха,
что живем мы без узды,
то, что все нам до п…ды.
Чечетка
Короче стали ноги,
и руки — до колен.
Не будьте ко мне строги:
и так и этак — тлен.
Длиннющими руками
легко чужое брать,
с короткими ногами
от вас мне не удрать.
Хотя и ваши ноги
короче ваших дней,
а руки-недотроги
моих в сто раздлинней.
Похлопаем в ладоши,
чечетку отобьем,
в себя заглянем строже —
и реквием споем.
Чмо
Проверю-ка еще разок,
на что я годен в этой жизни.
Прибор обычный: на глазок, —
привычен он в моей отчизне.
Я не ученый, не певец
и не сознательный рабочий,
не жнец, не пекарь и не швец, —
без специальности, короче.
Во мне партийный аппарат
не вызывает слезы счастья,
но я, увы, не Герострат,
чтоб сжечь хоромы самовластья.
Я не хочу в крови закат,
не жажду я семитской крови,
и шовинизма суррогат
со лба не стронет мои брови.
Вообще, политика — дерьмо,
политиканство — мета ада,
как россиянам мета «чмо»,
поставленная тем, кем надо.
Но это временно, друзья,
проснется русская «громада»,
и русофобам, детям ада,
не посочувствовать нельзя.
Пока и я в разряде «чмо»,
то бишь, российское дерьмо.
Чудак
Село солнце за село,
но верхушкам яблонь
с полчаса еще везло:
свет в них будто пламень.
И кресту на бугорке
сельского погоста,
помнящем о старике,
подфартило просто.
Высветился как золотой,
будто там, в могиле,
погребен отец святой,
а не дед Василий.
Что грешил не раз, не два,
и бывал под стражей
в Кобленце, где дойчслова,
и в Сибири нашей.
Был исколот он штыком
крупповской закалки,
кованым бит сапогом
на лесоповалке.
И улыбчив был, чудак,
чуть не до кончины.
Мне бы улыбнуться так
из своей кручины.
Село солнце за село,
но верхушкам яблонь
с полчаса еще везло:
свет в них будто пламень.
Чудная страна

Когда все спят, и ночь прохладой
в окно вливается тайком,
я вместе с фразою крылатой
лечу от дома далеко.
Где нет границ для мысли трезвой,
чуть затуманенной слезой,
где не бывал чиновник резвый,
и смерть не шастает с косой.
Где демагоги неизвестны,
и хамство где не вьет гнезда,
где Эрнст известен Неизвестный,
где с рельс не сходят поезда.
Где не взрываются ракеты
и чернобыльские АЭС,
где дарят девушкам букеты,
где не терзают поэтесс.
Где не плюют в могилы предков,
детей не бьют по голове,
где в Пасху стол не из объедков,
где есть мораль одна, не две.
Где, в общем, здорово живется
не только слугам всех мастей,
где из фонтанов счастье льется,
где ждать устали нас, гостей.
Шарман
Когда меня любили,
Дырявили карман,
Зачем-то говорили:
«Мой миленький, шарман».
Я глупо улыбался,
И глаз точил слезу.
Похоже, ошибался:
Любил я стрекозу.
Мне говорила мама:
«Дурашка мой, проснись».
А я всё спал, упрямо
Жизнь превращая в слизь.
И вот пришла расплата,
Какая — утаю.
Не обойтись без мата,
Без водки. Вот и пью.
И матерюсь площадно
Под солнцем и луной,
И всё ж люблю нещадно
Ту, что вертела мной.
Шпана
Играли скрипки на балу,
в эмоциях шалея,
всех забирая в кабалу,
визжа и мелко блея.
Хозяин бала, хохоча,
жал ручку баловнице,
любимой дочке Ильича,
известной светской львице.
Сажал на пальчик бриллиант
в подарок от Рассеи,
за папы звездного талант:
пил папа не косея.
Кричали маршалы «Ур-р-ра!»,
вверх чепчики бросая,
не в небеса, в тартарара,
болота сотрясая.
В апартаментах сатаны
рогатые блевали:
перевидали там шпаны,
но тут уж спасовали.
И Бог плечами пожимал,
и ангелы немели:
так удивил их этот бал,
где скрипки ошалели.
Я холст

Я холст.
Я прост.
Пока холстина.
Но буду скоро я картина.
Пусть легкомысленный мечтатель,
Но верю: где-то почитатель
Готовится войти в мой мир.
И скажет мне: «ты мой кумир!»
ПЕСНИ
Беги, бегун!
Беги, бегун, пока не стерлись ноги,
Пока душа не вылетела прочь.
Здоровье нужно очень-очень-очень многим,
И заиметь его любой не прочь.
А это просто: надевайте кеды,
На тело майку, рваные трусы.
И как один, мы все легкоатлеты,
И славят нас ребята с «Верасы».
Вперед, вперед, — по хоженым дорогам,
По тротуарам, по бугоркам
И по тропинкам, по косогорам,
Где не пройти холёным рысакам.
Бег бегом? — ладно, — главное дыханье,
Вдох через нос, а выдох через рот.
Ну а потом чего желаешь обмыванье,
Пока болезнь вконец не удерёт.
Беги, бегун, пока не стерлись ноги,
Пока душа не вылетела прочь.
Здоровье нужно очень-очень-очень многим,
И заиметь его любой не прочь.
Вальсок

Солнце кружится по кругу
Сотни, тысячи недель,
Нашу Землю взяв под руку,
Как любимую подругу,
Вальса кружит карусель.
Мы с Землей танцуем тоже
В вальсе пьяном, вихревом,
Отдохнув лишь ночь на ложе,
А с утра вздохнув: «о, Боже…», —
Снова вальса звуки ждем.
Звезды кружатся по кругу
Миллиарды долгих лет,
Подчиняясь жизни звуку,
Причиняя людям муку, —
Нам на них управы нет.
Мы танцоры в этой жизни:
Танец свой протанцевав,
Поцелуй послав Отчизне
И заплакав в укоризне, —
Выйдем вон, вконец устав.
Солнце кружится по кругу
Сотни, тысячи недель.
Нашу Землю взяв под руку,
Как любимую подругу,
Вальса кружит карусель.
Вальса кружит, вальса кружит,
Вальса кружит карусель.
Вальса кружит, кружит, кружит,
Вальса кружит, кружит, кружит,
Вальса кружит карусель.
Выговор странный
Полюбил я тебя не за косы,
Не за синий пронзающий взгляд.
А за выговор странный: холосый,
Плинеси посколей виноглад.
Что кому: кому стройные ножки,
Кому пышная белая грудь,
Или взгляд непорочный, сторожкий,
Или может ещё что-нибудь.
Или руки, как белые крылья,
Или губы алее весны,
Или имя чудное — Севилья,
Или звон веселящей казны.
Но а мне только выговор странный,
И не надо другого чего.
Разговор твой слегка иностранный,
И задок: э-ге-ге, и-го-го.
Ну а мне только выговор странный,
И не надо другого чего.
Разговор твой слегка иностранный,
И задок: э-ге-ге, и-го-го.
Выселки
Он еврей, ты армян,
я, брат, полукровка, —
все одно, коль каждый пьян
и танцует ловко.
Руки тянутся к вину,
губы к поцелуям —
дай, товарищ, обниму,
а потом станцуем.
Хоть семь сорок, хоть гопак,
иль давай лезгинку,
или польский краковяк,
подтянув ширинку.
Наливай стакан по край,
выпьем разом, друже.
Мишка, русскую сыграй,
чтоб взяла за душу!
Хоть еврей, а хоть армян,
или полукровка,
Гольдберг или Саакян, —
всем грозит винтовка.
Здесь на выселках, в глуши,
будь хоть ассириец,
всех вконец заели вши,
клоп грызет, паршивец.
Наливай стакан по край,
выпьем разом, друже.
Мишка, русскую сыграй,
чтоб взяла за душу.
Ты еврей, он армян,
я, брат, полукровка, —
все одно, коль каждый пьян
и танцует ловко.
Голубая звезда
Тири-тири-да, тири-тири-да,
Тири-тири-ду, тири-тири-ду.
А я улетаю навсегда,
На свою удачу или на беду.
Тили-тили-да, тили-тили-да,
Тили-тили-ду, тили-тили-ду.
Светит голубая мне звезда.
Я к тебе, звезда моя, иду.
Тара-тара-та, тара-тара-та,
Тара-тара-ту, тара-тара-ту.
Меня доконала суета,
Крылья отгрызает на лету.
Пара-пара-ба, пара-пара-ба,
Пара-пара-бу, пара-пара-бу.
Или вот сейчас же, или никогда,
Я найду, найду свою судьбу.
Тири-тири-да, тири-тири-да,
Тири-тири-ду, тири-тири-ду.
Дири-дири-да, дири-дири-да,
Дири-дири-ду, дири-дири-ду.
Тири-тири-да, тири-тири-да,
Тири-тири-ду, тири-тири-ду.
Дири-дири-да, дири-дири-да,
Дири-дири-ду, дири-дири-ду.
Голубым подуло ветром
Голубым подуло ветром,
Стаи туч как не бывало,
Лишь одна ещё устало
Кулаком грозит нам медным.
Солнце будто-бы с похмелья
Вдруг явилося опухшим,
Еле вырвалось из кельи,
Чтобы всем дышалось лучше.
Снова красное в зените —
Водке выпала опала.
Из кармана тити-мити
Улетят куда попало.
Из кармана тити-мити
Улетят куда попало.
Улыбнулась мне девчонка.
Наплевать, что я женатый.
Вот тебе моя ручонка,
Вот тебе мой рот щербатый.
Голубым подуло ветром,
Просвистело сквозняками,
Прозвенело медяками
И зиме конец на этом.
И зиме конец на этом.
И зиме конец на этом.
Двуединство
Мороз и солнце — день чудесный!
Не буду лгать, украдена строка.
А написал ее поэт один известный,
что был убит рукою дурака.
Мороз и солнце — чудо сочетанья,
как двуединство сердца и ума,
как двух врагов нежданное братанье,
как я и ты, как скипетр и сума.
Мороз и солнце. Вышел я на волю
и воздух пью, как сладкое вино,
и пьян и радостен с такого алкоголя.
Не всем его испробовать дано.
А это жаль, мы все бы были чище:
и взором ясные, и светлые душой,
не гнули б спин на жизненном ветрище.
Мороз и солнце — это хорошо!
Долги наши
Пора, пора сбираться нам в дорогу,
пора, пора оплачивать долги,
коль с нами жизнь не строит недотрогу,
и ко всему чуть свихнуты мозги.
Коль брали в долг, и время рассчитаться,
не будем корчить нищего лица:
есть кое-что, с чем можно и расстаться,
на посошок испробовав винца.
Нога — в сапог, рука — в рукав шинели,
на лоб надвинув черный козырек
пойдем под песню бешеной шрапнели
встречать последний, проклятый денек.
Рот перекошен в крике озверелом,
глаза красны от бешеной тоски, —
и вот убит один промежду делом,
зажав руками бледные виски.
Еще один с долгами рассчитался:
за хлеб, за воду, даже за любовь.
И вот второй, и третий распластался,
пролив на землю трепетную кровь
Пора, пора сбираться нам в дорогу,
пора, пора оплачивать долги, —
коль с нами жизнь не строит недотрогу,
и ко всему чуть свихнуты мозги.
Дурашка
У товарища Аркаши
мысли подлые, не наши:
как бы где кого надуть,
шухель-мухель провернуть.
В этом грязном Тель-Авиве
бабка, тётка и свояк
пишут: «Мы здесь так счастливы,
всё курей едим, оливы».
Он поверил им, простак.
Что ж езжай, езжай паскуда.
Знай, назад дороги нет.
Вспомнишь Родину, иуда,
сионистская приблуда,
недоделанный брюнет.
Не сидеть тебе в палатке,
не хмурить простой народ.
Ох, в Израиле не сладко!
Да, в Израиле не сладко.
Слышь, намаешься урод.
Но не слушает Аркашка
и без Бога в голове,
не молившись Иегове,
упорхнул — дурак, дурашка.
Дурочка
Вышел я на поле, поле —
Ах, какая благодать!
Голове от алкоголя,
Голове от алкоголя
В небе хочется летать.
Захотелось, — в чем же дело —
На пропеллерах-ушах
Голова моя взлетела,
Пусть летит, коль захотела,
Я при ней не в сторожах.
Пусть летит куда попало:
На Камчатку иль в Габон.
Хоть бы, дурочка, пропала.
Ох, такая прилипала,
И звонит, как телефон.
Без нее мне много легче,
И избавлюсь от соплей.
Отдохнут немного плечи, —
Сколько ж можно их калечить.
Улетай, башка, скорей!
И в семье спокойней будет:
Нечем лаяться с женой.
Все обиды позабудет,
Снова, может быть, полюбит —
Скажет: «Миленький, родной!»
Головенка полетала,
Но не стала улетать.
И на место, дура, встала.
И на место, дура, встала,
Стала глупости болтать.
Еще вербы не лопнули почки
Еще вербы не лопнули почки,
Еще в небе студеная хмарь,
Еще снегом засыпаны кочки,
Еле теплится солнца алтарь.
Еще люди в тяжелых уборах
Из песцов и из прочих зверей,
Еще мало любви в синих взорах,
И сквозняк не бодрит из дверей.
Но весна уж совсем недалече,
Это может не всякий понять,
И не каждый готовится к встрече,
Только надо ль кого обвинять.
Все заботы, заботы, заботы…
До весны ли в сплошной калготе:
На работу и снова с работы,
К телевизору или к плите.
Люди лучше, чем кажутся с виду,
И сердца их добрей, чем слова,
И больней принимают обиду, —
Оттого так свербит голова.
А весну я за всех повстречаю,
Точно так же, как в прошлом
году.
За сохранность ее отвечаю.
Люди, к вам я ее приведу.
Золушка

На восходе солнышка,
на рожденье дня
вышла в поле Золушка,
девочка моя.
Здравствуй, здравствуй,
Золушка!
Здравствуй, здравствуй, день!
Здравствуй, поле-тетушка!
Здравствуй, лета звень!
Здравствуй, моя девочка,
первая любовь!
В сердце впилась стрелочка,
причиняя боль.
Отразилось горюшко
в искренних глазах —
отодвинься, горюшко,
стрелкой на часах.
На восходе солнышка,
на рожденье дня
вышла в поле Золушка,
девочка моя.
Каблук
Почему, почему, почему
под окошком поют соловьи?
Мне их песни совсем ни к чему,
как и карие очи твои.
Почему, почему, почему
по весне так туманится взгляд?
Но не тянет к плечу ни к чьему,
и весны не тревожит наряд.
Почему, почему, почему
в сердце грусть закрадется
весной,
и душа не лежит ни к чему,
даже к чарке любимой, резной.
Отчего, отчего, отчего
обманул меня преданный друг?
И снести это так нелегко,
тяжелей чем измены подруг.
Отчего, отчего, отчего
я не верю улыбкам друзей.
И весна на меня не глазей —
мне не быть под твоим
каблуком.
Как генсек товарищ Сталин
Что-то мне совсем не ясно,
Как же дальше жизнь влачить,
Чем тоску свою лечить,
Чтобы стало все прекрасно.
Чтобы не было скандалов,
Сплетен гадских и плевков,
Подхалимов причиндалов,
Хамов, пьяниц, дураков.
Чтобы душу не терзали,
Быт мещанский, суета.
Чтоб бесследно исчезали
Дрянь людская, сволота.
Чтобы сам себе хозяин,
Что хотел, то говорил.
Чтобы правду-матку брил,
Как генсек, товарищ Сталин.
Чтоб любили не за деньги,
Чтоб не щурились в ответ,
Чтобы в каждой деревеньке
Люди кушали лангет.
Чтобы злость не донимала,
И с улыбкою, шутя,
Чтобы женщина рожала
Без тревоги за дитя.
Что-то мне совсем не ясно,
Как же дальше жизнь влачить,
Чем тоску свою лечить,
Чтобы стало все прекрасно.
Камневоз
Камни возит камневоз,
Пирожки — пирожковоз,
Молоко — молоковоз,
А меня никто не вез.
Шел я сам тропой лесною,
Богом славленой весною,
Улыбался каждой пташке,
Лапку жал любой букашке.
И доволен был до слез,
Что меня никто не вез.
На чужом горбу не сложно,
Даже в Рай заехать можно.
Как кому, а мне, — так тошно.
Проглядеть полжизни можно.
На чужой вспотевшей шее,
Кто смелей, а кто подлее,
Кто хитрей, а кто наглее,
Но никто не стал добрее.
Лучше пехом, пехом, пехом,
По тропе пробитой Богом,
Мимо речки, мимо луга,
Глядь, — и встретил где-то друга.
Хорошо рядком шагать,
Можно ль лучшего желать,
И вести о жизни речи,
Утром ждать с зарею встречи.
Жечь ночами звезды-свечи,
Пить и петь по-человечьи.
На чужом хребте и шее
Лучше чем висеть на рее.
Но куда как лучше пехом,
Целиной и по дорогам.
Мысли наивные
Пишу, читаю, иль смотрю,
как за окном проходят люди —
все мысль одну боготворю,
лелею, нежу и творю,
и хороню в бумажной груде.
Пусть мысль наивна и проста,
как, в общем, все на этом свете,
как мановение перста,
как поцелуй уста в уста,
как поле в розовом рассвете.
Как смех, как горькая слеза,
как вздох на жизненном излете,
как в церкви старой образа,
как неба звездные глаза,
как то, что вы вообще живете.
Пусть мысль наивна и проста,
увы, она не воплотима:
мне ль без венца и без креста
пройти дорогою Христа
от Буковины до Витима
мне ль будоражить род людской,
дать объясненье жизни смысла
в сует суете городской,
в деревне, венчанной тоской
с зевотой челюстноотвислой.
Всех не объять и не обнять,
не запасти на всех улыбок,
всю боль людскую не принять,
тоску с зевотой не унять —
и сердцем слаб, и телом хлипок.
Не несть тернового венца,
пусть сердце корчится от боли,
что сын ногами бьет отца,
что рожи сплошь и нет лица,
и что на задницах мозоли.
Что, что…а-а, все равно не счесть
всех этих «что» и «почемучек»,
ума и совести отлучек.
Пусть остается все как есть.
Надоело прозой, прозой
Надоело прозой… прозой, — все о смысле бытия.
Поученья крупной дозой, будто я кому судья.
Не судья и не подсуден, в жизни сам грешил не раз.
Водку пил из всех посудин… водку пил из всех посудин,
Нахватался сто зараз.
И в любви бывал не верен, — вот и проза бытия.
Слезы лил и был растерян, так какой же я судья?
Как и все имел страстишки, до страстей не дотянул.
По ночам играл в картишки… по ночам играл в картишки,
Масть проклятую тянул.
Надоело прозой… прозой, — под гитару бы напеть.
Что кого-то звали Розой, что коса ее как медь.
Что узка ее ладошка, что глазища — полымя.
Что любил ее немножко… что любил ее немножко,
Медну косу теребя.
Надоело прозой… прозой, — все о смысле бытия.
Поученья крупной дозой… поученья крупной дозой,
Будто я… будто я, — кому судья.
Одетта
Взметнулась в вихре танца —
Божественные «па».
Не женщина, а грация, —
И «бис!» кричит толпа.
На фоне декораций
Придуманная жизнь,
Бурлит сквозь шум оваций
Фантазии каприз.
Ах, бедная Одетта,
Поруганная честь,
Таких, как ты, на свете
Возьмусь ли перечесть…
Беда злодейкой скачет,
Пронзая на лету, —
И тихо кто-то плачет
В шестнадцатом ряду.
Падлюка
Я ли, я ли, я ли, я ли
Не любил тебя, падлюку,
Не любил тебя, падлюку,
Не поил в «Национале».
Я ли, я ли, я ли, я ли
Не холил тебя как паву,
Не холил тебя как паву,
Пока менты не схомутали.
Вот сижу я за решеткой,
Срок назначенный мотаю,
Срок назначенный мотаю,
А ты там любишься с Володькой.
Хоть бы кинула письмишко,
Мол, так и так, я молодая,
Мол, так и так, я молодая,
Трудно ждать. Прости, мол, Мишка.
От других узнал все это:
Отписали мне ребята,
Отписали мне ребята,
С весны на лето.
Вовку фраера урою,
Только б выбраться на волю,
Только б выбраться на волю,
Кой чем тогда поброю.
И тебя коль чем помечу,
Это уж не сумлевайся,
Это уж не сумлевайся,
Готовься к встрече.
Посланник любви
Плыви, плыви, кораблик, мой бумажный,
Пусть паруса колышет ветерок.
Пусть капитан ведет тебя отважный
И приведет в порт назначенья в срок.
Звени ручей, играй на перекатах,
Но мой корабль, прошу, не загуби.
Пусть он неопытен в круизах и регатах,
Он из письма о счастье и любви.
Я взял письмо, сложил его в кораблик,
И опустил в весенний ручеек.
И вот в пути любви моей посланник,
Моей любви бумажный мотылек.
Не близок путь, опасен и коварен,
И стерегут пиратские ладьи,
И океан, как пьяный русский барин,
Швыряет в волны сдуру корабли.
Плыви, кораблик, к порту назначенья,
Мои слова любимой донеси.
Вознаградит она твои мученья,
Что пожелаешь, — смело попроси.
Плыви, плыви, кораблик, мой бумажный,
Пусть паруса колышет ветерок,
Пусть капитан ведет тебя отважный,
И приведет в порт назначенья в срок.
Прощание
Прощай, отец, прощай, земля родная.
Я улетаю в дальние края,
И что там ждет меня, наверное, не знаю:
Иль тучи пуль, иль сабель острия.
Что ж, умирать — не сложная наука,
Пусть на войне ты это не сумел.
А не вернусь, взрасти родного внука,
Чтоб, как и ты, не трусом был, а смел.
Не миновать мне схваток с басмачами,
Лицом к лицу на горной крутизне,
Не спать ни днем, ни черными ночами,
А коль усну, ворочаться во сне.
Ну что поделать, надо, значит, надо:
На то приказ по части нашей дан.
И вот лечу я мимо Ашхабада,
Прямой дорогой на Афганистан.
Это было
Памяти друга Саши
Я сплю, я вижу день ушедший,
и я в том дне еще живу:
веселый, грустный, сумасшедший, —
люблю, страдаю наяву.
И жив мой друг, вчера умерший,
пусть бледен, жалок и в бреду,
в неделю страшно постаревший, —
все ж с нами, в жизненном ряду.
И лепесток, уже увядший,
еще пахуч и на цветке.
В зените славы ангел падший,
с Христом еще накоротке.
Еще ловлю твой взор горячий
и трепещу как мотылек.
Еще Гомер — мальчишка зрячий, —
стихов бессмертных не изрек.
Еще и сам ко всем участлив,
еще пою, не одинок.
Прощай, ушедший мой денек,
я был с тобою очень счастлив.
─────
Ссылки для прослушивания и скачивания песен
Беги, бегун! — https://disk.yandex.ru/d/F9x5Os01DmegOw
Вальсок — https://disk.yandex.ru/d/GRp4Sn9IHyafbw
Выговор странный — https://disk.yandex.ru/d/SpENT_mB2bbQyQ
Выселки — https://disk.yandex.ru/d/nLgTLH-qr-pRlg
Выселки v.2 — https://disk.yandex.ru/d/i1UoMuIYWid3QQ
Голубая звезда — https://disk.yandex.ru/d/H19ZQO8eWhA6Rw
Голубым подуло ветром — https://disk.yandex.ru/d/hUC6D34AgAJwwQ
Двуединство — https://disk.yandex.ru/d/5wyx06E4Vpi9-w
Долги наши — https://disk.yandex.ru/d/mCMYoB-H_3pYKw
Дурашка — https://disk.yandex.ru/d/ODi901m-kzd0cg
Дурочка — https://disk.yandex.ru/d/B_H_Hz91fdapoQ
Еще вербы не лопнули почки — https://disk.yandex.ru/d/fn-SOJDa_jhtSw
Золушка — https://disk.yandex.ru/d/gzQWIdL9gqf5zA
Каблук — https://disk.yandex.ru/d/crusQ2XW_GZ2aA
Как генсек товарищ Сталин — https://disk.yandex.ru/d/C0WyOHd_sy7bHA
Камневоз — https://disk.yandex.ru/d/riueVunwaWB7Og
Мысли наивные — https://disk.yandex.ru/d/k4IWUUAYfKQq6Q
Надоело прозой, прозой — https://disk.yandex.ru/d/vLVot0JTXHHoJQ
Одетта — https://disk.yandex.ru/d/QWaIOvgNVYPjfw
Падлюка — https://disk.yandex.ru/d/AO4tVR3JxJJfbg
Посланник любви — https://disk.yandex.ru/d/Vr2ANr4ev1TLbw
Прощание — https://disk.yandex.ru/d/qsAZIiK9KA4ltQ
Это было — https://disk.yandex.ru/d/YvL_e0HPf85Odg

Оглавление
ПРОЗА
Верх любви
Диагноз
Кетчуп
Надежда
Полубредовые мысли
Яхточка
ЛИРИКА
Achtung
Амбрэ
Арбат
Бахрома
Блесна
Бля
Буратино
Валет
Весть
Восток
Время
Всё не так
«Гафт не говно…»
Гомик
Графенок
Гулена
Гундосы
Дорога в рай
Дурдом
Еще разок
Жажда
Засранец
Замарашка
Здесь
Казак
Клобук
Князь
Козлодрание
Колыбельная
Колыма
Космонавты
Круги
Кураж
Лачок
Лихач
Лучший нумер
Людоед
Мальчик
Межцарствие
Может быть
Молодец
Мыслитель
Настоящий мужчина
Невмочь
Некто
Обида
Овца и Волк
Обрывки
Околесица
Оконце
Отмена
Отченашек
Парадокс
Пестрая река
Платочек
«Муж плохой жене хорошей…»
Погодка
Поднос
Помню
Поручик
Послание из дурдома
Посуда
Про любовь
Просо
Пуп
Дурачины
Сестренка
Скамеечка
Старче
Стеклотара
Судьбина
Такое дело
Тетери
Тишина
Толпа
Тоска
Точка
Травка
Три шестерки
Трудно
Уголки
Улыбка
Умиление
Химера
Хобби
Христя
Четыре строчки
Чечетка
Чмо
Чудак
Чудная страна
Шарман
Шпана
Я холст
ПЕСНИ
Беги, бегун!
Вальсок
Выговор странный
Выселки
Голубая звезда
Голубым подуло ветром
Двуединство
Долги наши
Дурашка
Дурочка
Еще вербы не лопнули почки
Золушка
Каблук
Как генсек товарищ Сталин
Камневоз
Мысли наивные
Надоело прозой, прозой
Одетта
Падлюка
Посланник любви
Прощание
Это было